РОМАН-ГАЗЕТА № 5(305) 1964
НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ
Есть свой особый смысл в том, что писатель Николай Дементьев завоевал читательское признание повестями, которые называются „Мои дороги" (1968) и „Иду в жизнь" (1959). Правда, еще до их появления, в начале пятидесятых годов, рассказы Н. Дементьева печатались в журнале „Сибирские огни". Там же, в Сибири, вышли его книги — „Первое письмо" (1954) и „Сестры" (1955). Но именно „Мои дороги" (по этой повести позже был поставлен известный фильм „Бессонная ночь") и „Иду в жизнь" обратили на себя внимание широкой писательской и читательской общественности и поставили их автора в ряд с наиболее талантливыми представителями нашей молодой советской литературы.
Уже названия этих повестей говорят, что они автобиографичны. И это действительно так. Но не менее важно и другое: под пером художника факты биографии превратились в подлинные факты литературы, повествующей о судьбах нашего молодого современника, о его путях в жизни, полной радостей и тревог, пафоса созидания и утверждения нового.
И этот пафос созидания, это новое в окружающей нас действительности писатель сумел правдиво запечатлеть в своих произведениях благодаря тому, что сам он до прихода в литературу прошел немало жизненных дорог.
Николай Степанович Дементьев родился в Ленинграде, в 1927 году. В городе на Неве прошли его детство и отрочество. Здесь он пережил блокаду, участвовал в героической защите своего родного города. В 1949 году будущий писатель закончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта и был направлен в Новосибирский речной порт. Одновременно с работой в порту и первыми литературными опытами Н. Дементьев учился в аспирантуре Западносибирского филиала Академии наук СССР. В 1956 году он получил ученую степень кандидата технических наук и до последнего времени работал преподавателем кафедры теории и проектирования механизмов в Ленинградском электротехническом институте имени В. И. Ульянова (Ленина).
Богатые жизненные наблюдения, тонкий, глубокий взгляд-художника на явления современной действительности — все это было характерно и для первых книг Н.Дементьева, о которых я говорил выше. Но не в меньшей, если не в большей степени эти качества проявились и в других повестях писателя — „Прекрасная … в Сибири" (1960) и „Натка Кубанец" (1961). Особо мне хочется отметить отличную, полную драматизма и гражданского пафоса повесть Николая Дементьева „Чужие близнецы" (1962) о героических днях ленинградской блокады.
Новый роман Николая Дементьева „Замужество Татьяны Беловой" — это не просто важная веха в творчестве самого писателя. Он, несомненно, представлявляет одно из примечательных явлений нашей современной советской литературы, пример активного участия писателя в жизни народа, ведущего непримиримую борьбу за высокие моральные и душевные качества человека нового общества.
Всем существом своим этот роман направлен против собственничества, против разъедающего душу человека мещанства. Мы видим жалкую жизнь Татьяны Беловой, все ее мнимое благополучие и понимаем — нет и не может быть страшнее наказания для человека, который с юных лет заботился только о своем маленьком счастье, для которого мелкое, обывательское, личное заслонило окно в большой мир подлинных радостей и страстей. Героиня романа, человек незаурядный по сути своей, много пережив и передумав, начинает постепенно осознавать, в чем ее беда, но — увы! — как много упущено, как много не понято, сколько сделано неверных шагов. И все же она пытается найти в себе силы и мужество, чтобы выйти на путь поисков настоящего счастья. Так я понимаю замысел писателя и логику поведения его героини, ибо это логика жизни.
Роман написан от первого лица, от имени нашей современницы. По-моему, Николаю Дементьеву прекрасно удалось проникнуть во внутренний мир своей героини, показать в рассказе самой Татьяны Беловой всю сложность и противоречивость ее натуры, раскрыть ее характер в развитии — от юных лет до поры зрелости. Это — завидная удача писателя! К слову сказать, после публикации в журнале… автор много поработал над романом, значительно улучшил его.
И в своих первых повестях, и в романе „Замужество Татьяны Беловой" писатель создает галерею образов молодых инженеров-искателей, которым присущи лучшие черты нашей подлинно творческой интеллигенции. Именно такую смысловую нагрузку несет в себе Олег Алексеев — один из основных персонажей нового романа Н. Дементьева. Этот образ выписан автором с особым проникновением и тонкостью.
Своей книгой писатель страстно зовет каждого человека будить в себе творческое начало, чтобы именно оно определяло его мысли, чувства, дела и поступки. И нет сомнения, что этот нужный, остро современный роман Николая Дементьева полюбится, читателю, станет для многих хорошим советчиком и другом при выборе жизненного пути.
CEPГEЙ БАРУЗДИН
Николай Дементьев 3АМУЖЕСТВО ТАТЬЯНЫ БЕЛОВОЙ
роман
1
Всем, наверно, кажется, что более благополучного и удачливого в жизни человека, чем я, трудно себе представить.
Двадцать восемь лет, красива, абсолютно здорова. Нигде, правда, не работаю, домохозяйка. Но и это оправданно: маленький сын. На редкость порядочный, до самозабвения любящий меня муж. Хорошая квартира, полный достаток во всем. Чего еще, казалось бы, может желать женщина?..
И только несколько человек знают, как пусто у меня в душе, как я несчастлива, очень несчастлива.
Вот поэтому-то я и хочу рассказать свою историю. Может быть, других она убережет от ошибки, за которую я и сейчас все расплачиваюсь.
И вот ищу и ищу выход…
Выросла я под Ленинградом, в дачном поселке Мельничный Ручей. Когда мы после войны вернулись из эвакуации, на месте нашего дома в Ленинграде оказался сквер: дом разбомбили в блокаду. В ожидании площади надо было жить в общежитии завода, на котором отец работал. Отец с матерью в общежитие пойти не захотели, взяли, кажется, ссуду, вообще как-то извернулись, как они умеют, и купили маленький домик в Ручье, недалеко от озера. Он стоит и сейчас. Теперь у нас есть новый, большой дом. Летом родители сдают его дачникам, а сами переселяются в этот старенький.
Отец всю жизнь проработал на заводе, он расточник, и, видимо, очень хороший. Ему неоднократно предлагали стать мастером, но он каждый раз отказывался: была бы меньше зарплата. Мама никогда нигде не служила.
Отец, молчаливый и грузный, возвращался вечером с работы и долго, много ел, тяжело опираясь широко расставленными локтями о край стола. Его широкое, скуластое лицо постепенно краснело, он только командовал матери взглядом: «Подай это. Подвинь то». А она, статная и красивая даже в домашнем затрапезном платье, с готовностью поглядывала на него черными блестящими глазами, тотчас угадывала, чего ему хотелось. Потом тоже присаживалась к столу, сложив под высокой грудью руки, и негромким, покойно-уверенным голосом начинала рассказывать о происшедшем за день. Разговоры между родителями были всегда чисто хозяйственными: сколько продано за день молока, яиц, как удалось купить сена, как лучше поправить крышу сарая. Когда строился новый, большой дом — а он строился несколько лет, — хозяйственные интересы моих родителей были так сильны, что я не помню случая, когда бы они в обеденное время поговорили о нас со Светкой, о нашей учебе в школе.
Отец обычно слушал мать молча, иногда согласно кивал. Если она хотела знать его мнение, то вопросительно замолкала. Часто он не отвечал, и мы уже знали, что он не согласен, обдумает и сделает как-нибудь по-другому. Если же он соглашался, то негромко басил свое обычное:
— Ну что ж, три-четыре…
Очень редко одобрительно и так же кратко говорил:
— Голова, мать, три-четыре! И она радостно улыбалась.
Потом отец отваливался широкими плечами на спинку скрипевшей под ним лавки и неторопливо закуривал, удовлетворенно прикрывая глаза. Мама поспешно вскакивала и начинала убирать со стола. А мы со Светкой уже нетерпеливо переминались у дверей. Наконец отец вставал, и мы все четверо шли во двор.
Всегда приятно было смотреть, как споро, ловко, без суеты работали отец с матерью. Дом они построили своими руками, вдвоем. Даже фундамент и печи сложили.
Оба в рабочих фартуках, большие и сильные, они точно играли. Мать замешивала и подавала раствор, отец подхватывал рукой кирпич, деревянной ручкой скребка — одним ловким и несильным толчком — укладывал его точно на место, снимал лишний раствор, брал следующий кирпич. Или, склонившись над шестиметровым бревном, он приёмистыми взмахами обтесывал его, и желто-розовая стружка шла тонкой и ровной. Потом взглядывал на мать, и они брали бревно за концы, натужась так, что багровели лица, поднимали его, укладывали на сруб. Даже сами пилили бревна на доски. Отец стоял на высоких козлах, мать — внизу, и длинная пила, поблескивая в лучах вечернего солнца, мерно и весело пела, сея мелкую пыль опилок. В движениях их было что-то завораживающее, на их работу часто приходили полюбоваться соседи. Толстый, страдавший одышкой дядя Сима, отдуваясь и свистя, восторженно бормотал:
— Вот работнички!.. Все бы так работали!..
Отец и мать не отвечали, и лица их, раскрасневшиеся здоровым румянцем, были по-деловому отсутствующими, только глаза сияли горячо и удовлетворенно. А нас со Светкой охватывало радостное возбуждение, гордость за родителей, мы тоже просили дать нам работу, убирали двор, складывали кирпичи, доски. Мать улыбалась нам, отец изредка одобрительно басил:
— Молодцы, девчатки, три-четыре!
А уже в темноте, после чая, отец с матерью садились на крыльцо нашего домика; отец курил, мать негромко пела, прижимаясь щекой к его плечу. Мы со Светкой лежали в постели — спали тогда в одной кровати, в домике было тесно — и, затаив дыхание, все еще радостно-возбужденные и усталые, слушали песню матери, гордясь ею и отцом.
В детстве моя жизнь четко определялась временами года. Зимой, по возвращении из школы, — дела по хозяйству, уроки, катание на лыжах. Ранней весной — работа на огороде, летом — дачники, купание, лес, продажа на рынке молока и овощей, осенью — уборка огорода.
Но самым интересным и веселым временем было лето. Особенно потому, что в нашем доме, появлялись дачники. Сразу несколько семей.
Снимать дачу чаще приезжали в воскресенье. Водила их по дому мать, отец всегда что-нибудь делал по хозяйству, редко и зорко поглядывал на приехавших. Мать никогда не торговалась, ничем не хвасталась. Красивая, статная, с косой, уложенной венчиком на голове, в нарядном платье, она молча водила дачников по дому. И эта ее спокойная, неторопливая уверенность, деловитость отца нравились всем, внушали невольное уважение. Если приехавшие говорили, что дорого, мать только пожимала плечами, давая понять, что разговор окончен и торговаться бессмысленно. Тогда они или соглашались, или уходили. Если соглашались, мать вела их к отцу, знакомила. Он обтирал тряпкой руки, неспешно здоровался, приглашал присесть, закурить. И тоже по-мужицки терпеливо молчал, зная, что приехавшие выговорятся сами. И действительно, из их слов постепенно становилось ясным, что они за люди. Тогда отец, если он был согласен, коротко говорил: — Ну что ж, живите-отдыхайте, три-четыре… — И впечатление было такое, что это мама все решила и именно она сдала им дачу.
Если же отцу что-нибудь не нравилось в приехавших, он под тем или иным предлогом откладывал решение, а когда дачники возвращались, мама отказывала им.
Дачники с детьми редко приезжали к нам на лето второй раз: у нас было очень строго. Весь участок был занят овощами, ягодами, цветами. Во дворе всегда что-нибудь строилось: побегать и поиграть детям было негде. Если же мяч залетал на грядки, мама строго предупреждала дачников, чтобы они следили за детьми.
У моих родителей было несколько принципов, очень простых, но следовали они им с неуклонной твердостью. Один из них, и главный, — работать. Хорошо и всегда. Чтобы всего было вдосталь. И второй — использовать доходы с наибольшей выгодой. Но не для того, чтобы удовлетворяться ими, а для того, чтобы все полученное с еще большей пользой снова вложить в дело. Мы всегда хорошо и сытно ели, хорошо одевались, были здоровы. Но я просто не представляю себе, как могли бы родители неразумно истратить хоть одну копейку. Правда, в праздники у нас покупалось много вина в дополнение к тем настойкам и наливкам, которые готовила мама, и устраивался большой, богатый стол. Родители умели и любили радушно принять гостей, сами же в гости ходили редко, и преимущественно к соседям, чтобы не ездить в город.
Гости у нас бывали всегда одни и те же. Приходил дядя Сима со своей женой Пелагеей Васильевной, такой же толстой и некрасивой. Они много ели и пили, непрерывно восхищались моими родителями, Приезжал товарищ отца по работе, сухонький старичок, вдовец Егор Дмитрич, остроглазый и желчный. С завода бывали еще мастер Киселев с женой, оба молодые, веселые, и начальник участка Строгов, всегда почему-то один.
Родственников в городе у нас не было, они жили где-то в Белоруссии, в деревне, я никого из них так и не видела. Переписывались с ними мои родители редко, одно-два письма в год. Да однажды еще отец ездил в деревню на похороны своей матери.
Когда у нас бывали гости, мы со Светкой сидели за столом рядом с мамой, у дверей, а отец — во главе, у другого края стола. Мама то и дело выбегала за чем-нибудь, настойчиво потчевала гостей. Отец молча наливал и наливал рюмки. И странно было видеть их обоих, одетых во все праздничное, необычных. Киселев и его жена, белокурые, румяные и голубоглазые, — они всегда привозили нам со Светкой какие-нибудь подарки, — начинали весело и беззлобно подсмеиваться над родителями. Киселев поднимал рюмку и торжественно говорил:
— За самое крепкое хозяйство на земле — ферму Беловых.
Жена подхватывала:
— За рабочие руки, трудовой пот и разумное накопительство!
— Завидует молодежь! — ухмылялся красным лицом дядя Сима.
Отец и мать отмалчивались, точно не слышали или не принимали всерьез этих слов. По лицу Строгова было видно, что он одобряет отца с матерью, Егор Дмитрич непонятно улыбался.
Много выпивали, и очень скоро за столом становилось шумно и весело. Потом Киселев первым начинал разговоры о заводе. И в словах его опять проскальзывала легкая усмешка. — Я, конечно, понимаю, — говорил он, — что расточники высокой марки необходимы, но рабочий-умелец тем и славится, что работает не только для себя.
— Если хорошо для себя, значит, и для других хорошо, — негромко вставлял Егор Дмитрич. — Диалектика.
Отец по-прежнему молчал, Строгов говорил примирительно Киселеву:
— В гости, Миша, пришел и хозяев же критикуешь? — И оборачивался к маме: — Вот она, молодежь, Анна Ефимовна…
Мама извиняюще улыбалась: «Ну, что вы, стоит ли обращать внимание…» А дядя Сима сипел:
— Вот именно!
Однажды сильно подвыпивший Киселев откровенно сказал отцу:
— Не так ты живешь, Петр Гаврилыч! Ты не сердись, от твоих рук, знаешь, какая польза людям была бы, а ты свою силу только на семейную ячейку тратишь!
— Эх, малец! — сказал ему Егор Дмитрич. — Вот ты говоришь, Петька отгородился. Да мы ведь другое поколение, чуешь? Ему девок надо на ноги поставить или нет?..
— Не о том я говорю! — досадливо перебил его Киселев.
— Не петушись, Миша, — остановил его Строгов. — Жизнь словами не переделаешь, на это не одно десятилетие требуется.
Отец — я никогда не видела его пьяным — поерзал на стуле и негромко произнес:
— Я тебя, Михаил Михалыч, уважаю, три-четыре… Только я смотрю на жизнь с одной горушки, а ты — с другой. Мне в жизни никто ничего не давал, я с мальчишек все этими руками взял! — И он протянул над столом свои большие мозолистые руки, почерненные железом. — А что я живу один на один с собой да вот с ними, — он кивнул на нас с матерью, — так меня таким жизнь сделала, три-четыре… Я, ты знаешь, ни копейки чужого не взял. Киселев повернулся к жене:
— На заводе мы понимаем друг друга без слов, как родные, а здесь прямо как иностранцы, на разных языках говорим!
— Танцуем! — весело и звонко крикнула она, обрывая неприятный разговор и вылезая из-за стола.
Киселевы танцевали хорошо и красиво. Но у матери с отцом получалось еще лучше. Мы со Светкой, тесно прижавшись друг к другу, смотрели на мать, раскрасневшуюся, величаво плывущую по комнате, на отца, с неожиданной легкостью бросавшего свое огромное тело вприсядку. Дядя Сима сказал Киселеву:
— Вот она, любовь-то, молодой человек! А Егор Дмитрич неожиданно засопел, зачмокал, спрятал лицо.
— Никак жену забыть не может, — показал на него глазами Киселеву Строгов и раздумчиво спросил: — Думаешь, все так просто в жизни, Миша? Вот и у меня тоже… — Он махнул рукой и налил себе в рюмку, выпил залпом.
А после, уже вечером, все сидели во дворе, и мама пела. И отец с откровенной нежностью, такой непривычной, держал ее за руку на глазах у всех.
Летом мы вставали очень рано: надо было покормить кур, поросенка, подоить корову. Потом мы со Светкой разносили молоко дачникам. Обидно мне было, когда какая-нибудь городская женщина выходила к нам в халате, щуря заспанные глаза, говорила брюзгливо:
— Такие маленькие, а уже торговать научились! А водой не разводите? Знаю, знаю я вас, на нашей шее живете…
Девять часов утра, сама она только встала, не успела лица помыть, а называет бездельниками нас, вставших в шесть утра, уже успевших переделать столько дел, доставивших ей на дом молоко. Как-то я сказала об этом отцу с матерью. Они ничуть не удивились, точно иного и не ожидали. Мама сказала:
— А ты умей терпеть да не все слушай, что тебе говорят. А богатые и бедные всегда были.
— Подожди, мать, три-четыре… — остановил ее отец. — Сейчас, Танюшка, насчет бедных и богатых у нас в стране другой поворот, ты это понимать должна. Сейчас, если ты не жулик, ты получаешь по труду, сколько сумеешь заработать. А не так, как раньше, когда у капиталиста были заводы: он баклуши бил, а ему деньги текли… И отдыхающие-дачники разные. Другой на последнее за городом живет, чтобы здоровье поправить или детей на воздух вывезти. Ну а которые от безделья да лени на травке нежатся, те не люди, а так, три-четыре, вроде удобрения. С них пример брать нечего, иначе свою жизнь сломаешь. Мы люди простые, наше дело работать, три-четыре… Вот как мы с матерью, а то жрать нечего будет. А без труда и директором завода не станешь или там артисткой. Поняла?..
И еще одно запомнила я, сильно повлиявшее на меня в дальнейшем, наложившее отпечаток на всю мою жизнь.
Шила у нас на даче семья инженера: жена и две девочки нашего со Светкой возраста. Мы вместе играли, купались, ходили в лес. Инженер приезжал из города только на субботу и воскресенье, неожиданно сошелся с отцом, они вечерами беседовали о чем-то, сидя на крыльце, курили. Жена инженера, пышная высокая блондинка, всегда неопрятная и нечесаная, щеголявшая целыми днями в домашнем халате, к приезду мужа тщательно одевалась, причесывалась, мыла девочек. Капризно кричала мужу из окна: — Ай да что ты там все сидишь? Неделю не был и на семью посмотреть не хочешь!.. Нашел на что время тратить!
Он виновато улыбался, уходил наверх.
И вот как-то в понедельник она сказала при нас своим дочерям:
— Хватит вам с этими пригородными возиться! Неужели подходящей компании найти не можете?
Мы со Светкой, конечно, обиделись, а послушные девочки инженерши перестали с нами играть.
Для Светки это как-то прошло без следа, а я, самолюбивая и обидчивая, запомнила надолго. Надо было во что бы то ни стало доказать всем этим городским, что я, пригородная, ничуть не хуже их. Значит, надо одеваться еще лучше, чем они, иметь, например, велосипед, ну и так далее. Мать сразу нее поняла меня, одобрительно сказала:
— Правильно, по одежке встречают! И у нас со Светкой появились велосипеды, дорогие и красивые вещи. И вот это внешнее восприятие человека «по одежке» осталось у меня на всю жизнь.
2
Теперь-то я понимаю, что мы со Светкою просто не могли вырасти одинаковыми.
Светка на год моложе меня, черты лица нее как будто те же, что и у меня (она, в общем, тоже похожа на мать), и одновременно не те: что-то чуточку исказилось в них, и Светка даже в детстве была некрасива. У нее рано заболели глаза, и в первый класс она пошла уже в очках. Маленькой она вообще много болела. Отец относился к нам совершенно одинаково, хотя теперь он любит и уважает ее больше, чем меня. Он всегда был так занят работой, что времени на нас у него просто не оставалось. К тому же он считал, что воспитание детей — дело матери. А мама относилась к нам неодинаково. Это на первый взгляд трудно объяснить: казалось бы, она больше должна была любить Светку, младшенькую и болезненную. Но не такая наша мама. Сама человек очень здоровый физически, деятельный и сильный, она бессознательно презирала всякую слабость. Насмешливо говорила о мужчинах маленького роста:
— Мозгляк! Соплей перешибить!..
Я не видела, чтобы мама когда-нибудь плакала. А ведь Светку приходилось все время выхаживать, возиться с врачами и лекарствами. Я же росла здоровой, веселой и красивой девчушкой. И очень рано почувствовала, что мама относится ко мне более мягко и ласково, чем к Светке. Она словно бы гордилась мною, заставляла в детстве танцевать перед гостями, хвасталась мною перед дачниками. Светка, конечно, тоже чувствовала это. Она была немного замкнутой, тихой и послушной.
До четвертого, кажется, класса я водила ее в школу за руку, на переменах следила, чтобы она съела весь завтрак, настороженно защищала от мальчишек. И Светка до смешного слушалась меня во всем, точно маму.
В младших классах я очень дружила с Лешкой Лытневым, он теперь известный футболист. Мы сидели с ним на одной парте, и он был первым мальчишкой, которым меня дразнили. Лешка еще тогда решил стать спортсменом, купался всю зиму, в школу и из школы почти всегда мчался бегом, летом я почти всегда видела его с мячом, а зимой с лыжами или коньками. Ему, наверно, нравилось, что я такая же сильная и отчаянная, как он, стараюсь ни в чем не уступить ему.
И вот как-то в начале октября мы возвращались из школы — Лешка шел вместе со мной и Светкой. Не помню уже за что, но он сильно ударил Светку. Я отбросила в сторону сумку и сказала:
— Нашел с кем связываться. Ты вот меня ударь!..
Он растерянно заморгал. Светка жалобно плакала. Тогда я ударила его сама. И началось!.. Не знаю, чем бы это кончилось. Знаю только, что ни он, ни я не уступили бы. Нас разняли взрослые. А мама только засмеялась, увидев мое лицо.
На следующий день Лешка поджидал нас утром у нашего дома. Я снова приготовилась к драке, но он сказал:
— Я знаешь, что решил? Давай-ка воспитаем ее. — Он кивнул на Светку.
— Как это?..
— Ну чтобы здоровой была. Ну как ты. Или я.
Мне это понравилось. Посовещались и выработали план. Каждое утро почти до заморозков я купалась в озере вместе с Лешкой. Решили для начала, что и Светка будет купаться с нами. Она ревела и вырывалась, но мы раздели ее и на руках внесли в воду. На следующий день у нее были кашель и насморк, но маме она ничего не сказала. Мы с Лешкой переждали дня три и снова выкупали ее: ничего, обошлось. Потом мы решили вместе отправляться в школу и из школы бегом. Задыхавшуюся до синевы Светку тянули за руки. Из-за всех этих «тренировок» она стала хуже учиться и ходила сонная как муха. Зимой мы так же настойчиво заставляли ее кататься с нами на лыжах и на коньках, и примерно через год Светка преобразилась: перестала болеть, сделалась шумной, веселой, бойкой. Отец сказал свое обычное:
— Молодец, Танюшка, три-четыре…
И мама как-то по-новому начала поглядывать на Светку.
Тогда-то, видимо, и началось настоящее формирование характера Светки. Я давно уже не делаю по утрам зарядки, не играю в волейбол, редко хожу на лыжах. А у Светки, которая все начатое обязательно доводит до конца, привычка к спорту осталась до сих пор.
И я невольно задаю себе вопрос: почему я, имевшая в детстве куда больше данных, чем Светка, ничего не достигла, осталась простой чертежницей, а теперь домохозяйкой?
Известно, что характер человека складывается из преодоления разных препятствий. Светка непрерывно боролась с собственной слабостью, воспитала в себе силу, твердость и даже мужество. Она росла, а я в какой-то степени угасала. Учеба давалась мне в общем-то легко, хотя ни один из предметов не нравился особенно. Может быть, я ошибаюсь, но, видимо, уже с детства у меня возникло такое ощущение, будто мне уже все дано и сама я ни к чему не должна стремиться. Это ощущение подкреплялось и отношением ко мне матери, все время читавшей наставления Светке и ставившей меня ей в пример. Мама так и говорила:
— Вот за Светку боюсь: что с ней в жизни будет? А Танюшке нашей бог все дал, она танцуя по жизни пройдет!..
Если бы я тогда понимала все, что понимаю сейчас, после всего, что со мной случилось!
Помню одно странное событие. Я была в пятом классе, а Светка — в четвертом. И все эти задачи на бассейны и краны никак не получались у меня. Уроки мы готовили вместе со Светкой, за одним столом. И вдруг она так это нерешительно говорит мне:
— Смотри, как твою задачу надо решать… — И протянула листочек с ответом.
Я сверила его с ответом в конце учебника и очень удивилась: правильно! Стала просить Светку объяснить. Она что-то говорила мне, но я ничего не поняла и просто переписала ее решение. Рассказала об этом родителям. Мама тоже пристала к Светке: как, мол, она это сделала? А Светка, недоуменно моргая, удивленно говорила:
— Да я же вам объясняю как… Так надо, и все.
Отец, что с ним очень редко бывало, улыбнулся и сказал:
— Молодец, Светун, три-четыре…
Он тогда впервые назвал ее так — Светун…
А я, перестав наконец удивляться, предоставила Светке возиться с моими задачками, что она и делала с удовольствием. В старших классах такое же повторялось у нас с ней по физике и химии. Все это привело к тому, что к экзаменам по этим предметам я готовилась кое-как и едва не провалилась.
Одно лето у нас на даче жил странный мальчик с бабушкой. Сейчас этот мальчик кандидат наук и муж Светки. Был он года на четыре постарше нас, смешной и рассеянный. Бегал как девчонка, закидывая в стороны голенастые ноги. А чаще всего тихонечко целыми днями сидел с книжкой на крылечке. Раз я спросила его, что это за книга такая интересная, что он не может оторваться от нее. Он вздохнул и внимательно посмотрел на меня светлыми серыми глазами. Провел задумчиво тонкой рукой по вихрастым волосам, дернул себя за ухо, сжал подбородок. Эта манера у него осталась и до сих пор, а тогда она показалась мне очень взрослой и поэтому смешной. Я фыркнула, а он, ничуть не рассердившись, сказал, что в книге написано, как устроена Земля. И было что-то очень обидное в том, что он, такой неловкий и смешной, объясняет это мне, как маленькой. Я выдернула у него из рук книгу и побежала по двору, ожидая, что он захочет отнять ее и, конечно, не сможет меня догнать. Но он по-взрослому спокойно сказал:
— Ну зачем ты глупишь?
И слово это было странное — «глупишь»… Я забросила книгу в огород и ушла. И с тех пор по-детски безжалостно смеялась над ним. Он никогда не сердился, беззлобно улыбался и объявлял:
— Дите ты еще, Танька-Встанька.
И бабушка его тоже не ругала меня за это. Низенькая, толстая, как шар, с седыми волосами над губой и на скулах, она говорила ему:
— Ты бы, Костя, побегал лучше с Танюшкой, чем сиднем сидеть над книжкой. Засохнешь, старичок!..
А он лукаво поглядывал на нее и тоже шутливо отвечал:
— А по тебе, бабушка Шура, не видно, чтобы к старости люди сохли!
И она, вынув изо рта вечную папиросу, колыхалась всем телом, весело и негромко смеялась.
В середине лета появились его отец с матерью, загорелые, шумные, с рюкзаками за спинами: вернулись из какой-то экспедиции. И на неделю в нашем доме установился праздник. Родители Кости пели, плясали, шумели на весь дом. Покупали вино, закуски, угощали всех. И веселье их было таким непосредственным и здоровым, что мои мама и отец, другие дачники ни в чем не перечили им. Получилось даже как-то так, что они заняли на это время лучшую комнату в доме.
А в один из вечеров мой отец позвал Светку, и они вместе с Костиным отцом и Костей долго разговаривали с ней. Мне было обидно, что позвали не меня, и я слушала у раскрытого окна. Их вопросов я не понимала, они, наверно, заставляли Светку решать какие-то задачи. То есть заставлял отец Кости да иногда что-то негромко говорил Костя, а мой отец молчал. И лицо у него было радостно-взволнованное и почтительное, точно у младшего. Потом отец Кости сказал:
— Ну-ка, ребята, выйдите.
И когда Костя со Светкой вышли, по-свойски положил руку на колено отца, говоря:
— Ты, Петр, учи эту девочку, понял? Это одна из главных задач твоей жизни, так себя и настраивай. Я, брат, в таких делах не ошибаюсь. Вот на днях привезу ребятам кое-что из города, пусть руками приучаются работать.
И отец согласно кивал. Я еще не видела, чтобы он так быстро сходился с кем-нибудь.
И до своего отъезда на юг — после отпуска родители Кости должны были снова уезжать куда-то на Дальний Восток — отец его привез на машине несколько ящиков с инструментом и деталями. Принялись в сарае устраивать мастерскую, для чего надо было потеснить верстак отца. Мама сунулась было возражать, но отец только глянул на нее, и она замолчала. И он ездил в город провожать родителей Кости на юг.
Теперь Светка перестала ходить со мной на озеро и в лес, играть в волейбол. Только освободится от хозяйства — и бегом в сарай. Она бы вообще перестала помогать нам с матерью по хозяйству, если бы мама строго не сказала ей:
— Что там еще из тебя будет, вилами на воде писано, а дома работы по горло!
Отец слышал этот разговор, но не вмешался, не остановил мать.
Вначале я заходила в сарай к Светке и Kосте. Они молча делали что-то, иногда он негромко объяснял ей какие-то чертежи. Светка слушала его внимательно и так напряженно, что даже очки у нее потели. Мне было смешно и странно видеть все это, я ничего не понимала и перестала ходить к ним.
А когда в конце лета Костя и бабушка Шура уезжали, у нас оказались самодельные телевизор и проигрыватель. Костя не взял их, как не взял и свой инструмент, сказав отцу:
— Мне, Петр Гаврилович, в городе некогда этим заниматься, а Светке я оставил план, что она должна делать. Да я буду к вам приезжать.
Эти вещественные доказательства — телевизор и проигрыватель — подействовали даже на маму. Она удивленно сказала:
— Смотри ты, играючись какие дорогие вещи можно сделать…
— Не это главное, — по-костиному, как взрослая, сказала Светка.
Отец улыбнулся, а мама пристально, как на незнакомую, посмотрела на Светку.
В старших классах я и Светка все больше отдалялись друг от друга. Училась я средне, дома уроки отнимали у меня мало времени, ведь часть их я по-прежнему готовила с помощью Светки. Все это стало каким-то второстепенным для меня. Я плохо спала и много мечтала. В общем, со мной было, наверно, все то же, что бывает с каждой девушкой в это время.
У меня оказался хороший слух и несильный, но приятный голос, как у мамы. Я стала выступать на школьных вечерах, ездила с нашей самодеятельностью в подшефный совхоз. Мне нравилось выходить на сцену, видеть сотни глаз в зале, сознавать, что я красива, хорошо одета.,
Лешка Лытнев — он уже играл в молодежной сборной города — вечерами торчал теперь около нашего дома. И мне нравилось заставлять его ждать и мучатся, я кричала через забор:
— А, сегодня ты дежуришь?.. Ну, ну! — И закрывала окно.
Мне нравилось кокетничать с ребятами, дразнить их, заставлять табуном ходить за собой, назначать свидания и не являться.
И с удовлетворением и гордостью слышала, как девочки шептались за моей спиной:
— Танька у нас красавица и такая отчаянная: никому не спустит!
Похвалы взрослых, успех среди мальчишек, восторг девчонок, бурные аплодисменты во время выступлений на школьной сцене — все это кружило голову, создавало вокруг меня какой-то ореол. Я поверила в собственную исключительность, держалась в школе вызывающе, часто дерзила учителям. И стала ждать какого-то особого, только для меня предназначенного счастья, которое где-то здесь, рядом, ждет меня и непременно сбудется.
Я много работала по хозяйству, радуясь, что на новые деньги можно будет купить еще то-то и то-то. И все сильнее, уже совершенно серьезно, уверялась: жить надо так, как мои родители.
А Светка жила совсем иначе. На танцы не ходила, никто из мальчиков за ней не ухаживал, одевалась довольно просто, а чаще донашивала мои платья и точно не замечала этого, не обижалась. Сидела над книгами, ходила на занятия радиокружка, ковырялась потихоньку в сарае. И как-то незаметно за лето сдала за девятый класс, догнала меня. Она даже ничего не сказала дома, будто совершенно не готовилась, просто принесла табель и показала. И это было действительно просто для нее, потому что еще в восьмом классе она осилила математику, физику и химию десятого. Отец развел руками:
— Светун, милая, три-четыре, как же это ты?..
Она пожала плечами и по-костиному спокойно — я еще тогда не понимала, как крепко в душу ей запал Костя, — пояснила:
— Бессмысленно было время терять. Я бы и за десятый сдала, да всякие формалисты из роно не разрешают.
И мать впервые тогда сказала:
— Смотрите-ка, Светка-то наша в самом деле в ученые выйдет. Ну и дела-а!..
На нее по-другому теперь смотрели и в школе, она стала, так сказать, надеждой и гордостью всех учителей. А это сводило меня с пьедестала. И я долго не могла простить Светке.
И все же, охваченная горячим и туманным предчувствием близкого счастья, я пробовала и Светку увлечь своими радостями. Советовала ей ходить на свидания вместо меня, красиво одеваться, несколько раз пыталась вытащить на танцы. Но Светка насмешливо и будто свысока, как младшей, улыбалась мне, говорила коротко:
— Ты уж одна невестись. — И брала книгу.
А если я приставала снова, она уже серьезно объясняла:
— Да не надо мне этого, понимаешь? Не обижайся, в тебе очень сильно животное начало… Ну а мне жалко на это время терять. Знала бы ты, сколько по-настоящему интересного в жизни!
Да, это была уже не та Светка, которую мы с Лешкой когда-то купали в озере. Я перестала быть старшей сестрой, а это, наверное, всегда очень болезненно ощущать.
И — больше того. Я вдруг почувствовала, что в чем-то даже младше Светки, чего-то, очень важного для нее, просто не понимаю. И не могу так, по-взрослому, разговаривать с родителями, как это делает она. Это еще сильнее отдалило меня от нее, вызвав даже чуть враждебное отношение к ней. Тут были и обида, и зависть, и ущемленное самолюбие.
Отец, скажем, ставит движок насоса для поливки грядок, мать и я помогаем ему. А Светка, прищурившись, стоит и думает. Вдруг объявляет, как это лучше сделать, отец соглашается с ней, и нам приходится все начинать сначала.
Светка все меньше и неохотнее работала по дому. А после сдачи за девятый класс почти совсем перестала заниматься хозяйством. И отец не поддерживал нас с мамой, когда мы жаловались ему на Светку. Но это бы еще ничего: мы справлялись и втроем, хотя мне и обидно было, что Светка у нас вроде белоручки-госпожи. Главное, что она явно отрицательно относилась ко всему, что мы делали, и я никак не могла понять, на что же тогда она рассчитывает в жизни, откуда будет брать деньги. Хорошо быть, конечно, инженером, но Строгов с Киселевым живут хуже нас. И ведь надо еще поступить в институт, проучиться в нем чуть ли не шесть лет. После окончания могут отправить куда-нибудь в Сибирь. А чтобы стать ученым, надо учиться всю жизнь. Учеба же была для меня тяжкой обязанностью, скучным, трудным этапом в жизни. В то время я считала так: если всю жизнь учиться — когда же по-настоящему жить?
Но Светка — я бы никогда не посмела так разговаривать с родителями — однажды спокойно, выложила им что-то похожее на слова Киселева:
— Вы работаете много и умело. Я не против этого. Но ведь дом и хозяйство отнимают у вас столько времени! Я хочу, чтобы вы поняли: если бы все люди жили, как живет наша семья, человек до сих пор бегал бы голый с каменным топором в руках.
— Погоди, три-четыре, но чего же ты хочешь?..
— Я ведь не отказываюсь помогать маме. И всегда буду помогать, если время свободное: я даром хлеб есть не хочу.
— Ты давай яснее.
Светка поправила очки, посмотрела нам прямо в глаза и решилась:
— Мелко это все… Ненастоящее это.
— Да ты что? Поили-кормили!..
— Погоди, мать, три-четыре… А что же тогда настоящее?
Светка взяла со стола какой-то учебник по радиотехнике, ничуть не испугавшись, протянула его отцу:
— А вот, например, такие книги писать… Или придумать что-нибудь вроде электродвигателя.
— Его уж до тебя придумали!
— Погоди, мать. А если… не придумаешь?
— Ты дом строил — не боялся, что при пожаре он сгореть может?
— Так, три-четыре…
И когда мы учились в последних классах школы, не было уже такого, чтобы мы со Светкой забирались друг к другу в кровать и шептались чуть не до рассвета…
3
Экзамены на аттестат зрелости прошли для меня будто стороной, словно что-то неглавное. У меня, как и кое у кого из моих одноклассников, была твердая уверенность: если уж учителя и директор школы довели нас до десятого класса, то обязательно выпустят, дадут аттестаты. Моя ближайшая подруга в старших классах Зинка Копырева так прямо и говорила:
— Чего волнуетесь, суслики? Главное для директора и учителей — успеваемость. По этой успеваемости их работу оценивают. А зачем им ушами хлопать? Вот они нам ручки пожмут, пожелают трудовых успехов и больше, может, никогда в жизни не увидят. Здесь дураком надо быть, чтобы двойки ученикам ставить.
А Светка окончила школу на круглые пятерки. Поздравляя ее на вечере? усатый и грозный математик Сидор Степанович даже прослезился, поцеловал. Ей долго трясли руку директор школы и сам заведующий роно.
У Зинки и Лешки, да и у меня, вся эта официальная часть не вызывала особого интереса. Зинка сказала:
— Чего они тянут резину, скорей бы танцы! Показуха это все, спектакль.
На вечере я пела, мы много танцевали, потихоньку выпили чуть-чуть. Все ребята ухаживали за мной, Зинка дулась, а Лешка ходил злой как черт. Вдруг я заметила, что Светки нет, незаметно выбралась из толпы и пошла ее искать. Светка сидела одна в нашем классе за своей партой и почему-то грустно кивала головой. Я засмеялась:
— Ты как лунатик!..
Она подвинулась, я села рядом, Светка обняла меня, прижалась, замерла. Я сказала удивленно:
— Вот уж никогда не думала, что ты такая сентиментальная!..
— Есть случаи, когда сентиментальность называется по-другому… Ведь одна часть нашей жизни кончилась, Тань!
Я помолчала, стараясь лучше понять ее, потом ответила:
— А я, знаешь, ничего такого, пожалуй, не чувствую. То есть я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь, только уж очень это обыкновенное дело сейчас — окончание школы. Теперь уж почти и не встретишь человека без среднего образования. Надо иметь аттестат — вот мы его и получили.
Она отодвинулась, посмотрела на меня и негромко ответила:
— А я вот вас, ну тебя, Зинку, Лешку, понять не могу. Какие-то вы… посторонние, легкомысленные, что ли?.. — Она задумалась, до-
говорила: — Хотя, с другой стороны, вы и очень практичные, земные. Неужели вы не чувствуете, что в вашей жизни начинается новая полоса? И ведь вам может дальше оказаться очень нелегко.
— Брось, ничего не может оказаться! Все-то Пушкиными не могут быть…
Но договорить нам не пришлось. В класс с шумом ввалились Лешка, Зинка, ребята:
— Поехали на Неву гулять!..
Я, конечно, понимала, чего хочет Светка. Но я тогда совсем не верила, что она может чего-нибудь добиться: ведь она хотела попасть в какой-то другой, необычный мир, где пишут книги, делают открытия. А вот рассуждения Зинки были понятны и близки мне. Надо просто хорошо жить. Ну, как мои родители, например. Конечно, лучше бы для этого меньше трудиться, но, здесь уж ничего не поделаешь. Да и работать по дому никогда не было в тягость мне. Приятно, конечно, когда о тебе говорят: «профессор такой-то» или «артистка такая-то», — но еще неизвестно, хорошо ли они живут, как чувствуют себя в личной жизни, а ведь она — главное. Вот приблизительно так я рассуждала тогда.
Лето после окончания школы прошло очень весело. Все в поселке смотрели на нас по-новому, как на людей, уже достигших чего-то, достойно завершивших первое серьезное дело в своей жизни. Даже мама нерешительно просила теперь помочь ей по хозяйству. И мы целыми днями купались, загорали, вечерами танцевали. Прямо в роще, на поляне: выносили собранный когда-то Костей проигрыватель, Светка подключала его к проводам на столбе. Потом это научился делать Лешка, другие ребята, и Светка перестала вообще появляться на танцах.
Ночами иногда гуляли чуть не до утра. Тогда я впервые стала целоваться с Лешкой. Кажется, даже была немножко влюблена в него: тогда я могла влюбиться во всякого симпатичного парня. Мне льстило уважительное отношение других ребят к Лешке: играет в сборной молодежной города! Это было, пожалуй, единственное, чем я могла, досадить Зинке. Она была тоже красивая: тоненькая, стройная, волосы рыжие, пышные, движения по-змеиному гибкие. Всегда очень хорошо одевалась: ее отец был директором нашей местной артели.
О поступлении в институт совсем не думалось. Может, потому, что Светка совсем не готовилась, а по-прежнему возилась со своими схемами в сарае. Я никак не могла решить, в какой именно институт мне надо идти. Ясно только, что в гуманитарный: технические дисциплины мне всегда не давались. Да и вообще было для меня неясно, стоит ли поступать в институт. Проучиться пять лет и стать учительницей, как Екатерина Васильевна? Возиться с тетрадками, нервничать на уроках? И получать зарплату меньшую, чем мой отец? Или получить диплом врача, возиться с больными, а в конце концов превратиться в ожиревшего дядю Симу?.. Дома тоже выжидательно молчали. То есть подразумевалось само собой, что я буду учиться дальше, но где и как — никто мне не говорил. Только Светка однажды мечтательно сказала:
— Шла бы ты на искусствоведческий в университет: это, наверно, так прекрасно — жить в мире красоты! Эх, было бы у меня время!..
— А кем она будет? — негромко спросила мама.
— Экскурсоводом! — ответила я.
— Это водить народ да картинки объяснять? — Мама хмыкнула.
Светка начала горячо и путано говорить о значении искусства в жизни человека, а отец молча поглядывал на меня. И тогда я впервые поняла, что и он тоже не знает, к чему в жизни меня лучше приспособить, к чему я больше подойду. Он и до сих пор ни слова не сказал мне об этом, но тогда, видимо, в первый раз по-настоящему сообразил, что я очень заурядный человек. У него к тому же была возможность ежедневно сравнивать меня со Светкой. Сама я этого, конечно, не понимала, просто не думала об этом.
Теперь я вижу, что из меня мог бы выйти и хороший врач, и хорошая учительница: я достаточно толкова и трудоспособна. Но самостоятельно я ни на что не решалась, а родители думали, как бы устроить меня «повыгодней».
В конце концов как-то определилось, что я должна все-таки идти в технический институт, если уж вообще идти: у инженера зарплата больше, чем у врача или учителя. Светка стала помогать мне готовиться, но было уже поздно, и на экзамене по математике я провалилась. А Светка поступила в электротехнический институт.
Мой провал никого не удивил и не расстроил, и меня в том числе. Мама сказала:
— Таня и без этого свое в жизни возьмет. Светка подтвердила:
— Честно говоря, Танька в институте только чье-нибудь место бы занимала.
Отец вздохнул:
— Ну что ж, три-четыре… У каждого своя дорога.
А я сама так была полна жизнью, так уверена, что ничего плохого со мной просто не может случиться, что даже немного обрадовалась провалу: не надо будет больше учиться, а можно жить так, для себя.
Этот период, до знакомства с Анатолием, делится как бы на две части: сначала я жила, ни о чем не заботясь, а потом уже делала все, чтобы как можно удачнее выйти замуж.
В первую осень я много помогала маме по хозяйству, продавала на рынке овощи, молоко, мясо — мы забили кабана. Варила, солила и квасила. А по вечерам развлекалась, как и раньше. И была довольна: почти все мои одноклассники заняты днем в институтах или на производстве, а я по-прежнему дома и относительно свободна. И отец с матерью не торопили меня с устройством на работу, хозяйственных дел у нас было предостаточно. Мама так и говорила:
— Ну что, принесет Таня в месяц рублей четыреста — это по старым деньгам, конечно, — так она за день на рынке больше половины этого выручает!
И только Светка как-то поздно вечером, когда мы легли спать в нашей с ней комнате, негромко сказала мне:
— Слышишь, Тань… Иди куда-нибудь работать. Обязательно иди! Иначе окончательно превратишься в пригородную торговку.
А я лежала голая в постели, скинув одеяло, забросив руки за голову, вся еще полная звуками танцевальной музыки, смеха, оживленного говора, запахами ночи, поцелуями Лешки… Ничего даже не ответила Светке, только улыбнулась свысока и пренебрежительно.
— Слышишь, Тань!.. — повторила она. — Ведь ты погибаешь!
Я засмеялась, спросила:
— Жизнь все лучше делается? Ну, во всесоюзном масштабе?..
— Ну лучше… — недоумевающе ответила Светка.
— Значит, и таким, как я, лучше жить будет!
— Делается! — фыркнула она и приподнялась на локте. — Ишь раскинулась, как тигрица! Если никто не будет делать жизнь лучше, так сама она не сделается, не надейся!
Зимой работы дома убавилось. Зинка стала продавщицей в гастрономе, Лешка учился в институте физкультуры, вечерами задерживался на тренировках. Рано темнело, в город на танцы надоело ездить, а в нашем Доме культуры они были только по субботам и воскресеньям. И мне стало скучно. Тогда мама устроила меня в наше пошивочное ателье ученицей. И проработала я в нем, кажется, месяца два или три.
Сначала тине понравилось: специальность хорошая, всегда заработок в руках, ведь голыми-то люди ходить не будут. Понравилась и веселая обстановка мастерской, и закройщица тетя Валя; она сразу сказала, глядя на меня:
— Ну, теперь у нас своя манекенщица появилась. Ишь ты, какая красивая девочка!..
Я была понятливая, ловкая, привыкла работать руками и училась хорошо. Тетя Валя даже как-то объявила мне:
— Ну вот, я на пенсию уйду, ты меня и сменишь.
Тетя Валя зарабатывала много. Но какой ценой? Она лебезила, унижалась перед заказчицами, среди которых были такие, что не могли сами выбрать себе фасон платья или пальто, ничего не понимала в модах, не имели ни малейшего вкуса. И туда же лезли (командовать, капризничали, придирались. Тетя Валя возвращалась в мастерскую потная, злая и, пряча в сумку скомканные бумажки, презрительно ворчала:
— Ей, корове, надо в робе ходить, а она в крепдешин лезет!..
Значит, в конце концов и меня ожидало это же. Да еще и учиться надо было сколько! А тут подошла весна, снова работа по хозяйству, да еще Лешка настаивал, чтобы мы поженились, и я уволилась.
Но у нас с ним ничего не получилось.
Во-первых, я его не любила: теперь-то я знаю, что такое любовь!.. Возможно, я и привыкла, бы к нему, как теперь привыкла к Анатолию, но тогда я никак не могла решиться на этот шаг. Во-вторых, он жил с больной матерью в маленьком полуразвалившемся домишке. Ее бы, конечно, пришлось брать к нам в дом. А в-третьих, профессия футболиста такая: сломал ногу — и выходи в отставку! Отец с матерью ничего не говорили мне, но я чувствовала, что они думают именно так. И в глубине души была согласна с ними, не хотела рисковать.
А он любил меня по-настоящему. И, кажется, любит до сих пор. Я иногда хожу на футбольные матчи, а потом мы с ним долго гуляем. Он женат на Зинке, у них уже двое детей, но живут они плохо.
К концу лета совершенно неожиданно, ни с кем не советуясь, замуж вышла Светка. Просто как-то вечером приехали они с Костей из города, привезли бутылку вина и сказали, что записались. Впечатление, надо сказать, было довольно сильное. Не потому, что Костя плохой человек: лучшей партии родители для Светки и желать не могли. А потому, что этим своим поступком она лишний раз доказала, что не очень-то считается с мнением нашей семьи, по существу, давно живет обособленно. И родители, конечно, поняли это. К тому же Светка в тот же вечер собрала свои вещи и переехала к Косте в город.
На следующую зиму, когда мы управились с хозяйством, я поступила продавщицей в отдел галантереи нашего универмага. И тоже проработала всего несколько месяцев. Но на этот раз ушла уже не сама, а меня выгнали. Вот как это получилось. Завотделом Гононов предложил мне торговать левым товаром, я поколебалась, но отвергла это предложение. Вот он и устроил, что меня уволили.
Промучилась после этого несколько дней и как-то бессонной ночью поняла, что все мои неудачи с работой не случайны. И поняла еще, что так я в жизни ничего не достигну. Ведь для работы красота совсем не главное. Тяжело мне было, я даже поплакала. И вспомнила мамины слова относительно замужества. Это был выход. И настоящий. Сразу можно было опередить всех, даже Светку с Костей: иметь и деньги и положение. А расчет здесь ни при чем. Ведь замуж выходишь на всю жизнь; разве не стоит подумать: за кого выходишь, как будешь жить? А потом — почему обязательно без любви? Если он будет молодым, симпатичным, хорошим человеком, будет любить меня, так и я его полюблю. Ведь даже в книгах пишут, что самая горячая любовь может быть ну два, ну три года после замужества, а потом она превращается в привязанность. Появляются дети, дом, семья. А сколько в книгах примеров, когда люди сходились без такой горячей любви, а полюбили друг друга уже после. Кто-то даже говорил мне, что за границей такое замужество считается наиболее разумным. Мне еще только двадцать, торопиться особенно некуда. Надо лишь заняться этим серьезно. А такой хороший человек мне обязательно встретится, просто не может не встретиться!..
Успокоилась и под утро заснула,
4
Могут показаться странными и даже неправдоподобными мои такие циничные рассуждения, да еще в двадцать лет. Но они, если говорить откровенно, были характерными для некоторой, пусть небольшой, части моих сверстников. Ведь недаром Светка назвала меня и моих друзей «посторонними». И такие «посторонние» молодые люди, которые растрачивают себя попусту, не на главное, были, наверно, всегда, даже в годы революции. Их очень жаль, хотя они могут казаться счастливыми, но пользы другим от них, конечно, никакой.
Но тогда я этого всего, конечно, не понимала, хотя во мне всегда были два существа: одно жило расчетом, как учили родители, а другое сердцем, и вот теперь они — особенно после встречи с Олегом — борются во мне друг с другом. Не на жизнь, а на смерть!..
Олег!.. Это было семь лет назад. Сколько я пережила и передумала за это время! А ведь я могла и могу, наверно, стать совсем другой, жить настоящей, большой жизнью. И это Олег открыл мне, что такое настоящая жизнь, что такое подлинное творчество и в работе, и в любви, и в окружающих людях. Почему же я не сумела тогда оценить все это?
Я вспоминаю себя в то время. Были школа, товарищи, учителя, вся наша большая жизнь. Был пример Светки. Но я шла мимо: дальше нашего хозяйства, танцулек и мечты о замужестве ничего не хотела знать, ни к чему не стремилась.
Дома, конечно, быстро поняли мой новый жизненный курс. И отец и мать стали встревоженно поглядывать на меня, подозрительно косились на новых моих бесчисленных знакомых, провожавших меня по вечерам до нашей калитки. Отец даже как-то сказал:
— Слушай, Таня, — он тогда называл меня суховато, Таней, — чего-то очень легко ты стала жить, три-четыре… Смотри не оступись, яма-то ведь глубокой может быть!
И мама поддержала его.
Я и сама удивляюсь сейчас, как это со мной ничего худого не случилось — так много было всяких случайных знакомств, — почему я ни с кем не сблизилась, осталась чистой. Видно, во мне все-таки сильны были родительские наказы о том, какой должна девушка выходить замуж.
Костя и Светка, я это чувствовала, осуждали меня, но молчали.
Наконец Костя сказал:
— Не пойму я тебя, Танька-Встанька! Умный ты вроде человек, а живешь как-то не так. И нас со Светкой сторонишься. Хоть бы друзей себе хороших нашла. — И дернул себя за ухо, погладил раздумчиво подбородок.
А Светка в моем присутствии сказала ему так, точно меня не было рядом:
— Знаешь, что такое наша Танька? Я это понимаю просто. Самовлюбленная красавица она у нас. Крайняя эгоистка, возросшая на дрожжах родительского хозяйства. Вот до революции настоящая кулачка из нее получилась бы. Да, да, не смейся! Ей ни до кого нет дела. Что ей до того, какая большая, интересная жизнь вокруг? Она живет как сурок в своей норе. И подружки у нее вроде Зинки-продавщицы! А вот пошла бы учиться, работать, попала бы в коллектив — и сама бы другой стала. Так ведь она не хочет, считает, что так проживет и что другие еще хуже, чем она. А у самой ни одного светлого пятнышка не осталось! Она, видите ли, лучше на рынке будет торговать, чем учиться и работать, приносить пользу людям. А вчера ее, знаешь, провожал один лысый, меня чуть не вырвало. Невеста, понимаете ли!..
И Светка во многом была права. Почему у меня действительно ни разу не возникло желания сходить в школу, к учителям, к одноклассникам: ведь у нас было много хороших ребят и девушек, многие из них стали студентами. Мне бы поговорить, посоветоваться. Но не очень-то, честно сказать, я верила, что они чем-нибудь могут мне помочь, да и гордость не позволяла.
Все же я пришла к мысли, что надо опять устраиваться на работу. И скучно мне было дома. И странно как-то было говорить знакомым, что нигде не работаю, а врать надоело. И пойти надо было на какую-нибудь приличную, хоть и скромную работу, и чтобы не попадать в положение тети Вали из ателье или не иметь дела с людьми вроде Гононова. И работа эта, конечно, должна быть обязательно в Ленинграде: и люди вокруг окажутся новые, и свои, местные, не узнают, кем и где я работаю.
И вот, болтаясь как-то по магазинам в городе, я случайно наткнулась на объявление: «Конструкторскому бюро требуются чертежницы». Мне хорошо удавалась всякая механическая работа, а в школе я прилично рисовала, всегда участвовала в оформлении стенгазеты, разных выставок. Решила — и тут же зашла в отдел кадров. Копировальной работы в бюро было много, меня приняли, хотя до этого я и не работала чертежницей.
И здесь случилось неожиданное. Или я попала в хороший коллектив, или просто соскучилась по работе, или мне нравилось мое новое прочное положение в жизни, но только Светка снова оказалась права. Мне было приятно уже одно то, что я по утрам вместе со всеми в переполненной электричке еду на работу. Нравилось и ощущение заслуженного отдыха по вечерам, когда я возвращалась домой или шла в кино, на танцы. Ведь до этого где-то в глубине души у меня всегда было чувство неопределенности, неоправданности моего существования. Не очень беспокоила меня и маленькая зарплата — в деньгах в нашей семье никогда недостатка не было — и то, что работа эта была не бог весть какой интересной. Я и не ждала от нее этого — цель у меня по-прежнему была другая.
Главное, мне очень, и совсем по другому, чем в ателье и в магазине, понравились обстановка в нашей чертежной, люди.
В длинном двухсветном зале стояли рядами доски с кульманами. Было чисто и тихо, только слышались шуршание бумаги да приглушенные голоса. И мне нравилось, придвинувшись к доске, оставлять на глянцевитом листе кальки четкие, уверенно-прямые линии черной туши; видеть, как постепенно все явственнее проступает чертеж; меня охватывало приятное ощущение рабочей занятости, всецелого поглощения этим хоть и механическим, но нелегким трудом, чувство удовлетворения от сделанного.
Старшей в нашей группе была Лидия Николаевна, женщина лет сорока пяти, худенькая, маленькая и быстрая, острая на язык. Встретила она меня совсем недоброжелательно. Откровенно оглядела с ног до головы, спросила отрывисто:
— Пересадку делаешь?
— Как это?
— А так это! Перекукуешь, да и бежать за длинным рублем?
— Мне длины и у этих рублей хватит. Она недоверчиво промычала:
— Ну-ну!.. Поглядим, какая завтра погода будет.
— В Ленинграде климат переменчивый.
— Вот и я про это самое, красуля, толкую!
А в обед незаметно выспросила меня решительно обо всем. Еще более недоброжелательно проговорила:
— Ты оглянись, девушка: в ту ли дверь вошла?
Я ничего не ответила. Но учила она меня настойчиво и безжалостно смеялась над каждой ошибкой. И нашла коса на камень: в насмешках Лидии Николаевны было что-то совсем другое, чем у некоторых заказчиц в ателье или покупателей в магазине, и мне почему-то очень хотелось доказать ей, что и я не лыком шита. Освоилась я с инструментом, правилами технического черчения и ГОСТами довольно быстро, рука у меня была твердая, глаза хорошие, трудиться я умела, и недели через две Лидия Николаевна, разглядывая мою кальку деталировки, удивленно проговорила:
— Чистенько, Танечка! — И дала мне чертеж узла.
Большинство работавших, кроме старших групп, были девушки примерно моего возраста. Многие из них учились по вечерам в институтах или техникумах. И хотя зарплата была маленькой, о чем они часто и много говорили, но я догадывалась, что почти у всех у них было ощущение собственной нужности, полезности дела, которым они занимались, и даже достоинство рабочего человека.
На заводе, который был придан нашему КБ, выходил новый образец, об этом иногда писали даже в газетах. И Лидия Николаевна говорила:
— Весь механизм передвижения через нашу группу прошел!
Чертежница Лида-маленькая, круглолицая, веснушчатая, с носиком пуговкой, подчеркнуто безразлично дополняла:
— Корпус редуктора ничего себе был, на трех листах делать пришлось.
— От размеров прямо в глазах рябило, — тоже со скрытой гордостью договаривала ее подружка Галя.
И никто из них при этом даже словом не обмолвится, что фамилии их совсем не упоминаются в проекте, а на листах пишутся в самом низу штампа!
А если кто-нибудь при копировке перевирал чертеж и в цехе запарывали детали или не могли смонтировать узел, Лидия Николаевна без-жалостно насмехалась:
— Металл на то и металл, он точности требует! Третий год, Лида, сидишь, десять пар налокотников протерла, а вертикаль от горизонтали отличать не научилась!..
Лида краснела, шмыгала носом:
— Да ведь и ошиблась-то всего на два миллиметра…
— Ничего, Лидусь, не тушуйся, — в тон Лидии Николаевне говорила Галя. — Ты ведь не получку получала: вот там на два рубля не дай бог тебе просчитаться!
Вообще же, при всей напряженности труда, после которого болели руки и ломило спину, в чертежке была атмосфера насмешливой и беззлобной веселости.
Много и постоянно смеялись над «Вертолетом» — молодящейся сорокалетней Крутиковой, рассеянной, болтливой, пустоватой и вечно кем-нибудь или чем-нибудь увлекающейся. Позавтракать дома она никогда не успевала, и вот утром, жуя бутерброд прямо за доской, запивая его водой и одновременно причесываясь, поглядывая в зеркальце, она громко рассказывала:
— Записалась вчера на машину. На «москвича». У него ходовые качества не хуже «Волги», мне один знающий человек говорил.
В зале становилось тихо. Муж у Крутиковой погиб на войне, она воспитывала семиклассника-сына и денег, конечно, на машину никоим образом собрать не могла. А она, подбодренная вниманием, уже мечтательно заканчивала:
— Сядем в воскресенье с Вовкой — и айда на весь день за город!..
Тотчас с разных сторон предупредительно советовали:
— Ты «москвича»-то будешь брать — поярче, понаряднее выбирай!
— От женихов отбоя не будет: невеста с машиной!
— Нет, при машине, Кларочка, тебе неприлично в простых чертежницах ходить, в начальники выбивайся!
Все они всё знали друг о друге. Если кто-нибудь из девчат готовился к экзамену, старшая группы, будто между прочим, говорила:
— Нине, девчата, и деталировки на этот месяц хватит.
Крутикова заболела, и я очень удивилась: к ней почти ежедневно ходил в больницу кто-нибудь из наших.
Ко дню рождения в складчину делали подарки. На пенсию провожали очень трогательно.
И у большинства из нас было какое-то благоговейное отношение к работникам научно-исследовательского сектора, точно к особенным людям, работа которых просто выше нашего понимания. Ведь это по их идеям, благодаря их сложным и недоступным для нас экспериментам конструкторы проектировали машины, а мы уже только копировали их чертежи. Они были учеными. И даже Лидия Николаевна говорила:
— Мы, девчата, — руки, конструкторы — желудок, который переваривает эскизы, а голова — там! — И кивала в сторону отдельного серого корпуса, стоявшего во дворе.
С научными работниками мы почти не общались, в их корпус был нужен пропуск, а к нам им приходить было незачем. И только иногда для какой-нибудь срочной работы брали туда двух или трех лучших чертежниц. Чаще других — Лидию Николаевну. И ей обычно завидовали: работа эта была почетной и выгодной в денежном отношении.
Относились в чертежке ко мне по-разному, но в общем хорошо. Работала я старательно и без всякого усилия: еще мамина школа. Кальки у меня получались приличные. Понимала, что насмешливый наш народ не простит мне ни одного необдуманного слова, и была сдержанна. Толстушка Лида-маленькая и некрасивая, долговязая Галя откровенно завидовали моей красоте, фигуре, умению одеваться. Мы очень скоро начали вместе ходить на танцы. Но я быстро поняла, что хотя они и частенько по-девичьи мечтали вслух о любви, о замужестве, это не было целью в их жизни. И на танцы ходили прежде всего потому, что им просто хочется потанцевать. Мы никак не могли найти общего языка, хотя отношения у нас были самые добрые.
Лидия Николаевна часто хвалила меня, но я иногда (всякий раз неожиданно) ловила на себе ее внимательный, изучающий взгляд и понимала, что она хочет и все никак не может до конца разобраться во мне. Она и называть меня стала «Сфинксом». И однажды в обед сказала:
— Наш Сфинкс из настырных, хоть и помалкивает пока. Из тех, что ва-банк играют. Обскачет она нас с вами, девочки, помяните мое слово! Только вот как она хочет жизнь за рога взять? Что-то у нее свое на уме!
Меня не смущали ее слова. Наоборот, я чувствовала себя все увереннее, непринужденней. Тогда еще не понимала почему. А теперь вижу, что быстро стала своей в нашей чертежке, что мои успехи, мои намерения, мои поступки были далеко не безразличны товарищам по работе: они обязательно поддержали бы меня в трудную минуту, как поддерживали всех других, и помогли бы в любом хорошем начинании.
Мама не принимала всерьез моей работы, но была рада, что я, так сказать, не сбилась с пути. Отец снова называл меня Танюшкой: он привык уважать любую работу, если она делается хорошо. Светка горячо наставляла меня:
— За этот год я помогу тебе подготовиться, а на будущий поступишь в вечерний институт. Ничего, ничего, Тань, это только поначалу тяжело, а из тебя еще знаешь какой человек выкуется!..
5
Прошло, кажется, месяца три или четыре. Как-то Лидию Николаевну вызвали к начальству, она вернулась радостно возбужденная:
— Ну, красотки, фотографируйте чертежики, а я ухожу в мозговой трест! Без меня, видите, там все дело заглохло, иду спасать положение!
В чертежке стало тихо: всем хотелось знать, одна ли она идет или возьмет с собой кого-нибудь? А Лидия Николаевна посмотрела на Галю и Лиду-маленькую, с волнением ожидавших ее решения, и неожиданно повернулась ко мне, что-то соображая. Весело и громко сказала:
— Внесем сумятицу в ряды противника! Пусть и ученые знают, какие у нас красули водятся. Пойдешь со мной, Сфинкс.
Я почувствовала, что тоже волнуюсь. Лидия Николаевна посадила меня за свой стол и объяснила, что там, в научно-исследовательском, разорвало какую-то центрифугу, они переделывают ее, правят чертежи, и для завода срочно требуются кальки.
Днем я оформляла пропуск в отделе кадров, а вечером хорошенько обдумала, как мне лучше одеться. Утром надела черное шерстяное платье в обтяжку, с белой отделкой по вороту и рукавам, туфли на высоком каблуке, собрала волосы пучком на голове: получилось и скромно и элегантно. Подкрашивать ресницы и губы не стала, посмотрела на себя в зеркало: и так хорошо! Не то чтобы тонкая, но и не толстая, плечи прямые, грудь высокая, ноги стройные, сильные. Но главное — лицо. С румянцем и ямочками на щеках, прямым носом, пухлым ртом, синими глазами и очень светлыми, пушистыми волосами. Надевай кокошник — и боярышню рисуй!..
Лидия Николаевна пришла одетой, как всегда. Оглянула меня, хмыкнула удовлетворенно, точно именно этого и ожидала.
Тот первый день в лаборатории я помню, как сейчас.
В вестибюле серого корпуса у нас проверили пропуска, и мы поднялись по широкой лестнице на второй этаж, пошли по коридору. В нём там и тут стояли группами и в одиночку мужчины и курили. Из-за высоких дверей доносился то приглушенный, то резкий, до боли в ушах. шум. Лидия Николаевна открыла одну из дверей, и мы вошли.
Я удивленно остановилась. В большом зале пахло машинным маслом и железом, и вся его обстановка чем-то даже напоминала сарай Светки с Костей. Безо всякого порядка, как попало, стояли письменные столы, некоторые из них были завалены деталями, проволокой, какими-то приборами и походили на верстаки. А рядом стояли та настоящие верстаки со слесарным инструментом, как у отца. Но больше всего места занимали какие-то установки; я потом узнала, что они называются испытательными стендами. Стояли они или прямо на полу, или на бетонных подушках. Почти все здесь были одеты в рабочие халаты, у многих были грязные руки, мужчины тут же курили. Я словно попала в какую-то мастерскую: наш чистый и чинный чертежный зал по сравнению с этим выглядел прямо-таки храмом науки.
Лидия Николаевна чувствовала себя здесь как дома. Она задорно, чуть грубовато крикнула:
— Внимание, женихи! Невесту привела. Знакомьтесь — Таня Сфинкс. Продаю, дорого не возьму! — И потянула меня за руку.
Я чувствовала, что краснею. И как всегда при этом, стала злиться. А все они молча и спокойно разглядывали меня. Вдруг от верстака дернулся долговязый юноша — рабочий халат странно не гармонировал с его модной, зализанной прической, тонкими белыми руками и нагловато-самоуверенным выражением лица — и, по-женски кокетливо подхватив полы халата, чарльстоном, трясясь всем телом, пошел ко мне. Потом я узнала, что это был лаборант Колик Выгодский. Он трясся, а все по-прежнему выжидательно смотрели на меня. Я встретилась глазами с рыжей девушкой лет двадцати пяти, сидевшей за столом; воротник ее халата сзади был по-медному приподнят. Очень белое круглое лицо ее было совершенно спокойно, только черные глаза глядели на меня подзадоривающе и насмешливо. Из-за чертежной доски выглянул очкастый парень с усталым и каким-то прозрачным лицом, улыбнулся с ехидцей тонкогубым ртом, стал негромко прихлопывать в такт ладонями. Я догадалась: меня разыгрывают и единственное, что мне надо сейчас сделать, — это умело ответить на шутку, показать себя. И я сорвалась с места, завертелась вокруг Колика. Танцевала я хорошо — недаром на танцульки бегала — и вскоре почувствовала, что все они с удовольствием смотрят на меня. Колик просто кривлялся, не умел танцевать, а я «выдавала» настоящий чарльстон. Теперь уже все хлопали в такт, улыбались мне.
Внезапно в лаборатории стало тихо, только я еще по инерции сделала несколько па, спохватилась, остановилась. Колик перестал танцевать еще раньше, ушел к своему верстаку.
Сзади стояли трое, я сразу поняла, что это начальство. Они были без халатов. Весь какой-то округлый мужчина лет пятидесяти, с заметным брюшком и бабьим, мягким лицом, равнодушно смотрел то ли на меня, то ли в окно: один его водянисто-серый глаз косил, и я не могла понять, которым же он смотрит нормально. Рядом стоял высоченный широкоплечий мужчина лет тридцати, с грубым скуластым лицом, маленькими глазами и тщательно зачесанными на пробор волосами. Глядел он на меня очень строго, Дорогой костюм сидел на нем мешковато, воротничок рубашки выбился наружу. Но все смотрели на третьего, невысокого, подчеркнуто-пряменького, тщательно выбритого, также зачесанного на пробор. Костюм на нем сидел удивительно ловко, и в лице и в фигуре было что-то такое свежее, подтянутое. Все конфузливо молчали, и я тоже растерянно ждала, что будет дальше. На вид ему было лет двадцать шесть, лицо простое, чистое, с легким румянцем, большеротое, лобастое, с глубоко сидящими небольшими темными глазами. Смотрел он на меня прямо, пристально, — я почувствовала, что снова краснею. А он вдруг поспешно отвел глаза… Тогда Лидия Николаевна сказала:
— Помощь вам прибыла, Анатолий Кузьмич.
Он пожал ей руку, спокойно улыбнулся — на щеках его вздулись бугристые желваки и лицо стало некрасивым, — протянул руку мне — она была маленькой, сухой и сильной, — сказал негромко:
— Локотов, — и тотчас пошел по проходу между стендами в дальний конец зала.
Все смотрели вслед. А он шел неторопливо, пружинистым, легким шагом, как-то странно выделяясь в рабочей обстановке лаборатории. Широкоплечий мужчина молча и угловато двинулся за ним, а пожилой, с бабьим лицом притворно игриво взял Лидию Николаевну под-руку и, видимо, для того, чтобы разрядить обстановку, нарочито приподнятым голосом проговорил:
— Ну, Лидочка, опять, значит, вместе будем? — И, смешно перекосив лицо, оглянулся по сторонам, будто приглашая всех посмотреть на него, но тут же отпустил руку и сразу забыл о Лидии Николаевне — она даже ничего не успела ответить ему — и совсем уже другим тоном, очень увлеченно заговорил: — Нет, вы понимаете, какая чепуха! Заказал вчера справочники в библиотеке, прихожу сейчас, а они, конечно, мою заявку потеряли. Ну, народ!.. А вот в войну, помню, приезжаю я в интендантство…
Он все время двигался, круто поворачивался, округло поводил руками. Колик подмигивал мне: «Пронесло!..» Рыжая девушка — я потом узнала, что это инженер Женя Боярская, — поспешно встала из-за стола, приветливо поглядывая на меня, подошла к нам. Парень в очках — Туликов, один из инженеров, — секунду внимательно смотрел на суматошного мужчину, потом спрятался за доску. Лидия Николаевна нетерпеливо дотронулась до руки говорившего:
— Яков Борисыч, так кого выручать надо?
— А?.. — Он спохватился, снова взял ее под руку. — Меня, меня!
— Значит, у вас центрифугу порвало? — язвительно спросила она.
— Почему только у меня? — Он засмеялся, ничуть не смутившись. — У нас с Женечкой, у нас! — весело договорил он и взял Боярскую тоже под руку.
— А я вот помощницу себе прихватила, — сказала Лидия Николаевна.
— Очень приятно! Очень приятно! — Он протянул мне пухлую руку. — Суглинов! — и тотчас стремительно, почти бегом бросился по проходу.
Мы пошли за ним. Лидия Николаевна и Женя перемигнулись, глядя ему вслед.
В конце зала стояли рядом два больших письменных стола. За одним, расставив локти, как-то очень прочно сидел Локотов, задумчиво вертел в пальцах карандаш, рассматривал какую-то схему. На одном углу стола аккуратной стопочкой лежали книги, на другом — логарифмическая линейка, больше ничего не было. Сбоку примостился тот угловатый — это был старший инженер Коробов — и негромко, сипловатым баском что-то говорил Локотову. На втором столе лежали две чертежные доски, поверх них в беспорядке были навалены листы чертежей. Я поняла, что это наше рабочее место. Суглинов, подталкивая нас с Лидией Николаевной к столу, торопливо говорил:
— Вот! Здесь! Кальки придется заново!.. Анатолий Кузьмич, — почти крикнул он вдруг Локотову, — гидропривод надо ставить! — Он обвел нас торжествующим взглядом, пошел к Локотову, тут же вспомнил о нас, досадливо обернулся: — Женя вам все покажет! — Подошел к столу Локотова — тот внимательно, спокойно смотрел на него, — взял стул, тяжело плюхнулся, потянулся к схеме, наваливаясь животом. — На стыке мощностей а?!
— Это еще надо обкумекать!.. — недовольно начал Коробов.
— Правильно. Смотрите. — Локотов стал что-то чертить карандашом. — Это вы правильно, правильно, Яков Борисыч…
Я посмотрела на Женю и Лидию Николаевну, покрутила пальцем у виска, спросила:
— Яков Борисыч того?..
— Он талантливый инженер, — уважительно и негромко ответила Женя.
— Ты бери инструмент, работай! — почему-то сердито проговорила Лидия Николаевна.
— Устраивайтесь поудобнее, — сказала Женя, разбирая чертежи. — Вот смотрите… — И стала тихо, толково объяснять, что нам надо делать.
Я сначала слушала ее, потом перестала и просто смотрела на ее ловкие руки с маникюром, скромное платье, видное из-под отворотов халата, белую длинную шею, милое лицо, высоко взбитые волосы. Следила за ее удивительно плавными и красивыми движениями. Вот ведь, инженер, научный работник, а встретила б ее на улице — никак бы не подумала…
Потом я стала смотреть по сторонам. Локотов, Суглинов и Коробов все разговаривали о чем-то. Этот Суглинов очень странный, а его слушают и Коробов и Локотов. Трудно все это понять. Таких, как Суглинов, я еще не встречала. И таких, как Локотов, тоже. Смотрела на его экономные, уверенные и неторопливые жесты, слышала сдержанный голос, видела его подтянутую фигуру, от которой так и веяло чистотой, воспитанностью, изысканностью, и проникалась все большим уважением к нему, даже почтительностью. Наверно, настоящие ученые и должны быть такими.
И улыбнулась, заметив, что Коробов во всем старается подражать Локотову. Куда ему, верста коломенская…
Инженер Туликов молча и сосредоточенно работал за доской. Тоже сразу видно, что умный человек, хоть, кажется, и злой. Ну а Колик Выгодский — тип мне известный, я его, кажется, где-то на танцах встречала…
Так вот, значит, какие они, ученые, как у них все…
— Ты что, в цирке? — отрывисто спросила меня Лидия Николаевна. — Глаза пялишь, как на чудо! — И кивнула на доску: — Работай!
Женя улыбнулась мне и своей ловкой, красивой походкой, чуть поводя плечами, пошла к своему столу.
Этот первый день в лаборатории прошел для меня совсем незаметно. Но я успела ощутить особую атмосферу настойчивого труда, значительного и сложного, хотя никто и словом не обмолвился об этом. Я и в школе знала слово «творчество», но только тут начала догадываться, что оно означает. Точно прикоснулась к какому-то иному миру. Сильно завидовала людям, работавшим здесь, и казалась себе маленькой, глупой, ничего не знающей и не умеющей. И старалась копировать как можно лучше. Я и в чертежке пыталась сама разбираться в сложностях чертежа, но если не получалось, я шла к Лидии Николаевне, а теперь мне почему-то было стыдно делать это.
Еще утром, до обеда, в лабораторию к Локотову пришли двое мужчин, пожилых, солидных. Я потом узнала, что они называются, как и в ателье, заказчиками.
Разговаривая с ними, Локотов держался скромно, но уверенно. Его, казалось, совсем не смущало, что пришедшие почти в два раза старше, чем он. А они сидели перед его столом, внимательно слушали, что-то нерешительно возражали, тут же соглашались с ним и вообще выглядели как младшие. И мне почему-то нравилось, что они так относились к Локотову. И хотя он, наверно, был старше меня на каких-нибудь пять лет, я бы никак не смогла назвать его иначе, как по имени-отчеству, и совсем уже невозможным казалось очутиться вместе с ним в обычной обстановке: на улице, дома, в кино или тем более на танцах.
Оставаясь один, Локотов или писал, или вычислял что-то. И сидел за столом все так же подтянуто-прямо, и выражение лица его было сосредоточенно-вдумчивым. Еще я заметила, что он редко улыбается. Неужели знает, что становится некрасивым? Неужели для него, умного и волевого, настоящего ученого, такой пустяк имеет значение?
К Коробову он относился тоже сдержанно, уважительно. Только иногда при разговоре с ним в темных глазах его мелькало не то чуть насмешливое, не то слегка пренебрежительное выражение. Может быть, он замечал усилия Коробова стать похожим на него, подражать ему? Мне казалось, что хотя Локотов и подсмеивается внутренне, но доволен стремлением этого сотрудника быть во всем аккуратным и собранным, как он сам.
Наверное, Локотов не одобрял суетливости Суглинова, его невнимания к своему костюму, обсыпанному пеплом, рубашке с несвежим воротничком. Но к словам его прислушивался очень внимательно, видно, уважал его как работника.
С Боярской и Туликовым он разговаривал весело, шутливо, как равный. Но в разговоре с ним сами они были менее шумливы, чем обычно: чувствовали, что он начальник.
На Выгодского Анатолий Кузьмич старался просто не смотреть, до такой степени, видно, ему были противны его развязное нахальство, циничная самоуверенность и пустота.
На меня Локотов не взглянул ни разу. А я поглядывала на него незаметно, украдкой: боялась, что Лидия Николаевна заметит…
6
Легла вечером спать, но долго не могла заснуть. И уже понимала, что Локотов нравится мне. И сильно. Но чувство это было новым, не таким, как к Лешке, например, или другим ребятам. Тогда я не могла бы объяснить, почему они мне нравились. Просто приятно было кружить им головы. И сами они были, в общем, такими же, как я. А здесь другое. И мне было совершенно неважно, что Локотов ниже меня ростом, а когда улыбается, то делается некрасивым. Я видела в нем человека, почти равного мне по возрасту, — ведь мужчина всегда должен быть немного старше, — но ушедшего куда-то далеко вперед меня. Во всем. И по своему положению, знаниям, воспитанию. В нем было непреодолимое для меня обаяние человека другого, высшего, как я тогда понимала, круга. Мне льстило, что я работаю в одной комнате с ним, рядом, что мы обедаем за одним столом. И обидно было, что никогда я не смогу оказаться в его кругу, быть такой же, как он. Ночью мне приснилось, что мы с ним идем по улице, он держит меня под руку, а я от страха не могу слова выговорить…
Как и раньше, Анатолий Кузьмич почти не смотрел на меня в лаборатории, не разговаривал со мной. Да и вообще: о чем ему говорить со мной — так я глупа. Но ведь красива же, красива!
Локотов не женат, ему двадцать восемь лет, ленинградец, здесь же окончил институт и был направлен на работу в этот научно-исследовательский сектор, через шесть лет стал начальником лаборатории, вот-вот должен закончить кандидатскую диссертацию. Живет с отцом и матерью, у них отдельная трехкомнатная квартира, отец — преподаватель какого-то института, доцент. Анатолий Кузьмич часто разговаривал с отцом по телефону, и лицо его в это время делалось послушно-внимательным, как у маленького. Наверное, он сильно любил и уважал своего отца.
Потом я заметила, что относятся к Локотову в лаборатории по-разному.
Тяжеловесный и медлительный Коробов оказался сибиряком, только год назад он перевелся сюда на должность научного сотрудника. Квартиры пока ему не дали, и он с женой и двумя детьми снимал у кого-то комнату. В Локотове он видел почти свой идеал. Резкий и грубоватый с другими, с Локотовым он был почтителен, смотрел ему в рот. В группе у Коробова были Туликов, два года назад кончивший техникум, теперь учившийся в вечернем институте и тоже женатый, и лаборант Колик, Выгодский, перекати-поле вроде меня.
Мне сразу же бросилась в глаза главная черта Коробова. Работал он упорно, все время или сидел за столом, или возился около стенда. Его никогда нельзя было увидеть болтающимся без дела. Но почему-то часто оказывалось, что работа его группы вдруг зашла в тупик или двигается в ошибочном направлении. Первым об этом, как правило, заговаривал Туликов, насмешливо и раздраженно. Тогда к работе Коробова подключались Локотов и Суглинов. И всякий раз выяснялось, что Коробов просто увлекся механическим процессом исполнения заранее намеченного, не умея отнестись к нему творчески.
— Машина! — с презрительной насмешливостью говорил о нем Туликов.
Наверно, поэтому Коробов был часто насуплен, даже хмур, точно побаивался чего-то, — может быть, своей очередной ошибки и насмешек, которые за ней последуют. И это относилось не только к его работе, но и к жизни вообще. Уже много после, думая о Коробове, я часто вспоминала, как верно о нем говорили: «Типичный исполнитель».
Странный человек был Туликов, я долго не могла понять его. Трудолюбивый, старательный, умный — иначе не поставили бы его без диплома на должность инженера, — он постоянно и зло потешался над всем и всеми. Я сначала даже побаивалась его, таким ехидным казалось его тонкое, бледное лицо в очках, вечно сползавших по узкому носу, язвительно кривившиеся в легкой улыбке тонкие губы.
Работал он очень неровно. То днями не отходил от доски или стенда, молчал, и лицо его было странно отрешенным, будто у лунатика. Отвечал невпопад, чуть ли не бегом мчался из столовой обратно в лабораторию. В это время ни Локотов, ни другие не трогали его. А потом Туликов вдруг менялся, по нескольку дней ничего почти не делал, болтался по лаборатории, смеялся над всеми.
Разговаривали они с Женей на каком-то своем языке, полунамеками. Всем давали прозвища, Выгодского называли «Кол-лик» и «Выгоцкой-Вологоцкой», а когда я спросила почему, Туликов серьезно пояснил:
— Колли — это порода собак. Шотландская овчарка. Щенок, словом.
Я ничего не поняла.
Коробов откровенно побаивался их насмешек. И даже Локотов, что было уж совсем неожиданно при его начальственном виде, часто поддерживал их шутки.
В периоды шумливой бездеятельности Туликова Коробов покрикивал на него, грозился жаловаться начальству, но Локотов каждый раз всех успокаивал.
Особенно удивилась я, когда увидела как-то после работы жену Туликова, ожидавшую его в садике напротив. Это была болезненного вида женщина, на костылях. Но какое неожиданно ласковое, доброе выражение появилось на обычно ехидном лице самого Туликова. И я невольно стала по-другому смотреть на него. Женя Боярская, комсорг сектора, окончила институт три года назад и работала младшим научным сотрудником в группе Суглинова. Была не замужем, и я вначале тревожно приглядывалась, не нравится ли она Локотову, не кокетничает ли с ним. Но очень скоро увидела, что он относится к ней совершенно так же, как ко всем другим: такие вещи видны сразу. И он для нее был только начальником лаборатории. Больше того, она относилась к нему даже чуть пренебрежительно. Это было странно и непонятно. Я думала: со зла, из-за того, что он не обращает на нее внимания. Но Женя как-то высказалась со всей откровенностью:
— Наш Анатолий Кузьмич человек умный, воспитанный. Но это вол, который никогда не станет скакуном.
Для меня это было совсем невразумительно, просто непостижимо, но по вдруг ставшему злым лицу Жени, её глазам я поняла, что он чем-то неприятен ей.
Работала Женя старательно и упрямо. Я заметила, что она часто мучается, но никогда не просит помощи у других. Сказала ей об этом, а она опять непонятно ответила:
— Не хочу отрывать от дела Якова Борисыча.
— Да он же сейчас анекдоты в коридоре рассказывает!
— Это ничего не значит: чтобы работать, не обязательно сидеть за столом.
Ко мне Женя относилась очень доброжелательно, но с долей покровительства. В первый же день провела меня по всей лаборатории, показала все стенды, рассказала, кто и чем занимается. Я, конечно, почти ничего не поняла, и она это заметила. Но особенно обидно мне было то, что она, как Светка, ни малейшего внимания не обращала ни на мою красоту, ни на одежду, хотя сама одевалась со вкусом и, конечно, разбиралась во всем этом. Внешне она была очень привлекательна, женственна, но. мужчины для нее точно не существовали.
Яков Борисыч был самым шумным и общительным человеком в лаборатории. Со всеми держался совершенно одинаково. Я очень редко видела его сидящим за столом — только в тех случаях, когда ему надо было написать какую-нибудь статью. Присядет на минутку, черкнет что-то, и снова его громкий веселый голос слышится то в одном, то в другом конце комнаты или в коридоре. И никак нельзя было понять, кто ему нравится, а кого он не любит.
И такого непонятного человека почему-то выбрали парторгом.
Первая работа, с которой я столкнулась в лаборатории, был случай с разорвавшейся центрифугой. Это такое устройство, на котором испытываются под нагрузкой различные приборы. Рассказала мне об этом Женя:
— Понимаешь, почему центрифугу у нас разорвало? Потому, что сталь не ту поставили. Да и неорганизованности еще много. И сознательности тоже не хватает, некоторые товарищи как на хозяина работают.
Я вспомнила про отца, сказала:
— Когда человек на себя работает, у него все по-другому получается. Но ведь хороший работник — во всяком деле работник. Главное — привычка к труду.
— А на кого работать — все равно, да?.. — услужливо и безобидно подсказал мне Туликов.
— Вроде этого…
— Не сбивай ты ее, Борька!.. Ты слушай дальше. Заказало нам эту центрифугу одно предприятие. Наша задача — дать принципиальную схему. Ее предложил еще Алексеев до своей командировки, и шефу она понравилась. — «Шеф» — это начальник всего сектора профессор Снигирев, а кто такой Алексеев, я не знала. — Но тут приходит из КБ сын Игната Николаевича, ему поручено было проектировать центрифугу, и стал плакаться: это сложно, а это надо бы упростить. — Я знала, что брат Лидии Николаевны, Игнат, работал начальником цеха на нашем заводе, его сын Павел — инженером в конструкторском бюро. Даже их отец, старик лет семидесяти, работал мастером в цехе, не уходил на пенсию. Уже не раз к нам приезжал корреспондент, собирал их всех вместе, фотографировал, потом в газете Появлялась статья: «Рабочая династия Антиповых». — Ну а шеф у нас вообще конструкторское дело за работу не считает, ему подавай чистую науку, — продолжала Женя. — Алексеев уехал, Локотов — на позиции невмешательства, Суглинов своими планетарными механизмами занят. Да еще Игнат Николаевич заявляет: «Оснастка цеха не может справиться с такой сложной установкой!» Мне бы не соглашаться с ними, а я пошла на поводу. Вот теперь локти кусаю!
— Недоучла и проявила потерю бдительности! — ехидно бросил Туликов.
— Во-во. Павел продемонстрировал здоровую инициативу в удешевлении конструкции облегчил несущую раму. А Игнат Николаевич пошел по следу сына, вместо качественной стали поставил сталь три. Вот и получили «экономию»!
— Что же теперь вам будет? — спросила я.
— А ничего! — ответил Туликов.
— Вот в этом-то все дело, — почему-то с сожалением сказала Женя.
— Теперь финишный рывок делаем, — договорил Туликов.
«Рывок» этот был беспорядочным, суетливым и полным взаимных препирательств. А центром его — наш с Лидией Николаевной стол, с которого сходили готовые кальки.
Почти ежедневно приходил Павел Игнатьевич, окончивший институт вместе с Женей. С порога громко говорил:
— Привет науке!
Он был обижен тем, что Снигирев забрал из КБ чертежи, велел исправлять их прямо в лаборатории. Но вида Павел старался не показывать, каждый раз придумывал какой-нибудь предлог, чтобы посмотреть наши кальки. Лидия Николаевна безжалостно говорила ему:
— Ты, Павлуха, доказал свою неграмотность, так теперь не мешал бы людям, а то еще что-нибудь у себя в бюро проворонишь за этой заботой!
Приходил изредка Игнат Николаевич, значительно и коротко говорил:
— Материальные ценности создаются у нас, на конечном этапе производства. Без нас ваши идеи — мыльный пузырь…
— Им хоть кастрюли делать, — подхватывала сестра. — Только бы побольше да подешевле.
Но Игната Николаевича было нелегко сбить. Он придирчиво перебирал кальки и обязательно выторговывал у Суглинова или Локотова какое-нибудь упрощение в технологии изготовления центрифуги.
Лидия Николаевна то была на стороне лаборатории и тогда вместе с другими говорила Павлу:
— У тебя, племянничек, как у русского мужика: пока гром не грянет… Но ты дрожи, а фасон держи, — то за брата, то за племянника. Ученые, они такие… Им наплевать, как и кто своими руками их гению подсобляет.
Или просто говорила:
— Хорошо быть троюродным племянником побочного папаши! Нам хоть воздух дай скопировать — сделаем и ухом не поведем!
Работа была срочной, и готовые кальки мы относили прямо в цех. Там в стеклянной конторке возился Николай Ильич Антипов — юркий седенький старичок в очках с металлической оправой. Прямо-таки настоящий потомственный рабочий, как в кинофильмах показывают. И наверно, это от него в семье Антиповых пошла привычка иронически-веселого отношения ко всему. Николай Ильич участливо говорил какому-нибудь пареньку-ремесленнику:
— Ты, Петюша, следующий раз совсем деталь не зажимай: тогда тебе уж не палец поцарапает, а всю руку оторвет.
У паренька краснела даже шея. Так же внешне насмешливо относился он и к сыну и к внуку:
— Вы, ребятки, главное, не тушуйтесь. Запороли раз, запорите и второй. Вы, главное, не забывайте, что все теперь ваше: что хотите, то и делайте! А ты, Игнаша, как начальник, покрывай бракоделов, выгораживай до последнего. Чтобы комар носу не подточил!..
А Лидию Николаевну он называл «Козой».
— Ты смотри, Коза! Они врут всей семьей, прославить меня хотят, а ты уж копирочки точно снимай с их ошибочек. Напишешь пером, они и топором не вырубят!
Но со стариком младшие Антиповы почему-то не шутили, как друг с другом или с товарищами. Слушали его уважительно, никогда не возражали, Так и чувствовалось, что он у них глава семьи.
И я очень скоро поняла, что насмешки насмешками, а все Антиповы огорчены аварией с центрифугой, стремятся быстрее ее восстановить и не сваливают вину друг на друга. Им нелегко говорить об этом случае. Но без смеха не обойтись: он и защита, и способ размышлять, а то и средство нападения.
В лаборатории по-разному относились к аварии. Яков. Борисыч вспоминал о ней от случая к случаю, он был занят чем-то своим. Коробов откровенно осуждал:
— Это, Евгения Иннокентьевна, недопустимое легкомыслие, если не хуже. На четвертом году работы в должности инженера — и такое!..
Женя бледнела, зло кивала на Локотова: — А вы ему, ему скажите! Последнюю-то подпись он ставил.
Коробов укоризненно качал лохматой головой:
— Детский приемчик, Евгения Иннокентьевна.
Тогда Женя выбегала из лаборатории, хлопнув дверью.
Локотов был подчеркнуто внимателен ко всему, связанному с центрифугой, но никогда не начинал разговора о ней, если к нему не обращались. Был как бы вместе со всеми и одновременно где-то в стороне. Лидия Николаевна однажды с укоризной заметила:
— Симпатия-то твоя, на которую ты глаза пялишь, мог бы центрифугой побольше заняться. Себе на уме мужичок!
— У него без того дела хватает. Для такой простой работы и другие есть.
Она помолчала, пристально вглядываясь в меня.
— Глупа ты, что ли? Нет, не похоже. Не понимаешь, что без центрифуги работа у заказчика стоит? Посмотри, как все наши вокруг нее крутятся! — И прищурилась: — Или рыбак рыбака видит издалека?..
7
Получилось все у нас с Анатолием как-то до удивления неожиданно и просто.
Однажды я вышла после работы на улицу, медленно двинулась к автобусной остановке, чтобы ехать на Финляндский вокзал. Шла себе и смотрела на раскрытые окна домов, желтых от солнца, на женщин в легких летних платьях, на мальчишек-велосипедистов, на продавщиц мороженого в белых фартуках: был по-летнему жаркий конец мая. Немного устала и ни о чем не думала, и это было приятно. Решила, что попробую сегодня вечером впервые выкупаться в озере. И вдруг сзади слышу. голос Локотова:
— Удивительно приятный вечер сегодня! Я решила, что он разговаривает с кем-то другим, и даже не оглянулась. Почувствовала только, что спине стало холодно. А он уже произнес рядом со мной:
— Я попробовал в прошлое воскресенье выкупаться. И ничего, не простудился…
Я покосилась и сразу же покраснела: он смотрел на меня, чуть улыбаясь глазами. Сказала:
— Да?..
Прошли молча немножко. Анатолий опять проговорил:
— Вы ведь, кажется, где-то за городом живете?
— Да. В Мельничном Ручье…
— Вы, наверно, уже купались?
— Нет еще…
Я никак не могла понять, случайно он идет рядом со мной или нет. И боялась, что сейчас скажет: «Ну, всего доброго!» — и свернет в сторону. И хотела и не знала, как задержать его, что придумать, о чем говорить. И злилась на себя. А он все так же непринужденно шел и шел рядом. Ну конечно же, просто ему по пути, вот он и идет. Ведь в лаборатории даже ни разу не взглянул на меня. А я уже прошла свою остановку: хватило все-таки ума не остановиться! По проспекту Майорова вышли на Исаакиевскую площадь. Кивнув на памятник царю, Анатолий сказал:
— Вот в своем роде уникальное творение: на двух точках опоры. Яркая иллюстрация непрямой связи между развитием искусства и науки, техники. Медный всадник Фальконе опирается на три точки: кроме обеих задних ног коня, еще и на хвост. В техническом отношении его, наверно, было проще выполнить, чем этот, а с точки зрения искусства они не идут ни в какое сравнение.
Какой же из них лучше с этой самой точки зрения? Но спросить не решилась. Хоть бы знать, где он живет, тогда бы делала вид, что и мне надо в те же места. И сообразила, что ведь он-то знает, куда мне надо, — на Финляндский вокзал. И понял, конечно, что я прошла свою автобусную остановку.
Пошли через площадь. Анатолий вдруг взял меня под руку, вежливо говоря:
— Осторожно!
Сбоку нас обгоняла машина. Она прошла, а он не отпустил мою руку, точно не заметил. Мне стало жарко…
— Как много теперь иностранцев к нам стало приезжать, — по-прежнему спокойно проговорил он, показывая глазами на заграничные автомобили у гостиницы «Астория».
— Иностранца сразу от нашего отличишь, — выговорила наконец я.
— Да, они умеют одеваться, — согласился он. — Вообще следить за своей внешностью.
Платье у меня было с коротким рукавом; держал меня под руку Анатолий несильно, но уверенно. Мне казалось, что все смотрят на нас. Я передохнула и решилась:
— Я когда вас первый раз увидела, подумала, что вы иностранец…
Он только засмеялся, не спросил почему. Знает, наверно, какое он производит впечатление. О чем бы таком интересном заговорить с ним, чтобы он не подумал, что я совсем серая? И сказала — ничего лучше сообразить не могла:
— Вы любите футбол? Один мой бывший одноклассник играет правым крайним в нападении «Зенита». Говорит, что в этом сезоне они войдут в первую пятерку.
— Вряд ли, — охотно отозвался Анатолий, точно ему все равно было, о чем разговаривать, — о памятниках, об иностранцах или футболе; потом я часто замечала в нем эту черту. — Вообще, знаете, удивительно: в городе почти четыре миллиона населения, в детстве каждый мальчишка гоняет мяч, а одиннадцать человек для первоклассной команды найти никак не могут.
И по его лицу, по тому, как он на мгновение будто чуть смешался, как в ту первую нашу встречу в лаборатории, я вдруг поняла, что нравлюсь ему и идет он со мной совсем не из-за того, что ему по пути. И обрадованно стала что-то говорить о жестком режиме тренировок спортсменов. Он внимательно и вежливо слушал меня, но у него чуть порозовела щека, и я подумала: он знает, что я догадалась. Надо было сейчас же как-то доказать, что я все это поняла, что тоже рада и он мне нравится. И я неожиданно по-простому предложила:
— Погода такая хорошая. Давайте посидим?.. — И быстренько двинулась к скамейке.
Он ничего не ответил. Послушно пошел. И не посмотрел на меня. А мне снова стало жарко, точно мы уже объяснились в любви. И я вдруг неизвестно отчего уверилась, что все у нас с ним будет хорошо. И даже так, как я хочу. Это было просто невероятно: я и он, а верх — мой!..
Мы сели. Он вежливо, полувопросительно сказал:
— Я закурю?
— Пожалуйста.
И я совсем осмелела: спокойно смахнула пылинку с его плеча, как у старого знакомого, у Лешки, например. Анатолий молча кивнул мне, и в лице его появилось что-то новое, по-мальчишески послушное и радостное. А я вспомнила, что он один у родителей. В детстве, наверно, был маменькиным сынком и мальчишки во дворе дразнили его «гогочкой». И вдруг — что удивительно — я почувствовала, что в чем-то сильнее его.
Так мы молча и сидели, будто все уже было сказано. Мимо шли люди. Парни иногда оглядывались на меня, и мне было приятно это. И Анатолий видел, конечно, их восхищенные взгляды. А кое-кто из девушек смотрел на него, подтянутого, собранного, одетого с иголочки. И это было приятно мне. Вообще, посмотрела бы на нас сейчас Зинка или кто-нибудь из наших!
И я вдруг — точно меня кто-то уверенно вел за руку — стала рассказывать о Светке и Косте. О том, как давным-давно мы с Лешкой выкупали Светку в озере, воспитывая в ней характер. Потом вообще о Светке и Косте, не хвастаясь, но так, чтобы и не умалять их достоинств. И Анатолий смеялся там, где надо, как я и рассчитывала, и вообще понимал меня, как я того хотела. У меня не было ощущения, что мы давно знакомы с ним, я по-прежнему чувствовала разницу между нами, но одновременно очень отчетливо понимала, что мы подходим друг другу, как две детали из одного узла. Раньше, если парень мне нравился, я ни о чем не задумывалась. А тут было что-то новое: я, пожалуй, ни на минуту не переставала думать, сравнивать. Анатолий нравился мне. Но по-новому, не так, как ребята раньше. Теперь-то я знаю, почему у меня тогда было такое чувство, почему у меня все шло от ума. Да и в то время, ну, может быть, чуточку попозже, я уже начинала догадываться о характере моего чувства к Анатолию. Но в этом ведь не так просто разобраться, — кто из нас по-настоящему знает, что такое любовь? Ведь она у каждого своя. Легко ли двадцатилетней девице? Да еще такой, которая в голову себе уже заранее что-то вбила.
И все же по каким-то неуловимым признакам я догадывалась, что Анатолий относится ко мне иначе, чем я к нему: было что-то похожее на отношение ко мне влюбленных мальчишек, того же Лешки. Временами он даже терялся, — то без причины смеялся, то начинал волноваться. И я тогда же подумала, что он, наверно, никого еще не любил в своей жизни и вообще не был близок с женщинами.
Там же на скамейке он рассказал мне о своем детстве, об отце и матери. Рассказывал он с улыбкой взрослого, но я неожиданно увидела, что в нем и сейчас еще много детского: к отцу и матери он относился с ревностным почтением ребенка, с увлечением говорил о первом приемнике, который собрал своими руками, будто этот приемник и до сих пор что-то значил для него; так и чувствовалась в нем привязанность к своему дому, привычкам семьи, видно было, что они очень много значат в его жизни.
Я узнала, что отец его из рабочей семьи, что познакомился он с матерью Анатолия где-то в Сибири. Отец после окончания института работал там инженером. Анатолий в годы войны был с матерью в эвакуации, как и я, в армию не попал: в сорок четвертом году из института, где он учился, в армию не брали. В сорок пятом отец демобилизовался, и они с матерью вернулись к нему в Ленинград. Теперь отец преподает в институте, мама не работает, у них отдельная квартира и пес Ярд, дог, величиной с теленка.
Рассказывал он мне все это очень доверчиво, как близкому человеку, два раза даже легонько дотронулся до моей руки. И это еще сильнее сближало нас, сводило его с пьедестала, и я чувствовала себя с ним все свободнее, увереннее. И все желанней и заманчивей казалась мне жизнь, о которой он рассказывал, все сильнее мне хотелось попасть в его семью. Смешно, конечно, но особенно укрепил мою веру в незыблемое благополучие этой семьи один штрих в его рассказе — собака: у некоторых наших наиболее состоятельных дачников всегда были такие породистые, огромные собаки.
И я уже первой, точно желая проверить, подчинится ли мне Анатолий, сказала:
— Ну что же, пойдемте? — И встала.
И он тотчас вежливо поднялся.
Мы шли вдоль Невы — я водила рукой по теплому от солнца, шершавому граниту парапета — шли мимо Адмиралтейства, мимо Зимнего дворца к Кировскому мосту, а потом через Литейный мост к вокзалу. Небо было блекло-голубым, как выстиранное, гладь Невы лучилась солнечными зайчиками, вокруг слышался говор и смех по-летнему нарядных и оживленных людей, а у стен Петропавловки было еще много купающихся. Анатолий что-то рассказывал о статуях на Зимнем дворце, потом о романе Ольги Форш «Одеты камнем». Но теперь уже все это звучало совсем не так, как на Исаакиевской площади, при разговоре о памятниках. То есть я по-прежнему признавала превосходство Анатолия, восхищалась им, но и не чувствовала смущения от того, что сама ничего такого не знаю, что знает он. Будто между нами произошло нечто более серьезное, и эта мелочь уже не могла изменить отношения Анатолия ко мне. И я прямо-таки наслаждалась, была на седьмом небе от того, что вот так, под руку, иду рядом с ним.
На вокзале мы снова долго сидели на скамейке. Разговаривали, а мои поезда уходили один за другим. Мы оба замечали это, хотя и делали вид, что не замечаем. И мне уже было просто интересно, поедет Анатолий провожать меня в Мельничный Ручей или нет. Даже казалось, что я могу заставить его сделать это, только все не удавалось придумать, как именно. А потом я решила, что могу показаться навязчивой, и стала прощаться. Он долго не отпускал мою руку.
В поезде, а потом дома, за столом с родителями и в постели перед сном, у меня все время было такое ощущение, будто я выиграла по трехрублевому билету «Волгу», причем билет уже проверен, все сошлось и надо только подождать, когда в магазин поступят машины.
Утром проснулась, как в детстве, от предчувствия близкого счастья. И странно, ведь ничего еще решительно не случилось, не было сказано ни слова, а я почему-то твердо верила, что все будет хорошо, что все уже решилось. Вдруг увидела Анатолия улыбающимся, тотчас вспомнила, как он некрасив, представила, как он меня целует, и впервые чего-то испугалась, постаралась прогнать мысли об этом, даже забыть их. И смутно догадывалась, что и в этом отношение мое к Анатолию не похоже на отношение к другим парням. Раньше мне нравились только красивые. И одновременно понимала, что все-таки сумею заставить себя поцеловаться с ним.
8
После работы, когда все уже прощались и расходились, Анатолий, улыбаясь, подошел к моему столу, спокойно ждал, пока я соберусь. Громко, ни от кого не таясь, сказал:
— Я думаю, вам незачем перед театром ехать домой?..
Он еще утром пригласил меня в театр.
— Ой, но мне же надо переодеться!
— Что вы! — Он с восхищением поглядел на меня и снова чуточку смутился, поспешно договорил: — Зайдем к нам, пообедаем и как раз успеем.
Опять холодок пробежал по спине. Я сразу же поняла: если не понравлюсь его родителям — ничего у нас не получится! Была почему-то совершенно уверена, что, при всей своей внешней независимости, Анатолий ни за что не пойдет против родителей. Хотела было даже отказаться. Да ведь все равно — рано или поздно это должно было случиться. Так уж лучше сейчас. И я сказала:
— Ну что ж, отлично!
Когда мы вышли на улицу, я первой взяла Анатолия под руку. Он ничего не сказал, но я чувствовала, что ему это очень приятно. И всю дорогу старалась говорить о чем-нибудь постороннем, точно посещение таких домов, как их, для меня обычное дело. И при взгляде на фасады с колоннами всякий раз думала: не его ли это дом? И удовлетворенно улыбнулась: их дом был шестиэтажным, тоже с колоннами, желтеющий свежей краской; за решеткой — сквер.
Мы вошли на лестницу, широкую и чистую. Я почувствовала, что волнуюсь. Незаметно поправила платье, дотронулась до волос, проверила прическу. Очень хотелось посмотреться в зеркальце, но я не решилась. Анатолий, внимательно, даже придирчиво оглядев меня, не ощущая ни малейшей неловкости, сказал:
— Все хорошо! — И привычным движением оправил пиджак; мне стало еще беспокойнее.
Когда он открывал ключом высокую дверь с медной дощечкой «Доцент К. М. Локотов», за ней послышался такой густой, басистый лай, что даже я, никогда не боявшаяся собак, немного струхнула.
— Я войду первым. Собака… — как бы извиняясь, проговорил Анатолий.
Я вошла вслед за ним. Дог, вихляя огромным, мускулистым, голубовато-дымчатым телом, — ростом пес был мне по пояс — ткнулся мне в руку влажным носом. Любовно поглаживая его, Анатолий ласково говорил: «Своя! Своя!» — и дог радостно завертелся вокруг Анатолия.
— Ну и пес, — с восхищением выговорила я; знала, что Анатолию понравится это. — Первый раз такого голубого вижу!
— Таких в Ленинграде всего несколько, — с гордостью ответил Анатолий и заторопился: — Проходите, проходите!..
Прихожую я увидела как-то всю сразу, и комнаты потом разглядела так же, будто с одного взгляда. Большое зеркало до пола, полки с книгами до потолка, в углу — круглая вешалка с разноцветными плащами, яркими сумками, шляпками и шляпами. И хотя в доме собака — пахнет чистотой, опрятностью, свежим воздухом. Все это мне очень понравилось.
— Толик, ты?.. — откуда-то из глубины коридора послышался по-молодому звучный женский голос.
— Я, мама, — спокойно, весело ответил Анатолий и сказал так, точно обо мне уже знали; даже ждали меня: — Мы с Таней зашли пообедать перед театром.
Легкие быстрые шаги, — я старалась не покраснеть, невольно подтянулась. Ко мне, улыбаясь красивым маленьким лицом — на нем неожиданно большими казались живые, светящиеся глаза, — подошла миниатюрная женщина (Ярд был чуть не до плеча ей) в домашнем скромном платье с белыми кружевами по вороту, в прорезиненном тонком и ярком фартуке.
— Очень рада, Танечка! — Она протянула по-девичьи худенькую, маленькую руку: — Софья Сергеевна.
Я осторожно пожала ее руку. В женщине было что-то кукольное, игрушечное, и только глаза и голос были точно взяты взаймы у другого человека. Двигалась она с девичьей гибкостью и быстротой. Я увидела, что нисколько не вглядываясь, она сразу же поняла, что я за человек. И вдруг, словно спохватившись — «Вот какая никудышная хозяйка!» — заторопилась:
— Проходите, проходите, умывайтесь: я подаю на стол! — И почти побежала по коридору; Ярд, не отставая, двинулся за ней.
Я посмотрела на Анатолия, стараясь уловить, понравилась ли его матери; он глядел вслед ей с ласковой улыбкой. Я сказала:
— Как у вас хорошо!..
— Я рад, что вам нравится. Пойдемте. — И приостановился, пропуская меня вперед.
В широком коридоре горел свет в замысловатом бра, как букет тюльпанов. Анатолий, распахнул дверь:
— Это моя комната.
Я вошла. Письменный стол с пишущей машинкой, вся стена над ним и по обеим его сторонам заставлена полками с книгами; тахта — ее покрывал ковер, свисавший со стены, — треугольный журнальный столик с торшером и двумя низкими креслами. Блестящий, как в музее, пол, в углу — гири, боксерские перчатки, эспандер. В комнате метров двадцать, не меньше. И я снова, уже не скрывая зависти, повторила:
— Как у вас хорошо!..
Он засмеялся, достал из полированного шкафа свежее полотенце, двинулся к дверям, словно напоминая, что нам надо идти.
Ванная была отделана белым изразцом. Пластикатовая шторка, чтобы вода не брызгала на пол из душа. Флакончики и щеточки на стеклянной полке под зеркалом. Меня все не покидало завистливое чувство к этому уверенному благополучию, комфорту. Взяла из рук Анатолия, терпеливо ожидавшего меня, полотенце и отступила в коридор, освобождая ему место в ванной, а главное, чтобы получше разглядеть квартиру.
Дверь в кухню была раскрыта. Софья Сергеевна что-то готовила у стола. Кухонная мебель сверкала белизной, как на выставке. Анатолий взял у меня из рук полотенце. Заметил, наверно, мои взгляды и сказал:
— Там спальня родителей, а здесь столовая. Пойдемте?..
Во главе большого стола под накрахмаленной скатертью — на ней сохранились следы от сгибов; специально для меня постелили или всегда у них так? — сидел полный мужчина, как две капли воды похожий на Анатолия, но только старше. Он отложил газету, поднялся мне навстречу, протягивая руку:
— Кузьма Михайлович. — И сразу же очень серьезно заговорил мягким, по-домашнему покойным баском: — Сейчас иду из института, а ко мне какой-то мужчина. «Не смотрите, говорит, что у меня щеки выпуклые, внутри я весь больной! Продайте старые лотерейные билеты!» — Кузьма Михайлович снова опустился на стул; я с недоумением смотрела на него, он пояснял: — Оказывается, есть решение: сберкассы будут скупать невыигравшие билеты. — Я все не понимала; Анатолий молчал, смотрел в окно с таким же серьезным лицом; тогда Кузьма Михайлович договорил: — И снова разыгрывать их. До тех пор, пока все билеты не выиграют! Да-да! Не верите?
Я засмеялась. Он заулыбался; и на щеках его появились такие же точно желваки, как у Анатолия, только широкое лицо его от этого стало неожиданно милым и смешным, как у кролика.
— Прошу садиться! — приподнято-весело проговорила Софья Сергеевна, неся в руках большую красивую салатницу.
— Ещё бы полторы секунды, — многозначительно произнес Кузьма Михайлович, глядя на часы, — и был бы приказ об увольнении!
Я засмеялась. И по тому, как он смотрел на меня, поняла, что сразу же понравилась ему.
Кузьма Михайлович говорил непрерывно.
— Читаю сегодня лекцию с помощью диапроектора, а один студент и говорит: «Если еще слова лектора записать на магнитофон, то преподаватель будет совсем не нужен». Я, разумеется, поддерживаю. Почему бы, спрашиваю, тогда уж кинофильм не сделать, ведь это для государства дешевле, чем содержать преподавателей по всей стране!
Я опять не понимала, говорит он это всерьез или снова разыгрывает. Да и почему действительно не сделать кинофильм? Софья Сергеевна молчала, неопределенно улыбаясь, и мне казалось, что она подсмеивается надо мной. Анатолий тоже не помогал мне. Кузьма Михайлович сказал:
— А опыт этот, само собой, можно распространить и на школы: экономия миллиардная!
Тут уж я сообразила, даже заторопилась:
— Заставишь тогда учеников сидеть на уроках!
Они трое тотчас засмеялись. Анатолий и отец открыто, с удовольствием глядя на меня, Софья Сергеевна просто из приличия, считая, наверно, что я не бог весть какое остроумное замечание сделала. Анатолий пришел мне на выручку, но сказал словно не для меня:
— Ведь жизнь идет вперед, и в лекциях преподаватель должен учитывать это.
— Больше того, — неспешно проговорив Софья Сергеевна. — Студентам, видимо, не совсем ясно, что преподаватель ближе к артисту театра, чем кино. Ему так же необходим живой контакт с аудиторией.
Ела она очень мало, сидела, как Анатолий, а не расслабленно откинувшись на спинку стула, как Кузьма Михайлович. И движения ее рук были изящными, коротенькими, точно она не ела, а ковырялась в часах. И говорила вежливым, безразличным тоном, но я понимала, что она как бы снисходит до меня, поясняет и поучает. Вдруг встретилась с ее глазами, и в них на секунду мелькнуло такое высокомерно-пренебрежительное отношение ко мне, что я смутилась. Не такую, наверно, жену прочила своему сыну. Ну, это мы еще посмотрим!..
— Я бы так хотела, чтобы Анатолий со временем перешел на преподавательскую работу! Ведь уже само общение с молодежью так облагораживает…
А мне казалось, будто она говорит: «Я хочу, чтобы он перешел, и имею на это право. Я мать, а не какая-нибудь там скоропалительная знакомая!..»
Софья Сергеевна говорила или делала одно, а мне слышалось совсем другое.
Она, например, любезно подвигала мне другую подливку, действительно очень вкусную, как и все у нее, — я потом узнала, что она очень любила готовить, любила хозяйство и работу, по дому, — и говорила:
— Попробуйте, Танечка: совсем другой оттенок вкуса!
А я слышала: «Да понимаете ли вы вообще, что такое оттенок вкуса? Вам, наверно, главное побольше, а вкус — дело пятое!» И в движений ее рук тоже сквозила насмешка: где уж вам так изящно держаться за столом!
Но совершенно несомненно было одно: оба они очень любили Анатолия, гордились им. И он был послушным, почтительным сыном, искренне любящим родителей. Нелегко мне придется!..
Наконец Анатолий сказал:
— Ну, нам пора!
Я вздохнула с облегчением, сразу поднялась.
Когда мы с ним вышли, я все ждала, что он спросит, понравились ли мне его родители, но он не спросил, остановил такси, и мы поехали в Сад отдыха. И я уже с некоторым опасением ожидала знакомства с его приятелем и с женой этого приятеля — они должны были идти на спектакль вместе с нами. Но на этот раз все вышло хорошо и просто.
Еще издали Анатолий стал кивать высокому мужчине и женщине, стоявшей рядом с ним. Эта пара производила странное впечатление, и я удивилась: неужели между ними есть что-либо общее? И уж совсем невероятным казалось, что они муж и жена. У мужчины была гвардейская выправка, самоуверенное, лоснящееся лицо, пристальные, спокойные глаза. Стоял он чуть впереди, точно женщина пришла не с ним. И осмотрел меня сразу же тем взглядом, которым смотрят на хорошеньких женщин мужчины известного сорта. В нем было что-то от Гононова, заведующего галантерейным отделом в магазине. Женщина рядом с ним казалась очень худенькой, бледной и усталой, симпатичное большеглазое лицо ее — не по возрасту старым. И даже хорошее и дорогое платье выглядело на ней чужим. Известное сочетание «гусара-мужа» и жены — «прислуги за все».
— Мы опаздываем… — Она пожала мне руку, глядя с доброй улыбкой, негромко, словно нерешительно, представилась: — Вера.
— Виктор Терентьич! — Мужчина чуть задержал мою руку в своей, пристально глядя на меня, и, как бы придавая особое значение своим словам, сказал: — Имею честь быть начальником отдела в КБ, в котором и вы трудитесь на благо отчизны!
Я отняла руку. Анатолий, будто ничего не заметив, в тон ему продолжил:
— Причем Виктор Терентьич умеет на благо отчизны и трудиться и отдыхать.
И засмеялся; и они засмеялись.
— Все, что бы ни делал человек, если он это делает хорошо, в конечном счете идет на благо отчизны, — ничуть не обижаясь, сказал Виктор Терентьич.
— Пойдем, Терентьич, — мягко потянула его за руку Вера.
— Как она меня называет! Как называет!.. — с пафосом проговорил он.
Мы вошли в сад. Крикливо одетая билетерша надорвала наши билеты.
— Какой парадиз! — насмешливо пробормотал Виктор Терентьич, но с удовольствием оглядел эту пышную блондинку.
— Больше сдержанности, товарищ начальник! — сказал ему Анатолий.
Вера молчала, точно привыкла к такому поведению своего мужа.
В зале летнего театра зрители сидели на длинных скамьях, я оказалась между Анатолием и Виктором Терентьичем.
Погасили свет, началось шумное, яркое, немного беспорядочное и глуповатое эстрадное представление. Анатолий, близко придвинувшись, держа меня за руку, шепотом рассказывал о мюзик-холле. Виктор Терентьич косился на наши руки, громко и притворно вздыхал, если мы замечали его взгляды, в бинокль разглядывал танцующих девушек. Вера сидела с отсутствующим видом. И мне было чуточку жалко ее. Я подумала: нет уж, со мной такого никогда не случится! И все не могла понять: что же общего может быть у Анатолия с этим Терентьичем, почему именно с ним мы пошли в театр?
Когда зажегся свет, Виктор Терентьич сказал:
— Честное слово, Танечка выглядела бы лучше всех этих красоток на сцене. Особенно в подобном костюме! — И засмеялся.
Я покраснела, Анатолий промолчал, но я видела, что ему льстит восхищение Виктора Терентьича. Уж не похвастаться ли мной хотел он перед ним? Вера устало и безразлично сказала:
— Пойдемте попьем чего-нибудь, а?.. Предлагая что-нибудь, она всегда в конце ставила это нерешительно-вопросительное «а?».
— Идея! Молодец! — зашумел Виктор Терентьич, и мы мгновенно оказались в саду за столиком под тентом.
Мы трое выпили коньяку, а Вера лимонаду. И в это время к нашему столику подошли, покачиваясь, два парня типа Колика Выгодского. Один грубо сказал мне:
— Спляшем! — И взял меня за руку, кивнул на площадку, где танцевали и гремела музыка.
Анатолий тотчас встал, побледнев, Вера испуганно отодвинулась. Глаза Виктора Терентьича медленно темнели, лицо странно окаменело. Парней я нисколько не испугалась и, если бы не общество Анатолия и четы Вагиных, ответила бы им как следует. А сейчас только спокойно вывернула свою руку из руки парня и с любопытством ждала, что же будет делать Анатолий. Но он не успел и слова сказать: Виктор Терентьич резко приподнялся, точно бросаясь в атаку, схватил парней за шиворот и так ртбросил их, что они растянулись на земле.
— Успокойся, Витенька, успокойся!.. — шептала Вера.
У Виктора Терентьича зло кривились губы; сжав кулаки, он подходил к парням. Анатолий — он перетрусил так сильно, по-мальчишески, что было неприятно смотреть, — цеплялся руками за Виктора Терентьича, удерживая его, бормотал что-то бессвязное.
Подбежали дружинники с красными повязками на рукавах, протиснулись меж столпившихся тотчас людей к парням. Виктор Терентьич, сразу успокоившись, выпятив грудь, показал им какой-то свой документ. И Анатолий полез в карман. Вообще в этой сцене он до смешного повторял все, что делал Виктор Терентьич. Когда дружинники повели парней и Виктор Терентьич пошел с ними объясняться, Анатолий тоже двинулся за ними, даже не обернувшись, ничего не сказав мне.
У Веры было такое лицо, будто она собиралась заплакать.
— Да бросьте вы, — сказала я. — Если с хулиганами не бороться, они на шею приличным людям сядут.
— Я не о том… Он такой нервный…
Я поняла: ей было стыдно за мужа. Вспомнила его лицо. «Ну и зверь! Нелегко, видно, ей приходится».
А что бы, интересно, делал Анатолий, если бы Виктора Терентьича не было с нами? Уж не боится ли он его, из-за этого и компанию водит?
Вернулись они спокойными, Анатолий улыбался мне, точно ничего не было. Виктор Терентьич оживленно потирал руки:
— Попались, голубчики! Теперь им пропишут! — Налил себе коньяку, с удовольствием выпил.
Вера, все еще волнуясь, с любовью и жалостью смотрела на него. Ничего не поймешь в людях!..
После спектакля они проводили нас с Анатолием до самого вокзала. Было очень весело: Виктор Терентьич непрерывно рассказывал анекдоты. Анатолий по-прежнему довольно откровенно подсмеивался над ним, а тот будто ничего не замечал. Не замечал и того, что Вера явно устала, даже сказала:
— Поздно уже… У нас что-то Мишенька кашляет…
Анатолий поехал провожать меня. Мы стояли в тамбуре, он держал меня за руку, что-то длинное рассказывал о теории шведского или норвежского исследователя Тура Хейердала, и лицо у него было растерянным и радостным. А в вагоне, тоже возвращаясь домой, сидели Лешка с Зинкой. Они видели нас. Лешка сразу же отвернулся, а у Зинки была такая откровенно завистливая рожа, что я не могла удержаться и засмеялась. И только когда мы уже сошли, немного оробела: если Анатолий пойдет провожать меня к дому, как-то он отнесется к нашей усадьбе?..
Мы медленно шли мимо темных домов; едва шуршали деревья; ночное небо было по-весеннему светло. Мы оба молчали. И я все ждала: решится Анатолий поцеловать меня или нет? Мысль эта не то что была неприятна мне, но как-то все время непроизвольно вспоминались желваки на его щеках, появлявшиеся при улыбке.
У нашей калитки стояли отец с матерью. Меня ждут, что ли?.. Я познакомила Анатолия. Он непринужденно стал беседовать с ними. Даже будто не заметил отцовского «три-четыре». Они поговорили с мамой о погоде. Тогда я, стараясь не хвастаться, рассказала, кем работает Анатолий, как бы между прочим упомянула, что обедала сегодня у них дома, а потом мы были в театре. Долго восхищалась Ярдом, но так, что для Анатолия это было только восхищение их псом, а для мамы с отцом — их семьей, его отцом-доцентом и квартирой. Мама заторопилась:
— Что же мы здесь стоим? Пройдемте в дом хоть на минутку! — И первой пошла вперед.
И я сказала закрутившейся вокруг нас Альме точно так, как сегодня днем Анатолий Ярду:
— Свой, свой!..
И следила, как внимательно Анатолий оглядывает наш большой дом, хозяйственные постройки во дворе. В хлеву аппетитно жевала и длинно вздыхала наша корова. Анатолий засмеялся:
— Как у вас хорошо! Я, знаете, до сих пор помню, что в детстве не мог понять: почему коровы так глубоко вздыхают?
— У них легкие, три-четыре, больше наших…
Кажется, Анатолий понравился и отцу.
Мама, тоже будто между прочим, провела Анатолия по всем комнатам. Он удивленно сказал:
— Да у вас тут все по-городскому.
Он, кажется, не понимал, что мама специально демонстрирует ему наш дом, словно стараясь не продешевить приехавшему снимать дачу.
Потом мы вчетвером пили чай, мама достала свое любимое варенье из черной смородины. Отец с Анатолием вдруг увлеченно заговорили о новых, круглозубых колесах. И отец поглядывал на Анатолия почти так же уважительно, как когда-то на отца Кости: сразу же понял, что Анатолий настоящий инженер. А мама себя от радости не помнила: Анатолий был тем идеальным, солидным мужчиной, хорошим работником, человеком с положением, о котором она всегда мечтала. И когда Анатолий поднялся, благодаря и собираясь уходить, поспешно шепнула мне:
— Иди! Проводи!
И они с отцом вышли вместе с нами за калитку, долго стояли, глядя нам вслед.
Мы с Анатолием медленно шли по тихим, спящим улицам, я держала его под руку. Анатолий восхищался и деревьями, и небом, и тишиной, и нашим домом, и отцом с мамой. Я приостановилась. Он повернулся ко мне, решился и поцеловал меня. Я почувствовала, как он чуточку приподнялся на носки. И закрыла глаза: все боялась — вдруг у него при поцелуе тоже надуваются желваки на щеках?
А он отодвинулся и счастливо, бестолково забормотал:
— Я люблю вас!.. Вы не думайте, что так быстро! Я когда только увидел тебя… Ты танцевала тогда в лаборатории. И так красиво!.. Я понял, что никого мне больше не надо! Понимаешь, я все эти три месяца… А ты? А ты?..
— И я! — сказала я. — И я!..
Мы снова поцеловались. От счастья он был как помешанный, даже больше, чем Лешка, когда тот поцеловал меня первый раз. Успела подумать: какой же, значит, Анатолий скрытный, если я сама ничего не замечала. Нет, он говорит правду: иначе бы такой человек, как он, не сблизился так быстро с девушкой, тут можно не сомневаться. И глаза я на этот раз не закрыла: желваки на щеках у него были, как и при улыбке.
9
Даже удивительно было, как сильно подействовала на Анатолия любовь. Конечно, он по-прежнему оставался таким же сдержанным, и все-таки по лицу его было видно, что он счастлив. По-настоящему счастлив. Он выглядел теперь еще более уверенным, и вместе с тем у него появилась мальчишеская непосредственность, даже смешливость, какая-то легкая рискованность в поступках и словах, точно наша взаимная любовь дала ему на это право. И он по-прежнему ни перед кем ничего не скрывал.
Сталкиваясь по работе в Женей и Туликовым, говорил им нарочито штампованным языком:
— Шеф сегодня еще и еще раз призвал меня на борьбу за центрифугу. Я его авторитетно заверил: «Оправдаем!» — И поблескивал глазами, будто удивлялся, что так иронически говорит о Снигиреве и хоть немного, но раскрывает перед ними, своими подчиненными, разговор с высшим начальством, который всегда должен быть окутан легкой тайной.
Заливисто, от всей души, до слез на глазах, хохотал над смешными репликами Якова Борисыча. С мягкой снисходительностью, даже добротой, будто впервые разглядев в нем человека, сказал Выгодскому:
— Вы, Коля, старайтесь хоть немного относиться к жизни по-взрослому, иначе потом вам же самому придется расплачиваться: жизнь — вещь сложная, жесткая, она ничего и никому не прощает! — И даже слегка дотронулся рукой до его плеча, что уж было совсем неожиданно.
Что-то новое появилось у него и в отношении к работе. Раньше, например, заказчики могли хоть на коленях перед ним стоять, он был строг и непреклонен, ни в чем и никогда не уступал им. Теперь же говорил:
— Ну что ж, попробуем поискать еще одно решение с учетом ваших конкретных особенностей. Да ничего, ничего: ну, поработаем недельку сверхурочно.
У него вдруг нашлось время вплотную заняться центрифугой. Он вместе с Яковом Борисычем и Женей заново пересмотрел все чертежи. Нам с Лидией Николаевной многие кальки пришлось переделывать, но даже мы понимали, что проект упростился, стал более стройным.
Меня Анатолий иногда встречал у вокзала, и мы вместе ехали на работу. Или поджидал у входа в институт, терпеливо ходил и курил. В лаборатории доставал из нашего с Лидией Николаевной шкафчика мой халат, подавал его на глазах у всех. Среди дня часто подходил к нашему столу или смотрел со своего места на меня, радостно улыбался. В столовой заботливо выбирал мне еду, обязательно платил за нее. Все уже знали, что после работы мы с ним уходим вместе.
Немножко по-новому стали относиться к нему, да и ко мне все в лаборатории.
Женя как-то обняла меня, шепнула:
— Я так рада за вас обоих! Вы очень подходите друг другу, честное слово. И пусть тебя не смущает — глупость это! — что ты, мол, простая чертежница. У вас с ним что-то такое общее, оно значительнее разницы в образовании. И потом, только не сердись, у Анатолия Кузьмича было что-то от чеховского Беликова, «Человека в футляре», а теперь он в известном смысле перестает носить галоши. И ты должна всячески и настойчиво развивать в нем эту черту, понимаешь?..
Яков Борисыч, глядя однажды на новые кальки центрифуги, с удовольствием сказал:
— А Локотов — инженер! — точно был не уверен в этом раньше, хотя Анатолий скоро должен был стать кандидатом наук.
Туликов, засмеялся:
— От любви человек добреет, его вдруг хватает не только на свою диссертацию, но и на работы, нужные всем другим. Вот вам, товарищи, наглядный пример благотворного влияния любви на раскрытие потенциальных возможностей индивидуума.
И Женя частенько теперь подзывала, не смущаясь, Анатолия к своему столу или стенду. Только Коробов недоуменно молчал, напряженно приглядываясь ко мне и Анатолию, да Лидия Николаевна как-то раз неопределенно сказала:
— Любовь зла!.. Ну, хоть работе польза, и на том слава богу.
И относилась ко мне так же насмешливо-холодно, как в первые дни моей работы в чертежке.
Ухаживал Анатолий красиво, хоть и немного однообразно. Почти каждый вечер мы ходили в театр или кино. Анатолий обязательно покупал мне цветы, какие-нибудь забавные безделушки, дарил духи. Всегда был подчеркнуто предупредителен, внимателен. Если мы договаривались встретиться, приходил раньше меня, ждал. Иногда мы отправлялись в ресторан, Анатолий выпивал чуть-чуть, и я с удовольствием убеждалась, что ему просто органически противно вино. Он всегда провожал меня в Ручей, и там, уже поздно вечером, мы обязательно целовались; он ни разу не позволил себе ничего лишнего.
Все это нравилось мне, как понравилось бы, наверно, всякой девушке.
Я еще в первую нашу прогулку по Неве заметила, что ему как бы безразлично, о чем именно говорить, но знал он много и рассказывал интересно. Только с какой-то суховатой дотошностью, будто боялся что-нибудь опустить, перепутать, и эта обстоятельность его была немножко скучноватой.
И здесь — или у меня было мамино презрительное отношение к мужчинам маленького роста — я неожиданно увидела и что-то новое в Анатолии. Это, конечно, хорошо, когда мужчина так следит за собой, но я как-то вдруг почувствовала, что его усиленная ежедневная зарядка, обливание холодной водой, тщательность в одежде диктуются в первую очередь желанием сравняться с другими мужчинами, высокими, сильными и красивыми. Даже его работоспособность, настойчивость и упрямство в делах будто определяются этим же. И единственное, чем Анатолий позволял себе хвастаться, относилось, например, к тому, что он может присесть на одной ноге пятьдесят раз или проплыть без отдыха километр. А меня после знакомства с Лешкой этим было трудно удивить.
Анатолий был послушен, точно мальчик. Видимо, где-то глубоко в душе у него было тщательно запрятано что-то слабое и неопределенное, и это удивляло меня своим несоответствием с его внешностью, манерой держаться. Но я, даже когда мы целовались, никак почему-то не могла назвать его просто Толей.
Очень старалась я тогда выяснить, за что же именно полюбил он меня, ведь знать это было мне очень важно для дальнейшего. Но спрашивать его долго не решалась. А когда осторожно заговорила, что мне нравятся в нем подтянутость, воспитанность, умение держаться, образованность, суховатый, но строгий ум, — говорила я тогда об этом, конечно, более беспорядочно, бестолково, — он тоже честно попытался объяснить, что ему нравится во мне. Я многого не поняла, но запомнила его слова, — конечно, о красоте, о какой-то неопределенной общности с ним и — это было неожиданно — о моральной силе. Он что-то говорил о моей чистоте, честности и порядочности и о моих достоинствах хозяйки.
Я бессознательно старалась подражать ему в манере держаться, начала даже почитывать книги, до которых не была особенной охотницей, но, главное, почувствовала нечто новое, по-настоящему прочное в жизни, олицетворявшееся в Анатолии, и жила предчувствием еще лучшего, что обязательно будет, — только бы выйти за Анатолия замуж!
У меня появилось насмешливо-высокомерное отношение к другим нашим пригородным, в первую очередь к Зинке; я просто хвасталась Анатолием перед ними. И Зинка завидует мне до сих пор.
Я оказалась права, когда считала, что удачным замужеством могу сразу же обскакать даже Костю со Светкой. Познакомила, конечно, их с Анатолием. Они трое тотчас заговорили об антимире и антиматерии, какой-то книге Винера о кибернетике, еще о чем-то таком же, даже поспорили. Анатолий был действительно очень умным человеком, умеющим мыслить строго, с беспощадной логичностью. Светка с Костей — он тогда был на последнем курсе — очень скоро оказались побежденными. Но ничуть не обиделись — наоборот, победа Анатолия сблизила их, и они по-студенчески стали смотреть на него снизу вверх. Костя потом сказал мне:
— Ну, Танька-Встанька, я всегда знал, что ты человек неожиданный! — И щелкнул меня по носу.
Светка обняла, поцеловала:
— Я так рада за тебя! Ты за него держись изо всех сил: сама рядом с ним человеком станешь. — И задумчиво поморгала: — Только вот… что он такое нашел в тебе?.. — И засмеялась: — Ну, не бойся, не бойся, я твоих секретов раскрывать ему не буду!
Главное для меня тогда было — борьба с Софьей Сергеевной. Но я победила и здесь.
Бывала я тогда у Локотовых дома очень часто. Испытательный стенд, на котором Анатолий вместе с каким-то Алексеевым делал эксперименты, был разобран, а на базе его смонтирован уже опытный образец новой головки элеватора. Генеральное опробование его, после которого диссертация Анатолия могла считаться законченной, все откладывалось до возвращения Алексеева из командировки, и вечерами Анатолий был свободен. Я тогда не понимала, почему Анатолий не заканчивает диссертацию один, даже спросила его. Он ответил неопределенно:
— Ну, неудобно же, мы ведь вместе задумывали работу, сделали эксперимент. Зачем же мне выскакивать вперед, попадать в глупое положение?..
Я еще подумала: вот какой благородный! Ведь он начальник лаборатории, а Алексеев его подчиненный, и Анатолий ждет, пока тот болтается где-то по командировкам, хотя ему, Анатолию, — это было ясно видно — просто не терпится узнать, все ли хорошо со скоростной головкой элеватора, то есть с его диссертацией. Он отмалчивался или отшучивался, когда кто-нибудь в лаборатории предлагал попробовать, не дожидаясь Алексеева.
Но меня тогда это мало волновало: я была уверена, что у Анатолия просто не может не получиться то, что он задумал, И потом, главным тогда было для меня то, что вечерами он мог бывать со мной, все сильнее привыкал ко мне и, значит, я так считала, отдалялся от Софьи Сергеевны.
Первое, что я поняла: у каждого из них троих в семейной жизни существовала как бы своя область, что ли. Софья Сергеевна была полновластной хозяйкой, законодательницей в доме. С болезненным самолюбием относилась ко всякому замечанию по хозяйству, не терпела никакого вмешательства в домашние дела. И в этом — одна из причин ее настороженного отношения ко мне: ведь она и думать не могла, чтобы Анатолий, женившись, ушел от них. Поэтому-то она часто говорила — всегда, конечно, мимоходом, — что молодой женщине никак нельзя сразу превращаться в домохозяйку, опускаться, дескать, а надо работать. Во всяком случае, до тех пор, пока не появится ребенок.
Эта маленькая, с кукольной внешностью женщина — сейчас я это точно знаю — была очень честолюбива, по-своему сильна, последовательна и непримирима. Недаром так не вязались с ее обликом глаза и голос.
Кузьма Михайлович и Анатолий только изредка и ласково подсмеивались над Софьей Сергеевной. Ей, наверно, пришлось потратить немало сил и труда, чтобы так воспитать Анатолия и по-своему перекроить Кузьму Михайловича во всем, что касалось манер, приличий. И она справилась со всем этим.
Кузьма Михайлович был как бы в стороне от всего, что происходило в доме. После обеда — в шесть часов вечера — он медленно, с наслаждением выкуривал третью за день папиросу, шел работать в кабинет, где они с Софьей Сергеевной и спали. И занимался какими-то своими делами, писал статьи и книги. Работал он много. Вечерняя работа Кузьмы Михайловича была частью распорядка, который не смели нарушать ни Анатолий, ни Софья Сергеевна.
Кузьма Михайлович как-то сразу принял меня, относился ко мне с ласковой шутливостью. Он не видел ничего страшного, что его сын женится на мне. Анатолий любил меня, я к тому же была красива, а это — главное. Все остальное зависит уже от самого Анатолия, от нашей совместной жизни. Он, может быть, даже рад был, что я не похожа на Софью Сергеевну. В их жизни не всегда ему приходилось сладко, наверно. А в Анатолия он верил.
Анатолий тоже много работал, но у него, помимо работы, было еще и то, что присуще молодости. Я, например. И так как Софья Сергеевна все еще пыталась его воспитывать, то, естественно, мне нужно было ее отстранить. Она любила Анатолия с какой-то слепой, почти животной безрассудностью — наша мама никогда не относилась так ни ко мне, ни тем более к Светке. Может быть, это еще и потому, что Анатолий был единственным сыном. Не знаю, о чем и как говорила Софья Сергеевна с Анатолием обо мне. Внешне, во всяком случае, она никогда не позволяла себе никакой бестактности. И Анатолий ничего не говорил мне об этом. И все-таки я чувствовала постоянно ее отчужденность. Другая бы девушка стала заискивать перед Софьей Сергеевной, но у меня характерец был не слабее, чем у нее. Да и терять Анатолия так, за здорово живешь, я не собиралась. И я стала гнуть свою линию. Вспоминаю сейчас и удивляюсь: как умело все проделала, даже умно.
Я то была влюбленной до того, что Анатолий буквально терял голову, то казалась расстроенной чем-то, недовольной и недоступной. И он ходил как в воду опущенный, с мальчишеским отчаянием допытывался причин, а я молчала. Ему уже, наверно, казалось, что он может потерять меня. А выход из этого был только один: как можно скорее жениться на мне. И отношение матери к этому само собой отодвигалось на второй план.
Как-то вечером мы были одни в комнате Анатолия, целовались. Вдруг он опрокинул меня на тахту. Я, конечно, легко высвободилась, но заплакала. А он стоял передо мной с трясущимися губами и растерянно твердил:
— Ну что ты? Что ты?.. Моя любимая!.. Родная!..
Я сказала:
— Я больше не могу так!.. Я вся измучилась! Я не могу так… до свадьбы!
И он решился. Взял меня за руку, вытер мне слезы, одернул свой пиджак, и мы пошли в столовую.
Кузьма Михайлович сказал;
— Ну что ж… Вот и хорошо! Поздравляю! Софья Сергеевна заплакала, но тоже обняла меня и поцеловала.
А на следующий день, в воскресенье, я впервые с родителями приехала к ним. Было что-то вроде помолвки. Все обошлось хорошо. Отец с Кузьмой Михайловичем вспомнили даже каких-то общих знакомых по заводу.
Мама откровенно восхищалась их квартирой и обстановкой, это льстило Софье Сергеевне. И все четверо сразу же и тактично нашли приемлемую форму взаимоотношений: мы с Анатолием любим друг друга, решили пожениться, а их родительское дело всячески способствовать счастью детей. И — все. Остального пока касаться не следует, незачем, время само покажет.
После традиционного воскресного обеда мама пригласила их к нам. И у нас им тоже понравилось.
Когда они уехали, мама, убирая со стола, облегченно и радостно сказала:
— Ну, отец, теперь нам с тобой хоть на пенсию! Все, слава богу!..
Отец молча кивнул ей и внимательно посмотрел на меня, точно о чем-то догадываясь. Не в правилах мамы было что-нибудь скрывать.
— Ничего, ничего! — сказала она. — Жизнь прожить — не поле перейти, всяко бывает. Сживутся — слюбятся.
— Оно-то так, три-четыре…
10
И вот когда у меня в жизни, казалось, все уже решилось и устроилось как нельзя— лучше, пришла беда. Или счастье. Я до сих пор не знаю… И все почему-то думаю, что именно с этого, наверно, и началась моя взрослая, в известном смысле, настоящая жизнь.
И это утро я тоже помню, как сейчас.
Я спрыгнула с подходившего поезда на платформу вокзала и вместе со всеми побежала на остановку автобуса. Очередь была длинной, вытянулась метров на тридцать. Анатолия не было. Значит, ждет у конструкторского бюро. Я должна была попасть, наверно, в третий автобус. Лица у людей были озабоченные, припухшие от сна. Мужчины курили, женщины нетерпеливо топтались. Я почувствовала, что на меня кто-то смотрит, и обернулась: не Анатолий ли? И встретилась глазами с высоким парнем; он стоял чуть поодаль от меня. Я вздрогнула: такое красивое лицо у него было. Волосы, льняные, волнистой шапкой, продолговатое загорелое лицо с чуть выпуклыми скулами, прямой нос с едва заметной горбинкой, по-женски красивый рот и сине-серые, прозрачные, живые глаза; они казались особенно яркими на коричнево-розовом от загара лице под выгоревшими, вразлет, бровями. Широко распахнутый ворот клетчатой рубахи открывал сильную, мускулистую шею. И плечи у парня были тоже сильные, широкие. Глаза его, неуловимо изменившись, вдруг стали озабоченно-серьезными. Гибким движением, не задев стоявшую между нами женщину, он дотянулся до моего плеча и что-то смахнул с платья.
— Спасибо, — неожиданно звонко и радостно поблагодарила я и приветливо улыбнулась.
А он, точно не услышав моих слов, уже растерянно, даже испуганно смотрел на мое плечо. Я тоже осторожно покосилась: на плече лежала двухкопеечная монета. Откуда она взялась?.. А он снова провел рукой по моему плечу: монеты больше не было. Я засмеялась. И он улыбнулся; нос его от этого как-то очень мило сморщился. Я посмотрела вокруг и только тут заметила, что день сегодня удивительно солнечный, яркий, небо высокое. И вдруг мне стало очень просто и хорошо, как бывает в такие солнечные утра, когда воздух еще чист и свеж: ощущаешь свое здоровое, легкое, сильное тело, а впереди — бодрый, приподнято-радостный день…
Подошел мой автобус. Я почему-то мельком подумала: а парню этому на каком? И усмехнулась: что это я?..
Народу набилось много, люди цеплялись за раскрытые двери. Садиться или подождать следующего? Я ведь все равно успеваю… И вдруг парень проговорил за моей спиной, как старый, знакомый:
— Подождем, пока места для инвалидов освободятся?
Ага, значит, он тоже на этом едет… Толстая тетка передо мной заслонила всю дверь, а сбоку еще заклинился худенький паренек: мне оставалось только место, чтобы поставить левую ногу да ухватиться одной рукой за поручень. И точно меня кто-то толкнул: ступила на подножку, просунула руку и повисла. И когда почувствовала, что парень этот тоже как-то примостился за мной, немного успокоилась. Потому, наверно, что все-таки спокойнее, когда не с краю висишь.
— Эй там, на колесах!.. — по-утреннему еще беззлобно кричала кондукторша. — Что вам автобус, резиновый?
— Если бы резиновый, давно бы лопнул, — спокойно ответил ей парень.
Автобус встряхивало, и спиной я чувствовала грудь парня, его сильные руки. Я постепенно перестала держаться: парень не двинулся, только мне показалось, что он понял. А на повороте я уже невольно навалилась всем телом. Парень тотчас же сильным, коротким движением вернул меня на место.
Когда автобус подъезжал к КБ, мне вдруг стало немного жалко, что вот сейчас я выйду, а парень поедет дальше. И я вспомнила, что вечером мы с Анатолием должны пойти в кино. А до этого я буду у них обедать. Увидела их чинный стол, Софью Сергеевну и отчетливо почувствовала, как не похож этот парень на Анатолия, солидного и сдержанного: с этим парнем мне было бы проще и легче…
Автобус остановился. Выпрыгнул парень, еще кто-то, вышла я. Парень стоял и смотрел на меня. Я отвернулась, пошла. Парень сразу же сказал — он шел рядом со мной:
— Удивительно приятная погода сегодня!
Сказал те же самые слова, что Анатолий, но каким-то насмешливым тоном. Я удивленно взглянула на него, он сразу же важно проговорил:
— Волга впадает в Каспийское море!
Я засмеялась. И в профиль лицо его тоже было очень красивым. И то, что он шел рядом и разговаривал, совсем почему-то не выглядело обычным приставанием к девушке: просто ему весело, и он решил пошутить. Ну, может, и не совсем так, но приблизительно… Я сказала в тон ему:
— А спасибо — это ведь спаси бог.
— Да, да! — поспешно подтвердил он. — А целковый — цельная монета, а поцелуй — редкий случай повелительной формы, ставшей существительным. — И вытаращил глаза.
Я невольно захохотала, таким вдруг глуповато-значительным, по-чиновничьи важным стало его лицо. Нет, разговаривать с ним было забавно, весело. За его словами не скрывались, как у Анатолия, только голые факты, а было еще что-то, очень простое, хорошее. Что же ему, по пути со мной, что ли? Или ему сворачивать за угол, и следовало безразлично сказать: «Ну, мне сюда. Всего доброго». А я повернула молча да еще покосилась, идет ли он. И немного обрадовалась, что он тоже свернул. Скажу Анатолию… Мало ли с кем я могу идти, в конце концов?.. И тут я как-то очень отчетливо ощутила, что Анатолий стерпит, стерпит еще и не это! Сказала задорно:
— Вы на работу за сколько до начала выезжаете, чтобы успеть проводить кого-нибудь?..
— Да понимаете, — он потер пальцем нос, вздохнул, откровенным шепотом, словно ища у меня сочувствия, проговорил: — Жениться охо-та-а!.. А где с девушкой познакомишься? Вот и мотаюсь день-деньской по автобусам и трамваям.
— А в метро не пробовали?
— Идея! Сегодня же до часу ночи ездить буду, и, главное, одного билета хватит! Вот спаси бог вам!..
У входа в КБ Анатолия тоже не было. А ведь он вчера говорил, что ему сегодня зачем-то пораньше прийти надо.
— Я уж, если позволите, вас до самого станка провожу, — сказал парень.
— У нас пропуска, — ответила я.
— Ничего, меня пропустят.
— А я и не за станком совсем работаю…
— Обидел? Простите! У вас кабинет и секретарша?
Я вошла в проходную. Парень все шел за мной. Показала пропуск и обернулась, но он спокойно сказал:
— Идемте, идемте. — И тоже протянул пропуск вахтерше.
Вышли во двор. Я спросила:
— Значит, вместе работаем? А вы кем и где?
С парнем многие здоровались, он кивал в ответ, улыбался так, точно вернулся откуда-то издалека, с удовольствием смотрел на здания вокруг, будто соскучился по ним.
— Я по снабжению… Птичье молоко достаю.
— А-а-а… А я в научно-исследовательском секторе.
— У кого в лаборатории?
— У Локотова.
Парень сделал гримасу: «Ну, у вас наука! Где уж нам уж». Я значительно помолчала. Подошли к нашему корпусу.
— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — сказал парень. — У меня есть и сюда пропуск. — И поздоровался с вахтером: — Сколько лет, сколько зим, Сидор Ипполитыч!
— Привет, Олешка! Дай закурить. — Они с вахтером поздоровались за руку.
А Анатолий никогда не здоровался за руку с Ипполитычем. И тут я сообразила, спросила, приостанавливаясь:
— Вы… Алексеев?
— Господи!.. Да вы провидица! — громко изумился парень и спросил: — Что это вы на меня так смотрите?.. Я, между прочим, сразу понял, что вы в меня жутко влюбились! В выходной регистрироваться пойдем или сегодня после работы?..
Я покраснела:
— Да нет… Я же сказала, что у Анатолия…. — Я смутилась еще сильнее. — Работаю…
— Ну и дела! — удивленно проговорил он, все вглядываясь в меня; заметил, конечно, это — «Анатолий».
— Ваш образец совсем готов. — Я все старалась справиться с собой, хотя при других запросто называла Локотова Анатолием.
— Это неважно, — вдруг равнодушно ответил он.
Я вспомнила отношение Анатолия к образцу, изумилась, в свою очередь:
— Да ведь это же ваша с… Локотовым диссертация?!
— Дис-сертация, апроб-бация, меха-низацция!.. — сказал он.
Мы шли по коридору, я все поглядывала на него. Значит, ему тоже двадцать восемь, ведь он учился в одной группе с Анатолием, а по сравнению с ним совсем мальчишка. То есть внешне мальчишка… А так еще неизвестно… Почему же Анатолий, а не он начальник лаборатории?
— Прошу вас! — Олег широко распахнул передо мной дверь в лабораторию, вошел следом.
— Внимание! — тотчас громко крикнула Женя и запела туш: — Та-а-а-та-та-тат-та-та-та-та-тат-та-та-та-та!..
Его сразу же подхватили Туликов, Выгодский, Яков Борисыч. Даже Лидия Николаевна.
— Вольно, камрады! Вольно!.. — кричал им Олег.
Они теснились вокруг него, пожимали руки, улыбались, и я с удивлением увидела, что все они искренне рады его возвращению. И тоже почему-то не шла к своему месту, а стояла рядом. И лица у всех были открытыми, веселыми — этого никогда не бывало при разговоре с Анатолием, а ведь Олег — только старший научный сотрудник…
— С приездом! — Яков Борисыч тряс его руку, сразу же пустился в разглагольствования: — Я, помню, был на Урале…
Женя, Туликов и Выгодский стояли строем, руки по швам. А Лидия Николаевна, точно начальник почетного караула, вздернула руку с воображаемой саблей, шагнула к Олегу, отрапортовала:
— Суслики рады приветствовать вас в родных пенатах!
— Благодарю, товарищи! — смешно вытаращив глаза, бормотал Олег. — Подношения вечером, сейчас баня, чарка и — сон!..
Анатолий и Коробов стояли в стороне, тоже улыбались и молча ждали. Олег, конечно, видел их, но сначала неторопливо пожал руки другим. Лидия Николаевна ласково сказала, с удовольствием глядя на него:
— Ишь загорел как! Совсем красавец!
— Всегда был им, всегда был, — бормотал Олег.
Женя, здороваясь с Олегом, присела, сделала реверанс. Этим она, наверно, хотела показать, что относится к Олегу так же, как все, но лицо ее было таким сияющим, что я сразу поняла: вот почему она ни на кого не обращает внимания… А Олег, кажется, ничего не замечал, спросил:
— Запорола центрифугу?
— Ага! — счастливо ответила она.
— Так вот зачем ты здесь, Коза! — Олег улыбнулся Лидии Николаевне. — Работаем?
— Уже кончаем. — Она серьезно кивнула на меня.
— Да! — сказал Олег, тоже глядя на меня. — Я и забыл представить вам свою не-невестуОн взял меня под руку. — Сегодня регистрируемся! — И не смотрел на Анатолия.
Все невольно обернулись к нему. А я стояла как дура и не двигалась. Анатолий, чуть побледнев, улыбался. Все молчали.
— Привет, Афоня! — наконец проговорил Олег, отпуская мою руку и подходя к Коробову; Олег теперь, наверно, все уже понял.
— Здравствуй, — пробасил тот.
Олег и Анатолий обнялись, похлопали друг друга по плечам, и было видно, что они крепко дружат. И держался сейчас Анатолий почти так же просто, как Олег, естественней даже, чем со мной. Я удивленно смотрела на него. Что же за человек, в конце концов, этот Алексеев?..
— Порядок! — наконец чуть торжествующе произнес Анатолий.
— А?.. — точно вспомнил что-то Олег. — Пробовал?
— Нет…
— Жалко! — И вдруг серьезно уже сказал: — Брось ты в эту порядочность играть!
Анатолий не обиделся и все смотрел на Олега, как на старшего.
— Ну, ну, шучу, — сказал Олег. — Понимаешь, если бы уже были результаты…
— Да все будет хорошо! — сказал кто-то сзади.
Анатолий, уже слегка волнуясь, вопросительно смотрел на Олега.
— Да ничего, ничего, — успокоил его Олег. — Пока, понимаешь, в воздухе болтался, все думал о нашем стенде.
Все настороженно молчали. Анатолий не вытерпел:
— Ну?..
— Да ничего не придумал, — будто извиняясь, ответил Олег. — Конечные результаты надо увидеть. Ну, покажи нашу красавицу. — И первым пошел вперед, точно он здесь главный; и не посмотрел на меня.
— Олег, потом ко мне зайди, — сказала Женя.
И Туликов с Яковом Борисычем тоже смотрели на Олега так, будто хотели поговорить с ним о работе.
Я шла сзади. Я ничего не понимала. То есть видела и понимала, что Олег нравится всем, что его уважают. Но ведь и Анатолий нравился, и его уважали, а все же… И куда сразу девалась уверенность Анатолия, манера держаться? Мне было неприятно это: впервые в рабочей обстановке лаборатории у Анатолия обнажилось его слабое, которое иногда было так ясно видно, когда мы оставались вдвоем или когда случилась та история в Саду отдыха. Я вдруг поняла, что мне нравится вот такое простое и дружеское отношение всех к Олегу. Меня словно что-то толкнуло, я даже размазала по кальке тушь. И поймала себя на том, что с каким-то страхом и радостью слежу за каждым шагом Олега и не могу насмотреться на него. Испугалась потому, что на Анатолия с первой же встречи я смотрела совсем не так. Тогда это зависело от меня: хотела и смотрела, следила за ним, а теперь точно кто-то распоряжался мной, заставлял смотреть, и я ничего не могла поделать, если бы и хотела.
Олег, только взглянув на сверкающую маслом и краской головку элеватора, быстро сказал:
— Молодец, Толька! Все как надо. А материал где?
— Да, понимаешь, Снигирев сказал, чтобы в его присутствии…
Олег покачал головой, глядя на Анатолия:
— Черт его знает, откуда у тебя это смиренное терпение берется? Одиннадцать лет тебя знаю и понять не могу! Ну попробовали бы соврать старику, что не делали…
По лицу Анатолия пробежало брезгливое выражение:
— Врать, знаешь…
— Ну, знаю, знаю, чистюля! Так ведь это ложь во спасение. — Он засмеялся.
Анатолий промолчал. Лидия Николаевна сказала:
— Олег, стол тебе освободить?
— Зачем, Коза? Мне на ходу лучше думается.
И весь день он то разговаривал с Женей, ковырялся в ее стенде, и она громко смеялась, шутила; то вместе с Туликовым сидел над какими-то расчетами.
К нам с Лидией Николаевной Олег больше не подходил, а мне хотелось думать, что это из-за меня. Он и не смотрел на меня, после того как в шутку представил своей невестой и понял, каковы у нас отношения с Анатолием. А мне хотелось думать, что он не смотрит потому же, почему и Анатолий не смотрел вначале.
В лаборатории теперь было шумно, оживленно. К Анатолию по-прежнему обращался только Коробов да изредка Суглинов, а остальные разговаривали с Олегом. И Анатолий ничуть не обижался на это, точно ни он сам, ни другие не замечали этого. И я незаметно для себя стала смотреть на Анатолия чуточку смелее, будто приезд Олега как-то снизил Анатолия.
И вечером, обедая у Локотовых, а после гуляя с Анатолием, я нет-нет, без всякой причины, вспоминала Олега. Чувствовала, что нравится он мне. И все хотела расспросить об Олеге у Анатолия и инстинктивно боялась даже заговаривать о нем.
Впервые мне было так скучно в тот вечер…
11
На следующий же день состоялось испытание скоростной головки элеватора — диссертационной работы Олега и Анатолия.
Когда я вошла в лабораторию, там было непривычно тихо и пусто: все толпились около головки элеватора. Событие это было значительное: наша лаборатория впервые в своей истории демонстрировала окончание диссертационной работы выращенных ею кандидатов.
Устройство головки было простое, мне Женя давно уже объяснила это. Большой барабан, вокруг него лента, на ней — ковши. Снизу ящик с материалом. Вращаясь, ковши описывали дугу, захватывали и высыпали материал в спускной лоток. Барабаны были сменными, разных диаметров и скоростей вращения. А ковши разных форм. И задача была такая: повысить скорость движения ковшей, но так, чтобы разный по составу материал не вылетал от быстроты движения вверх или, что еще хуже, не ссыпался обратно, вниз, на заднюю ветвь элеватора. Олег и Анатолий, варьируя формы ковшей, ускорили движение их на двадцать процентов, и, значит, производительность должна была возрасти так же. Все это сулило самые заманчивые перспективы везде, где использовались подобные машины или их принцип действия.
Олег с закатанными выше локтя рукавами рубашки, молчаливый, сосредоточенный, возился у барабана. И я увидела, что Олег действовал ловко, быстро, экономно, — Анатолий так не умел работать. Но и он вместе с Туликовым и Женей готовил внизу материал, налаживал лоток, проверял приборы замера производительности. Даже Выгодский с Коробовым носили в ведрах песок.
Было тихо, все переговаривались вполголоса, точно перед началом торжественного акта. В лаборатории неожиданно очутились Игнат Николаевич с сыном и отцом, Виктор Терентьич Вагин, еще какие-то незнакомые мне люди. И у всех были ожидающе-праздничные лица. Я поняла: вот одна из тех минут, для которых и существует лаборатория.
Яков Борисыч говорил Вагину:
— Ну, и вас поздравить будет можно? — Его мягкое, бабье лицо хитро морщилось, он округло поводил руками.
Вагин, как-то подозрительно поглядывая на него, — как и я, он, наверно, не мог понять, каким же глазом смотрит на него Яков Борисыч, — слегка усмехнулся:
— Наше дело маленькое: нарастить мясо на скелет! — Он пристально посмотрел на меня, протянул руку: — Привет, Танечка! — И задержал ее, как обычно, чуть дольше, чем полагается, договорил многозначительно: — Наш общий знакомый сегодня на коне! — В словах этих была доля зависти к успеху Анатолия.
Вдруг опять стало тихо: по проходу между стендами неторопливо шел Снигирев, сутулый, узкоплечий, наголо бритый и с такими мохнатыми и черными бровями, что они казались наклеенными, как у ряженого. Я никак не могла привыкнуть к его виду: круглая голова его казалась несоразмерно большой по сравнению с телом. Морщинистое, загорелое лицо выглядело всегда чуть утомленным, темные и запавшие под выпуклым лбом глаза рассеянно перебегали с предмета на предмет, словно Снигирев, не совсем ясно представляя себе, что вокруг него делается, досадливо старался сосредоточиться на чем-то своем, главном.
В лаборатории у нас он бывал очень редко и всегда точно мимоходом. То здоровался за руку с каждым, подробно расспрашивал о всяких пустяках, которые его совершенно не касались, то молча проходил к столу Анатолия, кивая всем на ходу. И чем-то напоминал Якова Борисыча: разговаривая с кем-нибудь, ответы выслушивал как бы безразлично, рассеянно, и тоже было трудно понять, к кому как он относится.
Его уважали, даже боялись. Лицо Анатолия в его присутствии делалось всегда взволнованно-настороженным, все в лаборатории замолкали, смотрели на Снигирева, торопясь, отвечали ему невпопад, а он, одинаково ровный со всеми, будто не замечал этого. За глаза в лаборатории взахлеб восхищались работами Снигирева, его учебниками, по которым учились еще в институте. Кузьма Михайлович за обедом как- то сказал:
— Филипп Филиппыч настоящий ученый, от него наукой так за версту и пахнет.
И сейчас Снигирев, ни разу не взглянув на головку элеватора, на людей, возившихся вокруг нее, первым поздоровался с Николаем Ильичом, даже улыбнулся. А тот неожиданно сказал:
— Пришел, Филя, полюбоваться на своих кандидатиков, горяченьких, с пылу с жару?
И Снигирев ничуть не удивился, не обиделся на этого «Филю», «кандидатиков»: я потом узнала, что он еще студентом был на практике в мастерских, где в молодости работал Николай Ильич. В тон ему ответил:
— Надо же кому-то бразды передавать. — И стал здороваться с остальными.
Вагин выгнул грудь, уважительно, но с достоинством пожал его руку. Павел смутился, спрятался за чью-то спину. Подошли от машины остальные, руки у них были грязные, и Снигирев только кивнул им молча.
Анатолий бестолково заметался туда, сюда, пока Олег не сказал ему:
— Подожди, дай хоть слезть… — Неторопливо и ловко спустился вниз, подошел к Снигиреву, спросил, чуть улыбаясь: — Будем пробовать, Филипп Филиппыч? — И спокойно ждал ответа.
Олег был очень красив сейчас. Пышные волнистые волосы его чуть растрепались, запачканное маслом лицо раскраснелось, воротник рубашки сбился, и от всей его стройной фигуры так и веяло молодостью, силой. Анатолий как-то совсем стушевался, потерялся рядом с ним. Николай Ильич сказал Снигиреву, с удовольствием глядя на Олега:
— Гвардия, а?..
Но Снигирев не поддержал его, безразлично взглянул на Олега, нашел глазами Анатолия, кивнул ему:
— Пускайте.
Чем это Олег, интересно, может не нравиться Снигиреву?..
Анатолий прикрыл пальцем кнопку пускателя. Все отодвинулись от машины, только Выгодский еще копался в углу. И снова Олег спокойно сказал Анатолию:
— Подожди. — И крикнул Выгодскому: — Заснул, Колик?
Тот торопливо отбежал в сторону, Коробов пробасил:
— Да чего тут трусить?..
— Кота из мешка надо осторожно доставать, — сказал ему Николай Ильич, — а то руки исцарапает!
Загудел трансформатор натужно и глухо, зажужжали приборы, взревел главный двигатель, барабан медленно двинулся, ковши с усилием втискивались в песок, и вот уже барабан закрутился неразличимо быстро для глаза, ковши входили в песок внизу легко, как нож в масло, а сверху в желоб летела тугая и плотная песчаная струя. Олег, Снигирев, а за ними и все шагнули к приборам.
— Здорово! — отчаянно-радостным голосом, прозвеневшим сквозь шум работавшей машины, прокричала Женя; она счастливо смотрела на Олега.
И все облегченно задвигались, заговорили, зашумели. Только лицо Снигирева было по-прежнему холодно-спокойным, да Олег, отодвинувшись, раздумчиво прищурился, глядя на ковши. Анатолий переступал с ноги на ногу, нашел меня глазами, облегченно заулыбался.
«Выключай!» — кивнул ему Олег.
Сразу стало очень тихо. Барабан еще крутанулся по инерции и замер, и слышно было, как шуршит по лотку, ссыпаясь, песок. Все выжидательно молчали. Снигирев, еще раз придирчиво глянув на показания приборов, негромко сказал, будто ничего не случилось:
— Ну что ж, на мелкозернистом ожидаемые результаты подтвердились.
Я думала, что все кинутся поздравлять Анатолия с Олегом, но Вагин только успокоенно, торжествующе улыбался, Туликов закурил, Женя тыльной стороной грязной руки поправила волосы…
— Меняем материал! — позванивающим голосом скомандовал Анатолий.
— Подожди. — Олег вопросительно смотрел на Снигирева. — Еще на десять процентов увеличим скорость, а?
— Так ведь проектом, кажется, не предусмотрено? — выжидательно спросил его Снигирев; глаза его вдруг стали пристальными, сосредоточенными.
— Да мы тут переключили редуктор, — ответил Олег.
Ага, вот почему он возился с барабаном! Анатолий удивленно, растерянно мигал.
— Извини, не успел тебе сказать. — Олег улыбнулся ему.
— Однако! — возмущенно и громко произнес Вагин, оборачиваясь то к тому, то к другому, ища поддержки.
Все молчали. Анатолий бледнел все сильнее. Одно дело, когда Олег вмешивался в работу других, подменяя тем самым Анатолия как начальника. Это все-таки проходило как-то незаметно: Анатолий — начальник, занят своими административными делами, ему некогда, ну Олег и помогает, если его просят… Да я сама, может, немного и преувеличивала это, ведь не могла тогда беспристрастно относиться к Олегу. А тут уже открытое пренебрежение к своему коллеге, вместе с которым Олег готовил диссертацию и которому даже не счел нужным сказать о внесенном изменении. Но держался Олег сейчас так, точно не понимал этого, нетерпеливо ждал ответа Снигирева. В эту минуту я впервые заметила в Олеге эту странную, даже, казалось, оскорбительную для других черту, когда обычные человеческие отношения будто переставали для него существовать, становились чем-то незначительным и второстепенным. Как для сумасшедшего, охваченного навязчивой манией, или ребенка, которому хоть дом сгори, хоть укради, а дай полюбившуюся игрушку. И поняла, почему Вагин, например, да и Коробов с некоторой опаской и неприязнью относятся к Олегу.
Анатолий все молчал, приподняв плечи, отвернувшись к машине. И все старались не смотреть на него и Олега. Вагин поспешно сказал:
— Установку может разнести от перегруза! Как центрифугу…
— Трус в карты не играет! — язвительным, тоненьким и непримиримым голоском выговорил Николай Ильич.
Снигирев кивнул Олегу, тот сказал:
— Отойдите, ребята! — И подошел к пускателю.
Все далеко отодвинулись. Снова загремел двигатель, метнулись ковши, и песок тугим вертикальным веером поднялся в лаборатории, упираясь в потолок, стены, беспорядочно засыпая все вокруг. Олег тотчас выключил. И постоял еще около пускателя, глубоко задумавшись, ничего не видя. Волосы, лицо, рубашка его были покрыты густым слоем песка. И у Снигирева было такое же отрешенно-сосредоточенное лицо. Вагин удовлетворенно хмыкнул, Анатолий передохнул, точно после миновавшей опасности, Женя с жалостью смотрела на Олега. Никто ничего не сказал, и так все было ясно.
Сменили материал: вместо песка засыпали мелкий камень. Снова Анатолий встал к пускателю, снова головка работала хорошо, и снова ко всем вернулось удовлетворенно-радостное состояние.
— Выше головы не прыгнешь! — подытожил Вагин.
Анатолий тщательно вытирал руки: испытания закончились. Я-то видела, как он был рад, хотя посторонний человек ничего бы и не заметил. Ну вот, теперь мой будущий муж кандидат наук! Но обрадовалась я почему-то меньше, чем ожидала. Может, потому, что у Олега ничего не получилось с большей скоростью, и это как-то вдруг по-иному представило всю работу, вон Вагин даже сказал насчет головы… Да и Снигирев с Олегом по-прежнему раздумчиво молчали, будто не все еще было ясно и они даже разочаровались в чем-то. И Николай Ильич, конечно, не мог стерпеть, пропел Вагину:
— А некоторые мастера спорта прыгают куда выше своего роста!
Никто не поздравлял Анатолия с Олегом, а Коробов морщил свое скуластое, грубое лицо, будто Олег вообще испортил всю обедню. Анатолий упорно не смотрел на Олега. Я тогда еще не знала, что это начало разлада между ними, что эту обиду Анатолий никогда не сможет простить Олегу, хотя сам он вышел победителем. И тоже тогда еще не знала, что в этом-то и состоит главное различие между Анатолием и Олегом как научными работниками, не могла даже представить себе все значение и цену этих ничем, казалось бы, не оправданных порывов и безрассудного, на первый взгляд, риска в науке.
Олег вдруг резко повернулся к Снигиреву, просительно начал:
— Ведь удельный вес…
И Снигирев, тотчас поняв, согласно кивнул. Я не могла понять: то ли он увлечен сейчас, как и Олег, то ли ему зачем-то нужно, чтобы все убедились в бессмысленности этого упрямого желания Олега. Олег шагнул к пускателю, все отодвинулись и притихли. Повторилась та же неудача, что и с песком на этой, большей скорости, к тому же рикошетившие камни разбили стекло окна.
Опыты продолжать не стали. Все начали расходиться.
— Ну, Филипп Филиппыч, — громко и радостно проговорил Вагин, — вот это подарочек производству! У моего отдела уже почти готов эскизный проект.
— Через три месяца чертежи будут на заводе, — подтвердил Павел.
Снигирев повернулся, взглянул на Игната Николаевича.
— Не задержим, — ответил тот, — зеленую улицу дам!
Тогда Снигирев протянул Анатолию руку, улыбнулся:
— Только с оформлением диссертации не тяните…
— Нет, нет!
— Поздравляю кандидата! — Вагин по-свойски обнял за плечи Анатолия, сильно качнул его; Анатолий счастливо улыбался, не замечая этой фамильярности Вагина, которая обычно была так противна ему.
— Придется обмыть это дело! — Николай Ильич щелкнул себя по шее, улыбаясь Анатолию.
— Валидольчиком, папаша! — невинно вставил Игнат Николаевич.
И казалось, все уже забыли про Олега, как вдруг Снигирев быстро обернулся, посмотрел на него. Олег смущенно улыбнулся, потер пальцем нос. Все теперь смотрели на него, а он нерешительно сказал:
— Эмпирично уж очень наше исследование…
Снигирев молчал, будто говорил без слов: «Но ведь так и было задумано». Анатолий, опять сильно волнуясь, глядел на Олега. Вагин и Коробов недовольно морщились. И Яков Борисыч, который уже скучливо листал какой-то журнал, с любопытством повернулся к Олегу.
— Да и теория ваша, Филипп Филиппыч, тоже достаточно эмпирична, — договорил Олег. — Отсюда наши ошибки.
Наступила такая тишина, что было слышно, как сопел Вагин. Анатолий испуганно мигал, остальные смотрели на Олега так, как глядят на человека, допустившего страшную неловкость. Только Николай Ильич с хитрецой улыбался да Лидия Николаевна шепнула:
— Знай наших!..
Туликов во все глаза смотрел на Олега, будто видел нечто самое важное в своей жизни, Женя восторженно кивала Олегу, подбадривая его.
— Но ведь, кажется, известно, что двадцать лет назад Филипп Филиппыч другой теории предложить не мог! — с благородным возмущением проговорил Вагин.
— А скоростную киносъемку, которую теперь применили, забыл? — спросил Коробов. — Это уж последний крик! Но и это нам не помогло.
— Вы вот всякие теории разводите, а машину-то ждёт производство! — вставил Игнат Николаевич.
— Все это так… — Олег еще больше смутился, он все застегивал и расстегивал грязными пальцами ворот рубахи. — И хорошо, Филипп Филиппыч, что вы тогда предложили свою теорию, и машины работают, и эта теперь будет работать, но…
Снигирев спокойно ждал. И Олег с отчаянной решимостью вдруг договорил:
— Надо по-новому осмыслить закономерности процесса! Ведь так варьировать формы ковшей можно без конца!
Снигирев молчал. Вагин услужливо подсказал:
— Значит, сомневаешься в теории Филиппа Филиппыча?
— А?.. — Олег повернулся к нему, неожиданно улыбнулся: — Выходит, так.
— Ну что ж, это все верно, — будто ничего решительно не произошло, произнес Снигирев; больше того: точно советуясь с Олегом, думая вместе с ним, он негромко спросил: — Ну а пути исследования вам ясны?
— Нет…
Все смотрели на них: что там немая сцена в «Ревизоре»!
Снигирев пожевал губами, спросил:
— Значит, ничего предложить не можете?
— Нет… — Олег побагровел. — Буду думать!
— А если так… — Снигирев выжидательно помолчал, вдруг широко улыбнулся, явно подзадоривающе сказал: — Давайте тогда играть ва-банк: вся эта работа идет на диссертацию Локотова, а?..
— Выходит, так! — Олег рассмеялся и удивленно, и согласно, и будто даже радостно, что все теперь решилось.
Все по-прежнему смотрели на него: нешуточное дело отказаться от кандидатской степени, когда она уже у тебя в руках!
Анатолий шагнул к нему, по-дружески дотронулся до его руки, проговорил, успокаивающе улыбаясь, как младшему, просто погорячившемуся:
— Брось, Олешка!.. Работу делали вместе, вместе и лавры будем делить!
— Ты только не обижайся на меня, — просительно сказал Олег и положил руки на плечи Анатолию. — Ты пойми правильно!.. Я не рисуюсь. Просто, понимаешь, мне надо совсем по-новому взглянуть на это, отойти от сделанного… Ведь если фундамент уже заложен, на нем можно построить только тот дом, который запроектирован. Вот и здесь так. Мне, понимаешь, надо начисто забыть все, что мы с тобой уже сделали.
— Но диссертацию-то можешь ты защитить? Кому от этого вред?
— Вреда нет… Время терять жалко! Это ведь еще полгода. Я могу совсем привыкнуть к тому, что уже сделано, понимаешь?.. Уже не сумею другими глазами глядеть…
— Это правильно, Олег, — серьезно сказал Снигирев и, впервые оживившись, засмеялся. — Ну, бог вам в помощь, думайте! А вы, — он повернулся к Анатолию, — уж помогите им, — он кивнул на Вагина и Игната Николаевича, — до конца довести машину. — Повернулся, пошел из лаборатории.
— Де-ла-а!.. — ахнула Лидия Николаевна, когда за Снигиревым закрылась дверь.
Олег все еще смущенно смотрел на нас, растерянно улыбался, словно просил извинить его. Встретился глазами с Анатолием, решительно сказал:
— Нет, нет, Толька, не проси! Собаке, знаешь, хвост по кусочкам не рубят… — Закинул руки за голову, потянулся всем телом и вдруг радостно, удовлетворенно зажмурился.
12
Почему Олег отказался защищать уже почти готовую диссертацию? Ведь если бы он защитил, никто бы решительно не пострадал от этого. А так еще он Анатолия поставил в неловкое положение. Да и лаборатория, получается, вместо двух кандидатов вырастила одного. Тень на Снигирева как руководителя их темы бросил. И к остальным пренебрежение. И потом, размышляла я, денег-то Олег стал бы получать почти вдвое больше! А ведь был сирота, жил с теткой-пенсионеркой в двенадцатиметровой комнате. (Я все это очень быстро и легко узнала. И удивилась еще, что, познакомившись с Олегом, совсем не думала, женат ли он, как это было при знакомстве с Анатолием.) Мальчишеская горячность, гонор?.. Тоже непохоже. Ведь растерянно даже ответил Снигиреву: «Не знаю». И несправедливым казалось предположение, что он сделал это из каких-то корыстных, далеко идущих соображений. Ничего нельзя понять! Ведь только дурак, казалось мне тогда, всерьез мог говорить о какой-то глупой потребности забыть сделанную работу.
Опять-таки с Жениной помощью я все же поняла, чего хотел Олег. В свое время Снигирев предложил теорию, объясняющую выход материала из ковша элеватора. Производительность элеваторов должна все время увеличиваться. Самое простое — сделать большие по объему ковши. Но при этом растут габариты и вес всей машины. Надо, значит, увеличить скорость движения ковшей. Но тогда от центробежной силы материал разлетается из ковша во все стороны, падает туда же, откуда его взяли ковши. И вот Олег с Анатолием, пользуясь теорией Снигирева, больше двух лет возились с ковшами и придали им форму, при которой можно все-таки на одну пятую ускорить их движение. Результат отличный, работа нужна производству, все довольны. А Олег… Он хотел, объяснила мне Женя, разобраться в каком-то взаимодействии частиц материала, чтобы, установив эту закономерность, можно было больше не гадать с формами ковшей, а знать точно, какую именно форму для того или иного материала надо делать. В общем, захотел создать свою теорию. Я, конечно, сразу же спросила, получится ли что-нибудь у Олега.
— Ну кто же это может знать? — удивленно ответила Женя. — Может подтвердиться теория Снигирева. А может даже оказаться, что все возможности элеваторов исчерпаны опытами Олега и Локотова.
— Зачем же тогда он все это затевает?
— Есть все-таки некоторая вероятность, что можно еще что-то сделать в этом направлении. Хотя я сама, честно говоря, и не вижу этого. А потом… ведь в науке всегда так… А бывает еще, что человек, начиная работу, ждет определенного результата, и вдруг получается совсем другой. Может, еще более важный. Это езда в незнаемое, как сказал Маяковский.
Совсем непонятно. И надо же, чтобы такое приключилось именно с Олегом!..
В тот день, да и после испытания их машины, Анатолий держался очень хорошо. Сразу же нашел, как он умел, единственно верную форму поведения. Ничуть, казалось, не был обижен отказом Олега, но и не выказывал своей радости, хотя я-то знала, что в глубине души он был просто счастлив; правда, был немного удручен, что вот все так неловко вышло, но работу ведь надо заканчивать, хоть он и остался один. Если Олег и найдет что-то лучшее, так это тоже хорошо. И никто ни в чем даже намеком не упрекнул Анатолия. Да и за что действительно его было упрекать?..
Когда мы после работы шли к ним домой обедать, Анатолий задумчиво рассказывал мне:
— Понимаешь, мы с Олегом учились в одной группе с первого курса. В свободное время он увлекался баскетболом, мог один целыми часами в пустом зале бросать и бросать в корзину мяч. Стал играть в сборной института, получил первый разряд. Все были уверены в его спортивной карьере, а он вдруг охладел к мячику. А как он влюблялся! И все это, понимаешь, с романтикой, верностью на всю жизнь, не меньше. Стал следить за своей внешностью, одеждой, как будто и так не понравился бы. Даже советовался со мной, как лучше одеться. А денег-то ведь у него никогда не было.
— Ну и что же? — не удержалась я.
— Ничего, конечно. — Анатолий смущенно помолчал. — Всякий раз казалось, что он наконец нашел главное в своей жизни, и так же скоро это проходило у него.
— А что же он ни на ком не женился?
— Так ведь он по-настоящему никого и не любил.
Мне почему-то стало чуть легче.
— Знаешь, все удивлялись нашей дружбе. Так сказать, лед и пламень. Но дружили мы с ним хорошо, — с некоторым сожалением договорил он.
— А сейчас?
Он поспешно подтвердил:
— И сейчас, конечно. Мы с ним уже в таком возрасте, когда подобные отношения остаются на всю жизнь. — И непонятно добавил: — Мне было бы так жаль потерять их!..
За обедом Анатолий рассказал родителям об испытании машины. Оба они давно ждали результатов работы Анатолия, я знала это, но слушали его спокойно, не торопили и, когда он замолчал, даже не поздравили. Я потом поняла, что это черта их семьи — принимать подобные события как должное. А иначе и не было бы их уверенного благополучия. Вот и еще один пример силы их семьи. Я не вытерпела:
— Алексеев отказался! — Вышло это у меня смешно и даже чуть торжествующе.
Оба они тотчас повернулись к Анатолию. Он неторопливо, толково объяснил им. Софья Сергеевна быстро проговорила:
— Работа сделана, она получилась, и никто и ничто не в силах уже изменить это. А Олег всегда мудрил, на него очень похоже!..
Анатолий по-прежнему спокойно ел, но я знала, что он ждет слов отца, Кузьма Михайлович поднял наконец голову, сказал раздумчиво, неопределенно:
— На первый взгляд это, конечно, чистое мальчишество… Но… неисповедимы пути твои, господи! — Он засмеялся, снова стал милым, потешным толстячком-кроликом.
Анатолий чуточку побледнел, ложка звякнула о тарелку. Его минутная растерянность во время испытания, с которой он мгновенно справился, да вот удар ложки о тарелку — это все, что он не сумел скрыть.
В лаборатории Олег был таким же, как и раньше, будто ничего решительно не произошло или он просто забыл об этом. Весь день крутился то с одним, то с другим, а своего основного дела у него, казалось, и не было. Уж не из-за этой разбросанности его и не назначили начальником лаборатории? Руководитель должен уметь ровно и внимательно обращаться с людьми, работать, так сказать, с массами, а где уж Олегу до этого, если он может походя обидеть человека, допустить нетактичность по отношению к целому коллективу! Его и самого-то еще воспитывать надо… И только временами, иногда посредине разговора, Олег вдруг задумывался, водил пальцем по стеклу, забыв обо всем, или тер нос. Неуравновешенный, увлекающийся человек — какой же из него начальник? Одним словом, совсем не то, что Анатолий. Олег по-прежнему на меня не смотрел, здоровался, как со всеми, только чуть поспешнее отводил глаза. За кальками центрифуги обращался к Лидии Николаевне. И меня сильно обижало это. Я ловила себя на том, что жду его взгляда, слов. Хотела сама заговорить с ним, но почему-то никак не могла решиться.
Я очень боялась, конечно, что кто-нибудь заметит это. А Анатолий больше не торопил меня со свадьбой: ведь у нас всё было решено, а к свадьбе надо подготовиться, ее нельзя комкать. К тому же он вплотную взялся за окончательное оформление диссертации. Вот тут-то я и увидела, как Анатолий умеет работать, и прониклась к нему еще большим уважением. Все вокруг него закипело.
Очень естественно, без нажима и приказаний Анатолий подключил к своей работе Туликова и Коробова, они готовили последние расчеты, вычерчивали графики. Они делали это и для него, Анатолия, но, главное, и для лаборатории, да и для самих себя: Для лаборатории потому, что это было связано с окончательным обоснованием технических условий проекта, а для себя потому, что Коробов, пользуясь частью этих материалов, мог опубликовать статью, а один из узлов будущей машины Туликов мог использовать как свой дипломный проект. Просто и здорово, и все довольны. И все-таки мне казалось, у Олега это получилось бы как-нибудь иначе… Сам Анатолий работал над теоретической частью диссертации, писал бесконечные формулы, сидел, обложившись горой книг. Олег так же увлеченно и бескорыстно, как он помогал всем, часами просиживал с Туликовым и Коробовым, после работы оставался даже с Анатолием. Понять все это тоже было трудно. И я видела, что для этой самой теоретической части Анатолию просто необходим Олег. Он сам как-то сказал мне об этом:
— Олег был первым по математике на нашем курсе: у него удивительно работает голова в этой области!
Вечерами мы теперь с Анатолием гуляли меньше: он, всякий раз извиняясь, или оставался в лаборатории, или работал дома. Мне нравилось это, хотя ожидаемая кандидатская степень Анатолия почему-то чуточку потеряла для меня свою былую привлекательность. Был Анатолий тогда как туго натянутая пружина: такую напряженную собранность, полное поглощение делом мне вообще в жизни приходилось редко встречать. Нет, я не ошиблась в своем женихе…
И в то же время я с настороженной внимательностью следила, как откликаются в лаборатории на поступок Олега, все старалась объяснить себе этот поступок.
Вагин каждый день заходил к Анатолию, поглядывал на Олега зорко, подозрительно. Негромко говорил Анатолию:
— Жми вовсю! Это ведь не одного тебя касается, понял?
Анатолий отмалчивался, тогда Вагин пояснял:
— Ведь от таких, как Алексеев, не знаешь, чего ждать. Впрочем, тебе самому виднее, мой отдел любой проект сделает, кто бы ни был автором. И лавры пожнет!.. Не либеральничай, не играй в порядочность, впрягай всех, понял?
Я заметила тогда, как неприязненно, даже брезгливо относится Яков Борисыч к Вагину. Это было удивительно при его, казалось, ровнозаинтересованном отношении ко всем. И не понимала еще, насколько глубок и серьезен конфликт между ними. В присутствии Вагина мягкое лицо Якова Борисыча становилось насмешливо-холодным, злым, он вкрадчиво спрашивал:
— Начальник отдела боится, что результаты Алексеева будут так значительны, что проект поручат другому институту? — И смотрел на него непонятно каким глазом.
Так и чувствовалось, что, увидев Якова Борисыча, Вагин под костюмом весь сжимается. Но отвечал он ему шутливо, беззлобно, только чуть темнели глаза, как тогда в Саду отдыха:
— Один муж все подозревал свою жену из-за того, что вечерами ее часто не бывало дома, а она, оказывается, задерживалась на собраниях. Нельзя, Яков Борисыч, видеть в людях в первую очередь плохое. Не такие мы. Давно уже не такие!
— Спасибо за совет, Виктор Терентьич. Только я боюсь теперь босым по стеклу ходить.
Однажды Женя пришла в лабораторию из комитета комсомола и, обращаясь ко всем, сказала:
— Комсомольцы готовят вечер на тему «Мы за коммунистический труд!». Как бы нам поконкретнее поговорить об этом?
— А вот, между прочим, такой факт, — раздумчиво, негромко проговорил Яков Борисыч и поискал кого-то глазами; Анатолия и Олега не было, в лаборатории. — Почему, вы думаете, Алексеев отказался продолжать работу над диссертацией?
— Ну, о нем что говорить, — сказала Лидия Николаевна. — Олешка парень особый!
— Какой же это он такой особый? — даже чуть подозрительно спросил у нее Коробов. — Отказался, потому что вожжа под хвост попала! На весь коллектив и на своего товарища наплевал. В этом еще ох и ох как надо разобраться, сделать выводы!
— Вы неправы! — горячо воскликнула Женя. — Неужели вы подозреваете, что Алексеевым руководила корысть? Он просто решил до конца разобраться в процессе. Разве это не ясно?
У Туликова опять стало такое же напряженное лицо, как во время отказа Олега. Он с оттенком зависти произнес:
— Олешке легко… Он в себя верит. — И вдруг растерянно договорил: — А, в общем-то, я не понимаю его.
Яков Борисыч подошел к Жене и Туликову, обнял их за плечи.
— Вы только посмотрите внимательно вокруг, и самые обычные дела, люди, к которым вы привыкли, увидятся вам по-новому. Женя права. Потому что Алексееву действительно важен конечный результат его работы, важен самый процесс творчества, а не те блага, которые он может получить за свое открытие. Это ему безразлично. И в этом главная черта нового человека. А вот возьмите еще старика Антипова. Разве он не мог бы уйти на пенсию? Нет. Возится с молодыми. А Лидия Николаевна? Работа для нее — все! Казалось бы, простая копировщица, а сколько раз нас, конструкторов, на ошибках ловила? Это уже не механическая копировка, а творчество. И своих чертежниц она так же учит относиться к делу. И во многих других наших товарищах есть, на первый взгляд и не очень заметные, хорошие новые черты.
— Как ни судите, товарищи, — сбиваясь от волнения, заговорила Женя, — о поступке Алексеева можно говорить на нашем вечере. Даже нужно! Да, да, при всех недостатках Олега!.. Если отбросить все детали… Выгода ему была явная защитить диссертацию? — Она обвела всех глазами; против этого смешно было возражать. — А он отказался… Чтобы главным заняться… А еще неизвестно, что у него получится!..
— Вот что! — значительно проговорил Коробов.
— Женя права, — сказал Яков Борисыч: — Коммунистическая сознательность — понятие широкое. Важнейший ее признак — органическая потребность в труде. И не корыстная, только для своей выгоды, а на пользу всем, так?
У Туликова все не сходило с лица какое-то странное выражение. И Выгодский задумчиво молчал. А Яков Борисыч легонько улыбался. Вот, значит, он какой. Все, оказывается, замечает и знает. Значит, вот что такое коммунистическая сознательность. Умело повернул, и возразить нечего. И удивилась: а ведь он прав, и как только мне все это раньше в голову не приходило? Плохо я все-таки во всем разбираюсь. А с Вагиным Яков Борисыч почему-то настороженно всегда разговаривает…
— Яков Борисыч, — снова горячо откликнулась Женя, — даже если у Олега ничего и не получится, все равно этот его почин, это отношение к делу очень важно и может для всех нас служить примером. Так я вас поняла? Вот жалко только, что прямо об Олеге на вечере говорить неудобно!
— Вы бы еще на собрание это вынесли. — Коробов хмыкнул. — Тут еще разные точки зрения могут быть, Евгения Иннокентьевна!
А Женя, не слушая его, удивленно договорила:
— Да ведь Олег и сам не согласится, только засмеет меня!
— А зачем упоминать именно его? — спросил Яков Борисыч. — Вы просто порассуждайте да поспорьте на своем вечере на эту тему.
13
А вот как мы с Олегом поняли, что любим друг друга…
Однажды утром Женя вышла на середину лаборатории своей ловкой, красивой походкой, расправила плечи, высоко подняла голову в золотисто-рыжей шапке волос и торжественно произнесла:
— Массы, отзовитесь, проявите энтузиазм! В воскресенье все — за город! Освоим пляж, воду, солнце и пиво! Начальство уже откликнулось, с болью сердца оторвало от производства автобусы! — И запела: — Воскресенье, день весенний, песни слышатся кругом!.. — И не выдержала, покосилась на Олега.
Я сразу же решила, что поеду. Но ничего не сказала Анатолию. А если он откажется, будет и в выходной писать диссертацию? И поймала себя на том, что чуточку даже надеюсь на это. Но тут же успокоилась: мне ведь просто интересно, как будут выглядеть все наши в другой обстановке. Да и от коллектива отрываться неудобно. И боялась подумать: вдруг Олег не поедет?.. И только когда услышала, что он согласен, равнодушно предложила Анатолию:
— Съездим, покупаемся?
Он сказал, досадливо морщась: — Да, понимаешь, надо бы мне посидеть, подумать…
Я ждала, отвернувшись. Он договорил:
— Съезди одна, а?.. Мы ведь последнее время так мало гуляем. И от других сторониться неудобно.
— Не знаю… Если бы с тобой…
— Надо мне поработать. Вот кончу, тогда все время наше будет.
Утром в воскресенье около входа в КБ уже стояло несколько автобусов. Наши сидели в первом, Женя крикнула мне из раскрытого окна:
— Танька-Встанька, скорей сюда! Анатолий как-то сказал в лаборатории, что
Костя называет меня так, но у Жени это получалось грубовато-насмешливо. Неужели она уже догадалась и ревнует?.. Олега нигде не было. Только тут я вспомнила, что забыла завтрак. А никому вроде в голову не пришло, чего это я, пригородная, еду за город, да еще без Анатолия. Только Вагин со своей двусмысленной улыбочкой крикнул мне:
— Танечка, сюда, сюда, я вам место занял!
Я села рядом с ним, пожала его толстую волосатую руку. Ворот его дорогой шелковой рубашки был расстегнут, на выпуклой груди тоже курчавились густые жесткие волосы. От него пахло хорошими духами. Круглые колени Вагина были широко раздвинуты, он занимал почти все сиденье, и я примостилась кое-как, стараясь не коснуться его. И пересесть не решилась: все-таки он приятель Анатолия, я знакома с его женой, с кем же мне и садиться? А он сказал, пристально глядя на меня:
— Решили без Анатолия поехать? Ну, я вас в обиду не дам, буду шефствовать.
— А вы без Веры? — напомнив о жене, чтобы особенно не расходился, спросила я.
Он приподнял плечи:
— Куда все — туда и мы! — Засмеялся, кивнул на аппарат, болтавшийся на груди: — Пофотографируемся?
— А пленка заряжена?
— Специально для вас, Танечка!
Туликов сидел перед нами, тонкой рукой обнимая худенькие плечи жены, и усталое, всегда озабоченное лицо его сейчас сияло счастьем. Жена ласково смотрела на него большими, удивительно красивыми глазами и стыдливо старалась спрятать костыли. Я уже знала, что у нее с детства костный туберкулез.
Рядом с Коликом Выгодским сидела маленькая хорошенькая девчушка в светлом платьице, модно причесанная, чопорно держала на коленях руки, безразлично смотрела перед собой: зубрила-отличница, что ли, урвавшая время от уроков?
Династия Антиповых тоже оказалась в нашем автобусе. Николай Ильич, сдвинув на кончик носа металлические очки, по-мальчишески высунувшись из окна автобуса, тонким голосом крикнул кому-то:
— Бутылочку захвати! Ясно?
Игнат Николаевич сидел праздничный, в свежей белой рубашке и галстуке, повязанном толстым, немодным узлом. Рядом с ним — жена, полная, грузная. Платье ее было по-деревенски цветастым, ярким. Оба они напоминали моих отца с матерью в праздники. Лидия Николаевна говорила Якову Борисычу:
— Наш Игнаша, когда пьяненький, все хвастается, что его пять раз для газеты снимали.
— Что у трезвого на уме — у пьяного на языке, Коза! — не преминул вставить Николай Ильич.
— Он у нас гордый. — Жена Игната Николаевича расправила подогнувшийся воротничок его рубашки, и не понять было, шутит она или всерьез.
— Антиповы — они такие, — притворно вздохнул Павел и тотчас повернулся к Жене.
Я удивилась. Его сухощавое, антиповское лицо с быстрыми глазами стало вдруг смущенным, просительным. Как же это я раньше не замечала?..
В это время Женя радостно и громко сказала:
— А я уж думала, ты опоздаешь! — и заулыбалась.
Через переднюю дверь в автобус вбежал Олег, неся перед собой гитару. Он был просто неотразим…
— Привет отдыхающим! — весело сказал Олег, обегая всех глазами; увидел меня, на секунду приостановился и тут же отвел взгляд.
Автобус тронулся. Женя подвинулась к окну, Олег сел рядом с ней.
— Олешка, песню! — скомандовал Николай Ильич.
— Па-а-арень я молодой!.. — оглушительно проревел Вагин, пародируя песню; этим он, видно, хотел сказать: «Петь в автобусе — пошлость, но раз уж иначе не можете, то пожалуйста!..» — и этаким ухарем-гусаром заулыбался мне.
Я отвернулась. Вагина никто не поддержал.
— Давай, Олешка, ту, студенческую, — попросила Женя.
Я оглянулась на Павла. Он пристально смотрел на Женю. Да, все ясно…
Вдруг Николай Ильич со строгим, серьезным лицом начал: «За фабричной заставой…». Олег тотчас стал аккомпанировать ему, а все Антиповы как-то подобрались и дружно подхватили эту песню. Мы негромко подпевали им, я смотрела на Антиповых и почувствовала то крепкое, уверенное в их семье, что почти совсем незаметно было в обычной обстановке, когда все они только и делали, что подтрунивали и шутили. И все, кажется, тоже ощущали это. Лицо Жени было строгим, Туликов с женой сидели, тесно прижавшись друг к другу, мечтательно глядя вдаль. Олег не отрываясь смотрел на Николая Ильича. Автобус катился теперь мимо веселеньких дач, желто-зеленых от солнца, деревьев и полян. Я забылась и пела вовсю, как когда-то, выступая в школьной самодеятельности. Получалось у меня хорошо, я видела одобряющие лица Антиповых, Олега, тоже смотревшего на меня.
Замолчали. Долго слышался только гул автобуса, низкий и шуршащий. Наконец Выгодский проговорил:
— А вот есть одна одесская песенка…
— Про Дерибасовскую? — деловито спросила его знакомая.
Но их никто не поддержал.
— Вот так-то, девонька, — медленно оборачиваясь ко мне, сказал Николай Ильич. — Голосистая ты!..
И все смотрели на меня по-новому, даже Лидия Николаевна улыбнулась:
— Вон ты какая, Сфинкс!
— Да у вас прямо талант, Танечка! — сладко проговорил Вагин.
— Молодец, Танька-Встанька, — серьезно сказала Женя.
Но главное, Олег все смотрел на меня, и улыбался, и будто ждал чего-то. Тогда я запела свою коронную песню— «Подмосковные вечера». Олег подыгрывал на гитаре. И все смотрели на меня… И я вдруг подумала, что за все время нашего знакомства с Анатолием так ни разу и не пела, он даже не знает, как я пою.
Вагин переводил глаза с меня на Олега, ухмылялся. Женя задумалась, жена Туликова с ласковой улыбкой глядела на нас с Олегом, но мне уже было не до кого. Я пела и пела…
14
Приехали мы в Комарово. Помню, что до этого я так и не спросила, куда же мы едем. Автобусы подошли к самому пляжу.
— Благодать! — восхищенно вздохнула Лидия Николаевна, глядя на сосны, на песок, на волны залива, отливающие солнцем, на чуть различимый в дымке Кронштадт. — Живем средь камня, света божьего не видим!
— А ты, Коза, — тотчас посоветовал ей Николай Ильич, — в колхоз переводись: там чертежницы позарез нужны.
— Спасибо, папаша, вы уж пример покажите…
— Пошли, Олег! — позвала Женя и, сняв туфли, побежала по песку.
Олег постоял еще, но так и не решился посмотреть на меня, пошел за ней. Вагин сказал мне, понимающе улыбаясь:
— Пойдемте, Танечка, к тем кустам: там и солнце и тень.
И я молча направилась за ним.
На пляже и так было шумно, тесно, а тут еще высыпали наши из автобусов. Кусты, слава богу, оказались недалеко от тех, под которыми устроились Олег, Женя, Павел, Туликовы. Вагин все что-то говорил, следил, как я снимала платье и туфли. А я смотрела на Женю, что-то рассказывавшую Олегу, на Олега, смеявшегося ей в ответ так, будто ничего и не было в автобусе, на Туликова, заботливо устраивавшего в тени жену…
Песок был приятно теплым, мягко пружинил под ногами. К Выгодскому и Олегу, уже подбрасывавшим мяч, подбежали Павел, Женя, Туликов. Мяч вылетел из круга и стремительно несся метрах в трех от меня. Я прыгнула и ловко взяла его.
Когда люди становятся в круг и пасуются мячом, сразу видно, кто умеет играть, а кто нет, и можно даже догадаться, кто какой человек. Движения Олега были мягкими, пружинистыми, экономными. Анатолий рассказывал, что у него первый разряд по баскетболу. Олег не кичился своим умением, играл увлеченно. Выгодский явно подражал ему, хотел показать, что и он умеет играть, но получалось плохо, и смотреть на него было как-то неприятно. Женя оказалась неожиданно сильной, но играть не умела и откровенно смущалась из-за этого. А Туликов, совсем белый, незагоревший, костлявый, азартно, совался к мячу, мешал всем, поминутно оглядывался на жену — они радостно улыбались друг другу, — и я снова увидела то хорошее, что так тщательно он прятал в себе на службе.
Как я и ждала, наша с Олегом игра сразу выделилась: недаром Лешка в детстве мучил меня своей физкультурой. И, кроме обычного контакта движений, который бывает между хорошими игроками, снова появилось нечто такое, что еще более усиливало нашу близость, возникшую в автобусе, когда мы пели.
Мяч выкатился, я побежала за ним, вернулась. Олег смотрел на меня, улыбаясь… И я улыбнулась. Наверно, все это заметили. Вагин решительно крикнул:
— Купаться!
Мне хотелось играть еще. И Олегу, видно, тоже. Но в тоне Вагина, было что-то осуждающее — ни я, ни Олег ничего не ответили.
— Будем купаться? — подчёркнуто весело спросил Павел у Жени.
Женя быстро ответила:
— Конечно. — И не смотрела на нас с Олегом.
Вагин удовлетворенно усмехался.
— Люба, я выкупаюсь? — крикнул Туликов жене.
Она закивала ему.
— Ну, а что же своего умирающего лебедя не приглашаешь? — грубовато спросил Вагин у Выгодского.
Знакомая Колика лежала в сторонке, аккуратно подстелив коврик, задрав к небу заклеенный бумажкой нос. Выгодский крикнул ей:
— Том, купнемся?
Та, продолжая лежать, покачала головой.
Я видела, что не только у меня, но у всех эта высокомерная отчужденность знакомой Выгодского вызывает неприязнь.
— Кто хоть она, если не секрет? — спросил Павел.
— Устраивается на работу, — неопределенно ответил Колик.
Я вошла в воду. Сзади пыхтел Вагин; я, не оборачиваясь, услышала, что и все наши вошли в воду. Очень долго было мелко. Наконец я нырнула, потом легла на спину. И тотчас увидела Олега. Он плыл отличным кролем, работая ногами, как винтом.
Подплыл Вагин и тяжело перевалился на спину, выставил живот, мягкий и широкий, как у лягушки. Проговорил, запыхавшись:
— А вы настоящая спортсменка, Танечка! Только нельзя вести себя так неосмотрительно. Вы хоть и маленькая девочка, но что люди подумают?..
Я сильно оттолкнулась и поплыла за Олегом. А он, оказывается, остановился. Неужели ждал меня?.. Рядом никого из наших не было. Я видела его мокрое, блестящее от воды лицо, прозрачные капельки на ресницах. Олег мигал, видно, забыл, что их можно стереть рукой, и смотрел на меня. Я вытерла свое лицо, тогда и он вытер свое. И мы оба засмеялись…
В это время Вагин сзади насмешливо сказал:
— Здесь дно! А вы, конечно, не чувствуете его, потеряли и не найти, да?
Я встала. Олег тоже. Я еще и раньше замечала, что при разговоре с Вагиным Олег щурился, улыбался иронически и язвительно, почти как Туликов. И Вагин редко разговаривал с ним. Олег сказал:
— А нам за дно держаться нечего, Виктор Терентьич…
Вагин усмехнулся — понятно, мол, ваше дело в облаках витать — и медленно произнес:
— Скучная была бы жизнь без донкихотов!
Ага, ясно, это он намекает на отказ Олега завершить работу над диссертацией. И боится Олега. Хорошо хоть, что прямо об Анатолии не заговорил. Сдержался, он же все-таки человек воспитанный:..
Олег непонятно ответил:
— Золотые слова! Ведь некоторые люди дальтоники, хоть окулист и говорит им, что у них нормальное зрение. А кому же хочется считать себя дальтоником? Да и как не поверить специалисту, врачу, правда, Виктор Терентьевич?..
У Вагина подрагивали губы.
— Отличительная черта всякого чудака, — сказал он, — самозабвенная вера в придуманный идеал. И при этом чудак ежесекундно готов принести ему в жертву собственную жизнь. На меньшее он не согласен!
Олег засмеялся прямо в лицо Вагину:
— Бывают такие. Но, в общем-то, категории чудаков многочисленны.
Нет, Анатолий побоялся бы так разговаривать с Вагиным! Анатолий умный, но какой-то скучный. Я толком не понимала перепалки Олега с Вагиным, но была уверена, что Анатолий не сумел бы так говорить, как Олег.
Вагин язвительно сказал:
— Конечно, самая яркая категория — творцы-гении?!
— Само собой! — охотно согласился Олег. — А им, в свою очередь, особенно чудаковатыми кажутся те, которые дорвались до жирного куска и наслаждаются.
— Эти другие, конечно, самые хитрые из всех чудаков? — насмешливо подсказал Вагин.
— Точнее, считают себя самыми хитрыми.
— И преуспевают, конечно, прежде всего за счет донкихотов-гениев?..
— Они умеют и это. Но чаще за счет третьих…
— Есть и такие?
— Есть. Те всем сердцем рады бы попасть в первую категорию чудаков, да у второй каша жирнее. Так и чудачат, бедные, всю жизнь с разбитым сердцем…
— Их остается только пожалеть. — Этого такому чудаку мало. Вагин уже открыл рот, но я перебила его:
— Трудно бедным чудакам понять друг друга! — И упала на воду так, чтобы брызги окатили его, поплыла от берега.
— Выбирайте категорию! — засмеялся Олег и поплыл за мной.
Оглянулась. Вагин, вытирая злое лицо, смотрел нам вслед.
— Виктор Терентьич, сейчас опять мель будет! — крикнула я.
Он резко повернулся и поплыл к берегу. Теперь уж все расскажет Анатолию. Ну и пусть!.. «Пусть! Пусть! Пусть!» — повторяла я. Олег плыл на боку рядом, я видела его мокрое лицо, радужные капельки на ресницах, на выгоревших льняных бровях. И не могла понять, как он относится ко всему, что случилось, ведь намеки Вагина трудно не заметить, а Олег — друг Анатолия. Но, может, он совсем и не думает об этом, ведь я еще не жена, а всего-навсего невеста Анатолия, мне еще не поздно все перерешить, и ничего нечестного в этом не будет. Анатолий нашел бы выход, как он умеет это, все встало бы на свои места, никому и в голову не пришло бы коситься на нас. А сумеет ли Олег найти такую форму?.. Нет, наверно. Предлагал тогда Анатолию соврать Снигиреву, сказал: «Эта ложь во спасение». А по-настоящему врать не может, даже в мелочах. А вот Анатолий… Он как-то удивительно просто, если только ему самому нужно это, может превратить нечестность в честность, так объяснить лживость, что она перестает быть лживостью. И главное, сам он тотчас уверует, что это порядочность и честность. Да, он такой… И тут я впервые задумалась о страшной гибкости Анатолия в жизни, не осознанной им самим: сам он никогда не видел этого, Даже обиделся бы, если ему сказать… Я перестала плыть; значит, все теперь зависит от меня, только от меня! И сразу же почувствовала, что не смогу, наверно, ни на что решиться. И ведь еще неизвестно, любит ли меня Олег. Но даже если и так, разве я могу отказаться от всего того уверенного и благополучного, что связано с Анатолием и чего я так желала, добилась с таким трудом?
Олег лежал на воде рядом, по-мальчишески прижимая к ней раскрытые глаза. Он улыбнулся, заметив, что я смотрю на него:
— На границе двух миров!..
И я, забыв обо всем, тоже попыталась увидеть одновременно и небо, и солнце, и мутно-зеленую толщу воды. Глазам было щекотно, в них расплывались радужные круги. На миг я потеряла всякое ощущение реальности, у меня чуточку закружилась голова, и я невольно схватилась за руку Олега, а он готовно вытянул ее, поддерживая меня. Мы смеялись, он что-то говорил, а я все держала его за руку и терла другой рукой глаза. Он был теперь совсем таким, как я сама сейчас. Этого, нельзя было объяснить словами, но это было так. И опять-таки с Анатолием у меня никогда не бывало такого ощущения, хотя я совершенно не могла представить себе, что именно сделает Олег в следующую минуту, а почти все поступки Анатолия были известны мне наперед.
Олег чуть шевельнул рукой, я смутилась и отпустила его руку, быстро поплыла вперед. И Олег снова был рядом, смотрел на меня и улыбался. Мы еще долго плыли, пока берег совсем не превратился в тоненькую желто-зеленую каемочку. Никого вокруг не было, только небо, солнце, вода и Олег. И счастье… Я даже перестала чувствовать, что оно немножко ворованное. У меня, конечно, а Олег тут ни при чем, он ведь никого не обманывал. Да, может, и не понимал еще всего, что я уже тогда понимала.
Вернулись мы к обеду. Все наши сидели под кустами и ели. И смотрели на нас издали. «Теперь-то уж всем все ясно», — подумала я. Олег предложил:
— Пойдем поедим?..
— Сейчас, сейчас, — ответила я и побежала к тем кустам, около которых раздевалась.
Только здесь почувствовала, как замерзла. Схватила полотенце, стала растираться. Так что же теперь будет?.. Узнает Анатолий… Лучше всего, конечно, вернуться с таким видом, будто ничего не произошло, смеяться, шутить. Подумаешь, поплавала с лучшим другом жениха, дело обычное… Но как только представила себе Вагина и его улыбочку, почувствовала, что не смогу таиться, лгать. Может, не подходить к Олегу, не разговаривать с ним?.. Даже испугалась! И вот тут-то я поняла всю разницу между моим отношением к Анатолию и тем, что возникло у нас с Олегом. И поразилась: сколько ума, сил, даже хитрости потребовалось мне, чтобы построить здание своего будущего благополучия с Анатолием, а оно оказалось таким непрочным, что зашаталось от первого толчка и того гляди, вообще развалится. А что я тогда буду делать?.. С Анатолием все ясно, прочно, а с Олегом… Если он даже и любит меня, то как еще сложится наша жизнь? Я подумала: с ним все может оказаться не очень-то просто, не так, уверенно, как с Анатолием, а главное, мне самой придется измениться, и Олег никогда и ни в чем — это я очень ясно понимала — не подчинится мне, как это делал Анатолий. Постояла, отложив полотенце, прислушалась к себе; радостно и испуганно покачала головой: нет, ничего не могу с собой поделать, это будет просто горе, если я откажусь от настоящего счастья!..
Выгодский — он со своей девушкой сидел в сторонке — сказал:
— А здорово вы с Олешкой заплыли, даже не видно было.
Выгодский открывал бутылку вина, его знакомая осторожными движениями, точно притрагиваясь к горячему, раскладывала на газете бутерброды, произнесла в нос:
— От водного спорта очень толстеешь… И вода холодная.
А интересно, как они относятся ко всему этому? Сказала, будто между прочим:
— Олег очень хорошо плавает,
— Ты бы посмотрела, как он в баскет кидает, — восхищенно ответил Выгодский.
— Импозантный мужчина, — подтвердила девушка и добавила: — Спорт очень показан мужчинам, а вот женщинам совсем наоборот: грубит.
Ничего они не понимают. Или считают, что все происходящее у меня с Олегом в порядке вещей? Я решила проверить:
— Вагин вот все надо мной смеется…
— Завидует, песочник! — засмеялся Выгодский. — А ты молодец, не теряешься. — И пояснил: — Начальника-то нет. — Это он про Анатолия. — Да и разве Олешку можно сравнить с ним?.. Верно, Том?
— В мужчине не красота важна, — солидно ответила Том.
— А что же? — спросила я.
Можно было подумать, что это не девчонка восемнадцати лет разговаривает, а моя мама. Неужели теперь школьницы-отличницы такие пошли?.. Ах да, ведь она же устраивается на работу.
— Это как к кому подходить, — ответила Том и впервые подняла на меня глаза, невинные и ясные. — От мужа требуется солидность и положительность, он ведь на всю жизнь. А любовник, конечно, должен быть прежде всего красивым.
— Железно! — подтвердил Выгодский. Вот так дела! С этими можно говорить начистоту. Я спросила:
— Ну, Том, а в Колике вы кого видите?
— Пока мы любим друг друга, — просто объяснила она. — Он ведь еще лаборант, да и я школу только в прошлом году окончила.
— Ну а дальше?
Она пожала плечами, отхлебнула из стакана вина, с аппетитом вгрызлась в бутерброд, не ответила, будто забыла и о моем вопросе, и обо мне.
— Там видно будет, — беззаботно проговорил Колик и протянул мне стакан.
Я взяла стакан. Ничего себе Том, а со стороны глянешь на такую — институтка старых времен!
В это время Яков Борисыч сказал у меня за спиной:
— Привет честной компании! — Наклонился, взял за горлышко бутылку, засмеялся: — Это не по-товарищески, мы тоже жаждем.
Том молчала, словно ее шокировала такая бесцеремонность Якова Борисыча. Колик поспешно выпил вино из стакана — кадык на его худенькой шее судорожно дергался, — протянул стакан Якову Борисычу:
— Прошу.
— Ну зачем же так быстро и начерно? — опять засмеялся Яков Борисыч. — Да и от своих отрываться негоже. Пошли, пошли!..
Выгодский послушно встал, двинулся первым, обернулся к девушке. Она тоже — делать нечего — лениво поднялась, собрала бутерброды, отправилась вслед за ним, храня на лице холодную замкнутость. Я все делала вид, что тоже собираюсь. Яков Борисыч сказал:
— Бери свою еду, и — к нам!
Я смущенно посмотрела в его доброе лицо:
— Да я завтрак забыла…
— Тем более! — И пошел неторопливо.
Я видела сутулую спину, движения стареющего, усталого человека, и — в тот день я будто прозрела — от всего милого облика Якова Борисыча на меня повеяло такой человечностью, доброжелательством…. Как же я всего этого раньше не видела в нем?.. И мне сразу стало легко и покойно: если Яков Борисыч в общей компании, со мной ничего не может быть плохого, даже Вагин не посмеет надо мной смеяться!
15
— Дисциплина воспитывается прежде всего строгостью, — говорил Вагин с набитым ртом, старательно намазывая маслом новый кусок хлеба. — Затем — привычка к труду. Дисциплина и размеренный труд — все остальное для молодежи вторичное. — Лицо его раскраснелось от выпитого вина, густые капельки пота усеяли мясистый лоб.
Но я-то уже догадывалась, что этого все-таки мало. Достаточно, чтобы жить хорошо материально, но для счастья мало. Да и некоторые плохие люди работают хорошо и безукоризненны в своем внешнем поведении. Олег, словно прочитав мою мысль, подтвердил:
— Идеальное сочетание дисциплины и размеренного труда — автомат.
И этого у нас с Анатолием тоже, в сущности, не было: Олег часто говорил то, что я сама хотела бы сказать, только у него получалось лучше.
Коробов — он, наверно, ехал в другом автобусе и сейчас возвышался этакой горой мускулов, хоть выпускай борцом на ковер, — в тон Вагину гудел своим грубым басом:
— Поменьше надо цацкаться да уговаривать. — Он презрительно косился на Выгодского с Томом; Колик без тени смущения обнимал ее за плечи. — Сказал раз — не понимает, надо поучить! — У него на скулах появились крепкие желваки величиной с пинг-понговский шарик: приехал он без жены, как и Вагин.
Яков Борисыч оказал:
— Настоящий капиталист тоже дисциплинирован и умеет трудиться. — Он как бы невзначай снял руку Колика с плеч Тома — те безразлично подчинились, они вообще были какие-то ватные — и договорил: — А музыку, например, понимать палкой не научишь, хотя Виктор Терентьич прав: настоящим музыкантом, не будешь, если не умеешь трудиться.
Павел несмело подвигал Жене бутерброд с колбасой. Она сидела вытянувшись, глядя на залив, машинально вертела в руках яйцо. Неожиданно она сказала:
— А я бы в школе ввела курс по воспитанию чувств. Чтобы человек не тыкался, как слепой, не ошибался и все видел. — И не посмотрела на нас с Олегом, хотя наверняка все это говорила для него.
— Еще этому в школе учиться! — фыркнула Том. — Представляю, как бы опошлили все.
— Вас пошлости учить не надо, — ответил Коробов. — Вы сами научите!
Вагин, не то пытаясь сгладить грубость Коробова, не то просто насмехаясь, признал:
— Мало вас в школе учили, Томочка, мало. — И заговорил уже серьезно: — А вот если бы это дело было поставлено так же солидно, как, например, преподавание литературы, ну, там с программами и методикой, можно было бы и чувства воспитать за милую душу! — уже твердо, даже угрожающе закончил он.
Мягкое лицо Якова Борисыча сделалось, холодным, отвердело. Он сказал:
— Инструкция по воспитанию чувств. Это и звучит-то пародийно. — Он смотрел на Вагина и словно говорил ему одному. — Какой же это педагог, если он не может просто, по-человечески, разобраться в душевной жизни ученика, помочь ему воспитать в себе здоровую целомудренность, умение владеть своими чувствами, воображением, возникающими желаниями?
Том лениво поднялась, медленно отошла, легла на песок, начала деловито заклеивать кусочком газеты нос. Колик немного подождал и пошел к ней.
Вагин язвительно смотрел на Якова Борисыча: дескать, распинаетесь, а им наплевать…
Со мной же все получилось гладко: я подошла, села, меня угощали, никто словом не обмолвился о нашем с Олегом заплыве. Правда, Вагин начал было улыбаться, но, глянув на Якова Борисыча, стал говорить о другом. А я все время чувствовала, что Олег чуточку смущается. Ела чьи-то бутерброды, молчала и боялась, что все заметят, как я бесстыдно счастлива…
А Павел все молчал, как во сне: тоже счастлив, что Женя рядом! Вагин заулыбался, раскрыл уже рот — Коробов чуточку растерянно смотрел на него, — в это время Лидия Николаевна крикнула из-за кустов:
— Ау, сердешные! Сюда!
Я глянула на Олега, встала, пошла к ней. Прислушалась: нет, он не шел за мной. Неужели ему этот разговор интереснее? -
За кустами под сосной расположилась вся династия Антиповых во главе с Николаем Ильичом, а перед ними суетился наш фотограф — старичок Блинков.
— На отдыхе… — бормотал он с профессиональной живостью. — В стенную печать… Рабочая семья на отдыхе…
Я успела услышать, как Игнат Николаевич говорил Лидии Николаевне:
— Чего ты базар собираешь? Снимемся одни, а после можно…
— Родственнички, Игнаша культ семьи создает, массами пренебрегает! — насмешливо отвечала она.
Я остановилась.
— Погоди, Коза, — перебил ее Николай Ильич. — Игнат дело говорит: нам стыдиться нечего.
Маленький и сухонький, он сидел посередине, по-старомодному одеревенев перед аппаратом, положив на острые колени тяжелые узловатые руки, выгнув узкую грудь. И строго, пристально смотрел в аппарат. Игнат Николаевич привычно приосанился, сделал значительное, как у начальника, лицо. Его жена, тоже с достоинством глядевшая в аппарат, и Лидия Николаевна, худенькая, как девочка, сидели по краям. Интересно бы дома у них побывать. Лидия Николаевна живет одна, я у нее была. Маленькая чистенькая комнатка, но какая-то по-мужски голая: кровать, стол, шкаф. Была у Лидии Николаевны любовь, он погиб в войну, а она после замуж так и не вышла…
За кустами все спорили, оттуда долетал голос Олега. Так и не пошел за мной… А Анатолий бы пошел? Пошел бы. Сначала сделал бы так, чтобы спор окончился достойно и чтобы я тоже не уходила, а потом вместе бы и пошли… А с Олегом будет трудно, ох как трудно! И комната, у него одна, двенадцать метров, и тетка-пенсионёрка тут же. Старая брюзга, наверно… Но вспомнила, как мы с Олегом плыли, увидела его лицо, глаза, и в груди у меня сладко заныло. Что же это делается со мной? Чудеса, да и только… А может, это и есть любовь?.. Что же теперь будет?..
Лидия Николаевна заметила меня и подошла к кустам.
— Слушай-ка… — каким-то странным, строгим и одновременно сочувствующим голосом сказала она и взяла меня за локоть.
Я встретилась с ее глазами, отняла руку.
— Ты что это задумала, а?! Сфинкс!.. — Последнее слово она выговорила медленно и презрительно.
А мне вдруг стало до того горько, как ни разу еще в жизни. Я отвернулась:
— Не знаю…
Она долго молчала. Снова взяла меня за обе руки, повернула лицом к себе. Глаза ее на секунду стали растерянными, потом потеплели.
— Вон оно что!.. — удивленно, раздумчиво проговорила она.
— Тетя Лида! — неожиданно для себя воскликнула я. — Что же мне делать?
— А ты уверена?
— Кажется…
— А Олег? Да это и неважно… Трудное у тебя положение. Но ведь сама виновата? Сама.
Я считала, что с Локотовым у тебя… Он-то ведь тебя любит. А ты?
— То люблю, а то нет… Вообще-то он мне очень нравится.
Глаза ее снова стали строгими, она покачала головой:
— Что за молодежь теперь? Мы, бывало, уж если любили, так любили, ни о чем не думали! — Она часто-часто закивала, что-то вспоминая, и лицо ее сделалось отсутствующим.
Я ждала. А она безжалостно договорила:
— Локотова ты, Татьяна, закрутила из чистой выгоды. Молчи, молчи, я знаю! А теперь должна твердо решить — или так, или этак, поняла? Чтобы честно!
— Да…
— Труднехонько тебе, девонька, придется. Подумай хорошенько и решай. Сразу! — Она пошла, вдруг обернулась: — А то еще, гляди, Олегу жизнь испортишь! А ему голова для работы нужна…
Я осталась стоять у кустов.
Всем хорошо!.. Все отдыхают, веселятся… Даже Лида-маленькая и Галя кокетничают с какими-то парнями, смеются так, что в Кронштадте слышно… А Олег точно совсем забыл про меня. Или, может, у нас ничего и не было, я все выдумала? И со страхом поняла — Лидия Николаевна права: если даже у Олега ко мне и ничего нет, мне-то все равно не избавиться… Ох, почему со мной случилось такое… А дома что скажут у меня и у Анатолия?..
— Таня, идите к нам, — позвала меня. от дальних кустов жена Туликова. Я пошла…
Люба сидела, стыдливо засунув костыли под коврик, прикрыв халатом ноги. Смущается она своего несчастья, вот почему они уединились. Туликов читал какой-то учебник, настырный парень. И они Люба, порозовевшие на воздухе, казались сейчас особенно нежными, хрупкими. Она сказала, сияя огромными глазами, точно сразу поняла, что со мной творится, и предлагала мне помощь:
— Сюда, сюда садитесь, устраивайтесь поудобнее.
Я села. Туликов не посмотрел на меня. Люба сказала:
— Я первый раз в это лето за городом… А вы как-нибудь к нам бы зашли. В городе… Я ведь все дома и дома…
— Спасибо, Люба.
— Заходи, Тань… — проговорил и он, не поднимая головы от книги.
Так Светка меня называла — Тань…
— Спасибо, Боря.
Он взглянул на Любу, и они понимающе улыбнулись друг другу. Дома она, наверно, старается смягчить его обычную злую насмешливость, помогает преодолеть его недоверие к людям. И он понимает это, ценит. И вот сейчас он тоже пригласил меня, догадался, что это будет приятно Любе, и она молча, улыбкой поблагодарила его за это приглашение. Мне даже стало немного стыдно: я, такая здоровущая на вид, а внутри слабее этой больной женщины, так много, наверно, настрадавшейся, но сумевшей понять Туликова, заставившей его постоянно и крепко любить себя. И умеет помочь ему и даже поправить в чем-то. Раньше я удивлялась, как это Туликов живет с этой неизлечимо больной женщиной. Но теперь неизвестно, кто из них душевно здоровее. Он, наверно, совсем опустился бы без нее, может, и водку начал бы пить. Поняла я и то, почему все в лаборатории прощали Туликову его злые насмешки, которыми он, видно, хотел прикрыть свою уязвимость, как мальчишка, первым лезущий в драку с более сильным товарищем: вдруг тот испугается и убежит? И вспомнила, как Яков Борисыч рассказывал в столовой, что в блокаду Туликов трое суток пролежал засыпанный под развалинами дома рядом с мертвой матерью. А после скитался по детдомам, пока в одном из них не познакомился с Любой. Вот ведь что пришлось пережить людям, а ничего, справились, нашли в себе силы, даже счастливы… И я как дура, перебивая говорившую что-то Любу, смотревшую на меня с доброй, ласковой и понимающей улыбкой, снова невпопад повторила:
— Спасибо!..
Люба замолчала. Туликов поднял от книги голову. И оба они засмеялись…
А дальше все получилось здорово! Подошел Олег, я молча встала, мы взялись за руки и пошли. Дошли сначала по дорожке в гору, потом свернули и шли уже по траве, высокой и теплой, а вокруг были редкие деревья. И мне ничего больше не надо было. И Олегу, я теперь знала это, тоже… Мы легли на траву, прижались друг к другу плечами. Я опустила подбородок к самой земле. И Олег тоже. Сразу стало как в джунглях: травинки превратились в высоченные деревья, цветы, как пальмы, упирались в небо, переломанные веточки были непроходимым буреломом. Вдруг на поляну, тяжело переваливаясь, вышел жук величиной со слона. Я упала в обморок, а Олег кинулся к чудовищу. Потом жук держал меня в лапах и летел высоко в небе, а Олег бежал внизу, в диких зарослях, задирал ко мне голову, что-то кричал, спотыкался, падал… Потом я лежала на земле, а Олег, схватив огромный ствол дерева, шел прямо на жука, бил его, как тараном. Жук упал, Олег подбежал ко мне, опустился, рядом, обнял…
Я повернулась к Олегу, увидела его лицо, точно такое же, как там, в джунглях, когда он спас меня, и мы поцеловались…
16
Я влетела к нам домой. Альма, радостно повизгивая, ткнулась мордой мне в колени. Я присела, стала гладить ее, щелкнула по носу.
Она вывернулась, лизнула меня в щеку. Я обеими руками сжала ее голову и прошептала в мохнатое ухо:
— Подожди, я тебя с Олегом познакомлю: он тебе понравится! Ох как здорово все!..
— Иди молочка попей, — сверху, из окна, негромко сказала мне мама.
Она, задержав в руках спицы, смотрела на меня, удовлетворенно улыбаясь. Из-за ее спины выглядывал отец и тоже улыбался мне глазами. Он сказал:
— Брось ты собаку тискать, три-четыре, перемажешься…
А на лице у мамы было написано: «Ничего, ничего, все это понятно…» Я сообразила, что за время нашего знакомства с Анатолием они впервые видят меня такой откровенно счастливой и рады, что все идет хорошо и я отношусь к нему, как должно, если так довольна поездкой. Но эта мысль об Анатолии мелькнула и тут же исчезла.
Я взбежала по лестнице, кинулась к маме, стала целовать ее.
— Ну, ну, ну, — ласково бормотала она, гладя мою голову. — Вот и хорошо, вот и хорошо. У Локотовых ужинала?
Я села к столу и только теперь почувствовала, как проголодалась. Молоко было холодным, а хлеб мягким, пахучим.
— Ну и ешь ты, Танюшка, три-четыре, — удивленно проговорил отец. — Будто за плугом ходила.
— Ты у Локотовых ужинала? — помолчав, повторила мама.
— Я у них не была. Ну и молоко!
— Поздно вернулись?
— Ага…
Молоко и хлеб кончились, а я, кажется, не наелась. Отодвинулась от стола, закинула руки за голову, потянулась всем телом, чувствуя приятную усталость. Никогда еще не было мне так легко.
— Анатолий провожал тебя? — спросила мама.
— А?.. Он вообще не ездил…
Мама настороженно смотрела на меня, отец поднял голову от колодки, — он прибивал набойки к туфле.
— Где ты была? — уже строго спросила мама.
— Мы всем КБ ездили в Комарово.
— Анатолию ты хоть позвонила, как вернулась?
— Не-а… Вы бы знали, как хорошо все было! Они молчали, вглядываясь в меня.
— Сейчас же иди на станцию и позвони ему, слышишь?
— Спать охота…
— Ну! — повторила она.
— Да ничего с ним не случится… Завтра в лаборатории увидимся.
Мама смотрела на меня сузившимися глазами. Ноздри ее раздулись.
— Ну хорошо, хорошо, — сказала я, медленно поднялась и пошла.
— Срочный закажи, если что! — в спину мне приказала мама.
Во дворе Альма опять запрыгала вокруг меня. Я взяла ее с собой. Вырвавшись на свободу, Альма заметалась по улице. А я пошла потихоньку. Шуршали под ногами хвойные иглы; в стеклах дач синевато отсвечивала луна; редкий невысокий штакетник заборов рябил в глазах, был точно присыпан сероватой пудрой; неподвижные лапы сосен казались таинственными. Было очень тихо, только вдали чуть гремела электричка да по-ночному лаяли собаки. И я ни на один миг не забывала, как лежали мы с Олегом в траве и целовались. И до сих пор чувствовала его губы, руки, видела его лицо — растерянное, счастливое, родное. Потом мы вернулись к нашим, но все равно были связаны с Олегом невидимой нитью. И нам было совершенно безразлично, как, например, смотрит на нас Вагин… Мы с Олегом отстали от автобусов и поехали в битком набитой электричке, смеялись, пели вместе со всеми, и все-таки были только вдвоем.
— Девушка, — тихо попросил вдруг чей-то голос. — Возьмите собаку…
Около забора стояли парень с девушкой, крепко обнявшись. Головой она прижималась к его груди. И мне захотелось, чтобы они были счастливы, обязательно счастливы. Я сказала им;
— Не бойтесь, она не кусается.
Альма подбежала ко мне, и только тут я увидела, что стою на станции. И вспомнила, зачем пришла сюда. И странное дело, ничуть не удивилась, что после всего случившегося буду звонить Анатолию. И что вообще он мой жених, а я его невеста и у нас уже решено со свадьбой: все это было из другого мира и не имело никакого значения. Деловито подумала, что идти на переговорный пункт не стоит, там, может, еще очередь, а если на станции дежурит Катя Липачева, то я и отсюда позвоню; быстрее и бесплатно. И пошла в здание. Катя в форменной фуражке сидела за столом и читала книгу. Улыбнулась мне:
— Где выходной провела? — И потянулась на стуле.
— В Комарово ездила… Позвоню?
— Ага… — И очень заинтересованно спросила: — Свадьба скоро?
И я ответила то, что и было решено у нас с Анатолием:
— Ему, понимаешь, надо еще кое-что с диссертацией провернуть…
Катя завистливо смотрела на меня.
— Таня? — Голос Анатолия был чуть взволнованным, или мне просто показалось; может, Вагин уже успел позвонить ему. Но меня это ничуть не встревожило. — Почему ты к нам с вокзала не заехала? — помедлив, спросил он.
— Очень устала, а тут сразу же мой поезд подошел.
Он помолчал и вдруг глухо спросил:
— Хочешь, я сейчас к тебе приеду?
— Зачем? Не надо. Завтра ведь на работу.
— Таня!.. Таня!.. — сказал он. — Что там у вас с Олегом случилось?
Голос у него был как у мальчишки, готового вот-вот заплакать.
Катя с откровенным любопытством смотрела на меня и слушала.
— Таня, ради бога, ты же понимаешь!.. Я не могу заснуть. И мама…
— Вагин уже наговорил? Ты бы получше друзей себе выбирал!
Я даже не рассердилась на Вагина, это ведь тоже было какой-то плывшей мимо меня мелочью. Как, впрочем, и само беспокойство Анатолия. И все-таки мне почему-то надо было, чтобы он перестал мучиться, и я сказала, перебивая его и не слушая:
— А с кем же мне было и купаться, как не с Олегом? Он ведь твой друг. С Вагиным, что ли, или со стариком Антиповым?
Анатолий постепенно успокаивался. Я сказала:
— Ну, до завтра. Спокойной ночи. Привет родителям передай. От меня и от моих стариков.
— Подожди… Спокойной ночи. Целую!
— Целую.
Я положила трубку, кивнула Кате и пошла.
— Постой, — попросила она; я обернулась; Катя прямо-таки сгорала от любопытства: — А когда твой Анатолий целуется, у него тоже бугры на щеках? — И пояснила: — У него, когда он улыбается, щеки как у кролика.
— Ага.
И мы обе весело захохотали. Смотрели друг на друга, раскачивались и смеялись до слез…
Мама не спала, ждала меня. Торопливо спросила:
— Ну?
— Все в порядке. — И я длинно, со всякими подробностями, которые были и которых не было, рассказала ей о разговоре с Анатолием.
— Ну, ложись спать.
Я разделась, легла, тотчас вспомнила Олега и все счастливое, что теперь у меня было, начала улыбаться и сразу же заснула.
Вышла утром с вокзала в городе и стала искать глазами Олега. Медленно пошла к автобусной остановке: решила обязательно дождаться, встретиться с ним.
Встала в очередь и почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Заулыбалась до ушей: ясно, Олег!.. Не поднимая головы, повернулась, шагнула назад и в шутку произнесла:
— Стыдно, молодой человек, так себя вести! — И подняла лицо: передо мной стоял Анатолий. Он удивленно мигал, но тут же растерянное его лицо стало твердым, даже злым; а я, еще не в силах скрыть разочарования, протяжно договорила: — Ах, это ты!..
Он, конечно, сразу все понял, подтянулся, коротко сказал:
— Пойдем!
Я как привязанная двинулась за ним. Мой счастливый сон кончился, теперь надо было решать. Сразу же, как говорила Лидия Николаевна. Я смотрела на прямую, напряженную шею Анатолия, понимая, что это уже не тот растерявшийся мальчишка, который вчера разговаривал со мной по телефону: за ночь он все обстоятельно, как он умеет, обдумал, посоветовался с Софьей Сергеевной, и теперь его ничем не собьешь. И постепенно я сама становилась прежней, такой, какой была до всего, что случилось у нас с Олегом, и вдруг смутно ощутила, что делаюсь хуже. Непонятно, чем и как, но хуже… Все счастливое, связанное с Олегом, продолжало жить и биться во мне, но, хотя Анатолий был сейчас особенно некрасивым, каким-то выутюженным, я со страхом чувствовала, что не смогу противиться всему этому. Что я сама такая же, как Анатолий… Мне стало так больно, что я в голос разрыдалась. Села на скамейку, обхватила голову руками и закачалась из стороны в сторону. Я плакала и плакала, а Анатолий молча, терпеливо сидел рядом. И ничего не говорил мне, не утешал, не двигался.
Кое-как успокоившись, я достала из сумочки платок, подняла к Анатолию лицо. Он, белый как мел, сидел прямо, не касаясь спинки скамейки, и смотрел перед собой. Пальцы его непроизвольно шевелились… Так мы сидели молча, и, странный я человек, образ Олега начал как бы отодвигаться от меня, а все то благополучное, устойчивое, что связывалось с Анатолием, с моей жизнью с ним, становилось по-прежнему заманчивым, значительным и дорогим. И я даже чуточку испугалась, что вот ведь могла так просто и быстро потерять все это. Анатолий сидел, напрягшись как струна. Я поняла, что он ждет моего решения и мучается. Я уже знала, что скажу сейчас Анатолию, но не торопилась: пусть помучается еще. Мне плохо, виноват в этом он, ну и пусть помучается. Конечно, я не догадывалась тогда, к какой страшной отчужденности все это может нас привести. И сказала наконец:
— Ну ладно, все, забыли!
Анатолий вздрогнул, ткнулся мне лицом в колени, что-то бормоча, захлебываясь, сразу потеряв свою железную подтянутость, не обращая никакого внимания на идущих мимо людей, — я никогда еще не видела его таким: это была почти истерика.
Я гладила его по голове, тихо приговаривая:
— Ну, ну, успокойся; успокойся… Люди смотрят. — Но теперь, кроме жалости и превосходства над ним, я испытывала еще легкое презрение к его откровенной слабости: он будто просил милостыни. — Да перестань же ты!
Он поднялся, блаженно улыбаясь, и я, конечно, сразу увидела эти кроличьи желваки на его щеках.
— Милая!.. Все по-старому, да?..
— Все. — Я поцеловала его. — Идём на такси, а то опоздаем.
Он послушно шел рядом, неотрывно глядя мне в глаза, спотыкался, наталкивался на встречных.
Мы сели в машину, Анатолий взял меня под руку, прижался. И я видела, что он верит мне. Но когда мы подъезжали к лаборатории, он спокойно проговорил:
— Ты иди прямо в чертежку: я скажу шефу, что вы с Антиповой больше не нужны мне.
Действительно, еще в начале той недели мы кончили калькировать чертежи центрифуги, и я догадывалась, что Анатолий держит меня в лаборатории только для того, чтобы я был; рядом.
— Хорошо…
— И сегодня же вечером сходим в загс, узнаем порядки насчет регистрации.
— Хорошо…
Все уже обдумал…
— И вечером к нам обедать.
— Хорошо…
Вот все и вернулось к прежнему…
Пришла в чертежку, села за свой стол. В нашем чистом и светлом зале все было по-старому: так же галдели девчонки, взахлеб рассказывая о вчерашней поездке, так же морщила свой носик круглолицая веснушчатая Лида-маленькая, кричала Гале:
— Тот рыжий, еще б минутка, в любви мне объяснился! Что?!
Долговязая, некрасивая Галя, не слушая ее, увлеченно говорила:
— Я этому моряку представилась для солидности зубным врачом, а потом забыла и брякнула: «Я сейчас уже узловые чертежи калькирую!» Он глаза вылупил, а я ему давай втолковывать, что теперь зубные протезы по чертежам в серийном порядке выпускают. Поверил, дурачок!..
Мне становилось все легче. Анатолий и на этот раз правильно все рассчитал. Девушки уже знали о наших с ним отношениях, косились на меня, кто завистливо, кто просто с любопытством. Я молчала. Пришла из лаборатории Лидия Николаевна с нашим инструментом, ничего не спросила у меня, только глянула внимательно. И я была благодарна ей, что она ничего не сказала девушкам о нашем внезапном возвращении в чертежку. Я аккуратно разложила инструмент, приколола поверх какого-то чертежа лист кальки и стала усердно работать. От механических, однообразных движений я почти совсем успокоилась, только все никак не могла понять, что именно я калькирую. Не знаю, сколько прошло времени, помню только, что это было до обеда, меня кто-то позвал к телефону. Подошла, взяла трубку, и вдруг всю меня от затылка до пяток словно кипятком обдало: Олег весело — я еще успела удивиться, но тут же сообразила, что о моем разговоре с Анатолием он ничего не знает, — говорил мне:
— Танька-Встанька, поедем после работы купаться? Погода-то сегодня, а?..
И засмеялся. И все сразу стало вчерашним, счастливым, ярким, а то, что связано с Анатолием, куда-то исчезло, пропало, и мне задышалось легко и вольно. И я не могла слова сказать, только смеялась и смеялась ему в ответ как дурочка. И была согласна на все, что бы он ни предложил, хоть пешком на Северный полюс идти. И вдруг закричала в трубку на весь зал:
— У меня с Собой купальника нет!..
Мы еще о чем-то говорили, и я, все смеялась, в чертежке перестали работать и смотрели на меня, и в конце концов мы с Олегом договорились — от радости я все никак не могла взять в толк, где мы увидимся, — сразу после работы ехать купаться.
Шла я к своему месту как по воздуху и блаженно улыбалась.
Лидия Николаевна тихонько спросила меня, нагнувшись к самой доске:
— Олег?
— Ага…
— Ну, слава богу! — облегченно выдохнула она, вдруг придвинулась ко мне, обняла за плечи, шепнула на ухо: — Ты прости, что я раньше плохо о тебе думала. — И спросила с таким отчаянием, точно от этого зависела вся ее жизнь: — Ладно, Танюшка?!
— Что вы, тетя Лида!.. — И я ткнулась носом ей в плечо.
17
Первой выбежала я из чертежки, завернула за угол к аптеке: Олега не было. Сейчас подойдет… Глядя в стекло витрины, я стала поправлять волосы. Куда мы, интересно, поедем? Да все равно куда, ведь Олег будет рядом!
И тут раздался голос Анатолия:
— Вот ты где… А я ищу, ищу!
Я так испугалась, что не могла пошевелиться. Подумать только: я совсем забыла о его существовании… Из груди уходило что-то теплое, живое, во рту делалось горько, сухо…
— Пообедаем или сначала в загс?
— Хорошо…
— Сначала пообедаем? — уже чуть тревожно переспросил он.
— Хорошо…
— А загс не закроется? — Он перестал улыбаться.
— Танька-Встанька!.. — весело крикнул Олег, выбегая из-за угла; я резко обернулась, невольно шагнула ему навстречу. Олег увидал Анатолия, смутился и шел теперь к нам все тише, тише, уже только по инерции.
Лицо Анатолия будто окаменело в презрительной гримасе: он свысока, почти с отвращением смотрел на Олега. В эту минуту я подумала, что Анатолий скорее всего заранее предусмотрел возможность подобной встречи и заготовил даже это выражение лица.
— Ну, знаешь ли! — возмущенно проговорил Анатолий и двинулся к Олегу, сжимая кулаки. — Всего мог от тебя ожидать!.. — И по-петушиному тонким, срывающимся голосом вскрикнул: — Это мерзко, низко, грязно! — Он смешно выгибал грудь и приподнимался на носках.
И тут лицо Олега стало спокойным, а в глазах появились смешинки. И тотчас я еще отчетливее увидела всю напыщенную оскорбленность Анатолия, у которого украли то, что он уже твердо считал своим, — меня, и еще злее осудила его за несдержанный крик, зачеркнувший всю его воспитанность. Насмешливое выражение лица Олега помогло мне ясно увидеть разницу в их отношениях друг к другу. Да и способен ли Анатолий вообще на настоящую дружбу?..
— Ты подлец! Подлец!.. — У Анатолия тряслись руки. — За такое морду бьют!
— С этим успеется, — спокойно сказал Олег и вдруг горестно, горячо спросил: — Ну за что ты на меня так?! — И облизнул вдруг пересохшие губы. — Давай поговорим как следует…
Анатолий резко повернулся, угрожающе произнес:
— Хорошо! — И скомандовал — Пошли! — И быстро зашагал вперед, низенький, готовый решительно на все; весь вид его говорил, что он уверен в своей правоте и только по необходимости вынужден еще куда-то идти, о чем-то разговаривать. Интересно, а меня он все-таки за человека считает?
Олег посмотрел на меня, но в этом взгляде ничего нельзя было прочесть. Неужели я еще в чем-то виновата?!
Мы пошли за Анатолием. Я смотрела на Олега, а он все глядел вперед, лицо его было каким-то замкнутым. Мне стало больно и страшно и вдруг захотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Все равно как, только поскорее! Но у меня хватило силы не убежать. Анатолий свернул в какой-то скверик за низенькой решетчатой оградой, пошел прямо по куче песка, возле которой возились дети, сел на пустую скамейку, стал смотреть на нас… Мы с Олегом обошли детей — женщины что-то сердито говорили нам, — и он сел рядом с Анатолием, а я, чуть задержавшись, — по другую сторону Олега.
— Ну?! — позванивающим голосом требовательно спросил Анатолий у Олега.
Олег, нагнув голову, долго доставал из пачки сигарету, сунул пачку в карман брюк, достал коробок спичек, долго закуривал.
— Нечего сказать?! — с издевкой выговорил Анатолий. — Знаешь, как это называется?..
Олег поднял голову, внимательно посмотрел на Анатолия и наконец негромко, удивленно сказал:
— Мы же с тобой почти двенадцать лет… дружим, как же ты можешь со мной так разговаривать?
— А как же мне прикажешь с подобными… типами разговаривать? По головке гладить?!
— Ну вот что! — отвернувшись, уже как чужому, сказал ему Олег. — Можешь ты спокойно послушать?
— Я жду!
— Мы, понимаешь, с… Таней как-то утром ехали в автобусе, и я уже тогда…
— Меня эти детали не интересуют!
— И я тогда уже понял, — продолжал Олег, глядя перед собой, — что… что это не просто знакомство… Я, конечно, все знал о ваших отношениях, вернее, сразу же узнал…
— Ты не оправдывайся!
— И старался… погасить в себе это. Но у меня ничего не вышло… — Он снова посмотрел Анатолию в глаза: — Я люблю ее, Толька!
— Очень хорошо! Ну и что же?!
— Я, знаешь, долго мучался… Если бы она была твоей женой, я бы уехал куда-нибудь, что ли…
— А что меняется, если невеста? Или тебе бумажка из загса нужна? Законником стал? Иди-ка ты отсюда подобру-поздорову, — точно все уже решилось, вдруг спокойно сказал Анатолий. — Иди, иди, голубчик!
— Так! — медленно проговорил Олег, удивленно рассматривая его. — Джентльмен-то ты джентльмен, а по-мужски не можешь!
Анатолий вскочил, глаза его совсем скрылись под выпуклым лбом, он сжал кулаки.
— Я не об этом, — уже почти устало договорил Олег. — Думал, не придется ее вмешивать… Да сядь ты, сядь!
Анатолий медленно опустился на скамейку, напряженно отодвинулся.
— Нас трое, — сказал Олег.
— Она еще девчонка! — крикнул Анатолий. — У нее еще… много увлечений в жизни может быть!
— А если это не увлечение?
— Она моя невеста! — поспешно, будто боясь, что я заговорю, сказал Анатолий. — Это решено! Об этом все знают. Понимаешь, все! Один из нас двоих должен уйти!
— И этот благородный человек, конечно, я? Нет, не могу я этого сделать… Если бы мог…
— Не надеешься ли ты, что уйду я?!
— Подожди, давай поспокойнее…
— В этом вся моя жизнь! — вскрикнул Анатолий и даже руки прижал к груди. — Видишь, она молчит!.. — Он повернулся ко мне, глядя по-нищенски, умоляюще, как утром у вокзала, и одновременно значительно, словно хотел напомнить обо всем, что было у нас с ним.
Если бы он не смотрел на меня так, если бы я не видела его лица, если бы он не говорил так, я, может, отмолчалась бы. Но уж очень я устала… А Олег не двигался, не смотрел на меня. Я только видела, как у него побагровело ухо. И поняла: стоит мне только попросить, и он сразу же встанет и уйдет. И не оглянется. Навсегда уйдет! И опять смутно почувствовала, что Анатолий все равно вернется ко мне, чтобы ни случилось, вернется обязательно. А Олега я потеряю. Потеряю! Все задрожало у меня внутри. И я сказала:
— Я люблю Олега, Анатолий.
У Олега, будто солнце выглянуло, засветилось лицо. Я тихонько положила руку ему на колено, он тут же сжал ее своей ладонью. И я с ужасом подумала, что еще минуту назад, скажи я хоть слово, он бы этого не сделал. И больше никогда бы не сделал! И откуда-то издалека услышала хриплый, отчаянный крик Анатолия, и все не могла понять, чего он мечется передо мной. Наконец я расслышала — он кричал:
— Это предательство! Я не верю! Ты не можешь!..
Женщины с соседней скамейки с жадным любопытством смотрели на нас, и я, глянув на Анатолия их глазами, вдруг улыбнулась — так он был смешон. Эта моя улыбка окончательно взорвала его: он хотел ударить Олега, промахнулся и по инерции упал на него. Олег одной рукой — другую он так и не снимал с моей — уперся ему в грудь, медленно отодвинул Анатолия, помог ему выпрямиться и сказал:
— Ну и варварства еще в тебе, Толька!..
Анатолий сморщился, втянул голову в плечи, встал и пошел, раскачиваясь, как пьяный. Не разбирая дороги, он шел через кучу песка, женщины испуганно убирали с его пути детей. Зацепился плечом за столбик ограды у калитки, вяло приостановился, заплетаясь ногами, вышел на улицу и скрылся за углом дома.
— Жалкий какой!.. — сказал Олег. — Двенадцать лет его знаю… никогда бы не подумал…
— Он вообще скрытный… Он тебя ударил?
— Да нет…
Я погладила Олега ладонью по щеке. Мы поднялись и, крепко держась за руки, пошли. Опять обогнули кучу песка с детьми, прошли мимо замолкших женщин, вышли на улицу и зашагали куда глаза глядят… Толстая женщина, самодовольная и тупая, выпятив живот, вразвалку переходила улицу. Я была уверена, что и Олег видит ее сытое самодовольство. И тут же подумала: раньше я бы, конечно, тоже поняла, что она сытая, самодовольная, но отметила бы для себя и хорошее платье женщины, и дорогие, модные туфли, а для Олега ее платье и туфли не имели никакого значения, он видел только это сытое, нахальное, хвастливое довольство. Но я уже почему-то знала, что теперь и он будет замечать такие вещи, как платье и туфли, а я сама — оценивать каждого человека полнее и глубже… Так мы и шли из улицы в улицу, и неважно было, куда и зачем мы идем…
Потом вдруг оказалось, что мы с Олегом едем в электричке. К нам, в Мельничный Ручей. Наверно, ноги сами занесли меня на вокзал и в поезд, а Олег ни о чем не спрашивал, просто шел вместе со мной. Мы стояли в тамбуре, крепко взявшись за руки, глядя на пролетавшие мимо дома, деревья, лужайки.
Потом мы купались в озере, серо-багровом от вечернего солнца. А на берегу сидела Зинка со своим маленьким Витенькой и, ничего не понимая, смотрела на нас.
Вышли, вделись и медленно пошли вдоль озера, потом в лес. Было тихо; тени от деревьев тянулись через поляну. Мы вдруг легли, и произошло то, что происходит, когда, человек, томимый жаждой, увидит наконец оду. И весь мир стал таким дорогим для меня, и все, вся жизнь стала такой огромной и светлой. И я знала: Олег чувствует то же. Мы долго лежали не двигаясь…
А потом, будто по воздуху, перенеслись к нам в дом. Там были отец, мама — и Анатолий. И мы с Олегом ничуть не удивились, увидев его, словно именно так все и должно было быть, и он должен был приехать за нами в Мельничный Ручей, прийти к нам домой, сидеть и ждать нас. Только я все не могла вспомнить, зачем именно он приехал, не могла понять, почему кричит мама, почему суетится в комнате Анатолий, почему отец, сбычившись, молча сидит в углу. А когда сообразила, сказала им троим:
— Все уже. Все, понимаете? — И, взяв Олега под руку, повела его в свою комнату, закрыла на задвижку дверь. А мама все кричала, дергала дверь, и Анатолий стучал в нее…
18
Утром вышла из своей комнаты и очень удивилась, когда увидела маму, бледную от злости, услышала ее свистящий шепот:
— Иди-ка сюда!
Я остановилась, мама резким движением вдруг дернула полотенце, висевшее у меня на плече. Вслед за ней я вошла в их комнату. Отец сидел за столом, пил чай, не поднял головы.
— Что тебе? — спросила я маму, уже понимая, что происходит, и все же с удивлением глядя на ее осунувшееся за ночь лицо.
— Ах, ты еще не знаешь?! — Я не успела отшатнуться, мама влепила мне звонкую пощечину. — Теперь знаешь?
— Убедила! — насмешливо ответила я, потирая щеку, и подумала, что Олег сказал бы ей то же и так же вел бы себя; отец не шевельнулся.
— Тихо, бабы, три-четыре!.. — негромко сказал он, не вставая из-за стола, и приказал: — Сесть!
Мы с мамой сели у разных концов стола. Отец закурил, отодвинул стакан, поправил скатерть, поднял на меня тяжелый взгляд, медленно заговорил:
— Ну, Анатолий рассказал нам про этого… Олега.
— А уж он врать не будет! — быстро вставила мама.
Отец поморщился и, не глядя на нее, продолжал:
— Ну, Анатолий простит тебе все, это видно, три-четыре…
— Папа, я его не люблю, понимаешь? Я люблю Олега!
— Любишь — не любишь!.. — почти презрительно выговорил он. — Ты мне про любовь не толкуй; поумнеешь — сама поймешь, что к чему в жизни. Любовь дело пятое, простое: живут рядом два здоровых да еще молодых человека — вот между ними и любовь. Любовь эта самая и приходит, и уходит, и снова приходит. Будешь все время с одним человеком жить, так любовь зла, хочешь не хочешь, а полюбишь его! Дело обычное, три-четыре, житейские. Подожди, не встревай, ты меня слушай! Мы с матерью тоже не вечные… Ну, нам с ней этого, — он кивнул на дом и двор, — на нашу жизнь хватит. Да ведь и оно требует глаза и глаза. Попробуй, не подои корову хоть день… Подожди, мать! Ну, это ладно… А ведь Анатолий-то человек надежный! Надежный, вот ты что учти. Мы тебя вырастили, ничего не жалели, человеком сделали… Подожди, говорю! А ты чем нам с матерью платишь?! Мы все одна семья. Мы родные! Нам надо зубами друг за дружку держаться! Иначе проглотят, и оглянуться не успеешь! Вот она какая, жизнь, три-четыре…
— Я все понимаю, — тихонько сказала я. — Ты не думай. Я вас люблю. Я вам благодарна за все!
— Давно бы так! — сказала мама.
— Только у нас с Олегом… уже все было.
— Что-о-о?! — Мама привстала.
— У нас будет ребенок, — твердо ответила я.
Плечи у мамы затряслись, она закрыла лицо руками и зарыдала глухим, грубым голосом. Отец закуривал новую папиросу, спичка в его руке дрожала, он никак не мог попасть огоньком в папиросу. Мне было тяжело, больно смотреть на них, я никогда еще не видела их такими. Как во сне, цепляясь за пол ногами, я вышла из комнаты.
Пришла к себе, бесцельно потолкалась, вспомнила, что надо умыться. Делала это долго, неловко, измазалась зубной пастой. Наконец умылась, оделась, взяла сумку. Отец позвал меня. Я вошла. Он все еще сидел за столом, лицо у него было такое, будто он только-только вышел из больницы. Мама лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене. Отец сказал мне:
— Ну, теперь уж ничего не воротишь, дело сделано, три-четыре… Сама себе судьбу выбрала, сама и расплачиваться будешь. Только уж давай все по-законному, с регистрацией и прочее. Как у людей. Пусть он к нам приходит, этот… Олег. Да и люди пусть к этому привыкнут, нам по-петушиному не надо! — Отвернулся к окну, горестно выдохнул: — Вот уж чего не ждал от тебя так не ждал! Ну, Светка, та такая… Вот, мать, дети-то, три-четыре…
Мама ничего не ответила.
— Спасибо вам за все! — сказала я, подождала — они молчали; повернулась и пошла…
В городе на остановке у вокзала меня ждал Олег. Мы втиснулись в автобус. Когда дверцы уже закрылись, мы увидели, что по панели к автобусу бежит Анатолий.
— Вот черт… — досадливо и огорченно проговорил Олег.
— Прямо с ума сошел! — сказала я. — Как ты теперь у него в лаборатории будешь работать? Он тебе не будет вредить?..
Олег удивленно посмотрел на меня и засмеялся.
— Он ведь сильный, ты не думай, — договорила я.
— Не та у него сила. — Олег еле вытащил руку, зажатую между чьих-то плеч и ласково поправил мне волосы.
И сразу исчезло все неприятное, даже о разговоре с отцом и матерью я не сказала Олегу. Тесно в автобусе, прямо не вздохнуть, но никогда еще мне не было так приятно ехать.
В чертежке все уже знали о случившемся. Лида-маленькая и Галя смотрели на меня во все глаза со страхом и восхищением, точно я на Луну слетала.
— Смотри, девушка! — по-старушечьи сказала мне Галя. — Не пробросайся!
— У нее же любовь, как ты не видишь? — перебила ее Лида-маленькая и доверительно шепнула мне: — А мы все знали, что с Локотовым ты только время провести хотела. Ух и здорово, девочки!
Клара-Вертолет завистливо вздохнула:
— Этой Беловой и мечтать не надо: что только задумает — сразу исполняется. Счастливая!..
Лидия Николаевна тихонько спросила меня:
— Анатолий сильно психовал?..
И я неожиданно для себя откровенно и подробно рассказала ей и о разговоре между нами троими, и о том, что Анатолий приезжал к нам домой, и как утром поговорила с родителями. У Лидии Николаевны все время было ласковое и тревожное лицо, точно она старшая сестра мне. А я рассказывала и все про себя удивлялась, как это раньше я не видела, что она такой хороший человек, даже боялась ее. И вдруг поняла, что у меня появился настоящий друг. Лидия Николаевна сказала:
— Лидка с Галкой еще несмышленыши, Клара живет, как птичка божья порхает, ты на них внимания не обращай и не слушай. А что родителям правду сказала — молодец! У меня в жизни тоже было… Один в блокаду… предлагал мне любую еду, да я Серегу ждала. Лучше было умереть, а не запачкать наши отношения. И всю жизнь вот так бобылкой прожила, ни вдова, ни кинутая. Я тебе вот что скажу, Танюшка… Каждый в жизни к чему-то стремится. И мужики и бабы. Послаще да покрасивее каждому пожить охота. Ну, а неумелые вроде нашего Вертолета в мечтах живут. Есть люди, у которых большие цели. Стать ученым или бороться за мир и счастье на всей земле. И я долго мучилась, пока все у меня внутри не перегорело и не выплавилась главная сердцевинка… Я ведь по характеру как раз такой человек, что дай мне способности, и я бы обязательно что-нибудь серьезное сделала бы. Честное слово! Я еще в детстве думала, что великим человеком буду, смешно, да?.. И много мне пережить пришлось, прежде чем поняла, Что нет у меня для большого дела настоящих способностей. Думаешь, сладко мне было понять все это? Другая бы с горя во все тяжкие кинулась или обманывала бы себя. А я подумала как следует и поняла, что мое большое дело — просто быть хорошим человеком, честным и порядочным. Принципиально хорошим во всем и до конца, ты понимаешь? Это, если подумать, тоже дело немаленькое, да-да! И вот я смотрела на тебя, и, прости, прямо-таки с души меня воротило. Красавица, вижу, умница, в руках дело горит — и все это за сладкую жизнь продать готова! Не говори, не говори, я же знала, что ты Анатолия не любишь, видела! А ты поступила в точности по моей программе, понимаешь? И Олега держись, у него в науке искра божья. Ты не смотри, что я простая чертежница, я людей вижу, жизнь научила. И трудно тебе с ним будет, может, и холода-голода ты с ним даже натерпишься, а все равно держись до последнего. Это и есть твоя главная цель в жизни — помогать ему! В старости еще помянешь меня и благодарить будешь…
И мы с ней работали рядышком и весь день потихоньку разговаривали. А уж перед концом работы мне позвонила вахтерша из проходной и сказала, что меня вызывает какая-то женщина. И я побежала вниз…
Софья Сергеевна, маленькая и строгая, стояла в сторонке, и я снова отметила ее двойственность: она будто чуждалась проходивших мимо работников КБ и вместе с тем на лице у нее было такое выражение, что и она здесь не посторонняя: ее сын — начальник лаборатории. И была она точно птичка, яркая, хрупкая и изящная, и странно было видеть ее в грубой обстановке проходной. Я остановилась на лестнице, глядя на нее и решая, идти мне к ней или нет. Анатолий, значит, всю семью мобилизовал. Но все равно, в том, что Софья Сергеевна пришла ко мне на поклон, ждет меня и хочет поговорить, было что-то некрасивое. Олег бы никогда не разрешил своей матери, если б она у него была, вот так прийти и уговаривать меня. И все-таки я решила пойти. Лучше уж здесь с ней поговорить, чем увидеть ее у нас дома, где она сблокировалась бы с мамой…
— Здравствуйте, Танечка! — своим звучным голосом, совсем как обычно, сказала она мне, только очень живые, светящиеся глаза ее смотрели на меня не то осуждающе, даже презрительно, не то с едва заметным удовлетворением. — Мне надо, если разрешите, поговорить с вами.
— Здравствуйте. Пожалуйста… — Пройдемте куда-нибудь?
Мы остановились на улице. Софья Сергеевна смотрела мне прямо в глаза. Спросила спокойно и чуточку свысока:
— Вы, конечно, знаете, зачем я пришла? — И договорила уже со злостью: — Если бы не Анатолий! Он ведь так любит вас!.. Отойдемте в сторонку.
Я молча пошла рядом с ней. Мне и всегда-то была неприятна Софья Сергеевна, а теперь я с облегчением подумала, что смогу не видеть ее больше, не чувствовать себя напряженно-подтянутой, искусственной, чужой в ее присутствии. Я думала, что мы сядем где-нибудь в скверике, но Софья Сергеевна резко остановилась, снова прямо посмотрела мне в глаза и спросила:
— Прежде всего, наша семья хотела бы знать: что случилось?
— Да ничего, — глупо и растерянно ответила я, покраснев, и договорила: — Просто я люблю его!
— Кого, простите?..
— А как вы думаете, кого?
Она сдержалась — воспитанный человек, — только слегка начала бледнеть; наверно, это фамильное у них — бледнеть от злости. И сказала:
— Надеюсь, вы понимаете, как наша семья, относится к вам? И то, что мы в своих планах на дальнейшее уже включили вас в нашу жизнь? Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
— Отлично понимаю.
— Но, может быть, вам все-таки что-то не нравится в нас или в Анатолии, что заставило вас… решиться на подобный шаг?
— Я уже сказала вам, что люблю Олега.
— Так. — Она все еще пристально смотрела на меня; сильный человек, ничего не скажешь! — Простите меня за… такую откровенность: вы знаете, что с нами прожили бы очень хорошую жизнь? Такую, которой любая девушка позавидовала бы.
— Все, что вы мне скажете об этом, уже сказали мне мои родители.
— Но вы хорошо обдумали?
— Я не хочу думать об этом!
Она внимательно вглядывалась в меня.
— Вы, надеюсь, понимаете, что… переиграть, как это у вас принято говорить, вам в этом случае не удастся?
Я не сдержалась и злорадно выговорила ей прямо в глаза:
— Тут вы ошибаетесь, Софья Сергеевна: я могу сделать с Анатолием все, что захочу! И вы знаете это!
— Да, приблизительно так я и представляла вас себе!
Стояли мы теперь нос к носу, как сегодня утром с мамой. И я вспомнила, как отец сказал: «бабы…» Она все-таки опять справилась с собой, заговорила уже спокойнее:
— Но вы хоть знаете, что с… Алексеевым вам может быть очень трудно?
— Спасибо за предупреждение.
Больше она вынести этого не могла, уже через плечо бросила мне:
— Прошу вас учесть, что я сделала все возможное, чтобы помочь вам.
Я поняла, к чему это говорится, засмеялась:
— Вот если я снова буду невестой Анатолия, обязательно скажу ему об этом. Вы не бойтесь, Софья Сергеевна, спите спокойно!
И она пошла, мелко подрагивая на каждом шагу кудряшками, этакая птичка в пятьдесят лет!.. Вот теперь уже с Локотовыми кончено все. Ну и пусть, пусть, пусть!
Как только я увиделась после работы с Олегом, сразу же позабыла об этом неприятном разговоре с Софьей Сергеевной. И опять ничего не сказала ему. Мы долго бродили по улицам, вдруг он остановился и завопил:
— Есть о-хо-та-а!.. Я засмеялась:
— И мне!
Он пошарил по карманам, выгреб какую-то мелочь:
— Вот черт, только на пирожки и кофе хватит.
А я из-за всяких волнений тоже забыла сегодня взять денег. Да и привыкла в последнее время к тому, что у Анатолия они всегда были. Олег заулыбался:
— Пойдем к нам: тетка, наверно, что-нибудь сляпала!
У меня уже ко всем родственникам было по меньшей мере настороженное отношение. Вот только к Светке с Костей можно было бы пойти. Даже очень хорошо было бы к ним пойти! Они бы, конечно, сразу все поняли, не приставали бы с расспросами и поучениями, и Олег им понравился бы; вот только неизвестно, вернулись ли они уже с практики. И к Лидии Николаевне можно, она даже рада будет. Вообще-то и кофе с пирожками хватит, да ведь с его теткой рано или поздно знакомиться надо? И я сказала:
— Пошли, посмотрим, что твоя тетка сляпала!
И мы пошли.
Дом у них был как дом, с двором-колодцем и обшарпанной лестницей. И там на подоконнике раскрытого окна сидели, конечно, мальчишки. Вихрастые и отчаянные. И Олег, наверно, таким же в детстве был. Один из них со светлыми бойкими глазами сказал Олегу, равному:
— Ну-ка, у нас тут не получается! Из шести спичек надо четыре треугольника сложить. Вон Мишка говорит, что это нельзя. А?
И тут они — их было трое — увидели меня. Разглядывали долго и откровенно. И Олег не мешал им, смотрел с улыбкой и ждал. Вроде как дружит он с ними, что ли?.. Наконец тот, со светлыми глазами, — заводила, конечно, — одобрительно сказал:
— Ничего, красивая…
И все трое, покосившись на наши руки, — мы не разнимали их — презрительно скривили рты.
— Ладно, — ответил Олег. — Ну-ка. — Он отпустил мою руку, сложил на подоконнике три спички, а к вершинам треугольника приставил три остальные, получилась пирамида.
— Говорил тебе! — насмешливо прокричал заводила веснушчатому и толстому, как булка, мальчишке.
Толстый долго моргал белесыми ресницами, наконец понял, надулся и сказал, стараясь хоть что-то спасти:
— Я думал, надо класть, а не ставить…
— Индюк тоже думал! — ответил светлоглазый.
Олег снова взял меня за руку, и мы пошли вверх по лестнице.
Дверь в их квартиру была приоткрыта. Вошли. Коридор длинный и темный, справа — большая кухня, соответствующие запахи и голоса многих женщин, гремящее на полную мощь радио. Да, это вам не локотовское гнездо!
Олег открыл дверь в комнату, с порога крикнул:
— Тетка, смотри, кого я привел!
На стуле у раскрытого окна с книгой в руках сидела толстая старуха, вылитая Костина бабушка; широкое одутловатое лицо, седые волосы над губой и на скулах, широко поставленные темные глаза под мохнатыми бровями, большой рот. Из него с этакой заправской лихостью торчала длиннющая, толстенная папироса.
— Алексеев явился!.. — сказала она, вынув изо рта папиросу и относя ее по-женски далеко в сторону, повернулась всем своим круглым телом на стуле и посмотрела на меня спокойно, внимательно, без всякого удивления, хотя Олег наверняка ничего заранее не говорил ей; глазки у нее такие, что не соврешь! — Из дома моделей манекенщицу увел? — Она улыбнулась мне, приглашая вместе посмеяться над Олегом; кем она, интересно, работала до ухода на пенсию?
— Если бы увёл! — сказал Олег. — Украсть пришлось!
Мы с ним посмотрели друг другу в глаза и не выдержали, засмеялись. А она продолжала:
— Смотри, выкуп потребуют!
— Все, что есть, продам! — отчаянным голосом сказал Олег. Эта игра, наверно, была привычна для них. — Тебя заложу!
— Ну, за меня много не дадут. Разве что по весу принимать будут… — И она, не вставая, протянула мне руку: — Ксения Захаровна.
Я назвалась, пожала ее мягкую теплую руку и все не могла понять, понравилась ей или нет.
— Тетка, мы перекусить забежали!
— Там в холодильнике суп оставался, погрей. А второго уж не успела приготовить, простите, — сказала она мне и снова посмотрела на него: — Зачиталась. Колбасы, правда, купила, да вот хлеб забыла, вы уж не обессудьте. — Она покосилась на меня.
— Ничего, — сказала я, — мы сейчас и гвозди съедим! — И тотчас наткнулась на ее глаза, уже одобрительно улыбавшиеся, двинулась к холодильнику: — Давай я разогрею?
Олег остановился со старенькой кастрюлькой в руках, но тетка сказала мне:
— Ничего, ничего, он у меня и жнец и на дуде игрец.
Олег вышел. Я села и не выдержала, жадно обежала глазами их комнату. Что-то похожее на обстановку Лидии Николаевны: обеденный стол, книжный шкаф, кушетка и стулья. А на чем же Олег спит?.. Весь письменный стол завален книгами, этого у Лидии Николаевны нет. Они даже стопками лежат на полу. А вообще такая же строгая скромность во всем. И хоть Ксения Захаровна внешне совсем не похожа на Лидию Николаевну, а есть в них что-то общее. Как у всех женщин, что ли, у которых никогда своей семьи не было?.. Обернулась к Ксении Захаровне и смутилась: она смотрела на меня насмешливо, понимающе, будто спрашивала: «Ну как наши покои?» Я не знала, что сказать, но понимала: веду себя глупо и, наверно, уже растеряла то хорошее, что нашла было во мне Ксения Захаровна. И почувствовала, что и при ней у меня не пропадает напряженная настороженность, которая была в первое время у Локотовых, особенно при Софье Сергеевне. Только тут дело было не в манерах, не в умении есть по правилам и вести «интересный» разговор, а в чем-то гораздо более важном и значительном, а скорее всего — главном, что есть у меня в душе. И с огорчением подумала, что и здесь мне будет трудно, еще труднее, чем у Локотовых: ведь Ксения Захаровна, наверно, так же непримирима, как и Лидия Николаевна…
19
В то время я была счастлива, как никогда, хотя порой мне и приходилось очень трудно. Всю жизнь я старалась, в общем-то, жить как можно легче, лучше, но, странное дело, мне, наверно, приходилось и приходится тяжелее, чем тем, кто мало заботится об этом. Жизнь обмануть нельзя, мне так и не удалось этого сделать, хоть я и положила на это все свои силы.
Я все больше узнавала Олега и все сильнее любила его.
Как-то мы с ним сидели обнявшись на кушетке Ксении Захаровны — она в доме устраивала очередной вечер для ребятишек, — и Олег рассказал мне о своем детстве, о своей жизни. Говорил он сбивчиво, и я понимала, что он, наверно, редко вспоминает о прошлом, не привык глядеть назад. Но я все-таки отчетливо представляла себе все, связанное с Олегом: его родителей, довоенный Ленинград, а потом войну, блокаду, школу Олега, институт…
Отец его был летчиком. Мне казалось, что с пожелтевшей фотографии на меня смотрит сам Олег в старомодном пальто и кепке. Отец Олега был откуда-то с Урала, но всю жизнь они кочевали из города в город, ездили с матерью за ним: он испытывал самолеты. И погиб где-то в Испании… Олег говорил об отце, словно о своем приятеле:
— Забавный был мужик! Когда возвращался с испытаний, а денег ему платили много, у нас весь дом ходуном ходил. Батя умел повеселиться. Любил русские народные песни петь. Мама частенько подтрунивала над ним, говоря, что он ни одного рекорда не установил. Действительно, это странно. Отец был весь переломанный, вроде первого нашего авиатора Уточкина, а высшие достижения все кто-то за него успевал показать. Отлежится в больнице, выйдет: «Ну, скажет, теперь-то уж от меня небушко не уйдет». И опять что-нибудь помешает. — Олег замолчал, потом задумчиво проговорил: — А в сущности, он поставил рекорд, понимаешь?
Я кивнула, а он пояснил:
— Рекорд настойчивости и упорства: без таких, как отец, и Чкалов был бы невозможен. Я не про отца говорю, а вообще… Есть, знаешь, памятник Неизвестному солдату. Ну, как символ… Надо ставить памятники Неизвестному исследователю или рабочему, колхознику, верно? — И вздохнул: — Эх, дружить бы с батей, наверно, было бы здорово!.. Черт, глупо в жизни это устроено: вырастешь, начнешь кое-что понимать, тут бы самое время с батей на рыбалке посидеть или за столом, а его уже нет…
Олег опять замолчал, а я подумала, что вот мой отец жив, а у меня с ним такого не получается.
Очень я удивилась, когда узнала, что мама Олега была артисткой. Вот уж никогда бы не подумала: сам-то Олег такой простой! С многочисленных снимков на меня смотрела красивая женщина то в костюме королевы — она действительно выглядела королевой, как в старинном романе, — то в рабочей блузе, и я так и видела героев книги «Как закалялась сталь». Необычная была женщина. Ей бы в примадоннах красоваться, а она ушла в партизаны и погибла. И когда уходила, оставила Олега соседям по квартире! Ксения Захаровна вырастила Олега и в люди вывела. Никакая она ему, оказывается, не тетка.
Говорил Олег о своей маме с ласковой усмешкой:
— Увлекающийся была она человек, горячий и непоследовательный. То Станиславским бредила, то в пантомиме играла, даже в театре «Ромэн» работала. Если бы не разбрасывалась так, может, и большой актрисой была бы. Понимаешь, бывают люди стихийно талантливы, а какого-то умственного стерженька им не хватает, чтобы организовать свой талант, дисциплинировать его.
О своей жизни в блокаду и войну Олег ничего не рассказывал, а когда я спросила, коротко ответил:
— Если бы не тетка, пропал бы, конечно. — Помолчал и добавил: — Главное, чтобы это никогда больше не повторилось!..
Про Ксению Захаровну Олег тоже толком ничего не сумел рассказать. Я узнала только, что до пенсии она работала бухгалтером, была замужем, муж умер уже после войны, просто от старости, детей своих у них не было. Олег этим и объяснял то, что сделали для него Ксения Захаровна с мужем:
— Своих детей не было, ну и усыновили меня. А куда им было от меня деваться?..
— В детский дом могли отдать.
— Ну зачем же?.. — Он это сказал так, будто Ксения Захаровна с мужем и впрямь были его родителями.
Я, конечно, плохо понимала это и все приставала к Олегу с вопросами. Тогда он сказал мне:
— Тетка уж такой человек: ей надо обязательно с кем-нибудь возиться. Я для нее в этом смысле был прямо находкой, ей со мной посчастливилось.
Все это было так непохоже на то, чем жила я, мои родители, наша семья…
Я уже говорила о том, как относились к Олегу в лаборатории: все точно ждали от него чего-то очень серьезного, да и Лидия Николаевна считала, что он будет настоящим ученым. А ведь мне казалось, что в этой области более удачливого человека, чем Анатолий, трудно себе представить. И я откровенно спрашивала Олега, почему к нему так относятся. Он смеялся:
— Это тебе кажется: любовь особые очки надевает. Сквозь них видишь то, что хочешь и как хочешь.
Я спросила: правда ли, что в институте он был первым в их выпуске, занимался, наверно, очень много? Олег удивился:
— Нет, я больше мячик кидал… Ну, за девочками еще бегал.
— А Анатолий?
— Вот он действительно сидел за книгами как проклятый! — с уважением проговорил Олег.
Мне все хотелось узнать, отчего это получилось: институт они с Анатолием кончили вместе, Анатолий уже начальник, а Олег у него подчиненный. Олег оказал:
— Ну, у кого как сложится. Я после института уехал в Сибирь работать, а Толька остался, у него путь в начальники прямее был.
— Почему же его оставили, а тебя нет?
— Меня тоже оставляли, да, понимаешь, одна интересная работенка подвернулась. Знаешь, что такое угольный комбайн? Я уже было взял направление в лабораторию, где сейчас работаю, но в это время случайно, у Тольки дома, познакомился с одним человеком. Из Кузбасса. Очень мне показался заманчивым метод крупного скола угля. — Он потер виновато пальцем нос, чуть сконфуженно стянул со стола листок бумаги, ручку и, уже почти забыв обо мне, начал чертить, говорить, снова чертить…
Я терпеливо ждала, кивала в такт его словам, будто что-то понимаю, и мне было очень приятно вот так рядом сидеть с ним. Ведь Анатолий почти никогда не говорил со мной о своей работе, да еще как с равной. Олег весело заключил:
— Бились, бились мы с ним почти три года, и все-таки заработал он у нас, голубчик!.. — Он отложил листок, повернулся ко мне.
— Это что же… — спросила я, — под землей тебе пришлось работать?
— Ага.
— Ну, а результат?..
— И сейчас работает как миленький!
У меня хватило ума не переспрашивать, какой же все-таки получился от этого результат для него самого, для Олега.
— Познакомился ты с этим человеком из Кузбасса у Локотовых, значит, и Анатолий его знал?
— Ну?
— Почему же поехал ты, а не он?
— Анатолия как-то не заинтересовал этот комбайн…
— А как он в наше КБ попал?
— Мое-то место освободилось.
— Слушай, а может, Локотовы все это специально подстроили? Ну, зная тебя!
— Что ты!..
— Нет, ты не понял! Понимаешь, не прямо подстроили, а косвенно?.. Ну не знаю, как лучше сказать… Не мешали, чтобы это случилось, что ли?..
И тут я впервые заметила, что очень уж многое в жизни Олег считал мелочью…
— Слушай, — опять спросила я, — а почему Снигирев на тебя все время сердится?
— Он не сердится… То есть немного недоволен, конечно, что я держусь как-то так… С диссертацией — это уже второй случай, я ведь у него и диплом готовил, он мне предложил место в КБ, а я в Кузбасс сбежал. Ну старик и ворчит. Он замечательный человек! — с восхищением уже закончил Олег, — Настоящий ученый.
Анатолий тоже считал Снигирева настоящим ученым, а отношения у них другие…
— А как ты снова в Ленинграде оказался?
— Очень просто. Снигирев был в командировке у нас в Кузбассе, а мы с комбайном уже все кончили, и у Филиппыча как раз появилась идея насчет элеваторного ковша. Он и добился моего перевода.
— А может, тебе все-таки защитить диссертацию?
— Зачем? Никуда она от меня не уйдет.
— Вы ведь с Анатолием на пару работали? — Ага. С ним очень приятно: как будто все время тебя кто-то уздой придерживает. Я бы с ним всю жизнь проработал! Мне не хватает его обстоятельности, дотошности. Он идеальный исполнитель. Творческий исполнитель. А насчет диссертации… Отрицательный результат тоже результат.
Этого я не поняла, но спросить не решилась. Если Анатолий иногда говорил со мной о работе, все было понятно: он говорил популярным языком, языком для постороннего. А Олег, казалось, считал, что я и так должна все понимать. Или работа Олега была более сложной и трудной?.. Но, странное дело, он как будто совсем не занимался ею. Я, правда, теперь не бывала в лаборатории, но и вечерами Олег не упоминал о новом варианте машины. Только иногда посредине разговора вдруг задумывался, потирал пальцем нос, вздыхал, но, заметив мой взгляд, тотчас улыбался. И Ксения Захаровна ничего не говорила ему, это уж мне было совсем непонятно. Человек, который дорог ей как сын, запутался с работой, отказался от готовой диссертации, и она молчит, будто ее это не касается. Больше того, она видела, конечно, что мы с Олегом любим друг друга, собираемся пожениться, но ее совсем не интересовало, где мы будем жить, что и как изменит это в ее собственной жизни. Бывая у них, я почти всегда видела Ксению Захаровну за книгой. Как-то, вынув изо рта папиросу, она подняла на нас свои широко поставленные глаза и сказала:
— Противно, когда писатель умничает! Сиди и решай его ребусы. Голова отваливается.
Олег засмеялся:
— А разве лучше, если он тебе все разжевывает и в рот кладет, да еще боится, чтобы ты не подавился? Конечно, кое-кому это нравится. Думать не надо, на боку можно лежать.
Они заспорили — сначала о писателях, потом на тему о добре и зле. Олегу словно нравилось поддразнивать тетку, хотя — я это чувствовала — никаких разногласий с ней у него не было. Ксения Захаровна долго сдерживалась, но вдруг щеки ее покраснели, она стала все чаще и чаще затягиваться папироской, голос ее обиженно зазвенел. Тогда Олег подошел к ней и ласково обнял за плечи:
— Ну, шучу, шучу, тетка!.. После я спросила его:
— Зачем ты Ксению Захаровну дразнишь? — Дразню? — удивился он. — Чересчур уж она добрая.
— Разве это плохо? Тебя вон вырастила… — Доброта должна быть умной, понимаешь?
Иначе она просто лень и слабость. — И непонятно закончил: — Доброта — это одно из ценнейших качеств человека, и растрачивать попусту ее нельзя.
— И к нам с тобой Ксения Захаровна добра.
— Ага.
И тут я подумала, что вот Анатолий совсем не добрый…
— А я мешаю тебе работать. Болтаемся целыми вечерами и болтаемся!
— А может, наоборот, помогаешь?
— Ты же ничего не делаешь…
— Это тебе только кажется. — Он озорно подмигнул мне.
— А если у тебя ничего не получится?
— Что-нибудь полечится. — Он засмеялся. — Мне сам процесс узнавания тоже важен. Я, знаешь, любопытен.
— Другая бы на месте Ксении Захаровны извелась вся, на нас с тобой глядючи! Действительно, очень добрая она…
— Да. И понимает, что к серьезному делу требуется тонкое отношение. Ну, и в меня, наверно, верит.
— А мне она в первый раз показалась такой непримиримой…
— Непримиримой?.. Она просто ясный, прямодушный человек и брезгливо относится ко всякой лжи и фальши. Это не мешает ей быть излишне доброй: сложная у меня тетка! — Олег засмеялся.
Удивительное, неповторимо счастливое было то время!..
Вскоре Ксения Захаровна стала куда-то пропадать вечерами, и мы с Олегом оставались одни…
20
Как-то после работы мы с Олегом собрались на пляж, и вдруг на улице он остановился:
— Вот черт, совсем забыл: надо в комитет забежать.
— Завтра сходишь.
— Лучше бы сегодня. Мне на минутку. Ты посиди в скверике, ладно?.. Понимаешь, не нравится мне, как на заводе гонят опытные образцы планетарных лебедок, надо, чтобы ребята посмотрели, а то Игнат Николаевич валит вал, тянется за знаменем и на все — сквозь пальцы.
— А тебе какое дело? Это ведь завод.
— Да, в общем-то, никакого, но лучше сказать. Я забегу на минутку. А то потом ребята разойдутся.
Я бы не пошла с Олегом, но в комитете комсомола наверняка была Женя — она замещала уехавшего в командировку секретаря, — и я сказала:
— Ладно, пошли вместе, чего я в сквере буду сидеть.
В комитете было много народу, кто-то кричал в телефон, в углу спорили, толпились у стола Жени. Я остановилась у витрины со спортивными кубками, и мне было хорошо видно, как вздрогнула Женя, встретившись глазами с Олегом: не зря я пришла! Олег сразу же включился в спор, захохотал, и тогда мне стало обидно: точно забыл обо мне! Я подошла и тронула его за локоть. Он обернулся, кивнул мне, крикнул:
— Тише, ребята, мыслишка есть! Хочу сигнализировать!..
Все замолчали. Женя тоже повернулась к Олегу.
Я хоть и не работала сейчас в лаборатории, реже видела Женю, но все знала про ее отношение к нашему с Олегом случаю.
В ту поездку в Комарове Женя все, конечно, поняла. Я немного позлорадствовала: вот она инженер, а любит Олег меня! С тех пор она стала подчеркнуто внимательна ко мне. Но однажды, когда я пришла к ней, чтобы освободиться от дежурства по дружине — мы с Олегом в тот вечер собрались в театр, — я увидела в ее глазах такую горечь и боль, что даже растерялась. А Женя излишне обстоятельно стала объяснять мне, что никак не может разрешить мне не ходить. Я все-таки не пошла, соврала Олегу, что она отпустила меня. И кончилось это ничем: Женя побоялась, наверно, выглядеть пристрастной. И она ничего не сказала Олегу. И теперь, сталкиваясь с ним, она была старательно сдержанной, немногословной. И все-таки получалось это у нее, комсорга, по девчоночьи открыто и смешно.
И сейчас Женя тоже стала добросовестно слушать Олега, только ее глаза на миг точно потускнели. Я даже пожалела ее и подумала: вот хороший человек и так мучается, прямо-таки героически мучается! А Павел стоял, конечно, рядом с ее столом, временами чуть испуганно поглядывал на Олега, потом сразу же переводил глаза на Женю, и тогда его продолговатое, худощавое, антиповское лицо светилось откровенным счастьем.
— Не кажется ли вам, ребята, — сказал Олег, — что у нас на заводе с подозрительной спешкой гонят планетарные лебедки?
Коробов своим грубым басом оскорбленно, будто подозревая, что Олег намеренно хулит производство, произнес:
— Ты, Алексеев, давай конкретно!
— А у меня, Афоня, всё! — Олег засмеялся.
Коробов продолжал:
— Ты, знаешь, напраслину брось! Ты, знаешь, отвечай за свои слова!..
Слесарь Витька Топтов перебил Коробова:
— Гоним, верно! В курилку забежать некогда, авралим как на пожаре! — Все смотрели на него, а он лукаво-безразличным тоном закончил: — В передовиках ходить здорово. Эх, и повезло же мне, что я к Игнату Николаичу попал!
— Тормозить план, знаешь… — снова начал Коробов, но его перебил Павел, обратившись к Олегу:
— Чего ты заволновался? Наш отдел чертежи на лебедки еще в том квартале спустил, мы над цехом шефствуем: все у них в порядке.
Женя все выжидательно смотрела на Олега. Он сказал:
— Прогуливаюсь я сегодня по цеху, вдохновляюсь трудовым энтузиазмом, а старик Антипов вдруг и говорит мне: «На металлолом любуешься?» — «Прямо, говорю, глаз оторвать не могу!» Ну а я уже привык, что он зря слов не бросает, пошел на монтаж, там ребята прямо как обалделые вкалывают. «Даем угля хоть мелкого, но много!» И Игнат Николаевич суетится с ключом в руках, пример подает.
— Конец месяца! — вставил Коробов.
— Это я учел, — ответил Олег. — И прогулялся до испытательного стенда. Узнаю приятную новость: из десяти образцов испытывается один.
— Это безобразие! — быстро сказал Павел. — Мы этого не знали.
— Я тоже не знал. Оказывается, это Виктор Терентьич такую здоровую инициативу Игната Николаевича санкционировал.
— Это мы проверим! — строго проговорила Женя, делая запись в большом блокноте.
— Олешка не об этом! — весело вскрикнул Витька Топтов и засмеялся. — Постой, он сейчас выдаст!
Олег сказал:
— Да и у тех образцов, которые испытываются, проверяют одну кинематику, вхолостую гоняют без замера мощности на выходе.
— Как же это, Павел?.. — спросила Женя, глядя на него, и я сразу же поняла, что она его не любит по-настоящему: с Олегом она бы так не разговаривала.
Павел растерялся под ее взглядом, покраснел и уже зло сказал Олегу:
— Если ты что подозреваешь, то принципиальную схему ваша лаборатория давала!..
Начался обычный производственный спор, и я решила терпеливо ждать Олега, принялась снова разглядывать кубки в витрине. Вдруг они заспорили так горячо и громко, что хоть уши затыкай: видно, что-то по-настоящему серьезное вскрылось? Я с любопытством стала прислушиваться. Но речь, оказывается, уже шла не о производстве, спорили они о чем-то другом. До меня донеслось:
— Выходит, Павкам Корчагиным нужна была революционность, а нам — нет? Ты что-то не того!.. — сказал Олег Витьке.
— Ну а как ты ее конкретно себе мыслишь? — спросил Витька.
— Она, конечно, сейчас другие формы носит, — тоном учителя ответила Женя. — Но она есть.
— Революционность — это горение! — изрек Коробов.
— И непримиримость, — подхватил Олег. — И еще — цель в Жизни надо иметь. Новое искать, ломать старое и обязательно своего во всем добиваться, если правым себя считаешь.
— Вот, например, эта проверка с лебедками на заводе, — добавила Женя, — тоже одно из проявлений революционности, если хотите знать!
— Выходит, Олешка революционер? — удивился Витька.
— А ты думаешь, революционеры только те, что революцию делали? — насмешливо спросила Женя.
— Ну, вот и я революционером стал, — засмеялся Олег. — А если я надеюсь дожить до коммунизма, тогда зачем революционеры нужны будут? — И хитро подмигнул.
— Тогда-то уж революционеры совсем не нужны будут! — выпалил Витька.
Олег дернул его за ухо:
— Витька, ты чудак: революционеры и революционность всегда, во всех наших делах нужны будут, и при коммунизме тоже.
Я о коммунизме не привыкла задумываться: будет и будет, да и когда еще. И теперь с удивлением обнаружила, что ребята рассуждают о нем так, словно он наступит буквально завтра. Мне было очень интересно слушать этот спор.
Женя опять поддержала Олега:
— А преобразование природы, например? — И задорно глянула на него. — Вот где революционеры нужны! Правда, Олег?
— А как же! Сколько еще открытий нам предстоит сделать. — Он задумался, потом очень серьезно добавил: — О революционности лучше всех Ленин писал. Я люблю его читать. И всегда нахожу такое, что помогает мне во многом разобраться, многое лучше понять, уяснить. Вот сами почитайте ленинские статьи, например, «Государство и революция». А потом соберемся и еще поговорим. Согласны?
А я все слушала этот спор, который приоткрыл мне что-то новое и очень значительное. И неотрывно смотрела и смотрела на Олега: ведь он был заводилой в этом споре! Так вот он какой!
И потом, когда мы с ним уже купались и загорали на пляже у Петропавловки, у меня все не проходило это острое радостное ощущение какого-то открытия. Впервые в жизни, кажется, я всерьез подумала, что, в сущности, это очень здорово уметь спорить так, как они, и что напрасно я всегда убегала со всяких собраний.
А однажды Олег вышел с работы вместе с Суглиновым. Яков Борисыч смотрел на меня приветливо, — но, как всегда, было непонятно, каким именно глазом он смотрит, — улыбался так, точно между мною, Анатолием и Олегом ничего не произошло. И я была благодарна ему за это. Да я уж и раньше знала, что Яков Борисыч все видит и все понимает. Олег взял меня под руку, но тут же, повернувшись к Суглинову, продолжал начатый разговор:
— Эти циркулирующие мощности — темный лес!..
— Известная искусственность лежит уже в первоначальном рассуждении об останове водила, — ответил ему Яков Борисыч.
Я поняла, что они разговаривают о планетарных передачах, это ведь главная работа Якова Борисыча. Или с лебедками опять что-то не ладится?.. Мне было так хорошо идти рядом с Олегам, с Яковом Борисычем. Я прислушивалась к их беседе, видела сосредоточенное лицо Олега, добрые, прищуренные глаза Якова Борисыча на его мягком, круглом лице, гордилась Олегом и все старалась обязательно идти в ногу с ним. И неожиданно заметила, что мы уже стоим, а Олег с Яковом Борисычем, не замечая толкавших их прохожих, молчат и смотрят друг на друга. Чуточку испугалась: что-нибудь случилось? Но Олег покачал головой:
— Нет, так мы упростим явление.
Яков Борисыч вздохнул:
— Пожалуй…
И мы пошли дальше. И я принялась мечтать о том, как мы с Олегом будем жить вместе, может, даже в отдельной квартире, и по вечерам к нам будут приходить люди вроде Якова Борисыча, спокойные, умные и добрые, и Олег будет вести с ними свои серьезные, солидные разговоры, а я укладывать спать в другой комнате нашего ребенка. Зима, за окном снег и ветер, а у нас в квартире тепло и уютно, и мягко светит лампа под широким абажуром чешского торшера… Ну уж и обставлю я квартиру — по последнему слову! И Олег ведь диссертацию тоже защитит, обязательно защитит, и я все равно буду женой кандидата наук! И тут я очнулась. Яков Борисыч остановился и настойчиво говорил Олегу:
— Нет, нет, Олешка, ты и так чересчур разбрасываешься. Вот кончишь свою работу, тогда и ко мне подключишься.
— Нет, я параллельно буду это делать.
— Не советую. Умерь себя, умей ограничить.
— А я не могу.
— Необъятного не обымешь.
— Правильно, Яков Борисыч! — сказала я как равная. — Олешка и так тянет и тянет со своей диссертацией!..
Они засмеялись, и мы двинулись дальше. До сих пор не понимаю, как это научилось, будто все делалось помимо меня. Я вдруг обнаружила, что мы поднимаемся по какой-то чужой лестнице, Яков Борисыч все разговаривал о своем с Олегом, и тогда я тихонько спросила его:
— Куда это мы?
Олег удивленно замигал и спросил Якова Борисыча:
— Да, действительно, куда это мы?
— А?.. — Он посмотрел на нас, улыбнулся виновато: — Вот ноги у меня так ноги: сами занесли! Это уж привычка у меня такая: задумаю что-нибудь еще с утра, потом забуду, а тело по инерции само выполняет запрограммированное. Ну, ладно, если уж пришли вместе, так и зайдем вместе. — И нажал кнопку звонка в чьей-то квартире.
За дверью послышались быстрые, сильные шаги, и звучный женский голос крикнул кому-то в коридоре:
— Это, наверно, почтальон! — Крикнул так, будто успокаивал и обещал не задерживаться.
Дверь распахнулась, на пороге стояла высокая дородная женщина в черном платье, с ее лица — оно показалось мне знакомым — медленно сбегало оживление, оно становилось строгим, даже начальственным. Женщина спросила вежливо и суховато:
— Вы к кому?
— К вашему сыну, — негромко ответил ей Яков Борисыч. — Он у нас лаборантом работает…
Тут только я поняла, что женщина похожа на Колика Выгодского. И чего это нас нелегкая занесла к ним? Случилось с Коликом что-нибудь?.. А мать у него важная. Может, какой-нибудь руководящий работник? Никогда бы не подумала, что у такой может быть сынок вроде Колика!
— Нет, нет, ничего не случилось, — сказал ей Яков Борисыч. — Просто к Николаю по пути с работы зашли. Он дома?
Женщина — знаем мы этих дамочек! — быстрым, оценивающим взглядом скользнула по Олегу, отступила в прихожую, уже приветливо говоря:
— Проходите, пожалуйста…
Из комнаты беспокойно выглянул какой-то мужчина в одних трусах, волосатый, черный, усатый, придирчиво оглядел нас, скрылся, не поздоровавшись. Женщина, стараясь сгладить неловкость, протянула нам по очереди большую и крепкую руку:
— Антонина Николаевна. Проходите, Николай дома. — И придвинулась к Якову Борисычу заговорила уже доверительно и озабоченно: — Трудный у меня сын! Переходный возраст, я одна… А ведь за мальчишкой нужен глаз и глаз, сами понимаете! Хорошо, что зашли: я уж думала — никто из его рабочего коллектива не помогает мне воспитывать сына.
«Понимаю, понимаю!» — согласно кивал ей в ответ Яков Борисыч, точно не видел усатого мужика, не заметил растерянности женщины, которую она тщетно пыталась скрыть. Хочешь не хочешь, а пустить нас придется: с коллективом не до шуток.
— Я, понимаете, главврач поликлиники, — уже откровенно подчеркивая свое служебное положение, говорила она, идя впереди нас по коридору, — времени свободного ни минуты!.. Николай, это к тебе. — Она раскрыла дверь в другую комнату; так, квартира отдельная, явно двухкомнатная; эх, нам бы с Олегом такую!
Колик лежал на диване в ботинках, удивленно и испуганно вытаращился на нас, медленно спустил на пол ноги:
— Что случилось, Яков Борисыч?..
— В гости к тебе пришли! — слегка злорадствуя, ответила ему мать и поспешно обернулась к Якову Борисычу: — Вы уж меня простите, я спешу, сегодня собрание. Я сама к вам зайду. Обязательно зайду, хорошо?
Мы вежливо попрощались с ней. Только закрылась за ней дверь, Колик насмешливо и презрительно выговорил:
— Соб-ра-ние!..
— Ну, ну… — сказал ему Яков Борисыч и негромко засмеялся. — Брось ершиться-то!.. — И похлопал его по плечу, сел рядом на диван.
Комната хорошая, обставлена дорогой мебелью, но в углах грязь, пол не натерт, на вещах пыль. Яков Борисыч провел пальцем по дверце шкафа, показал палец Колику. Тот махнул рукой: «Наплевать!..» Сказал нам с Олегом:
— Да вы садитесь, я сейчас что-нибудь соображу! — Вскочил, сунул руку за книги на полке, вытащил початую бутылку коньяку, поставил ее на стол, отодвинул локтем книги, вытащил откуда-то рюмки, начал резать лимон…
— Отработано у тебя это мероприятие, — сказал насмешливо Олег.
— Будь спок!
— Рюмки сходи помой, — сказал мне Яков Борисыч.
Я удивилась, но взяла их и пошла из комнаты. В квартире было тихо: уже ушли эти двое, что ли?.. Тоже, видно, отработано у них это мероприятие! Интересно, когда же мужик-то успел одеться?.. В кухне тоже стояла новая мебель, но было так же беспорядочно и заброшенно, как и в комнате Колика.
Когда я, вернулась с чистыми рюмками, Яков Борисыч сидел в углу дивана, покойно откинувшись, и неторопливо, как о чем-то совсем незначительном, рассказывал, как ходил в разведку в тыл немцев. Олег и Колик смотрели ему в рот. Я села рядом с Олегом, прижалась к нему. Яков Борисыч говорил очень просто, но меня постепенно охватывало ощущение предельной трудности того времени. Когда сразу было видно, что ты за человек. И когда просто нельзя было быть плохим. И Олег тоже понимал это — он все крепче сжимал мою руку. И я вдруг подумала, что и Олег, случись с ним такое, был бы как Яков Борисыч. А вот Анатолий еще неизвестно. И снова удивилась: Яков Борисыч говорил, кажется, о чем-то совершенно постороннем, далеком от нас, но при этом с тебя так и слезала вся ненужная шелуха. И Колик, кажется, тоже чувствовал это… И только потом я поняла, что эта встреча с Яковом Борисычем и Олегом для Выгодского не прошла бесследно.
21
Все события того времени я помню удивительно ярко, отчетливо. И какими бы они ни были для меня — приятными или неприятными, — все они окрашены ощущением счастья, даже сами составляют его…
Вот мы с Олегом и Светка с Костей — вчетвером по-родственному — отправились в воскресенье в Центральный парк. Я немножко побаивалась вначале, как они отнесутся к Олегу: ведь совсем недавно я знакомила их с Анатолием как со своим женихом. Мы встретились по эту сторону Елагина моста, еле нашли друг друга в шумной толпе. Светка поджала губы, протянула Олегу дощечкой руку. Костя пригладил волосы, дернул себя за ухо, собрал в горсть подбородок. Олег улыбнулся глазами, и мы молча пошли через мост, потом по аллее направо, к танцплощадке. Шли и говорили о погоде, и я уже стала жалеть, что мы с Олегом пошли не одни. Остановились, не зная, что делать, около решетчатой ограды танцплощадки, там гремела музыка. Недалеко от нас стояли несколько парней и девушек.
— Проиграла! Проиграла! — говорила, смеясь, одна девушка другой и вдруг что-то зашептала, показывая на нас.
Вторая девушка, высокая, тоненькая, в остроносых заграничных туфлях, которые мне давно хотелось купить, пошла к нам.
Она остановилась перед Олегом, развязно сказала, не обращая на нас никакого внимания.
— Станцуем?.. — И спокойно ждала.
Олег покосился на нас, в глазах у него появился озорной огонек. Светка зло смотрела на девушку, Костя растерянно мигал. Я кивнула Олегу: «Покажи этим сусликам!» А он согнул калачиком руку, предлагая ее девушке, и они пошли на площадку.
— Не по-ни-маю! — выговорила Светка. Костя молчал. Я сказала:
— Сейчас Олег покажет ей.
Гремела быстрая музыка. Олег обнял девушку подчеркнуто страстно, смешно задергался. Она удивленно поглядывала на него: Олег изображал полного идиота из глухой деревни американского Запада. Топорщил локти, точно защищая девушку от танцующих, вращал ревнивыми глазами, в бараньем восторге пялился на девушку. Она оглянулась на свою компанию, те весело смеялись. Заулыбались и Светка с Костей. Девушка покраснела: она поняла, что выглядит глупо, попалась. А Олег расходился все сильнее, приседал, подпрыгивал, вертел девушку вокруг себя. Движения его были стремительны, он совсем закрутил девушку, она просто не могла опомниться. Лицо ее стало растерянным и злым. А Олег вдруг сорвался и понесся вокруг нее, высоко и часто вскидывая колени, прижав локти, по-лошадиному мотая головой. Все расступились, глядя на него, хохотали и хлопали в такт. Девушка стояла дура дурой. Потопталась и нетвердыми еще шагами пошла с площадки. Ей насмешливо кричали что-то.
— Молодец! — восхищенно проговорила Светка. — Проучил!
— Да, было бы хуже, если бы он отказался, — рассудительно подтвердил Костя.
— Я же вам говорила! — сказала я и добавила: — Это вам не Анатолий!
— Вы молодец! — не обращая на меня внимания, повторила Светка и со смешной торжественностью пожала Олегу руку.
Костя серьезно проговорил:
— Вот выискиваем формы обуздания этих типчиков, а в этом, как во всяком другом деле, нужен творческий подход. Хорошо вы ей показали, как выражается Танька-Встанька!..
Олег внимательно посмотрел на Светку и Костю и сказал то, что я уже слышала от него не один раз:
— Вы правы. Вообще каждое дело требует не столько исполнительства, сколько творчества.
Светка вдруг объявила:
— А я немножко за вас испугалась… Знаете, я как-то слышала такое рассуждение… Всякому живому существу, дескать, свойственно бояться. Такова уж жизнь. У зайца больше оснований для страха, у льва — меньше. Но и на него, мол, есть охотник. На каждого живущего есть охотник. Страх, дескать, есть страх. И он один. И у человека и у животного. И у честного и у подлеца…
Олег ответил:
— Это ведь, простите, психология фашизма. Или рабства. Человек потому и человек, что умеет преодолеть свой животный страх, чего не умеют звери. В известном смысле все достижения человечества — преодоление страха в разных областях.
— Вы очень верно сказали насчет исполнителей… — Костя задумчиво тер подбородок. — Отличительная их чёрта, наверно, трусость. Поэтому они так часто внешне воинственны.
Светка подхватила:
— Эти исполнители страшатся творческого поиска, ведь он всегда связан с риском. — И взяла Олега под руку.
Так мы и шли вчетвером по аллее. Они все разговаривали, и мне было очень приятно, что между ними возникла такая душевная близость, которой не было даже между мной и Светкой, между ними и Анатолием, которого они только уважали за его знания и ум. И мне вдруг показалось, что и в Анатолии есть что-то исполнительское, хотя внешне у него все выглядело иначе. И мне очень хотелось спросить об этом, но я сочла, что это неудобно.
А потом мы оказались около площадки аттракционов, и Олег спросил Светку.
— Ну, крутанемся на самолете?
Видно, он хотел проверить: испугается она или нет?
Светка ответила:
— Обязательно! — И первой пошла к кассе. Самолет на штанге несся по кругу. Светка потешно зажмурилась под очками. Костя сказал мне, глядя на них с Олегом:
— Отличный парень! — И добавил: — Неожиданный ты человек, Танька-Встанька!
— Ты уже говорил мне об этом, — ответила я и помолчала вопросительно.
Он понял и сказал:
— Тот вариант был совсем другой. Тот был, прости меня, жених…
— А этот что же?
— Ну, этот совсем другое дело!
Потом мы купались и так захотели есть, что чуть ли не бегом кинулись в ресторан на поплавке. Очереди, на наше счастье, не оказалось, и мы устроились за столиком на открытой палубе. Все было здорово: и гладь залива под солнцем, и белые паруса яхт, и легкий ветерок, и музыка. От нас прямо-таки пахло солнцем, водой, счастьем.
Олег с Костей подвыпили и заспорили о шахтах, стали что-то рисовать на обратной стороне меню. Светка тоже разгорячилась, втиснулась в их спор. Я, разобрав, о чем речь, похвасталась:
— Да ведь этот комбайн Олег делал! Надо было видеть Светку с Костей в этот момент! От избытка чувств они расцеловали Олега.
Вдруг нам захотелось петь, мы затянули во все горло, за соседними столиками подхватили, и официант еле успокоил нас. Тогда мы поднялись, взялись за руки и стали водить хоровод вокруг стола.
А потом мы очутились у Олега дома, Светка с Костей сразу же стали доказывать Ксении Захаровне, какой Олег замечательный парень и как мне вообще повезло. А Ксения Захаровна только говорила им:
— Ну я-то его лучше знаю! Он чистый разбойник! — И ласково улыбалась им.
Светка с Костей отчаянно защищали Олега, и уже оба сравнивали его с Анатолием.
Потом Ксения Захаровна ушла провожать их, ее все не было и не было, и я осталась у них ночевать…
И так же отчетливо помню я из того времени даже те случаи, которые не были непосредственно связаны с Олегом.
Однажды Клара-Вертолет пришла на работу в чертежку уже в конце дня, заплаканная до того, что еле глаза были видны. Все кинулись к ней, и она сквозь слезы кое-как рассказала, что ее Вовку поймали на воровстве, забрали в милицию и теперь отправят в колонию. Связался с какой-то компанией, и они обокрали магазин: взяли несколько бутылок вина и конфеты. Лида-маленькая тоже заплакала, глядя на нее, запричитала:
— Что же это теперь будет? Галя строго остановила ее:
— Погоди реветь. Парня спасать надо. Лидия Николаевна вздохнула и спросила негромко, как-то странно спокойно:
— Но ведь Вовка украл или нет?
— При чем здесь это? — сказала Лида-маленькая. — Ведь он Кларочке сын!
Клара плакала навзрыд. А Лидия Николаевна взяла ее за плечи, выпрямила, заставила вытереть лицо, спросила:
— Ну, теперь слушать можешь?
— У тебя самой детей не было, ты не знаешь…
— Одиночки всегда такие бессердечные…
— Тихо, бабы! — властно крикнула Лидия Николаевна. — Это счастье Клары, что у нее сын есть. Я, думаете, не понимаю? Я все понимаю! Я бы за сына, кажется… — Она помолчала, и все мы с удивлением смотрели на ее бледное, горестно искаженное лицо. — Но уж я бы его человеком вырастила, в уголовники не пустила!
— Ты бы попробовала без мужа! — Не в этом дело. Что вы, Кларку нашу не знаете? Да она себя воспитать не может, не то что сына. И прятаться здесь за вдовство нечего.
Что здесь поднялось! Кричали всей чертежкой на Лидию Николаевну. А она стояла, напряженно вытянувшись, продолговатое лицо ее кривилось, точно от боли, в пристальном взгляде мерцал огонек непримиримой убежденности и веры в свою правоту.
Я думала, что на этом все и кончится. Клара ревела, ее успокаивали, поили водой. И уж не знаю, как это получилось, или действительно вызволить Вовку из милиции никак нельзя было, хотя кто-то бегал к начальству за какими-то бумажками, но только все потихоньку заговорили, что в первую очередь Клара сама виновата.
И получилось в конце концов так, что Клара оказалась около стола Лидии Николаевны; она сидела и всхлипывала, а Лидия Николаевна спокойно, неторопливо доказывала ей, что как ни горько, а Вовка обязан понести наказание, а вместе с сыном и она сама, Клара: ведь в этом и ее вина есть. А вот выйдет он из колонии другим человеком, со специальностью, и ей самой, Кларе, опорой на старости лет будет. Женится, Клара еще внучат нянчить будет!.. И Клара постепенно успокоилась, перестала плакать, вытерла лицо и сказала:
— Дай бог… А я маленьких люблю, с удовольствием бы с внучатами игралась! — И она мечтательно улыбнулась.
Лидия Николаевна смотрела на нее с жалостью:
— Все бы ты игралась!..
— А что? — Клара обвела всех уже заблестевшими глазами.
И я увидела, что и все уже смотрят на нее не то жалостливо, не то насмешливо.
А Лидия Николаевна еще долго помнила об этой истории. Она говорила мне:
— Вот смотри, Танюшка, нет на свете вреднее бесполезных людей. Душевно бесполезных, понимаешь? И мечтания эти их, как заразная болезнь, их самих подтачивают и все вокруг разъедают! Жаль и ее и мальчишку.
Потом я — уже сообразила, что и Вагин, и Коробов, и Анатолий, наверно, тоже так бы отнеслись к случаю с Кларой, как и Лидия Николаевна, но все дело в том, что им бы при этом не было больно, а она мучалась так, точно Вовка был ее сыном,
22
Очень я была удивлена одним происшествием с Олегом.
Еще в лаборатории я замечала, что он целыми днями ничего не делал своего, но постоянно вмешивался в работы сотрудников, увлекался то одним, то другим. И в то же время, особенно в те минуты, когда лицо его становилось углубленно-сосредоточенным — а это бывало часто, — он казался мне совсем уж каким-то странным, чудным, что ли…
Я вдруг стала замечать, что Олег начал как-то «отключаться» от меня, вообще от окружающего. Едем мы в автобусе, его просят передать билет, а он долго соображает, чего от него хотят. И в автобусе злятся:
— С Луны свалился!
Сидим в кино, а он посередине картины спрашивает меня:
— Слушай, а этот, с бородкой, откуда взялся?
— Да он же с самого начала был!
Едим у них дома, а Олег, уже опустошив тарелку, все еще водит по ней ложкой. Я вначале пугалась, думала, что он заболел, и как-то сказала об этом Ксении Захаровне. Она засмеялась: — Это на него находит. — И с хитрецой глянула на меня из-под густых бровей: — Он вообще — того, не видишь разве? — И покрутила пальцем у виска.
И я стала замечать, что она меня под тем или иным предлогом старается выпроводить из их квартиры. То в магазин попросит сходить, то в садике с ней посидеть. Сердце, дескать, пошаливает… Мне совершенно не интересно было сидеть в садике, слушать старушечьи разговоры и смотреть, как пенсионеры играют в домино, и вое же я не уходила: сижу и сижу дура дурочкой на скамье! Такой несамостоятельности у меня еще не бывало…
Ко мне Ксения Захаровна относилась очень хорошо, только как-то необычно. Зная про наши отношения с Олегом, она никогда не выказывала этого, никогда ничего не спрашивала у меня об этих отношениях. Только потом я поняла, как она была по-своему права, не вмешиваясь во все это, давая всему идти своим путем.
Теперь о происшествии. В субботу после работы мы с Олегом решили забежать к ним поесть, а потом ехать купаться. Олег был рассеян, будто все старался что-то вспомнить, и, как всегда в таких случаях, щурился, тер пальцем нос.
Сели обедать. Он вдруг выскочил из-за стола и начал что-то писать у себя на письменном столе. Сначала стоя, потом присел на стул, забыл и про обед и про нас с Ксенией Захаровной. Она кивнула мне:
— Пусть его. Ешь, не обращай внимания. Мы уже доели второе, а он все сидел и писал. Наконец вскочил и весело произнес:
— Вот так! — И стал с жадностью есть остывший суп.
Я спросила:
— Все в порядке? — Ага!
Он быстро расправился с обедом, и тогда я, снова спросила:
— Ну, теперь с диссертацией все в порядке будет?
— А?.. — Он потер пальцем нос. — Я не об этом…
Ксения Захаровна засмеялась. Олег тоже засмеялся и сказал мне:
— И об этом и не об этом. Я, понимаешь, весь процесс вдруг по-другому увидел. Думал, думал все эти дни, и вот… Ты подожди. — Он сощурился и опять пошел к своему столу. — Теперь держитесь… Сейчас мы попробуем…
Ксения Захаровна любовно посмотрела на Олега и улыбнулась.
— Ничего, ничего, — сказала она, — пусть поколдует. Я в садик схожу, а ты пока со стола убери. — Взяла папиросы, очки, книжку и вышла.
Я убрала со стола, вымыла в кухне посуду, вернулась в комнату: Олег все сидел за столом.
Тогда я забралась на кушетку, принялась за какую-то книжку и не заметила, как заснула. А проснулась — гляжу, у Олега на столе уже горит лампа. Ксении Захаровны, нет. Посмотрела на часы: одиннадцать! Олег что-то чертил по лекалу на миллиметровке. Говорю ему:
— Здорово я заснула, да?
Но он только глянул на меня торопливо, ничего, наверно, не понял и опять уткнулся в стол. Я решила терпеливо ждать. Пошла на кухню, поставила чайник, собрала ужин. Олег наскоро поел и тут наконец вспомнил:
— Ого, да мы никуда не попали!.. Ну ты посиди минутку…
Я просидела еще два часа. Ксения Захаровна не приходила. Я расставила Олегову раскладушку, постелила себе на кушетке и легла. Ждала, ждала его, рассердилась и опять заснула.
Утром я уж совсем удивилась: Олег так и сидел за столом, глаза у него чуть ввалились.
— Выспалась? — весело спросил он. — : Ставь чай, а то есть охота — сил нет!
Подали мы чаю, он снова к столу. Тут уж я не вытерпела: взяла и ушла. Ехала в Мельничный Ручей и чуть не плакала. И потом весь тень ходила как шальная, убеждала себя, что надо характер выдержать, иначе всю жизнь так будет, а к вечеру поехала все-таки в город. Ксении Захаровны не было, а Олег по-прежнему сидел за столом. Увидел меня, заулыбался:
— Сообрази что-нибудь поесть, а? Может быть, даже и не заметил, что я уходила… Я заплакала. Он глаза вытаращил:
— Что ты, Танька-Встанька? Случилось что-нибудь?
Ну, я оказала ему все — этакая дура! Он тяжело, устало вздохнул, и чуть похудевшее лицо его со светящимися глазами впервые стало чужим. Потом он сказал:.
— Я тебя не понимаю.
Он это сказал просто так, но я до того перепугалась, что сейчас между нами все кончится, — точь-в-точь как во время объяснения с Анатолием: действительно все могло кончиться, теперь-то я знаю, — что кинулась к нему на шею и давай реветь. И мне уж все равно было, сделал ли за это время Олег что-нибудь или впустую просидел, и что обижена-то я, а не он. А Олег ласково гладил мои волосы и негромко говорил:
— Ну, ну, ничего, ничего… Ведь это моя работа…
Это была первая наша ссора, и по очень серьезному поводу, только до конца я еще этого не понимала. И след ее остался в нас обоих, хоть мы сразу же и помирились. И она была так не похожа на наши стычки с Анатолием, что и ссорой-то ее можно назвать только условно. Да Олег и вообще не умел ссориться, ему это было совершенно чуждо.
Мы уже успокоились, лежали на кушетке и целовались, как вдруг Олег сказал, точно продолжая наш с ним внутренний разговор:
— А я все-таки не зря сидел: нашел кривую, по которой надо делать днище ковша.
— Нашел все-таки!
Он помолчал, потом договорил, пристально глядя на меня, будто ожидая чего-то;
— Но это еще ничего не значит.
— Как не значит?…
— Работа моя на этом не кончилась.
Я поняла, что он имел в виду. И если вчера его одержимость в работе просто удивила и обидела меня, то теперь я почувствовала, что за ней, за этой одержимостью, скрывается нечто такое, в чем Олег никому и никогда не уступит,
23
Странное я существо. Ведь любила Олега без памяти, была счастлива, как только может быть счастлива женщина, а после этого нашего короткого разговора нет-нет да и задумывалась: что же и как дальше у нас с ним будет? Теперь я стала догадываться, что означают его выражения, вроде: «Отрицательный результат в науке тоже результат», или: «Иногда процесс исследования важен сам по себе». Ведь если Следовать этим словам, то настоящего результата, кандидатской. степени, например, можно так и не добиться, и, стало быть, кандидатская степень и положительный результат — для Олега понятия разные…
Все чаще и чаще приходили ко мне мысли о будущем. Вот поженимся мы с Олегом, а где жить? В их комнатке вместе с Ксенией Захаровной? А у нас ведь еще ребенок будет! Четверо на двенадцати метрах?! Или у нас дома, в Мельничном Ручье? Но я нисколько не была уверена, что Олег уживется с моими родителями, хотя отношения у них в конце концов как-то образовались. Особенно после того, как Светка с Костей расхвалили Олега. Очень уж разными людьми были мои родители и Олег.
После того, первого, скандала Олег стал часто бывать у нас дома. Этот скандал, враждебное отношение моих родителей, вообще всю странность и необычность этого происшествия Олег будто не принял всерьез, они точно прошли мимо него. Вначале я решила, что это просто от счастья любви, которое заслонило для нас все. А потом увидела, что Олег, может, даже бессознательно для себя, все в жизни резко, непримиримо разграничивает на основное, главное, и второстепенное. Отношения с моими родителями были для него чем-то побочным, вроде реакции его товарищей по работе на отказ от диссертации.
Я уже говорила, что отец, в общем-то, примирился со случившимся, настаивал только, чтобы мы скорее зарегистрировались, чтобы все было как у людей. Маме тоже не оставалось ничего другого. И хотя потом Олег даже стал нравиться им, относились они к нему как-то неопределенно, двойственно. Оба они, я видела, с тревожной подозрительностью спрашивали себя: что он думает о самом главном в их жизни — о хозяйстве? Я однажды сказала ему, об этом. Он засмеялся:
— Ну что ты с ними будешь делать? Их уж не перевоспитаешь: люди отжившей формации.
И — все. Отец как-то сказал:
— Вроде Кости он, три-четыре…
— Видно, уж так, — вздохнула мама. Олег всегда тянулся ко всякой технике, даже домашней. Испортился у нас холодильник, мастера надо было вызывать из города, тратиться, а Олег взял да исправил. Давно отец хотел придумать устройство для обогрева парников. Олег занялся этим всерьез, начертил схему, подсчитал что-то и потом чуть ли не целую неделю возился по вечерам вместе с отцом. Сделали уже, и вдруг Олег придумал что-то новое, заставил переделать, получилось лучше и экономичнее. Отец сказал маме:
— У этого парня, три-четыре, и голова и руки золотые!
— Да уж, бог не обидел, — одобрительно ответила мама.
Я замечала, что она нет-нет да и взглянет с удовольствием на Олега, ловкого, стройного, подвижного. Даже как-то оказала отцу:
— Ну, от этой пары у нас внучатки будут — загляденье!..
Отец посмотрел на маму, кивнул головой и произнес:
— Бабушка и дедушка! Ах ты, три-четыре!..
Но вот отцу загорелось поставить ветряной двигатель. Он явно рассчитывал на помощь Олега, стал осторожно советоваться с ним, а Олег безразлично, досадливо даже, ответил:
— Это прошлый век! Игра не стоит свеч. — И задумался: — Надо бы в схеме покопаться: уж очень она устарела.
Родители подождали. Потом мама сказала:
— Нам в хозяйстве не теория, а практика нужна.
Олег ничего не ответил. И совсем уж неладно получилось, когда родители стали намекать Олегу, что неплохо было бы, если б он вообще помогал им по хозяйству, то есть в обычных каждодневных делах. Ведь до этого он помогал им просто потому, что ему интересно было повозиться. Когда Олег понял, чего хотят от него мои родители, он удивился, засмеялся:
— Нет, я этой чепухой заниматься не буду! — Огляделся вокруг, будто впервые увидел наши хозяйственные постройки, и уже с откровенной неприязнью закончил: — Все это вредные наросты! Их сколупнуть надо, как болячки.
Такого даже Светка родителям не преподносила. Потом отец с мамой обсуждали это событие.
— Ну и дела, мать! — говорил отец. — Что за народ такой пошел непонятный, три-четыре…
— И понимать тут нечего! — сердито отвечала мама.
— Н-да… — после долгого молчания сказал отец. — Нету, стало быть, у него к хозяйству души…
— Слава царю небесному, разобрался! — с прежним раздражением ответила мать. — Не продолжатели они нашего дела. Зря мы с тобой всю жизнь спину ломали!.. — И, помолчав, добавила: — Небось Анатолию в нашем доме все было по душе…
После этого — что уж скрывать — все чаще стала вспоминаться мне одна встреча с Анатолием. Увидела его в коридоре около нашей чертежки: он стоял спиной ко мне и читал стенгазету. Конечно, подкарауливал. Я хотела пройти мимо, но он обернулся. Глаза его смотрели на меня так жадно, с такой любовью… Я поздоровалась.
— Слушай, Таня! — быстро, лихорадочно зашептал он. — Я все знаю… Знаю, что у вас с Олегом близость, ну… которой у нас не было… Но все равно… все равно!.. — Он передохнул: — Я все равно буду ждать тебя! Всегда, понимаешь?!.
А я молчала и почему-то не уходила. Только старалась не смотреть на него. А он говорил уже настойчиво, увереннее:
— Нет, ты все-таки вернешься ко мне! Сама, понимаешь? Сама поймешь, что мы должны быть вместе! Ты не сможешь жить с Олегом! Ты его еще не знаешь… Он трудный человек для семейной жизни. Почти непригодный, да-да!.. Он весь подчинен одному… И от тебя потребует полного подчинения!
Я наконец пошла. Анатолий сказал уже вдогонку:
— Даже если у вас ребенок будет, понимаешь?!
Я и потом встречала Анатолия: ведь мы работали в одном учреждении. И может, он старался специально попадаться мне на глаза. Держался он всегда очень хорошо, учтиво, вежливо, только в глазах его я всякий раз видела это особенное, упрямое, любовное выражение. Другой в его положении выглядел бы смешным и сам злился бы и конфузился. Но Анатолий был верен себе, он сумел найти такое поведение, которое все поставило на место и всем объяснило: ну, случилось и случилось, в жизни ведь все бывает, и никто от этого хуже не стал, и ничего в этом нет позорного… И у нас в чертежке над ним не смеялись, а кое-кто даже жалел его. Лидия Николаевна сказала мне:
— Молодцом Локотов держится, ничего не скажешь: не всякому такое под силу. — И вдруг заглянула мне в глаза: — А может, он еще надеется? — И твердо договорила: — Смотри!
— Ну что вы! — с испугом и возмущением ответила я.
Так же хорошо держался Анатолий и с Олегом, будто и не было того стыдного разговора в сквере. Олег говорил мне, что на следующий же день Анатолий в лаборатории при всех подошел к нему и попросил прощения. И Они, конечно, сразу помирились. И уж тем более, разумеется, Анатолий ни единой мелочью не мстил Олегу по работе, и это тоже все заметили и, конечно, оценили.
Для Олега на этом вое распри кончились, он просто забыл о них. Но для Анатолия — я это отлично знала! — ничего не кончилось. Не из тех он был людей, чтобы так просто смириться. Наоборот, неудача только усилила в нем желание во что бы то ни стало добиться своего, как он привык это делать во всех других случаях. И я не то чтобы думала или помнила об этом, но очень часто ощущала это. Такое упрямое и сильное постоянство Анатолия было чуточку даже приятно мне, как, вероятно, и каждой женщине на моем месте…
Как-то раз случайно я встретила и Софью Сергеевну. Стояла на углу после работы и ждала Олега. А она шла мимо, приветливо поздоровалась со мной первая, вроде даже обрадовалась мне и ничем не напомнила о нашем последнем разговоре. Поболтали мы с ней буквально одну минутку и о чем-то постороннем, чуть ли не о погоде, и Софья Сергеевна тотчас простилась, пошла дальше. Но я поняла то главное, что таилось в этой мимолетной встрече и что предназначалось для меня: Локотовы относятся ко мне совершенно так же, как раньше. Одним словом: реши я вернуться к ним — и, как говорится, двери открыты!
Об этой встрече я не сказала ни Олегу, ни отцу с мамой…
Я вот часто теперь думаю: почему мы с Олегом не зарегистрировались?
Потому, конечно, что любили мы друг друга очень сильно, по-настоящему, когда все другое кажется незначительным. Даже такому человеку, как я, трезвому и расчетливому. Мне, да и Олегу, наверно, казалось, что все это придет само собой. Может, если бы Ксения Захаровна или мои родители настойчиво напоминали нам об этом, мы бы пошли и записались. Но Ксения Захаровна никогда и не намекала на это, теперь-то я знаю почему. И мои родители, узнав Олега поближе, тоже тянули, будто все еще на что-то надеялись, на какие-то перемены.
И все же я так испугалась нашей размолвки в комнате Олега, что в ту же ночь сказала ему:
— Пойдем запишемся, а? Он с радостью согласился:
— Конечно! Завтра же!
Но на другой день вступила в силу та главная черта в характере Олега, которой до этого я почти не знала: раз найдя что-то, напав на след, он уже не мог остановиться, продолжал работать как заведенный. После работы я долго ждала Олега, он все не выходил. Тогда я позвонила из проходной в лабораторию и по голосу его поняла, что он только сейчас вспомнил обо мне. Обиженно сказала:
— Что же ты? Я жду, жду!.. Он спохватился, заторопился:
— Я сейчас, сейчас выхожу! Прости, забыл, понимаешь!..
Я подождала еще. Но после вчерашнего я уже представляла себе, что с ним происходит., Решила было уйти, но поняла, что это, как и вчера, ни к чему бы не привело. Смирилась и пошла в лабораторию.
Но в лаборатории оказалось много народу. Там были и Анатолий и Вагин. Все толпились около стола Олега, а он торопливо говорил:
— Мы должны учитывать четыре составляющих: собственный вес частицы, инерционную силу, составляющую от движения ковша и силу внутреннего сцепления. Вот, смотрите!.. — И начал чертить на листе бумаги.
Яков Борисыч задумчиво постукивал карандашом по столу. Туликов просто вцепился глазами в схему Олега. А Женя — она ведь не думала, что кто-нибудь ее видит, — с такой откровенной любовью и восхищением глядела на Олега, что и говорить тут было нечего. Лицо Анатолия было чуточку растерянным и даже будто испуганным, а Вагин напряженно соображал что-то. Явился уже, успел пронюхать! Или это Анатолий ему сообщил? Ведь если ковши переделывать заново — к чертям полетит премия их отделу, все сроки нарушатся! Я села незаметно в сторонке.
— Все это рассуждение кажется безупречным, — полуутвердительно произнес Яков Борисыч.
— Верняк! — убежденно сказал Туликов и засмеялся от удовольствия. — Как это ты сообразил, Олешка, что именно эта кривая нужна?
Анатолий сказал с подчеркнутой заинтересованностью:
— Это надо будет обязательно попробовать! Вагин усмехнулся, точно Анатолий ляпнул какую-то глупость. Но я видела, что беспристрастность Анатолия всем понравилась: ведь новое предложение могло перечеркнуть всю его диссертацию. И потом — опять к ней подключался Олег. Да и вообще все отодвигалось на неопределенный срок… На лице Вагина мелькнуло злое выражение, но он тут же рассмеялся:
— Не было у бабы хлопот, так купила порося. Шучу, шучу!..
— Да, хлопот здесь не оберешься, — неопределенно проговорил Яков Борисыч, глядя на Олега.
— Ну и что же? — строго спросила Женя, — Начнем все сначала, только и всего!
Анатолий молчал. Но я видела, как ему сейчас трудно. И все думала, что вот теперь уж он относится к Олегу как к настоящему своему врагу. Даже была убеждена в этом, хотя ничего этого, конечно, нельзя было заметить по его лицу. А Олег жил в своем мире, для него все эти мелочи не существовали. Он долго смотрел на Якова Борисыча, точно выделяя его из всех присутствовавших, и сказал наконец:
— Хлопот, действительно, может быть много, а результат — того…
— Что это ты?! — удивленно проговорила Женя.
Он пояснил, чуть растерянно улыбаясь: — Кто его знает, пожалуй, мы с тобой, — он посмотрел на Анатолия, — уже исчерпали все возможности. Ведь автомобиль, например, нельзя заставить летать…
Я видела, как Вагин облегченно полез в карман за папиросами. Лицо Анатолия оставалось непроницаемым. А Олег, чудак, пытался успокоить и ободрить Анатолия:
— Но процентов на пять, на восемь мы производительность еще поднимем.,
И Суглинов поддержал его:
— Во всяком случае, теоретическая часть диссертации становится очень интересной и серьезной!
Мне показалось, что Анатолий вот-вот спросит: остается ли в силе распоряжение Снигирева, что все материалы идут для его, Анатолия, диссертации? Все-таки сдержался, не спросил. А Олегу это, конечно, было ни к чему. Да и остальным, наверно, было сейчас не до того. Прав Анатолий, мы соображаем с ним одинаково. И Вагин почему-то ничего не сказал. И тут я опять испугалась: что же, снова у Олега ничего с диссертацией не выйдет? Сколько же можно ждать? Для чего ж он как проклятый, сидел всю субботу и воскресенье? Так без конца мучаться!..
И услышала только, как Вагин, уже уходя, негромко говорил Анатолию — они оба не видели меня из-за стенда:
— Ну и башка у твоего напарника! Не боишься?
Анатолий не ответил.
— Ну, ничего, — договорил Вагин. — Кривая сложная Еще вопрос, как ее по шаблону удастся выгнуть. Да и при сварке повести днище даже очень просто может…
Он будто намекал, что у Олега может ничего не получиться, но Анатолий молчал. Вот, значит, почему Вагин не спросил Олега, по-прежнему ли он отказывается от диссертации в пользу Анатолия: Вагин хотел припугнуть Локотова, который был ему нужен как союзник. Ну и тип!..
Они ушли. Олег продолжал сидеть за столом, про меня окончательно забыл! И Женя, не таясь, с жалостью и любовью смотрела на него. Хотела ему помочь и не знала, как это сделать. И вдруг я подумала, что она куда ближе Олегу, чем я, и понимает его до конца. Я выскочила из-за стенда. Олег обрадовался мне, заулыбался, встал:
— Прости, прости, засиделся! Ну пойдем! Женя резко отвернулась, Яков Борисыч и
Туликов сделали вид, что ничего не заметили, И все те дни он был какой-то отсутствующий и все торопился домой, и было в лице Олега что-то такое, что мешало мне заговорить с ним начистоту, — он все равно бы не понял. Вот тогда я и стала задумываться все больше и больше. А Ксения Захаровна по-прежнему ни во что не вмешивалась, так же редко бывала дома. Но мама сразу же заметила мое новое состояние, сказала со свойственной ей грубостью:
— Гляди, девка, как бы матерью-одиночкой не оказалась! Вот принесешь в подоле…
24
К Игнату Николаевичу мы с Олегом чуть не опоздали: он вспомнил о приглашении уже вечером. Ужинали у них дома, вдруг Олег и говорит досадливо:
— Вот дела, ведь мы сегодня должны быть у Игната Николаевича: у него какое-то семейное торжество, — И с сожалением посмотрел на свой стол.
— Сходите, сходите! — настойчиво подхватила Ксения Захаровна и посмотрела на меня: пусть, мол, Олег развеется немного.
А я подумала: вот о нем она заботится, а что я вечерами кисну в их комнате — ей и дела нет. Но вслух сказала:
— Надо сходить. Неудобно людей обижать! Слышишь?
Все чаще, сама не замечая того, я говорила с Олегом таким тоном, а он только весело смеялся мне в ответ, глядя, как на маленькую. И сейчас тоже улыбнулся, но проговорил устало:
— Вот эти условности что с людьми делают! Сидеть бы мне да работать, так нет, тащись… И ведь Игнат Николаич не очень-то меня жалует.
— Странный ты человек, — ответила я. — То для тебя все как родные, а то будто и нет никого вокруг!
Олег и Ксения Захаровна удивленно и молча глядели на меня. Потом Олег обнял меня, поцеловал:
— Устала ты со мной? Но, понимаешь, такой уж у меня способ жить… По-другому не получается…
— А как же тебе, интересно, по-другому надо жить? — твердым голосом спросила Ксения Захаровна.
— Да мне-то по-другому не надо, вот ей со мной несладко. Ну ничего, ничего, все будет хорошо!
Я сама тогда удивлялась, откуда у меня эта раздражительность берется. Ведь люблю Олега, дня не могу без него прожить, и в то же время — такое…
Ксения Захаровна как-то раз осторожно спросила меня:
— Слушай, Таня, ты, часом, не в положении?
— Нет…
Но однажды я нарочно заговорила с Олегом об этом. Он рассмеялся:
— Ну откуда я знаю? Легкомысленный ответ Олега сильно обидел меня, но я ничего не стала ему говорить. А потом как-то спросила об этом Ксению Захаровну. Она печально вздохнула и ответила:
— Понимаешь, он ведь в блокаду настоящим дистрофиком был.
— Может, мне к врачу его сводить?..
— Не знаю… Не обиделся бы он…
И я никогда еще не видела у нее такого растерянного и огорченного лица.
Есть, конечно, женщины, хоть таких, наверно, и мало, которые или вовсе не хотят ребенка, или могут смириться с тем, что его у них нет. А я хотела ребенка, очень хотела, без него любовь казалась мне неполной. И я все острее и острее чувствовала это. Олег ничего не замечал или не понимал. А Ксения Захаровна очень хорошо понимала и поэтому прощала мне и раздражительность, и этот тон…
Когда мы приехали, у Антиповых уже сидели за столом. И мне было досадно, что я из-за глупой забывчивости Олега явилась в простом платье, в котором ходила на работу. А я догадывалась, что для Игната Николаевича и Полины Ивановны это неприятно, даже чуточку оскорбительно: ведь это праздник, и, значит, мы их не уважаем. Но уж совсем нескладно вышло с подарком. Олег все не мог вспомнить, какое именно у них семейное торжество, и мы купили просто цветы. Даже Николай Ильич сказал:
— Смотри-ка, Игнаша, тебе подарочек; как невесте!..
И все засмеялись. За длинным столом потеснились, и мы с Олегом сели у самого края. Пока нам ставили приборы и накладывали закуску, я огляделась. Наши были в полном составе, даже Снигирев сидел рядом с Николаем Ильичом, а по другую сторону от него — Анатолий. Один. Вот с ним бы я уж никогда не попала в такое нелепое положение!.. Женя рядом с Павлом, одетым, как на свадьбу. Лидия Николаевна оказалась около меня, помогала Полине Ивановне. Были и Вагин с Верой, она смотрела на меня холодно, отчужденно: то ли он ее настроил так, то ли сама она не могла мне простить измены Анатолию, которого очень уважала.
В их доме странно переплетались старина и новое. Свежие обои, белые потолки, стеклянные двери во всю стену и — старинные фотографии, еще довоенные: Игнат Николаевич в форме без погон, тогда еще их не носили, напряженно-строгий; они вдвоем с Полиной Ивановной: он сидит на стуле в начищенных русских сапогах и брюках с напуском, а она стоит сзади, держится за его плечо. А рядом та фотография из Комарова: совсем другие люди, еле узнать можно.
Говорили все наперебой. Лидия Николаевна подтрунивала над Полиной Ивановной:
— Ты, Полюшка, как наседка над нами квохчешь и зернышки подбрасываешь.
А та, хлопотливая, раскрасневшаяся от выпитого вина, деловито ответила ей:
— Тебе, бездомовнице, смешно, а мне людей честь по чести принять надо. — И радушно предложила соседке: — Катенька, ты огурчиков возьми: сама солила.
— Да не слушай ты ее, пигалицу! — медленно выговорила стокилограммовая Катенька. — А ты не завидуй, Коза! Не умела свое счастье построить, так на людей не злобствуй, смирись!
— А если я не умею смиряться? — неожиданно горячо спросила Лидия Николаевна.
И в глазах ее временами загорался тот упрямый, непримиримый огонек, который я уже хорошо знала. Не все, значит, просто в семье Антиповых!..
Коробов солидно поучал Туликова:
— Ты жизнь бери как она есть! — И с аппетитом, смачно разгрызал огурец. — Не тобой она установлена, не тебе ее и менять!
Люба, жена Туликова, улыбалась мне своими лучистыми глазами, осторожно притрагивалась к еде. А Туликов отвечал Коробову:
— Я не об этом говорю, Афанасий Лукич. Я говорю о творческом отношении к делу.
— Афоня все за инструкции прячется, — весело сказал Олег.
— Мы с тобой на разных языках… — медленно багровея, зло отвечал Коробов. — Ты сначала докажи, а потом и демагогию разводи…
— Не такой вы, простите, дурак, Афанасий Лукич, — негромко проговорил Туликов, улыбаясь всем своим ехидным лицом, тонкими губами, — чтобы дать нам основания для подобного доказательства.
— В таких случаях совесть — лакмусовая бумажка, — поддакивал Олег.
— Подождите, ребята! — растерянно и с неожиданной для него искренней обидчивостью сказал Коробов. — Неужели вы всерьез обо мне так плохо думаете? Да ведь я за все наше, если надо, жизни не пожалею!..
И вдруг Женя — она, оказывается, все время слушала этот разговор — строго сказала:
— Зря обижаетесь, Афанасий Лукич. Просто вы один из тех людей, которые умеют только автоматически выполнять заранее заданную программу и считают это самой лучшей нормой и для себя и для других.
— Верно, Женька! — восхищенно произнес Олег.
И я видела, как блеснули у нее глаза.
— Ну, знаете, это уж!.. — сбычившись, оскорбленно ответил Коробов. — Автоматом себя не считал, спасибо! — И замолчал.
А Женя с неумолимой напористостью, вроде той, что бывала у Лидии Николаевны, договорила:
— А бездумная, слепая старательность часто доводит дело до провала.
И опять Олег одобрительно посмотрел на Женю. А мне было это обидно, потому что сама я никогда бы не сумела так поддержать Олега, как она. И тут я подумала, что серьезно мы с Олегом еще ни разу не поговорили о жизни. И опять испугалась. Неужели прав Анатолий?
С ним мы тоже почти не говорили об этом, но я знала, что с ним мне этого и не нужно. А с Олегом? Я чувствовала, что с ним должна быть другой. Но какой? Посмотрела на Анатолия. Он сидел рядом с Вагиным, молчаливый, подтянутый, воспитанный. Встретившись со мной глазами, поспешно отвернулся. Ох, как все сложно и трудно у меня!..
А Вагин с Яковом Борисычем заспорили между тем о литературе:
— Вот в этом-то все и дело, дорогой вы мой, что разговоры о так называемом положительном герое просто не нужны, и все тут! Он должен быть, и — все! А разговорчики вокруг него, хотите вы того или не хотите, вносят элемент сомнения в самом праве на его существование! — веско произносил Вагин.
— Вот в этом, Виктор Терентьич, — очень серьезно отвечал ему Суглинов, — и есть главное у нас с вами расхождение. Да-да! Послушайте меня минутку. Я думаю, вы согласитесь, что настоящее произведение искусства создает творец, а не ремесленник. А значит, в нем неизбежен элемент открытия. А где открытие, там и споры и обсуждения. Не так ли? Поэтому и о положительном герое надо спорить. Но в одном я с вами согласен: положительный герой в жизни есть, он всюду, рядом с нами, и он должен не только быть в литературе, но и занимать ведущее место.
К их спору присоединились, другие, и в комнате становилось все шумнее. Стол был богатый, обильно уставленный едой и вином. Пища простая, сытная, не деликатесы, как у Локотовых. Но все очень вкусное: Полина Ивановна любила и умела готовить. Мне очень понравились грибы, и я все подкладывала их Олегу. Он ел, улыбался мне с полным ртом и прижимался ласково плечом…
А с того конца стола непрерывно долетал беззлобно-насмешливый голос Николая Ильича:
— Вот, слава богу, детей-внуков вырастил, хоть на выставку! Ну, Игнаша, краса и гордость наша, и дом у него полная чаша, наливай-угощай гостей, не жалей лаптей!..
Игнат Николаевич, не замечая скрытой иронии в словах отца или не придавая ей значения, по-хозяйски расправив плечи, расставив локти, говорил значительно и неторопливо:
— Мне что нравится у Алексеева?.. Олешка, а Олешка?.. — Он грозил Олегу пальцем, улыбался с радушием уже подвыпившего человека: — Ты еще молодой, ох, молодой!.. — Он будто намекал на что-то. — Но я тебя уважаю! За рабочую хватку уважаю! Вот Пашка наш послабее тебя будет, я как отец говорю!.. Но что я хочу сказать?..
— Про заслуги свои скажи!.. — подзадоривающе кричала с нашего конца стола Лидия Николаевна.
— И скажу! Ты, Коза, знаешь!.. Спасибо, что вы все пришли! И вам спасибо, Филипп Филиппыч! — отдельно сказал он Снигиреву. — Ведь что приятно?.. Мы все работаем вместе, вместе сидим сейчас… Бывает в нашей работе всякое. Ну когда и поругаемся: без этого дело не делается! Но ведь что главное? Все мы работники! Работали, работаем и работать будем, и без этого жить не можем!
Все зашумели, поднялись, выпили. Игнат Николаевич продолжал:
— И я вас всех уважаю! Хоть и разный, конечно, народ, а уважаю! И похвастаюсь, Коза! Вот молодежь подчас с усмешкой на нас поглядывает… А мне, к примеру, до пенсии еще восемь лет, а хоть сейчас уходи!
— Во-во! — не удержавшись, поддакнул Николай Ильич.
Все дружно засмеялись.
— Я не в том смысле, батя! Я уходить с работы не собираюсь! Я о том, что досрочно, так сказать, свою долю общего выполнил. И на работе, и на фронте, и вот в дому! А которые молодые или там неудачники завидуют, так они понимать должны, что это заслужено. Все это — он обвел руками и стол, и гостей, и комнату — заслужено! А, мать?.. — Он поднялся: — Предлагаю здоровье Полины Ивановны!.. Все опять выпили, кто-то захлопал. Я видела, что Анатолий только для вида поднимал свою рюмку, а Вагин пил до дна, и Вера тревожно косилась на него. Олег тоже выпивал все, но почему-то не пьянел, как тогда со Светкой и Костей. Вдруг Лидия Николаевна крикнула:
— Горько!
И все сразу же подхватили. Я подняла голову: смотрели на нас с Олегом. И он радостно, спокойно улыбался мне. Мы поцеловались. Я только подумала: зачем это Лидии Николаевне? Чтобы перед всеми показать наши с Олегом отношения, закрепить их этим? Ведь видела же, наверно, как побледнел Анатолий, как опустила глаза Женя? Полина Ивановна словно поняла, о чей я думаю, и будто в отместку Лидии Николаевне сказала, глядя на Женю и Павла:
— Горько!
Все, конечно, опять подхватили. Павел залился багрянцем от волнения и радости: ни разу еще, наверно, они с Женей не целовались. У Жени лицо стало упрямое, холодное, она повернула его к Павлу, и он неумело поцеловал ее.
Николай Ильич звонко кричал:
— На свадебках погуляем, молодежь? Смотрите!
Мы с Олегом в один голос ответили:
— Обязательно!
И Женя упрямо повторила:
— Обязательно!
Павел держал ее за руку, точно боялся отпустить, себе не верил…
25
Случились эти события уже очень поздно, почти ночью.
Столы давно были отодвинуты в угол; кто танцевал, кто пил чай, часть гостей разошлась, часть мужчин все не могла оторваться от стола с вином и закуской. Я танцевала с Вагиным назло Вере, которая так и не разговаривала со мной. Он крепко держал меня за талию, прижимал к себе, но я не отодвигалась: пусть Вера видит, какой у нее муженек!.. А Вагин шептал мне в ухо:
— Знаете, Танечка, в средние века были такие алхимики. Всю жизнь делали опыты, искали золото — и все впустую!
Я понимала, что он намекал на Олега, но молчала. И видела, что Женя с недоумением и осуждением смотрит на меня. Она неподвижно сидела рядом с Павлом и была какая-то усталая, точно те крики «горько» и поцелуй сломили ее. Мне надоел Вагин. Я остановилась, взяла его за руку, подвела к Вере, сказала:
— Заберите, пожалуйста, от меня вашего мужа. Сладу с ним нет!
Здорово вышло! Женя засмеялась, Вагин прямо-таки онемел от злости, а Вера чуть не заплакала. А я отошла хоть бы что, только все не могла понять: почему сама-то злюсь?.. Огляделась вокруг — Олега нигде не было. И Анатолия тоже. Вышла на балкон. В это время Снигирев, Олег и Анатолий тоже подошли к балкону и, беседуя, расположились в креслах у дверей. Мне было странно видеть Снигирева в домашней обстановке. В лаборатории он всегда был. какой-то замкнутый, недоступный, погруженный в свое, а здесь я вдруг увидела, что он просто старик. Большая, наголо бритая голова его чуть устало клонилась вперед, мохнатые, мужицкие брови казались наклеенными, глубоко запавшие глаза смотрели спокойно и умно. Олег держался свободно, Анатолий сидел настороженный, скованный, будто волновался или ждал чего-то.
— Ну, сеньор, видел я ваш сюрпризик, — весело говорил Снигирев Олегу. — Надеюсь, слово свое помните, как черт на него работаете? — Он кивнул на Анатолия.
— Само собой, — так же весело отвечал Олег, Я заметила, что Анатолий чуть пошевелился в кресле и снова выжидательно замер.
— Теперь у вас, Анатолий, будет именно то, чего не хватало раньше: солидная теоретическая часть.
На этот раз, когда все уже стало ясно, Анатолий все-таки сказал:
— Несправедливо это, Филипп Филиппыч. Вы меня ставите просто в неловкое положение…
— Это он, а не я, — засмеялся Снигирев. — А насчет того, что теория моя устарела и горит, сеньор, так я сам тоже старый волк: не вы, так другой. Жизнь ведь не остановишь, не затормозишь. Да и длительно действующих тормозов для нее придумать нельзя. Некоторые, впрочем, всю жизнь специализируются на изобретении подобных тормозов. Их две категории, этих изобретателей. Одни создают вечный двигатель и тормозят этим. Но самые хитроумные изобретатели тормозов — те, кто вертится около. Около науки, например.
Олег с любопытством слушал, хотел что-то сказать, но его опередил Анатолий:
— А почему вы, Филипп Филиппыч, считаете, что у Олега ничего не получится?
— Почему не получится? У него обязательно получится! Уже сейчас его предложение очень интересно. Даже практически: еще на несколько процентов поднимет производительность. Но из элеваторов, друзья, к сожалению, уже больше ничего нельзя выжать!..
Мне так и хотелось спросить: «А что же вы тогда Олегу сразу не сказали?» Но он негромко, раздумчиво проговорил:
— Он где-то очень недалеко от верного пути. Я имею в виду не элеваторы, это, в сущности, задача детская. Олег очень приблизился к новому и верному пониманию теории сыпучих тел. Но тут ему никто ничего подсказать не может, даже я. Вот если он найдет ее, тогда моя теория сгорит, выражаясь вашим языком. Но и тогда все-таки даст ему дрова и пламя, а?… — И он засмеялся,
Странные люди! Судьба, можно сказать, у человека решается, а они смеются. Анатолию и Снигиреву, конечно, хоть бы что, а вот Олег-то почему радуется?!
— Ну, а вы проворонили девушку, увел он ее от вас? — спросил Снигирев у Анатолия.
Олег засмеялся, хлопнул Анатолия по плечу, тот развел руками: где уж нам уж, дескать!..
— Ничего, ничего, — сказал Снигирев. — Каждому свое. А вот первые шаги в науке никому не уступайте. Ничего нет в жизни слаще, чем процесс исследования и результат его. Как любовь и ребенок. Особенно если это первая любовь и первый ребенок. Ничего не уступайте нам, старикам, кроме места в трамвае!..
Они помолчали. Да, такой учитель Олега научит!..
— А жену надо выбирать с умом. Она должна быть, само собой, любовница и друг, но, главное, донимающая. Ведь на все в жизни нужны силы. И духовные и физические. А у нас с вами их еле-еле хватает на одно. На то, что считаем главным в жизни, что должны сделать в ней… А они, эти понимающие, еще реже, чем красивые. — Он засмеялся, подчеркнуто легкомысленно договорил: — Вот у меня покойница была — хоть на обложку модного журнала, и любила меня без памяти, а только одного словечка не знала…
— Какого же? — быстро спросил Анатолий. — Творчество, — полуутвердительно проговорил Олег.
— Угадали, сеньор, — вздохнул Снигирев.
И вот здесь и произошло то удивительное, что я так хорошо запомнила с того вечера. Снигирев сказал:
— Через пять месяцев могу на пенсию. Не уйду, не радуйтесь: я уж как-нибудь у бога себе пенсию выхлопочу. А вот теперь, сеньор, — он почему-то все время называл так Олега, — о том, для чего я вас сюда затащил. Хочу постепенно знакомить вас с работой всего нашего сектора.
— Я для административной работы не гожусь, — быстро проговорил Олег. — Да и ни к чему мне это. Мое дело — дело делать.
— Дурак вы, сеньор, — негромко, ничуть не обидевшись, ответил ему Снигирев. — А это — не дело?
Олег будто нисколько не удивился предложению Снигирева, а Анатолий вздрогнул и стал медленно бледнеть. И в самом деле, не шуточка: он начальник лаборатории, без пяти минут кандидат наук, а предлагает Снигирев не ему, а Олегу. Через голову, так сказать. И почему только, интересно?..
— Хватит! — уже строго прервал возражения Олега Снигирев. — Это не завтра будет и не через год и не через два, я умирать не собираюсь. Постарайтесь меня понять. Я всю жизнь работал, а теперь сбросить на кого попало? Нет уж! Придется и эту область вам освоить! — Он тяжело поднялся. — Так что прошу это учесть, а вас прошу не обижаться, — сказал он Анатолию. — Надеюсь, вы все понимаете.
Те оба тоже встали.
— Конечно, конечно, — поспешно проговорил Анатолий.
— Да, а вам надо будет диссертацию все-таки защитить, — вспомнил Снигирев, обернувшись к Олегу. — Возьмите какую-нибудь тему походовитее. Жизнь есть жизнь, и в ней иногда полезно, чтобы честный человек имел официальное признание. А то ведь вольноотирающийся от науки может не поверить, что вы ученый, если у вас нет степени!..
— Вольноотирающийся? — удивился Олег этому непривычному слову.
— Я имею в виду сейчас не ту презрительную кличку, которой когда-то называли офицериков-шаркунов. Вольноотирающийся — понятие общеземное: это удивительная помесь самодовольного невежества, пошлости, эгоизма и многого другого в этом же роде. Ну, веселитесь. — И он отошел от них,
Я была удивлена и обрадована этим предложением Снигирева и хотела узнать, о чем же будут говорить Олег с Анатолием. Они молча сели снова, Олег достал папиросы, закурили. Анатолий как-то весь дернулся и вдруг заговорил злым, свистящим шепотом; и мне было видно, как у Анатолия часто-часто бьется жилка на виске, и было почему-то жалко его и стыдно на него глядеть.
— Нет, ты мне скажи, скажи!.. Я работаю как вол! Я стараюсь, я все время стараюсь! Почему же все достается тебе?!
— Брось, не обижайся, — мягко попросил его Олег и даже положил ладонь ему на колено; я видела, что он искренне жалеет Анатолия и, кажется, не понимает его. — Это все у шефа мечты — я ведь никогда не соглашусь. — И вдруг сказал! — Понимаешь, ведь все равно начальником будешь ты! — Почему это?
— Не знаю… А только именно ты будешь, а не я. Ты вспомни, ведь всегда так получалось. В таких делах у нас с тобой всегда так получалось.
— Нет! — Анатолий огорченно покачал головой. — Ты становишься старше, с тебя детская шелуха слезает. И самое смешное, что шеф прав, ты действительно больше подходишь, чем я. Я вижу! Но не в том дело! Почему тебе в жизни все легко дается?
Олег помолчал, щуря от дыма глаза, и ответил:
— Если уж так говорить, то не очень-то легко. Вспомни, ты в Кузбасс не поехал, а я там помучился крепко, зато практику на всю жизнь получил. Теперь вот что. Ты уже третий год начальник лаборатории, много времени у тебя уходит на всякие административные дела, а в нашем возрасте это еще недопустимая щедрость, нам еще науку надо своими руками щупать и щупать!.. Не обидишься, если все на чистую скажу, раз уж такой разговор пошел?
— Говори!
— Ты всегда, Толька, видимый, показной результат принимаешь за подлинный, настоящий. Сейчас, сейчас поясню. — Он помолчал, взглянул Анатолию прямо в глаза и продолжал: — Раньше для тебя было очень важным стать начальником лаборатории, я ведь знаю. Теперь надо прежде всего защитить диссертацию, получить степень, а научный результат где-то на втором плане. И честолюбие у тебя чрезмерное. Тебя и сегодня, не сердись, обидело, что шеф сделал предложение мне, а не тебе.,
— Нет, суть не в этом… Ты уж все говори, не бойся. Я неталантлив, Олег!..
— Я сейчас не об этом… Ты пойми, о чем я толкую. В жизни надо ежедневно, ежечасно следовать одному, главному, что считаешь своей целью. Вот так, как Ленин это делал! И сама цель должна быть высокой, понимаешь? — горячо говорил Олег. — Если любишь науку, то ищи в ней для себя высокую цель. Не трать себя на мелочи. Не ищи всяких благ. Знаешь, — совсем тихим шепотом проговорил он, — я часто проверяю себя: а как бы Ленин поступил в том или другом случае, честное слово! Подумать только, как он работал, как трудно было ему в тюрьмах, в ссылках и за границей! А после революции? Сколько он сделал для всех людей на земле! Вот это и есть главное: иметь в жизни высокую цель.
Они снова замолчали. Я никогда еще не видела у Олега такого просветленного лица. Он сидел неподвижно, напряженно подняв голову, и пристально смотрел вдаль. И Анатолий поглядывал на него послушно, как на старшего.
— То же самое и в дружбе, и… — начал было Олег.
— Слушай, мы ведь с тобой дружим, как и дружили? — вдруг каким-то просительным тоном перебил его Анатолий,
— Конечно!
— Но я хочу честно предупредить тебя…
— Ну?
— Таня может вернуться ко мне!
— Ну что ты!.. — рассмеялся Олег. — Неужели ты… ее звал?
— Звал. Потому что уверен — ей со мной будет лучше. Ты только на меня не обижайся, Давай и об этом говорить откровенно,
— На что ж я могу обижаться? Ты человек честный. Ведь я тебя, Толька, двенадцать лет знаю. Смешно было бы мне от тебя какую-нибудь подлость ожидать.
— Подлости бывают очень тонкие… — Анатолий как-то противно засмеялся.
— Тонкие или толстые — все равно подлости! Почему ты вообще об этом заговорил? У нас с нею все хорошо.
— А вот сегодня шеф говорил про понимающих жен… Ты что об этом думаешь? По-моему, у нее по отношению к тебе этого нет, а ко мне — есть! Ты не сердись, я по-честному, как друг!
— Сейчас нет — потом будет. Она не дура.
— Для этого нужно время. Да и потом… Шеф прав: когда-нибудь и ты будешь терпеливым воспитателем, а пока что, мало на него похож. Сколько же ей ждать?
— Мы любим друг друга, понимаешь ли ты это?
Анатолий опять негромко, с едва заметным превосходством засмеялся:
— Как все увлекающиеся люди, ты многого не видишь… Жизнь сложна, а ты в своем однобоком увлечении работой не хочешь ничего видеть, все упрощаешь.
— Это не упрощение, а честность.
— Ладно, ладно. Пусть будет по-твоему. Помни только, что я тебя предупредил!
— Ладно, запомню.
— Ты хорошо понял, что я хочу сказать? Я буду по-прежнему добиваться ее! Всегда и всеми силами!..
— У тебя ничего не выйдет.
— И еще. Ты извини за этот нескромный вопрос: почему у вас до сих пор ребенок… не запроектирован?
— Фу ты господи! — Олег встал. — Пойдем лучше выпьем…
— За ребенка? Или за твое будущее начальствование?
— Вот ты ничего, Толька, не понял.
— Не скажи. Ребенок — это цемент для семьи!
— Слова-то какие… — Олег пошел к другим о чем-то громко спорившим гостям.
Я тоже вошла в комнату, где стоял сильный шум. Я уж решила, что кто-нибудь, выпив, заскандалил, но ошиблась: спорили все о тех же планетарных лебедках. Не зря, видно, Олег ходил тогда к. комитет комсомола…
— Вам-то уж это не к лицу! — позванивающим голосом говорил Вагин Якову Борисычу, и глаза его от злости были совсем темными.
Все Антиповы и Женя стояли вокруг, не было только Снигирева. Яков Борисыч отвечал Вагину спокойно, но лицо его сделалось камен-но-твердым, каким часто бывало при разговоре с Вагиным. Игнат Николаевич с откровенной опаской смотрел на Суглинова, из-за его плеча выглядывала встревоженная, растерянная Полина Ивановна. А у остальных Антиповых были такие лица, каких я еще никогда не видела: решительные и строгие. Только Павел волновался и все хотел что-то сказать, торопился, но Женя останавливала его. Что же все-таки случилось и кто все это начал?..
— Давайте восстановим всю историю сначала, — говорил Яков Борисыч.
— Пожалуйста! — ответил Вагин.
— И ваш отдел, и на заводе знали, что теоретические разработки КПД планетарных передач недостаточны, нуждаются в дальнейшей экспериментальной проверке?
— Ну? — спросил Вагин. — Схему-то лаборатория дала?!
Игнат Николаевич промолчал. Теперь уже рядом со мной стояли Олег и Анатолий, и Вагин быстренько, точно искал поддержки, поглядел на Анатолия, но тот, настороженно, будто что-то решая, смотрел на Суглинова.
— Схему дала лаборатория, против этого никто не возражает, — сказал Яков Борисыч.
— Мы никому не позволим возводить напраслину!.. — Чувствовалось, что у Вагина еще не прошел хмель; может, поэтому и молчал Игнат Николаевич, боялся сказать неосторожное слово?
Николай Ильич, невысокий, сухонький, шагнул вперед, легонько нажал ладошкой на грудь Вагина — тот послушно отступил, — сказал по-хозяйски размеренно и строго:
— Не сепети, паренек!.. За мной полста лет работы, понял? И на исходе жизни я краснеть не буду!
Я удивилась: всегда он просто шутил, точно не придавал большого значения работе, подсмеивался над другими, и — вдруг такое! Да и все Антиповы смотрели сейчас так, что я поняла: шутки шутками, а дело для них — делом!
— Когда лаборатория давала схему, — продолжал Яков Борисыч, — она оговаривала положение центра тяжести водила, так?
— Мы об этом ничего не знали… — растерянно произнес Павел и повернулся к Вагину. — Как же так, Виктор Терентьич?
— Ай, да подожди ты!.. Анатолий Кузьмич, что ж ты молчишь, ведь я с тобой согласовал новое его положение? — спросил Вагин у Анатолия.
— Этого не было, Виктор Терентьич, — отчетливо-ясным голосом проговорил Анатолий.
— Так, так, так… — отчаянным шепотком произнес Вагин, отводя плечо. — За это, знаешь, дружок, морду бьют!..
— С этим успеется, — повторил Олег, как когда-то говорил Анатолию, и заслонил его плечом.
Все смотрели на Анатолия, но он спокойно сказал:
— Вы запамятовали, Виктор Терентьич; такие вещи я обязательно оформляю документом, вы это отлично знаете.
Я видела, что все верили Анатолию. Я и сама верила: такой бы подлости он никогда не сделал!
Вагин, по-рыбьи перехватывая воздух разинутым ртом, обвел всех округлившимися от бешенства глазами. Плечи его судорожно вздрогнули, он резко обернулся, крикнул:
— Вера! Домой! — Пошел к дверям, сбивчиво говоря: — Мы это еще на коллектив вынесем!.. Чернить честных людей!..
— Что же это?.. Товарищи?.. — Вера заплакала, двинулась за ним как во сне.
Суглинов обернулся к Игнату Николаевичу, хотел что-то спросить, но Анатолий опередил его:
— Игнат Николаевич, а при сварке не повело днища новых ковшей?
— Каких ковшей? — замигал Игнат Николаевич. — Не знаю, подождите, не до этого!..
Ага, ведь Вагин говорил Анатолию об этом!..
У Якова Борисыча по-прежнему было холодно-строгое лицо. Он сказал, будто ничего решительно не произошло:
— Лебедки дают тридцатипроцентную мощность от расчетной. Боюсь, что дело здесь не только в искаженном положении центра тяжести водила, но и в сниженном, по сравнению с заданием, классе обработки, в точности монтажа. А, Игнат Николаевич?..
— Что вы! Мы все делаем, как конструктора спустили!.. — начал Игнат Николаевич.
— Подожди, Игнат, — перебила его Лидия Николаевна, подходя к ним и, словно от жары, облизывая губы; Игнат Николаевич с испугом смотрел на нее. — А что ты пьяный только что говорил?
— Побойся бога, Лидия! — крикнула ей Полина Ивановна. — Ведь человек спьяну!
— Молчи, Полька! — крикнул ей Николай Ильич. — Что у трезвого на уме… Говори, Лида!
— Я же шутил, Лида!.. — просительно сказал ей Игнат Николаевич.
— Заелся ты, Игнат! — горестно и непримиримо выговорила Лидия Николаевна. — Он, батя, похвалялся тут, что премию наверняка получит… Говорил, что лебедки чохом спихнет… Говорил, что колеса не цементирует… Говорил, что для скорости прессовые посадки заменил скользящими…
Лидия Николаевна произносила эти слова будто против своей воли и все вытягивала, вытягивала шею… Смотреть на нее было страшно. Вокруг стало совсем тихо. Игнат Николаевич в такт ее словам бессильно прикрывал веками глаза, точно защищался от ударов. Николай Ильич плаксиво морщился и невольно отодвигался от Игната Николаевича.
— Врет она, батя! — крикнул Игнат Николаевич.
— Эх, Игната, Игната… — медленно проговорил Николай Ильич и стал вдруг таким, что я увидела: ему далеко за семьдесят…
Повернулся, ссутулился и шаркающей походкой побрел к дверям. Лидия Николаевна заплакала, качнулась и пошла за ним. Игнат Николаевич и Полина Ивановна кинулись к Николаю Ильичу, цеплялись за его руки и плечи, уговаривали, просили…
— Это еще проверить-доказать надо… — с твердил Игнат Николаевич.
В дверях Николай Ильич обернулся, медленно оглядел комнату, будто навсегда прощался с ней, обнял Лидию Николаевну за плечи, и они вышли…
Случилось все это так быстро, что никто из нас и опомниться не успел,
28
Когда Николай Ильич и Лидия Николаевна ушли, Женя, стоя посредине комнаты, сверкая глазами, громко и с восхищением проговорила:
— Какой замечательный старик! Вот это рабочая гвардия! — И безжалостно докончила: — И он уж не вернется! Нет, не вернется ни за что!
Полина Ивановна плакала, Игнат Николаевич, какой-то сникший, бестолково суетился около стола, переставлял зачем-то рюмки и тарелки, руки его дрожали. Стокилограммовая Катенька сердитым басом укоряла Женю:
— Постыдилась бы, девушка! Я эту семью с детства знаю, и тут же на моих глазах она разваливается… Совесть иметь надо! Доказать еще надо!
Яков Борисыч, неподвижно стоявший у стены, сказал:
— Есть в жизни случаи, Катерина Александровна, когда доказательство — вещь как бы второстепенная. Их может и не быть в нужный час, но человек так пошатнется, что ему недолго и оступиться. И наше дело — вовремя, поддержать его, даже спасти, если хотите! — Он помолчал, глядя на Игната Николаевича, и, точно ожидая от него чего-то, продолжал, волнуясь: — Вы думаете, всем нам не дорога эта семья? Да я всегда привык ими гордиться!
— Вот я же и говорю!.. — обрадованно подхватила Катенька.
— Ну что здесь особенного? — плачущей скороговоркой зачастила Полина Ивановна. — Ну поторопились, так ведь поправить можно! Яков Борисыч, ведь Игнаша же хотел как лучше! — Она умоляющим жестом прижала к груди руки, — Как же это, отец? — шепотом спросил Павел.
Игнат Николаевич долго смотрел ему в глаза, тоже шепотом ответил:
— Черт попутал, Паша… Да ты пойми! — И протянул ему руку. Плечи Павла вздрогнули, он резко отвернулся.
Олег потянул меня за руку, и мы вышли. За нами по лестнице спускались Анатолий, Яков Борисыч и Женя. Уже на улице Анатолий нерешительно сказал:
— Не чересчур ли уж резко мы с ними? — И лицо у него было будто чуточку испуганное.
— А вы как же думали?! — Голос Жени зазвенел непримиримостью.
Яков Борисыч сказал:
— Ну, мы еще все это разберем. А насчет того, что не резко ли, так Женя совершенно права, иначе в таких делах и нельзя. Но, главное, это не мы его, а сами они, сама семья. В этом-то и есть их сила.
И впервые в ту ночь, вдвоем идя домой к Олегу, мы поговорили с ним о жизни. То есть я почти все время молчала, а говорил Олег. И я поддакивала ему, боялась возражать. Мне было страшно и больно и еще как-то неуютно, что ли… Во-первых, я очень хорошо понимала, что и в своих чувствах Олег ни капельки не уступит мне, как и в своем отношении к работе. А во-вторых, хоть я и очень любила его, но подспудно чувствовала, что не смогу, по крайней мере сейчас, перестроиться. Он требовал той предельной чистоты, честности в отношении ко всему, которых у меня не было и которые в один день у человека не появляются. И хотя Олег был рядом со мной, я держала его под руку, я любила его всем сердцем, но со страхом чувствовала, что он не весь со мной, что он не весь мой и что неизвестно еще, чем все у нас с ним кончится.
Шли мы долго. Трамваи уже не ходили, а на такси у нас не было денег: у родителей тогда мне было неудобно брать, а почти вся зарплата Олега ушла на путевку Ксении Захаровне в кардиологический санаторий. Сердце у нее болело все чаще и сильнее, курить она стала меньше; теперь-то я понимаю, что она хоть и молчала и делала вид, что все хорошо, но трудно переживала нашу с Олегом любовь.
О самом поступке Антиповых, таком необычном и, казалось бы, начавшемся с пустяка, Олег почти не говорил, словно такая отповедь Игнату разумелась для него сама собой, как и то, что когда-то Ксения Захаровна с мужем усыновили его. Сначала он долго рассуждал о том, какая это жалость, что не удалось еще раньше точно установить этот самый проклятый КПД планетарных передач. Если бы существовала строгая зависимость для его вычисления, никакие бы экивоки ни в конструкторском бюро, ни на заводе были бы невозможны. Я сказала:
— А может, это Яков Борисыч виноват?
— Нет, он не виноват, просто исследование некоторых вещей очень трудно. Другое дело, что в этом, может, есть вина моя и Анатолия: очень уж мы увлеклись своими ковшами, а надо было бы, наверно, подключиться к нему.
— А чего ты вину на себя берешь: так других никогда хорошими не сделаешь!
Олег коротко глянул на меня и чуть отчужденно проговорил:
— Прежде всего, Танька-Встанька, каждый сам до конца должен быть безупречно хорошим, только в этом случае он имеет право чего-либо требовать от других.
Нет, мы с ним не спорили и не ссорились. Я уж говорила, что Олег не умеет ссориться. Просто разговор получился такой, словно между нами появилась невидимая тоненькая стенка. И, самое страшное, Олег, кажется, тоже понимал это, но ничего не делал, чтобы она исчезла… Я сказала:
— Даже если б вы с Анатолием все сделали точно, Вагин все равно мог бы что-нибудь испортить, а Игнат Николаич — сделать монтаж и обработку по-своему.
— Все равно, чем точнее, строже исходные параметры, чем они конкретнее заданы, тем меньше лазеек для всякой недобросовестности. Поэтому-то на задающем и лежит такая большая ответственность. И это относится и к любой области жизни.
— Задающий задающим, а Вагин — Вагиным!
Он долго молчал, потом все-таки решился, спросил удивленно:
— Послушай, откуда у тебя вот такое отношение ко всему?
— Какое? — И сразу же испугалась: — Устала, наверно… Километров пять уже прошли!
Олег вдруг остановился, взял меня за обе руки, повернул к себе и, глядя мне прямо в глаза, горячо попросил:
— Танька, родная моя, ну не будь ты такой! Не будь, слышишь, хорошая моя!..
Я хотела ответить в том же тоне: «Какой это такой?» Хотела ни в чем не уступать ему. Но увидела его лицо, глаза и забормотала:
— Хорошо, хорошо! Олешка, милый! Не буду! Не буду!
И мы поцеловались.
И — самое странное: в тот момент я уже искренне верила, что могу вот так сразу и окончательно перемениться, стать такой, как Олег, что у нас с ним вообще уже никогда больше не будет таких размолвок, этого страшного отчуждения. Тогда я еще этого не понимала, а теперь знаю очень хорошо: есть люди, которые в данное мгновение искренне и до конца. верят чему-то, заставляют даже других поверить в свою искренность, но внутренний их мир так силен, что — только пройдет это мгновение, — и они снова становятся прежними. Это один из самых страшных видов лжи. Неосознанной, как болезнь. Такой человек будто невидимой резиной привязан к своей дорожке. То хорошее, что в нем есть, заставляет его иногда сойти в сторону лучшего со своего пути. И все вокруг, и он сам верят, что теперь уж он пойдет по хорошей дороге. Но как только натяжение резины достигает предельного, она сразу же возвращает этого человека на его прежнюю стезю…
Вот и Олег тогда так же поверил мне вместе со мной.
А в следующие дни я уже снова удивлялась по-прежнему странному и непонятному для меня поведению Олега. Вместо того чтобы заниматься своими ковшами, изготовление которых уже заканчивалось, Олег очертя голову кинулся в расследование неприятностей с лебедками. Вошел даже в созданную для этого комиссию. Я уж ничего не говорила ему, но он сам, наверно, заметил мое отношение, коротко объяснил мне:
— Да ты не волнуйся. Во-первых, надо как можно скорее выправить дело с лебедками, понимаешь? А во-вторых, надо обязательно убрать ту моральную грязь, которая сделала возможным этот позор!
У нас в чертежке все уже знали о разладе в семье Антиповых. Лидия Николаевна ходила такая осунувшаяся и молчаливая, что на нее просто смотреть было страшно. Клара с испугом поглядывала на нее и тихонько шептала:
— Господи, у нее, девочки, каменное сердце! На родного брата такое…
Но Галя неожиданно сказала:
— А если по-настоящему разобраться, девочки, то тетя Лида опять права, как тогда с Кларкиным Вовкой. Да, да!
Сама Лидия Николаевна молчала, работала, как всегда. Только на лбу между глаз у нее появилась новая складочка да уголки рта как-то устало опустились, и лицо приобрело от этого выражение еще большей твердости и непримиримости.
И странное дело, пошумели, пошумели у нас в чертежке, и опять-таки все сошлись на том, что Лидия Николаевна права. Говорили, конечно, всякое. Но я видела, что уважать Лидию Николаевну все наши стали еще больше.
Заходил, как обычно, по своим делам к нам в чертежку и Игнат Николаевич. Тогда сразу становилось тихо, все с напряженным вниманием следили за ним и Лидией Николаевной., Но она даже не смотрела в его сторону, будто он был совершенно чужим. Только еще резче опускались у нее уголки рта да выпирали желваки на исхудавших скулах. А он тайком, быстренько и просительно поглядывал на нее, тотчас отворачивался, чуть слышно вздыхал. Торопливо брал чертежи, поспешно уходил, Я никогда еще не видела, чтобы человек буквально на глазах в каких-нибудь несколько дней так сильно изменился. Как и все Антиповы, он был невысокий и щупленький, но до этого вышагивал неторопливо и уверенно, шутил, как и все Антиповы, говорил громко, смотрел прямо. А тут он вдруг сразу ссутулился, будто состарился, и поглядывал виновато, и говорил нерешительно, и уж не до шуток ему стало. А ведь человек всю войну прошел, был ранен, награжден. Наши в чертежке сразу же, конечно, отметили:
— Ишь как человека скрутило!
Правду, видно, говорят, что родная рука больнее всего бьет…
Когда я в первый раз после того дня рождения пришла с чертежами в цех, то очень удивилась: Николай Ильич так же работал у своего верстака, так же слышались его насмешливо-озорные реплики. Был он такой же юркий и порывистый и все вокруг замечал маленькими быстрыми глазами. И рабочие в цехе, тоже, конечно, все уже знавшие, поглядывали на него удивленно и уважительно: как это у семидесятитрехлетнего старика берутся силы, чтобы так стойко и мужественно переживать горе?! Кто-то даже с завистью сказал:
— Вот она, старая рабочая косточка! Молодому впору позавидовать!
По работе Николай Ильич не мог не общаться с сыном, начальником цеха. И с ним он разговаривал так же, будто ничего не случилось. Только глаза его временами искрились не то холодной, отчужденной твердостью, не то состраданием, когда он смотрел на Игната Николаевича. А тот боялся подходить к отцу, разговаривать с ним. И все в цехе так же напряженно, как у нас в чертежке, следили за этой семейной трагедией.
А однажды в коридоре около чертежки я видела, как Лидия Николаевна плакала, прижимаясь лицом к плечу отца, а он гладил дрожащей рукой ее спину и тихонько говорил:
— Ничего, ничего, Коза… Одно меня жжет: как же я-то, старый, проглядел?.. — И все лицо его неудержимо морщилось гримасами, такими жалкими, что я просто глядеть не могла.
А Павел ходил такой виноватый и пришибленный, будто все это он сам натворил.
27
Мне интересно было и, я бы даже сказала, поучительно смотреть на Вагина: как он вывернется из этого? Точно я в глубине души боялась, что сама когда-нибудь окажусь в подобном положении…
На лице Вагина в то время застыло озабоченное и чуточку будто оскорбленное выражение: обидели, дескать, человека ни за что! Но я почему-то была уверена: раз за это дело взялись Олег, Женя, Яков Борисыч, выпутаться Вагину не удастся.
Как-то, ожидая Олега после работы, я услышала разговор Вагина со Снигиревым. Вагин, сразу растеряв всю свою солидность и представительность, шел боком рядом со Снигиревым, заглядывал по-собачьи ему в лицо и говорил:
— Филипп Филиппыч, ведь вы-то настоящий ученый, вы, стоите выше всех этих сплетен и дрязг, неужели и вы пойдете на поводу у этих людей?
Снигирев, морщась, как от горького, и невольно стараясь отодвинуться от Вагина, брезгливо отвечал:
— Дрязг и сплетен здесь нет, это первое. А затем, как же вы, конструктор с двадцатилетним стажем, могли не заметить, что маховой момент водила существенно изменится? Это ведь студенту ясно!
— Как-то, понимаете, просмотрел… И на старуху…
— Допустим. Но странно то, что соблюдение заданного положения центра тяжести потребовало бы принципиально новой разработки опорных узлов, да во многом и всей конструкции. А это уже некоторое открытие, связанное с риском, а возможно, и с неудачей. Ведь вы это знали? Извините, мне сюда, я спешу. — И Снигирев свернул, не прощаясь.
Вагин остался стоять как оплеванный.
А потом я услышала разговор Анатолия с Вагиным.
Анатолий и в этой истории вел себя наилучшим образом. Если Олег забросил свои ковши, чтобы поскорее разобраться с лебедками, выправить дело с ними, Анатолий не прекращал заниматься своей диссертацией. То есть он, конечно, тоже ходил в цех, участвовал в проверке уже готовых лебедок на испытательном стенде, но так и видно было, что это для него не главное.
И вот я возвращалась из цеха, а за штабелем стальных поковок увидела Анатолия и Вагина: они стояли и негромко разговаривали. И мне так захотелось узнать, о чем они говорят, что я подошла незаметно, сделала вид, что поправляю туфлю, и начала откровенно подслушивать. Анатолий говорил:
— Нет, Виктор, ты уж меня в это дело не впутывай, уволь. Достаточно, что я простил твой выпад тогда у Антиповых, будто я знал о водиле, это было по меньшей мере странно…
— Да ты пойми, почему я это сделал! Мне другого ничего не оставалось. Ведь тебе ничего не будет, ты без пяти минут кандидат: не поладишь со Снигиревым — уйдешь куда хочешь! А я, брат, достиг своего потолка, привык к тому минимуму зарплаты, что имею. У меня на шее семья, это-то ты можешь понять?
— Все это я отлично понимаю. Больше того — сочувствую тебе. Но, прости меня, ты совершенно распоясался. Во всем должна быть мера. Если бы не наши старые добрые отношения, я бы не стоял сейчас здесь и не слушал тебя. И — мой тебе совет: не крути и не виляй, а снимай уж шапку да кайся, пока не поздно.
— Между прочим, больше выговора ничего не может быть.
— Выговор! Доверие к тебе люди потеряют, вот о чем думай…
Они замолчали. Слышно только было как сопел Вагин. Наконец он выговорил со злостью:
— Всегда вторым после Алексеева будешь? — Так и знал, что ты об этом скажешь.
Тогда уж послушай и ты. Алексеев талантлив я — нет или почти неталантлив. Поэтому сам, понимаешь, сам уступаю ему дорогу, что еще?
— Да-а-а… Тебя голыми руками не возьмешь!
— Тебе давно было пора это понять. Я, знаешь, дурак был, что сошелся с тобой. По молодости не разобрал, не увидел, что ты за личность. Ты силен только лежачего бить, вот таким действительно надо тебя бояться.
— Да ты понимаешь, что у нас с тобой общего в сто раз больше, чем у тебя с Алексеевым?.
— Это еще время покажет.
— Пропадешь, парень, если своих бить начнешь…
— Ладно, мне пора. Зачем ты меня вызвал?
— На собрании будешь выступать?
— Мне нельзя не выступать, ты сам это прекрасно знаешь. Подожди, не унижайся зря. Все скажу, понимаешь? Все, что обязан сказать. Прощай!
Слышно было, как Анатолий быстро зашагал. Вагин в спину ему крикнул:
— Смотри, Толька, не попадайся мне на узкой тропинке!
Но Анатолий ничего ему не ответил. Я потихоньку ушла. Молодец Анатолий! На его месте лучше Вагину и ответить было бы нельзя!..
Олег все чаще задерживался после работы, и получилось как-то так, что я иногда ожидала его вместе с Любой, которая приходила встречать своего Туликова. И незаметно все ближе сходилась с ней. Было в ее спокойной, чистой мудрости что-то от Ксении Захаровны — скорее всего, это была беспредельная доброта. Но вместе с ней и непримиримость Лидии Николаевны. Только у той она была чуточку болезненная, точно выстраданная, а у Любы она выглядела как естественное презрение и брезгливость ко всякой нечистоте, непорядочности. Невольно и, может быть, наполовину бессознательно для себя самой я пыталась усвоить какие-то черты ее характера, ее отношение к жизни: ведь она инвалид, а сумела вот устроить свою жизнь с Борисом, таким угловатым и ершистым. А уж я-то с Олегом и тем более должна суметь это сделать. И когда я еще только подходила к скверу и видела, что Люба уже сидит там, прислонив к скамейке свои костыли, чтобы занять мне место, мне уже становилось легко и приятно. Я видела ее нежную, добрую улыбку, лучистые, сияющие глаза и тоже улыбалась ей, тихонько здоровалась, садилась рядом. Особенно мне нравилось, что Люба никогда и ни на что не жалуется, а ведь оснований у нее для этого было больше чем достаточно. И еще мне казалось, что она очень хорошо понимает меня, хотя тоже почти никогда ни о чем не расспрашивает.
Однажды при мне у Любы и Бориса был очень откровенный разговор. Мы сидели втроем в сквере и ждали Олега. Борис растерянно говорил:
— Понимаешь, эта история с Антиповыми все-таки никак не укладывается у меня…
— Все очень просто, — чуточку удивившись, ответила Люба. — Они честные люди, вот и все!
— Не знаю… — раздумчиво протянул Борис. — Я бы, наверно, так не поступил. Понимаешь, я из-за этого как-то по-другому на мир смотреть стал…
Люба, помолчала, ласково погладила его по руке:
— Скорей бы уж институт тебе кончить. Устал ты… Да я еще тут…
— Что ты, Любаш!.. — испугался он. Тогда она быстро проговорила:
— Как же ты не понимаешь Антиповых, когда сам такой же, как они?
— Я?..
— Ну да. Ведь любишь меня такую…
— Вот именно люблю. — Он бережно притронулся к ее руке. — Ведь это же совсем другое.
— Нет, одно и то же! — убежденно ответила она.
Они долго молчали, глядя в глаза друг другу, держась за руки. А потом Борис неожиданно сказал:
— Спасибо тебе, родная моя! И я сразу поняла все…
Но сильнее всех, кажется, удивил меня Коробов. До этого у него были очень хорошие отношения с Вагиным. И вот я как-то зашла в комитет комсомола за Олегом, а там Коробов говорил ему и Жене:
— Нет, дорогие товарищи, в этом случае нужна неумолимая принципиальность! Каленым железом мы выжигали и будем выжигать подобные пережитки!.. Я, признаюсь, на какой-то момент потерял бдительность, пошел на поводу у Вагина, вовремя не распознал и не уличил! Это урок и мне и всем нам, товарищи!..
Олег улыбнулся:
— Для тебя, Афоня, существует только черное и белое, а где же весь спектр?..
Женя тоже сказала:
— У вас, Афанасий Лукич, простите, бокового зрения нет, вы как лошадь в шорах. Куда ездок вожжи потянет, туда и бежите, изо всех сил стараетесь. А в ту ли улицу он вас направляет? — И безжалостно договорила: — У вас ездоком и Вагин может быть, да, да!..
Коробов медленно оглядел их, обиженно засопел:
— Слушайте, ребята, чего вы ко мне придираетесь? Что я, не прав сейчас? Может, вы думали, что я Вагина защищать буду?
— Я думала, — откровенно призналась Женя.
— А я — нет, — сказал Олег. — Видишь, Женя, в том и беда, что у Афони это получилось почти бессознательно. Ведь он обыкновенный исполнитель.
— Да, обыкновенный! И не вижу здесь ничего плохого! — перебил его Коробов. — Не всем исключительными личностями быть. Я простой человек, деталька в общем механизме, и моя задача — честно выполнять свою функцию. Я не заношусь, не мудрствую лукаво, а делаю свое дело и горжусь этим!
— Так, конечно, легко жить, Афоня… — засмеялся Олег.
— Если уж говорить откровенно, Афанасий Лукич, — горячо начала Женя, — то такая позиция ничуть не лучше вагинской…
И они опять заспорили о том, каким должен быть человек, чтобы жить в коммунизме. Я уже почти не слушала. Я сильно устала от постоянных раздумий, от стремления понять Олега, жить его интересами, хотя еще и не догадывалась, что такая жизнь просто не по мне. Вот и сейчас Олег хоть и видел меня, но продолжал спорить, будто это было важнее моего прихода за ним, важнее всего на свете. Да так оно, наверно, и было… И я уже знала, что его бесполезно звать: он все равно не уйдет, пока не доспорит. Это было даже опасно для меня — звать его сейчас. Я села в уголке на стул и дала волю тому чувству, которое часто теперь сдерживала. В нем были и обида на Олега, и усталость, и легкое разочарование в чем-то, и злость на Женю, на все то, что заслоняло меня от Олега, отодвигало на второй план. Вот уже столько времени прошло, мы живем с Олегом как муж с женой, а той семейной жизни, о которой я мечтала, которую так ждала, еще и не видно. Да и будет ли она когда-нибудь у меня с Олегом?.. Он ведь не Анатолий. И в эту минуту я подумала о том, что с регистрацией нашего брака в загсе спешить нечего, ведь это буквально ничего не изменит, а наоборот, еще может усложнить. И ведь самое смешное: Олег сейчас так увлекся этой историей с лебедками, что даже поговорить с ним о наших делах невозможно! Я сидела, злилась и чувствовала, что вот-вот заплачу…
А потом было открытое партийное собрание. Олег сказал мне, что это Яков Борисыч настоял, чтобы оно было открытым, хотя Вагин, Коробов и еще кое-кто противились: зачем выносить сор из избы? Но Яков Борисыч почему-то считал, что на нем должны присутствовать все, и особенно молодежь. Больше того: кое-кто говорил, что вообще собрание не нужно: ведь и Игнат Николаевич и Вагин во всем признались, неисправности в лебедках устраняются, даже выработан подробный план их исправления. И говорить, мол, не о чем, инцидент исчерпан…
Пришла и удивилась: большой зал нашего клуба был битком набит. Олег сидел где-то впереди, а я села вместе с Лидией Николаевной, мы с ней и пришли. Вокруг были все наши из чертежки, да рядом со мной еще случайно оказался Колик Выгодский.
Открыл собрание Яков Борисыч. И стоял он за столом президиума не такой, как всегда, по-домашнему уютный, а собранный и строгий. Рассказал подробно о том, что случилось с лебедками, и о том, как они теперь исправляются, когда будут сданы заказчику. У меня даже создалось такое впечатление, что все в порядке, что и говорить больше действительно не о чем. И Колик обрадованно сказал мне:
— Ну, видишь? Пустая формальность, сейчас закруглимся!
— Не поняли вы ничего! — сердито шикнула на нас Лидия Николаевна, — Суглинов народу дает разговориться…
Потом выступил Вагин и каялся изо всех сил, противно на него смотреть было, до того «искренне» бил себя в грудь. А все-таки, я видела, ему не верили. Наоборот: чем сильнее хлестал он себя по щекам, тем презрительнее смотрели на него все.
А вот Игнат Николаевич говорил по-настоящему искренне, это сразу все почувствовали. Да и выступления-то у него не получилось, он все время сбивался и был такой жалкий, что я отвернулась. И заметила, что Лидия Николаевна сидит, опустив голову. Наверно, все верили ему и, как и я, думали, что уж после его выступления оба они с Вагиным будут полностью прощены.
Но только теперь, когда разговор, казалось, уже иссяк, и началось настоящее обсуждение-Затравку дал Николай Ильич. Он поднялся на трибуну, медленно оглядел затихший зал и негромко произнес:
— Вина моего сына установлена. Да он и сам признал ее. Вижу, что раскаялся. Но… — Голос его вдруг сорвался, а затем зазвенел: — Игнат не мальчик! Он должен отвечать по полному счету! Если бы он был мне чужой… Он из нашей семьи, из моей семьи! И как хотите, товарищи, а мы его не простим! Не можем простить!..
Николай Ильич посмотрел на Павла. Тот тяжело поднялся, глухо, но очень внятно выговорил:
— Да, отец!..
В зале было так тихо, что я слышала, как дышу.
— Ну, а теперь, люди, судите его сами!.. — И Николай Ильич пошел с трибуны.
Яков Борисыч, тоже негромко, предложил:
— Ну, теперь давайте поговорим, товарищи. Выступало очень много народу. И Олег, и Женя, и Снигирев, и Анатолий… Запомнилось мне особенно вот что. Во-первых, разговор как-то незаметно перешел с этого конкретного случая с лебедками на отношение к работе вообще, так что я вначале даже подумала, что о Вагине и Игнате Николаевиче совсем позабыли: А во-вторых, у меня до сих пор осталось отчетливое, неизгладимое ощущение удивительной силы, которая возникает из полного единодушия многих людей. И для меня вдруг раскрылось еще нечто новое в Олеге. Не знаю даже, как об этом точнее сказать. То же, что и в Якове Борисыче и в Жене. Что-то такое, что позволяло ему вызывать в людях это единодушное желание действия, общего и неудержимого.
Собрание потребовало исключения Вагина из партии, а Игнату Николаевичу — строгого выговора.
Возвращалась я с этого собрания все же со странным чувством. Шла, как всегда, под руку с Олегом, он был такой же, как обычно, и все же немного другой. Будто та общая сила перелилась в него, сейчас на время утихомирилась, замерла, но это было обманчивое спокойствие туго сжатой пружины. И мне опять стало чуточку боязно.
28
Теперь я расскажу, как мы с Олегом расстались. Буду стараться говорить до конца честно. И могу сразу же сказать, что большая часть вины — на мне.
Не знаю точно, с чего это началось. Да и вряд ли поводом послужило какое-то одно определенное событие, слова мои или его. Отчужденность между нами накапливалась постепенно и незаметно, даже неизбежно — в силу той огромной разницы между нами, о которой я уже много говорила. У меня не хватило ума, у него — времени, у нас обоих — терпения, чтобы спасти нашу любовь. Теперь-то я все это хорошо понимаю.
В таких случаях часто говорят: а где же были все другие, окружающие? Они были здесь же, рядом с нами, да уж очень это тонкое, сложное дело — лечение чужой любви. Иногда это получается, а иногда — нет, и винить здесь никого нельзя, хотя часто и очень бы хотелось.
Сначала, повторяю, у меня все накапливались и накапливались легкое недовольство своей жизнью с Олегом и им самим, неуверенность в моем будущем. Главной причиной этого недовольства и неуверенности была неопределенность в будущности Олега, а значит, и в моей. И меня тем сильнее беспокоило это, что в успех Анатолия я верила без всяких сомнений и всегда помнила, что он по-прежнему ждет и любит меня. Понимала я и то, что неопределенность наших отношений с Олегом нельзя было устранить регистрацией брака в загсе.
Мои претензии к Олегу казались мне тогда совершенно справедливыми, и только теперь я вижу, как ошибалась, что должна была просто потерпеть, помучиться, но сохранить то лучшее, что выпало на мою долю тогда в жизни. Я ведь поступила нечестно не только по отношению к себе, но и к Олегу, даже к Анатолию. Больше того: ко всем другим. Я вот думаю сейчас: ведь я рассказываю не только о своей любви. Ведь это и рассказ о всей моей жизни, Я потеряла любовь, испугавшись настоящей борьбы за нее, я отгородилась от людей, побоялась трудностей. Казалось бы, я человек очень сильный, а на деле оказалась очень слабой, «Типичный исполнитель», как любил говорить Олег. Исполнители — в хорошем смысле — в жизни, конечно, тоже нужны, и все же человеку отпущено и на творчество. На настоящее творчество! И в этом Олег прав.
Не знаю, можно ли считать началом настоя-,щей нашей с Олегом размолвки тот разговор, который у нас с ним случился после испытания его ковшей.
После работы я ждала Олега на улице. Он вышел вместе с Анатолием, оба оживленно разговаривали о чем-то и весело смеялись. Я подбежала к Олегу, торопливо спросила:
— Ну?..
— Все в порядке, — сказал он.
— Наконец-то! — обрадовалась я. Анатолий молчал, внимательно наблюдая за нами. Потом сказал:
— Производительность возросла даже на одиннадцать процентов.
А Олег еще подтвердил:
— Понимаешь, на целых одиннадцать: это же прямо подарок.
Я больше не могла сдерживаться:
— Кому? Анатолию?
— При чем здесь Анатолий? — удивленно протянул Олег. — Ну, улучшит это его диссертацию, а ведь элеваторы-то производительнее работать будут!
Анатолий опять посмотрел на нас, будто соображая что-то, и стал торопливо прощаться. А Олег вслед ему крикнул:
— Ты не забудь только в ту формулу коэффициент ввести!
— Конечно!..
Мы с Олегом медленно пошли по улице. Он взял меня под руку:
— Ну? Вот видишь, как все хорошо кончилось!
— Да для кого?! — снова спросила я.
Он долго молчал. Была уже осень, дул сырой ветер, я совсем замерзла, еще когда ждала Олега. А он шел себе с непокрытой головой, в летнем тоненьком плащике, выгоревшем и полинялом, в легких ботинках. А на Анатолии было красивое, модное, дорогое пальто, заказная мохнатая кепка, ботинки на каучуке. И все это я тоже невольно отметила. И почувствовала, что сейчас почему-то не боюсь нашего предстоящего разговора.
— Вот что, — медленно выговорил Олег. — Давай-ка посидим, поговорим…
— Где? На мокрой скамейке в сквере?..
— Да, верно, я не подумал…
— А о чем ты вообще думаешь? Тебе не жена, а нянька нужна!
— Слушай, я не умею ругаться, — опять после молчания сказал Олег. — А поговорить нам надо. Я уже давно понял, что надо, да как-то все времени не находилось…
— А у тебя вообще когда-нибудь для меня время будет?
Он вздохнул, закурил, проговорил уже чуть устало:
— Ну ладно. Я все знаю, понимаешь? Я должен помочь тебе, но потерпи немного… Я не могу бросить того, что начал!.. А пока вижу только один выход: забирай свои вещи и переезжай к нам с теткой. Поживем год или два, а потом получим квартиру. Вот тогда чаще будем вместе, одни, только с тобой…
Пошел мелкий дождь, а Олег, я видела, не замечает этого. И вообще у него вдруг стало такое усталое-усталое лицо, что я поняла, как ему сейчас трудно. Мне почти до слез стало жалко его, но что-то внутри меня уже не давало мне остановиться, согласиться с ним: ведь опять бы продолжалась эта неопределенная тянучка!.. И я сказала как можно спокойнее:
— Но ты же понимаешь, что я не уживусь с твоей теткой. А спать будем на твоей раскладушке? Кровать-то некуда поставить, а Ксения Захаровна без конца к своим кумушкам уходить тоже не может!..
— Можно, конечно, снять комнату, но я просто не имею права бросить тетку. Особенно сейчас, когда у нее так с сердцем…
И не спросил меня, почему я не уживусь с Ксенией Захаровной. Значит, уже знал и это.
— Ну, а к нам? Сейчас ведь дачники уехали, дом пустой… Вместе с теткой, конечно.
— Ну, понимаешь, с твоими она не уживется.
— Значит, выхода все-таки нет?
— Нет, есть. Тот, который я предлагаю.
— Но почему и должна уживаться, а не тетка с моими?
И он так запросто ответил, точно давно уже все решил:
— Потому что тебе самой давно пора уйти от своих родителей. Стыдно в наше время жить их жизнью! Вот Светка младше тебя, а ведь сразу ушла.
— Спасибо, знаешь!.. Я не Светка!
— Ты сама видишь, что я прав, — спокойно проговорил он. — И, кроме пользы для тебя самой, от совместной жизни с теткой ничего не будет. Я был бы рад, если ты кое в чем будешь на нее похожа.
Тут уж я не выдержала, а разревелась и, не обращая внимания на прохожих, прямо в лицо ему крикнула:
— Я устала!.. Ты исковеркал мне жизнь! Зачем, зачем ты рассорил меня с Анатолием?!
А он все жевал потухшую мокрую папиросу, терпеливо пережидая, потом сказал:
— Не говори глупостей… — И тоже не вытерпел, взял меня за руки, прижал к себе и горячо зашептал: —Я люблю тебя, понимаешь? И ты меня любишь, я это знаю! И мы не можем друг без друга, понимаешь?! Ты нужна мне, нужна! Ты сама не знаешь, как нужна! Особенно сейчас!.. Но по-другому я не могу.
— Подожди, — сказала я, — давай хоть в парадное зайдем…
Мы вошли в какое-то парадное, я обхватила Олега обеими руками за шею, стала целовать его и все плакала и не могла остановиться. А Олег гладил мои волосы, целовал в глаза, и руки его дрожали. И нам снова было хорошо. Почти как раньше. Но только почти. Потому что мы не помирились. И оба знали это.
— Ну почему, почему у нас нет ребенка? Я ведь так хочу его!.. — шептала я.
— Я знаю, это, может быть, даже стыдно, — глухо проговорил он, — но я не виноват… Я чуть не помер от голода в блокаду…
— Надо же сходить к врачу! Может быть, есть какое-нибудь лекарство?.. Но это ничего, ничего… Милый мой, хороший, родной!.. Я ведь тоже не могу без тебя! Никак не могу! Никогда не смогу!..
И мы долго стояли молча, крепко прижавшись друг к другу.
— И потом вот еще что… — начал Олег. — Я уж хочу, чтобы мы с тобой сразу договорили все до конца. Я знаю, чем для тебя там привлекателен Анатолий, только цена человеку меряется не этим. Подожди, я никогда не говорил о нем ничего плохого и не скажу. И он действительно хороший парень. Просто… мы с ним очень разные. У него все в жизни идет гладко: и в работе, и в разных прочих бытовых делах. Да ему и вообще всяких благ почему-то надо больше, чем мне. Я вон заметил, как ты на его пальто и на мой плащ смотрела. А мне и в плаще хорошо. Да и у многих еще людей, к сожалению, нет таких пальто и кепок, как у Анатолия.
— Да ты и в плаще лучше него, родной мой!
— Ничего, у меня кожа дубленая я и в, плаще не простужусь. Я хотел вот что сказать… Ты только правильно пойми… Я ведь тоже при желании могу сшить себе такое пальто и сделать весь антураж вообще. Ты не думай, что я какой-нибудь там принципиальный слизняк-христианин: у других нет, и мне не надо. Но это не главное. А главное вот что: сидит у меня внутри какая-то штука, с которой я и сам не могу сладить. Даже ради тебя, ради нашей любви. Какой-то авторегулятор моей работы и жизни… И указывает, что важно, а что неважно… Вот если бы ты смогла до конца меня понять!
— Этого я не понимаю… У меня этого нет. А может, и есть, да совсем по-другому, совсем другой он, этот… регулятор, что ли?..
И мы замолчали, хотя еще долго стояли в парадном, обнявшись. И получилось как-то так, что я уехала в тот день в Мельничный Ручей, а Олег проводил меня на вокзал и не попросил остаться, и я сама не осталась…
Начался новый и странный период моей жизни. Суть его состояла в том, что я чуточку отошла от Олега.
Вот теперь вспоминаю и вижу, как сильно и в хорошую сторону повлияло на меня общение с Олегом. И наверно, я могла бы вообще измениться, если бы Олег в то время сам помог мне. Но почему же он этого не сделал?.. Да потому, что я была у него на втором месте. Он ведь очень увлекающийся человек, и работа целиком поглотила его. К тому же все по-настоящему хорошее было на его стороне, пусть трудное, но хорошее, и ему казалось просто ненужным, лишним буквально пальцами раскрывать мне глаза на это хорошее. Ну и затем самолюбие, гордость: дескать, выбирай сама, кто тебе больше нравится, я тебя упрашивать не собираюсь!
Я теперь то и дело бывала без Олега. И уставала его ждать, когда он задерживался посте работы или сидел и работал дома. И обижалась, конечно… И вот странно: главным у меня было тогда ощущение потерянности. Нервозное и беспокойное. Если я сижу в комнате Олега и он работает, а Ксения Захаровна лежит на кушетке и читает, мне обидно, я молчу и злюсь. Олег то забывает обо мне и тогда сидит молча или что-то мурлычет, ерошит волосы или морщится. То вспоминает обо мне, оборачивается, улыбается виновато, говорит что-нибудь вроде:
— Ну, посиди еще минутку, почитай что-нибудь, я сейчас, сейчас!..
И я сидела и думала: что же это, на всю жизнь такое ожидание? Даже читать мне не хотелось смотрю в книгу, а ничего не понимаю. И ведь думала, что это правильно, так мужчина и должен работать. Больше всего заставляло меня злиться одно: никак не могла я понять, какого же результата добивается Олег. С Анатолием все было ясно: диссертация, ученая степень, большая зарплата. А здесь — конца не видно… Когда я пыталась добиться у Олега, что же он делает, то ответы были странными и непонятными, например:
— Интересно посмотреть, как будет вести себя элементарный объем в этих специфических условиях.
— А где они бывают, эти условия?
— Пока нигде…
— Тогда зачем это надо?
— Без этого, понимаешь, не все ясно и в обычной обстановке. Ты уж подожди или в кино сходи, а?..
Ксения Захаровна ничего не говорила мне, только поглядывала изредка поверх очков. А ведь видела, что я мучаюсь. Проверить меня до конца хотела, что ли?.. Только однажды, когда Олег куда-то вышел, она негромко сказала мне:
— Слушай, Танюшка. Муж не игрушка, не забава. Тем более такой, как Олег. А совместная жизнь не катание на карусели. Учись терпеть, набирайся ума-разума. Послушай, что я тебе скажу. Вначале я думала, что ты это по молодости: в кино да на танцы тебе не терпится. А теперь мне кажется, что олеговская жизнь вообще чужда тебе. Если это так, ничего доброго у вас не получится, зря только его и себя мучаешь.
— Да мы любим друг друга, Ксения Захаровна!..
— Любовь без ума только страсть. На ней семью не построишь. И потом… Не сердись только. Очень уж ты жадная до сладкого. Смотри, зубы испортишь. Сладкое на третье хорошо, когда до него суп с кашей поешь. Да на свои деньги заработанные.
Догадалась, умная старуха. И теперь я понимаю, что никогда бы не злилась на Олега за эту его одержимость в работе, если бы она была так же приемлема для меня, как для него самого. А без этого и одержимость его, и задержки на работе были для меня только предлогом нараставшего расхождения между нами — расхождением, как говорится, по существу. И Ксения Захаровна теперь внимательно, с огорчением поглядывала на меня. А Олег ни на минутку не изменил свой распорядок, словно тоже хотел до конца проверить меня.
Первой на работе это, конечно, заметила Лидия Николаевна. Она приглядывалась ко мне, приглядывалась, а потом как-то в обед отозвала в сторону и негромко сказала:
— Слушай, девонька. Я все боялась, вытерпишь ли ты Олега, хватит ли у тебя ума и сил на любовь с ним, когда первый хмель пройдет. И теперь вижу, что ты стала задумываться да по сторонам оглядываться. Сама знаешь, радовалась я, когда ты от Анатолия к Олегу переметнулась. И это не Олегу повезло, что он тебя полюбил, а тебе. Тебе, запомни твердо. Больше такой билет в лотерее не вытащишь! Молчи, не оправдывайся, я все равно твоим словам не поверю. Глупая ты, Танька, вот что, эгоистка к тому же. В жизни нельзя только брать, она и отдавать в равной мере заставляет.
Помни это. С Олегом ты узнала бы настоящее счастье. Эх, если бы я была молодая да такая красивая, как ты!.. Уж я бы в лепешку разбилась!.. И еще одно запомни: если к Анатолию вернешься, я тебе не знакомая, слышишь? Так и знай!
Вечерами я старалась ни к кому не ходить, будто и все другие могли узнать, что со мной делается. Но и дома торчать было нельзя, мама сразу догадалась бы. И вот я одна ходила в кино, даже сидела в читальне. Когда рядом не было Олега, меня тянуло к нему.
Зашла как-то к Светке с Костей, они сразу спросили:
— А Олег где?
— Да все формулы свои пишет…
И уж не знаю, как они догадались, только к концу вечера Костя сказал мне, поглаживая подбородок и дергая себя за ухо:
— Ты, Танька-Встанька, всегда была человеком неожиданным. Что опять надумала?
— Вам хорошо, — сказала я, — вот у тебя родители все время в экспедиции, целая квартира свободная, живете как хотите!
— Да разве в этом дело? — удивился Костя. — Светка ушла бы ко мне и без квартиры. Я уверен. А потом бы все пришло. Главное — вместе. И у Олега — все впереди. Я очень в него верю. И в работе на него хочу быть похожим.
— А ты и так на него похож. Но я как раз за эту одержимость тебя люблю. А вот у нее наоборот.
Светка подошла ко мне, села рядом, взяла за руку:
— Тысячи людей так жизнь начинают, как вы с Олегом. Что же, ты хочешь, чтобы он больную тетку бросил? Смотри, это уж совсем нечестно! Не все в такси ехать, ты и пешочком пройди. Никто готовенькое тебе не обязан доставлять, ты свое сама построй, вон какая здоровущая!.. — И, как Лидия Николаевна, закончила: — Смотри, если опять что-нибудь начудишь!.. Понимаешь, о чем я говорю? — Обняла меня за плечи, прижалась и спросила тихонько: — И почему ты у нас такая непутевая уродилась? Вот что значит эта кулацкая закваска! Да, да! Это тебе от родителей досталось! А ты, Костя, как считаешь?
— Это дело серьезное. Нам давно пора разобраться. Ну, давайте поговорим.
— Значит, по-твоему, Светка, наши мать и отец — кулаки? Значит, и ты из кулацкой семьи, — спросила я. Очень меня задело это Светкино обвинение.
— Ты не думай, я ведь тоже люблю маму и отца… — горячо заговорила Светка. — Но так, как они живут, — это их беда. А мы с тобой должны быть другими. Костя помог мне вовремя понять это…
— А Олег должен помочь тебе, — перебил ее Костя. — И поможет, если ты сама захочешь.
— Понимаешь, что происходит в нашей семье, — продолжала Светка. — Вот отец. Работник он хороший. И на заводе его уважают. А почему он всегда такой молчаливый, необщительный? Мне кажется, он понимает, что не так живет, и стыдится этого. Да, да. Стыдится. Но им с мамой стать другими трудно. А вот ты могла бы стать другой, да только сама и раньше и теперь больше ко всему легкому тянешься… Зачем, Таня? — Она еще теснее прижалась ко мне, зашептала в ухо: — Я очень люблю Костю! Очень, очень! Вот в нем совсем нет этого плохого, старого. Он уже как в коммунизме живет, честное слово!
— Ну, ты уж меня совсем перехвалила, — заулыбался Костя и серьезно добавил: — Нам всем еще надо бороться со старым и в себе и в других. А вот тебе, Танька-Встанька, больше всех подумать надо о своей жизни. Света права — очень в тебя родительское въелось, никак от усадьбы своей пригородной оторваться не можешь. А тебе, наоборот, за Олега надо обеими руками держаться — не Анатолий, а только Олег тебя вытянет. Ах ты, трудная, непутевая наша Танька-Встанька!
Ушла я тогда от них, и долго мне как-то не по себе было.
А на работе Женя стала поглядывать на меня как-то испуганно и со смешной, откровенной надеждой. И перестала — я сразу же, конечно, об этом узнала — ходить с Павлом в кино и театры. И Яков Борисыч посматривал на меня как-то удивленно, будто на чужую. Колик Выгодский как-то сказал:
— Знаешь, не мне тебя, красуля, учить, а только зря ты заносишься, перед Олегом финты даешь! Продешевишь, Танечка!..
Надоело мне по вечерам болтаться. И я стала помогать маме по хозяйству, как раньше, а осенью всегда много работы. И мама однажды сказала мне спокойно (после той ссоры она уже не решалась кричать на меня):
— Повинную голову и меч не сечет. Иди к Анатолию и кайся, пока он еще не раздумал. А то найдется какая-нибудь, окрутит его, и ты несолоно хлебавши останешься! Все в молодости кого-нибудь любили, на то она и молодость, да все семьи потом свои построили. Слов нет, красив Олег, не чета Анатолию, да с лица ведь не воду пить. Смотри, еще не жена, а уж мучений сколько! Что же потом-то будет?! Ах, Танька, Танька, а мы с отцом так надеялись, когда ты маленькая была, что счастливой будешь! Вот она, жизнь!..
Анатолий теперь уже несколько раз на дню попадался мне на глаза, как-то вскользь сказал:
— Зашла бы к нам, а?.. Отец с мамой по тебе соскучились.
И я неожиданно для себя самой ответила:
— Спасибо, как-нибудь зайду. — И еще добавила: — Привет им передай…
— Вот спасибо!
Он, конечно, тоже все заметил…
Ничего, кажется, еще не случилось, и все еще могло наладиться у нас с Олегом, а люди вокруг уже почувствовали неладное…
И все-таки охлаждения у нас с Олегом бывали только периодами. Ведь мы были молоды, здоровы, и нас неудержимо тянуло друг к другу… И Ксения Захаровна понимала это, уходила к своим приятельницам, как бы ей тяжело ни было. И тогда для нас с Олегом наступало такое счастье, что дико было даже подумать, что оно когда-нибудь исчезнет, что разлука наша неизбежна…
29
Может создаться впечатление, что вот, мол, Олег сидел все время сиднем, а я только и знала, что раздражаться, поэтому наши отношения надломились. Нет, отношения наши могли оставаться прежними только в том случае, если бы Олег отступил от своего в угоду мне. Но он оставался самим собой. А так как ссориться он но умел, в памяти у меня и осталось только, что он без устали работал, а я болталась где-то сбоку. Даже если предположить, что каким-то чудом у нас с Олегом вдруг появилась бы отдельная квартира и Олег защищал бы диссертацию вместе с Анатолием, все равно это только немного оттянуло бы наш разрыв, но не устранило его.
Нельзя сказать, что я не обращала никакого внимания на то, что мне говорили со всех сторон. Я даже понимала, что Лидия Николаевна и другие правы, а мама — нет. Я старалась заставить себя как-нибудь по-новому посмотреть на наши с Олегом отношения, на всю жизнь вообще. Но у меня ничего не получалось. И довольно скоро мне уже стало все безразлично, и хотелось только какой-нибудь определенности, какого-нибудь окончания этой трудной и напряженной жизни. И любой толчок, даже самый мелкий, мог привести к этому. Так приблизительно и случилось…
Вспоминаю один эпизод. Колик Выгодский уходил в армию. Как-то вечером они с Яковом Борисычем зашли к Ксении Захаровне, точнее — к Олегу. Я еще ничего не знала об этом мы просто сидели и пили чай. Вдруг Колик Выгодский, — я уже и до этого замечала, что лицо его как-то неуловимо изменилось, стало будто старше, осмысленнее, — вдруг Колик сказал с насмешливой веселостью:
— А трудно со мной командованию будет!
— Ничего, паренек, — тотчас проговорила Ксения Захаровна, — тебе давно в баньке помыться пора, а там тебе жарку поддадут.
— Попарю косточки! — в тон ей подхватил он.
Тут я вспомнила, что уже слышала разговор Олега и Жени с Яковом Борисычем о том, что Колику полезно послужить в армии.
— Ты только вот что помни, — сказал Колику Яков Борисыч. — Что мы тебя ждем из армии обратно. Снова будем вместе работать. Конечно, дома у тебя сложилось не все как надо. И теперь труднехонько придется поначалу с твоим характером и привычками.
Колик кивнул.
— Я и сам понимаю… Эх, не повезло мне с матерью!.. Но давайте лучше о другом поговорим.
И сразу же начался разговор о разных делах, в котором на этот раз и Колик участвовал на положении равного. И только я молчала… Сидела, слушала и чувствовала, что я чужая… И мне казалось, что и Яков Борисыч, и Ксения Захаровна, а может, и сам Олег, считают, что со мной ничего поделать нельзя. Вдруг я насмешливо и с вызовом проговорила:
— Жалко, что я не мужчина: тогда и для меня был бы открыт этот путь к спасению!..
Колик, Яков Борисыч и Ксения Захаровна сразу замолчали и старались не смотреть ни на меня, ни на Олега. Тогда он сказал:
— Говори, говори, здесь свои. Значит, ты считаешь, что тебя надо спасать?
Но я уже поняла, что именно сейчас и может произойти то страшное и непоправимое, чего я так боялась. Тем более что Яков Борисыч и Ксения Захаровна взяли бы, конечно, сторону Олега. И засмеялась:
— Шучу, шучу…
Не знаю, поверили ли они мне. Кажется, нет. Сам Олег не продолжил этого разговора, и никто не решился вмешиваться в наши с ним отношения… И, как я понимаю теперь, никто из них не виноват в этом. Вряд ли уже что-нибудь можно было изменить.
Эта жизнь, когда казалось, что достаточно малейшей искры — и произойдет взрыв, тянулась около двух месяцев. Я похудела, извелась, стала плохо спать, видеть какие-то дурацкие сны. И Олег изнервничался совершенно. Но и в этом он оказался сильнее меня: терпел и ждал. Все надеялся, что я пойму его, соглашусь перейти к ним с Ксенией Захаровной, преодолею себя и все у нас будет хорошо. И мне самой временами — особенно в те дни, когда я не видела Олега и скучала по нему, — казалось, что все еще может наладиться. Но такое ощущение возникало все реже, и теперь я уже часто и даже с каким-то облегчением вспоминала о том, что есть Анатолий, что он по-прежнему ждет меня, и, если захочу, все это тяжелое разом кончится. И странное дело, я в то время почти начисто забыла, как мне всегда было просто скучно с Анатолием, неуютно в их доме и что я не люблю его, Анатолия, что с ним у нас никогда не будет даже крупинки того счастливого, что есть с Олегом.
Так внутренне, еще неосознанно для самой себя, я начинала возвращаться к Анатолию…
Получился какой-то заколдованный круг. Я не могла, просто не могла без Олега, и в то же время мне уже невыносимо было видеть их тесную комнату, молчаливо-настороженную Ксению Захаровну. Да и Олег, хоть он и держался, устал так же сильно, как и я. Иногда вечерами мне уже самой хотелось поскорее уехать домой, закрыться в своей комнате, лечь, чтобы никто меня не тревожил. Но, приезжая домой, я видела строгие лица отца и мамы, снова попадала в напряженную обстановку ожидания какой-то развязки — она как бы просачивалась и сквозь закрытую дверь моей комнаты. И тогда я начинала мечтать об Анатолии, о спокойной и обеспеченной жизни с ним, представляла себе их хорошую квартиру, их прочное благополучие. Мне вдруг начинало казаться, что я преступно пренебрегаю всем этим. Ведь не будет же он, Анатолий, ждать меня бесконечно! И хотелось вскочить, одеться и тут же, ночью, на последней электричке ехать к нему, сразу кончить все, навсегда отбросить Олега, забыть о нем… И тотчас все это заманчивое благополучие рушилось, а круг замыкался: я чувствовала, что без Олега буду мучаться постоянно… И меня охватывало отчаяние… Я принималась убеждать себя, что Олег обязательно добьется того же, что и Анатолий, даже большего: ведь все ждут от него этого, уверены в этом, вон даже Снигирев видит в нем своего преемника. А Ксения Захаровна — хороший и умный человек, и что страшного, если мы поживем вместе в их комнате год, ну два, потом ведь мы с Олегом наверняка получим квартиру. И все только одобрят этот мой шаг, будут даже уважать меня. Я успокаивалась, засыпала, а утром все по-прежнему оказывалось мучительным…
Наши отношения с Олегом становились все более трудными: прямого разговора не получалось, мы чувствовали ту грань, за которой начиналось наше расхождение во взглядах, и могли говорить только о самых сторонних, незначительных, пустых вещах. И это тоже было мучительно, особенно для Олега, откровенного и искреннего.
К Новому году Анатолий защитил диссертацию. Мы с Олегом были на защите; пришли и все наши; большой зал с белыми колоннами был полон. Я сидела в уголке и испытывала какое-то странное чувство: то мне казалось, что все происходящее касается меня так близко, будто речь идет о моем муже, то мне хотелось, чтобы Анатолий обязательно провалился, точно это как-то могло утвердить мои отношения с Олегом, даже спасти их. А на высокой эстраде Олег, Туликов, Женя, Яков Борисыч помогали Анатолию развешивать плакаты, таблицы, устанавливали диапроектор и кинопроекционный аппарат: Олег настоял, чтобы Анатолий на защите обязательно показал заснятые во время опытов пленки. Анатолий был в новом костюме, как всегда очень вежливый, строгий, подтянутый. И все же нет-нет да и оборачивался к Олегу с чуть растерянной улыбкой, будто просил поддержки. И странно было видеть, как Олег в своем стареньком костюме с распахнутым воротом рубашки — не то лаборант, не то простой механик, для которого, казалось, защита была чем-то совершенно рядовым, точно это и не он проделал вместе с Анатолием всю работу, — ободряюще хлопал его по плечу.
Длинный стол перед эстрадой заняли члены ученого совета. Некоторые из них выглядели, как Анатолий, такими же солидными и представительными учеными, а другие чем-то были похожи на Олега. И еще одна странность: многие из них здоровались не с Анатолием, а с Олегом.
Анатолий поднялся на кафедру, лицо его стало таким же растерянным, как тогда, в Саду отдыха, но он тут же справился и заговорил гладко, спокойно, уверенно. Все наши сидели впереди, я не знаю, что они думали обо мне, но к себе не пригласили. А Олег пристроился на ступеньках лестнички перед аппаратами, включал их, когда надо, и я злилась: хоть чувство гордости есть в нем?!
Анатолий кончил, положил указку и неторопливо сел сбоку. Теперь лицо его стало белым от волнения. В зале было совсем тихо, даже торжественно. И я с завистью глядела на Анатолия: через какой-нибудь час он будет признанный ученый!..
Выступали оппоненты. Я не понимала, о чем они говорили, чувствовала только, что все идет у Анатолия благополучно. И — радовалась. И даже усмехнулась: а как же иначе могло у него быть? Вот если Олег когда-нибудь станет защищать диссертацию, у него возможны всякие неожиданности, и такой тишины и торжественности в зале, конечно, не будет. Олег сидел спокойно, на меня не смотрел и, кажется, опять уже думал о чем-то своем. А вот Анатолий не забывал поглядывать на меня, будто просил порадоваться вместе с ним. И я каждый раз улыбалась ему в ответ.
Потом стали задавать вопросы. Анатолий снова поднялся, подошел к чертежам и таблицам, сделанным очень аккуратно и красиво, и отвечал. Задали еще какой-то вопрос, Олег оживился, нетерпеливо заерзал на ступеньке, а Анатолий вдруг запнулся, быстро глянул на Олега, и тот что-то незаметно показал ему на пальцах, как во время экзамена в школе. И Анатолий начал опять отвечать…
И тут я заметила, что недалеко от меня с напряженными, взволнованными лицами сидят Софья Сергеевна и Кузьма Михайлович. Они тотчас кивнули мне как близкому человеку. Я торопливо ответила и сообразила, что они, конечно, видели, как мы с Анатолием обменивались взглядами. И подумала, что я дура: отвергать такую любовь!
Объявили перерыв. Всем членам ученого совета роздали маленькие беленькие листочки, они что-то писали на них, а потом опускали в самый обыкновенный деревянный ящик с облупившейся краской. Потом снова все сели по местам, и председатель совета объявил результаты голосования: Анатолий стал кандидатом наук.
Все жали ему руки, обнимали, кто-то даже целовал. А он стоял с таким же счастливым лицом, какое у него было тогда, в Мельничном Ручье, когда мы впервые поцеловались. Только улыбался он все так же некрасиво, но мне это теперь было почти безразлично. Я подошла к нему, посмотрела прямо в глаза и тоже поздравила. Все наши смотрели на нас, а Анатолий сказал, что ждет нас с Олегом вечером к себе. И в защите, как и во всем другом в жизни, Локотовы, оказывается, тоже были уверены наперед: все подготовили для приема, а это ведь за один день не сделаешь. И представила себе, как бы это было замечательно: мы стоим рядом с Анатолием в их прихожей, а все приходящие поздравляют нас с успешной защитой!..
Олег, Анатолий и еще кто-то повезли аппараты и таблицы обратно в лабораторию, а я поехала в Ручей переодеться. И надела именно то платье и туфли, в которых увидел меня Анатолий в первый раз.
Заехала за Олегом. Ксении Захаровны не было, а Олег лежал на кушетке и курил. И был все в том же костюме.
— Переодевайся, опоздаем! — заторопила я его.
Он медленно повернул ко мне голову, посмотрел на меня, прищурился, как от боли, и сказал негромко:
— Я не поеду…
Я сразу все поняла. Но все-таки сказала:
— Вот видишь! А это мог быть и твой день!..
Он молчал, курил, смотрел в потолок. Я знала, что он не завидует Анатолию, что дело здесь совсем в другом. Села на стул. Мы долго молчали. Я понимала, что если сегодня не пойду на праздник к Анатолию, он подумает, что между нами все кончено навсегда. И вдруг нашла выход: ну что здесь такого, если я схожу одна? Ничего особенного, а с Локотовыми у меня все-таки сильнее укрепится. И заторопилась, хотя сознавала, что Олег понимает — я вру:
— А если я одна схожу? И ведь все наши будут! Понимаешь, это просто неудобно. Еще подумают, что ты ему завидуешь…
Он молчал. Я знала, что не уговорю его. Олег хотел заставить меня самое решить все. Момент действительно для этого был самый подходящий. И теперь я понимаю, что Олег тогда был прав: ведь никакими словами здесь помочь было нельзя. Но мне так хотелось хоть вечер побыть в той роли, которую я придумала себе на защите Анатолия: меня вместе с ним все поздравляют… Я видела мучающегося Олега, понимала решительно все, что происходит, но ничего уже не могла поделать с собой.
— Уходи и решай, — по-прежнему негромко проговорил Олег.
Я поднялась и сказала:
— Ты не сердись, я недолго. — И ушла.
Анатолий сам открыл мне дверь. Из столовой доносился разноголосый шум, музыка. Он не спросил, почему нет со мной Олега, обнял меня, я зажмурилась, и мы поцеловались.
— Наконец-то, — сказал он.
Мне было страшновато идти в столовую, но я заставила себя и пошла. По взглядам родителей Анатолия я поняла, что меня ждали. Все наши молчали, я старалась не смотреть им в глаза. Села рядом с Анатолием, выпила залпом большую рюмку коньяку, подумала; теперь уже все наши просто не дадут мне вернуться к Олегу.
Не помню толком, что было в тот вечер: я пила вино, танцевала, смеялась, все время была рядом с Анатолием. Наши не разговаривали со мной. Да они и вообще скоро ушли. Только Женя на прощание сказала мне:
— Таня, может быть, все-таки пойдешь с нами?
Я ничего не ответила.
В столовой все еще шумели гости, а мы с Анатолием вдруг оказались в его комнате…
30
С тех пор прошло семь лет…
Многое, очень многое произошло в жизни с тех пор. Даже в космос слетали люди. и только одна я как бы законсервировалась, у одной меня словно ничего решительно не произошло. Если не считать, конечно, радости — Олешки, сына, больше похожего на меня, чем на Анатолия. И мне это приятно… А в остальном живу, как и жила. По раз навсегда заданному распорядку дня, в обстановке окостенелых взаимоотношений, очень приличных, порядочных, но лишенных чего-то самого главного, живого… Одним словом, существую. Только существую.
Живем мы все в той же квартире Локотовых. И не потому, что я не могла оторвать Анатолия от его семьи, не потому, что он не мог получить отдельную квартиру, он наверняка бы сумел сделать это, а просто от какого-то моего безразличия: если уж я замужем за Анатолием, так не все ли равно, в конце концов, живем ли мы вместе с его родителями или без них, от этого ведь, в сущности, ничего не изменится. А определенной независимости, которая мне была нужна, я, конечно, сумела добиться, сумела заставить считаться со мной, даже в чем-то подчиниться мне.
Просыпаемся утром, Анатолий подчеркнуто бодро говорит:
— Ну, разомнем косточки! — И начинает делать зарядку.
Я тоже поднимаюсь, натягиваю халат, иду в кухню. Софья Сергеевна, чуточку постаревшая, но такая же быстрая и живая, уже возится у плитки, приветливо говорит мне:
— Доброе утро, Танечка!
— Доброе утро, Софья Сергеевна.
И я начинаю помогать ей. Не то чтобы я не могла или не хотела сделать завтрак сама, но пусть уж Софья Сергеевна хоть в этом сохраняет прежнее свое главенство. А так как мне валяться в постели, ничего не делать как-то нехорошо, я и помогаю ей.
Проходит в трусах и с полотенцем на плече в ванную Анатолий, так же бодро говорит матери:
— Доброе утро, мама!
— Доброе утро, Толечка!
Из ванной начинает доноситься мерный, густой шум открытого душа.
После Анатолия появляется Кузьма Михайлович в пижаме, здоровается с нами, обязательно шутит. Иногда у него получается даже искренне. С ним мне, во всяком случае, легче всего.
Затем завтракаем, сидя вчетвером за аккуратно накрытым столом. Обязательно разговариваем, часто интересно и умно. И я уже не слежу, в какой руке держу нож или вилку, — привыкла. К концу завтрака общий разговор уже прост и весел. Кузьма Михайлович начинает беззлобно подтрунивать над тем, как я воспитываю сына. Софья Сергеевна принимается очень серьезно обсуждать меню предстоящего обеда. Анатолий спрашивает, куда бы нам лучше пойти с ним сегодня вечером, напоминает, чтобы я не забыла сходить к портнихе. После целует меня в прихожей, а я заботливо поправляю его шарф, и они с Кузьмой Михайловичем уходят на работу.
Софья Сергеевна торопится на кухню мыть посуду, а я иду к кроватке Олешки. Он спит, раскинувшись и раскрывшись, родной, розовый и самый-самый близкий! Я целую его, он таращит глазенки и медленно просыпается, с радостью обхватывает меня за шею. Я вытаскиваю его из кроватки и веду мыться. Я чувствую в своей руке его маленькую, доверчивую ручку, и мне уже почти совсем легко и радостно.
Потом я кормлю Олешку, мы сидим с ним вдвоем за большим столом, он лопочет что-то свое, детское, я отвечаю ему, и оба мы счастливы. Меня он любит больше всех, я сама знаю, что балую его, Локотовым это не нравится, но они пока не вмешиваются. Все мы четверо отлично понимаем, почему это происходит, почему я настояла, чтобы сына назвали Олегом. И когда он смеется, я, глядя на его милую, только что умытую рожицу, стараюсь отгадать, будут ли, когда он вырастет, появляться у него на щеках эти противные, кроличьи желваки, как у Анатолия.
Потом мы одеваемся и идем с ним гулять. Оба мы одеты как на картинке, оба здоровые, краснощекие, красивые: на нас поминутно оглядываются, и мне это немножко лестно.
Софья Сергеевна за это время успела сходить на рынок и по магазинам, приготовить Олешке обед. Мы с ним возвращаемся домой, я кормлю его, укладываю спать. После этого мы с Софьей Сергеевной перехватываем, что нибудь «вкусненькое»: я стала гурманом. И я помогаю ей готовить обед для взрослых или отправляюсь по магазинам, к портнихе.
После возвращения мужчин с работы у нас, по священному распорядку, начинается обед. Олешка сидит рядом со мной за столом, выспавшийся и свеженький. Мы снова все разговариваем, опять интересно, даже весело, и после спокойно проведенного, как на курорте, дня у меня уже нет и тени утренней отчужденности. Анатолий тоже чувствует это, мы оба ласковы, даже нежны друг с другом, полны единой любви к сыну, старшие Локотовы с удовольствием и облегчением поглядывают на нас.
Вечерами мужчины работают, и тогда я читаю или вместе с Олешкой и Софьей Сергеевной смотрю телевизор. Или мы с Анатолием идем в театр, в гости. Оба очень хорошо одетые, подтянутые, и на нас тоже многие обращают внимание.
Вечером я укладываю Олешку спать и рассказываю ему сказки, сидя на его низеньком стульчике около кроватки. И мне снова так хорошо, как бывает только с ним наедине.
Потом все вчетвером пьем вечерний чай; в столовой — уютный, мягкий свет лампы, тепло, тишина и покой. Неправдоподобный, оглушающий до звона в ушах.
В нашей с Анатолием комнате я поспешно раскрываю постель на тахте, быстро раздеваюсь, ложусь и отворачиваюсь лицом к стене, чувствуя, как на затылке и спине подбирается, холодеет кожа…
Когда в то утро, после праздника, мы с Анатолием вышли к завтраку из его комнаты, говорить, собственно, уже было нечего, и старшие Локотовы со свойственным им тактом сделали вид, что ни о чем не догадываются, ничем не намекнули на случившееся. Но я-то, надеясь, что, может, и впрямь ничего еще не произошло, со страхом и болью ждала встречи с Олегом отчаянно ругала себя. И все-таки где-то в глубине сознания мелькала мысль, что благополучие достигнуто, покой обретен. Как-никак я ведь именно к нему и стремилась с таким упорством. Но если бы Олег тогда позвал меня, — стыдно говорить, но в какие-то мгновения мне казалось, что это еще возможно, — ушла бы снова к нему.
День проработала молча, в чертежке со мной почти не разговаривали, смотрели как на чужую: все уже, видимо, знали, чем кончился для меня праздник у Анатолия.
После работы вышла на улицу и стала, как обычно, ждать Олега. С таким нетерпением и потерянностью, что совсем забыла про Анатолия, даже удивилась, когда они появились вместе. Я сразу же поняла, что Анатолий все рассказал Олегу. Как заведенная, подошла я к Олегу, протянула руку, но он сморщился, как от сильной боли, коротко сказал:
— Все, Танька-Встанька! Все, поняла? — Секунду еще смотрел мне в глаза, резко повернулся, быстро побежал и прыгнул в проходивший мимо трамвай.
Мое увольнение из КБ Анатолий устроил без меня: я только подписала заявление.
В первые месяцы мне нестерпимо хотелось видеть Олега, я думала о нем днем и ночью. Однажды тайком пошла к КБ, следила из-за угла за выходившими. Все прошли, а Олега не было. Я ждала долго, закоченела на морозе. А когда вернулась домой, Анатолий внимательно посмотрел на меня и сказал, что Алексеев уехал в командировку.
Шло время. Я прочно вошла в эту колею: магазины, портниха, покупка мебели — Локотовы решили заново обставить комнату Анатолия, — развлечения по вечерам — после защиты диссертации Анатолий занят меньше.
Вот так я и живу: у меня есть все и в то же время нет ничего! Когда-то, давным-давно, Олег и Вагин в Комарове разговаривали о чудаках. Тогда я толком не поняла их. А теперь вижу, что и сама отношусь к той, третьей категории чудаков, которые хотели бы и с донкихотами быть, и кашу пожирнее есть…
После того как Олег сказал мне: «Все!» — и в последний раз назвал Танькой-Встанькой, я не видела его больше двух лет, пока не народился Олешка и я стала гулять с ним. Шла как-то по улице и вдруг на другой ее стороне увидела Олега с Женей. Они шли под руку и смеялись. И Олег был все такой же красивый, а Женя — очень счастливая, за версту было видно. И несколько дней после этого я ходила подавленная, плакала без видимой причины и придиралась к Анатолию, а он терпел, конечно. А сейчас у нас с Анатолием еще хуже. И я и он окончательно поняли, что я не люблю его и даже никогда не привыкну. Оба нервничаем, злимся, часто без всякой причины: меня раздражает всякая мелочь в Анатолии. Как он завязывает галстук, ест, улыбается. Анатолий сдержаннее меня, воспитаннее, а я часто срываюсь и тогда кричу на него, плачу, у нас происходят стыдные скандалы. Я бы ушла от Локотовых. Но куда?
Олег защитил диссертацию. Они с Ксенией Захаровной уже получили квартиру. А еще через год Олег и Женя поженились, Анатолий был у них на свадьбе, а я не пошла. Теперь они живут втроем с Ксенией Захаровной и, по рассказам Анатолия, совершенно счастливы. Я могла бы не поверить Анатолию, если бы не знала Женю, а так, должно быть, им хорошо вместе: ведь у них так много общего, да Женю и трудно не полюбить, она такой хороший человек. И Олегу с ней лучше, чем со мной, хотя то, что было между нами, он тоже никогда не сможет забыть. А я-то уж наверняка не полюблю никого другого…
Год назад умер Снигирев, Олег теперь начальник научно-исследовательского сектора, у него почти готова докторская диссертация, так что Снигирев не ошибся. И роли поменялись: теперь уже Анатолий под началом у Олега, Вот как все получилось… И Олег еще, может, вообще академиком будет: Кузьма Михайлович как-то проговорился. Но дело-то вовсе не в этом, хотя и тут я, выходит, ошиблась. Уже сейчас Олег — автор новой теории сыпучих тел, и Анатолий в своих расчетах пользуется его формулами. Какую жизнь, какую по-настоящему интересную, полную, яркую жизнь я потеряла!..
И вот теперь ищу и ищу выход…
Уйти к родителям? Но там стало совсем невыносимо. Анатолий пришелся ко двору. Он сделал все, чтобы укрепить убеждение моих родителей в правильности их жизни. Я боюсь возить туда Олешку. И родители не позволят мне порвать с Анатолием, да и он не оставит нас с Олешкой у них в покое.
И не только в жизни Олега, самого дорогого для меня человека, с тех пор произошли большие изменения. Туликов окончил институт, теперь он старший научный сотрудник, готовит диссертацию, а врачи наконец разрешили Любе иметь ребенка, и у них с Борисом очаровательная девочка с таким же нежным лицом, как у них, и лучистыми Любиными глазами. А Яков Борисыч сейчас секретарь райкома партии. Павел работает начальником цеха вместо отца, который ушел на пенсию. Лидия Николаевна — заведующая нашей чертежной, они с Кларой на свои две комнаты выменяли двухкомнатную квартиру, и Лидия Николаевна ставит на ноги Клариного Вовку. Даже Колик Выгодский стал человеком: вернулся из армии, работает в нашем КБ на должности инженера и учится в вечернем институте, как когда-то Туликов. Но самое непостижимое для меня: Николай Ильич по-прежнему работает в цехе! Вот уж, действительно, ничто человека не берет, нет ему износа! И с того вечера — это Анатолий рассказывал — Николай Ильич так ни разу и не был у Игната Николаевича, так и не простил ему!..
Светка с Костей живут настоящей счастливой жизнью. У них двое девочек-близнецов и очень интересная работа. В Мельничном Ручье они бывают очень редко. А я у Кости со Светкой бываю частенько. Они жалеют меня. Предлагают нам с Олешкой переселяться к ним. Костя уговаривает меня поступить на работу. В тяжелые минуты я все чаще думаю, что уйду с Олешкой к ним…
Иногда — не часто, в тех случаях, когда мне не удается совладать с собой, — мы с моим Олешкой ходим гулять в тот скверик, недалеко от нашего КБ. Он играет, а я сижу и жду. Вот с работы выходит Анатолий, Олешка радостно кричит мне:
— Мама, папа, папа!..
Я беру его за руку и умоляюще шепчу:
— Сейчас, Олешка, сейчас… подождем еще минутку…
И вот выходит Олег, чаще всего вместе с Женей и с Туликовым, Выгодским, а то и с какими-то новыми людьми. Идут они, разговаривают, смеются… И Олег все такой же… И весь мир останавливается для меня…
— Мама, ты кого ждешь? — обеспокоено спрашивает меня, Олешка. — Почему мы ждем?
— А?.. Мы папу ждем…
— Папа давно прошел. Ты же видела. Вот скоро и Олешка будет все понимать, и я не смогу даже так подглядывать…
Николай Степанович Дементьев
ЗАМУЖЕСТВО ТАТЬЯНЫ БЕЛОВОЙ
Зав. редакцией В. Ильинков Редактор Л. Стебакова
Художественный редактор Ю. Васильев. Технический редактор Л. Заселяева
Корректоры Д. Эткина и Т. Кузина Фото Н. Кочнева
Сдано в набор 25/1 1964 г. Подписано к печати 13/11 1964 г. А 02034. Бумага 84Х108 1/16. 6 печ. л, — 9,84 усл. печ. л. 11,7 уч. — изд. л. Тираж 1 000 000 (1—800 000) экз. Заказ № 837.
Цена 23 коп.
Издательство «Художественная литература». Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.
Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26,
ЧИТАЙТЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
МОСКВА
ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Журнал «Москва» всегда стремился быть в гуще нашей боевой, кипучей жизни, ярко и правдиво показывать героя наших дней во всем его духовном богатстве.
Из опубликованных в журнале произведений художественной прозы получили наибольшее признание у читателей именно те, которые посвящены современности, — советским людям, их жизни, труду, борьбе. Это романы и повести:
«Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Трус» и «С новым счастьем» Л. Никулина, «Дым отечества» К, Паустовского, «Честь» Г. Медынского, «Совесть» Д. Павловой, «Семейное счастье» Ф. Вигдоро-вой, «Войди в каждый дом» Е. Мальцева, «Человек и оружие» О. Гончара, «За Москвою-рекой» и «Гранит ие плавится» В. Тевекеляна, «Понедельник — день тяжелый» Арк. Васильева, «Старая ведьма» Е. Пермяка, «Любить и не любить» Г. Березко, «Раннее утро» и «Первая любовь» Е. Пермитина, «После зимы» и «Чистый тон» Н. Почивалина, «Я ищу Китеж-град» А. Абрамова, «Ты не один» и «Одиннадцатая заповедь» Г. Беленького, «Над Москвою небо чистое» Г. Семенихина.
Все эти произведения и определяют направление нашего журнала.
Традиционно появление на страницах «Москвы» произведений зарубежных писателей — романов и повестей И. Неверли, Ж. Бержье, Э. Хемингуэя, Э. Литлтон и Г. Штурца, Антуана де Сент-Экзюпери, Д. Стейнбека, У. Фолкнера.
Не менее примечательны и поэтические публикации «Москвы». Журнал печатал и печатает подборки стихов поэтов старшего поколения: А. Прокофьева, А. Ахматовой, С. Щипачева, И. Сельвинского, М. Светлова, С. Кирсанова, В. Казина; стихи поэтов «среднего» поколения: Я. Смелякова, М. Дудина, Н. Грибачева, М. Матусовского, А. Софронова, Л. Озерова, Н. Рыленкова, Л. Ошанина, Р. Гамзатова, Е. Долматовского, Б. Ручьева, А. Алдан-Семенова, И. Авраменко, Н. Доризо; около сорока молодых поэтов напечатали за минувшие годы свои стихи в журнале «Москва», в их числе и уже получившие известность: В. Цыбин, С. Поликарпов, Н. Анциферов, Д. Злобина, А. Поперечный и такие, которые делают свои первые шаги в литературе — И. Кашежева, Н. Новиков, П. Вегин, А. Бунин.
Значительное место в «Москве» занимают очерк и публицистика. «Москва» печатает очерки о людях труда, деятелях науки и искусства, об историческом прошлом нашей столицы и о Москве современной, публицистические, искусствоведческие, научно-популярные и литературно-критические статьи, рецензии, спортивные обзоры и юмористические миниатюры.
В каждой книжке журнала — репродукции произведений советских и зарубежных мастеров живописи, графики, скульптуры, работы мастеров художественной фотографии.
По разделу художественной прозы «Москва» уже имеет на 1964 год немало романов, повестей, рассказов. Многие известные писатели работают для журнала над новыми произведениями. Среди этих произведений романы М. Годенко «Минное поле» — о воспитании чувств и формировании характера советского юноши, Л. Никулина «Мертвая зыбь» — о славных рыцарях революции — чекистах, Ш. Рашидова «Могучая волна» — о людях солнечного Узбекистана, Арк. Васильева «Наследство» — о наших современниках и их праве на настоящее счастье, Е. Леваковской «Сентябрь — лучший месяц» — о молодом талантливом литераторе, с первым успехом осознающем подлинную меру ответственности перед читателями, А. Силакова «Тревога! В воздух!» — о героях-летчиках, о славных боевых традициях, о любви и дружбе, Г. Березко «Необыкновенные москвичи» — о людях простых профессий, рядовых москвичах, замечательных советских людях, А. Смирнова-Черкезова «Тринадцать в одной комнате» — о современных архитекторах, их работе над проектом нового города — коммунистического завтра; первая повесть начинающего писателя Ю. Толчинского «Дороже всего» — о рабочем классе, о том, как зреют ростки нового, коммунистического в рабочем коллективе, и повесть поэта К. Ваншенкина «Большие пожары» — о беспокойной молодости, о поиске своего места в жизни.
Несомненный интерес читателей вызовет опубликование документальной повести А. Кузнецовой о жизни и творчестве народного артиста СССР И. Козловского, публицистического произведения Г. Медынского «Трудная книга» — ответ писателя на многочисленные читательские отклики на его повесть «Честь» и публикация отрывков из найденного, ранее не публиковавшегося романа Б. Пильняка «Соляной амбар» — о назревании революционных событий в небольшом подмосковном городе.
Свои новые произведения обещали «Москве» писатели К. Паустовский, К. Симонов, В. Лидин, В. Каверин, Г, Гулиа, П. Нилин, Е. Мальцев, Е. Пермяк, Н. Адамян, Ю. Нагибин, Ю. Казаков, Н. Михайлов, В. Сафонов, Г. Фиш, Л. Ленч, Ю. Семенов и многие другие.
По разделу литературной критики в 1964 году «Москва» будет печатать статьи, обзоры и рецензии Б. Соловьева, В. Друзина, Г. Бровмана, В. Сур-ганова, И. Мотяшова, Б. Сучкова, И. Гринберга, В. Воронова, Л. Фоменко, О. Войтинской, Е. Книпович, В. Панкова, М. Пенкина, Н. Козлова, А. Дым-щица, В. Дементьева, С. Трегуба, В. Бушина, Д. Старикова, А. Метченко, М. Синельникова, А. Нинова.
В разделе очерка в «Москве» постоянно сотрудничают Би. Агапов, Д. Еремин, А. Штейн, В. Кривенченко, Н. Стальский, С. Новиков, Д. Жуков, В. Покровский, В. Тур, А. Иванченко, М. Шур, М. Златогоров, Л. Улин, А. Сахнин, Н. Равич и др.
Своевременно подписывайтесь на журнал «Москва». В розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве.
Подписка производится всеми пунктами «Союзпечати», почтамтами, конторами и отделениями связи и общественными распространителями печати.
Подписная цена на год — 6 руб.
цена одного номера — 50 коп.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ВЫПУСКАЕТ В СВЕТ КНИГУ:
ГОРОДЕЦКИЙ С. Стихи. 11 печ. л., цена 85 коп.
Эта книга — отчет поэта за шестьдесят лет богатого и сложного творческого пути.
Юношей пришел Городецкий в русскую литературу и сразу же занял в ней видное место, став одним из популярных поэтов начала века.
Его стихотворение «Нищая» знал и любил Л. Н. Толстой. Ученик и соратник Александра Блока, Сергей Городецкий вернул нашей поэтике, песенную звонкость и гибкость. Творчески переосмыслив образы русской мифологии, он создал много ярких, своеобразных стихов о судьбе России, ее нищете и бедствиях, о русской природе, о любви.
В годы революции творчество поэта возмужало. Он говорит о великих победах родины, о ее неуклонном движении вперед. Одним из первых советских поэтов Городецкий выступил против мирового колониализма.
А в Великую Отечественную войну его стихи, как и стихи многих советских поэтов, вдохновляли народ на борьбу с фашизмом. Замечательна поэма Городецкого «Три сына», написанная в манере устного народного творчества.
В его стихах последних лет отражена величественная действительность наших дней. Наставник молодого Есенина, Городецкий оказывает влияние на многих советских поэтов.
Бодрое и жизнерадостное, богатое по содержанию и оригинальное по форме, искусство старейшего советского поэта бесспорно заинтересует сегодняшнего читателя.
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГА:
ЛЕССИНГ Г.-Э. „ЛЛОКООН, ИЛИ О ГРАНИЦАХ ЖИВОПИСИ и поэзии". Перевод с немецкого. („Памятники мировой эстетической и критической мысли"). М. — Л. 1957, 519 стр. ц. 1 р. 07 к.
Один из древнегреческих мифов рассказывает о троянском жреце Лаокооне, пытавшемся помешать своим согражданам втащить в осажденную Трою деревянного коня, в котором спрятались воины противника. Боги, решившие погубить Трою, покарали за это Лаокоона: две огромные змеи, посланные ими, удушили жреца и двух его сыновей. Гибель Лаокоона стала излюбленной темой многих античных скульпторов и писателей.
На основе глубокого анализа произведений искусства, посвященных этому мифу, великий немецкий писатель и критик Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) создал трактат „Лаокоон, или О границах живописи и поэзии", вошедший в сокровищницу мировой эстетической и критической мысли. б нем излагаются принципы реалистического искусства.
„Надо превратиться в юношу, — вспоминает Гете, — чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвел на нас Лессинг своим „Лаокооном", пересадив наш ум из области туманных созерцаний в светлый и свободный мир мысли".
„С появлением „Лаокоона" жизнь в своем течении, а не бездушная форма признана существенным содержанием поэзии", — писал Добролюбов. А Чернышевский, имея в виду этот трактат, утверждал, что „со времен Аристотеля никто не понимал сущность поэзии так верно и глубоко, как Лессинг".
Современный читатель, интересующийся поэзией, живописью и скульптурой, найдет в этом труде Лессинга много живых, ярких мыслей, вызывающих раздумья. Это одна из тех классических книг, которые открывают секрет высокого искусства.
Эту книгу можно приобрести в магазинах Книготорга или по адресу: Ленинград, Невский пр., 28, магазин № 1 „Ленкниги", отдел „Книга—почтой".
Союз-книга


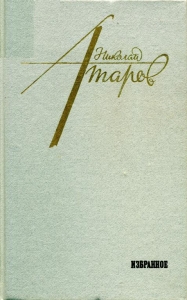
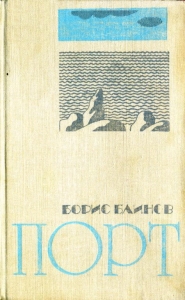
Комментарии к книге «3амужество Татьяны Беловой», Николай Степанович Дементьев
Всего 0 комментариев