Вас. Гроссман Годы войны
1941
Народ бессмертен
I. Август
Летним вечером 1941 года по дороге к Гомелю шла тяжёлая артиллерия. Пушки были так велики, что многоопытные, всё видавшие обозные с интересом поглядывали на колоссальные стальные стволы. Пыль висела в вечернем воздухе, лица и одежда артиллеристов были серы, глаза воспалены. Лишь немногие шли пешком, большинство сидело на орудиях. Один из бойцов пил воду из своего стального шлема, капли стекали по его подбородку, увлажнённые зубы блестели. Казалось, что номер артиллерийского расчёта смеётся, но он не смеялся — лицо его было задумчиво и утомлённо. «Воздух!» — протяжно крикнул шедший впереди лейтенант.
Над дубовым леском в сторону дороги быстро шли два самолёта. Люди тревожно следили за их полётом и переговаривались:
— Это наш!
— Нет, немец.
И, как всегда в таких случаях, была произнесена фронтовая острота:
— Наш, наш, где моя каска!
Самолёты шли наперерез дороги, и это значило, что они наши: немецкие машины обычно, завидя колонну, разворачивались на курс, параллельный дороге.
Мощные тягачи волокли орудия по деревенской улице. Среди белых мазаных хаток, маленьких деревенских палисадников, засаженных курчавым золотым шаром и красным, горящим в лучах захода, пионом, среди сидящих на завалинках женщин и белобородых стариков, среди мычания коров и пёстрого собачьего лая, странно и необычно выглядели огромные пушки, плывущие по мирной вечерней деревне.
Возле небольшого мостика, стонавшего от страшной, непривычной тяжести, стояла легковая машина, пережидавшая, пока пройдут пушки. Шофёр, привыкший, очевидно, к такого рода остановкам, с улыбкой оглядывал пьющего из каски бойца. Сидевший рядом с ним батальонный комиссар то и дело смотрел вперёд — виден ли хвост колонны.
— Товарищ Богарёв, — сказал шофёр с украинским выговором, — может, поночуем здесь, а то стемнеет скоро.
Батальонный комиссар покачал головой.
— Надо спешить, — сказал он, — мне необходимо быть в штабе.
— Всё равно ночью не проедем по этим дорогам, в лесу ночевать будем, — сказал шофёр.
Батальонный комиссар рассмеялся.
— Что, молока захотелось?
— Ну, и что же, ясное дело — выпить молока, картошки бы жареной поели.
— А то и гусятины, — сказал батальонный комиссар.
— А хиба ж нет? — с весёлым энтузиазмом спросил шофёр.
Вскоре машина выехала на мост. За ней побежали белоголовые ребятишки.
— Дядьки, дядьки, — кричали они, — возьмите огурцов, возьмите помидоров, возьмите грушек, — и они бросали в полуспущенное окно автомобиля огурцы и твёрдые, недозрелые груши.
Богарёв помахал ребятам рукой и почувствовал, что холодок волнения проходит по его груди. Он не мог без горького и одновременно сладкого чувства видеть, как провожали крестьянские ребятишки отступающую Красную Армию.
Сергей Александрович Богарёв до войны был профессором по кафедре марксизма-ленинизма в одном из московских вузов. Исследовательская работа увлекала его, он старался поменьше уделять часов чтению лекций; главный интерес Богарёва был в исследовании, начатом им года два тому назад. Приходя с работы домой и садясь ужинать, он вытаскивал из портфеля рукопись и читал её. Жена расспрашивала его, по вкусу ли ему еда, достаточно ли посолена яичница, он отвечал невпопад; она сердилась и смеялась, а он говорил: «Знаешь, Лиза, я сегодня испытал подлинное наслаждение — читал письмо Маркса, его лишь недавно откопали в одном старом архиве».
И вот Сергей Александрович Богарёв — заместитель начальника отдела Политуправления фронта по работе среди войск противника. Иногда ему вспоминаются прохладные залы институтского хранилища рукописей, стол, заваленный бумагами, лампа под абажуром, поскрипывание подвижной лестницы, которую передвигает заведующая библиотекой от одной книжной полки к другой. Иногда в мозгу его всплывают отдельные фразы из не дописанной им работы, и он задумывается над вопросами, так живо и горячо волновавшими его.
Машина бежит по фронтовой дороге. Пыль тёмная, кирпичная, пыль жёлтая, мелкая серая пыль, — от неё лица кажутся мёртвыми, тучи пыли стоят над фронтовыми дорогами. Эту пыль поднимают сотни тысяч красноармейских сапог, колёса грузовиков, гусеницы танков, тягачи, орудия, маленькие копытца овец, свиней, табуны колхозных лошадей, огромные стада коров, колхозные тракторы, скрипящие подводы беженцев, лапти колхозных бригадиров и туфельки девушек, уходящих из Бобруйска, Мозыря, Жлобина, Шепетовки, Бердичева. Пыль стоит над Украиной и Белоруссией, пыль клубится над советской землёй. Ночью тёмное августовское небо багровеет злым румянцем деревенских пожаров. Тяжкий гул разрывов авиабомб прокатывается по тёмным дубовым и сосновым лесам, по трепетному осиннику; зелёные и красные трассирующие пули прошивают тяжёлый бархат неба, как белые искры, вспыхивают разрывы зенитных снарядов, нудно гудят в высоком мраке «Хейнкели», груженные фугасными бомбами, кажется, звук их моторов говорит: «ве-з-зу, ве-з-зу». Старики, старухи, дети в деревнях, хуторах, провожая отступающих бойцов, говорят им: «Молочка выпейте, голубчики… Съешь творожку, пирожок возьми, сынок… Огурчиков на дорогу». Плачут, плачут старушечьи глаза, ищут среди тысяч пыльных, суровых, утомлённых лиц лицо сына. И протягивают старухи белые узелки с гостинцами, просят: «Бери, бери, голубчик, все вы в моём сердце, как дети родные».
Немецкие полчища двигались с запада. На германских танках нарисованы черепа с перекрещенными костями, зелёные и красные драконы, волчьи пасти и лисьи хвосты, рогатые оленьи головы. Каждый немецкий солдат несёт в кармане фотографии побеждённого Парижа, разрушенной Варшавы, опозоренного Вердена, сожжённого Белграда, захваченного Брюсселя и Амстердама, Осло и Нарвика, Афин и Гдыни. В каждом офицерском бумажнике — фотографии немецких девиц и женщин с чёлками и локонами, в полосатых пижамных штанах; на каждом офицере амулеты — золотые побрякушки, ниточки кораллов, набивные чучелки с жёлтыми бисерными глазками. У каждого в кармане русско-германский военный разговорник с простыми фразами: «Руки вверх», «Стой, ни с места», «Где оружие?», «Сдавайся». Каждый немецкий солдат заучил: «Млеко», «Клеб», «Яйки», «Коко», «дз-дз» и слово «Давай, давай». Они шли с запада.
И десятки миллионов людей поднимались навстречу им со светлой Оки и широкой Волги, с суровой жёлтой Камы и пенящегося Иртыша, из степей Казахстана, из Донбасса и Керчи, из Астрахани и Воронежа. Народ поднимал оборону, десятки миллионов верных рабочих рук копали противотанковые рвы, окопы, блиндажи, ямы. Шумные рощи и леса ложились молча тысячами своих стволов поперёк шоссейных дорог и тихих просёлков, колючая проволока оплетала заводские и фабричные дворы, железо обращалось противотанковыми ежами на площадях и улицах наших милых зелёных городков.
Богарёв иногда удивлялся лёгкости, с какой сумел он внезапно, в течение нескольких часов, отрезать прежнюю свою жизнь; он радовался тому, что сохранял рассудительность в тяжёлых положениях, умел действовать решительно и быстро. И самое главное, он видел, что и здесь, на войне, он сохранил себя и свой внутренний мир, и люди верят ему, уважают его и чувствуют его внутреннюю силу. Однако он не был удовлетворён своей работой, ему казалось что он недостаточно близко стоит к красноармейцам, к стержню войны, и ему хотелось из Политуправления перейти к непосредственной боевой работе.
Часто приходилось ему допрашивать немецких пленных, — большей частью это были ефрейторы и унтер-офицеры. Он замечал, что чувство ненависти к фашизму, томившее его днём и ночью, при допросах сменялось презрением и брезгливостью. В большинстве пленные вели себя трусливо. Быстро и охотно называли они номера частей, вооружение, уверяли, что они — рабочие, сочувствовавшие коммунизму, сидевшие некогда в тюрьме за революционные идеи, и все в один голос говорили: «Гитлер капут, капут», хотя было совершенно очевидно, что внутренне они уверены в обратном.
Лишь изредка попадались фашисты, находившие мужество заявлять в плену о своей преданности Гитлеру, о своей вере в главенство германской расы, призванной поработить народы мира. Богарёв обычно подробно расспрашивал их, — они ничего не читали, даже фашистских брошюр и романов, не слышали не только о Гёте и Бетховене, но и о таких деятелях германской государственности, как Бисмарк, и знаменитых среди военных именах Мольтке, Фридриха Великого, Шлиффена. Они знали лишь фамилию секретаря своей районной организации национал-социалистской партии. Богарёв внимательно изучал приказы германского командования. Он отмечал в них широкую способность к организации: немцы организованно и методически грабили, выжигали, бомбили, немцы умели организовать сбор пустых консервных банок на военных биваках, умели разработать план сложного движения огромной колонны с учётом тысяч деталей и пунктуально, с математической точностью, выполнять эти детали. В их способности механически подчиняться, бездумно маршировать, в сложном и огромном движении скованных дисциплиной миллионных солдатских масс было нечто низменное, не свойственное свободному разуму человека. Это была не культура разума, а цивилизация инстинктов, нечто идущее от организованности муравьев и стадных животных.
За всё время Богарёву среди массы германских писем и документов попалось только два письма: одно — от молодой женщины к солдату, другое — не отправленное солдатом домой, где он увидел мысль, лишённую автоматизма, чувство, свободное от тупой, мещанской низменности; письма, полные стыда и горечи за преступления, творимые германским народом. Однажды ему пришлось допрашивать пожилого офицера, в прошлом преподавателя литературы, и этот человек тоже оказался мыслящим и искренно ненавидящим гитлеризм.
— Гитлер, — сказал он Богарёву, — не создатель народных ценностей, он захватчик. Он захватил трудолюбие, промышленную культуру германского народа, как невежественный бандит, угнавший великолепный автомобиль, построенный доктором технических наук.
«Никогда, никогда, — думал Богарёв, — им не победить нашей страны. Чем точней их расчёты в мелочах и деталях, чем арифметичней их движения, тем полней их беспомощность в понимании главного, тем злей ждущая их катастрофа. Они планируют мелочи и детали, но они мыслят в двух измерениях. Законы исторического движения в начатой ими войне не познаны и не могут быть познаны ими, людьми инстинктов и низшей целесообразности».
Машина его бежала среди прохлады тёмных лесов, по мостикам над извилистыми речушками, по туманным долинам, мимо тихих прудов, отражавших звёздное пламя огромного, августовского неба. Шофёр негромко сказал:
— Товарищ батальонный комиссар, помните, там боец из каски пил, тот, что на орудии сидел? И вот чувство мне такое пришло — наверное, брат мой; теперь понял я, отчего он меня так заинтересовал!
II. Военный совет
Дивизионный комиссар Чередниченко перед заседанием военного совета гулял по парку. Он шёл медленно, останавливаясь, чтобы набить табаком свою короткую трубку. Пройдя мимо старинного дворца с высокой мрачной башней и остановившимися часами, он спустился к пруду. Над прудом свешивались зелёные пышные космы ветвей. Утреннее солнце ярко освещало плававших в пруду лебедей. Казалось, что движения лебедей так медленны и шеи их так напружены оттого, что тёмнозелёная вода густа, туга и её невозможно преодолеть. Чередниченко остановился и, задумавшись, смотрел на белых птиц. Мимо, по аллее со стороны узла связи, шёл немолодой майор с тёмной бородкой. Чередниченко знал его—он работал в оперативном отделе и раза два докладывал дивизионному комиссару обстановку. Поравнявшись с Чередниченко, майор громко сказал:
— Разрешите обратиться, товарищ член военного совета!
— Давайте, давайте, обращайтесь, — сказал Чередниченко, следя, как лебеди, потревоженные громким голосом майора, отплывали к противоположному берегу пруда.
— Только что получено донесение от командира семьдесят второй эс-де.
— Это от Макарова, что ли?
— Так точно, от Макарова. Сведения весьма важные, товарищ член военного совета: вчера около двадцати трёхпротивник начал движение крупными массами танков и мотопехоты. Пленные показали, что они принадлежат к трём различным дивизиям танковой армии Гудериана и что направление движения им было дано на Унечу - Новгород — Северск. Майор поглядел на лебедей и сказал:
— Танковые дивизии, показывают пленные, не полного комплекта.
— Так, — сказал Чередниченко, — я об этом знал ночью. Майор пытливо поглядел на его морщинистое лицо с большими узкими глазами. Цвет глаз у дивизионного комиссара был гораздо светлее, чем тёмная кожа лица, изведавшая ветры и морозы русско-германской войны 1914 года и степные походы гражданской войны. Лицо дивизионного комиссара казалось спокойным и задумчивым.
— Разрешите итти, товарищ член военного совета? — спросил майор.
— Доложите последнюю оперсводку с центрального участка.
— Оперсводка с данными на четыре ноль ноль.
— Ну, уж и ноль ноль, — сказал Чередниченко, — а может быть, на три часа пятьдесят семь минут.
— Возможно, товарищ член военного совета, — улыбнулся майор. — В ней ничего особенного нет. На остальных участках противник особой активности не проявлял. Лишь западнее переправы он занял деревню Марчихина Буда, понеся при этом потери до полутора батальонов.
— Какая деревня? — спросил Чередниченко и повернулся к майору.
— Марчихина Буда, товарищ член военного совета.
— Точно? — строго и громко спросил Чередниченко.
— Совершенно точно.
Майор на мгновенье задержался и, улыбнувшись, сказал виноватым голосом:
— Красивые лебеди, товарищ член военного совета. Их князь Паскевич-Эриванский водил, как мы гусей в деревне заводили. А вчера двух убило во время налёта, птенцы остались.
Чередниченко снова раскурил трубку, выпустил облако дыма.
— Разрешите?
Чередниченко кивнул. Майор пристукнул каблуками и пошел в сторону штаба мимо стоявшего у старого клёна порученца дивизионного комиссара. Чередниченко долго стоял, глядя на лебедей, на яркие пятна света, лежавшие на зелёной поверхности пруда. Потом он сказал низким сиплым голосом:
— Что же, мамо, что ж, Леня, увидимся ли с вами? — и закашлял солдатским трудным кашлем.
Когда он возвращался своей обычной медленной походкой к дворцу, поджидавший его порученец спросил:
— Товарищ дивизионный комиссар, прикажете отправить машину за вашей матерью и сыном?
— Нет, — коротко ответил Чередниченко и, поглядев на удивлённое лицо порученца, добавил. — Сегодня ночью Марчихина Буда занята немцем.
Военный совет заседал в высоком сводчатом зале с портьерами на длинных и узких окнах. В полусумраке красная скатерть с кистями, лежавшая на столе, казалась чёрной. Минут за пятнадцать до начала дежурный секретарь бесшумно прошёл по ковру и шопотом спросил порученца:
— Мурзихин, яблоки командующему принесли? Порученец скороговоркой ответил:
— Я велел, как всегда, и нарзан и «Северную Пальмиру», да вот уже несут.
В комнату вошёл посыльный с тарелкой зелёных яблок и несколькими бутылками нарзана.
— Поставьте вот на тот маленький стол, — сказал секретарь.
— Та хиба ж я не знаю, товарищ батальонный комиссар, — ответил посыльный.
Через несколько минут в зал вошел начальник штаба, генерал с недовольным и усталым лицом. Следом за ним шёл полковник, начальник оперативного отдела, держа свёрток карт. Полковник был худ, высок и краснолиц, генерал, наоборот, — полный и бледный, но они чем-то очень походили один на другого. Генерал спросил у вытянувшегося порученца:
— Где командующий?
— На прямом проводе, товарищ генерал-майор.
— Связь есть?
— Минут двадцать, как восстановили.
— Вот видите, Пётр Ефимович, — сказал начальник штаба, — а ваш хвалёный Стемехель обещал лишь к полдню.
— Что же, тем лучше, Илья Иванович, — ответил полковник и с принятой в таких случаях строгостью подчинённого добавил: — Когда вы спать ляжете? Не спите ведь уже третью ночь.
— Ну, знаете, обстановка такая, что не о сне думать, — ответил начальник штаба и, подойдя к маленькому столу, взял яблоко. Полковник, расстилавший карты на большом столе, тоже протянул руку за яблоком. Порученец и стоявший у библиотечного шкафа секретарь, улыбаясь, переглянулись.
— Да вот оно, это самое, — сказал начальник штаба, наклоняясь над картой и разглядывая толстую синюю стрелу, обозначавшую направление движения германской танковой колонны в глубину красного полукружия нашей обороны. Он, прищурившись, всматривался в карту, потом
— Чорт, что за возмутительная кислятина! Полковник тоже надкусил яблоко и поспешно проговорил:
— Да, доложу я вам, — чистый уксус. — Он сердито спросил у порученца: — Неужели для военного совета нельзя лучших яблок достать? Безобразие!
Начальник штаба рассмеялся.
— О вкусах не спорят, Пётр Ефимович. Это специальный заказ командующего, он любитель кислых яблок.
Они наклонились над столом и негромко заговорили между собой. Полковник сказал:
— Угроза главной коммуникационной линии, явно расшифровывается цель движения, вы только посмотрите, ведь это обхват левого фланга.
— Ну, уж и обхват, — сказал генерал, — скажем, — потенциальная угроза обхвата. — Они положили надкушенные яблоки на стол и одновременно распрямились: в зал вошёл командующий фронтом Ерёмин — высокий, сухощавый, с седеющей, коротко стриженной головой. Он вошёл, громко стуча сапогами, шагая не по ковру, как все, а по начищенному паркету.
— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, — сказал он. Оглядев начальника штаба, он спросил: — Что это у вас такой вид утомлённый, Илья Иванович?
Начальник штаба, обычно называвший командующего по имени и отчеству — Виктором Андреевичем, сейчас, перед важным заседанием военного совета, громко ответил:
— Чувствую себя превосходно, товарищ генерал-лейтенант, — и спросил: — Разрешите доложить обстановку?
— Что ж, вот и дивизионный комиссар идёт, — сказал командующий.
В зал вошёл Чередниченко, молча кивнул и сел на крайний стул в углу стола.
— Минуточку, — сказал командующий и распахнул окно. — Я ведь просил раскрывать окна, — и он строго посмотрел на секретаря.
Обстановка, которую докладывал начальник штаба, была нелёгкой. Пробивные клинья немецко-фашистской армии били во фланги наших частей, угрожая им окружением. Части наши отходили к новым рубежам. На каждой речной переправе, на каждом холмистом рубеже шли кровавые бои. Но враг наступал, а мы отступали. Враг занимал города и обширные земли. Каждый день фашистское радио и газеты сообщали о новых и новых победах. Фашистская пропаганда торжествовала. Были и у нас люди, видевшие лишь вещи, казавшиеся им неопровержимыми: немцы шли вперёд, советские войска отступали. И эти люди были подавлены, не ждали хорошего впереди. В «Фёлькишер беобахтер» печатались огромные шапки, набранные красными буквами, в фашистских клубах произносились радостные речи, жёны ждали своих мужей домой, — казалось, речь идёт о днях и неделях.
Докладчик, и его помощник полковник, и секретарь, и командующий, и дивизионный комиссар — все видели синюю стрелу, направленную в тело советской страны. Полковнику она казалась страшной, стремительной, не ведающей устали в своём движении по разлинованной бумаге. Командующий знал больше других о резервных дивизиях и полках, о находящихся в глубоком тылу соединениях, идущих с востока на запад; он прекрасно чувствовал рубежи боёв, он физически ощущал складки местности, шаткость понтонов, наведённых немцами, глубину быстрых речушек, зыбкость болот, где он встретит германские танки. Для него война происходила не только на квадратах карты. Он воевал на русской земле, на земле с дремучими лесами, с утренними туманами, с неверным светом в сумерках, с густой невыбранной коноплёй, с высокими хлебами, скирдами, овинами, с деревушками на обрывистых берегах рек, с оврагами, заросшими кустарником. Он чувствовал протяжённость сельских большаков и извилистых просёлков, он ощущал пыль, ветры, дожди, взорванные полустанки, разрушенные пути на разъездах. И синяя стрела не пугала и не волновала его. Он был хладнокровный генерал, любивший и знавший свою землю, умевший и любивший воевать. Ему хотелось одного — наступления. Но он отступал, и это мучило его.
Его начальник штаба, профессор Академии, обладал всеми достоинствами учёного военного, знатока тактических приёмов и стратегических решений. Начальник штаба был богат опытом военно-исторической науки и любил находить черты сходства и различия в операциях, которые проводили армии, с другими сражениями XX и XIX веков. Он обладал умом живым и не склонным к догме. Он высоко оценивал способность германского генералитета к манёвру, подвижность фашистской пехоты и умение их авиации взаимодействовать с наземными войсками. Его удручало отступление наших армий, синяя стрела, казалось ему, была направлена в его собственное сердце русского военного.
Начальник оперативного отдела штаба мыслил категориями военной топографии. Для него единственной реальностью являлись квадраты двухкилометровки, и он всегда точно помнил, сколько листов карты было сменено на его столах, какие дефиле прочерчены синим и красным карандашом. Война, казалось ему, шла на картах, её вели штабы. Синие стрелы движения германских моторизованных колонн, выходившие на флангах советских армий, казалось ему, двигались по математическим законам масштабов и скоростей. В этом движении он не видел иных закономерностей, кроме геометрических.
Самым спокойным человеком был молчаливый дивизионный комиссар Чередниченко. «Солдатский Кутузов», — прозвали его. В самые раскалённые часы боёв вокруг этого неторопливого, медленного человека с задумчивым, немного грустным лицом создавалась атмосфера необычайного спокойствия. Его насмешливые лаконичные реплики, его острые, крепкие словца часто повторялись и вспоминались. Все хорошо знали его широкоплечую, коренастую фигуру, он часто прогуливался медленно, задумчиво попыхивая трубкой, либо сидел на скамейке и, немного нахмурив лоб, думал, и всякому командиру и бойцу становилось веселей на душе, когда видели они этого скуластого человека с прищуренными глазами и нахмуренным лбом, с короткой трубкой во рту.
Во время доклада начальника штаба Чередниченко сидел, опустив голову, и нельзя было понять, слушает он внимательно или задумался. Лишь один раз он встал, подошёл к начальнику штаба, посмотрел на карту.
После доклада командующий начал задавать вопросы генералу и полковнику и поглядывал на дивизионного комиссара, ожидая, когда он примет участие в обсуждении. Полковник каждый раз вынимал из кармана гимнастёрки вечную ручку, пробовал перо на ладони, затем снова прятал, а через мгновение опять вынимал её, пробовал острие на ладони. Чередниченко наблюдал за ним. Командующий прохаживался по залу, и паркет скрипел под его тяжёлыми шагами. Лицо Ерёмина хмурилось, — движение немецких танков шло в обход левого фланга одной из его армий.
— Слушай, Виктор Андреевич, — неожиданно сказал дивизионный комиссар, — ты привык с детства к зелёным яблокам, что из соседних садов таскал, так до сих пор этой привычки держишься, а люди, видишь, из-за тебя страдают.
Все поглядели на лежащие рядком надкушенные яблоки и рассмеялись.
— Надо не только зелёные ставить, действительно — конфуз, — сказал Ерёмин.
— Есть, товарищ генерал-лейтенант, — улыбаясь, ответил секретарь.
— Что же тут, — произнёс Чередниченко и, подойдя к карте, спросил начальника штаба: — Вы на этом рубеже предлагаете закрепиться?
— На этом, товарищ дивизионный комиссар, Виктор Андреевич полагает, здесь мы сумеем очень активно и с наибольшим эффектом применить средства нашей обороны.
— Это-то верно, — сказал командующий, — тут начальник штаба предлагает для лучшего проведения манёвра произвести контратаку в районе Марчихиной Буды, вернуть это село. Как ты думаешь, дивизионный?
— Вернуть Марчихину Буду? — переспросил Чередниченко, и в голосе его было нечто, заставившее всех поглядеть на него. Он раскурил потухшую трубку, выпустил клуб дыма, махнул по этому дыму рукой и долго молча глядел на карту.
— Нет, я против, — проговорил он и, водя мундштуком трубки по карте, стал объяснять, почему он считает эту операцию нецелесообразной.
Командующий продиктовал приказ об усилении войск левого фланга и перегруппировке армейской группы Самарина. Онприказывал двинуть навстречу германским танкам одну из имевшихся в его резерве стрелковых частей.
— Ох и хорошего комиссара им дам, — сказал Чередниченко, подписывая вслед за командующим приказ.
В это время гулко прокатился разрыв авиабомбы, тотчас за ним — второй. Послышалась размеренная пальба малокалиберных зениток и тихий, ноющий звук моторов германских бомбардировщиков. Начальник штаба сердито сказал полковнику:
— А эдак минуты через две в городе дадут сигнал воздушной тревоги.
Дивизионный комиссар сказал секретарю:
— Товарищ Орловский, вызовите мне Богарёва.
— Он здесь, товарищ дивизионный комиссар, я хотел доложить вам после заседания.
— Хорошо, — сказал дивизионный комиссар и, выходя из зала, спросил Ерёмина: — Значит, условились насчёт яблок?
— Да, да, дивизионный, договорились, — ответил командующий. — Яблоки всех сортов.
— То-то, — сказал Чередниченко и пошёл к двери, сопровождаемый улыбавшимися генералом и полковником. В дверях он мельком сказал полковнику — Вы, полковник, зря ручку вечную вертели, для чего это вертеть ручку? Разве можно хоть секунду колебаться? Нельзя, нельзя. Побьём немца.
Секретарю военного совета Орловскому, считавшему себя знатоком человеческих отношений, всегда казалось непонятным чувство дивизионного комиссара к Богарёву. Дивизионный, старый военный, около двадцати лет служивший в войсках, всегда относился с некоторым скептицизмом к командирам и комиссарам, призванным из запаса. Богарёв составлял исключение, непонятное секретарю.
Дивизионный, беседуя с Богарёвым, совершенно менялся, терял свою молчаливость; однажды он просидел с Богарёвым в кабинете почти до утра. Секретарь ушам своим не верил: дивизионный говорил горячо, много, громко, задавал вопросы, снова говорил. Когда секретарь вошёл в кабинет, оба собеседника были разгорячены, они, видимо, не спорили, но вели разговор, необычайно важный для них обоих. Теперь, выйдя из зала заседания, дивизионный комиссар не улыбнулся, как обычно, увидя поднявшегося при его входе и вытянувшегося Богарёва, а подошёл к нему с суровым выражением и произнёс голосом, какого никогда не слышал у него секретарь на самых торжественных смотрах:
— Товарищ Богарёв, вы назначены военным комиссаром стрелковой части, которой командование ставит важную задачу.
Богарёв ответил:
— Благодарю за доверие.
III. Город в сумерках
Семён Игнатьев, боец первой стрелковой роты, высокий, могучего телосложения парень, до войны жил в колхозе Тульской области. Повестку из военкомата принесли ему ночью, когда он спал на сеновале. Это было как раз в тот ночной час, когда Богарёву сообщили по телефону, что назавтра ему нужно явиться в Главное политическое управление Красной Армии. Игнатьев любил вспоминать с товарищами:
— Ох, проводили меня важно. Три брата из Тулы, что на пулемётном заводе, ночью пришли с жёнами, пришёл главный механик с эмтееса, вина выпили крепко, песни пели. — Теперь эти проводы казались ему весёлыми и торжественными, но во время прощания нелегко было смотреть Игнатьеву на плачущую мать, на храбрившегося старика-отца. «Смотри, Сенька, — говорил старик, — вот два серебряных Георгия, а два золотых ещё были, я их на заём свободы отдал, смотри на отца-сапёра, полк немецкий с мостом поднял». И хоть старик храбрился, но, видно, ему хотелось плакать вместе с бабами. Семён был любимым из его пяти сыновей, самым весёлым и ласковым.
Семён собирался жениться на дочери председателя колхоза Марусе Песочиной. Она училась в городе Одоеве на счетоводных курсах и должна была после первого июля приехать домой. Подруги, и особенно мать, предупреждали её: очень весёлого и легкомысленного нрава казался им Сенька Игнатьев. Песенник, танцор, большой любитель выпить и погулять, он, казалось, не мог по-серьёзному полюбить девушку и долгое время быть ей верным. Но Маруська говорила подругам: «Мне, девочки, всё равно, я его так люблю, что посмотрю на него — и руки, ноги у меня стынут, даже страшно делается».
Когда началась война, Маруся попросила отпуск на два дня и прошла за одну ночь тридцать километровпешком, чтобы повидать своего жениха. Она пришла домой на рассвете и узнала, что призванных накануне днём повезли на станцию. Тогда, не отдохнувши, снова прошла Маруся восемнадцать километров до железнодорожной станции, где находился сборный пункт, Там сказали ей, что призванных увезли эшелоном, а куда повезли — объяснить отказались. «Это военная тайна», — внушительно сказал ей большой начальник с двумя кубиками на петлицах. Маруся сразу обессилела и едва смогла дойти до квартиры знакомой женщины, работавшей на станции багажным кассиром. Вечером приехал за ней отец и отвёз домой.
Семён Игнатьев сразу стал знаменит в роте. Все знали этого могучего, весёлого, неутомимого человека. Он был изумительным работником: всякий инструмент в его руках словно играл, веселился. И обладал он удивительным свойством работать так легко, радушно, что человеку, хоть минуту поглядевшему на него, хотелось самому взяться за топор, пилу, лопату, чтобы так же легко и хорошо делать рабочее дело, как делал его Семён Игнатьев. Был у него хороший голос, и знал он много старинных песен, выученных от старухи Богачихи. Эта Богачиха была очень нелюдима, никого к себе в хату не пускала, иногда по месяцу ни с кем слова не говорила. Она даже по воду к колодцу ходила ночью, чтобы не встречаться с деревенскими бабами, надоедавшими ей вопросами. И всех удивляло, почему она сразу отличила Сеньку Игнатьева, — рассказывала ему сказки и учила песням. Одно время он вместе со старшими братьями работал на знаменитом тульском заводе, но вскоре уволился и вернулся в деревню. «Не могу я без вольного воздуха, — говорил он, — для меня по нашей земле ходить, как хлеб есть и воду пить, а в Туле земля камнем мощёная».
Часто ходил он по окрестным полям, в большой лес, на реку. Брал Игнатьев с собой удочку или плохонькое охотничье ружьецо, но делал это больше для вида, чтобы над ним не смеялись. Ходил он обычно быстро, — постоит, послушает птиц, тряхнёт головой, вздохнёт и пойдёт дальше. Либо взберётся на высокий, заросший орешником холм над рекой и поёт песни. И глаза у него бывали весёлые, как у пьяного. Его бы посчитали в деревне чудаком и неминуемо стали бы смеяться над этими прогулками с ружьём, но уж очень уважали его за силу, за великолепное умение работать. Мог он подстроить человеку злую, но весёлую шутку, мог много выпить и не захмелеть, рассказать интересный случай либо сказку с издевочкой, никогда не жалел табака для собеседника. В роте он сразу пришёлся всем по душе, и хмурый Мордвинов, старшина, говорил ему не то с восхищением, не то с укоризной: «Эх ты, Игнатьев, русская твоя душа».
Особенно подружился он с московским слесарем Седовым и рязанским колхозником Родимцевым — коренастым темнолицым бойцом 1905 года рождения. Родимцев дома оставил жену с четырьмя детьми.
В последнее время их часть стояла в резерве в предместьи города. Некоторые бойцы размещались в пустых домах. Таких домов в городе было много, так как из ста сорока тысяч населения больше ста тысяч уехало в глубь страны. Выехали из города завод сельскохозяйственных машин, и вагоноремонтный завод, и большая спичечная фабрика. Печально выглядели тихие заводские корпуса, не дымящие трубы, пустые улицы рабочего посёлка, голубые киоски, где недавно торговали мороженым. В одном из таких киосков иногда прятался от дождя боец-регулировщик с пучком цветных флажков. В окнах заколоченных домов, оставленных жильцами, стояли увядшие комнатные цветы — фикусы с опавшими тяжёлыми листьями, порыжевшие гортензии и флоксы. Под деревьями, росшими вдоль улиц, маскировались фронтовые грузовые машины, через пустые детские площадки с кучами нежножёлтого песку ехали броневики, расписанные зелёной и жёлтой краской; они сигналили резкими, сверлящими голосами хищных птиц. Окраины сильно пострадали от бомбардировок с воздуха. Все подъезжавшие к городу рассматривали сгоревшее складское здание с огромной надписью, закоптившейся от дыма: «Огнеопасно».
В городе продолжали работать столовые, маленький завод фруктовых вод, парикмахерские. Иногда, после дождя, ярко блестела роса на листьях, весело поблёскивали лужи, воздух делался нежным и чистым; людям на несколько мгновений казалось, что нет страшного горя, постигшего страну, что враг не стоит в пятидесяти километрах от их дома. Девушки переглядывались с красноармейцами, старики, покряхтывая, сидели на скамейках в садиках, дети играли песком, приготовленным для тушения зажигательных бомб.
Игнатьеву нравился зтот зелёный полупустой город. Он не чувствовал страшной печали, в которой жили оставшиеся в городе люди. Он не замечал заплаканных старых глаз, с тревогой глядевших в лицо каждому встречному военному. Он не слышал, как тихо плакали старухи, не знал, что по ночам сотни стариков не спят, стоят у окон, всматриваются слезящимися глазами в темноту. Их белые губы шептали молитвы, они подходили к тревожно спавшим, плачущим и вскрикивающим во сне дочерям, к стонущим и мечущимся внучатам, и снова шли к окнам, стараясь угадать, куда движутся во мраке машины.
В десять часов бойцов подняли по тревоге. В темноте шофёры заводили машины, моторы негромко рокотали. Жители вышли во дворы и молча смотрели на сборы красноармейцев. Похожая на худую девочку старуха-еврейка, с головой и плечами, покрытыми тяжёлым тёплым платком, спрашивала у бойцов:
— Товарищи, скажите, уходить нам или оставаться?
— Куда ты пойдёшь, мать? — спросил ее весёлый Жавелёв. — Тебе лет девяносто, ты пешком далеко не уйдёшь.
Старуха скорбно кивала головой, соглашаясь с Жавелевым. Она стояла возле грузовика, освещенная синим светом автомобильной фары. Краем своего платка старуха бережно, словно касаясь пасхальной посуды, протёрла крыло машины, очищая его от налипшей грязи. Игнатьев заметил это движение старухи, и неожиданная жалость коснулась его молодого сердца. И старуха, словно ощутила сочувствие Игнатьева, заплакала:
— Что же делать, что же делать, вы уходите, товарищи, да, скажите мне?
Гуденье машин заглушало её слабый голос, и она, никем не слышимая, продолжала спрашивать:
— Муж лежит в параличе, три сына в армии, последний вчера ушёл в ополчение, невестки уехали с заводом. Что делать, товарищи, как уходить, как уходить?
Лейтенант, выйдя во двор, подозвал к себе Игнатьева и сказал:
— Игнатьев, останется три человека до утра для сопровождения комиссара. Вы в том числе.
— Есть остаться для сопровождения комиссара, — весело ответил Игнатьев.
Игнатьеву хотелось эту ночь провести в городе. Ему нравилась молодая беженка Вера, работавшая уборщицей в редакции местной газеты. После одиннадцати она возвращалась с дежурства, и Игнатьев обычно ожидал её в это время во дворе. Девушка была высокая, черноглазая, полногрудая. Сидеть с ней на скамеечке очень нравилось Игнатьеву. Он сидел рядом с ней, она вздыхала и рассказывала мягким украинским голосом о том, как жилось ей в Проскурове до войны, как она ночью пешком ушла от немцев, захватив лишь одно платье и мешочек сухариков, оставив дома стариков и маленького брата, как жестоко бомбили мост через Сожь, когда она шла в колонне беженцев. Все разговоры её были о войне, об убитых на дорогах, о детских смертях, о пожарах в деревнях. В её чёрных глазах всё время стояло выражение тоски. Когда Игнатьев обнимал её, она отводила его руки и спрашивала: «Зачем это? Пойдёшь ты завтра в одну сторону, а я в другую, и ты меня не вспомнишь, и я тебя забуду». — «Ну и что ж, — говорил он, — а может, не забуду». — «Нет, забудешь. Если б раньше ты меня встретил, вот ты бы послушал, как я песни спевала, а теперь не то у меня на сердце». И она всё отводила его руку. Но всё же Игнатьеву очень нравилось сидеть с ней, и он всё надеялся, что она одумается и не откажет ему в любви. О Марусе Песочиной он вспоминал теперь редко, и ему казалось, что раз человек на войне, нет большого греха, если он заведёт по доброй охоте любовь с красивой девушкой. Когда Вера рассказывала, он слушал невнимательно и всё поглядывал на её тёмные брови и глаза и вдыхал запах, шедший от её кожи.
Машины одна за другой выезжали на улицу, шли в сторону Черниговского шоссе. Долго шли машины мимо скамеечки, на которой сидел Игнатьев. И стало вдруг тихо, темно, неподвижно, только в окнах белели седые бороды стариков и белые старушечьи волосы.
Небо было звёздным и совершенно мирным. Лишь изредка сверкала падающая звезда, и военным людям казалось, что звезда эта сбита боевым самолётом. Игнатьев дождался Веры и уговорил её посидеть рядом с ним на скамейке.
— Устала я очень, боец, — сказала она.
— Да хоть немного посиди, — уговаривал он её. — Я ведь завтра уеду.
И она присела возле него. Он в темноте всматривался в её лицо, и она казалось ему такой красивой и желанной, что Игнатьев жалобно вздыхал. Она и в самом деле была очень красива.
IV. Тревога
Богарёв сидел, задумавшись, за столом. Встреча с командиром полка Героем Советского Союза Мерцаловым произвела на него неприятное впечатление.
Командир отнёсся к нему вежливо, предупредительно, но Богарёву не понравился самоуверенный тон его речи.
Богарёв прошёлся по комнате и постучал в дверь хозяину квартиры.
— Вы ещё не спите? — спросил он.
— Нет, нет, пожалуйста, — ответил торопливый старческий голос.
Хозяин квартиры был старый юрист-пенсионер. Богарёв раза два или три беседовал с ним. Старик жил в большой комнате, заставленной книжными полками, заваленной старыми журналами.
— Як вам проститься, Алексей Алексеевич, — сказал Богарёв, — завтра утром уеду.
— Вот оно как, — проговорил старик, — я сожалею. В это грозное время судьба мне подарила собеседника, о котором я мечтал долгие годы. Сколько бы ни осталось мне жить, я буду с благодарностью вспоминать наши вечерние беседы.
— Спасибо, — сказал Богарёв, — от меня вам презент — пачка китайского чаю, вы любитель этого напитка
Он пожал руку Алексею Алексеевичу и зашёл к себе в комнату. За короткое время войны он успел прочесть десяток книг по военным вопросам — много специальных сочинений, обобщающих опыт великих войн прошлого. Читать было для него так же необходимо, как есть и пить.
Но в эту ночь Богарёв не стал читать. Ему хотелось написать письмо жене, матери, друзьям. Завтра для него начинался новый этап жизни, и он сомневался, удастся ли ему в ближайшее время поддержать переписку с близкими.
«Дорогая моя, милая моя, — начал писать он, — наконец, получил то назначение, о котором мечтал, помнишь, я говорил перед отъездом…»
Он задумался, глядя на написанные строки. Жену, конечно, взволнует и огорчит это назначение, о котором он мечтал. Она не будет спать по ночам. Нужно ли писать ей об этом?
Дверь приоткрылась. На пороге стоял старшина.
— Разрешите обратиться, товарищ батальонный комиссар? — спросил он.
— Да, пожалуйста, в чём дело?
— Значит, осталась полуторка, товарищ комиссар, трое бойцов. Какое ваше приказание?
— Мы поедем в восемь часов утра. Легковая машина стала на ремонт, я поеду полуторкой. К вечеру мы полк нагоним. Теперь так. Никого из людей не отпускать со двора, спать всем вместе. Машину вы лично проверьте.
— Есть, товарищ батальонный комиссар. Старшина, видимо, хотел сказать ещё что-то. Богарёв вопросительно посмотрел на него.
— Так что, товарищ батальонный комиссар, прожектора по всему небу шуруют, должно, сейчас тревогу дадут.
Старшина вышел во двор и позвал негромко:
— Игнатьев!
— Здесь, — недовольным голосом отозвался Игнатьев и подошёл к старшине.
— Чтоб не смел со двора отлучаться.
— Да я безотлучно здесь, — ответил Игнатьев.
— Я не знаю, где ты есть безотлучно, а это тебе приказание комиссара, не отлучаться со двора.
— Есть, товарищ старшина, не отлучаться со двора!
— Теперь, как машина?
— Известно, в порядке.
Старшина поглядел на прекрасное небо, на тёмные затаившиеся дома и, зевая, сказал:
— Слышь, Игнатьев, если будет чего, ты меня побуди.
— Есть побудить, если чего будет, — сказал Игнатьев и сам подумал: «Вот привязался старшина, хоть бы спать скорее шёл, носит его».
Он вернулся обратно к Вере и, быстро обняв её, шепнул сердито и горячо ей в ухо:
— Ты скажи, для кого ты себя бережёшь, для немцев, что ли?
— Ох, какой ты, — ответила она, и он почувствовал, что она не отводит его руку, а сама обнимает его. — Какой ты, не понимаешь ничего, — шопотом сказала она, — я боюсь тебя любить: другого забудешь, а тебя не забудешь. Что же, я думаю, это мне и по тебе ещё плакать, — не хватит мне слёз. Я и так не знала, что столько слёз в моём сердце.
Он не знал, что сказать ей, да ей и не нужно было его ответа, и он стал целовать её.
Далёкий прерывистый звук паровозного гудка, за ним другой, третий пронеслись в воздухе.
— Тревога, — жалобно сказала она, — опять тревога, что же это?
И сразу же вдали послышались частые залпы зениток. Лучи прожекторов осторожно, словно боясь разорвать своё тонкое голубоватое тело о звёзды, поползли среди неба, и белые яркие разрывы зенитных снарядов засверкали среди звёзд.
V. Смерть города
Придёт день, когда суд великих народов откроет своё заседание, когда солнце брезгливо осветит острое лисье лицо Гитлера, его узкий лоб и впалые виски, когда рядом с Гитлером на скамье позора грузно повернётся человек с обвисшими жирными щеками, атаман фашистской авиации.
«Смерть им», — скажут старухи с ослепшими от слёз глазами.
«Смерть им», — скажут дети, чьи матери и отцы погибли в огне.
«Смерть, — скажут женщины, потерявшие детей. — Смерть им во имя святой любви к жизни!»
«Смерть», — скажет осквернённая ими земля.
«Смерть», — зашумит пепел под сожжёнными городами и сёлами. И с ужасом почувствует германский народ на себе взоры презренья и укора, с ужасом и стыдом закричит он: «Смерть, смерть!»
Через сто лет со страхом будут разглядывать историки спокойно и методически расписанные приказы, идущие из ставки верховного командования германской армии к командирам авиационных эскадр и отрядов. Кто писал их? Звери, сумасшедшие, или делалось это не живыми существами, а расписывалось железными пальцами арифмометров и интеграторов?
Налёт немецкой авиации начался около двенадцати часов ночи. Первые самолёты-разведчики, шедшие на большой высоте, сбросили осветительные ракеты и несколько кассет зажигательных бомб. Звёзды стали исчезать и меркнуть, когда белые шары ракет, подвешенные к парашютам, разгораясь, повисли в воздухе. Мёртвый свет спокойно, подробно и внимательно освещал площади города, улицы и переулки. В этом свете встал весь спящий город: белая фигура гипсового мальчика с горном, поднесённым к губам, возле Дворца пионеров; заблестели витрины книжных магазинов, и розовые, синие огоньки зажглись в огромных стеклянных шарах, стоявших в окнах аптек. Тёмная листва высоких клёнов в парке вдруг выступила из тьмы каждым резным своим листом, и возбуждённо закричали глупые молодые грачи, поражаясь внезапному приходу дня. Осветились афиши о спектакле в театре кукол, окна с занавесками и цветочными вазонами, колоннада городской больницы, весёлая вывеска над небольшим рестораном, сотни садиков, скамеечек, окошек, тысячи маленьких покатых крыш; робко заблестели круглые оконца на чердаках, янтарно-жёлтые пятна поползли по начищенному паркету в читальном зале городской библиотеки… Спящий город стоял в белом свете осветительных ракет, город, в котором жили десятки тысяч стариков, старух, детей, женщин, город, росший девятьсот лет, город, в котором триста лет тому назад построили учёную семинарию и белый костёл, город, в котором жили поколения весёлых студентов и умелых мастеровых людей. Через этот город шли когда-то длинные обозы чумаков, бородатые плотовщики медленно проплывали мимо его белых домов и крестились, глядя на купола собора; славный город, заставивший расступиться густые, сырые леса; город, где из столетия в столетие трудились знаменитые медники, краснодеревщики, кожевники, пирожники, портные, маляры, каменщики. Этот красивый старинный город на берегу реки был освещен тёмной августовской ночью химическим светом ракет.
Сорок двухмоторных бомбардировщиков ещё днём были подготовлены к налёту. Немецкие техники в мундирчиках с аптекарской точностью наполняли баки прозрачной, лёгкой жидкостью. Чёрно-оливковые фугасные бомбы и серебристые зажигательные в пропорции, установленной для бомбёжки городов, были подвешены к плоскостям. Командир, оберст, знакомился с точным планом полёта, данным штабом, метеорологи сообщили достоверные сводки погоды. Лётчики жевали шоколад, покуривали сигареты, писали домой шутливые короткие открытки, — всё это были холеные мальчики, с модной стрижкой.
С ноющим звуком шли самолёты. Их встретил колючий огонь зениток, лучи прожекторов ловили их, и вскоре один из самолётов загорелся; словно испорченная картонная игрушка, кувыркаясь, пошёл он к земле, то заворачиваясь в тряпицу чёрного пламени, то выпадая из неё. Но лётчики уже увидели спящий город, освещенный ракетами.
Один за другим прокатились над городом взрывы, земля дрогнула от них, со звоном полетели стёкла, посыпалась штукатурка в домах, сами собой стали открываться окна и двери. Полуодетые женщины, держа на руках детей, бежали к щелям. Игнатьев, схватив за руку Веру, побежал с девушкой к окопу, вырытому у забора. Там уже собрались немногочисленные оставшиеся в доме жильцы. Медленно вышел во двор старичок-юрист, у которого жил на квартире комиссар. Старичок нёс в руке пачку книг, перевязанную бечёвкой. Игнатьев помог ему и Вере спуститься в окоп, а сам побежал к дому. В это время послышался вой летящей бомбы. Игнатьев лёг на землю. Весь двор заполнило мглой — то поднялась в воздух тонкая кирпичная пыль от рухнувшего по соседству здания. Женщина крикнула:
— Газы!
— Какие газы! — сердито сказал Игнатьев. — Пыль это. Сиди в щели! — Он подбежал к дому. — Старшина, немец бомбит! — закричал Игнатьев.
Старшина и бойцы уже проснулись и натягивали сапоги. Свет начинавшегося пожара освещал их. Котелки белого металла поблёскивали в свете молодого, ещё бездымного пламени. Игнатьев поглядел на быстро, молча одевавшихся товарищей, потом на котелки и спросил:
— Ужин на меня получали?
— Во, брат ты мой, — сказал Седов, — ты там будешь с бабами на скамейке звёзды считать, а мы на тебя ужин получай.
— Скорей, скорей собирайся! — сердито крикнул старшина. — А ты, Игнатьев, беги к комиссару, побудить его надо.
Игнатьев поднялся на второй этаж. Старый дом весь скрипел от гула бомбовых разрывов, поскрипывая, ходили двери, тревожно позванивала посуда в шкафах, и, казалось, весь старый обжитой дом дрожит, как живое существо, видя страшную скорую гибель подобных себе. Комиссар стоял у окна. Он не слышал, как вошёл Игнатьев. Новый разрыв потряс землю, глухо и тяжело села штукатурка, наполнив комнату сухой пылью. Игнатьев чихнул. Комиссар, не слыша, стоял у окна, глядя на город. «Вот он какой, комиссар», — подумал Игнатьев, и невольное чувство восхищения коснулось его. В этой высокой неподвижной фигуре, обращенной к начинавшим гореть пожарам, было что-то сильное, привлекавшее.
Богарёв медленно повернулся. Лицо его было угрюмо. Выражение тяжёлой упорной думы лежало на всём облике его. Худые щёки, тёмные глаза, сжатые губы — всё напряглось в одном большом движении. «Словно икона, строгий», — подумал Игнатьев, глядя на лицо комиссара.
— Товарищ комиссар, — сказал он, — надо бы вам уйти отсюда, ведь он совсем рядом кидает; ударит — ничего от дома не останется.
— Как фамилия ваша? — спросил Богарёв.
— Игнатьев, товарищ комиссар.
— Товарищ Игнатьев, передайте старшине моё приказание: помочь гражданскому населению. Слышите, кричат женщины.
— Поможем, товарищ комиссар. Насчёт тушения-то мало чего сделаешь, дома больше деревянные, сухие, и он их зажигает сотнями сразу, а тушигь-то некому — молодой мирный житель эвакуировался либо в ополчение ушёл. Старики и ребята остались.
— Запоминайте, товарищ Игнатьев, — вдруг сказал комиссар, — запоминайте всё, что вы видите. И эту ночь, и этот город, и этих стариков и детей.
— Разве забудешь, товарищ комиссар.
Игнатьев смотрел на мрачное лицо комиссара и повторял: «Правильно, товарищ комиссар, правильно». Потом он спросил:
— Может, разрешите гитару эту взять, что на стенке висит, всё равно дом сгорит, а бойцам очень нравится как я на гитаре играю?
— Дом ведь не горит, — строго сказал Богарёв.
Игнатьев поглядел на большую гитару, вздохнул и пошёл к двери. Богарёв начал укладывать бумаги в полевую сумку, надел плащ, фуражку и снова подошёл к окну.
Город горел. Курчавый, весь в искрах, красный дым поднимался высоко вверх, тёмнокирпичное зарево колыхалось над базаром. Тысячи огней, белых, оранжевых, нежножёлтых, клюквеннокрасных, голубоватых, огромной мохнатой шапкой поднимались над городом, листва деревьев съёживалась и блёкла. Голуби, грачи, вороны носились в горячем воздухе, — горели и их дома. Железные крыши, нагретые страшным жаром, светились, кровельное железо от жара громыхало и гулко постреливало, дым вырывался из окон, заставленных цветами, — он был то молочнобелым, то смертночёрным, розовым и пепельно-серым, — он курчавился, клубился, поднимался тонкими золотистыми струями, рыжими прядями, либо сразу вырывался огромным стремительным облаком, словно внезапно выпущенный из чьей-то огромной груди; пеленой покрывал он город, растекался над рекой и долинами, клочьями цеплялся за деревья в лесу.
Богарёв спустился вниз. В этом большом огне, в дыму, среди разрыва бомб, криков, детского плача находились люди спокойные и мужественные, — они тушили пожары, засыпали песком зажигательные бомбы, спасали из огня стариков. Красноармейцы, пожарники, милиционеры, рабочие и ремесленники всеми силами своими, не обращая внимания на воющую смерть, с лицами, чёрными от копоти, в дымящейся одежде боролись за свой город, делали всё, что могли, чтобы спасти, выручить то, что можно было спасти и выручить. Богарёв сразу почувствовал присутствие этих мужественных людей. Они появлялись из дыма и огня, связанные великим братством, вместе шли на подвиги, врывались в горящие дома и вновь исчезали в дыму и огне, не называя своих имён, не зная имён тех, кого спасали.
Богарёв увидел, как зажигательная бомба упала на крышу двухэтажного дома, искрясь, словно детский фейерверк, и начала растекаться ослепительно белым пятном. Он вбежал по лестнице, пробрался на чердак, в духоте, пахнущей дымной глиной, напоминавшей детство, подошёл к мутно светившемуся слуховому окну. Руки ему обжигало горячее кровельное железо. Искры садились на его одежду, но он быстро пробрался к тому месту, где лежала бомба, сильным ударом сапога сбросил её вниз. Она упала на клумбу, осветив на миг пышные головы астр и георгин, зарылась в рыхлую землю и стала гаснуть. Богарёв с крыши увидел, как из соседнего горевшего дома вынесли на складной кровати старика два человека в красноармейской форме. Он узнал бойца Игнатьева, просившего у него гитару; второй, Родимцев, был пониже ростом и пошире в плечах. Старуха-еврейка быстро заговорила, — видимо, благодарила Игнатьева за спасение мужа. Игнатьев махнул рукой; в этом жесте, широком, щедром, свободном, словно выразилась вся богатая и добрая натура народа. В это время сильнее застучали зенитки, к их выстрелам присоединилось рокотание пулемётов. Новая волна фашистских бомбардировщиков налетела на горящий город. Снова послышался сверлящий вой отделившихся от самолёта бомб.
— По щелям! — закричал кто-то. Но люди, разозлённые борьбой, уже не ощущали опасности.
Чувство времени, протяжённости и последовательности событий словно оставило Богарёва. Он вместе со всеми тушил начинавшиеся пожары, засыпал песком зажигательные бомбы, выносил из огня чьи-то вещи, помогал санитарам, приехавшим с автомобилем скорой помощи, укладывать на носилки раненых, ходил вместе со своими бойцами к загоревшемуся родильному дому, выносил книги из горевшей городской библиотеки. Отдельные картины навечно запомнились ему. Человек выбежал из дома с криком: «Пожар, пожар!» Этот человек, вдруг увидевший вокруг себя один лишь сплошной огромный огонь, сразу успокоился, сел на тротуар и сидел неподвижно; запомнилось ему, как в чаду и гари вдруг распространился нежный запах духов, — это загорелся парфюмерный магазин. Запомнилась ему сошедшая с ума молодая женщина. Она стояла посреди пустынной площади, освещенная пожаром, и держала на руках труп девочки. Раненая лошадь лежала на углу улицы. Богарёв увидел в её стекляневших, но всё ещё живших глазах отражение пылавшего города. Тёмный, плачущий, полный муки зрачок лошади, словно кристальное живое зеркало, вобрал в себя пламя горящих домов, дым, клубящийся в воздухе, светящиеся, раскалённые развалины и этот лес тонких, высоких печных труб, который рос, рос на месте исчезавших в пламени домов.
И внезапно Богарёв подумал, что и он вобрал в себя всю ночную гибель мирного старинного города.
С рассветом пожар стал меркнуть. Солнце смотрело на дымящиеся развалины, на стариков и старух, сидевших на узлах, среди старой посуды, цветочных вазонов, сорванных ночью со стен старых портретов в чёрных рамах. И это солнце, глядевшее сквозь холодеющий дым пожаров на мёртвых детей, было мертвенно-белым, отравленным дымом и гарью. Богарёв пошёл в штаб за инструкциями и вернулся на квартиру. Во дворе к нему подошёл старшина.
— Как машина? — спросил Богарёв.
— В порядке, — ответил старшина. Глаза его были воспалены от дыма.
— Надо ехать, собирайте людей.
— Тут, товарищ комиссар, случай произошёл, — сказал старшина. — Уж под утро немец положил бомбу акурат у окопчика, где жители хоронились, и всех почти покалечил, а двоих убило: этого старичка, у которого вы на квартире стояли, и девушку тут одну, беженку. — Он усмехнулся. — Игнатьев с ней всё беседы проводил.
— Где же они? — спросил Богарёв.
— Раненых — тех увезли, а убитые так и лежат, вот за ними подвода пришла, — ответил старшина.
Богарёв пошёл в глубь двора, где собрались люди, смотревшие покойников. Старика трудно было узнать. Возле него валялись порванные, забрызганные кровью книги, выпавшие из вынесенной им пачки. Он, видимо, в момент разрыва бомбы приподнялся, выглядывая из неглубокой щели. «Летописи. Тацит», — прочёл Богарёв название книги, лежавшей рядом с телом. А девушка-беженка казалась живой, спящей. Смуглая кожа её скрывала бледность, чёрные ресницы прикрывали глаза, она улыбалась лукаво и смущённо, словно стыдясь, что люди обступили её.
Подошедший возчик взял девушку за ноги и сказал:
— Эй, кто-нибудь, помогите, что ли.
— Пусти, — крикнул Игнатьев.
Он легко и бережно приподнял тело, перенёс его на подводу. Девочка, державшая в руке завядшую астру, положила цветок на грудь покойнице. Богарёв помог возчику поднять тело старика. А люди с красными глазами, с перепачканными копотью лицами стояли молча, опустив головы.
Пожилая женщина, глядя на покойницу, произнесла негромко: «Счастливая».
Богарёв пошёл к дому. Стоявшие у подводы люди молчали, и только чей-то сиплый голос печально промолвил:
— Минск сдали, Бобруйск, Житомир, Шепетовку… разве его остановишь? Видишь, что он делает. За одну ночь город какой сжёг и полетел себе.
— Зачем полетел, — шестерых наши сбили, — сказал красноармеец.
Вскоре Богарёв вышел из квартиры убитого юриста. Он оглядел в последний раз полуразрушенную комнату, пол, засыпанный стеклом, выброшенные силой взрыва из шкафов книги, сдвинутую мебель. Подумав, он снял со стены гитару, снёс её вниз и положил в кузов машины.
Боец Родимцев, протягивая стоявшему у машины Игнатьеву котелок, говорил:
— Поешь, Игнатьев, туг макарон белый, мясо — вчера я на тебя получил.
— Не хочу есть, — сказал Игнатьев, — пить хочу, всё запеклось внутри.
Вскоре они выехали за город. Летнее утро встретило их всей торжественной спокойной прелестью своей. Днём они остановились в лесу. Тугой чистый ручей, грациозно морщась на камнях, бежал меж деревьев. Прохлада касалась воспалённой кожи, глаза отдыхали в спокойной тени высоких дубов. Богарёв увидел в траве семейство белых грибов, — они стояли, сероголовые, на толстых белых ножках, и ему вспомнилось, с какой страстью он и жена в прошлом году предавались, собиранию грибов на даче. Сколько радости было бы, найди они тогда такое скопище белых грибов! Им-то не очень везло на этот счёт — большей частью приносили они домой сыроежки и козлята.
Красноармейцы помылись в ручье.
— Пятнадцать минут на обед, — сказал Богарёв старшине. Он медленно ходил меж деревьев, радуясь и печалясь беспечной красоте мира, шелесту листьев. Внезапно он остановился, прислушался, оглянулся в сторону машины. Игнатьев играл на гитаре, остальные ели хлеб и консервы и слушали.
VI. Штаб полка
В штабе собрался командный состав. Командир полка, Герой Советского Союза майор Мерцалов, участник финской войны, сидел за картой с начальником штаба Кудаковым, мужчиной лет сорока, лысым, медленным в движениях и речи.
Командир первого батальона, капитан Бабаджаньян, в день приезда Богарёва страдал от зубной боли; днём он, разгорячившись, напился ключевой воды, и ему, как он выражался, «ломало всю челюсть». Командир второго батальона, майор Кочетков, добродушный и разговорчивый, всё посмеивался над Бабаджаньяном. Здесь же был помощник начальника штаба, красивый, плечистый лейтенант Мышанский. Полк получил боевую задачу. Он должен был при поддержке тяжёлой артиллерии нанести немцам внезапный удар во фланг, чтобы задержать движение противника в обход нашей армии и этим дать возможность выйти из мешка частям стрелкового корпуса. Мерцалов знакомил с заданием командиров и комиссаров батальона. К концу чтения пришёл вызванный командир разведывательного взвода Козлов, круглоглазый, веснущатый лейтенант. Здороваясь, он с необычайной лихостью щёлкал каблуками и брал под козырёк. Рапортовал он командиру полка громко, чеканя каждое слово, но круглые глаза его при этом улыбались лукаво и снисходительно-спокойно.
Богарёв просидел всё заседание молча. Он находился под впечатлением ночного пожара и несколько раз встряхивал головой, словно желая притти в себя. В начале заседания командиры часто оглядывались на Богарёва, но затем привыкли и перестали его замечать.
Бабаджаньян, улыбнувшись, словно его оставила зубная боль, сказал, обращаясь к Богарёву:
— Мне нравится, товарищ комиссар: армия отступает, подумайте, армия целая, а батальон Бабаджаньяна наступать будет. Честное слово, мне нравится!
Приехавший сосед, представитель гаубичного артиллерийского полка, хмурый подполковник, всё время писавший что-то в блокноте, сказал:
— Только, товарищи, должен предупредить вас, — расходование снарядов мы будем производить в соответствии с нормой.
— Ну, само собой, это ведь оговорено уставом, — проговорил Кулаков.
Подполковник сказал:
— Да, да, товарищи, нормы есть нормы! Бабаджаньян весело возразил ему:
— Какие нормы! Я знаю одну лишь норму: победа!
После делового обсуждения начался разговор о германской армии. Мышанский рассказывал о немецкой атаке в районе Львова.
— Идут шеренгой плечо к плечу, не менее километра стеночка, представляете? И этак метрах в четырёхстах второй ряд такой же, а за вторым третий, — рассказывал Мышанский, — идут в высокой пшенице, у каждого автомат, и вот таким вот макаром. Наша полковая артиллерия их косит, а они идут себе да идут, прямо изумительно. Не кричат, не стреляют и не видно, чтобы пьяны, — валятся, валятся в пшеницу, а остальные шагают. Ну, я вам доложу, картина!
Он стал вспоминать, как двигались тысячные колонны немецких танков по Львовскому и Проскуровскому шоссе, как ночью при свете зелёных и синих ракет высаживались немецкие парашютные десанты, как отряды мотоциклистов обстреляли один из наших штабов, как взаимодействуют между собой немецкие танки и авиация. Ему доставляло видимое удовольствие рассказывать об отступлении первых дней. «Ох, и драпал же я!» — говорил он. И так же нравилось ему восхищаться силой немецкой армии.
— Шутите, что с Францией сделали, — говорил он, — в тридцать дней справиться с такой огромной силой — это только при их организации, с их генералитетом, с их военной культурой!
— Да, организация есть, есть, — сказал командир полка.
— Да нет, — сказал Мышанский, — я видел эту махину в действии. Уж что тут говорить. Всю стратегию и тактику перевернули.
— Мудры и непобедимы? — вдруг громко и сердито спросил Богарёв.
Мышанский поглядел на него и снисходительно сказал:
— Вы меня простите, товарищ комиссар, но я человек фронтовой, привык говорить, что думаю!
— Да никогда я этого не прощу, ни вам, ни кому другому, — перебил его Богарёв. — Понимаете?
— Но недооценивать тоже не следует, — сказал Кочетков, — как бойцы мои говорят: немец трус, но вояка отличный…
— Мы ведь не дети, — сказал Богарёв, — мы знаем, что имеем дело с сильнейшей армией в Европе, с техникой, да я вам прямо скажу, превосходящей на данном этапе войны нашу, да и вообще, что говорить, — с немцами имеем дело, этим всё сказано. Ну, вот, товарищ Мышанский, я вас тут слушал внимательно, придётся прочесть вам маленькую лекцию. Есть в том необходимость. Вы должны научиться презирать фашизм, вы должны понять, что это самое низшее, самое подлое, самое реакционное, что есть на земле. Это гнусная смесь эрзацев и воровства в самом широком смысле этих слов. Сия гнусная идеология абсолютно лишена творческого элемента.
— Презирать её нужно до глубины души, понимаете вы это? Извольте послушать: их социальные идеи — это старинный тупой бред, осмеянный Чернышевским и Энгельсом. Вся военная доктрина фашизма целиком и полностью списана из старых планов германского штаба, разработанных Шлиффеном, — все эти фланговые удары, клинья и прочее рабски копируются. Танки и десанты, которыми фашисты удивили мир, украдены: танки — у англичан, десанты — у нас. Я постоянно изумляюсь чудовищной творческой бесплодности фашизма! Ни одного нового военного приёма! Всё списано. Ни одного крупного изобретения! Всё крадено. Ни одного нового рода оружия! Всё взято напрокат. Германская творческая мысль во всех областях стерилизована: фашисты бессильны изобретать, писать книги, музыку, стихи. Они — застой, болото. Они внесли лишь один элемент в историю и политику — организованное зверство, бандитизм! Презирать, смеяться над их умственным убожеством нужно, товарищ Мышанский, поняли вы меня или не поняли? Этим духом должна быть проникнута вся Красная Армия от верху и до низу, вся страна. Вам кажется, что вы фронтовик, режете правду-матку, а у вас психика долго отступавшего человека, у вас холуйская нотка в голосе.
Он встал во весь рост и, глядя в упор на Мышанского, грозно сказал:
— Как военный комиссар части я запрещаю вам произносить слова, не достойные патриота и не отвечающие объективной правде. Понятно вам это?
* * *
Начинать должен был батальон Бабаджаньяна. Атаку назначили на три часа ночи. Козлов, ходивший два раза в разведку, подробно описывал расположение немцев в совхозе. Танки и броневые автомобили стояли на площади; солдаты спали в помещении совхозного овощехранилища. Это овощехранилище представляло собой длинный сарай-казарму протяжением в сорок — пятьдесят метров. Немцы устроились в нём с удобствами: заставили окрестных крестьян свезти туда несколько возов сена, расстелить поверх сена полотно и куски рядна. Спали немцы в белье, сняв сапоги; свет жгли, не затемняя окон. По вечерам они хором пели песни, и разведчики, лежавшие на огородах, отлично слышали немецкое пение. Разведчиков особенно сердило это пение. — Поют, — говорили они, — а наши бойцы молчат, никогда не слышно, чтобы пели. — И действительно, в то время не слышно было в войсках пения, и колонны шли молча, и на привалах не пели, не плясали.
Когда стемнело, выехал на огневые позиции дивизион гаубичного полка. Командир и комиссар дивизиона вскоре зашли в штабную избу и уселись за стол: комиссар разложил шахматную доску, командир вытащил из полевой сумки фигуры, и они оба сразу же пригнулись, задумались. Командир второго батальона Кочетков сказал:
— Вот сколько вижу артиллеристов, и почти все в шахматы играют.
Комиссар дивизиона, не отрывая глаз от доски, ответил:
— А насколько я вижу, в стрелковых частях все в домино играют.
Командир дивизиона, тоже глядя на доску, добавил:
— Точно. Обязательно в козла, да ещё морского. — Он показал пальцем на доску и добавил — Так ты, Серёжа, проиграешь. Явная потеря ферзя, как в тот раз под Мозырем.
Они наклонились над доской и замерли. Минут через пять, когда Кочетков уже вышел из избы, комиссар дивизиона сказал:
— Чепуха, ничего я тут не теряю, — и, глядя на доску, добавил, обращаясь к отсутствующему Кочеткову: — А кавалеристы любят играть в подкидного дурака. Верно, товарищ Кочетков?
Сидевший у полевого телефона дежурный связист рассмеялся, но тотчас озабоченно нахмурился и, покрутив ручку аппарата, строго сказал:
— Луна, луна. Медынский, ты? Проверка. Командир полка Мерцалов негромко разговаривал с начальником штаба. В избу снова вошёл Бабаджаньян, худой, высокий, возбуждённый. В полутьме чёрные глаза его блестели. Он заговорил быстро и горячо, тыча рукой в карту:
— Это исключительный случай, разведка совершенно точно доносит, где стоят танки. Если выдвинуть артиллерию на этот холм, мы их расстреляем прямой наводкой. Честное слово! Как можно упускать? Ну, как на ладони, подумайте, как на ладони! — и он показал свою худую смуглую руку, постучал ладонью по столу.
Мерцалов посмотрел на Бабаджаньяна и сказал:
— Согласен, бить так бить! Долго рассуждать я не люблю.
Он подошёл к артиллеристам.
— Товарищи шахматисты, придётся вас оторвать. Пожалуйте-ка сюда.
Они вместе склонились над картой.
— Ясно, они хотят перерезать шоссе — тут ведь не больше сорока километров — и выйти в тыл армии.
— В этом всё значение нашей операции, — сказал начальник штаба, — имейте в виду, что командующий армией лично следит за всем этим делом.
— Вчера по радио немцы кричали: «Сдавайтесь, красноармейцы, сюда прибыли наши огнемётные танки, мы сожжём всех, а кто сдастся, пойдёт домой», — сказал командир дивизиона Румянцев.
— Нагло ведут себя, — сказал Мерцалов, — до обидного нагло: спят раздетые — а я вот, уже которые сутки сапог не снимаю, — ездят, собаки, по фронтовым дорогам с зажжёнными фарами.
Он задумался и прибавил:
— А комиссар какой у нас, его слова меня прямо, знаете, ну как…
— Крут уж очень, — сказал начальник штаба, — Мышанского сильно обложил.
— А мне понравилось, — смеясь, сказал Мерцалов, — я прямо по себе скажу: на меня вы оба действуете. Мышанский вот своими рассказами, а вы всё насчет формы да нормы. Я ведь человек простой, строевой, слова больше, чем пули, боюсь.
Он посмотрел на начальника штаба и весело сказал:
— Хорош комиссар. Я с ним вместе воевать буду.
VII. Ночь
Батальон Бабаджаньяна расположился в лесу. Бойцы сидели и лежали под деревьями в маленьких шалашах из ветвей с увядшими шуршащими листьями. Сквозь листву проглядывали звёзды, воздух был тих и тёпел. Богарёв вместе с Бабаджаньяном шли по едва белевшей тропинке.
— Стой, приставить ногу! — крикнул часовой и быстро произнёс: — Один ко мне, остальные на месте.
— Остальные — тоже один, — смеясь, сказал Бабаджаньян и, подойдя к часовому, шепнул ему пропуск. Они пошли дальше. Возле одной из лиственных палаток остановились, прислушались к негромкому разговору красноармейцев.
— Вот, скажи мне, как ты думаешь, — оставим мы Германию после войны, или как её? — спросил спокойный, задумчивый голос.
— А кто его знает, — ответил второй, — там посмотрим.
— Вот хороший разговор во время большого отступления! — весело сказал Богарёв.
Бабаджаньян посмотрел на светящийся циферблат часов.
Игнатьев, Родимцев и Седов не успели выспаться после бессонной ночи в горящем городе. Их разбудил старшина и велел пойти за ужином. Походная кухня тускло светилась в лесной тьме своим красным квадратным глазом. Возле неё, сдержанно шумя, позвякивая котелками, толпились красноармейцы. Все уже знали о предстоящем ночном выступлении.
Трое бойцов, сталкиваясь ложками, черпали суп и неторопливо разговаривали между собой. Родимцев, участвовавший уже в шести атаках, медленно объяснял товарищам:
— В первый раз, конечно, страшно. Непонятно, ну, и страшно. Откуда что, ну, и не знаешь. Я вам скажу — автоматов неопытные бойцы очень опасаются, а они совсем бесцельно бьют. Пулемёт, скажем, тоже не очень в цель бьёт. От него залёг в овражек, за холмик ли, ну, и высматривай себе место для перебежки. Вот миномёт у него самый сильный, отвратительный, я прямо скажу, — меня до сих пор от него в тоску кидает. От него одно спасение — вперёд итти. Если заляжешь или назад пойдёшь, накроет.
— Ох, жалко мне эту Веру, — сказал Игнатьев, — стоит, как живая. Ну, прямо не знаю.
— Нет, я теперь о бабах не думаю, — сказал Родимцев. — Я в этой войне к бабам чутьё потерял. Вот ребятишек повидать очень хочется. Хоть бы денёк с ними. А бабы что, — я не немецкий кобель.
— Эх, ты, — сказал Игнатьев, — не понимаешь. Жалко мне её просто. За что это её — молодая, мирная. За что он её убил?
— Да, уж ты пожалеешь, — сказал Родимцев. — Целый день в машине на гитаре играл.
— Это ничего не значит, — проговорил москвич Седов, — у него натура, у Игнатьева, такая, — никакого значения не имеет. — И, глядя в звёздное небо, узором выступающее меж чёрной молодой листвы, медленно произнёс: — Животные и растения борются за существование, а немец вот борется за господство.
— Правильно, Седов, — сказал Родимцев, любивший непонятные, учёные слова, — это ты правильно сказал, — и продолжал рассказывать: — Дома я воротного скрипа боялся, ночью лесом ходить опасался, а тут ничего не боюсь. Почему такое стало? Привык я, что ли, или сердце у меня в этой войне другое сделалось, запеклось? Вот я вижу, есть такие, — боятся сильно, а я, ну вот что хочешь мне сделай, не боюсь, и всё. И ведь мирный был человек, семейный, никогда про войну эту и не думал. Не дрался отродясь, и мальчишкой был — не дрался, и пьяным, бывало, напьёшься, не то что в драку, а ещё плакать начинаю, всех людей мне жалко делается.
— Это у тебя оттого, что насмотрелся, — сказал Седов, — послушаешь жителей, увидишь вот такое дело, как вчерашний пожар, тут чорта перестанешь бояться.
— Кто его знает, — сказал Родимцев, — есть ведь очень боятся. Но у нас уж так завёл командир батальона: что держим — не отдаём. Горько ли, тошно ли — стоим.
— Да, командир прочный, — сказал Седов, — а бывает горько, бывает и тошно.
— Ну ясно, человек хороший. И опять же не заводит, куда не нужно, бережёт кровь своего бойца. А главное хорошо — трудности все с нами выносит. Это я помню, больной он совсем был, а целый день в болоте по грудь простоял, кровью стал харкать, это вас ещё не было, когда танки шли на Новоград-Волынский. Вышел в лесок сушиться. А он лежит, ослабел совсем. Подошёл я к нему, говорю: «Товарищ капитан, поешьте, вот у меня колбаса да хлеб». А он глаза не открывает, по голосу только меня узнал. «Нет, говорит, товарищ Родимцев, спасибо, есть мне не хочется. Мне, говорит, хочется письмо от жены и детей получить, с самого начала потерял их». И так он это сказал, что прямо, ей-богу… Отошёл от него и думаю: «Да, брат ты мой, это да».
Игнатьев поднялся во весь рост, расправил руки, крякнул.
— Вот чорт здоровый, — сказал Родимцев.
— А чего? — спросил Игнатьев одновременно сердито и весело.
— Чего? Ничего. Ясное дело. Пища хорошая. Ну, а работа — в деревне тоже работал. Ясно, будет здоровый.
— Да, брат, — сказал из темноты чей-то насмешливый голос, — на войне работа не тяжёлая, вот залепит тебе осколок кило на полтора в кишки, будешь тогда знать, где тяже — дома или здесь.
— Это уж курский соловей запел, — сказал Седов и, обращаясь к невидимому во тьме человеку, спросил:
— Не любишь, чорт, когда немцы стреляют?
— Ладно, ладно, — ответил сердитый голос, — лишь бы ты очень любил.
Вскоре батальон выступил. Люди шли молча, лишь негромко раздавались голоса командиров, да то и дело ругался кто-нибудь, споткнувшись о переползавший лесную дорогу корень. Шли узкой просекой, прорубленной среди дубового леса. Деревья молчали, листва не шевелилась, лес стоял высокий, чёрный, недвижимый, словно литой. Бойцы выходили на широкие лесные поляны, звёздное небо вдруг разливалось над ними, чёрное до синевы, и сердце тревожилось, когда падала стремительная ясная звезда. А вскоре снова лес смыкался вокруг них, и в глазах стояла золотая звёздная каша, перемешиваемая толстыми лапами дубовых ветвей, и смутно белела во мраке песчаная дорога. Лес кончился, и они вышли на широкую равнину. Они шли по несжатым полям и во мраке по шороху осыпавшегося зерна, по скрипу соломы под ногой, по шуршанию стеблей, цеплявшихся за их гимнастёрки, узнавали пшеницу, жито, гречку, овёс. И это движение в тяжёлых солдатских сапогах по нежному телу несжатого урожая, это шуршащее, как грустный дождь, зерно, которое они ощупывали во мраке, говорило многим деревенским сердцам о войне, о кровавом нашествии ярче и громче, чем пылавшие на горизонте пожары, чем красные шнуровые трассы пуль, медленно ползущие к звёздам, чем голубоватые столбы прожекторов, качавшихся на небе, чем далёкие глухие раскаты разрывающихся бомб. Это была невиданная война: враг топтал всю жизнь народа, он сбивал кресты на кладбищах, где похоронены матери и отцы, он жёг детские книжки, он ступал по тем садам, где деды сажали антоновку и чёрную черешню, он наступал на горло старым бабкам, рассказывавшим детям сказки о петушке-золотом гребешке, он вешал деревенских бондарей, кузнецов, ворчливых дедов-сторожей. Такого не знала Украина, Белоруссия, Россия. Такого не было никогда на советской земле. И красноармейцы шли ночью, топча сапогами свою родную пшеницу и гречу, подходили к совхозу, где среди белых хат стояли чёрные танки с намалёванными на них хвостатыми драконами. И добрый, тихий человек, Иван Родимцев, говорил: «Нет уж, миловать его не за что».
Ещё до того как первый снаряд ударил вблизи сарая, где лежали немецкие пехотинцы и танкисты, красноармеец, фамилии которого никто не запомнил, пробрался через проволочное заграждение, незаметно прошёл меж хатами в сады, перелез через забор на площадь, начал ползти к стогам сена, свезённого накануне немцами. Его заметил часовой и окликнул. Красноармеец молча продолжал ползти к стогам. Часового настолько озадачило бесстрашие этого человека, что он замешкался. Когда часовой дал очередь из автомата, красноармеец уже находился в нескольких метрах от сложенного сена, успел бросить бутылку горючей жидкости в один из стогов и упал мёртвым. Немецкие танки, броневики и танкетки, стоявшие на площади, осветились красно-жёлтым пламенем горевшего сена. И тотчас же с дистанции в шестьсот метров открыли огонь гаубицы. Артиллеристы видели, как из длинного сарая-казармы выбегали немецкие солдаты.
— Эх, пехота запаздывает, — сердито сказал Румянцев комиссару дивизиона Невтулову.
Но вскоре красная ракета дала сигнал атаки. Сразу же умолкли пушки. Был миг тишины, когда лежавшие люди вставали с земли, и по тёмной роще, по несжатой пшенице пронеслось протяжное, негромкое, прерывистое «ура». Это пошли в атаку роты Бабаджаньяна. Зарокотали станковые пулемёты, рассыпчато разносился треск винтовочных выстрелов. Бабаджаньян взял из рук связиста телефонную трубку. До слуха дошёл идущий из боя голос командира первой роты:
— Ворвался на окраину деревни, противник бежит. Бабаджаньян подошёл к Богарёву, и комиссар увидел в чёрных пламенных глазах командира батальона слёзы.
— Бежит противник, противник бежит, товарищ комиссар, — сказал он с придыханием. — Эх, отрезать бы их можно было, мерзавцев! — закричал он. — Не туда Мерцалов кочетковский батальон поставил! Зачем в затылок, во фланг надо бы.
С наблюдательного пункта они видели, как немцы бежали с окраины в сторону площади. Многие из них были не одеты, несли в руках оружие и свёртки одежды. Длинный сарай-казарма пылал весь, пылали стоявшие на площади танки, огромный высокий дымный костёр живой красной башней поднимался над автоцистернами с горючим. Среди солдат можно было заметить фигуры офицеров, кричавших, грозивших револьверами, тоже бегущих. «Вот она, внезапность», — думал Богарёв, всматриваясь в толпы солдат, мечущихся среди построек.
— Пулемёты, пулемёты вперёд! — закричал Мерцалов и побежал в сторону стоявшей в резерве роты. Вместе с пулемётчиками он вошёл в деревню.
Немцы отходили по большаку в сторону деревни Марчихина Буда, находившейся в девяти километрах от совхоза. Многие танки и броневики ушли, раненых и убитых немцы успели унести.
Уже рассвело. Богарёв осматривал сгоревшие немецкие машины, пахнущие жжёной краской и маслом, щупал ещё не остывший мёртвый металл.
Красноармейцы улыбались, смеялись. Смеялись и шутили командиры. Даже раненые возбуждённо рассказывали друг другу бескровными губами о ночном бое.
Богарёв понимал, что этот внезапный, торопливо подготовленный налёт на совхоз — маленький эпизод в нашем долгом отступлении. Он чувствовал душой громадность потерянного нами пространства, всю тяжесть потерь больших городов, промышленных районов, трагедию миллионов людей, оказавшихся под властью фашистов. Он знал, что за эти месяцы нами потеряны десятки тысяч деревень, и в эту ночь возвращена лишь одна. Но он испытывал безмерную радость: ведь он видел своими глазами, как немцы бежали во все стороны, он видел их кричащих, перепуганных офицеров. Он слышал громкую весёлую речь красноармейцев, он видел слёзы радости на глазах командира из далёкой Армении, когда бойцы отбили у немцев деревушку на границе Украины и Белоруссии. Это было крошечное зерно великого дерева победы.
Пожалуй, он единственный в полку по-настоящему знал положение, в котором находились войска, произведшие ночной налёт. Напутствуя его, дивизионный комиссар сказал:
— Надо держать, держать до последнего. — Он видел карту в штабе фронта и ясно представлял себе задачу полка: держать большак, проходящий у совхоза, и не давать немецким частям пробиться к шоссейной дороге в тыл отходящей армии. Он знал, что полку предстоит нелёгкая судьба.
В семь часов утра налетели немецкие бомбардировщики.
Они появились внезапно из-за леса. «Воздух!» — закричали часовые. Пикировщики, нарушив строй звеньев, построились в кильватерную колонну, затем замкнули круг так, что ведущий самолёт вышел в хвост последнему ведомому, и, медленно, внимательно рассматривая землю, каруселью закружились над совхозом. Это томительное и страшное кружение длилось минуты полторы. Люди на земле, точно во время игры в прятки, пригнувшись, перебегали из одного укрытия в другое. «Лежать, не бегать!» — кричали командиры. Внезапно ведущий самолёт перешёл в пике, за ним другой, третий, завыли бомбы, чугунно-потрясающе ударили разрывы. Чёрный дым, разорванная в ключья земля, пыль заполнили воздух. Лежащие старались плотней прижаться к земле, используя каждое углубление почвы, их словно вдавливало в землю визгом бомб, грохотом разрывов, воем моторов выходящих из пике самолётов.
Один из лежащих на земле бойцов приподнялся и начал стрелять по пикировавшим машинам из автомата. Это был Игнатьев.
— Что ты делаешь, какого чорта демаскируешь нас, прекратить немедленно! — закричал сидевший в щели Мышанский.
Но боец, не слыша, продолжал стрелять.
— Я приказываю прекратить стрельбу! — крикнул Мышанский. Совсем близко от него застрочил второй автомат. — Кто там ещё, какого чорта!.. — крикнул Мышанский, оглядываясь, и внезапно запнулся. Стрелял комиссар Богарёв…
— Бомбёжка ничего не дала немцам, — говорил начальник штаба полка, — подумайте, утюжили тридцать пять минут, скинули с полсотни бомб результат — двое легко раненных да разбитый станковый пулемёт.
Богарёв вздохнул, когда начальник штаба сказал о ничтожных результатах бомбёжки. «Нет, — подумал он, — результат не так уж ничтожен, — опять люди говорят негромко, опять глаза скучные, тревожные, — то драгоценное настроение исчезло».
В это время подошёл Козлов. Лицо его словно похудело и было покрыто тем тёмным налётом, который носят на лицах люди, выходящие из боевого пекла. Копоть ли это пожаров, дым ли разрывов, мелкая ли пыль, поднимаемая волной воздуха и смешанная с трудовым потом битвы, — бог его ведает. Но после боя лица всегда худеют и темнеют, становятся строже, глаза — спокойней и глубже.
— Товарищ командир полка, — доложил он, — пришёл Зайцев из разведки. В Марчихину Буду прибыли германские танки, насчитал он штук до ста. Машины в большинстве средние, но есть процент тяжёлых.
Мерцалов поглядел на нахмурившиеся лица командиров и сказал:
— Вот видите, товарищи, как мы удачно стали немцу, что называется, поперёк горла.
И он ушёл в сторону совхозной площади.
Красноармейцы копали окопы вдоль дороги, рыли ямы для истребителей танков.
Красивый и нагловатый Жавелёв негромко спросил у Родимцева:
— Верно, Родимцев, ты первый на склад немецкий ворвался? Там, говорят, часов сто дюжин было?
— Да, уж добра не то что внукам, правнукам бы хватило, — сказал Родимцев.
— Взял на память чего-нибудь? — подмигнул ему Жавелёв.
— Что ты, ей-богу, — испуганно сказал Родимцев, — мне натура не позволяет, мне отвратительно к его вещам прикоснуться. Да и зачем брать — я веду свой смертный бой.
Он оглянулся и сказал:
— А Игнатьев-то, Игнатьев — мы раз ударили лопатой, он три. Мы вдвоём один окоп, а он один два выкопал.
— И поёт ещё, сукин сын, — сказал Седов, — и ведь двое суток не спал.
Родимцев прислушался, поднял лопатку.
— Ей-богу, поёт, — весело сказал он, — что ты скажешь!
VIII. Марчихина буда
Мария Тимофеевна Чередниченко, мать дивизионного комиссара, темнолицая семидесятилетняя старуха, уезжала из родной деревни. Соседи звали её ехать днём, но Мария Тимофеевна собралась напечь на дорогу хлеба, он должен был поспеть лишь к ночи. А утром уезжал председатель колхоза, и она решила ехать с ним. Внук, одиннадцатилетний Лёня, приехал гостить к ней в деревню, после окончания занятий в киевской школе, недели за три до войны. С начала войны она не получала писем от сына и решила везти внука в Ворошиловград, к родителям его покойной матери, умершей три года тому назад. Дивизионный комиссар уже несколько раз просил мать приехать к нему, — в большой киевской квартире ей бы жилось удобней и легче. Она ежегодно ездила к нему гостить, но обычно проводила у сына не больше месяца. Сын возил её кататься по городу, она была два раза в Историческом музее и любила театр. Посетители театра с интересом и почтением смотрели на высокую строгую старуху-крестьянку с морщинистыми трудовыми руками, сидевшую в первом ряду партера. Сын приезжал обычно перед последним действием. Он освобождался очень поздно. Они шли по фойе рядом, и все расступались, давая им дорогу — прямой строгой старухе с чёрным платком на плечах и такому же темнолицему, строгому, похожему на неё лицом военному в высоком звании дивизионного комиссара. «Мать и сын», — негромко говорили женщины, оглядываясь.
В 1940 году Мария Тимофеевна болела и не приехала к сыну. Он в июле, по дороге на манёвры, заехал к ней на два дня. И при этой встрече сын просил Марию Тимофеевну переехать в Киев. После смерти жены жилось ему одиноко, и он всё боялся, что Лёня растёт без женской ласки. Да и огорчало его, что мать в свои семьдесят лет продолжает работать в колхозе, носит от дальнего колодца воду, сама рубит дрова. Она молча слушала его рассуждения, поила его чаем в саду под яблоней, которую при нём посадил отец, а перед вечером пошла с ним на кладбище к могиле отца. На кладбище она сказала:
— Разве я могу отсюда уехать? Тут я и умру. Ты уж прости меня, сынок.
И вот она собралась уходить из родного села. Накануне отъезда она пошла к знакомой старухе. Внук пошёл вместе с ней. Они подошли к хате и увидели, что ворота настежь открыты, во дворе стоял одноглазый старик Василий Карпович, колхозный пастух. Возле него, опустив хвост, юлила рыжая хозяйская собачка.
— Та Тимофеевна уже уихалы, — сказал Василий Карпович. — Воны думали, вы с утра поихалы.
— Нет, мы завтра поедем, — сказал Лёня. — Нам председатель дал лошадей.
Закат солнца освещал начавшие розоветь помидоры, сложенные заботливой рукой хозяйки на подоконнике. Солнце освещало пышные цветы, радовавшиеся в палисаднике, фруктовые деревца, обмазанные белым, с подпорочками под ветвями. На перекладине забора лежала аккуратно выструганная рогулька, которой запирались ворота; в огороде среди зелёной ботвы желтели гарбузы, виднелись созревшие початки кукурузы, стручки бобов и гороха, кругло смотрел черноглазый подсолнух.
Мария Тимофеевна прошла в покинутый дом. И здесь всё носило следы мирной жизни, любви хозяев к чистоте и к цветам: на подоконниках стояли курчавые розочки, в углу — большой темнолиственный фикус, на комоде — лимон и два вазона с тоненькими ростками финиковой пальмы. И всё, всё в доме, — и кухонный стол с чёрными круглыми следами горячих чугунов, зелёный подвесной умывальник с нарисованной на нём белой ромашкой, буфетик с чашечками, из которых никто никогда не пил, тёмные картины на стенах — всё, всё говорило о долгой жизни, шедшей в этой брошенной хате, о деде, бабке, о детях, оставивших на столе учебник «Родная литература», о тихих зимних и летних вечерах. И тысячи таких белых украинских хат стояли пустыми, и хозяева, строившие их, взрастившие вокруг них деревья, шли хмурясь, пыля сапогами по дорогам, ведущим на восток.
— Дедушка, а собаку оставили? — спросил Лёня.
— Не захотилы его взять, я его буду годувать, — сказал старик и заплакал.
— Ну, чого плакать? — спросила Мария Тимофеевна.
— А, чого, чого, — сказал старик и махнул рукой.
И этим тяжёлым движением руки с чёрными, изуродованными трудом ногтями выразил он, как рухнула вся жизнь.
Мария Тимофеевна, торопясь, пошла к дому, и бледный худенький Лёня едва поспевал за ней и спрашивал:
— Бабушка, а как ты думаешь, есть у курицы позвоночный столб?
— Цыть, Лёнечка, цыть, — говорила она. Как горько казалось ей проходить по этой деревенской улице! Ведь по этой улице везли её когда-то венчаться в церковь. По этой улице шла она за гробом отца, матери, мужа. И завтра ей предстояло сесть на подводу среди узлов с торопливо собранным скарбом, покинуть дом, где прожила она хозяйкой пятьдесят лет, где растила детей, куда приехал к ней тихий, понятливый и жалостливый внучек.
А в деревне, освещенной: тёплым вечерним солнцем, в белых хатах, средь цветников и в милых садах шопотом говорили о том, что красных войск нет до самой реки и что старик Котенко, уехавший во время коллективизации в Донбасс, а затем, вновь вернувшийся, велел своей старухе мазать белой крейдой хату, как перед пасхой. И вдовая бабка Гуленьская стояла у колодца и всем говорила:
— Кажуть, вин полоскы наризае, кажуть люды, вин в бога вируе.
И слухи, тёмные, нечистые, пошли по деревне. Старики, выйдя на улицу, смотрели в сторону, откуда каждый вечер в розовой пыли заката, возвращалось с выпаса стадо; оттуда, из-за дальнего леса, из дубовой рощи, где обычно много было грибов, должен был появиться герман. Бабы, плача, всхлипывая, рыли в садах и под домами ямы, укладывали туда бедное своё добро — одеяла, валенки, посуду — и оглядывались на запад. Запад был ясен и тих.
Председатель колхоза Грищенко зашёл к старику Котенко забрать четыре мешка, которые Котенко взял у него взаймы месяц тому назад.
Котенко, высокий, плечистый старик, лет шестидесяти пяти, с густой бородой, сидел за столом и смотрел, как старуха его мазала хату.
— Здравствуйте, — сказал Грищенко, — пришёл к вам мешки свои взять.
Котенко насмешливо спросил:
— В дорогу ты собрался, председатель колхоза?
— А как же, надо ехать, — сказал Грищенко и зло поглядел на старика.
Тот словно выпрямился за эти дни, речь стала насмешливой, неторопливой, и обратился он к Грищенко на «ты».
— Да, да, ехать надо, — говорил ему старик, — как же тебе не ехать, — председатель сельсовета уехал, из конторы все уехали, счетовод уехал, почти все ваши уехали, почтальон и тот уехал, все бригадиры уехали.
Он рассмеялся.
— Видишь, какое дело. А мешков я тебе отдать не могу: понимаешь, взял их зять и повёз в них зерно в Белый Колодец, только послезавтра обратно будет. Грищенко кивнул головой и сказал спокойно:
— Ладно, пусть пропадает. А чего это вы хату задумали мазать?
— Хату мазать? — переспросил старик. Ему хотелось сказать председателю, для чего он мажет хату, но, осторожный, скрытный, привыкший таиться, он и сейчас побоялся. «Кто его знает, возьмёт да и застрелит», — подумал он. Он словно пьянел от радости, и ему хотелось сейчас, хотя председатель колхоза ещё ходит по хатам, высказать всё, что лежит в его душе, всё., что думал он в зимние ночи, о чём не говорил даже со своей старухой. Когда-то, лет сорок тому назад, ездил он к дяде своему, батрачившему у богатого кулака-эстонца. Навсегда вошли ему в сердце и душу воспоминания о красивом скотном дворе, где моют с мылом цементный пол, о паровой мельнице, о самом хозяине, плотном бородатом старике в красном тулупчике, обшитом мехом. Он тысячи раз вспоминал красивые, расписанные яркими цветами санки, молодую, горячую и в то же время послушную лошадь, подкатившую к светлому, чистому крыльцу, и хозяина в его знаменитом тулупчике, в высокой дорогой шапке, в расшитых рукавицах, в мягких, тёплых валеночках. Ему помнилось, как, объезжая лес, где пилили дрова батраки, хозяин вынул из кармана бутылочку, отвинтил затейливую пробку и выпил глоток водки, настоенной на коричнево-красных ягодах. Это не был купец, это не был помещик-дворянин, нет, это был мужик, настоящий мужик, но мужик богатый, сильный. И вот стать таким богатым мужиком, имеющим красивых красных коров, стада овец, сотни больших розовых свиней, мужиком, в чьём хозяйстве работают десятки крепких послушных батраков, стало мечтой, жизнью, дыханием Котенко. Он шёл к осуществлению своей мечты жестоко, неутомимо, умно. В 1915 году у него было шестьдесят десятин земли, он построил паровую крупорушку. Революция отняла у него мечту, смысл его жизни. Двое из его сыновей ушли в Красную Армию и погибли на фронтах гражданской войны. Котенко не позволил жене повесить их фотографии на стену. Котенко надеялся, молился. В 1931 году он ушёл в Донбасс и восемь лет проработал на шахте. А поэма кулацкой жизни не хотела, не могла умереть.
И сейчас, казалось ему, пришло время осуществления этой мечты.
Все годы мучила его зависть к старухе Чередниченко. Котенко видел, что почёт, который он хотел получить при царской власти, она получила в трудовой жизни после революции. Её возили в город, и она произносила речи в театре. Котенко не мог спокойно смотреть на её фотографию, напечатанную в районной газете, — старуха с тонкими губами, в чёрном платке на плечах, смотрела умными недобрыми глазами и, казалось ему, насмехалась над ним. «Эх, Котенко, не так ты жил», — говорило её лицо. И ненависть охватывала его, когда видел он эту старуху, спокойно идущую работать в поле, или когда соседи говорили:
— А Тимофеевна в Киев к сыну поехала, лейтенант за ней на машине голубой приезжал.
Но теперь Котенко знал: не зря ждал он, прав оказался он, а не она. Недаром он отпустил себе такую же бороду, какую носил кулак-эстонец, недаром ждал он, недаром надеялся.
И, глядя на председателя, пытливо смотревшего на него, он сдерживал и успокаивал себя: «Подожди, подожди; ты дольше ждал, теперь ведь денёк ждать, один лишь только денёк».
— Хто его знает, — зевая, сказал он, — хто его знает. Вот пришло бабе в голову мазать хату в такое время, а уж если баба захочет, разве сделаешь с ней что.
Он вышел проводить председателя, долго смотрел на пустую дорогу, и в голове его весело, возбуждённо шевелились мысли: «Черевиченко хату на моей земле построил, значит, хата моя будет, а захочет Черевиченко остаться в этой хате, аренду станет мне платить золотыми деньгами… Колхозная конюшня на моей земле поставлена, значит, моя будет конюшня… Колхозный сад на моей земле посажен, значит, мои будут черешни и яблони… И пасека колхозная моей будет, докажу, что эти ульи у меня в революцию забрали…»
Дорога стояла спокойная, пустая, не пылила, деревья не шелохнутся вдоль этой дороги. Красное, сытое, спокойное солнце опускалось в землю.
«Ну, вот и дождался», — думал Котенко.
IX. Немцы
Лёня спросил:
— Бабушка, мы успеем уехать?
— Успеем, Лёнечка, — ответила Мария Тимофеевна.
— Бабушка, а почему мы отступаем всё время: разве немцы сильней?
— Ты спи, Лёнечка, — сказала Мария Тимофеевна, — завтра поедем, только светать начнёт. И я на часок прилягу, отдохну, а потом собираться буду. Дышать мне трудно, словно камень на грудь положили. Снять его хочется, и нет сил снять его.
— А папу не убили, бабушка?
— Что ты, Лёня, твоего папу не убьют. Он сильный.
— Сильней Гитлера?
— Сильней, Лёнечка. Он мужиком был, как дедушка наш, а теперь генерал. Он умный, знаешь, какой умный.
— А папа всё молчит, бабушка. Посадит меня на колени и молчит. А раз мы с ним вместе песни пели.
— Спи, Лёня, спи.
— А корова пойдёт с нами?
Никогда Мария Тимофеевна не испытывала такой слабости, как в этот день. Дела было много, а сила вдруг вся ушла, и почувствовала она себя дряхлой, слабой.
Она постелила на лавку ватное одеяло, положила подушку и легла. Было жарко от печи. И горячие хлебы, вынутые из печки, золотые, словно солнце, пахли приятно, сладко, и от них шло тепло.
Неужели в последний раз вынула она из своей печи хлебы, неужели не будет она больше есть хлеб из своей пшеницы? Мысли путались в её голове.
Вот в детстве так лежала она на тёплой печи, на отцовском мохнатом кожухе, и смотрела на паляныци, вынутые матерью из печи. «Манька! Снидаты иды», — звал её дед. Где сын теперь? Жив ли он? Как добираться? «Манька, а Манька», — позвала её сестра, и она босыми худыми ножками пробежала по прохладному глиняному полу. Портреты все нужно взять, фотографии снять со стены. Цветы останутся. Деревья фруктовые останутся. И могилы все останутся. Не пошла она на кладбище проститься. И кошка останется. Рассказывают колхозники, что в сожжённых деревнях остаются одни лишь кошки. Собаки уходят с хозяевами, а кошки, привычные к дому, не хотят уходить. Ох, как жарко, как трудно дышать, какая тяжесть в руках. Руки точно сейчас почувствовали ту великую работу, которую старуха сделала за свою семидесятилетнюю жизнь. Слёзы текут но щекам, а руку тяжело поднять, и слёзы текут, текут. Вот так она плакала, когда лисица утащила из стада самую жирную гусыню. Вечером она пришла домой, и мать сказала печально: «Манька, а где гуска наша?»
Она плакала, и слёзы текли по щекам, и отец, суровый, всегда молчаливый, подошёл к ней, погладил по голове, сказал: «Не плачь, доню, не плачь». И ей казалось, что и сейчас она плачет от сладкого счастья, как тогда, когда почувствовала на своих волосах ласковую шершавую руку отца. В этот её последний вечер словно исчезло время, и в хату, которую она должна была покинуть, вновь пришло её детство, и девичество, и первые годы замужней жизни. Она слышала плач своих грудных детей и весёлый хитрый шопот подруг, она видела сильного, молодого черноволосого мужа, он угощал за столом гостей, и она слышала звяканье вилок, хруст солёных огурцов, крепких, как яблоки. Это бабка научила её солить огурцы. Гости запели, и она подтягивала им молодым своим голосом и чувствовала на себе взгляды мужиков, и муж гордился ею, и, ласково покачивая головой, старик Афанасий говорил: «Ой, то Марья…»
Должно быть, она заснула. Потом её разбудил шум, необычайный, дикий, такого шума никогда не было в её родном селе. Проснувшийся Лёня звал ее: «Бабушка, бабушка, вставай скорей! Бабушка, я тебя очень прошу, не нужно спать». Быстро подошла она к окошечку, отодвинула занавеску, посмотрела.
Ночь ли то была, или пришел новый страшный день? Всё стало красно-розовым, словно всю деревню — и низенькие хаты, и стволы берёз, и сады, и заборы — облило кровавой водой. Слышались выстрелы, гудение автомобильных моторов, слышались крики. Немцы ворвались в деревню. Вошла орда… Так вошла орда, пришедшая с запада, — с совершенными радиопередатчиками, с аппаратурой из никеля, стекла, вольфрама, молибдена, с шинами на машинах, сделанными на заводах синтетического каучука. И, словно стыдясь совершенных машин, созданных, вопреки им, европейской наукой и трудом, фашисты намалевали на них символы своей жестокой дикости — медведей, волков, лис, драконов, человеческие черепа с перекрещёнными костями.
Мария Тимофеевна поняла, что пришла её смерть.
— Лёня, — сказала она, — беги к пастуху, к Василию Карповичу, он тебя выведет, он пройдёт с тобой к папе.
Она помогла внуку одеться.
— Где моя шапочка? — спросил он.
— Теперь тепло, пойди без шапочки, — сказала она. Он, словно взрослый, сразу понял, почему не нужно надевать матросскую курточку с золотыми пуговицами.
— Наган и рыболовные крючки можно взять? — тихо спросил он.
— Бери, бери, — и она подала ему игрушечный черный револьвер.
Мария Тимофеевна обняла внука и поцеловала его в губы. Она сказала ему:
— Иди, Лёнечка, скажи отцу: кланялась тебе маты низко, до самой земли; а ты, внучек, помни бабку, не забывай меня.
Он выбежал из хаты в тот момент, когда немцы шли к их двору.
— Огородами беги, огородами! — крикнула ему вслед бабушка.
Он бежал, и, казалось, слова её прощания навеки утонули в смятенной детской душе. И не знал он, что слова эти вновь возникнут в памяти и никогда уже не забудутся им.
Мария Тимофеевна встретила немцев на пороге хаты. Она увидела, что за спиной у них стоит старик Котенко. И даже в эту страшную минуту Марию Тимофеевну поразили глаза старика: жадно, пытливо смотрели они на неё, искали в лице её растерянности, страха. Высокий худой немец с запылённым, грязным и потным лицом спросил её по-русски, старательно, словно печатая крупными азбучными буквами:
— Вы мать комиссара?
И она, чуя смерть, ещё больше выпрямила свой прямой стан, сказала протяжно и тихо:
— Я его маты.
Немец посмотрел медленно и внимательно ей в лицо, посмотрел на портрет Ленина, потом поглядел на печь, на разобранную постель. Стоявшие за его спиной солдаты оглядывали хату, и старуха обострившимся до прозрения взором ловила их быстрые, деловые взгляды, обращенные к кринке молока на столе, к вышитым красными петухами полотенцам, к пшеничным хлебам, к куску сала, наполовину завёрнутому в чистую холщевую тряпицу, к бутылке вишнёвой наливки, горевшей рубиновыми искрами на подоконнике.
Один из солдат сказал что-то негромко и добродушно, остальные рассмеялись. И опять Мария Тимофеевна поняла своим обострившимся до святого прозрения чутьём, о чём говорили солдаты. Это была простая солдатская шутка по поводу хорошей еды, попавшейся им. И старуха содрогнулась, вдруг поняв то страшное равнодушие, которое немцы испытывали к ней. Их не интересовала, не трогала, не волновала великая беда семидесятилетней женщины, готовой принять смерть. Просто старуха стояла перед хлебом, салом, полотенцами, полотном, а им хотелось есть и пить. Она не возбуждала в них ненависти, ибо она не была для них опасна. Они смотрели на неё так, как смотрят люди на кошку, телёнка. Она стояла перед ними, ненужная старуха, для чего-то существовавшая на жизненно необходимом для немцев пространстве.
Нет и не было на земле ничего страшней, чем такое равнодушие к людям. Немцы двигались вперёд, отмечая на картах маршруты, записывая в дневники количество съеденного мёда, описывая дожди, купанье в реках, лунные ночи, беседы с товарищами. Очень немногие из них писали об убийствах в бесчисленных деревнях с трудными, быстро забываемыми названиями. Это казалось законным и скучным делом.
— Где сын комиссара? — спросил немец.
— А ты с дитьмы тоже воюешь, гад? — спросила Мария Тимофеевна.
Она осталась лежать на пороге хаты, и немецкие танкисты старательно переступали через лужу чёрной крови, ходили взад и вперёд, вынося вещи, оживлённо толкуя между собой:
— Хлеб совсем ещё теплый.
— Если бы ты был порядочным парнем, то из пяти полотенец хотя бы одно дал мне. А? Как ты считаешь? Уменя ведь нет ни одного такого, с петухами.
* * *
Посреди комнаты стоял стол, накрытый белой скатертью. На столе были мёд, сметана, украинская домашняя колбаса, шпигованная салом и чесноком, большие тёмные кринки с молоком. На скамье кипел самовар.
Сергей Иванович Котенко в чёрном пиджаке, поблёскивающем от нафталиновых чешуек, в чёрном жилете, в белой, дорогого тонкого полотна, вышитой рубахе, принимал немецких гостей — майора, командира танкового отряда, и смуглого пожилого офицера в золотых очках, с белым черепом на рукаве мундира. Офицеры устали после долгого ночного перехода, лица их были бледны. Майор выдал стакан темнокоричневюго томлёного молока и, зевая, сказал:
— Это молоко мне очень нравится, оно напоминает шоколад.
Сергей Иванович, придвигая гостям тарелки, говорил:
— Кушайте, пожалуйста. Что же вы ничего не кушаете? Но уставшим офицерам не хотелось есть, они зевали, вяло поворачивали вилками колечки колбасы на тарелках.
— Надо бы выставить этого старца, да и супругу его, — сказал офицер в очках, — я буквально задыхаюсь от запаха нафталина, впору надеть противогаз.
Майор рассмеялся.
— Попробуйте мёда, — предложил он, — жена мне пишет: ешь побольше украинского мёда.
— Мальчишку не нашли? — спросил офицер в очках.
— Нет, пока нет.
Майор взял маленький кусочек хлеба, помазал маслом, затем нащупал ложкой засахарившийся ком мёда и взгромоздил его на хлебный кусочек, быстро проглотил и запил несколькими глотками молока.
— Серьёзно неплохо, — сказал он, — уверяю вас. Котенко очень хотелось спросить, кому нужно заявить о своих правах на дома, колхозную конюшню, ульи, сад. Но непонятное чувство робости охватило его. Раньше казалось ему, он сразу же с приходом немцев почувствует себя легко и свободно, будет сидеть с ними за столом, беседовать, рассказывать. Но они не пригласили его сесть, в их насмешливых зевающих лицах он видел равнодушие и скуку. Разговаривая с ним, они нетерпеливо морщились, его насторожённое ухо ловило непонятные немецкие слова, видимо, сказанные с насмешкой и презрением о нём, о жене его…
Офицеры встали из-за стола, пробормотали одно и то же невнятное слово, должно быть, означавшее ленивое приветствие, и вышли на улицу, — направились к школе, куда денщики принесли им постели.
Уже рассвело, догоравшие пожары дымились.
— Ну, што, Мотря, спать ляжешь? — спросил Сергей Иванович.
— Не можу я спать, — ответила жена.
Чувство тревоги, страха всё больше охватывало Котенко. Он оглядел стол, нетронутую еду. Он ведь так мечтал о весёлом, торжественном пиршестве, о прочувствованном слове, которое скажет при начале новой, богатой жизни.
Он лёг на постель, но долго не мог уснуть. В голову лезли мысли о сыновьях, погибших в Красной Армии, о старухе Чередниченко. Он не видел её последних минут. Когда она замахнулась на офицера, Сергей Иванович выбежал во двор, стал у забора. Он услышал выстрел из хаты, и зубы у него застучали от волнения. Но офицер, вышедший к нему, был так спокоен, солдаты тащившие вещи из хаты, так добродушно и деловито переговаривались, что Сергей Иванович успокоился. «Совсем одурела старуха, — подумал он, — офицера по лицу бить надумала». Он закряхтел, повернулся на бок. Запах нафталина мучил его. Голова стала от этого запаха тяжёлой, сильно ломило в висках. Он тихо приподнялся, подошёл к сундуку, где лежала зимняя одежда, и вынул спрятанные женой фотографии сыновей в будённовках, с саблями на боку. Мельком взглянув на пристально, с любопытством глядевших на него с портретов скуластых, круглоглазых парней, он начал рвать фотографии и обрывки бросил под печку. После этого он снова лёг. Ему сразу отчего-то стало грустно, спокойно. «Теперь всё так и будет, как хотел», — подумал он и уснул.
Проснулся он в девятом часу и вышел на улицу. Деревня была полна пыли. Всё новые огромные грузовики с пехотой въезжали на деревенскую улицу. Солдаты толпами бродили по хатам. Их худые, загоревшие лица глядели подозрительно и чуждо.
«Вот это сила», — подумал Сергей Иванович. Он услышал крики со стороны колодца и оглянулся. Дочка Черевиченко, Ганна, торопясь шла с вёдрами к своему дому, её большими шагами нагонял высокий малый в жёлтых бутсах на толстой подошве. «Ой, люды добрые, наша хата горыть, зажгли, проклятые, и тушить не дають!» — плача, кричала она.
Высокий солдат нагнал её, заставил поставить вёдра, что-то быстро заговорил, взял за руку, стал заглядывать в заплаканные глаза. Подошли ещё два солдата и, смеясь, стали говорить, растопырили руки, чтобы не дать девушке дороги. А соломенная крыша пылала ярким жёлтым огнём, весёлым, живым, беспечным, как утреннее летнее солнце. Пыль застилала улицу, пыль ложилась на лица людей, запах гари наполнял воздух, над прогоревшими пожарищами кадили белые дымки, тонкие и высокие печные трубы печальными памятниками стояли над погибшим жильём. В некоторых печах стояли горшки, чугуны. Бабы и дети, с красными от дыма глазами, копались в пожарищах, вытаскивали обгоревшую утварь, сковороды, уцелевшую чугунную посуду. Сергей Иванович увидел двух немцев, готовившихся доить корову, один подносил корове на тарелочке посоленную, мелко нарезанную картошку. Корова недоверчиво подбирала лакомство мокрой губой и косилась на второго немца, приспосабливавшего эмалированное ведро под её вымя. Возле пруда слышалась оживлённая немецкая речь, испуганный крик гусей. Несколько солдат, прыгая по-лягушачьи, расставив руки, ловили гусей, которых выгоняли из пруда двое совершенно одинаковых рыжих парней, стоявших по пояс в воде. Рыжие вышли из воды и нагишом подошли к старухе-учительнице, Анне Петровне, шедшей через площадь. Они скорчили рожи и стали приплясывать. Солдаты хохотали, глядя на этот танец.
Сергей Иванович пошёл к школе; там, на качелях, где во время перемен играли дети, висел председатель колхоза Грищенко. Босые ноги его вот-вот собирались коснуться земли — живые ноги, с мозолями, кривыми пальцами. Его потемневшее лицо, налитое сгустившейся кровью, смотрело прямо на Сергея Ивановича, и Сергей Иванович ахнул: Грищенко смеялся над ним. Страшным, диким взором смотрел он, высовывая язык, склонивши тяжёлую голову, спрашивал: «Что, Котенко, Дождался немцев?»
Помутилось в голове у Сергея Ивановича. Он хотел крикнуть, но не мог, махнул рукой, повернулся и пошёл. «Вот она, моя конюшня», — вслух сказал он, внимательно разглядывая чёрные следы пожарища — торчащие балки, стропила, столбы. Он пошёл на пасеку и издали увидел разорённые перевёрнутые ульи, услышал тугое гуденье пчёл, словно охранявших тело молодого пчеловода, лежащее под ясенем. «Вот она, моя пасека, — сказал он, — вот она, моя пасека». И он стоял, смотрел на тёмную кучу пчёл, вившихся над мёртвым телом пчеловода. Он пошёл посмотреть колхозный сад, — ни одного яблока, ни одной груши не было на ветвях. Солдаты пилили фруктовые деревья, рубили их топорами, ругая упорные волокнистые поленья. «Грушу и вишню тяжелее всего рубать, — подумал Сергеи Иванович, — у них волокно перекручено».
Кухни дымились в колхозном саду. Повара щипали гусей, счищали бритвами щетину с зарезанных молодых кабанчиков, чистили картофель, морковь, бурачки, принесённые из колхозного огорода. Под деревьями лежали, сидели десятки, сотни солдат и жевали, жевали, громко чавкая, причмокивая, глотая сок белых антоновских яблок, сахарных рассыпчатых груш. И это чавканье, казалось Сергею Ивановичу, заглушало все звуки: гудки подъезжавших всё новых и новых машин, гудение моторов, крик, протяжное мычанье коров, птичий гомон. И, казалось, раздайся с неба гром — и его бы заглушило это могучее торопливое чавканье сотен мерно, весело жующих немецких солдат.
И всё мутилось, мутилось в голове у Сергея Ивановича. Он бродил по деревне, не зная, куда и для чего идёт. Бабы, видя его, шарахались в сторону, мужчины смотрели на него слепыми, невидящими глазами, старухи, не боявшиеся смерти, грозили ему сухими коричневыми кулаками и ругали поганым, тяжёлым словом. Он шёл по деревне и смотрел по сторонам. Чёрный пиджак его покрылся слоем пыли, потное лицо стало грязным, голова мучительно болела. И ему казалось, что так ломит в висках от тяжёлого, крепкого запаха нафталина, всё ползущего в его ноздри, что шумит в ушах от дружного, весёлого чавканья.
А чёрные машины всё шли, шли в жёлтой и серой пыли, всё новые худые немцы соскакивали через высокие чёрные борта на землю, не дожидаясь, пока откроют задний борт с лесенкой, и разбегались по белым хаткам, лезли в огороды, сады, сараи, птичники.
Сергей Иванович пришёл домой и остановился на пороге. Пышный стол, приготовленный им с вечера, был загажен, заблёван, на нём валялись опрокинутые пустые бутылки. Пьяные немцы, шатаясь, бродили по комнатам; один кочергой щупал чёрное чрево печи, другой, стоя на табуретке, снимал с иконы новые вышитые полотенца, повешенные накануне вечером. Увидя Сергея Ивановича, он подмигнул и быстро произнёс длинную немецкую фразу. А из кухни шло громкое, быстрое, весёлое чавканье: немцы ели сало, яблоки, хлеб. Сергей Иванович вышел в сени, там в тёмном углу, возле кадушки с водой, стояла жена. Страшная боль сжала ему сердце. Вот она, молчаливая, покорная, послушная жена его, ни разу в жизни не перечившая ему, ни разу в жизни не сказавшая ему громкого грубого слова.
— Мотря, бедная моя Мотря, — тихо произнёс он и вдруг запнулся. На него глядели яркие, молодые глаза.
— Карточки сынов моих хотила унесты, — сказала она, и он не узнал её голоса, — а ты ночью их порвав и кынув под печку. — И она вышла из опоганенного дома.
А Котенко остался в полутёмных сенях. Перед ним мелькнул кулак-эстонец в красном, обшитом мехом полушубке, зачавкал сочно, весело, громко… И, словно в светлом лунном круге, вдруг увидел он Марию Чередниченко, с седыми, выбившимися волосами, освещенную пламенем пожара. Жгучая зависть к ней вновь поднялась в нём. Он теперь завидовал не жизни её, он завидовал её чистой смерти… На миг открылась ему страшная пропасть, в которую упала его душа. Он начал шарить рукой, отыскивая ведро с верёвкой. Ведро по-знакомому грохотнуло, но верёвкн не было на нём. Её унесли немцы.
— Нет, брешешь, — пробормотал он и, сняв со штанов тонкий, крепкий ремешок, стал тут же, в темноте сеней, ладить петлю, крепить её к крюку, вбитому над кадушкой.
X. Кто прав?
Ночью на командном пункте полка Мерцалов и Богарёв ужинали. Они ели мясные консервы из маленьких банок. Мерцалов, поднося ко рту кусок мяса с белым застывшим салом, сказал:
— Некоторые их разогревают, но, по-моему, холодными вкусней.
После консервов поели хлеба с сыром, потом начали пить чай. Мерцалов разбил тыльной частью штыка, служившего им ножом для открывания консервов, большую глыбу сахару. Маленькие осколки сахару летели во все стороны, и начальник штаба тревожно закряхтел, — несколько острых кусочков попали ему в лицо.
— Да, забыл совершенно, — сказал Мерцалов, — у нас ведь есть малиновое варенье. Как вы относитесь к этому делу, товарищ комиссар?
— Отношусь весьма положительно, — кстати, моё любимое варенье.
— Ну вот, замечательно. А я-то как раз предпочитаю вишнёвое. Вот это уж варенье!
Мерцалов взял в руки большой жестяной чайник.
— Осторожней, осторожней. Он весь чёрный, должно быть, кипятили его на костре.
— Кипятили-то его на кухне полевой, а вот подогревал Проскуров на костре, — улыбаясь, сказал Мерцалов.
— Да, опыт полевой жизни у вас, товарищ Мерцалов, раз в семьдесят больше моего. Куда варенье? Прямо в кружку, проще всего.
Они оба одновременно шумно отхлебнули чай, одновременно подняли головы, глянули друг на друга и улыбнулись.
Эти несколько дней сблизили их. Вообще фронтовая жизнь сближает людей стремительно. Прожил с человеком сутки, и уж кажется, всё знаешь о нём: привычки его в еде, и на каком боку он любит спать, и не скрипит ли он, упаси бог, во сне зубами, и куда эвакуирована его жена, а подчас узнаёшь такое, что в мирное время и за десять лет не разглядишь в самом близком своём приятеле. Крепка дружба, скреплённая кровью и потом боёв.
Попивая чай, Богарёв завёл разговор на важную тему.
— Как вы считаете, товарищ Мерцалов, удачен ли был наш ночной налёт на совхоз, где стояли немецкие танки? — спросил он.
— Ну, как ответить? — усмехаясь, сказал Мерцалов. — Ночью внезапно ворвались, противник бежал, мы заняли населённый пункт. Нам ордена за это дело полагаются. А вы считаете неудачным, товарищ комиссар? — улыбаясь, спросил он.
— Конечно, неудачным, — сказал Богарёв, — совершенно неудачным.
Мерцалов приблизился к нему и проговорил:
— Почему?
— Как почему? Танки ушли. Шутка ли: наладь мы получше взаимодействие, ни один танк бы не ушёл. А вышло, что каждый командир батальона действовал сам по себе, не зная о соседе. Ну, и не получился удар по центру, где танки сосредоточились. Это раз. Теперь второе — немцы начали отступать. Надо было перенести огонь артиллерии на дорогу, по которой они отход совершали, мы бы их там уйму положили, а артиллерия наша после огневого налёта замолчала, оказывается, связь с ней порвалась, ну и не получила новой задачи. Мы их разбить должны были, уничтожить, а они ускользнули.
— Именно тут ещё много упущений, — продолжал Богарёв, отсчитывая на пальцах. — Например, надо было часть пулемётов заслать в тыл к ним, ведь вот она роща, прямо для них приготовлена: они бы встретили отступающих, а мы всё в лоб, в лоб жали, во фланги по-настоящему не зашли.
— Действительно, — сказал Мерцалов, — они выставили заслончик из автоматов, задержали ваш огонь.
— За что же тут ордена давать? — спросил Богарёв и рассмеялся. — Разве за то, что командир полка, известный товарищ Мерцалов, в самый сложный момент, вместо того чтобы управлять огнём и движением винтовок, пулемётов, автоматов, тяжёлых и лёгких пушек, ротных и полковых миномётов, сам схватил винтовку и побежал впереди роты? А? А дело было необычайно сложное, тут командиру полка не бегать бы с винтовкой, а думать так, чтобы пот на лбу выступил, принимать быстрые, ясные решения.
Мерцалов отодвинул кружку и обиженно спросил:
— Ну, что ещё думаете, товарищ комиссар?
— Думаю я многое, — усмехнулся Богарёв — Оказывается, под Могилёвом примерно такая же картина была: батальоны действовали каждый порознь, а командир полка шёл в атаку с разведывательной ротой.
— Так, что же ещё? — медленно спросил Мерцалов.
— Что же, вывод ясен: в полку нет должного взаимодействия, подразделения, как правило, с запозданием вступают в бой, вообще двигается полк медленно, неповоротливо, связь во время боя работает скверно, из рук вон скверно. Наступающий батальон не знает, кто у него справа, — сосед или противник. Замечательное оружие используется плохо. Миномёты, к примеру, вообще в бой не вводятся, их всюду таскают с собой, но, оказывается, многие из них вообще огня не ведут. Полк не применяет фланговых заходов, не стремится в тыл противнику. Жмёт в лоб, и баста.
— Так, так. Это прямо интересно, — проговорил Мерцалов. — Какой же вывод из всего этого?
— Какой же вывод? — повторил с раздражением Богарёв. — Вывод тот, что полк дерётся плохо, — хуже, чем ему положено.
— Так, так. А вывод, вывод, самый, так сказать, основной? — спрашивал всё настойчивей Мерцалов.
Ему, видимо, казалось, что комиссар не захочет сказать последнее слово.
Но Богарёв спокойно проговорил:
— Вы человек смелый, не жалеющий своей жизни, но плохо командуете полком. Ну да. Война сложная. Участвуют в ней авиация, танки, масса огневых средств; всё это быстро движется, взаимодействует; на поле боя каждый раз возникают комбинации и задачи посложней шахматных, их решать надо, а вы всё уклоняетесь от их решения.
— Значит, не годится Мерцалов?
— Уверен, что годится. Но я не хочу, чтобы Мерцалов думал, что всё в порядке, что нечему больше учиться. Если Мерцаловы так будут думать, они немцев не победят. В этой битве народов мало знать арифметику войны: чтобы лупить немцев, надо знать высшую математику.
Мерцалов молчал. Богарёв добродушно проговорил:
— Почему же вы чай не пьёте? Мерцалов отодвинул чашку.
— Не хочу, — сказал он мрачно. Богарёв рассмеялся.
— Видите, — сказал он, — у нас сразу установились товарищеские отношения. Я очень был рад этому. Сейчас мы пили чай с чудесным малиновым вареньем. Я вам наговорил разных кислых, противных слов, — сорвал, так сказать, чаепитие. Ну вот, думаете, мне приятно, что вы сердитесь, на меня обижены, вероятно, кроете меня самыми крепкими словами? Неприятно. И всё же я доволен, от души доволен, что всё это происходит. Нам ведь не только дружить, нам побеждать надо. Сердитесь, Мерцалов, это дело ваше, но помните: я вам говорил серьёзные вещи, правду я вам говорил.
Он поднялся и вышел из блиндажа.
Мерцалов хмуро глядел ему вслед, потом вдруг вскочил, закричал, обращаясь к проснувшемуся начальнику штаба:
— Товарищ майор, слышал, как он меня отчитывал? А? Кто я ему? А? Подумай только! Я Героя Советского Союза получил, у меня четыре ранения в грудь…
Начальник штаба, зевая, сказал:
— Человек он тяжёлый, я это сразу определил. Мерцалов, не слушая его, говорил:
— Нет, это подумать надо! Пьёт чай с малиновым вареньем и спокойно так говорит: «Вывод какой? Очень простой: вы, говорит, плохо полком командуете». Ну, что ты ему скажешь? Я даже растерялся, до того неожиданно. Это мне-то, Мерцалову!..
XI. Командиры
Ночыо Мерцалова вызвал по телефону командир дивизии полковник Петров. Разговаривать было очень трудно, связь всё время нарушалась, слышимость была на редкость скверной. Под конец разговора связь порвалась окончательно. Мерцалов понял из слов полковника, что обстановка на участке дивизии в последние часы резко ухудшилась. Он приказал разбудить Мышанского и велел ему ехать в штаб дивизии. До штаба было двенадцать километров. Мышанский вернулся через Час с письменным приказанием командира дивизии. Немецкая танковая колонна с большим количеством мотопехоты вышла в тыл дивизии, воспользовавшись тем, что болото восточнее большого лиственного леса высохло за жаркие и сухие дни августа. Немцы вышли к шоссе, минуя большак, который оборонялся полком Мерцалова. В связи с новой обстановкой дивизия получила приказ занять рубеж обороны южнее занимаемого ею сейчас пункта. Полку Мерцалова с приданным ему гаубичным дивизионом приказано было отходить, прикрывать большак. Мышанский рассказал, что при нём в штабе дивизии уже сматывали связь, снимали шестовку и грузились на машины, что два стрелковых полка, дивизионная артиллерия и гаубичный полк в десять часов вечера уже вытянулись походным порядком, что медсанбат ушёл в шесть часов вечера.
— Значит, Анечки не видел? — спросил лейтенант Козлов.
— Какая Анечка! — сказал Мышанский. — При мне приехали делегаты связи, один из штаба армии, второй от правого соседа, майор Беляев, — я с ним ещё во Львове встречался, — говорит, на их участке день и ночь кровавые бои. Наша артиллерия что-то страшное наворотила, а они прут и прут.
— Да, положение создаётся крепкое, — проговорил начальник штаба.
Мышанский нагнулся к нему и сказал негромко:
— Это можно одним словом выразить: «окружение».
— Бросьте вы об окружении говорить, действовать надо, согласно боевому приказу, — сердито ответил Мерцалов. Он обратился к дежурному: — Вызвать командиров батальонов и командира гаубичного дивизиона. Где комиссар?
— Комиссар у сапёров, — ответил начальник штаба.
— Попросите его на КП.
Ночь была тёмной, тихой и очень тревожной. Тревога была в дрожащем свете звёзд, тревога тихо шуршала под ногами часовых, тревога тёмными тенями стояла среди ночных неподвижных деревьев, тревога, поскрипывая сучьями, шла с разведчиками и не оставляла их, когда, пройдя мимо боевого охранения, они подходили к штабу полка. Тревога плескала и журчала в тёмной воде у мельничной плотины, тревога была всюду — в небе, на земле, на воде. Наступили минуты, когда на каждого входящего в штаб смотрели пытливо, ожидая недоброй вести, когда далёкие зарницы заставляли настораживаться, и от пустого шороха часовые вскидывали винтовки и кричали: «Стой, стреляю!» И в эти минуты Богарёв с молчаливым восхищением наблюдал за Мерцаловым, командиром стрелкового полка. Он один говорил весело, уверенно, громко. Он смеялся и шутил. В эти часы ночной тяжёлой опасности вся великая ответственность за тысячи людей, за пушки, за землю лежала на нём. Он не томился этой ответственностью. Сколько драгоценных свойств человеческого духа зреют, крепнут за одну такую ночь в душе человека. И тысячи лейтенантов, майоров, полковников, генералов и комиссаров переживали на протяжении огромного фронта часы, недели, ночи, месяцы этой великой закаляющей и умудряющей тяжёлой ответственности.
Мерцалов растолковывал задачу окружавшим его командирам. Казалось, множество прочных связей устанавливалось между ним и людьми, лежавшими в тёмном лесу, стоявшими в боевом охранении, дежурившими на огневых позициях у пушек, глядящими во мрак ночи с передовых наблюдательных пунктов. Он был весел, спокоен, прост, этот тридцатипятилетний майор с рыжеватыми волосами, скуластым загорелым лицом, со светлыми, казавшимися то серыми, то голубыми глазами.
— Поднимем по тревоге батальоны? — спросил начальник штаба.
— Пусть ещё час поспят ребята. Проснуться бойцу недолго, — ответил Мерцалов. — Спят-то, небось, в сапогах.
Он посмотрел на Богарёва и проговорил:
— Прочтите приказ от командира дивизии.
Богарёв прочёл приказ, указывавший полку направление движения и задачу — до вечера сдерживать одним батальоном движение немцев по большаку, а остальными силами держать переправу через речку Уж.
— Да, вот ещё что, — сказал Мерцалов, словно вспомнив о каком-то пустяке. Он вытер платком лоб. — Ну и жара! Может быть, выйдем воздухом подышим?
Несколько мгновений они простояли молча в темноте. Мерцалов сказал негромко:
— Вот какая штука. Минут через пятнадцать после того, как Мышанский проехал, немцы перерезали дорогу. Связи со штабом дивизии у меня нет, с соседями тоже. В общем полк в окружении. Я принял решение. Полку итти к переправе, выполнить задачу, а затем пробиваться на соединение, а батальон Бабаджаньяна с гаубицами остаётся на лесном участке дороги, чтобы сдерживать противника.
Они помолчали.
— Черти, всё время трассирующими в небо пускают, — сказал Мерцалов.
— Что же, решение ваше правильное, — ответил Богарёв.
— Ну вот, — Мерцалов посмотрел на небо, — ракета зелёная. С батальоном я останусь… Вот ещё ракету запустили.
— Ни в коем случае, ни в коем случае, — живо возразил Богарёв, — с батальоном должен остаться я, и я вам докажу, почему должен остаться я, а вы должны вести полк.
И он доказал это Мерцалову. Они простились в темноте, Богарёв не видел лица Мерцалова, но он чувствовал, что тот помнит тяжёлый разговор за чаепитием.
Через час потянулись тяжёлые обозы. Лошади, бесшумно шагая по дороге, слегка фыркали, точно понимали, что нельзя нарушать тишину тайного ночного движения. Красноармейцы шли молча из темноты и вновь уходили в темноту. Из темноты на них молча глядели те, кто оставался. В этом молчаливом прощании батальонов была великая торжественность и великая печаль.
До рассвета выехали на огневые позиции орудия гаубичного дивизиона. Артиллеристы рыли щели, землянки, тащили из леса ветви для маскировки орудий. Командир дивизиона Румянцев и комиссар Невтулов руководили устройством складов боеприпасов. Они выбирали танкоопасные направления и, пытаясь угадать внезапности надвигавшегося боя, устанавливали орудия, прокладывали ходы сообщения, указывали места для рытья окопов. В их налаженном хозяйстве имелись запасы бутылок с горючей жидкостью и тяжёлые, как утюги, противотанковые гранаты. Богарёв познакомил их с предстоящей задачей.
— Задача тяжёлая, — сказал Румянцев, — но бывали у нас и такие задачи.
Он заговорил о тактике немецких танковых атак, о сильных и слабых сторонах немецких пикировщиков и истребителей, об особенностях германской артиллерии.
— У меня есть мины, — сказал Румянцев, — может, заминируем дорогу, товарищ комиссар?
— Тут прямо идеальное место для минирования в километре от совхоза: с одной стороны — овраг, с другой — густая рощица, объездов у противника не будет, — кашляя, добавил Невтулов.
Богарёв согласился с ними.
— Сколько вам лет? — спросил он внезапно Румянцева.
— Двадцать четыре, — ответил Румянцев и, как бы оправдываясь, добавил: — Но я воюю с двадцать второго июня.
— Ну, и как воевали? — спросил Богарёв.
— Могу дать справку, — сказал Невтулов, — если имеете свободных три минуты, товарищ комиссар.
— Да, да, ты прочти, Серёжа. Он ведь у нас ведёт такой дневник с первого дня, — сказал Румянцев.
Невтулов вынул из полевой сумки тетрадку. При свете электрического фонарика Богарёв увидел, что обложка тетради украшена затейливо вырезанными накладными буквами из цветной бумаги.
Невтулов начал читать: — «Двадцать второго июня полк получил приказ выступить на защиту родины, и в пятнадцать ноль ноль первый дивизион капитана Румянцева дал мощный залп по врагу. Двенадцать 152-миллиметровых гаубиц каждую минуту выбрасывали на фашистские головы полторы тонны металла…»
— Хорошо пишет Серёжа, — с убеждением сказал Румянцев.
— Читайте дальше, — попросил Богарёв.
— «Двадцать третьего полк уничтожил две артиллерийских батареи, три миномётных батареи и более полка пехоты, фашисты отступили на восемнадцать километров. В этот день гаубичный полк израсходовал тысячу триста восемьдесят снарядов.
Двадцать пятого июня дивизион капитана Румянцева вёл огонь по переправе Каменный Брод. Переправа разбита, уничтожены рота мотоциклистов и две роты пехоты…»
— Ну, и в том же духе изо дня в день, — сказал капитан Румянцев, — не правда ли, он хорошо пишет, товарищ комиссар?
— Воюете вы неплохо, это бесспорно, — согласился Богарёв.
— Her, серьёзно, у Серёжи литературное дарование, — сказал Румянцев, — он ведь перед войной рассказ целый напечатал в «Смене».
«Здесь порядок, — подумал Богарёв, — пойду к Бабаджаньяну».
Когда он отходил, осторожно щупая ногой дорогу, ничего не видя после яркого света фонарика, до него дошёл голос Румянцева:
— Бесспорно также то, что завтра нам в шахматишки не играть.
— Куда вы тягачи поставили, Румянцев? — спросил, остановившись, Богарёв.
— Все тягачи, грузовики и горючее в лесу, товарищ комиссар, они смогут подъехать к огневым по дороге, не простреливаемой противником, — ответил в темноту Румянцев.
Богарёв встретился с Бабаджаньяном на командном пункте. Бабаджаньян рассказал о подготовке батальона к обороне, Богарёв, слушая его, поглядывал на чёрные блестящие глаза, на впалые смуглые щёки командира батальона.
— Почему у вас такие печальные глаза сегодня? — спросил он.
Бабаджаньян махнул рукой.
— Я с начала войны, товарищ комиссар, писем не получал от жены и детей, — оставил их в Коломые, в шести километрах от румынской границы. — Он грустно улыбнулся и продолжал: — Вот я себе вбил в голову, что завтра день рождения жены и я получу обязательно письмо. Ну, не письмо, то хотя бы какое-нибудь известие. Ждал, ждал этого дня, целый месяц ждал, а сегодня полк в окружение попал. А наша полковая почта плохо работала, когда и хорошая связь была. А теперь крест надо ставить, писем долго не будет.
— Да, завтра письма вам не будет, — ответил Богарёв задумчиво.
— Интересно, — вдруг сказал он, — мне приходилось часто видеть теперь, что люди семейные, очень любящие своих детей, жён, матерей, воюют как-то особенно хорошо.
— Это верно, — сказал Бабаджаньян, — я вам в батальоне у себя докажу это. Вот один из лучших моих бойцов — Родимцев, и много таких.
— Я знаю ещё один пример в вашем батальоне, — сказал Богарёв.
— Ну, что вы, товарищ комиссар, — смутился Бабаджаньян и оживлённо добавил: — А понять это можно — отечественная война!
XII. Передний край
Немцы пошли с рассветом. Танкисты, открыв верхние люки, жевали яблоки, поглядывая на восходящее солнце. Некоторые из них были в трусах и спортивных рубахах с широкими короткими рукавами, не доходящими до локтей. Головной тяжёлый танк шёл несколько впереди. Командир машины, пышнотелый немец с красной ниточкой кораллов, перетягивающей у локтя его пухлую белую руку, повернул своё большое лицо в крупных веснушках в сторону солнца и зевал. Из-под берета у него выбилась длинная прядь светлых волос Он сидел на танке, словно идол солдатской самоуверенности, словно бог неправедной войны. Его танк уже отошёл не меньше шести километров от Марчихиной Буды, а железный хвост колонны, ещё не успев развернуться, погромыхивал, медленно разворачиваясь на деревенской площади. Быстро, словно стая стремительных щучек, вдруг прянувших меж тяжёлых карпов, промчались, обгоняя танки, мотоциклисты. Объезжая танки, они не сбавляли скорости, и их сильно подбрасывало на неровностях дороги, тёмнозелёные коляски мотались, тряслись, стараясь оторваться от мотоциклов. Проезжая мимо головного танка, согнувшиеся худые темнолицые мотоциклисты, загоревшие от езды под солнцем, быстро поворачивая головы, поднимали для приветствия руку и вновь прилеплялись к рулевому управлению. Толстяк ленивым движением пухлой руки отвечал на приветствия мотоциклистов. Рота мотоциклистов промчалась вперёд, увлекая за собой белые холщёвые хвосты пыли. Восходящее солнце окрасило эту пыль в розовый цвет, она, колеблясь, повисала над дорогой, и головной танк, деловито жужжа, въезжал в лёгкое пыльное облако. В высоте, тонко свистя, прошли «Мессершмитты-109». Тонкие стрекозьи тела «мессеров» двигались то вправо, то влево, поднимались вверх, стремительно шли книзу; иногда, обогнав голову танковой колонны, они возвращались назад, быстро делая крутые виражи. Их свист был так пронзительно тонок, что его не могло заглушить низкое могучее рокотание танков. «Мессеры» снижались над каждой рощицей, оврагом, обшаривали участки поля с несжатой пшеницей. Вслед за танками, фыркая, выезжали на дорогу чёрные трёхосные грузовики с мотопехотой. Солдаты сидели рядами на откидных скамьях, все в пилотках набекрень, с чёрными автоматами в руках. Их машины шли в облаках пыли, такой густой, что даже могучее летнее солнце не могло пробить её. Пыль широким и длинным облаком неслась над полем и рощами, деревья тонули в густом мглистом тумане, и казалось, земля горит в чадном сухом дыму.
Это было классическое движение моторизованных колонн немцев, разработанное и проверенное. Толстяк в берете точно так же сидел на танке, когда в пять часов утра десятого мая 1940 года его головная тяжёлая машина пошла по округло обвивавшем холмы шоссе, меж каменных изгородей, среди зеленевших виноградников Франции. Так же мимо него в точно засечённую минуту пронеслись мотоциклисты, так же рыскали по небу Франции самолёты из отряда прикрытия. Ранним ясным утром 1 сентября 1939 года шла его машина мимо пограничного знака на польской дороге, среди высоких буковых стволов, и тысячи быстрых солнечных пятен бесшумно прыгали по чёрной броне. Так всей тяжестью въехала колонна танков на Белградское шоссе, и смуглое тело Сербии хрустнуло, забилось под быстрыми гусеницами. Так вырвался он первым из прохладного полутёмного ущелья и увидел ярко-синее пятно Салоникского залива, скалистые берега… И он позёвывал, привычный ко всему, этот идол неправедной войны, чьи фотографии печатались во всех мюнхенских, берлинских, лейпцигских иллюстрированных газетах и журналах.
С восходом солнца командиры поднялись на вершину холма. Бабаджаньян попросил у Румянцева бинокль и внимательно оглядел дорогу. Богарёв смотрел на картину утренней радости мира, встававшего после ночи в прохладе, росе, лёгком тумане, среди коротких, робких стрекотаний кузнечиков. Деловито и хмуро прошёл, увязая в песке, чёрный жук, шли на работу муравьи, стайка птиц прыснула с ветвей дерева и, попробовав выкупаться в едва нагревшейся от первых прикосновений солнца пыли, с криком полетела к ручью.
Необычайно сильны впечатления войны для человека. Вечный мир природы меркнет перед образами, порождёнными войной, и людям на холме казалось, что лёгкие облачка в небе — это следы разрывов зенитных снарядов; что далёкие тополи—высокие чёрные столбы дыма и земли, поднятые тяжёлыми авиабомбами, что косяки журавлей, идущие по небу, — это строгий строй боевых эскадрилий, что туман в долине — это дым горящих деревень, что кустарники, растущие вдоль дороги, — это замаскированная ветвями автомобильная колонна, ждущая сигнала к отправлению. Не раз приходилось Богарёву слышать во время воздушных налётов в вечерних сумерках:-«Смотрите, ракету красную немец сбросил». И насмешливый ответ: «Да нет, какая ракета! Это вечерняя звезда». Не раз далёкие зарницы в душные летние вечера принимались за вспышки орудийной пальбы… И сейчас, когда с восточной стороны неба прямо с вершин деревьев понеслись стремительные чёрные галки, показалось, что это самолёты идут, рассыпав строй. «Чорт их знает, — сказал Невтулов, — надо бы галкам запретить летать перед немецкой атакой».
А через несколько секунд, словно сорвавшиеся с вершин деревьев птицы, показались самолёты. Они шли низко над землёй, окрашенные в тёмный цвет, стремительно быстрые, вдруг заполнившие воздух своим тугим гудением.
И по склону холмов, где расположились в блиндажах и окопах красноармейцы, замахали приветственно пилотками, руками: батальон увидел красные звёзды на крыльях машин.
— Наши, наши штурмовики! — сказал Бабаджаньян.
— Идут «Илы», на штурмовку, — говорил Румянцев, — глядите, глядите, ведущий покачивает крыльями, говорит: «Вижу противника, иду в атаку».
Хороша и сильна дружба оружия. Её испытали и проверили люди фронта. Сладок и радостен грохот артиллерии, поддерживающей в бою свою пехоту, вой снарядов, летящих в ту сторону, куда идут атакующие войска. Это поддержка не только силой, это поддержка души и дружбы.
Но в этот день, кроме утреннего привета самолётов, не пришлось батальону иметь поддержки. Он был один на поле сражения…
В поле, метрах в десяти от большака, среди придорожного бурьяна, вырыты ямы. В этих ямах по грудь в земле стоят люди в серо-зелёных гимнастёрках, в пилотках с красными звёздами. На дне ямы установлены хрупкие стеклянные бутылки, к краю ямы прислонены винтовки. В карманах брюк у красноармейцев — красные кисеты с махрой, смятые во время сна коробки спичек, сухарики и куски сахару, в карманах гимнастёрок — потёртые листки деревенских писем от жён, огрызки карандашей, завёрнутые в обрывки армейской газеты, запалы для гранат. На боку у людей, стоящих по грудь в земле, — брезентовые сумочки, в этих сумочках гранаты. Если посмотришь, как рылись эти ямы, то увидишь: вот два друга жались один к другому, вот пять земляков, стараясь быть поближе, выкопали свои ямки одна к одной. И хоть сержант говорил: «Не лепитесь, ребята, так близко, не полагается», — но ведь в грозный час, германской танковой атаки сладко увидеть рядом потное лицо друга, крикнуть: «Не бросай бычка, я дотяну» и почувствовать вместе с горячим дымом тепло и влагу смятой губами, надкушенной самокрутки.
Они стоят по грудь в земле, перед ними пустое поле и пустая дорога; вот пройдёт двадцать минут, и стремительные, весящие две тысячи пудов, пушечные танки вырвутся со скрежетом в крутящихся облаках пыли. «Идут! — крикнет сержант. — Идут, ребята, смотри!»
У них за спиной, на склоне холма, — пулемётчики в блиндажах, ещё выше и дальше, за спиной пулемётчиков, в окопах сидят стрелки, дальше, позади стрелков, — огневые позиции артиллерии, а там, дальше, — командный пункт, медсанбат… А дальше, всё дальше за их спиной, — штабы, аэродромы, резервы, дороги, заставы, леса, затемнённые ночью города и станции, там Москва, и ещё дальше, всё за их спиной, — Волга, освещенные ночью ярким электрическим светом тыловые заводы, стёкла без бумажных полос, освещенные белые пароходы на Каме. Вся великая земля за их спиной. Они стоят в своих ямах, и нет никого впереди них. Они курят самокрутки из армейской газеты, они проводят ладонью по карманам гимнастёрок и ощупывают мятые, стёртые на сгибах листки писем. Облака над ними. Пролетит птица и скроется. Они стоят по грудь в земле и ждут, всматриваются. Им отражать натиск танков. Их глаза уже не видят друзей, — их глаза ждут врага. Пусть же те, кто сегодня стоит позади них, вспомнят, когда придёт день победы и мира, об истребителях танков, о людях в зелёных гимнастёрках с хрупкими бутылками горючей жидкости, с брезентовыми сумочками для гранат на боку… Пусть уступят им место на лавке в зелёном вагоне, пусть поделятся с ними кипятком в дороге.
Слева широкий противотанковый ров, креплённый толстыми брёвнами, тянется от заболоченной речки к дороге, справа от дороги — лес.
Родимцев, Игнатьев, московский комсомолец Седов стоят в земле, смотрят на дорогу. Их ямы близко одна от другой. Справа от них через дорогу стоит Жавелёв, старшина Морев, младший политрук Еретик — начальник группы добровольцев, истребителей танков. За их спиной два пулемётных расчёта Глаголева и Кордахина. Если всмотреться, то видны пулемёты, глядящие из тёмной древесно-земляной пещеры на дорогу; правее и сзади — артиллеристы-наблюдатели, шуршащие среди начавших увядать дубовых ветвей, вкопанных в землю.
— Эй, истребители, пошли рыбу ловить, с утра клюёт хорошо! — кричит артиллерист-наблюдатель.
Но истребители не поворачивают к нему головы, ему, конечно, веселей, чем им: перед ним противотанковый ров, слева между ним и дорогой — широкие спины истребителей в обесцвеченных солёным потом гимнастёрках. Глядя на эти спины, загоревшие чёрно-красные затылки, наблюдатель шутит.
— Покурим, что ли? — спрашивает Седов.
— Можно, пожалуй, — говорит Игнатьев.
— Возьми моего, — злей, — предлагает Родимцев и бросает Игнатьеву плоскую бутылочку из-под одеколона, наполовину заполненную махоркой.
— А ты что, не будешь? — спрашивает у него Игнатьев.
— Горько во рту, накурился. Я лучше сухарик пожую. Дай-ка твоего, белей.
Игнатьев кидает ему сухарь. Родимцев тщательно сдувает с сухаря мелкий песок и табачную пыль и начинает жевать.
— Хоть бы скорей, — говорит Седов и затягивается, — хуже нет, как ждать.
— Наскучил?.. — спрашивает Игнатьев. — Гитару я забыл взять.
— Брось шутить-то, — сердито говорит Родимцев.
— А ведь страшно, ребята, — говорит Седов, — дорога эта стоит белая, мёртвая, не шелохнётся. Вот сколько жить буду, забыть не смогу.
Игнатьев молчит и смотрит вперёд, слегка приподнявшись, опершись руками о края своей ямы.
— Я в прошлом году, как раз в это время, в дом отдыха ездил, — говорит Седов и сердито плюёт. Его раздражает молчание товарищей. Он видит, что Родимцев, совершенно так же, как Игнатьев, смотрит, слегка вытянув шею.
— Старшина, немцы! — протяжно кричит Родимцев.
— Идут! — говорит Седов и негромко вздыхает.
— Ну, пылища, — бормочет Родимцев, — как от тыщи быков.
— А мы их бутылками! — кричит Седов и смеется, плюёт, матерится. Нервы его напряжены до предела, сердце колотится бешено, ладони покрываются тёплым потом. Он ихвытирает о шершавый край песчаной ямы.
Игнатьев молчал и смотрел на вздыбившуюся над дорогой пыль.
На командном пункте запищал телефон. Румянцев взял трубку. Говорил наблюдатель: передовой отряд немецких мотоциклистов напоролся на минированный участок дороги. Несколько машин взорвалось на правом и левом объездах, но сейчас немцы снова движутся по дороге.
— Вот они, смотрите! — сказал Бабаджаньян. — Сейчас мы их встретим.
Он вызвал к телефону командира пульроты лейтенанта Косюка и приказал, подпустив мотоциклы на близкую дистанцию, открыть огонь из станковых пулемётов.
— Сколько метров? — спросил Косюк.
— Зачем вам метры? — ответил Бабаджаньян. — До сухого дерева с правой стороны дороги.
— До сухого дерева, — сказал Косюк.
Через три минуты пулемёты открыли огонь. Первая очередь дала недолёт — по дороге поднялись быстрые пыльные облачка, словно длинная стая воробьев торопливо купалась в пыли. Немцы с хода открыли огонь, они не видели цели, но плотность этого неприцельного огня была очень велика, — воздух зазвучал, заполнился невидимыми смертными струнами, пылевые дымки, сливаясь в стелющееся облако, поползли вдоль холма. Сидевшие в окопах и блиндажах красноармейцы пригнулись, опасливо поглядывая на поющий над ними голубой воздух.
В это время станковые пулемёты послали очереди точно по мчавшимся мотоциклистам. Мгновенье тому назад казалось, что нет силы, могущей остановить этот грохочущий выстрелами летучий отряд. А сейчас отряд на глазах превращался в прах, машины останавливались, валились набок, колёса разбитых мотоциклов продолжали по инерции вертеться, подымая пыль. Уцелевшие мотоциклисты повернули в поле.
— Ну, что? — спрашивал Бабаджаньян у Родимцева. — Ну, что, товарищи артиллеристы, плохие у нас, скажете, пулемётчики?
Вслед мотоциклистам неслась частая винтовочная стрельба. Молодой немец, припадая на раненую, либо ушибленную, ногу, выбрался из-под опрокинутой машины и поднял руки. Стрельба прекратилась. Он стоял в порванном мундире, с выражением страдания и ужаса на грязном, исцарапанном в кровь лице и вытягивал, вытягивал руки кверху, точно яблоки хотел рвать с высокой ветки. Потом он закричал и, медленно ковыляя, шевеля поднятыми руками, побрёл в сторону наших окопов. Он шёл и кричал, и постепенно хохот перекатывался от окопа к окопу, от блиндажа к блиндажу. С командного пункта была хорошо видна фигура немца с поднятыми руками, и командиры не могли понять, почему поднялся хохот среди бойцов. В это время позвонил телефон, и с передового НП объяснили причину внезапной весёлости.
— Товарищ командир батальона, — жалобно, от душившего его смеха, сказал в трубку командир пулемётной роты Косюк, — той немец ковыляе и крычить, як оглашенный: «Рус, сдавайся!» — а сам руки пидняв… Он со страху уси руськи слова перепутав.
Богарёв, смеясь вместе с другими, подумал: «Это здорово хорошо, — такой смех, когда приближаются танки, это хорошо», — и спросил Румянцева:
— Всё ли у вас готово, товарищ капитан? Румянцев ответил:
— Всё готово, товарищ комиссар. Данные заранее подготовлены, орудия заряжены, мы покроем сосредоточенным огнём весь сектор, по которому пойдут танки.
— Воздух! — протяжно прокричали сразу несколько человек. И одновременно запищали два телефонных аппарата.
— Идут! Головной в двух тысячах метрах от нас, — сказал, растягивая слова, Румянцев. Глаза его стали строги, серьёзны, а рот всё ещё продолжал смеяться.
XIII. Горько ли, тошно — стоять!
Самолёты и танки показались почти одновременно. Низко над землёй шла шестёрка «Мессершмиттов-109», над ними—два звена бомбардировщиков, ещё выше, примерно на высоте полутора тысяч метров, — звено «Мессершмиттов».
— Классическое построение перед бомбёжкой, — пробормотал Невтулов, — нижние «мессеры» прикрывают выход из пике, верхние прикрывают вхождение в пике. Сейчас дадут нам жизни.
— Придётся демаскироваться, — сказал Румянцев, — ничего не попишешь. Но мы им крепко дадим прикурить. — И он приказал командирам батарей открыть огонь.
«Огонь!» — послышалась далёкая команда, и на несколько мгновений все звуки угасли, и лишь грохотали в ушах оглушительные молоты залпов. И сразу поднялся пронзительный шелестящий ветер пошедших к цели снарядов. Казалось, что целые рощи высоких тополей, осин, берёз зашелестели, зашумели миллионами молодых листьев, гнутся, раскачиваются от могучего, налетевшего на них ветра. Казалось, ветер рвёт свою крепкую, гибкую ткань на тонких ветвях, казалось, в своём стремительном ходе поднятый сталью ветер увлечёт за собой и людей, и самую землю. Издали послышались разрывы. Один, другой, несколько слитных, потом ещё один.
Богарёв услышал в трубку далёкий голос, называвший данные для стрельбы. В интонациях этих протяжных голосов, говоривших одни лишь цифры, выражалась вся страсть битвы. Цифры торжествовали, цифры неистовствовали — цифры ожившие, цепкие. И вдруг голос, произносивший данные для стрельбы, сменился другим: «Лозенко, ты в землянци брав почату пачку махорки?» — «Ну, брав, а ты хиба не брав у мене?» — И снова командирский голос, выкрикивающий данные, и второй, повторяющий их.
А в это время бомбардировщики кружились, выискивая цели. Невтулов побежал на огневые позиции.
— Огня не прекращать при любых условиях! — крикнул он командиру первой батареи.
— Есть не прекращать огня, — ответил лейтенант, командовавший батареей.
Два «Юнкерса» над огневыми позициями перешли в пике. Зенитные учетверённые пулемёты пускали по ним очередь за очередью.
— Смело пикируют, — сказал Невтулов, — ничего не скажешь!
— Огонь! — закричал лейтенант.
Трехорудийная батарея дала залп. Грохот залпа смешался с грохотом разорвавшихся бомб. Тучи земли и песка прикрыли артиллеристов.
Утирая потные и грязные лица, они уже вновь зарядили орудия.
— Морозов, цел? — крикнул лейтенант.
— Вполне цел, товарищ лейтенант, — ответил наводчик Морозов, — наша веселей, товарищ лейтенант.
— Огонь! — скомандовал лейтенант.
Остальные самолёты кружили над передним краем. Оттуда слышались пулемётные очереди и частые разрывы бомб.
Артиллеристы-огневики работали со злым упорством, со стремительной страстью. В их слаженных движениях, объединённых братством помысла и усилий, выражалась торжественная мощь общего труда. Тут уже работали не отдельные люди: худой грузин — досылающий, плечистый, низкорослый татарин — подносчик, еврей — правильный, черноглазый украинец — заряжающий, прославленный мастер-наводчик Морозов, — здесь работал один человек. Он мельком глядел на вышедших из пике «Юнкерсов», делающих боевой разворот и вновь идущих на бомбёжку батареи, он утирал пот, усмехался, ухал вместе с пушкой, опять делал своё умное, сложное дело, — сторукий, быстрый, неудержимый, смывший благородным трудовым потом все следы боязни со своего лица. Он, этот человек, работал и на втором, третьем орудии первой батареи и на орудиях второй батареи. Он не останавливался, не ложился, не бежал к блиндажу, когда выли бомбы, он не переставал трудиться под чугунными ударами разрывов, он не останавливался радостно глазеть, когда кричали бойцы, лежавшие в резерве третьей роты: «Подбили зенитчики, пошёл книзу, горит!» — Он не терял времени, он работал. Для всех этих слитых воедино людей было лишь одно слово: «огонь!» И это слово, соединённое с их трудом, рождало огонь.
И наводчик Морозов, вихрастый, веснущатый, кричал: «Наша веселей!» А управленцы, наблюдавшие сокрушительную работу огневиков, всё сыпали в этот огонь цифры и цифры.
Снаряды начали рваться среди танковой колонны совершенно неожиданно для немцев. Первый снаряд попал в башню тяжёлого танка и разнёс её. С наблюдательного пункта видно было в бинокль, как танкисты, высунувшиеся из люков, быстро и юрко прятались в машины.
— Словно суслики в норы лезут, товарищ лейтенант, — сказал разведчик, сидевший на артиллерийском НП.
— Да, действительно, — похоже, — сказал лейтенант и кивнул телефонисту: — Огуреченко, крути четвёртый.
Лишь толстяк, сидевший на головном танке, не спрятался в люк. Он помахал рукой, перетянутой красной ниткой кораллов, словно подбадривал машины., идущие сзади. Потом достал из кармана яблоко и надкусил. Колонна, не нарушая строя, двигалась дальше. Лишь в тех местах, где подбитые машины становились поперёк дороги, водители объезжали горящие и разбитые танки. Часть машин, не возвращаясь на дорогу, шла полем.
В двух километрах от укреплённого рубежа танки нарушили походный порядок и пошли развёрнутым строем. Стиснутые справа лесом, слева рекой, они шли довольно плотной массой в несколько рядов. На дороге горело около двадцати машин.
Огонь русской артиллерии широким веером ложился на поле, танки начали отвечать. Первые снаряды пронеслись над истребителями и взорвались в расположении пехоты, окопавшейся на склоне холма. Затем немцы перенесли огонь выше — очевидно, пытались подавить русскую артиллерию. Большая часть танков остановилась. В воздухе появился «горбач» — корректировщик. Он установил радиосвязь с танками. Радист на командном пункте жаловался:
— Словно молоток мне, товарищи, в уши стучит немец: гут, гут, гут.
— Ничего, ничего, — ответил Богарёв, — гут, да не очень. Бабаджаньян негромко сказал Богарёву:
— Сейчас танки пойдут в атаку, товарищ комиссар, я уже эту тактику знаю, — в третий раз вижу. — Он приказал по телефону ввести в бой миномёты и добавил: — Вот вам и полевая почта в день рождения жены.
— На случай прорыва следовало бы отвести артиллерию, — сказал лейтенант-артиллерист.
Но Румянцев раздражённо возразил:
— Если мы начнём отводить орудия, то немцы наверное прорвутся и погубят дивизион. Разрешите, товарищ комисcap, выдвинуть вперед две батареи и открыть огонь прямой наводкой.
— И немедленно, не теряя секунды, — волнуясь, проговорил Богарёв. Он понимал, что наступила решающая минута.
Немцы, очевидно, связали прекращение огня с отходом артиллерии и усилили обстрел. Через несколько минут танки по всей линии перешли в атаку. Они шли на больших скоростях, стреляя с хода из пушек и пулемётов.
Несколько красноармейцев, пригнувшись, побежали от верхнего блиндажа, одни из них упал, поражённый случайной пулей, остальные, еще ниже пригнувшись, бежали мимо командного пункта,
Бабаджаньян вышел к ним навстречу.
— Куда, куда? — закричал он.
— Танки, товарищ капитан! — задыхаясь, проговорил красноармеец.
— Что у вас, живот болит? Зачем согнулись? — злобно закричал Бабаджаньян. — Выше голову! Идут танки, их надо встречать, а не бегать, как зайцы. Назад, шагом марш!
В это время гаубицы открыли огонь. Лишь теперь огневики увидели врага. Удары тяжёлых снарядов были потрясающе сильны. От прямых попаданий танки расползались, металл корчился, пламя вырывалось из люков, столбами поднималось над машинами. Не только прямые попадания — тяжёлые осколки могучих снарядов пробивали броню, калечили гусеницы… Машины жужжали, вертясь вокруг своей оси.
— Неплохая у нас артиллерия, — кричал на ухо командиру батальона Румянцев, — а, товарищ Бабаджаньян, неплохая?!
На всём поле атака танков была приостановлена. Но в той полосе, где проходил большак, немцам удалось продвинуться вперёд. Тяжёлый головной танк, стреляя из пушки и строча всеми своими пулемётами, ворвался на участок, где засел отряд истребителей. За ним стремительно шли четыре машины.
Огонь артиллерии ослабел: два орудия были подбиты и не могли вести стрельбы, третье прямым попаданием снаряда, было совершенно искорёжено; санитары унесли тяжело раненных артиллеристов. Тела убитых сохранили в себе устремление боевого труда — люди погибли, работая до последнего вздоха.
— Ну, ребята, пришло время… Горько ли, тошно, — стой на месте! — закричал Родимцев.
Они трое взялись за бутылки с горючей жидкостью.
Седов первым поднялся из ямы. Головной танк шёл прямо на него. Пулемётная очередь попала Седову в грудь, голову, и он рухнул на дно ямы.
Игнатьев видел гибель товарища. Над головой его с воем промчалась пулемётная очередь, врезалась в землю, танк прошёл совсем близко, он отшатнулся даже; на мгновенье мелькнуло у него воспоминание, как он мальчишкой стоит на станции, куда они с отцом возили пассажира, и мимо, обдав теплом, запахом горячего масла, с грохотом промчатся паровоз курьерского поезда. Он распрямился, бросил бутылку и сам подумал почти с отчаянием: «Ну, что ты паровозу литровкой сделаешь?» Бутылка угодила в башню. Лёгкое, подвижное пламя сразу же взвыло, подхваченное ветром. В этот миг Родимцев бросил связку гранат под гусеницы второй машины. Игиатьев снова бросил бутылку. «Этот поменьше будет, — мелькнула у него хмельная мысль. — В такой и пол-литром можно!»
Огромный головной танк вышел из строя. Очевидно, водитель пытался его развернуть, но из-за пожара не успел этого сделать. Верхний люк открылся, поспешно полезли немцы с автоматами, прикрывая от пламени лица, начали прыгать на землю.
Словно инстинкт подсказал Игнатьеву: «Вот этот убил Седова».
— Стой! — закричал он и, схватив винтовку, выскочил из ямы.
Огромный, плечистый и толстый немец, с рукой, перехваченной ниткой кораллов, один остался в поле. Остальные члены его экипажа, согнувшись, бежали по заросшему бурьяном кювету. Немец один остался стоять во весь свой большой рост. Увидев Игнатьева, бежавшего к нему с винтовкой, он приложил автомат к брюху и застрочил. Почти вся очередь прошла мимо Игнатьева, но последние пули ударили по винтовке, расщепили приклад. На мгновение Игнатьев остановился, потом бросился к немцу. Немец пытался перезарядить автомат, но увидал, что не успеет этого сделать; он не струсил, по всему видно было, что он не трус, — одновременно тяжёлым и лёгким шагом пошёл он на Игнатьева.
У Игнатьева потемнело в глазах. Вот этот человек убил Седова, он сжёг в одну ночь большой город, он убил красавицу девушку-украинку, он топтал поля, рушил белые хаты, он нёс позор и смерть народу…
— Эй, Игнатьев! — послышался откуда-то издали голос старшины.
Немец верил в свою силу и храбрость, он проходил многолетнюю гимнастическую тренировку, он знал жестокие и быстрые приёмы борьбы.
— Ком, ком, Иван! — говорил он.
Он словно пьянел от величия своей позы, один среди горящих танков, под грохот разрывов он стоял монументом на завоёванной земле, он, прошедший по Бельгии, Франции, топтавший землю Белграда и Афин, он, чью грудь сам Гитлер украсил «железным крестом».
Словно возродились древние времена поединков, и десятки глаз смотрели на этих двух людей, сошедшихся на исковерканной битвой земле. Туляк Игнатьев поднял руку; страшен и прост был удар русского солдата.
— Гад, с девчатами воюешь! — хрипло крикнул Игнатьев.
Коротко и сухо треснул винтовочный выстрел. Это стрелял Родимцев.
Немецкая атака была отбита. Четыре раза переходили немецкие танки и мотопехота в атаку. Четыре раза поднимал Бабаджаньян батальон против немцев. Бойцы шли с гранатами и с бутылками горючей жидкости.
Хрипло кричали команду артиллерийские начальники, но реже и реже гремели голоса пушек.
Просто умирали люди на поле сражения.
— Не играть нам с тобой, Вася, больше, — сказал политрук Невтулов. Крупнокалиберная пуля попала ему в грудь, кровь текла изо рта при каждом вздохе. Румянцев поцеловал его и заплакал.
— Огонь! — закричал командир батареи, и в грохоте пушек потонул последний шопот Невтулова.
Смертельно был ранен в живот Бабаджаньян во время четвёртой атаки немецких танков. Бойцы положили его на плащ-палатку и хотели вынести из боя.
— У меня ещё есть голос, чтобы командовать, — сказал он.
И пока не была отбита атака, его голос слышали бойцы. Он умирал на руках у Богарёва.
— Не забывай меня, комиссар, — сказал он, — за эти дни ты для меня стал другом.
Умирали бойцы. Кто расскажет об их подвигах? Лишь быстрые облака видели, как бился до последнего патрона боец Рябоконь, как, уложив десять врагов, взорвал себя холодеющей рукой политрук Еретик, как, окружённый немцами, стрелял до последнего вздоха красноармеец Глушков, как, истекая кровью, бились пулемётчики Глаголев и Кордахин, пока слабеющие пальцы могли нажимать на спусковой крючок, пока меркнувший взор в знойном тумане видел боевую цель.
Велик народ, чьи сыновья умирают свято, просто и сурово на необозримых полях сражения. О них знают небо и звёзды, их последние вздохи слышала земля, их подвиги видела несжатая рожь и придорожные рощи. Они спят в земле, над ними небо, солнце и облака. Они спят крепко, спят вечным сном, как спят их отцы и деды, всю жизнь трудившиеся плотники, землекопы, шахтёры, ткачи, крестьяне великой земли. Много пота, много тяжёлого, подчас непосильного труда отдали они этой земле. Пришёл грозный час войны, и они отдали ей свою кровь и свою жизнь. Пусть же эта земля славится трудом, разумом, честью и свободой. Пусть не будет слова величавей и святей, чем слово «народ»!
Ночью, после похорон погибших, Богарёв пошёл в блиндаж.
— Товарищ комиссар, — сказал дежуривший у блиндажа красноармеец, — посыльный пришёл.
— Какой посыльный? — удивлённо спросил Богарёв. — Откуда?
Вошёл небольшого роста красноармеец с сумкой и винтовкой.
— Откуда вы, товарищ боец?
— Из штаба дивизии, почту принёс.
— Как же вы прошли, ведь дорога отрезана?
— Пробрался, товарищ комиссар, километра четыре на пузе полз, через речку переправился ночью, немца-часового застрелил, вот погон с него принёс.
— Страшно было пробираться? — спросил Богарёв.
— Да чего мне бояться? — усмехаясь, сказал красноармеец. — У меня душа дешёвая, как балалайка, я за неё не боюсь, я ей цену положил — пять копеек. Чего же за неё бояться?
— Будто так? — серьёзно спросил Богарёв. — Будто так?
Красноармеец, усмехаясь, молчал.
Первое письмо было из Еревана — Бабаджаньяну. Богарёв посмотрел на обратный адрес — письмо пришло от жены Бабаджаньяна.
Командиры рот Овчинников и Шулейкин, политрук Махоткин, быстро перебирая письма, негромко говорили: «Этот есть… убит… убит… этот есть… убит…» — и откладывали письма убитым в отдельную стопку.
Богарёв взял письмо Бабаджаньяну и пошёл к его могиле. Он положил письмо на могильный холм, прикрыл его землёй, придавил сверху осколком снаряда.
Долго простоял он над могилой комбата.
— Когда же ко мне придёт твоё письмо, Лиза? — спросил он вслух.
В три часа утра пришла коротенькая шифровка по радио. Командующий армией благодарил бойцов и командиров за мужество. Потери, нанесённые ими немецким танкам, огромны. Они блестяще выполнили задачу и задержали движение мощной колонны. Остаткам батальона и артиллерии предложено было отходить.
Богарёв знал, что отходить некуда: разведка донесла о ночном движении немцев по просёлочным дорогам, пересекающим большак.
С тревожными вопросами подходили к нему командиры. «Мы в окружении», — говорили они.
После гибели Бабаджаньяна он один должен был решать. Фразу, которую любят часто говорить на фронте: «Я познакомился с обстановкой и принял решение», даже в тех случаях, когда речь идёт о ночёвке или обеде, теперь впервые торжественно произнёс Богарёв, обращаясь к командирам и политрукам, собравшимся в блиндаже. Он внутренне подивился, проговорив эти слова, и подумал: «Вот бы Лиза меня увидала». Да, часто хотелось ему, чтобы Лиза посмотрела на него.
— Товарищи командиры, решение моё таково, — сказал Богарёв, — мы отходим в лес. Там мы отдохнём, организуемся и с боем пробьёмся к реке для переправы на восточный берег. Своим заместителем назначаю капитана Румянцева. Выступаем мы ровно через час.
Он оглядел утомлённые лица командиров, суровое, постаревшее лицо Румянцева и совсем другим голосом, напомнившим ему самому довоенную Москву, сказал:
— Друзья мои, так кровью и огнём куётся наша победа. Почтим вставанием погибших в сегодняшнем бою наших верных друзей — красноармейцев, политработников и командиров.
XIV. В штабе фронта
Штаб фронта стоял в лесу. В шалашах и крытых зеленью землянках жили сотрудники операгивного, разведывательного отделов, Политуправления и фронтового интендантства. Под густым орешником стояли канцелярские столы, посыльные ходили сказочными тропинками, покрытыми жолудями, и наливали в чернильницы чернила. По утрам треск пишущих машинок под влажной от росы листвой заглушал пение птиц; меж густых зарослей: видны были белокурые женские головы, слышался женский смех и мрачные голоса канцеляристов. В сумрачном высоком шалаше стояли огромные столы с картами, вокруг шалаша ходили часовые, караульный у входа накалывал разовые пропуска на гвоздик, прибитый к старой дуплистой осине. Ночью гнилые пни светились голубоватым светом. Штаб всегда жил своей неизменной жизнью, — помещался ли он в старинных залах польского вельможи, или в избах большого села, или в лесу. А лес жил своей жизнью: белки делали зимние запасы и, озоруя, роняли на головы машинисток жолуди, дятлы долбили древесину, выколачивая червей, коршуны прочёсывали вершины дубов, осин, лип, молодые птицы пробовали силу своих крыльев, многомиллионный мир рыжих и чёрных муравьев, жуков-носорогов, жужелиц спешил и работал.
Иногда в ясном небе появлялись «Мессершмитты», они кружили над лесным массивом, высматривая войска и штабы.
«Во-о-оздух!» — кричали тогда часовые. Машинистки убирали со столов бумаги, накидывали на голову тёмные платочки, командиры снимали фуражки, чтобы блеск козырьков не был заметен, штабной парикмахер торопливо сворачивал белую простыню и стирал мыльную пену с недобритой щеки клиента, официантки ветвями прикрывали тарелки, приготовленные к обеду. Становилось тихо, слышно было лишь гудение моторов, да из сосновой рощи на песчаном пригорке, где находилось артиллерийское управление, раздавался сочный, весёлый голос розовощёкого артиллерийского генерала, распекавшего своих подчинённых.
И так же, как в полутёмном сводчатом зале дворца, в лиственный шалаш, где заседал военный совет, приносили тарелку зелёных яблок для командующего и коробки «Северной Пальмиры» для участников заседания.
Штаб фронта находился в сорока километрах от передовых позиций. По вечерам, когда стихал ветер и переставали гудеть вершины деревьев, ясно слышна была в лесу артиллерийская стрельба. Начальник штаба считал, что штаб надо отвести по крайней мере на семьдесят — восемьдесят километров вглубь, но командующий медлил, — ему нравилась близость к фронту, он много выезжал в дивизии и полки, мог непосредственно наблюдать ход боя, а через сорок минут находиться в штабе, у большой карты с обстановкой.
В этот день в штабе с утра тревожились. Немецкие танковые колонны подошли к реке. Среди штабных прошёл слух, что по эту сторону реки видели мотоциклистов, они, очевидно, переправились на больших плоскодонных лодках и проехали до опушки леса, в котором стоял штаб. Когда комиссар штаба доложил об этом командующему, Ерёмин стоял у орехового куста и обирал спелые орехи.
Пришедшие с комиссаром штабные командиры пытливо и тревожно наблюдали за лицом командующего, но известие не произвело на Ерёмина впечатления. Он кивнул в знак того, что слышал слова комиссара штаба, и сказал своему адъютанту:
— Лазарев, пригни-ка эту ветку, — видишь, на ней десятка три орехов уселось.
Стоявшие вокруг командиры внимательно наблюдали, как трудолюбиво Ерёмин обирал орехи с ветки. Глаза, видимо, были у него хороши, — он не пропустил ни одного орешка, даже из тех, что хитро и умело прятались в своих зелёных ячейках меж шершавых листьев орешника. Этот урок спокойствия длился довольно долго.
Затем командующий быстро подошёл к ожидавшим его начальникам отделов и сказал:
— Знаю, знаю, зачем сюда пришли. Штаб остаётся на месте, никуда передвигаться не будет. Извольте впредь являться лишь по моему вызову.
Смущённые начальники ушли. Через несколько минут адъютант доложил, что у телефона командующий армейской группы Самарин.
Ерёмин пошёл в шалаш.
Он слушал, что говорит Самарин, и повторял время от времени: «Тёк, так». И тем же голосом, которым говорил это «так, так», произнёс:
— Вот что, Самарин, убыль в частях — само собой, а задачу я вам поставил, и если вы останетесь один, то всё равно задачу вы выполните. Поняли?
Командующий сказал:
— Очень хорошо, что поняли, — и повесил трубку. Чередниченко, слушавший этот разговор, сказал:
— Самарину, видно, трудно. Он зря не станет говорить.
— Да, Самарии железный человек, — сказал командующий.
— Это верно, железный, но я всё-таки к нему завтра съезжу, к железному.
— А денёк-то, денёк какой! — сказал командующий. — Орехов не хочешь? Сам собирал.
— Я видел, — усмехнувшись, сказал Чередниченко взял горсть орехов.
— Видел? — оживлённо говорил командующий. — Услышали про мотоциклистов и решили, что я буду штаб с места снимать.
— Ничего, ничего, — ответил Чередниченко, — я с две сотни людей в памяти держу и вижу: приедет представляться — гимнастёрка новенькая, лицо белое, руки белые и глаза неустойчивые. Сидел, вижу, в академии или ещё где-нибудь. А с каждым днём меняется: нос лупится, а дальше загорят руки, гимнастёрка уже не топорщится, лицо от солнца закалится, даже брови выгорят. Ну, смотришь человека, пробуешь и видишь: кожа от солнца и ветра потемнела и внутри он закалкой взят…
— Да, да, — сказал командующий, — всё это очень хорошо. Но я, признаться, даже не ставлю людям в заслугу, что они воевать научились, закаляются, привыкли. Что за заслуга такая? Военные, чорт возьми, люди!
Он спросил адъютанта:
— Обед скоро будет?
— Сейчас накрывают, — сказал дежурный порученец.
— Вот хорошо, — сказал Ерёмин. — Ты орешков не грызи перед обедом. — Он пожал плечами. — Мне мало, когда командир закалился, стал опытен, мудрость приобрёл. Командир должен полной жизнью жить на войне, спать хорошо, есть хорошо, книжку читать, весёлым быть, спокойным, стричься по моде, как ему больше идёт, и лупить по авиации противника, и танки, что в обход пошли, уничтожать, и мотоциклы, и автоматчиков, и кого там хочешь. И от этой драки ему только лучше и спокойней на свете жить. Вот — военный человек. Помнишь, как мы с гобой вареники со сметаной ели в одном полку? Чередниченко усмехнулся.
— Это, когда повар жаловался: «Пикировает и пикировает, не давает, гад, лепить!»
— Вот, вот, — пикировает, не давает, гад, лепить… А вареники хороши были! — Он подумал и сказал: — Всё это так, — своё дело любить надо, а наше с тобой дело — война. Чередниченко подошёл к Ерёмину и сипло проговорил:
— Мы его будем бить. Побежит он, увидишь, побежит. И день этот проклянёт — двадцать второе июня, и час этот — четыре часа утра — проклянёт. И сыновья его, и внуки, и правнуки проклянут.
В течение дня воздушная разведка подтвердила сведения, принесённые пришедшим из окружения раненым лейтенантом: в районе Гореловец происходила концентрация шедших разными путями германских танковых колонн. Лейтенант по карте указал низменную местность, поросшую редким ельником, где шла концентрация немцев. Аэрофотосъёмка точно подтвердила это. Пастухи, переправившиеся через реку, сообщили разведчикам, что после того как бабы сходили на полдник доить коров, в район сосредоточения прибыли две колонны мотопехоты. Место концентрации немцев находилось в двадцати двух километрах от реки. Зная слабость нашей авиации на этом участке фронта, немцы чувствовали себя спокойно. Боевые и грузовые машины размещались плотно одна к другой, некоторые, когда спустились сумерки, зажгли фары; и у светящихся фар повара чистили овощи к завтрашнему утру.
Командующий фронтом вызвал начальника артиллерии.
— Достанете? — спросил он, указав отмеченный на двухвёрстке овал.
— Накрою, товарищ генерал-лейтенант, — сказал начальник артиллерии.
В распоряжении командующего находились орудия тяжёлой артиллерии резерва главного командования. Это были те стальные чудовища, которые встретил Богарёв в день своего приезда в штаб. Многие в штабе опасались, что громадные пушки не удастся благополучно переправить через реку, — требовалась постройка особо прочной переправы. Богарёв не знал, что бой у совхоза и разгром танковой колонны дал время сапёрам построить переправу для могучих орудий.
— В двадцать два обрушитесь всей мощью огня, — сказал командующий начальнику артиллерии.
Начальник артиллерии, розовощёкий, почти всегда улыбающийся генерал, любил свою жену, старушку-мать, дочерей, сына. Он любил много вещей в жизни: и охоту, и весёлую беседу, и грузинское вино, и хорошую книгу. Но больше всего на свете любил он дальнобойную артиллерию. Он был её слугой и поклонником. Он переживал гибель каждого тяжёлого орудия как личную утрату. Он огорчался, что дальнобойной артиллерии не приходится развернуть всю свою мощь в нынешней войне быстрого манёвра. Когда в районе штаба сконцентрировались большие массы тяжёлой артиллерии, генерал волновался, одновременно радовался и печалился — удастся ли применить её?
И тот миг, когда Ерёмин сказал: «…обрушитесь всей массой огня», был, вероятно, самым торжественным и счастливым во всей жизни начальника артиллерии.
Вечером на поляне заседал Центральный комитет белорусской коммунистической партии. Светлое вечернее небо просвечивало сквозь листву. Сухие серые листья, словно положенные заботливой рукой хозяйки, прикрывали нарядный пружинящий тёмнозелёный мох.
Кто передаст суровую простоту этого заседания на последнем свободном клочке белорусского леса! Ветер, пришедший из Белоруссии, шумел печально и торжественно, и, казалось, миллионный шопот людских голосов звучал в дубовой листве. Народные комиссары и члены ЦК, с утомлёнными загоревшими лицами, одетые в военные гимнастёрки, говорили коротко. И словно тысячи связей тянулись от этой лесной поляны к Гомелю и Могилеву, Минску, Бобруйску, к Рогачёву и Смолевичам, к деревням и местечкам, садам, пчельникам, полям и болотам Белоруссии… А вечерний ветер звучал в тёмной листве сумеречным, печальным и спокойным голосом народа, знавшего, что ему либо умереть в рабстве, либо бороться за свободу.
Стемнело. Артиллерия открыла огонь. Долгие зарницы осветили тёмный запад. Стволы дубов вышли из тьмы, словно весь тысячествольный лес шагнул разом и остановился, освещенный трепетным белым светом. То были не отдельные залпы игрохот пушечной пальбы. Так гудел воздух над землёй в далёкие периоды доархейской эры, когда с океанского дна поднимались горные цепи нынешней Азии и Европы.
Два военных журналиста и фотокорреспондент сидели на поваленном стволе, невдалеке от шалаша военного совета. Они молча наблюдали эту потрясающую картину.
Из лиственного шалаша послышался голос командующего:
— А помните, между прочим, товарищи, у Пушкина в «Путешествии в Арзрум» замечательно там описано…
Журналисты не услышали окончания фразы.
Через несколько мгновений они опять уловили спокойные, медленные слова и по интонации голоса узнали дивизионного комиссара Чередниченко:
— Я люблю, знаешь, Гаршина, — вот правдиво сказал про солдатскую жизнь.
В 22 часа 50 минут командующий фронтом и начальник артиллерии пролетели на боевом самолёте над долиной, где сконцентрировались панцырные колонны немцев. То, что увидели они, навсегда наполнило гордостью сердце артиллерийского генерала.
XV. Генерал
Одной из задач генерал-майора Самарина, командовавшего армейской группой, было удерживать переправы через реку. Штаб, тылы, редакция армейской газеты — словом, и второй и первый эшелоны находились на восточном берегу реки. Передовой КП Самарин вынес на западный берег, в небольшую деревушку, стоявшую на краю большого несжатого поля. С ним были лишь майор Гаран из оперативного отдела штаба, седой полковник Набашидзе, начальник артиллерии, полевая рация, телеграф да обычные полевые телефоны, связывавшие его с командирами частей. Самарин стоял в просторной, светлой избе. Там он работал, принимал командиров, обедал. Спать уходил на сеновал, так как не выносил духоты.
В избе на походных кроватях спали курносый, с очень красными щеками и очень чёрными круглыми глазами адъютант Самарина — Лядов, меланхолик повар, певший перед сном «Синенький скромный платочек», и шофёр зелёного вездехода Клюхин, возивший с собой в машине с первого дня войны роман Диккенса «Давид Копперфильд». Он прочёл к 22 июня лишь четырнадцать страниц и за месяц войны не продвинулся в чтении, так как Самарин давал людям мало отдыха. Как-то повар спросил, интересна ли эта толстая книга. «Стоющая», — сказал Клюхин, — из еврейской жизни.
На рассвете с сеновала спускался Самарин, и Лядов шёл к нему навстречу с кувшином и полотенцем. Он лил холодную колодезную воду на поросшую рыжим пухом шею маленького генерала и спрашивал:
— Хорошо спали, товарищ генерал-майор? Сегодня ночью немец всё бил трассирующими из леса.
Самарин был неразговорчивый и суровый человек. Он не знал страха на войне и часто приводил в отчаяние Лядова, отправляясь на самые опасные боевые участки. Он ездил по полям сражений с хозяйской неторопливой уверенностью, появлялся на командных пунктах полков и батальонов в тяжёлые минуты боёв. Он ходил со всеми орденами и с золотой звездой на груди среди рвущихся мин и снарядов. Приезжая в дерущийся полк, он сразу же в хаосе звуков разрывов и стрельбы, в дыму горящих изб и сараев, в пёстрой путанице перебежек, движения наших и вражеских танков улавливал стержень боевой обстановки. Командиры дивизий, полков, батальонов хорошо знали его отрывистый голос, не знавшее улыбки, часто казавшееся мрачным и недобрым большеносое лицо. Сразу же, появившись в полку, он заслонял собой и грохот орудий, и огонь пожаров, вбирал в себя на минуту всё напряжение боя. На командном пункте он оставался недолго, но его посещение отпечатывалось на всём движении боевых событий, словно спокойный, холодный взгляд командарма продолжал смотреть на лица командиров. За плохое руководство боем он, не колеблясь, отстранял начальников. Был случай, когда он послал майора, командира полка, рядовым бойцом в атаку — искупать свою вину за нерешительность и боязнь подвергаться опасности, принимать ответственное решение. Сурово и без жалости карал он смертью на поле сражения трусов.
Его ненависть и отвращение к противнику были неукротимы. Когда он проходил по горящим улицам подожжённых немцами деревень, лицо его становилось страшно. Бойцы рассказывали, как Самарин, выехав на броневике в самое пекло боя, увидел раненого красноармейца и посадил его на своё место, а сам шёл пешком следом за броневиком под ураганным огнём немцев.
Рассказывали, как, подняв в бою брошенную бойцом винтовку, запачканную зловонной грязью, он перед строем роты старательно и любовно обтёр её и молча передал обмершему от стыда красноармейцу. И люди, которых вёл он в бой, верили ему, прощая суровость и жестокость.
Лядов хорошо знал своего генерала. Не раз, подъезжая к передовой линии, Лядов спрашивал дорогу у встречных командиров и, возвращаясь к машине, докладывал:
— Товарищ генерал-майор, машиной проехать нельзя, тут никто не ездит, дорога под обстрелом миномётов, а в рощице, говорят, автоматчики засели, — надо искать объезда.
Самарин разминал толстую папиросу и, закуривая, говорил:
— Автоматчики? Ничего, езжай прямо.
И Лядов млел от тошного страха, сидя за спиной у своего генерала. Как многие нехрабрые люди, Лядов навесил на себя много грозного оружия: автомат, маузер, наган, браунинг, в карманах — ещё один маузер и трофейный парабеллум. Однажды он ездил в тыл по поручению генерала и своими рассказами и грозным видом восхищал женщин в вагонах, комендантов железнодорожных станций. Но он, кажется, ни разу не стрелял из своих многочисленных револьверов и пистолетов.
Весь день Самарин провёл на передовой. Давление немцев усиливалось на всех участках. Бои шли днём и ночью. Красноармейцы, измученные жаркой и душной погодой, часто отказывались от горячей пищи, которую подвозили к окопам.
Самарин, вернувшись на КП, позвонил по телефону Ерёмину, просил разрешения отойти на восточный берег реки. Ерёмин резко отказал ему. После разговора с Ерёминым у генерал-майора сделалось скверное настроение. Когда майор Гаран принёс очередную оперсводку, Самарин не стал читать её, а равнодушно сказал:
— Я знаю положение без вашей сводки… — И сердито спросил у повара — Обедать я буду когда-нибудь?
— Готов обед, товарищ генерал-майор, — ответил повар и так старательно приставил ногу и повернулся направо, что белый халат его затрепетал. Хозяйка избы, старая колхозница Ольга Дмитриевна Горбачёва, неодобрительно ухмыльнулась. Она была сердита на повара, насмешливо относившегося к деревенской стряпне.
— Ну, скажи мне, Дмитриевна, как бы ты стала гото вить котлету де-воляй или, скажем, картошку-пай жарить, а? — спрашивал её повар.
— Да провались ты! — отвечала она. — Станешь меня, старуху, учить картошку жарить.
— Да не по-деревенскому, а вот как я в Пензе в ресторане до войны готовил. Вот прикажет тебе генерал-майор, как ты ему скажешь, а?
Невестка Фрося и больной внучек внимательно слушали этот длившийся уже несколько дней спор. Старуху сердило, что она не умеет готовить блюд с глупыми названиями и что тощий верзила-повар ловчее её управляется в кухонных делах.
«Тимка, одно слово — Тимка», — говорила она, зная, что повар не любил, даже когда его называли по фамилии, и улыбался лишь при обращении «Тимофей Маркович». Так величал его Лядов, когда хотел перекусить ещё до того, как генерал садился обедать. Самарин был доволен своим поваром и никогда не сердился на него. Но теперь, садясь обедать, он сказал:
— Повар, сколько раз нужно повторять, чтобы самовар привезли из штаба?
— Сегодня к вечеру АХО привезёт, товарищ генерал-майор.
— А на второе опять баранину жарил? — спросил Самарин. — Два раза ведь говорил, чтобы рыбы нажарил. Речка-то рядом, время тоже как будто есть.
Дмитриевна, усмехаясь, поглядела на смущённого повара и сказала:
— Ему бы только над старухой смеяться, а если генерал просит честью, нешто он понимает? Одно слово — Тимка!
— А он смеётся над вами? — спросил Самарин.
— А нешто не смеётся, — ты, говорит, старая, можешь котлету де-воляй жарить? И пошёл… Тимка-то.
Самарин улыбнулся.
— Ничего, я над ним тоже посмеяться могу… Повар, — сказал Самарин, — как тесто для бисквита готовить?
— Это я не могу, товарищ генерал-майор.
— Так. А как пшеничное тесто всходит? На соде, на дрожжах? Объясни, пожалуйста.
— Я по кондитерскому цеху не работал, товарищ генерал-майор.
Все рассмеялись посрамлению повара.
После обеда генерал пил чай и пригласил Ольгу Дмитриевну. Старуха неторопливо обтёрла руки фартуком и, смахнув с табуретки пыль, подсела к столу. Она пила чай из блюдечка, утирая морщинистый лоб, блестевший от пота.
— Сахару, сахару возьмите, мамаша, — говорил Самарии и спросил: — Как внук, опять не спал ночью?
— Нарывает всё нога. Беда с ним, — сам замучился и нас замучил.
— Повар, ты угости ребёнка вареньем.
— Есть, товарищ генерал-майор, угостить пацана вареньем. — А как там, в Ряховичах, бой идёт? — спросила старуха.
— Идёт бой.
— Народ что терпит! — старуха перекрестилась.
— Народу там нет, — сказал генерал, — выехал весь народ. Стоят пустые хаты. И вещи народ вывез. Вот объясни мне, Ольга Дмитриевна, такую вещь: сколько я заходил в пустые хаты, — вещи все вывезены, а иконы колхозники оставляют. Уж такое старьё с собой берут, смотреть не хочется, стоит хата пустая, ничего нет — газеты со стен сдирают, а иконы оставляют. Во всех хатах так. Вот ты, я вижу, молишься, объясни, как же это так? Бога оставляют?
Старуха рассмеялась и тихо, чтобы слышал один генерал, сказала:
— Хто его знает, есть он или нет. Вот мы, старые, и молимся, — кивнешь ему десять раз, может, и приймет.
Самарин усмехнулся.
— Ох, Дмитриевна, — сказал он и погрозил пальцем котёнку, спустившемуся с печи на пол.
В это время принесли радиошифровку Богарёва о подробностях разгрома колонны танков.
Лядов знал хорошо характер генерала. Он знал, что перед поездкой на самые опасные участки фронта генерал приходил в хорошее настроение, знал, что чем напряжённей, накалённей делалась обстановка, тем спокойней становился Самарин. Он знал и странную слабость этого сурового человека. Самарин, приходя в пустую, брошенную избу, где обязательно оставались верные жилью кошки, вынимал из кармана кусочки заранее запасённого хлеба, подзывал голодного кота либо многодетную кошачью мать и, присев на корточки, начинал кормить их. Однажды он задумчиво сказал Лядову:
— Знаешь, почему деревенские коты не играют с белой бумажкой? Привычки нет у них такой, к белой бумаге, а на тёмную бросаются сразу, думают — мышь.
И сейчас Лядов понял, что Самариш после разговора со старухой и получения шифровки пришёл в хорошее настроение.
— Товарищ генерал-майор, — сказал он, — разрешите доложить: майор Мерцалов по вашему вызову явился.
Самарин нахмурился и снова погрозил пальцем котёнку.
— Что ты там говоришь?
— Я докладываю, товарищ генерал-майор: командир сто одиннадцатого стрелкового полка явился по вашему вызову.
— А, ладно. Пусть зайдёт. — Он сказал поднявшейся Дмитриевне: — Сиди, сиди, куда? Пей, пожалуйста, чай, не беспокойся.
Мерцалов утром вышел по просёлочной дороге и соединился со своей дивизией. Поход его не был удачен. По дороге он потерял часть артиллерии, застрявшей в топком лесном месте. Полковой обоз заблудился, так как начальнику колонны был дан неточный маршрут. Наконец полк отбивал при движении нападение немецких автоматчиков, и рота Мышанского, шедшая в арьергарде, вместо того чтобы пробиться к основным силам, дрогнула и вместе со своим командиром, не решившимся итти по открытому полю, повернула в лес.
Самарин утром выслушал доклад Мерцалова и задал лишь один вопрос: сколько боеприпасов оставлено Богарёву.
— Придите ко мне в семнадцать, — сказал он.
Мерцалов понимал, что этот второй разговор будет короче первого и не обещает ему ничего хорошего. Поэтому он очень удивился и обрадовался, когда Самарин сказал ему:
— Даю вам возможность исправить ошибки: установите связь с Богарёвым, согласуйте действия, обеспечьте ему выход и выведите матчасть, которую бросили. Можете итти.
Мерцалов понимал, что поставленная задача исключительно тяжела. Но он не боялся тяжёлых и опасных задач. Он больше опасался гнева своего грозного начальника.
XVI. Хозяин этой земли
Два дня стоял Богарёв со своим батальоном в лесу. Людей в батальоне было немного. Пушки, замаскированные ветками, глядели в сторону дороги. Разведывательный отряд возглавлял артиллерист, лейтенант Кленовкин, высокий юноша, имевший привычку часто и без особой нужды поглядывать на часы. В разведчики пошли большей частью артиллеристы, а из стрелкового батальона — Игнатьев, Жавелёв и Родимцев.
Богарёв вызвал Кленовкина и сказал:
— Вам придётся быть не только разведчиком, но и начпродом. Запасы хлеба у нас на исходе. — Он добавил задумчиво — Медикаменты есть, а вот чем кормить раненых? Им ведь особая пища нужна — кисели и морсы.
Кленовкин, желая испытать своих новых разведчиков, поручил Родимцеву с товарищами первую разведку. Он сказал:
— Да, кроме того, надо обеспечить бойцов хлебом, а раненых киселём и питьём фруктовым: у повара мука есть картофельная для киселя.
Жавелёв удивлённо спросил:
— Товарищ лейтенант, какие же тут кисели? Лес ведь кругом, а на дорогах немецкие танки.
Кленовкин усмехнулся, ему самому казался странным разговор комиссара.
— Ладно, посмотрим. Пошли! — проговорил Игнатьев.
Ему не терпелось пойти лесом. Они прошли среди лежавших под деревьями бойцов. Один из них, с перевязанной рукой, поднял бледное лицо и сердито сказал:
— Тише, что ты шумишь, как медведь? Другой шопотом спросил:
— Домой, что ли, ребята, идёте?
Разведчики пошли в глубь леса, и Родимцев всю дорогу удивлённо говорил:
— Что с народом стало, прямо удивленье! То стояли в обороне — двухсот танков не испугались, а в лесу двое суток полежали — и вроде совсем скисли.
— Без дела люди, — говорил Жавелёв, — это всегда так.
— Нет, это удивленье только, — повторял Родимцев. Они вскоре подошли к просеке. Больше двух часов пролежали они в придорожной канаве, наблюдая движение немцев. Мимо них проезжали связные мотоциклисты, один остановился совсем близко от них, набил трубку, закурил и поехал дальше. Прошли шесть тяжёлых танков. Но чаще всего ехали грузовики с хозяйственными грузами. Немцы разговаривали, сидя с расстёгнутыми воротниками, — должно быть, хотели загореть; в одной машине солдаты пели. Машины проезжали под деревом со свисавшей листвой, и почти из каждой машины протягивалась рука, чтобы сорвать несколько листьев.
Затем разведчики разделились. Родимцев и Жавелёв пошли лесом к тому месту, где просёлок пересекал шоссе, а Игнатьев перешёл просёлок и оврагом пробрался к деревне, в которой находились немцы.
Он долго наблюдал из высокой конопли. В деревне стояли танкисты и пехота. Они, видимо, отдыхали после перехода. Некоторые купались в пруду и лежали голые на солнце. В саду под деревом обедали офицеры, они пили из металлических, ярко блестевших на солнце стаканчиков; после обеда один из них всё время заводил патефон, другой играл с собакой, третий, сидя поодаль, писал. Некоторые солдаты, сидя на завалинках, занимались починкой белья, другие брились самобрейками, повязавшись полотенцами, иные трясли яблони в, садах и тычками снимали с верхних ветвей грушевых деревьев спелые плоды. Некоторые, лёжа на траве, читали газеты.
Эта местность напоминала родную деревню Игнатьева: и лес походил на тот лес, где любил он часами бродить, и река похожа была на реку, где мальчишкой ловил он пескарей и мелкую тощую плотичку. А сад, в котором обедали и заводили патефон немецкие офицеры, был очень похож на сад Маруси Песочиной. Сколько славных ночных часов просидели они с Марусей в саду! Ему вспомнилось, как ночью из тёмной, чёрной листвы светлели белые личики яблок, как вздыхала и негромко смеялась рядом, словно тёплая молодая птица, Маруся. Сердцу стало горячо от этих воспоминаний… На пороге хаты показалась худенькая девушка с босыми ногами, в белом платочке, и немец что-то крикнул ей, показал рукой… Девушка вернулась в хату и вынесла кружку воды. Страшная боль, горе, злоба сжали сердце Игнатьева. Никогда, ни в ту ночь, когда немцы жгли город, ни глядя на разрушенные деревни, ни в смертном бою, не испытывал Игнатьев такого чувства, как в этот светлый безоблачный день. Эти немцы, спокойно отдыхавшие в советской деревне, были во много разе страшней тех, в бою. Он ходил по своему лесу, пригибаясь, говорил шопотом, озирался, а ведь он знал эти лиственные леса, их дубы, осины, берёзы, клёны, как свой родной дом. Он ходил по такому лесу и пел во весь голос песни, которым его научила хмурая бабка Богачиха, он лежал на шуршащих сухих листьях и глядел на небо, он наблюдал возню птиц, разглядывал стволы деревьев, поросшие мхом, он знал все ягодные и грибные места, знал, где лисьи норы, в каких дуплах живут белки, на каких полянах среди высокой травы играют перед вечером зайцы… А теперь немец раскуривал трубку среди леса, а Игнатьев тихо, хоронясь, следил за ним из поросшей кустарником канавы. Чёрный провод, протянутый немецким связистом, тянулся среди милых деревьев — в детском неведении рябины и берёзы позволяли тонким ветвям своим поддерживать проволоку, и через русский лес по этому проводу бежали немецкие слова. А там, где не было деревьев, немец вкопал в землю тела молодых берёзок, поприбивал к ним дощечки-указатели, и берёзы стояли мёртвые, с жёлтыми, маленькими, как медные копеечки, листочками, и держали на себе всё тот же подлый провод.
В этот день, в эту минуту Игнатьев понял всей глубиной сердца, что происходит в стране, — что война идёт за жизнь, за дыханье трудового народа.
Он видел отдыхавших немцев, и ужас оледенил его: он на миг представил себе, что война кончилась. Немцы, вот так, как сейчас перед его глазами, купаются, слушают вечерами соловьев, бродят по лесным полянам, собирают малину, ежевику, лукошки грибов, попивают чай в избах, заводят музыку под яблонями, снисходительно подзывают к себе девушек. И в этот миг Игнатьев, несший на своих плечах всю страшную тяжесть этих битв, не раз сидевший в глиняной яме, когда над головой его проходили немецкие танки, Игнатьев, прошедший тысячи километров в горячей пыли фронтовых дорог, видевший каждый день смерть и шедший навстречу ей, понял всем сердцем своим, всей кровью, что эта сегодняшняя война должна продолжаться, пока немец не уйдёт с советской земли. Огонь пожаров, грохот рвущихся мин, воздушные бои — всё это было благо по сравнению с этим тихим отдыхом фашистов-немцев в занятой ими украинской деревне. Эта тишина, это благодушие немцев ужасали. Игнатьев невольно погладил приклад своего автомата, ощупал гранату, чтобы увериться в своей силе, своей готовности биться, — он, рядовой, всей кровью своей был за войну.
О, это не была война четырнадцатого года, о которой рассказывал старший брат, — война, проклятая рядовыми и не нужная народу.
Всё это душой, умом и сердцем чуял Игнатьев в этот светлый солнечный день, в обманной тишине полудня, глядя на отдыхавших немцев.
«Да, комиссар верное слово мне тогда сказал», — подумал он, вспомнив разговор с комиссаром в пылавшем городе.
Он вернулся на условленное места встречи, товарищи ждали его.
— Что на большаке? — спросил он.
— Обозы всё идут, — сказал скучным голосом Жавелёв, — обозы, обозы, гуси, куры с машин кричат, скотину гонят.
Лицо у него было расстроенное, без обычной озорной и недоброй усмешки. Видно, и он почувствовал злую тоску, поглядев на немецкие тылы.
— Что ж, пошли назад? — спросил Родимцев.
Он был спокоен по-обычному. Таким видали его товарищи в ожидании немецких танков, таким знали его при хозяйственной неторопливой делёжке хлебных порций перед ужином.
— «Языка» бы надо захватить, — сказал Жавелёв.
— Это можно, — оживившись, проговорил Игнатьев, — я уже придумал средство, — и рассказал товарищам свой простой план.
Жажда работы охватила Игнатьева. Ему казалось, что воевать он должен день и ночь, что нельзя ему терять ни минуты времени. Ведь восхищал он всегда туляков-оружейников своей смёткой и неукротимой трудовой силой, ведь считался он в деревне первым косарем…
Они доложили лейтенанту о результате разведки. Лейтенант велел Игнатьеву пойти к комиссару. Богарёв сидел под деревом.
— А, товарищ Игнатьев, — улыбнулся он, — где ваша гитара, уцелела?
— Как же, товарищ комиссар, — вчера играл на ней бойцам, — что-то народ крепко заскучал, тихо стал разговаривать.
Он смотрел внимательно в лицо комиссару и сказал:
— Товарищ комиссар, разрешите мне поработать по-настоящему, чтобы искра шла. Не могу я видеть, как немцы тут патефоны крутят, по нашим лесам ездят.
— Дел много, — сказал Богарёв, — дела хватит. Вот у меня забота: хлеб, раненых покормить, «языка» достать — это на всех работы хватит.
— Товарищ комиссар, — сказал Игнатьев, — мне бы команду пять человек, я с ними все эти дела обделаю До вечера.
— Не хвастаете? — спросил Богарёв.
— Давайте посмотрим,
— Я взыщу с вас, если не исполните.
— Есть, товарищ комиссар.
Богарёв велел Кленовкину выделить команду добровольцев. Через пятнадцать минут Игнатьев повёл их в лес, в сторону дороги.
Первое дело, которое он взялся выполнить, заняло немного времени. Он приметил несколько полян, красневших от ягод.
— Ну, девки, — крикнул он сопровождавшим его бойцам, — поднимай подолы, собирай ягоду!
Все смеялись его шуткам, прямо надрывались, слушая истории, которые он рассказывал одну за другой.
— Ягод-то, ягод! Прямо сафьян расстелен, — говорил Родимцев.
— Чернику отдельно, ежевику отдельно, малину отдельно, листьями разделяй их, — говорил Игнатьев.
Через сорок минут котелки, каски были полны ягод.
— Ну вот, очень просто, — возбуждённо объяснял бойцам Игнатьев. — Чернику варить тем, кто животом мучается, малину — кого лихорадит, с ежевики — сок кислый, вроде кваса, будет; раненый — он пить всегда просит.
Он быстро и ловко приспособился отжимать сок из ягод и, чтобы сок не был мутным, пропускал его через сложенную вдвое марлю из своего индивидуального пакета. Вскоре набралось несколько банок прозрачного и густого сиропа. Откуда-то прилетела домашняя муха. Игнатьев поволок всё это добро к шалашам, где стонали раненые. Старик-доктор, посмотревший на хозяйство Игнатьева, всхлипнул, утёр слезу и сказал:
— В лучшем клиническом госпитале вряд ли могли бы предложить раненым такую вещь. Вы спасли не одну жизнь, товарищ боец, — вот фамилии вашей я не знаю.
Игнатьев растерянно поглядел на доктора, ухмыльнулся, махнул рукой и пошёл. Весёлая удача шла рядом с ним.
Боец, посланный для наблюдения за дорогой, сообщил, что на просеке остановился немецкий грузовик. Видимо, с мотором произошла серьёзная авария: немцы долго обсуждали случай, затем все, вместе с шофёром, уехали с попутной машиной.
— А что в грузовике? — быстро спросил Игнатьев.
— Не поймёшь, прикрыто ихними плащ-палатками.
— Не заглянул?
— Как в него заглянешь, — сказал боец, — машины то сюда, то туда шасть, не подойдёшь.
— Эх ты, шасть, — сказал Игнатьев, — воробей!
Боец обиделся.
— Видать, ты сокол, — сказал он. Игнатьев прошёл к машине и крикнул:
— А ну, ребята, сюда!
Они шли к нему, глядя на его весёлое хозяйственное лицо. Он был хозяином этого леса, никто другой. И никто другой не мог быть хозяином, — он говорил громко, как у себя дома, его светлые глаза смеялись.
— Скорей, скорей, — кричал он, — держи плащ-палатки с того конца, придерживай! Так. Хлеб нам немцы привезли. Видишь, как спешили, старались, чтобы свежим, тёплым поспел. Даже машину запороли.
Он начал бросать каравай за караваем в подставленные плащ-палатки, приговаривая всё время:
— Этот Фриц перепёк, не умеет он подовый хлеб печь, взыщем с него. А этот хорош — видать, Ганс старался. Этот передержал — проспал Герман. Этот вот пышный, лучше всех — по моему заказу, сам Адольф пёк.
Загорелый лоб его покрылся каплями пота, и солнце, проникая через листву, пятнало его лицо, мелькавшие в воздухе хлебы, чёрные борта германской машины, поросшую зелёной травой дорогу. Он разогнулся, крякнул, встал во весь рост, обтёр лоб и оглядел лес, небо, дорогу…
— Как на стогу бригадир, — проговорил он, — ну, неси, ребята, метров двести, а то триста; в кусты схороните и назад.
— Да ты тоже спрячься, чего ты, с ума, что ли, сошёл, вот-вот налетят! — закричали ему.
— Куда мне итти? — удивлённо сказал он. — Это мой лес, я тут хозяин. Пойду, а меня спросят: куда, хозяин, идёшь?
И он остался стоять на машине. Дрозды и сойки, кричали над его головой, восхваляя его смелость, веселье, доброту. Он крошил хлеб и бросал птицам, а потом и сам стал напевать. Но глаза его зорко следили за прямой дорогой, видимой на километр в обе стороны. Он внезапно прерывал пение и вслушивался, сощурясь, не стучит ли где мотор. Вот вдали появилось облачко пыли, Игнатьев всмотрелся: мотоцикл.
— Хозяин, чего же тебе бегать? — спросил он насмешливо самого себя.
Ясно было, что буксировать или ремонтировать машину приедут не на мотоцикле. Игнатьев проверил гранату, сжал рукоятку её в руке и лёг в углубление, освободившееся от унесённого хлеба. Мотоциклист промчался мимо, даже не замедлив хода. Через час весь грузовик был разгружен. Уходя, Игнатьев заглянул в кабину и вытащил из боковой сумки коньячную бутылку, вина в ней было совсем немного. Игнатьев сунул бутылку в карман. Когда бойцы уносили последнюю плащ-палатку с хлебом, вдали послышалось тарахтенье мотора.
Игнатьев залёг в кусты — посмотреть, что будет. Машина, замедлив ход, развернулась и подъехала к пустому грузовику.
Игнатьев не понимал ни слова из того, что кричали немцы, но их жестикуляция, выражение лиц, беготня объяснили всё совершенно ясно. Сперва они заглядывали в канаву, смотрели под машину, потом унтер-офицер кричал на ефрейтора, и тот стоял руки по швам, каблук к каблуку. Ясно было Игнатьеву — унтер кричал: «Ты что, собачья морда, не мог заставить никого покараулить, чего бояться?» А ефрейтор с печальным видом показывал рукой: «Лес, мол, кругом, нешто их, кобелей, заставишь остаться?» А унтер, видно, кричал: «Сам, поросячье племя, должен был остаться. Теперь всех вас под арест посажу и без хлеба оставлю». — «Воля ваша», — отвечал ефрейтор и вздыхал. Потом уж ефрейтор стал кричать на шофёра. Игнатьев так объяснял его шум: «Ты что мотор запорол? Видишь — посредь леса стал, небось всё лакал из бутылки?» А шофёр, видя, что унтер отошёл справлять от огорченья нужду, отвечал нахально ефрейтору: «Что шуметь, боже мой! Из бутылки стаканчик-два глотнул!»
На ветвях прыгали дрозды и смеялись над немцами. Затем один из солдат нашёл возле машины бычок папироски и показал унтеру, и Игнатьев сообразил: унтер разглядел обгоревшую газетку с русскими буквами. «Вот они!» — закричал он, показывая солдату бычок. Тут немцы сразу сошли с ума: повытаскивали парабеллумы, а некоторые вскинули автоматы и открыли пальбу по деревьям; листья и мелкие ветки так и посыпались на дорогу. Игнатьев пополз в дальние кусты, где схоронились товарищи с хлебом. Там, посмеиваясь, рассказал он им, что видел, вытащил из кармана бутылку и сказал:
— Тут этого коньяку осталось с гулькин нос, на шестерых всё равно не разделишь, придётся, видно, самому, а?
Аккуратный Родимцев отвернул от своей фляги стаканчик и сказал:
— Ладно, чего уж, пей сам, вот стаканчик тебе. Я немецкого ничего в руки не беру.
Перед вечером Игнатьев привёл к комиссару, немца. Поймал он его простым способом: перерезал телефонный провод, протянул вдоль просеки и засел с товарищами в кустах. Через час пришли два немца-связиста искать порыв провода. Красноармейцы выскочили из засады. Одного немца, пытавшегося убежать, застрелили; второй, окостеневший от неожиданности, попал в плен.
— Я, товарищ комиссар, на них в лесу имею способ, — с весёлой деловитостью сказал Игнатьев: — мотоциклистов снимать — через дорогу провод натягивать; и на пехоту способ простой: повязать курей в кустах, — немцы за пять километров на кудахтанье сбегутся.
— Дельно, — ответил, смеясь, Богарёв.
В темноте Румянцев построил пехотинцев и артиллеристов и зачитал приказ — благодарность бойцу-разведчику от лица службы. Из сумерек послышался голос Игнатьева, шагнувшего по вызову из строя:
— Служу Советскому Союзу, товарищ капитан.
* * *
Мерцалов мучительно помнил свой неудачный отход. Непереносимо унизительное чувство бессилия владело им в течение короткого марша, скорей напоминавшего бегство, чем отступление регулярной воинской части. Особенно тяжело было смотреть на людей, которых вёл Мышанский. В его роте царила подавленность, бойцы шли, опустив головы, устало шаркая ногами, некоторые без оружия. Каждый громкий звук заставлял людей настораживаться, они блуждающим взглядом оглядывали небо, разбегались, едва появлялся немецкий самолёт. Мышанский запретил вести огонь по самолётам и приказал бойцам итти в стороне от дороги, стараясь выбирать лесистые либо заросшие кустарником места. Рота двигалась беспорядочной, растянувшейся толпой. Красноармейцы, почувствовав неуверенность командиров, часто нарушали дисциплину. Несколько черниговцев ночью оставили оружие и ушли просёлком в свои сёла. Мерцалов приказал задержать их. Но их не удалось найти.
Днём передовые подразделения полка вышли на широкое поле. Впереди, в пяти-шести километрах, синел лес. Этот лес доходил до самой реки. Красноармейцы оживились: там, за рекой, стояли наши войска, там кончался тяжёлый и опасный путь по немецким тылам. Лошади, почуяв далёкий запах влаги, пофыркивали, обозным не приходилось их подгонять. Когда полк, растянувшись, пылил по дороге тысячами сапог, скрипучими колёсами подвод, стёртыми покрышками автомобильных колёс, широкими перепончатыми гусеницами тягачей, в воздухе появился немецкий самолёт-разведчик. Он сделал быстрый круг над дымившейся от пыли дорогой и ушёл. Поняв, что вскоре предстоит встреча с противником, Мерцалов приказал точно соблюдать двадцатиметровую дистанцию между движущимися по дороге подводами и грузовиками на случай налёта бомбардировщиков, приказал турельным пулемётам, находившимся на грузовиках, выехать в голову и в хвост колонны.
Он был уверен, что противник нападёт с воздуха, желчно сказал начальнику штаба:
— Смотри, товарищ майор, на роту Мышанского — все головы подняли, в небо глядят! И сам Мышанский, как орёл, в небо глядит; а лесом — бредёт понурившись, словно семидесятилетний старик, головы не подымает.
Он въехал на холм и оглядел простор неба и земли, расстилавшийся перед ним. Несжатая пшеница волновалась, шумела, ветер шевелил её, пригибал, жёлтые налитые колосья клонились, и глазу открывалось бледное тело стеблей. Всё поле меняло цвет: из янтарно-жёлтого становилось бледнозелёным. И тогда казалось, что смертная бледность пробегала по пшенице, словно живая кровь отливала от лица, словно поле бледнело, ужасаясь уходу русского войска. И поле шумело, просило, клонилось к земле, то бледнело, то, вновь поднимая пышный колос, красовалось всей своей богатой, калёной солнцем красотой. Мерцалов смотрел на поле, на белевшие кое-где бабьи платки, на дальние мельницы, на хаты светлевшей вдали деревушки.
Он посмотрел на небо — с детства знакомое, блёклое, молочно-голубоватое, горячее летнее небо. По нему шли облака, мелкие, размытые, неясные, такие прозрачные, что сквозь них просвечивала голубизна воздуха. И это огромное поле и это огромное знойное небо взывали в великой тоске, просили помощи у войска, пылившего по горячей дороге. И облака шли с запада на восток, словно кто-то невидимый гнал огромное стадо белых овец по русскому небу, захваченному немцами.
Они шли следом за уходящим в пыли войском, они спешили уйти туда, где не режет их острое железное крыло немецкого самолёта. И пшеница шумела, кланялась в ноги красноармейцам, просила и сама не знала, о чём просить.
— Эх, кровью бы плакать! — промолвил Мерцалов. — Солёной кровью — не слезами!
Босая старуха, с полупустой торбой на согбенной спине, и идущий с ней большеглазый мальчик молча смотрели на отходящее войско, и непередаваемо страшен был укор в их печальных, застывших глазах — детски беспомощных у старухи, старчески усталых у ребёнка. Так и остались они стоять, затерявшиеся в огромном поле.
Тяжёлый это был день! Никогда не забыть Мерцалову этого дня. Он ожидал противника с воздуха, а противник пришёл с земли. В коротком бою потерял Мерцалов свой обоз, потерял роту Мышанского, бежавшую вместе со своим командиром в лес.
К вечеру полк подошёл к реке. Тяжкий путь кончился. Но не радовался командир полка — горькие мысли владели им.
Подошёл начальник штаба и передал Мерцалову рапорт политрука второй роты. На лесном хуторе остался красноармеец, заявив товарищам, что решил переждать тяжёлые времена с молодой вдовой-хозяйкой. Мерцалов приказал немедленно снарядить полуторку и доставить дезертира. Его привезли в штаб полка ночью, в крестьянской одежде, в лаптях, — свою форму он утопил в ставке, привязав к ней камень. Мерцалов издали наблюдал за разговором, который завели с ним красноармейцы.
— И пилотку с червоной звездой утопыв? — спросил первый номер пулемётного расчёта.
— Эге ж, — уныло и равнодушно ответил дезертир.
— И винтовку утопил? — спросил второй номер пулемётного расчёта.
— А на що вона, як я на хутори остався?
— Он свою душу в той ставке тоже утопил, — сказал высокий мрачный красноармеец Глушков, браг убитого в бою с немецкими танками, — навязал на неё кирпич и утопил.
— На що мени душу топыть? — обиженно спросил дезертир и почесал ногу. Старшина, ездивший за дезертиром, усмехнувшись, сказал:
— Мы приехали. Он со своей молодухой спать ложились. Аккуратно так всё постелились, пол-литра на столе пустые, две стопочки, свининки жареной поели.
— Да её треба було бзабрать, лядачу, та расстрелять з ним$7
— Сапогами забить! — сказал худой боец с измученным лицом и больными лихорадочными глазами.
Мерцалов подошёл к дезертиру. Вспомнился ему весь горький день — пшеница, небо, старуха с мальчишкой, укорявшие отходящие войска, и сказал он впервые в жизни тяжёлые, страшные слова:
— Расстрелять перед строем!
Ночью он не спал. «Нет, не согнусь я, — говорил он, — есть во мне сила для этой войны».
XVII. Комиссар
Утром к Богарёву пришёл Мышанский.
— Здравствуйте, товарищ комиссар, — радостно сказал он, — вот встреча так встреча!
Пришедшие с ним люди были не бриты, в порванных гимнастёрках. Сам Мышанский выглядел немногим лучше своих бойцов. Он спорол с воротника знаки различия, крючок и верхние пуговицы гимнастёрки были вырваны, бывшие раньше при нём полевая сумка и планшет отсутствовали, он их, очевидно, бросил, чтобы не иметь командирского вида, даже револьвер он вынул из кобуры и сунул в карман брюк.
Сев рядом с Богарёвым, он тихо сказал.
— Да, влипли мы с вами в классическое окружение, товарищ комиссар. Мне кажется единственно правильным — рассредоточить людей и пробираться в одиночку через линию фронта.
Богарёв, слушая его, почувствовал, как кровь отлила от лица; ему показалось, что щеки у него даже похолодели, побелели от ярости.
— Почему ваши люди в таком виде? — тихо спросил он. Мышанский махнул рукой.
— Да о чём говорить, — сказал он, — героев среди них нет. Ночью вышли на поляну, немцы пустили ракеты, а они залегли, словно под ураганным огнём.
Богарёв встал и тяжело переступил с ноги на ногу. Мышанский продолжая сидеть, не замечая искажённого злобой лица Богарёва, спросил:
— Ох, нет ли у вас закусить, товарищ комиссар? А выход, по-моему, я предлагаю правильный, — пробираться через фронт поодиночке. Кто куда. Скопом мы всё равно не прорвёмся.
— Встать, — сказал Богарёв.
— Что? — спросил Мышанский.
— Встать! — громко и властно повторил Богарёв.
Мышанский посмотрел в лицо Богарёву и, вскочив, вытянулся.
— Стоять смирно, — сказал Богарёв и, с ненавистью глядя на Мышанского, закричал: — В каком вы виде? Как вы подходите к старшему начальнику? Немедленно приведите себя и своих людей в полный порядок, чтобы ни одного небритого, чтобы ни одной порванной гимнастёрки. Прикрепите к петлицам знаки различия. Через двадцать минут выстроить роту и явиться ко мне, командиру действующей в тылу у противника регулярной части Красной Армии, в подчинение которого вы поступаете.
— Есть, товарищ батальонный комиссар! — сказал Мышанский и, всё ешё полагая, что дело не серьёзно, улыбаясь, добавил: — Только, где же я достану знаки различия, ведь мы в окружении, в лесу, не жолуди же мне пришить к петлицам.
Богарёв посмотрел на часы и медленно проговорил:
— Через двадцать минут если моё приказание не будет выполнено, вы будете расстреляны перед строем, вот под этим деревом.
И Мышанский понял и ощутил непреклонную, страшную силу говорившего с ним человека. А в это время артиллеристы и стрелки расспрашивали вновь пришедших бойцов.
— Слышь, борода, — громко спрашивал герой боя с немецкими танками наводчик Морозов одного из пришедших, — ты с какого года?
— С девятьсот двенадцатого, — ответил шопотом вновь пришедший и, подняв палец, просительно произнёс: — Вы, ребята, тише ржите.
— А что, батька? — спросил Игнатьев, нарочно повышая голос.
— Ти-и-ша, — со страданием произнёс обросший бородой боец, — не слышишь разве?
— Чего, чего? — заинтересованно спрашивали разведчики и артиллеристы.
— Да немцы кругом, разговор их сюда слыхать.
Все удивлённо переглянулись, а Игнатьев вдруг расхохотался так громко, что несколько человек из роты Мышанского зашипели на него, «Тише, тише».
— Да что вы, ребята, — сказал Игнатьев, — да как вы можете, ведь это вороны кричат, вороны, понимаешь ты! И дружный хохот пошёл по лесу: смеялись артиллеристы, смеялись пехотинцы, смеялись разведчики, смеялись раненые, охая от боли, смеялись и вновь пришедшие бойцы, смущённо качая головами и сплёвывая. В это время подошёл к ним Мышанский.
— Живо, живо, — закричал он, — даю вам пятнадцать минут сроку — всем побриться, привести себя в полный порядок. Товарищи командиры взводов, сержанты, прикрепить знаки различия, выстроить роту.
И он, схватив свой походный мешок, бегом побежал к ручью.
Богарёв ходил под деревьями и думал:
«Нет героев в роте, говорит Мышанский. Ну что ж, нет, так мы их сделаем, будут герои. Будут!»
Вскоре рота построилась. Капитан Румянцев медленно обходил строй, внимательно оглядывал обмундирование бойцов, осматривал оружие, делал придирчивые замечания по поводу каждой мелкой неисправности.
— Потуже, потуже ремень, — озабоченно говорил он, — почему плохо выбрились, бриться надо старательно, а не как-нибудь… А вы винтовку не чистили, куда это годится, разве бойцу Красной Армии можно небрежно обращаться с оружием…
Казалось, дело происходит в военной школе, перед строгим инспекторским смотром, а не в лесу, в тылу у немцев. Богарёв специально просил Румянцева произвести этот дотошный осмотр. Он издали наблюдал за выстроившейся ротой. Румянцев уже подходил к левому флангу и, критически оглядев шеренгу, сказал взводному командиру: «Не строго по ранжиру стоят бойцы вашего взвода, товарищ лейтенант». Богарёв шагнул вперёд. «Смирно!» — закричал Мышанский и, выступив перед строем, громко отрапортовал. Богарёв прошёл перед строем и обратился к бойцам. Он говорил, не повышая голоса, и слова его сразу дошли до слушателей. Он сказал о великих тяжестях войны, о горьком отступлении. Он рассказал красноармейцам о сложности и опасности положения, не скрывая от своих слушателей ничего. Сказал о немецких, танках, о перерезанных дорогах, сказал, как расценивает он силы противника, находящиеся на этом участке, сказал о суровой борьбе на жизнь и смерть, которую ведёт народ.
И стоявшие в строю слушали его, выпрямившись, со спокойными лицами, глядя на комиссара мудрыми глазами людей, которых не нужно учить.
В эти тяжёлые часы и дни люди хотели одной лишь правды. Они хотели слушать правду, тяжёлую, невесёлую. И Богарёв сказал эту правду. Холодный ветер, предвестник осени, зашумел в высокой листве деревьев. И после зноя, после чёрных грозовых ночей этих месяцев, после душных полдней и вечеров, наполненных гуденьем комаров, этот пришедший с севера ветер, несущий в себе напоминание о зиме, снегах, метелях, был бесконечно приятен. Ветер говорил, что тяжкое, душное лето кончается и идёт новая пора. Люди почувствовали это как-то внутренне, навсегда связали новое ощущение со словами комиссара и с порывом холодного ветра, от которого по-ноябрьски зашумели дубы.
Ночью Богарёв не спал. Он пошёл на песчаный пригорок, где росли огромные сосны, лёг, прикрывшись шинелью, смотрел в небо. Было прохладно. Луна медленно двигалась, меж чёрных стволов, по синему небу. В лесу, сквозь деревья, было особенно заметно плавное движение луны; столь велика была она, что даже самые толстые стволы не закрывали её, и жёлтый обод, исчезая с одной стороны ствола, рос и ширился с другой. Богарёв курил, прозрачный дым папиросы при свете луны казался стеклянным. Небо было просторно и пусто — луна затмила звёзды. Над лиственной частью леса стоял голубовато-серый туман, такой же лёгкий, как дым от папиросы. А под соснами всё время слышался шелест, словно тысячи муравьев работали в ночную пору, — это капли росы соскальзывали на землю с масляно-скользких сосновых игол. Роса накапливалась, созревала на зелёных остриях, вода стекала по желобку иголок, и капли, наливаясь, зрели и светлели в лунном свете. Красота этой ночи была так велика, что грусть охватила Богарёва. Тихий шорох падающих капель, плывущее движение луны, тени стволов, бесплотно медленно двигающиеся по земле, говорили о мудрой красоте задумавшегося мира.
А мир содрогался от ударов войны, она влезла под вспаханную землю, ушла под воду, поднялась на десять тысяч метров над землёй, она бушевала в лесах, на полях, над тихими прудами, поросшими ряской, над реками и городами, она не знала ни дня, ни ночи. И Богарёв подумал: победи в этой войне Гитлер — для мира не станет солнца, звёзд и такой прекрасной ночи, как эта. Он увидел человека, сидевшего на освещенной полянке. Богарёв окликнул его. Это был Игнатьев.
— Что вы здесь делаете, товарищ Игнатьев? — спросил Богарёв.
— Спать не могу, товарищ комиссар, ночь-то какая! Богарёву нравился этот сильный и весёлый человек, он видел и знал то влияние, которое имеет Игнатьев на красноармейцев. Он слышал, как бойцы передавали друг другу шутки Игнатьева, рассказывали об его весёлой, хитрой храбрости. Там, где сидел Игнатьев, всегда собирался кружок в пять — десять человек.
— О чём думаете, товарищ Игнатьев? — спросил Богарёв.
— Товарища своего вспомнил, Седова. Война началась — тоже лунные ночи были. Он мне сказал: «Вот, Игнатьев, ночь какая, а много ли мне осталось на свете быть, не знаю». Вот и нет его уже.
— И Бабаджаньяна нет, — сказал Богарёв и вздохнул. Он заговорил, и Игнатьеву было интересно слушать его. Он не любил поучительных бесед.
«Чего меня учить, — думал он, — я сам всё знаю». Да и обычно получалось, что не ему рассказывали, а он сам заставлял себя слушать, — много он знал всяких историй, случаев, воспоминаний, собранных от старых солдат, дедов, старух. Какая-то страсть была у него собирать все эти рассказы, внешне простодушные сказки. Он их запоминал легко, память у него была огромная. А так как обладал он и живой фантазией, он переделывал их сам и рассказывал товарищам одновременно смешные и страшные, хитроумные истории про красноармейца, с которым Гитлер задумал воевать. В эту ночь говорил комиссар, а Игнатьев слушал. И он не забыл ни слова из этого ночного разговора.
— А ведь правда, товарищ комиссар, — сказал он, — и я словно другим человекам на этой войне стал. Идёшь — каждую речку, каждый лесок до того жалко, сердце заходится. А жизнь нелёгкая у народа была, да ведь тяжесть своя — наша. Земля наша, производство наше и жизнь наша, нелёгкая жизнь, а наша. Как же это отдавать? Я теперь часто задумываться стал. На войну шёл — эх, думаю, всё нипочём. А теперь во мне сердце горит. Иду сегодня, а на поляне деревцо шумит, беспокоится, — так меня пропекло, аж перекосило всего. Неужели, думаю, оно, махонькое, к немцу отойдёт? Нет, говорю ребятам, не будет этого. Мой друг один, Родимцев, говорит: горько ли, тошно — стоять надо, за свою землю воюем. Мало что бывало — и жрать нечего, а моя она, жизнь.
Свет луны померк, тёмная пелена заволокла небо. Вскоре пошёл мелкий, словно холодная пыль, дождь.
Богарёв натянул повыше на плечи шинель, покашлял и сказал обычным своим неторопливым, глуховатым голосом:
— Товарищ Игнатьев, разведке дан приказ разгромить немецкий обоз. Пойдёт новый отряд, в него будут набраны самые нестойкие люди из роты Мышанского. Их надо подучить, поднять настроение. Вас я прикомандировываю к этому отряду. Пусть видят, как можно бить немцев.
— Есть, товарищ комиссар, — ответил Игнатьев.
«Ну, вот и кончилась лунная ночь», — подумал Богарёв. И так же подумал Игнатьев, отходя от комиссара.
Вскоре Богарёв разбудил Мышанского. Богарёв сказал ему:
— Вы отправитесь через час с отрядом громить немецкий обоз.
— От кого я могу получить директиву? — спросил Мышанский.
— Директиву получил лейтенант Кленовкин, командир отряда. Вы пойдёте на эту операцию рядовым бойцом, с винтовкой. С сегодняшнего дня вы больше не командуете ротой.
— Товарищ комиссар, — сказал Мышанский, — разрешите, я объясню.
— Я хотел вас предупредить вот о чём, — перебил его Богарёв: — бойтесь не немцев, бойтесь проявить нестойкость. Объяснений с вами больше не будет, запомните это.
XVIII. Лёня
Пастух Василий Карпович шестые сутки шёл с Лёней Чередниченко по деревням, занятым немцами. Мальчик сильно устал, сбил себе в кровь ноги. Он спрашивал у старика: «Почему кровь идёт из ног, ведь мы всё время идём по мягкой дороге?» Кормились они в пути хорошо: бабы давали им вдосталь молока, хлеба, сала. В последнюю ночь они остановились ночевать в хате, где жила женщина с двумя дочерьми. Девушки учились в десятом классе, они знали алгебру, геометрию, немного французский язык. Мать одела дочерей в рваное тряпьё, руки и лицо у них были запачканы землёй, волосы нечёсаны и спутаны. Делалось это для того, чтобы немцы не обидели красивых девушек. Девушки смотрелись всё время в зеркало и смеялись. Им всё казалось, что через деньили два кончится эта дикая, страшная жизнь, что староста им вернёт отобранные по приказу немецкого коменданта учебники геометрии, физики, французского языка, что их перестанут гонять на работы; шёл слух о том, что толпы женщин, девушек идут по дорогам в дальние лагеря на работы, что красивых отбирают, и они исчезают без вести, что в лагерях держат отдельно мужчин и женщин, что запрещают по всем украинским деревням свадьбы.
Девушки слышали это, но в душе не верили. Слишком диким казалось всё, о чём говорили люди. Они ведь собирались осенью поехать в Глухов, поступить в педагогический техникум. Они читали книги, умели решать квадратные уравнения с двумя неизвестными, они знали о том, что солнце представляет собой звезду, находящуюся в стадии потухания, и что температура его поверхности около 6000 градусов. Они читали «Анну Каренину» и на испытаниях по литературе писали сочинения «Лирика Лермонтова» и «Характеристика Татьяны Лариной». Их покойный отец был бригадиром, полеводом, заведывал хатой-лабораторией и получал письма из Москвы от академика Лысенко. И девушки, смеясь, поглядывали на тряпьё, прикрывавшее их, и утешали мать.
— Не плачьте, мамо, не може цего буть, шо стало. Адольф згыне, як Наполеон згынув.
Они узнали, что Лёня учился в киевской школе в третьем классе, и устроили ему экзамен: задавали ему задачи на умножение и деление.
Говорили они все шопотом и поглядывали на окна, — невольно казалось, что при немцах в деревнях детям нельзя говорить об арифметике. И ту бумажку, на которой Лёня решал задачу, одна из девушек, кареглазая Паша, мелко-мелко изорвала и бросила в печку.
Лёне постелили на полу. Он, несмотря на усталость, не мог уснуть. Разговор о школе очень взволновал его. Ему вспомнился Киев, комната с игрушками, вспомнилось, как отец научил его играть в шахматы и по вечерам иногда приходил к нему, и они играли. Лёня хмурился, морщил нос и, подражая отцу, поглаживал подбородок. А отец смеялся и говорил: шах и мат. А рядом с этими воспоминаниями возникали другие: о пожаре, об убитой девочке, которую они видели в поле, о виселице на площади в еврейском местечке, о гудении самолётов. Они мешали друг другу, эти воспоминания; то казалось, не было школы, товарищей, дневного кино на Крещатике, то думалось, сейчас подойдёт к его кроватке отец, погладит по волосам, и чувство покоя, счастья наполнит всё его утомлённое маленькое тело. Отец для Лёни был великим человеком. Он безошибочным детским чутьём ощущал его духовную силу. Он видел то уважение, которое проявляли к отцу товарищи военные, он замечал, как все они, сидя за столом, умолкали и поворачивали головы, когда раздавался спокойный медленный голос отца. И этот одиннадцатилетний мальчик, беспомощный, бредущий наугад среди горящих деревень, запруженных наступающими войсками немецкой армии, ни на секунду не поколебался в своих представлениях: отец был таким же сильным, мудрым, каким помнил он его в мирные времена. И когда он шёл полем, когда засыпал в лесу или на сеновале, он ясно знал, что отец идёт ему навстречу, что отец ищет его. Он засыпал, а до слуха его доносился негромкий голос Василия Карповича, беседовавшего с хозяйкой.
— Сорок деревень прошёл, — говорил старик, — насмотрелся порядка, что смотреть не хочется. А были у нас такие — ждали: порядок, кажуть, будет земельный. В одной деревне коров по ведомости доить велели: ходят солдаты два раза в день и молоко отбирают. Вроде как бы в аренду коров сдали колхозникам. А коровы колхозные. В другой — всем мужикам сапоги приказали сдать. Ходите, колхозники, босы. Старостов всюду поставили. А эти старосты над народом катуют, а сами не хозяева: от страху не спят, тоже немцев боятся. Народ весь сам не свой стал: так сделаешь — нехорошо, инше сделаешь — и тоже плохо. «Насчёт земли, — немец говорит, — это вы забудьте». Сколько сёл прошёл — ни разу пивень не пропел, ни одного не оставили, всем чисто шеи пооткручи-вали. Старика одного застрелили, — он всё на крышу лазил, смотрел на восход, не идут ли наши. А немец его и пристрелил. Нечего, каже, на восход смотреть. Понавешали дощечек; а что на их написано — неизвестно. Стрелы, стрелы всюду показывают. А бабы жалуются: день и ночь приказуют печь топить, варят да жарят. А лопочут, лопочут — бабы прямо злые, ни слова, говорят, по-ихнему не поймёшь, а всё лопочут, как дурные: «Матка, матка». Женщин старых не стыдятся — голыми перед ними ходят. Кошки, говорят бабы, в хатах от них не держатся. Старуха мне одна говорила, — это дело страшное, если кошка из дому выходит, кошки при нём в доме не сидят; кошку ни огнём, никакой силой из дому не выживешь, а тут сами в огород уходят. И вот смотрю я и бачу: вроде как бы порядок, а это не порядок, а смерть наша. Брат на брата смотреть боится. А в одной деревне собрал мужиков и чисто так по-украински объясняет: «Вас, говорит, кто угнетал, — русский, еврей, вот, кажет, враг для Украины». А старики стоят, молчат, а обратно шли, говорят: «Это мы уж слышали, все нас обижали, вот только немец пришёл добро нам делать». А в одном селе согнали мужиков сортир для генерала ставить, так гоняли их за сорок вёрст кирпич возить, чтобы всё как полагается было. Мне старик казал один: пусть лучше удавят, а я такой работы больше сполнять не буду. Шопот такой стоит, в глаза друг другу не смотрят, душевности никакой. Как со скотом на ферме колгоспной — то списуют, то переписуют, то строят по ранжеру, то гонят… Скоро клеймы ставить будут, на каждого повесят дощечку и номерок поставят…
Лёня проснулся и сразу же сказал:
— Дедушка, нам, верно, пора итти.
Старик не отозвался. Лёня быстро огляделся; Василия Карповича не было в хате, его мешочек лежал на лавке. Мальчик спросил:
— А где дедушка?
У окна сидела хозяйка, смотрела на своих спящих дочерей, и слёзы обильно текли по её щекам.
— Забрали, проклятые, ночью забрали, — сказала она, — сегодня деда забрали, завтра дочек моих заберут, пропали мы, пропали.
Мальчик вскочил.
— Кто увёл, куда увели? — спрашивал он всхлипывая.
— Кто ж увёл, известно, — сказала хозяйка и начала ругать немца: — Чтоб у него очи повылазили, чтоб он не дождался своих детей увидеть, чтоб их всех холера передушила, чтоб у него руки и ноги поотсыхали.
Потом она сказала:
— Ты не плачь, хлопчик, мы тебя не выгоним, останешься у нас, будем тебя годувать.
— Нет, не хочу я оставаться, — сказал Лёня.
— Куда ж ты пойдёшь?
— Пойду к папе.
— Та подожди ты, вот самовар вскипит, поснидаешь с нами, тогда побачим, куда тебе итти.
Лёня испугался, что хозяйка не отпустит его. Он тихонько встал и подошёл к двери.
— Та куда ж ты? — спросила хозяйка?
— Я на минуточку, — ответил он, вышел во двор, оглянулся на дверь и бросился бежать.
Он бежал по деревенской улице мимо чёрных семитонных грузовиков, доходивших своими высокими бортами до соломенных крыш, мимо походной кухни, у которой повар разводил огонь, мимо пленных красноармейцев с мёртвенно-серыми лицами, сидевших без сапог, в окровавленном, грязном белье за плетнём колхозной конюшни. Он бежал мимо жёлтых стрел указателей, расписанных цифрами и чёрными готическими буквами. В его голове всё спуталось, ему казалось, что он убегает от старухи-хозяйки и её дочерей, решавших с ним арифметические задачи. Хозяйка будет греть самовар и заставит его с утра до вечера пить чай в запертой скучной хате.
Он добежал до ветряной мельницы и остановился. Дорога разветвлялась: одна жёлтая стрела показывала в сторону деревни, другая — по широкой дороге со множеством автомобильных и танковых следов. Лёня пошёл по узкой полевой дороге, на которую не указывали немецкие стрелы, к черневшему вдали лесу. По этой дороге давно уж не ездили, должно быть, весной ещё проехала по ней крестьянская телега, и следы колёс глубоко отпечатались в закаменевшей глинистой земле. Через час он подошёл к опушке леса. Ему хотелось есть, пить, солнцеизнурило его.
В лесу ему стало страшно: то, казалось, немцы следят за мим из-за деревьев, ползут из кустарников, то ему представлялись волки и чёрные дикие кабаны из зоологического сада, с длинными клыками и приподнятой верхней губой. Ему хотелось крикнуть, позвать, но он боялся выдать себя и шёл молча. Иногда страх и отчаяние бывали так невыносимо остры, что он вскрикивал и бросался бежать. Он бежал, не разбирая дороги, пока не начинал задыхаться. Тогда он садился, отдыхал немного и снова шёл дальше. А минутами его охватывала радостная уверенность: ему казалось, что отец идёт своим широким спокойным шагом, зорко вглядывается в чащу и всё ближе, ближе подходит.
В одном месте он нашёл много ягод и принялся собирать их. Потом он вспомнил книжку про медведей, которые любят ходить на поляны собирать с кустов малину, и поспешил снова в лес.
Вдруг он увидел меж деревьев человека. Он остановился, прижавшись к толстому стволу, и всматривался. Человек стоял с винтовкой, поглядывал в ту сторону, где притаился мальчик, — очевидно, он услышал звук шагов. Лёня смотрел, смотрел, — густая тень мешала разглядеть стоявшего. Радостный, пронзительный крик разнёсся меж деревьев. Красноармеец вскинул винтовку, а мальчик бежал к нему и кричал:
— Дядя… дядя… Товарищ…. Не стреляйте, это я, я, я!
Он подбежал к красноармейцу и, плача, схватился руками за его гимнастёрку, вцепился в неё так, что пальцы даже побелели.
Красноармеец гладил его по волосам и, качая головой, говорил:
— Где же ты это так ноги разбил… Да ты не цепляйся, нешто я тебя в лес гоню? — Он вздохнул и добавил — Может, и мой так по лесам один бродит. Да немец хоть два раза меня убей, я всё равно в землю не лягу, пока он тут хозяюет. Встану.
Вскоре Лёня лежал на постели из листьев, накормленный, напоенный, с обмытыми ногами. На нём был надет красноармейский пояс с пристёгнутой настоящей кожаной кобурой, в кобуре лежал его жестяной наган. Вокруг сидели командиры, и он им рассказывал о немцах.
Подошёл Богарёв, и все встали.
— Ну, как аспирант? — спросил Богарёв. — Скоро папу увидишь. Наверное, даже завтра. Вы, товарищи, дайте путешественнику отдохнуть.
— Нет, я совершенно не хочу отдыхать, — сказал мальчик, — мы сейчас будем с капитаном в шахматы играть.
— Что, товарищ Румянцев, нашли себе нового партнёра? — спросил Богарёв.
— Да, вот приняли решение сыграть партию, — сказал Румянцев.
Они расставили фигуры, и Румянцев, нахмурившись, уставился на доску. Так прошло несколько долгих минут.
— Почему же вы не делаете хода? — спросил мальчик. Румянцев резко встал, махнул рукой и быстро пошёл в сторону леса.
— Ты не обижайся, мальчик, — сказал стоявший рядом сержант-артиллерист, — капитан комиссара своего вспомнил, всегда в шахматы играли.
А Румянцев шёл, не оглядываясь, и бормотал:
— Не играть нам во веки веков, Серёжа, не играть во веки веков.
XIX. Утром батальону драться
Казалось, лагерь в лесу бездействовал. Но никогда, пожалуй, в своей жизни Богарёв не уставал так сильно, как в эти дни подготовки к прорыву немецкой обороны. Он почти не спал ночами, мысль и воля его были напряжены. И напряжение его воли передалось всем — командирам и красноармейцам, всех охватило приподнятое настроение. Богарёв беседовал с красноармейцами, командиры вели учения, между отдельными подразделениями наладилась телефонная связь, радист принимал каждое утро сообщения Информбюро, их перепечатывали на пишущей машинке в нескольких экземплярах, и связной развозил их на захваченном у немцев мотоцикле по лесу, раздавал бойцам. С утра несколько мелких отрядов уходили на разведку, выслеживали немцев, узнавали о движении войск и обозов. Обмундирование бойцов было приведено в порядок, дисциплина установлена необычайно строгая. За неотдачу приветствия накладывались суровые взыскания, рапорты принимались по форме, малейшее нарушение каралось. Наименее обстрелянные, робкие люди постепенно приучались к опасным операциям: им поручалась борьба с немецкими связными-мотоциклистами, поимка связистов, уничтожение одиночных грузовиков. В первый раз их отправляли в сопровождении опытных разведчиков, а затем предлагали итти самим, действовать в меру собственной силы и на собственный страх. Вечером Богарёв беседовал с командирами, и его уверенность в грядущей победе, уверенность, выросшая на жестоком знании великих тягот первых месяцев войны, убеждала людей.
— Мне обидно, — сказал Румянцев, — что немцы всё твердят: война молниеносная, и назначают смехотворные сроки — тридцать пять дней для занятия Москвы, семьдесят дней для окончания войны, а мы, невольно утром, проснувшись, считаем — вот уже пятьдесят три дня воюем, вот шестьдесят один, вот шестьдесят два, а вот и семьдесят один. А они у себя, вероятно, говорят: ну что ж, не семьдесят, так сто семьдесят, эка беда. Ведь не в споре о календаре тут дело.
— Именно в споре о календаре, — сказал Богарёв, — опыт почти всех войн, которые вела Германия, показал, что она не может выиграть войну длительную. Стоит посмотреть на карту, чтобы увидеть, почему немцы говорят о молниеносной войне. Молниеносная война — для них выигрыш, длительная — поражение.
Богарёв оглядел командиров и сказал:
— Товарищи, сегодня должен вернуться боец, пошедший через фронт в штаб армейской группы. Я думаю, завтра мы выступим.
Он остался с Румянцевым. Они легли рядом на траву и начали рассматривать карту. Разведка, производившаяся дни и ночи, принесла им много сведений.
Румянцев безошибочно определил слабое место в немецкой линии фронта.
— Вот здесь, — сказал он, — подход через леса: нам будет удобно накапливаться, пройдём лесом до самой реки. Я вообще считаю, что если двигаться ночью, мы сможем перейти на наш берег без выстрела, проберёмся незамеченными.
— Вот так так! — удивлённо проговорил Богарёв. — Как же вы, товарищ Румянцев, чудесный советский командир, культурный и умный артиллерист, можете помыслить такую ересь?
— Какую? — удивлённо сказал Румянцев. — Какую ересь? Уверяю вас, что мы можем пройти ночью незамеченными. Тут очень жидко у противника, я ведь сам ходил, смотрел.
— Да, именно, именно в этом ересь.
— В чём же, товарищ комиссар?
— Да, чорт возьми! Регулярная часть находится в тылу у противника, а вы предлагаете ей ночью без выстрела проскользнуть. Упустить такую выгодную ситуацию? Да никогда! Мы не будем искать, где у немца пусто. Мы найдём, где у него сконцентрировано побольше техники, ударим с тыла, разгромим его и победоносно выйдем, нанеся ему жестокие потери. Как же иначе.?
Румянцев долго пристально смотрел в лицо Богарёва.
— Простите меня, — сказал он. — Ей-богу! Правильно, ведь можно ударить, а не проскальзывать.
— Это ничего, ничего, — проговорил задумчиво Богарёв, — инстинкт самосохранения часто шутит на войне шутки с людьми. Нужно всегда помнить, что мы здесь для смертной битвы, и только для неё, что окопы роются, чтобы стрелять из них, а не прятаться, что в щели лезть надо для того, чтобы сохранить себя для страшной атаки, которая будет через час. А людям в какую-то минуту начинает казаться, что блиндажи для того, чтобы прятаться, и только для этого… Эту философскую мысль можно выразить просто, — добавил он: — мы сидим в лесу в тылу у противника, чтобы внезапно напасть на него, а не для того, чтобы прятаться в лесу. Так ведь?
— Так, только так.
К Богарёву подошел лейтенант Кленовкин.
— Товарищ комиссар, разрешите к вам, — сказал лейтенант Кленовкин и посмотрел по привычке на часы, — гость к нам пришёл.
— Кто такой? — спросил Богарёв, всматриваясь в лицо стоявшего рядом с Кленовкиным военного. И вдруг обрадованно вскрикнул: — Да ведь это товарищ Козлов, наш знаменитый командир разведроты!
— Старший лейтенант Козлов, прибыл к вам по распоряжению командира сто одиннадцатого полка майора Мерцалова, — громко, чрезмерно чётко отрапортовал Козлов, и умные карие глаза его смеялись, как и в первый день их знакомства.
— Не столько прибыл, сколько дополз на брюхе, — негромко сказал он Румянцеву.
Козлов сел рядом с Богарёвым. Он начал подробно передавать план совместного удара, разработанный Мерцаловым. Пункт за пунктом рассказывал он сложную операцию. И время сосредоточения, и атаки, и система сигналов для согласованного действия были разработаны во многих деталях. Он очертил место, где будут действовать наши танки, откуда ударят артиллерия и миномёты, он объяснил, как будет перерезана дорога, по которой немцы попытаются подводить резервы, и как будет бить дивизионная артиллерия по пути возможного отхода немцев. Он передал Богарёву золотые часы и сказал:
— Это товарищ Мерцалов просил вам передать свои часы, а у него есть ещё никелированные, — они выверены секунда в секунду.
Богарёв взял часы, повертел их в руке, потом сверил стрелки со своими ручными часами, его часы отставали на четыре минуты.
— Хорошо, — проговорил он. Он рассмеялся и подумал про себя: «А может быть, и зря говорил я Мерцалову столько нехороших слов. Тайна сия велика есть!»
— Вы примете команду над нашим стрелковым батальоном, — сказал он Козлову, — а вам, товарищ Румянцев, надо будет, как только стемнеет, выступить: дорога для тяжёлых пушек по лесу нелёгкая.
— Дорога уже подготовлена, прорублена, кое-где устроены гати, — ответил Румянцев, у которого всегда всё было заранее готово.
— Очень хорошо, — сказал Богарёв, — вот одно нехорошо — курить нечего. У вас нет папирос, товарищ Козлов?
— Я ведь не курю, товарищ комиссар, — ответил виноватым голосом Козлов, — вы бы меня казнили, если б слышали, как Мерцалов уговаривал меня взять для вас пару коробок папирос, а я отказывался, говорил: «Есть у них табак, есть».
— Эх, ты, — проговорил сердито Румянцев, — а мы здесь клевер курим.
— Да, это вы нам удружили, — сказал Богарёв, — а какие папиросы давал вам Мерцалов?
— Голубая коробочка и белые горы с всадником; «Казбек», что ли.
— Ну, ясное дело, — «Казбек», — сказал Богарёв, — как вам это понравится, товарищ Румянцев?
— Да, уж, видно, не везёт, — ответил Румянцев смеясь, — ты, вероятно, единственный командир-разведчик в армии, который не курит. И подлая судьба нас свела с тобой.
— Вы, товарищи, идите, дел много, — проговорил Бога рёв.
Козлов, отойдя на несколько шагов, спросил негромко:
— А что с Мышанским?
Румянцев рассказал.
— Странное дело, — сказал задумчиво Козлов, — я ведь Мышанского знаю давно, ещё по мирному времени. Был рабочим. И его всегда не любили за казенный оптимизм. Кричал «ура», и только. Всех врагов готов был шапками закидать. А потом пришли испытания — и скис сразу.
— Вполне понятно, — ответил Румянцев, — оптимизм его был фальшивым. Это, как наш комиссар говорит, он перешёл в свою противоположность.
— А комиссар как? — спросил Козлов.
— О, комиссар — силища! — сказал Румянцев и вздохнул. — А Невтулова Серёжки-то моего нет, убили.
— Я знаю, — сказал Козлов, — хороший был парень Невтулов. Накрылся, бедняга.
Через некоторое время красноармейцам объявили о ночном выступлении. Начались сборы. Лица людей, как всегда перед серьёзным делом, стали нахмурены и задумчивы. В полусумраке лиственной тени и заката они казались особенно тёмными, похудевшими, возмужавшими.
Этот лес казался людям обжитым, знакомым домом, — и стволы деревьев, под которыми шли долгие беседы, и поросшие мхом ямы, где так мягко и спокойно спать, и поскрипывание сухих ветвей, и шум листвы, и окрики часовых, стоявших за орешником, и малинник, и грибные места, и стук дятлов, и кукованье кукушек… Утром бойцов уж не будет в этом лесу. И многим предстояло встретить смерть и восход солнца на широком поле.
— На-ка, возьми табачницу на завтра, — в случае убьют меня, себе оставишь, — жалко, вещь больно хороша, — говорил один земляк другому, — ведь резиновая вещь, полторы пачки махорки входит, воды, сырости не боится.
— Убить и меня могут, — с обидой ответил второй.
— Да ты ведь в санитарах, а мне первому подниматься. Мой шанец больше.
— Ладно, давай. Вспоминать тебя буду.
— Только смотри, в случае жив останусь, — отдай. При свидетелях тебе даю.
Все стоявшие подле рассмеялись.
— Эх, покурить охота, — сказали сразу несколько голосов,
Богарёв обходил людей, прислушивался к разговорам, шёл дальше, снова слушал.
И спокойное, суровое сознание решившейся на смертный бой народной силы охватывало его. Он видел и чувствовал это.
Заходящее солнце пробилось меж стволов деревьев, на миг осветило загорелые лица бойцов, чёрные винтовочные стволы, поиграло на медных тельцах патронов, которые раздавал старшина, осветило белые бинты перевязок на раненых. И сразу, словно возникшая от этого вечернего солнца, послышалась песня. Её затянул Игнатьев. Чей-то голос подхватил, затем третий, четвёртый… Люди, певшие песню, не были видны за деревьями, и казалось, сам лес пел печально, величаво…
К Богарёву подошёл красноармеец Родимцев.
— Товарищ комиссар, я к вам от бойцов посланный, — сказал он и протянул Богарёву красный матерчатый кисет, вышитый зелёными крестиками.
— Что это? — спросил Богарёв.
— Бойцы промеж себя_ решили, — сказал Родимцев, — как мы тут все без табаку терпим, — комиссару нашему собрать покурить.
— Что вы, — сказал Богарёв дрогнувшим голосом, — последний табак. Не возьму, я ведь знаю, сам курильщик.
Родимцев сказал тихо:
— Товарищ комиссар, бойцы от чистого сердца к вам. Обидите их сильно.
Богарёв посмотрел на серьёзное, торжественное лицо Родимцева и молча взял лёгонький кисет.
— Да и табаку-то у всех с полстакана набралось — аккурат в грузовик, где курево было, немец пустил зажигательный, по самому больному месту, — знал, куда стукнуть. А бойцы говорят: «Наш комиссар все ночи не спит, карту смотрит, вот тут-то главное ему покурить».
Богарёв хотел поблагодарить Родимцева и вдруг почувствовал, что волнение сжало ему горло.
Впервые за время войны слёзы выступили у него на глазах.
Песня печальная, медленная раздавалась всё громче, точно её раздувало заревом красного вечернего солнца.
XX. Познай самого себя
Мерцалов проснулся задолго до рассвета. В сумерках на столике блиндажа светлел белый алюминиевый котелок, лежала карта, на двух углах её лежали ручные гранаты, чтобы не топорщились края новой бумаги. Мерцалов, глядя на новую карту, усмехнулся. Это начальник штаба вчера привёз из топографического отдела штаба армии новые листы и торжественно сказал: — Товарищ Мерцалов, по старой карте мы всё время отмечали отступление. Я привёз новую. Мы её завтра обновим боем по прорыву германского фронта. — Они сожгли старую карту, замусоленную, стёртую на сгибах, отразившую на своей поблёкшей, тряпично-мягкой бумаге кровавые бои отступавшей Красной Армии. Она всё видела, старая сгоревшая карта, — на неё смотрел Мерцалов на рассвете 22 июня, когда фашистские бомбардировщики перелетели границу и появились над спавшими артиллерийскими и стрелковыми полками, она видела дожди и грозы, её обесцвечивало солнце в жаркие июльские полдни, её трепал ветер на широких украинских полях, на неё поверх головы командиров смотрели высокие старые деревья в белорусских лесах.
— Что ж, — сказал Мерцалов и неодобрительно посмотрел на белый котелок. «Красить их надо в зелёный цвет, а то демаскируют бойца, — то солнце на нем заиграет, то белеет среди ночи», — подумал он.
Мерцалов достал из-под нар свой чемоданчик и раскрыл его. Пахнуло смешанным запахом сыра, копчёной колбасы, одеколона, душистого мыла. Каждый раз, раскрывая чемодан, Мерцалов вспоминал жену, укладывавшую его вещи в день нападения немцев. — Что ж, — снова сказал Мерцалов и достал пару белья, носки, чистые портянки. Он зажёг свечу и побрился. После этого он вышел наверх.
До рассвета оставалось около часа, восток был ещё тёмен и спокоен, как запад. Широкая ровная мгла лежала над землёй. Холодный тёмный туман стлался меж вётел и камышей на берегу реки. Нельзя было понять, облачно или ясно тёмное небо, спокойное и неподвижное, как глаз слепого.
Мерцалов разделся и, шумно дыша, прошёл по холодному, влажному песку к воде. — Ох ты, — сказал он, ощутив телом воду. Он долго мылил голову, шею, уши, тёр мочалкой грудь. Темная ночная вода вокруг него поголубела от мыла. Помывшись, он надел чистое бельё и вернулся в блиндаж. Он сел на нары, выбрал из пачки накрахмаленный белый воротничок и подшил его к ворожу гимнастёрки. Потом он вылил из бутылки на ладонь остатки одеколона и смочил им щёки, попудрил бритые места, собрав пудру, сохранившуюся в рубчиках круглой коробочки. После этого он тщательно обтёр щёки влажным полотенцем и начал неторопливо одеваться, — надел синие костюмные брюки, габардиновую гимнастёрку, новый ремень. Долго чистил сапоги: сперва стёр с них пыль, навёл глянец щёткой и суконкой. После чистки сапог он снова вымыл руки, причесал влажные волосы, встал во весь рост, проверил револьвер и вложил его в кобуру, взял из чемодана пистолет и опустил в карман, переложил фотографию жены и дочери в карман гимнастёрки.
— Ну, вот так, — сказал он, посмотрел на часы иразбудил начальника штаба.
Начинался рассвет. Холодный ветер зашумел в камышах, подвижной сетью лёг на реку, пошёл скорым шагом по широкому полю, легко перепрыгивая через окопы, противотанковые рвы, крутя песчаную пыль над холмиками блиндажей, гоня кусты перекати-поля на заграждения из колючей проволоки.
Солнце поспешно поднималось в небо, словно старый судья над огромным земным полем, не знающий волнений и страстей, готовый занять своё высокое привычное место. Тёмные ночные облака накалялись, как холодные глыбы угля, горели мрачным и тусклым кирпичным пламенем. Всё в этом утре казалось зловещим, предвещающим тяжкий труд битвы и смерть для многих. То было простое осеннее утро. По этой земле, точно в такое же утро год тому назад шли, позёвывая, приехавшие гостить в деревню рыболовы, и земля эта, и небо, и солнце, и ветер полны были для них мира, покоя и сельской красоты. Но в это лето всё стало зловещим: и колодцы, таившие в своей прохладной зеленовато-синей тьме отраву, и стоги сена, освещенные луной, и яблоневые сады, и белые стены хат, забрызганные кровью расстрелянных, и тропинки, и ветер, шумящий в проводах, и опустевшие гнёзда аистов, и баштаны, и красная гречка — весь чудный мир украинской земли, мокрой от крови и посолоневшей от слёз…
Атака началась в пять часов утра. Чёрные штурмовые самолёты прошли над пехотой. Это были новые, недавно прибывшие на фронт машины. Они шли низко, и пехота видела притаившиеся у них под крыльями готовые к падению бомбы. Дымы поднялись над позициями немцев, и низкий перекатывающийся грохот прошёл по всему широкому горизонту. Одновременно с первым бомбовым ударом самолётов открыли огонь батареи полковой артиллерии. Недавно пустой воздух, по которому бежал лишь утренний ветер, весь наполнился свистом и гулом разрывов, ветру стало тесно.
Мерцалову очень хотелось пойти с первым батальоном в атаку, но он сдерживал себя. В эти минуты он впервые внутренне почувствовал всю важность своего пребывания в штабе. «А ведь прав он был, чорт», — сердито подумал Мерцалов, вспоминая свой тяжёлый ночной разговор с Богарёвым. Он каждый день вспоминал этот мучивший его разговор. И сейчас он чувствовал и видел, сколько нитей сражения собралось в его руках. Хотя каждый командир имел с вечера точную задачу и отлично знал, что ему нужно делать, хотя заявки на бомбардировщики, штурмовики и истребители были весьма точно разработаны, и хотя командир батальона тяжёлых танков майор Серёгин больше часа просидел над картой с Мерцаловым, но с первых же минут после начала сражения энергично начал действовать противник, и это сразу потребовало быстрого напряжённого управления всей сложной и подвижной системой.
Уже два раза налетали советские самолёты на передний край немецкого расположения, и чёрный дым стоял над немецкими окопами и блиндажами. Но когда стрелковые части пошли вслед за тяжёлыми танками в атаку, немцы открыли мощный огонь, из всех артиллерийских, миномётных батарей, противотанковых пушек. Командиры батальонов звонили Мерцалову, говорили, что пехота залегла — огонь противника настолько плотен, что продвижение невозможно. Мерцалов поднялся, отстегнул кобуру револьвера: надо поднимать пехоту и во что бы то ни стало прорваться вперёд. Это казалось самым простым для человека, не знавшего страха: кинуться в боевое пекло. На мгновение он почувствовал злое разочарование: неужели зря он так тщательно и долго готовил сегодняшнее сражение, неужели зря он впервые с профессорской тщательностью разрабатывал детали готовящегося боя?
— Нет, товарищ начальник штаба, — сказал он сердито, — война была и будет искусством не бояться врага и смерти. Надо подымать пехоту.
Но он не ушёл из штаба. Снова зазвонил телефон, за ним тотчас же второй.
— На противника, сидящего в окопах, слабо воздействуют удары с воздуха, он сохраняет свою огневую силу, — говорил Кочетков, — пушки и миномёты бьют беспрерывно.
— Танки встречают сильный огонь артиллерии, пехота залегла, а танки оторвались, ушли вперёд, у двоих подбиты гусеницы, — докладывал Серёгин. — Считаю дальнейшее продвижение нецелесообразным.
И снова зазвонил телефон: представитель военно-воздушных сил спрашивал об эффекте бомбёжек и не нужно ли изменить систему налётов, так как лётчики докладывают: пехота не продвигается, и артиллерия противника сохраняет активность. А в это время в штаб пришёл подполковник, представитель артиллерийского управления, — у него было несколько важных, требующих немедленного решения, вопросов.
Мерцалов закурил папиросу, нахмурившись, сел за стол.
— Повторим налёты на пехоту? — спросил начальник штаба.
— Нет, — ответил Мерцалов.
— Снова предложим пехоте двигаться вперёд, передовые подразделения залегли в трёхстах метрах от противника. Еще сто метров можно взять рывками, — предложил начальник штаба.
— Нет, — ответил Мерцалов.
Он задумался так глубоко, что не заметил, как вошёл в штаб дивизионный комиссар Чередниченко. Не посмотрел на него и начальник штаба. Дивизионный комиссар прошёл мимо вытянувшегося часового в блиндаж; сел в тёмном уголке возле нар, где обычно сидели посыльные, и, посапывая трубкой, спокойно и внимательно слушал телефонные разговоры, наблюдая за Мерцаловым и начальником штаба.
Чередниченко приехал к Мерцалову, минуя командный пункт Самарина. Он хотел поспеть к началу атаки и, зная, что Самарин обязательно побывает на месте проведения важной операции, решил встретиться с командармом на передовой.
Мерцалов смотрел на карту, и его обострившаяся до боли мысль представляла сражение как единое целое, где, подобно переменному магнитному силовому полю, мгновенно то возникали, то ослабевали и меркли мощные узлы напряжения. Он увидел, раскрыл стержень обороны противника, стержень, разрушавший своим остриём переменчивые напряжения атаки. Он увидел, как отдельные слагаемые, накладываясь одно на другое, лишь сосуществовали механически, не интерферируя подобно усиливающим друг друга колебаниям с одинаковой длиной волны. Мозг его воссоздал в динамической проекции все многочисленные составляющие этого сложного боя. Он соразмерял упорную живую силу с рёвом идущих самолётов, рокочущих тяжёлых танков, огневое давление лёгких и тяжёлых батарей, он ощутил потенциальную энергию войск Богарёва, находившихся в тылу у противника. Его словно осветило всего внутри ярким радостным светом. Решение необычайно простое, математически неопровержимое, пришло к нему. Так учёный математик или физик в первой стадии исследования бывает подавлен сложностью и противоречивой тяжестью элементов, которые открывает он во внешне-простом и обычном явлении. Учёный с великим напряжением соединяет, пытается привести во взаимосвязь эти рассыпающиеся, противоречащие друг другу слагаемые; они выскальзывают, упрямые, быстрые. И как награда за тяжкий труд анализа, за напряжённые поиски решения, приходит ясная и простая мысль, уничтожающая всю сложность и дающая единственно правильное, восхитительное в своей неопровержимой простоте решение. Этот процесс называется творчеством. И нечто подобное переживал Мерцалов, решая сложную, возникшую перед ним задачу. Никогда, пожалуй, не испытывал он такого волнения и такой радости. Он сказал о своём плане начальнику штаба.
— Но ведь это находится в противоречии… — и начальник штаба перечислил, в противоречии с чем находится предложение Мерцалова.
— Что ж, — сказал Мерцалов, — помните, как сказал Бабаджаньян: есть одна норма, и эта норма — победа.
На мгновение он задумался. Да, для того чтобы принимать ответственное решение за штабной картой, иногда требуется больше силы и мужества, чем для подвига на поле битвы. Но Мерцалов нашёл в себе это мужество, — мужество ответственного решения. Он знал, что русский командир в тяжёлом положении искал оправдания и выхода в том, что подвергал самого себя опасности смерти. Если после сражения у командира спрашивали ответа, он говорил: когда я видел, что дело плохо, я шёл впереди всех. Что мог я ещё сделать? Но Мерцалов знал: эта великая жертва не могла ничем исчерпать ответственности за исход сражения.
Дело обстояло так. Удары авиации не могли подавить немецкой пехоты, закопавшейся в землю. Немецкая артиллерия и миномёты препятствовали движению танков, отрывали наступавшую пехоту от машин. Пехотные подразделения, прорвавшиеся вперёд, ослабленные и подавленные огнём артиллерии и миномётов, попадали под удар немецких автоматов и пулемётов. Артиллерия наша, превосходившая немецкую почти вдвое, распыляла свои силы, ведя огонь по широкому фронту переднего края немецкой обороны. Мерцалов видел, что огневые усилия русских самолётов, танков, артиллерии и пехоты, равномерно распределённые по всем элементам немецкой обороны, лишь четвёртую либо пятую часть своей мощи отдавали борьбе с немецкими пушками и миномётами, которые и следовало сломить. В борьбе с ними был ключ к успеху на первом этапе атаки.
И Мерцалов, не повышая голоса, передавал указания полковой и приданной полку дивизионной артиллерии, тяжёлому танковому батальону, штурмовикам, бомбардировщикам и истребителям, по заявкам полка бомбившим и обстреливавшим немцев. Он приказал пехоте отойти и сосредоточиться в безопасных укрытиях для удара по тем местам, где были собраны главные силы немецкой артиллерии и миномётов. Мерцалов знал, что немцы, надеясь на мощь пушек, в этих местах оставили лишь небольшие пехотные заслоны. Он знал, что силой огня, имевшегося в его распоряжении, можно без труда подавить немецкую артиллерию. Он избрал для атаки самый сильный участок немецкого фронта, так как понял и ощутил возможность внезапно превратить его из сильного в самый слабый, подготовленный для прорыва.
Начальник штаба внутренне ахнул, слушая распоряжения Мерцалова. Пехоте сосредоточиться против артиллерийских и миномётных батарей! Отойти без боя с занятых большой кровью участков!
— Товарищ Мерцалов, неужели отходить пехоте? — спросил он.
— Тридцать пять лет я Мерцалов, — сказал командир полка.
— Товарищ Мерцалов, мы продвинулись на восемьсот метров вперёд, неужели не закрепим?
— Приказ мной отдан, менять я его не намерен…
— Но вас обвинят, — тихо сказал начальник штаба, — вы знаете, как Самарин строг. А здесь, в самом начале атаки, да еще после недавнего нашего неудачного отхода, вы ведь ставите всё на карту.
— Вот на эту карту, — сумрачно сказал Мерцалов, указывая на стал, — и бросьте, Семён Гермогенович, об этом говорить: я всё знаю, не маленький, мне не до шуток.
У входа в блиндаж послышались громкие голоса. Мерцалов и начальник штаба быстро поднялись, к ним шёл генерал Самарин.
Он посмотрел на расстроенное лицо начальника штаба и, поздоровавшись кивком головы, спросил:
— Ну как, прорвали?
— Нет, товарищ генерал-майор, — ответил Мерцалов, — ещё не прорвал, но прорву,
— Где ваши батальоны? — отрывисто спросил Самарин. Подъежая к штабу полка, он встретил отходящие танки и пехоту, спросил лейтенанта, по чьему приказу они отходят.
— По приказу командира полка, Героя Советского Союза майора Мерцалова, — чётко отрапортовал лейтенант.
И ответ этот привёл Самарина в бешенство.
— Где ваши батальоны, почему они отходят? — страшным своим спокойствием голосом спросил Самарин.
— Отходят планово, по моему приказу, товарищ гененерал-майор, — ответил Мерцалов и вдруг увидел, что Самарин, вытянувшись, смотрит на идущего к нему из затемнённого угла блиндажа военного.
Он всмотрелся и тоже вытянулся: перед ним стоял член военного совета фронта.
— Здорово, здорово, Самарин, здравствуйте, товарищи, — сказал Чередниченко, — пришёл, не поздоровавшись, к вам в блиндаж, спасибо, часовой пропустил, да и сидел тут на нарах, смотрел, как вы воюете.
«Всё равно я прав, — подумал упрямо Мерцалов, — докажу».
Чередниченко поглядел на хмурого Самарина, на взволнованного начальника штаба и сказал:
— Товарищ Мерцалов!
— Слушаю, товарищ дивизионный комиссар, — ответил Мерцалов.
Мгновение дивизионный комиссар смотрел ему прямо в глаза. И в этом спокойном и немного грустном взгляде Мерцалов с удивлением и радостью прочёл, что дивизионный понял, какой важный и торжественный момент происходит в боевой жизни командира полка.
— Товарищ Мерцалов, — медленно повторил дивизионный комиссар. — Я радуюсь за вас. Вы руководите боем отлично, я уверен в вашем успехе сегодня. — Он мельком посмотрел на Самарина и сказал: — От лица службы — спасибо вам, майор Мерцалов.
— Служу Советскому Союзу, — ответил командир полка.
— Ну, что ж, Самарин, поехали? — сказал Чередниченко, обнимая генерала за плечо. — Разговор у нас есть. Да и надо людям работать дать, а то понаехало начальство, они стоят навытяжку, а дела у них много, пусть поработают.
Выходя из блиндажа, он подошёл к Мерцалову и спросил негромко:
— Ну, как ваш комиссар, майор? — и, улыбаясь, совсем тихо добавил: — Разок поругались с ним? Верно говорю? Было?
И Мерцалов почувствовал, что Чередниченко словно присутствовал при ночном чаепитии, словно напомнил о понятой им тайной связи между той ночью и сегодняшним днём.
XXI. В штабе Брухмюллера
Командир немецкой части, готовившейся к форсированию реки, полковник Брухмюллер, принимал у себя приехавшего накануне вечером представителя генерального штаба полковника Грюна. В утро внезапно начавшегося контрудара русских они завтракали и пили кофе в штабе, разместившемся в помещении школы. Брухмюллер и Грюн давно знали друг друга и накануне допоздна беседовали о фронтовых и внутренних делах. Грюн занимал положение куда лучше и выше, чем фронтовой полковник, но он уважал хозяина. Брухмюллер был известен в германской армии как один из способных командиров, большой мастер артиллерийских боёв. О нём как-то сказал генерал-полковник Браухич: «Этот Брухмюллер недаром носит свою фамилию». Очевидно, Браухич намекал на знаменитого однофамильца полковника, прославившегося умением организовывать массированные удары тяжёлой артиллерии, предшествовавшие наступлениям на западном фронте в войне 1914 года. И худой Грюн, пренебрегая сложной системой градаций, которая существовала в армии и разрешала вести доверительные беседы лишь с людьми своего круга, откровенно рассказывал толстому лысому полковнику о настроениях высшего штабного офицерства ивнутренних немецких делах. Рассказы эти сильно разволновали и огорчили Брухмюллера.
— Да, — сказал он с простотой, немного шокировавшей Грюна, — пока мы здесь воюем, там уже идёт грызня. В конце концов эти интриги — промышленники, национал-социалисты, вся эта фронда, контрфронда в генералитете запутают дело. Надо ясно сказать: Германия — это армия, действующая армия — это Германия. Мы, и никто другой, должны всё решать и определять.
— Нет, — возразил Грюн, — я вам завтра расскажу об обстоятельствах, не менее важных, чем успехи на фронте, которые с каждым днём становятся сложней и нетерпимей для высшего офицерства. Бывают дни, когда обстановка становится прямо-таки парадоксальной.
Но он не продолжил на утро беседы, так как русские начали внезапно наступать, и, естественно, интерес обоих полковников приковался к событиям дня.
Связь работала превосходно, и Брухмюллер, сидя в штабе, имел полную картину происходившего сражения; радио, телефон каждые пять-шесть минут доносили о ходе боя.
— Русские обычно применяют фронтальное давление, равномерно распределяя его по всей линии. Они это называют «бить в лоб», — говорил Грюн, рассматривая карту, — и очевидно, сами видят неэффективность таких действий. В их приказах об этом часто, говорится. Но приказы остаются на бумаге. В этой тактике проявляется национальный характер русских.
— О, характер, — сказал Брухмюллер, — у русских странный характер. Но, знаете, в боях мне никогда не приходилось понять характера командира, дерущегося со мной. Он расплывчат, туманен. Я не могу уловить, что он любит, какой вид оружия он предпочитает. Но меня это не совсем радует, я не люблю тумана.
— О, тут нечего ждать, — сказал Грюн, — мы им навязали всю сложность нашей современной немецкой войны. Самолёты, танки, десанты, манёвр, комбинированные удары, динамическая трёхмерная война…
— Кстати на нашем фронте у них появилось изрядное количество тяжёлых танков и новых самолётов. И особенно эффектны эти бронированные чёрные машины, — «шварцтодт» прозвали их солдаты.
— Да, но они мало что могут сделать, поглядите, — сказал Грюн, показывая донесение, только что отпечатанное писарем.
Брухмюллер улыбнулся.
— Надо откровенно сказать, — проговорил он, — дело здесь построено так, что и я, и вы, столкнувшись с такой вот системой обороны, пришли бы в отчаяние.
И, навалившись широкой грудью на стол, он начал с увлечением рассказывать о своей системе огня.
— Это напоминает детскую игрушку, которой забавляется мой сын, — сказал он, — одно кольцо вдето во второе, второе вдето в третье, а третье снова соединено с первым. Поди догадайся, как разъединить их! Порвать их трудно — они из стали. А ключ в том, что кольца рвутся в том месте, где они кажутся наиболее солидными и массивными.
Телефон и радио приносили из батальонов, рот, батарей хорошие известия: атака русских выдыхалась.
— Приходится удивляться, как им удалось пройти на восемьсот метров. В смелости я им не откажу, — сказал Грюн, закурив папиросу, и спросил: — Когда вы предполагаете форсировать реку?
— Через три дня, — ответил Брухмюллер, — я имею приказ. — Он внезапно пришёл в хорошее настроение и погладил себя по животу. — Что бы я делал, сидя в Германии с моим аппетитом, наверное, погиб бы, поверите, мне уже хочется обедать, — сказал он, — а здесь у меня всё отлично поставлено. Я воюю с первого сентября тридцать девятого года и теперь, ей-богу, могу быть консультантом по кухне в лучшем международном отеле. Я завёл правило: есть национальные блюда тех стран, где воюю. В еде я космополит. — Он посмотрел искоса на Грюна — может ли худой человек, пьющий лишь чёрный кофе и заказавший себе на обед бульон с гренками и нежирную отварную курицу, интересоваться такими вещами? Может быть, слабость к вкусной еде, слабость, которую Брухмюллер почитал в себе, покажется Грюну неприятной?
Но Грюн, улыбаясь, слушал его: ему нравился оживлённый рассказ полковника о еде. Об этом будет смешно и интересно рассказать в Берлине.
И Брухмюллер, посмеиваясь, рассказывал:
— В Польше я ел зразы и фляки — это противно, но чертовски вкусно, клёцки, кнышки, сладкие мазурки, пил старку; во Франции — всевозможные рагу, легюмы, артишоки, тонкие жаркие, но и попил я таи поистине императорских вин; в Греции от меня воняло чесноком, как от старой торговки, и я боялся ожечь себе нутро непомерным количеством перца. Ну, а здесь — поросята, гуси, индюки, — очень вкусная штука, ва-ре-ники — это вареное белое тесто, начинённое вишнями либо творогом и залитое сметаной. Вы сегодня обязательно попробуете.
— О нет, нет, — смеясь, сказал Грюн и поднял, как бы отстраняя опасность, руку, — я хочу увидеть Берлин, детей и жену.
А в это время адъютант сообщил, что русские танки отходят, прикрывая своим огнём отступление пехоты, что авиация русских больше не появляется над расположением пехоты, что артиллерия всех калибров прекратила огонь.
— Ну, вот вам пресловутый туман, — сказал Грюн.
— Нет, это не то, — наморщив лоб, ответил Брухмюллер. — Я знаю упорство Ивана.
— Всё ещё верите в туман? — насмешливо спросил Грюн.
— Я верю в наше оружие, — ответил Брухмюллер, — возможно, что они успокоились, возможно, что нет. Скорее, — нет. Но для меня важно не это, а вот что, — и он ударил тыльной частью руки по карте.
Там жирным фаберовским карандашом были гроздьями наведены, меж зелени леса и голубизны вод, красные кружки, обозначавшие германские артиллерийские и миномётные позиции.
— Вот во что я верю, — повторил Брухмюллер.
Он сказал эти слова медленно и значительно. И Грюну показалось, что Брухмюллер имеет в виду не только военные усилия русских, но и предмет их ночных разговоров.
Через пятнадцать минут телефон известил, что русские снова проявляют активность.
Первый удар бомбардировщиков был нанесён по батареям тяжёлых пушек. Тотчас за этим пришло сообщение, что русские тяжёлые танки нащупали расположение батальонных миномётов и открыли огонь из семидесятипятимиллиметровых орудий. И сразу же после этого спокойный голос майора Швальбе сообщил, что он со своими стопятимиллиметровыми пушками попал под шквальный огонь русской тяжёлой артиллерии.
Брухмюллер сразу понял, что русские усилия не распределены равномерно вдоль фронта, а имеют направленность. И он словно ощутил сильный тревожащий укол острия нащупавшего его оружия. Он был настолько прочно и привычно связан с войсками, что это чувство приобрело физическую реальность, и он невольно провёл рукой по груди, желая отстранить мешающее и беспокоящее ощущение. Но ощущение продолжалось.
Едва улетели русские бомбардировщики, как над артиллерийскими позициями появились истребители. Командиры батарей сообщали, что не могут вести огня: прислуга прячется в укрытия.
— Вести огонь во что бы то ни стало, с максимальной интенсивностью, — приказал полковник.
Он сразу весь напрягся. Чорт побери, ведь недаром он носит фамилию Брухмюллер! Недаром его знают и уважают в армии. Он был действительно опытным, решительным и умелым военным. Ещё в академии о нём говорили преподаватели как о представителе подлинного боевого германского офицерства.
Вся большая налаженная, смазанная и отлично действующая штабная машина словно дрогнула от порыва его воли и сразу заработала. Зазвонили телефоны, адъютант и младшие офицеры деловито ходили от передатчиков полевого телеграфа в комнату полковника, безумолчно тараторил радиопередатчик, связные мотоциклисты, торопливо хлебнув русского шнапса, поплотней надвинув пилотки, выезжали из школьного двора, пыля, мчались по дорогам и тропинкам.
Брухмюллер лично говорил по телефону с командирами батарей.
Едва ушли русские истребители, как над артиллерийскими позициями снова появились пикирующие бомбардировщики. Брухмюллер понял: русский командир задался целью сломить и подавить его главные средства огня. Орудие за орудием выходило из строя. Две батареи миномётов вместе с прислугой погибли. Русские методически нащупывали одну огневую позицию за другой.
Брухмюллер вызвал пехотный батальон, стоявший в резерве, но через несколько минут ему сообщили, что чёрные русские штурмовики налетели на бреющем полёте на подходившую к фронту колонну грузовиков и засыпали её снарядами и пулемётными очередями. Брухмюллер приказал бросить грузовики и двинуться пешком. Но и это оказалось невозможным: русские открыли сосредоточенный огонь по дороге и сделали её непроходимой.
Впервые полковник испытал чувство связанности. Чья-то воля мешала ему, путала его распоряжения. Невыносимо было чувство, пусть даже минутного, преимущества над собой военного человека по ту сторону фронта.
Ему внезапно вспомнилось, как год тому назад, когда он был во Франции, ему захотелось присутствовать при необычайно сложной операции, которую производил приехавший на фронт знаменитый профессор, мировой авторитет по хирургии мозга. Профессор ввёл в нос спящему пациенту странный тонкий и гибкий инструмент, нечто среднее между иглой и ножом, и своими быстрыми пальцами вгонял эту блестящую штуку всё глубже и глубже в нос больному. Брухмюллеру объяснили, что поражённое место находится где-то повыше затылочной кости, и профессор ведёт свой гибкий инструмент к больному месту между черепной коробкой и головным мозгом. Брухмюллера поразила эта операция. И сейчас ему показалось, что тот воюющий против него имеет такое же острое, прислушивающееся лицо, такие же быстрые пальцы, как этот врач, ведущий в темноте свой стальной инструмент среди драгоценных нервных узлов и нитей тонких сосудов.
Полковник раздражённо позвал адъютанта:
— Зачем вы здесь, вы ведь артиллерист, вы офицер, вы лично передали мне сообщение о гибели трёх командиров батареи и героической смерти майора Швальбе, моего лучшего боевого помощника. Ваш воинский долг требует, чтобы вы сами попросили меня откомандировать вас на линию огня. Или вы думаете, что ваши военные обязанности ограничиваются расстрелами старух и мальчишек, заподозренных в симпатиях к партизанам?
— Господин полковник, — с обидой начал адъютант, посмотрел на Брухмюллера и проговорил поспешно: — Господин полковник, имею честь просить вас отправить меня на боевую линию.
— Ступайте, — сказал Брухмюллер.
— Что происходит? — спросил Грюн.
— Происходит то, что этот русский наконец-то проявил свой характер, — ответил Брухмюллер.
Он снова склонился над картой. Противник спокойно развивал игру. Брухмюллер теперь видел его лицо. «Пехота русских перешла в атаку на участке наших артиллерийских позиций», — сообщила лента полевого телеграфа. В эту минуту вбежал офицер и крикнул:
— Господин полковник, с тыла бьёт тяжёлая артиллерия русских!
— Нет, я переиграю его, — убеждённо сказал Брухмюллер. — Со мной ему не справиться.
Ветер хлопал незакрытыми окнами, поскрипывали двери, ветер шелестел большой учебной картиной на стене. Коричневая мохнатая голова человеческого пращура на ходившей от ветра бумаге словно производила упрямые жевательные движения своими мощными челюстями.
XXII. Смерть не победит!
Наблюдатели Румянцева сидели совсем близко от немцев. Лейтенант Кленовкин, лёжа в кустах, видел, как два офицера, выйдя из подземного укрытия, пили кофе, курили. Он слышал их слова, видел, как телефонист докладывал им, и один из офицеров, очевидно, старший, передавал телефонисту распоряжения. Кленовкин с огорчением посмотрел на свои часы: зря он не изучал в своё время немецкий язык, — ведь сейчас мог бы он от слова до слова подслушать немецкие разговоры. Гаубицы стояли на лесной опушке в тысяче метров от того места, где лежал Кленовкин. Там же сосредоточилась пехота. Раненых тоже подвезли поближе: они лежали на носилках и в грузовиках, подготовленные к тому, чтобы в любую минуту двинуться вперёд вслед за бросившейся в прорыв пехотой.
Телефонист Мартынов, лежавший рядом с Кленовкиным, с особым интересом смотрел на немецкого телефониста. Его смешил и сердил этот немец, занимавшийся сходной с ним профессией.
— Хитрая морда, видать, — пьяница, — шептал Мартынов, — а пусти его на наш аппарат — не поймёт, немец-то.
Необычайное напряжение охватило всех, начиная от лежавшего рядом с немецким блиндажом Кленовкина и кончая ранеными и мальчиком Лёней, ожидавшими в полутёмном лесу начала атаки. Все слышали канонаду, стрельбу автоматов и пулемётов, разрывы воздушных бомб. Часто над головами красноармейцев с рёвом пролетали краснозвездные самолеты, делавшие развороты к немецким позициям. Большого труда стоило людям сдерживать себя — не помахать руками, не крикнуть, когда машины переходили в пике над линией немецких окопов.
Богарёв волновался не меньше других. Он видел, что и Румянцев и бесстрашный смешливый Козлов напряжены и измучены ожиданием. Прошли условленные этапы расписанной заранее атаки. Прошло условленное время совместного удара, а сигнал всё не подавался. Когда шум боя усиливался, командиры прерывали разговор и вслушивались, всматривались. Но нет. Мерцалов не звал их.
Необычайно и странно воспринимался на слух этот бой войсками, находившимися в тылу у немцев. Все звуки проходили с обратным знаком: разрывы снарядов были русскими, орудийные залпы шли от немцев, над головой иногда свистела залётная пуля, и это был свист русских пуль, а треск автоматов и пулемётные очереди немцев воспринимались особенно зловеще и тревожно. И эта необычность, перевёрнутость звуков боя тоже волновала людей.
Красноармейцы лежали за деревьями, в кустах, в высокой не снятой конопле и слушали, напряжённо всматривались в ясный утренний воздух, лишь местами темневший от дыма и земной пыли.
О, как хороша была в эти минуты земля! Как благостны казались людям её тяжёлые складки, жёлтые пригорки, овражки, поросшие репейником и пыльными лопухами, лесные ямы. Какой чудесный запах шёл от земли — лиственной прели, сухой пыли и влажной лесной сырости, запах мирного праха и грибов, сухих ягод и многажды превшего и вновь высыхавшего хвороста. Ветер приносил с поля тёплый и печальный запах вянущих цветов и сохнущих трав; в полутьме леса, внезапно пронзаемой солнечным светом, вдруг пыльной радугой заблестит увлажнённая росой паутина, словно дохнёт чудо спокойствия и мира.
Вот лежит, уткнувшись лицом в землю, Родимцев. Спит он, что ли? Нет, его глаза внимательно смотрят в землю, на стоящий подле куст шиповника. Он шумно дышит, втягивает в себя запах земли. Он смотрит с интересом, жадно и почтительно на дела, происходящие вокруг него: муравьи колонной идут неясным для человеческого глаза трактом, волокут сухие травинки, палочки. «Может быть, у них тоже война, — думает Родимцев, — вот и ползут колонны мобилизованных на строительство рвов и укреплений. Или это хозяин ставит себе новый дом, и тянутся плотники, штукатуры на работу…»
Огромен мир, который видят его глаза, чует ухо, втягивают с воздухом ноздри. Аршин земли на опушке леса, куст шиповника. Как велик этот аршин земли. Как богат этот отцветший куст! По сухой земле тонкой молнией прошла трещина, муравьи проходят по мосту, в строгом порядке один за другим, а по ту сторону трещины терпеливо выжидают встречные. Божья коровка, толстая, в красном сарафане, мечется, ищет перехода. Ох ты! Полевая мышь блеснула глазом, привстала на задние лапки и прошуршала среди травы, словно и не было её здесь. Подул ветер, и трава гнётся, пригибается, каждая по-своему, одна покорно, быстро ложится к земле, другая упрямо, сердито дрожит, топорщится своим бедным тощим колосом — воробьиным житом. А на кусте шевелятся ягоды шиповника — жёлтые, красноватые, закалённые солнцем, словно глина огнём. Давно уже, видно, брошенная хозяином паутина мотается на ветру, в ней запутались сухие листья, кусочки коры, в одном месте она обвисает под тяжестью свалившегося в неё жолудя. Она — точно невод, выброшенный на берег после гибели рыбака.
А сколько такой земли, леса, сколько бесчисленных аршин, где жизнь! Сколько зорь, краше, чем эта, были в жизни Родимцева, сколько летних быстрых дождей, сколько птичьего крика, прохладного ветра, ночного тумана! Сколько работы! А какие были славные часы, когда он приходил с работы, и жена сурово, но с душевной любовью, спрашивала: «Обедать будешь?» И он ел мятую картошку с постным маслом и глядел на своих детей, на загорелые руки жены в спокойной духоте избы. А сколько жизни впереди! Много ли? Ведь всё может кончиться вот теперь, минут через пяток. И сотни красноармейцев лежат так — думают, вспоминают, смотрят на землю, на деревья, кусты, вдыхают запах утра. Нет лучше в свете этой земли!
Игнатьев задумчиво говорит товарищу:
— Слышал я, как-то два лейтенанта-зенитчика между собой говорили: вот война идёт, а кругом сады, птицы поют, им вроде и дела нет до наших делов. Вот я всё думаю: это неправильно, не увидели лейтенанты сути. Война эта всей жизни коснулась. Ты возьми лошадей — чего только не терпят! Или, помню, стояли мы в Рогачёве: там все собаки по тревоге в погреба лезли, суку одну я приметил — собачат в щель прятала, а как налёт кончится — обратно гулять выводила. Ну, а птица — гуси, куры, индюшки, — разве они от немца не терпят? И тут, кругом, в лесу, я примечаю, птица пугаться стала — чуть самолёт летит, тучей поднимаются, галдят, шумят, мечутся. Сколько леса пропало! Сколько садов! Или вот я сейчас думал: идёт бой на поле, мы тут залегли, под тысячу человек, — всех этих муравьев да комарей кувырком вся жизнь пошла. А если немец газ пустит, а мы ему в ответ — тут же по всем лесам да полям жизнь перевернётся — и до мышей, и до ежей, до всех война доберётся, начнёт козявка да птица задыхаться, куда ей деться?
Он приподнялся и, глядя на товарищей, сказал с весёлой печалью:
— Ох, и хорошо, ребята! Ведь только в такой день и поймёшь: вот, кажется, тысячу лет бы так пролежал и не наскучило бы. Дышишь.
Богарёв слушал бой. Внезапно гул разрывов стал затихать, советские самолёты больше не летали над немецкими позициями. Неужели натиск отбит? Неужели Мерцалов не смог надломить настолько оборону немцев, чтобы совместно с ним начать общую атаку? Тоска сжала сердце Богарёву. Мысль о возможной неудаче Мерцалова была невыносима, жгуче-тяжела. Он не взвидел света солнца, казалось, синее небо померкло, стало чёрным, он: не видел широкой поляны, раскинувшейся перед ним, всё исчезло — и деревья, и поля. Одна лишь ненависть к немцам заполнила его всего.
Здесь, на опушке леса, он ясно представлял себе ту чёрную силу, которая расползлась по народной земле. Земля народа! В мечтаниях Томаса Мора и утопиях Оуэна, в трудах светлых умов философов Франции, в записках декабристов, в статьях Белинского и Герцена, в письмах Желябова и Михайлова, в словах ткача Алексеева выражалась вечная тоска человечества о земле равноимущих, о земле, уничтожившей вечное неравенство между работающим и дающим работу. Тысячи и тысячи русских революционеров погибли в борьбе. Богарёв знал их, как старших братьев, он читал о них все, он знал их предсмертные слова и письма, писанные матерям и детям перед смертью, он знал их дневники и тайные беседы, записанные увидевшими свободу друзьями, он знал их путь в сибирскую каторгу, этапы, где они ночевали, централы, где заковывали их в кандалы. Он любил этих людей и чтил, как самых близких и родных. Многие из них были рабочими в Киеве, печатниками в Минске, портными в Вильне, ткачами в Белостоке, — городах, теперь захваченных фашистами.
Богарёв каждым дыханием своим любил эту землю, завоёванную в невиданных трудах гражданской войны, в муках голода. Землю, пусть ещё бедную, пусть живущую в суровом труде, землю, живущую суровыми законами.
Он медленно проходил между залёгшими бойцами, останавливался на мгновенье, говорил несколько слов, шёл дальше.
«Если через час, — подумал он, — Мерцалов не даст сигнала, я подниму людей в атаку, самостоятельно прорву немецкую оборону… Ровно через час».
— Мерцалов должен иметь успех, — сказал он Козлову, — иначе не может быть, иначе я ничего не видел и ничего не пенял. — Проходя мимо бойцов, он заметил Игнатьева и Родимцева, подошёл к ним, присел на траву. Ему казалось, что в этот миг они говорили и думали о том же, что и он.
— О чём вы тут? — спросил он.
— Да вот про комарей рассуждаем, — с виноватой усмешкой сказал Игнатьев…
«Вот оно что, — подумал Богарёв, — неужели мы о разных вещах думаем в этот час?»
Сигнал увидели десятки людей — это были красные ракеты, склонённые от русских линий к немецким. Сразу же загремели выстрелы гаубиц. Тысяча людей замерла. Гром гаубиц извещал немцев о том, что в их тылу притаились русские войска.
Богарёв оглядел быстрым радостным взором поле, пожал руку Козлову, который шёл на правом фланге, сказал ему:
— Дорогой друг, надеюсь на вас, — вобрал побольше воздуха в грудь и протяжно закричал: — За мной, товарищи, вперёд! — И ни один не остался лежать на милой тёплой летней земле.
Богарёв бежал впереди, неведомое чувство охватило всё его существо — он увлекал за собой бойцов, но и они, связанные с ним в единое, вечное и нераздельное целое, словно толкали его вперёд. Он слышал за собой их дыхание, ему передавалось горячее и быстрое биение их сердец. Это народ отвоёвывал свою свободу. Багарёв слышал топот сапог, это была поступь перешедшей в атаку России. Они бежали быстрей и быстрей, а «ура» всё росло, всё крепло, поднималось всё выше, разливалось всё шире. Его услышали сквозь грохот битвы перешедшие в штыковую атаку батальоны Мерцалова. Его услышали крестьяне в далёкой, занятой врагом деревне. Это «ура» слышали птицы, поднявшиеся высоко в небо.
Немцы дрались отчаянно. Они мастерски и быстро приняли круговую оборону, открыли огонь из пулемётов. Но две волны русской пехоты шли навстречу одна другой. Стальные танки, закопанные в землю, загорелись от жаркого русского огня. Пылали штабные машины, превращались в обломки богатые обозы с награбленным добром. Неужели многие из этих людей недавно боялись в лесу громкого слова, неужели они прислушивались к крику ворон, принимая его за немецкую речь? Уже не только слышали батальоны Мерцалова «ура», раздающееся из немецкого тыла: уже видели они пыльные лица товарищей, покрытые тяжким потом боевого труда, уже различали они гранатомётчиков и стрелков, различали чёрные петлицы артиллеристов и звезду на фуражке лейтенанта Козлова. А немцы всё ещё сопротивлялись. Может быть, не только смелость руководила их упорством. Может быть, опьянявшая их вера в свою непобедимость не хотела покинуть немцев в минуту поражения. Может быть, солдаты, привыкшие семьсот дней побеждать, не могли и не хотели ещё понять, что этот семьсот первый день стал днём их поражения.
Но прорвана и перерезана линия фронта. Вот первые два бойца встретились, обнялись, и в боевом шуме раздался голос:
— Браток, папиросочку, неделю не курил!
Вот подняли руки первые окружённые немецкие пулемётчики, вот закричал горбоносый веснущатый автоматчик: «Рус, не стреляй!» и кинул наземь вдруг опостылевший ему чёрный автомат. Вот уж пошли, опустив головы, цепочки пленных, без пилоток, с раскрытыми на груди мундирами, недавно распахнутыми в пылу боя, с вывороченными карманами, доказывающими, что нет у солдат пистолетов и гранат. Вот вывели из штаба писарей, телеграфистов, радистов. Вот молча рассматривают суровые запылённые бойцы тело застрелившегося немецкого полковника. Уже считает быстрый взгляд молодого командира немецкие пушки и автоматы, машины и танки, брошенные на поле боя.
— Где комиссар? — спрашивали друг у друга бойцы.
— Где комиссар? — спросил Румянцев.
— Кто видел комиссара? — спросил Козлов, вытирая пот со лба.
— Комиссар всё время был с нами, — говорили бойцы, — комиссар был с нами.
— Где комиссар? — спрашивал Мерцалов, ходя среди обломков машин, весь запылённый, грязный, в изорванной пулями новой гимнастёрке.
И ему отвечали:
— Комиссар был впереди, комиссар был с нами.
На затихавшем поле боя, безжалостно освещенном солнцем, среди сохнущих и черневших от зноя луж крови, среди дымно горящих танков и обгоревших скелетов машин проехал маленький зелёный броневик. Из него вышел Чередниченко.
— Товарищ член военного совета, — сказал ему Мерцалов, — вон в том обозе, который подъезжает, — ваш сын. Его вывел со своим отрядом Богарёв.
— Лёня мой, — сказал Чередниченко, — сын?.. А маты моя?..
Он посмотрел на Мерцалова. Мерцалов не ответил, опустил глаза. Молча стоял Чередниченко, глядя на машины, выезжавшие из леса.
— Сын, — снова сказал он, — сын…
И, повернувшись к Мерцалову, спросил:
— Где комиссар?
Снова молчал Мерцалов.
Ветер прошумел над полем. Оттуда, где догорало пламя, шли два человека. Все знали их. Это были комиссар Богарёв и красноармеец Игнатьев. Кровь текла по их одежде. Они шли, поддерживая один другого, тяжело и медленно ступая.
Центральный фронт
Гомель — Брянск
1942
Старый учитель
I
Последние годы Борис Исаакович Розенталь выходил из дому лишь в тёплые тихие дни. В дождь, в сильный мороз, либо в туман у него кружилась голова. Доктор Вайнтрауб полагал, что головокружения происходят от склероза, и советовал перед едой выпивать рюмку молока с пятнадцатью каплями иода.
В тёплые дни Борис Исаакович выходил во двор. Он не брал философских книг: его развлекали возня детей, смех и руготня женщин. С томиком Чехова он садился на скамейке возле колодца. Он держал открытую книгу на коленях и, глядя всё на одну и ту же страницу, сидел, полузакрыв глаза, с сонной улыбкой, которая бывает у слепых, прислушивающихся к тому, как шумит жизнь. Он не читал, но привычка к книге была в нём настолько сильна, что ему необходимым казалось поглаживать шершавый переплёт, проверять дрожащими пальцами толщину страницы. Женщины, сидевшие неподалеку, говорили: «Вот учитель заснул», — и беседовали о своих делах, словно были одни. Но он не спал. Он наслаждался теплом нагретого солнцем камня, вдыхал запах лука и постного масла, слушал разговоры старух о своих невестках и зятьях, ловил ухом беспощадный, бешеный азарт мальчишеских игр. Иногда сохнущие на верёвках тяжёлые, мокрые простыни хлопали, как паруса на ветру, и лицо ему обдавало влагой. И ему казалось: вот он снова молод и студентом едет на парусной лодке по морю. Он любил книги — книги не стояли стеной между ним и жизнью. Богом была жизнь. И он познавал бога, — живого, земного, грешного бога, читая историков и философов, читая великих и малых художников, которые каждый в силу свою славили, оправдывали, винили и кляли человека на прекрасной земле. Он сидел во дворе и слышал пронзительный детский голос.
— Внимание, бабочка летит — огонь!
— Есть, поймал! Добивайте её камнями!
Борис Исаакович не ужасался этой свирепости — он знал её и не боялся на протяжении всей своей восьмидесятидвухлетней жизни.
И вот шестилетняя Катя, дочь убитого лейтенанта Вайсмана, подошла к нему в своём изодранном платьице, шаркая галошами, спадающими с грязных исцарапанных ножек, и протянула холодный кислый блин, сказав: «Кушай, учитель!»
Он взял блин и ел его, глядя на худое лицо девочки. Он ел этот блин, и во дворе вдруг стало тихо, и все — и старухи, и молодые грудастые бабы, забывшие о мужьях, и лежавший на матраце под деревом безногий лейтенант Вороненко — смотрели на старика и на девочку. Борис Исаакович уронил книгу и не стал поднимать её — он смотрел на огромные глаза, внимательно и жадно следившие, как он ел. Ему вновь захотелось понять вечно удивлявшее его чудо человеческой доброты, он хотел вычитать его в этих детских глазах, но, видно, слишком темны были они, а может быть, слёзы помешали ему, но он снова ничего не увидел и снова ничего не понял.
Соседок всегда удивляло, почему к старику, получающему сто двенадцать рублей пенсии, не имеющему даже керосинки и чайника, приходят в гости директор педтехникума и главный инженер сахарного завода, а однажды приехал на автомобиле военный с двумя орденами.
— Это мои бывшие ученики, — объяснял он. И почтальону, приносившему ему иногда сразу по два-три письма, он тоже говорил: — Это мои бывшие ученики. — Они его помнили, бывшие ученики.
И вот он сидел утром 5 июня 1942 года во дворе. Рядом с ним, на вынесенном из дому матраце, сидел лейтенант Виктор Вороненко с отрезанной выше колена ногой. Жена Вороненко, молодая красавица Дарья Семёновна, готовила на летней кухне обед и, наклоняясь над кастрюлями, плакала, а Вороненко, насмешливо морща белое лицо, говорил:
— Чего плакать, Даша, вот увидишь, отрастёт у меня нога.
— Да я не от этого, лишь бы ты был живой, — говорила Дарья Семёновна и плакала, — я совсем от другого.
В час дня объявили воздушную тревогу: шёл немецкий самолёт. Женщины, подхватив детей, побежали к щелям, оглядываясь, не подбираются ли жулики к оставленным на столиках и табуретках продуктам. Во дворе оставался только Вороненко и Борис Исаакович. Мальчишка кричал с улицы:
— Возле нас остановилась автоцистерна, это объект. Водитель удрал в щель!
Собаки, изведавшие уже множество налётов, при первых же отдалённых звуках немецкого мотора, опустив хвосты, полезли в щели следом за женщинами.
Потом на миг стало тихо, и мальчишки пронзительно известили:
— Летит… разворачивается… пикирует, паразит!
Маленький городок вздрогнул от страшного удара, дым и пыль поднялись высоко вверх, крик и плач послышался из щелей. Потом стало тихо, и женщины вылезали из земли, отряхиваясь, поправляя платья, смеясь друг над другом, счищая с детей пыль и грязь, спешили к плиткам.
— А шоб вин сказывся, погасла-таки плита, — говорили старухи и, раздувая пламя, плача от дыма, бормотали: — Шоб ему уже добра ни на тiм, ни на цiм свити не було.
Вороненко объяснил, что немец сбросил двухсотку и что зенитки мазали метров на пятьсот. Старуха Михайлюк бормотала:
— Та скорей бы уж немцы шлы, чтоб кончилось несчастье. Вчера в тревогу какой-то паразит у меня с плиты горшок борща унёс.
Во дворе знали, что сын её Яшка убежал из армии и скрывается в чердачной комнате, выходит на улицу только ночью. Михайлючка говорила, что если кто заявит, то при немцах ему головы не снести. И женщины боялись заявлять — немцы были близко.
Агроном Коряко, не эвакуировавшийся с райземотделом, а хваставший, что уйдёт с войсками в последнюю минуту, как только объявляли тревогу, бежал в комнату, — он жил в первом этаже, выпивал стакан самогону, — агроном называл его «антибомбин» — и затем спускался в подвал. После отбоя Коряко ходил по двору и говорил:
— Всё равно, наш город — это неприступная крепость. Подумаешь, разбил дойч халупу!
Мальчишки первыми прибегали с улицы, принося точные сведения:
— Упала прямо против дома Заболоцких. Убило у Рабиновички козу; оторвало ногу старухе Мирошенко, её повезли на подводе в больницу, и она умерла по дороге, дочь убивается так, что слышно за четыре квартала.
Вечером зашёл к Борису Исааковичу доктор Вайнтрауб. Вайнтраубу было шестьдесят восемь лет. На нём был надет лёгкий чесучёвый пиджак, косоворотка расстёгнута на жирной груди, поросшей седой шерстью.
— Ну, как, молодой человек? — спросил Борис Исаакович.
Но молодой человек тяжело дышал, одолев лестницу, ведущую на второй этаж, и лишь вздыхал, показывая на грудь. Потом он сказал:
— Надо ехать, говорят, последний эшелон с рабочими сахарного завода уходит завтра. Я напомнил инженеру Шевченко, — он обещал прислать за вами подводу.
— Шевченко у меня учился, отлично успевал по геометрии, — сказал Борис Исаакович, — его нужно попросить взять из нашего дома раненого Вороненко, которого дней пять назад жена нашла в госпитале, и Вайсман с ребёнком, — муж её убит, она получила извещение.
— Не знаю, будет ли место, ведь несколько сот рабочих, — сказал Вайнтрауб и вдруг заговорил быстро, обдавая собеседника своим тяжёлым, горячим дыханием: — Ну вот, Борис Исаакович, город, где меня буквально каждая собака знает, — подумать только, шестнадцатого июня девятьсот первого года я приехал сюда. — Он усмехнулся: — И вот совпадение: в этом доме, в этом самом доме я был сорок один год тому назад у своего первого пациента — Михайлюк отравился рыбой. С тех пор кого я только не лечил здесь — и его, и жену, и Яшку Михайлюка с его вечными поносами, и Дашу Ткачук, ещё до того, как она вышла замуж за Вороненко, и отца Даши, и Витю Вороненко. И так буквально в каждом доме. А-а, ну-ну! Дожить до того дня, чтобы нужно было бежать отсюда. И скажу вам откровенно, чем ближе отъезд, тем меньше во мне решимости. Всё кажется — останусь. Пусть будет, что будет.
— А у меня всё больше решимости ехать, — сказал учитель, — я знаю, что такое езда в переполненной теплушке для человека восьмидесяти двух лет. У меня нет родственников на Урале. У меня ни копейки нет за душой. Больше того, — он махнул рукой, — я знаю, уверен даже, что не выдержу до Урала, но это лучший выход — умереть на грязном полу грязной теплушки, сохраняя чувство своего человеческого достоинства, умереть в стране, где меня считают человеком.
— Ну, не знаю, — сказал Вайнтрауб, — а по-моему, не так страшно: всё ж таки люди интеллигентных профессий, вы сами понимаете, на улице не валяются.
— Наивный вы молодой человек, — сказал Борис Исаакович.
— Не знаю, не знаю, — сказал доктор. — Я всё время колеблюсь, многие мои пациенты меня уговаривают остаться… Но есть и такие, которые безоговорочно советуют уехать. — Он вдруг вскочил и громко закричал:
— Что это? Объясните мне! Я пришёл к вам, чтобы вы мне объяснили, Борис Исаакович! Вы—философ, математик, — объясните мне, врачу, что это? Бред? Как культурный европейский народ, создавший такие клиники, выдвинувший такие светила научной медицины, стал проводником черносотенного средневекового мрака? Откуда эта духовная инфекция? Что это? Массовый психоз? Массовое бешенство? Порча? Или всё жтаки немного не так, а? Сгустили красочки?
На лестнице послышался стук костылей, это поднимался Вороненко.
— Разрешите, товарищ начальник, обратиться? — насмешливо спросил он.
Вайнтрауб сразу успокоился и спросил:
— А, Витя, ну как дела? — Он почти всему населению города говорил «ты», потому что все сорокалетние и тридцатилетние когда-то мальчишками лечились у него.
— Вот ножку оторвало, — сказал, усмехаясь, Вороненко. Он о своей беде всегда говорил усмехаясь, стыдясь её.
— Ну как, книжку прочли? — спросил Борис Исаакович.
— Книжку? — переспросил Вороненко; он всё время усмехался, морщился. — Какого хрена книжку, вот будет нам знаменитая книжка.
И Вороненко вдруг нагнулся к ним, лицо его стало спокойно, неподвижно. Негромко и неторопливо он произнёс:
— Немецкие танки прошли через железнодорожное полотно и заняли деревню Малые Низгурцы, это примерно километров двадцать на восток.
— Восемнадцать с половиной, — сказал доктор и спросил: — Значит, эшелон не уйдёт?
— Ну, само собой разумеется, — сказал старый учитель.
— Мешочек, — сказал Вороненко и, подумав, прибавил: — завязанный мешок.
— Ну, что ж, — проговорил Вайнтрауб — посмотрим значит, это судьба. Я пойду домой.
Розенталь посмотрел на него.
— Вы знаете, я всю жизнь не любил лекарств, но сейчас вы мне дадите единственное лекарство, которое может помочь.
— Что, что может спасти? — быстро спросил Вайнтрауб.
― Яд.
— Никогда этого не будет! — крикнул Вайнтрауб. — Я никогда этого не делал.
— Вы наивный молодой человек, — сказал Розенталь. — Эпикур ведь учил, что мудрый из любви к жизни может убить себя, если страдания его становятся невыносимы. А я люблю жизнь не меньше Эпикура.
Он встал во весь рост. Волосы, и лицо его, и дрожащие пальцы, и тонкая шея — всё было высушено, обесцвечено временем, казалось прозрачным, лёгким, невесомым. И только в глазах была мысль, не подвластная времени.
— Нет, нет! — Вайнтрауб пошёл к двери. — Вот увидите, как-нибудь промучаемся. — И он ушёл.
— Больше всего боюсь я одной вещи, — сказал учитель, — того, что народ, с которым я прожил всю свою жизнь, который я люблю, которому верю, что этот народ поддастся на тёмную подлую провокацию.
— Нет, этого не будет! — сказал Вороненко.
Ночь была темна, оттого что тучи покрывали небо и не пропускали света звёзд. Она была темна от тьмы земной. Гитлеровцы были великой ложью жизни. И всюду, где ступала нога их, из мрака на поверхность выступали трусость, предательство, жажда тёмного убийства, расправы над слабым. Всё тёмное вызывали они на поверхность, как в старой сказке дурное колдовское слово вызывало духов зла. Маленький город в эту ночь задыхался от тёмного и недоброго, от зловонного и грязного, что проснулось, зашевелилось, растревоженное приходом гитлеровцев, потянулось им навстречу. Из подвалов и яров вылезли изменники, слабые духом, рвали и жгли в печах книги Ленина, партийные билеты, письма, срывали со стен портреты братьев. В нищих духом зрели льстивые слова отреченья, рождались мысли о мести за бабью ссору на рынке, за случайно сказанное слово; чёрствостью, себялюбием, безразличием заражались сердца. Трусы, боясь за себя, замышляли доносом на соседа спасти свою жизнь. И так было во всех больших и малых городах больших и малых государств, всюду, куда ступала нога гитлеровцев, муть поднималась со дна рек и озёр, жабы всплывали на поверхность, чертополох всходил там, где растили пшеницу.
Ночью Розенталь не спал. Казалось, в это утро не взойдёт солнце, тьма над городом встала навек. Но солнце взошло в предначертанный ему час, и небо стало голубым и безоблачным, и птицы запели.
Низко и медленно пролетал немецкий бомбардировщик, словно утомлённый ночной бессонницей — зенитки не стреляли, город и небо над городом стали немецкими. Дом просыпался.
Яшка Михайлюк спустился с чердака. Он гулял по двору. Он сидел на той скамейке, где вчера сидел старый учитель. Он сказал Даше Вороненко, топившей плитку:
— Ну, что, где он, твой защитник родины? Убегли красные и не взяли его с собой?
И красивая Даша, улыбаясь жалкой улыбкой, сказала:
— Ты на него не доноси, Яша, он ведь по мобилизации, как все, пошёл.
Яшка Михайлюк, после долгого сидения в темноте, вышел под солнечное тепло, дышал утренним воздухом, смотрел на зелёный лук в огороде. Он побрился и надел вышитую рубаху.
— Ладно, — сказал он лениво, — вот бы выпить мне чего, не знаешь, где достать?
— Я достану самогон, — сказала Даша, — есть тут у одной знакомой. Только смотри, Яша, он ведь бедный, калека. Ты не капай на него.
Потом вышел во двор агроном, и женщины шептались:
— Вот это да, словно на первый день пасхи.
Он поговорил с Яшкой, шепнул ему словцо на ухо, и они оба рассмеялись.
Они зашли к агроному и выпивали там. Михайлючка принесла им сала и мочёных помидоров. Варвара Андреевна, у которой все пять сыновей были в Красной Армии, самая вредная на язык и самая ядовитая во дворе старуха, сказала ей:
— Ты теперь, Михайлючка, знатная женщина страны при немцах будешь: муж в концлагере за агитацию, сын дезертир, дом этот твой собственный. Прямо тебя немцы городской головой выберут.
Шоссе лежало в пяти километрах восточней города, и поэтому немецкие войска прошли, минуя маленький городок. Лишь в полдень проехали по главной улице мотоциклисты в пилотках, трусах и тапочках, чёрные от загара. У каждого на руке были часы-браслетик.
Старухи, глядя на них, говорили:
— Ах, боже мой, ни стыда, ни совести, голые по главной улице. Окаянство-то до чего доходит!
Мотоциклисты пошуровали по дворам, забрали поповского индюка, вышедшего разобраться в конском навозе, второпях съели у церковного старосты два с половиной кило мёда, выпили ведро молока и укатили дальше, обещав, что часа через два прибудет комендант. Днём к Яшке пришли ещё два приятеля-дезертира. Они все были пьяны и хором пели: «Три танкиста, три весёлых друга». Они бы, вероятно, спели немецкую песню, но не знали её. Агроном ходил по двору и, лукаво усмехаясь, спрашивал у женщин:
— Где же это наши евреи? Весь день не видно ни детей, ни стариков, никого, словно их и не было на свете. А вчера с базара пятипудовые корзины пёрли.
Но женщины пожимали плечами и не поддерживали этот разговор. Агроном удивлялся. Ему казалось, что женщины совсем иначе отнесутся к таким интересным словам.
Потом пьяный Яшка решил очистить свою квартиру, ведь до тридцать шестого года весь нижний этаж был занят Михайлюками. После того как сослали отца, две комнаты занял Вороненко с женой, а во время войны горсовет вселил в третью комнату семью младшего лейтенанта Вайсмана, эвакуированную из Житомира.
Приятели помогли Яшке очищать площадь. Катя Вайсман и Виталий Вороненко сидели во дворе и плакали. Старуха Вайсман выносила посуду, кухонные горшки и, проходя мимо плачущих детей, шопотом говорила:
— Цыть, дети, тише, не надо плакать.
Но потное лицо её с прилипшими к вискам и щекам седыми прядями казалось таким страшным, что дети, глядя на неё, пугались и плакали ещё шибче. Даша пробовала напомнить Яшке об утреннем разговоре, но он ей сказал:
— Меня пол-литром не купишь! Ты думаешь, люди забыли, что твой Витька народ раскулачивал.
Лида Вайсман, вдова младшего лейтенанта, малость помешавшаяся, после того как в один день она получила похоронную на мужа и на брата, смотрела на плачущую девочку и говорила:
— Сегодня на базаре нет ни капли молока, плачь, не плачь, молока нет.
А Виктор Вороненко улыбался, лёжа на пустом мешке, постукивая костылём по земле.
Старуха Михайлюк стояла, высокая, седая, с яркими глазами, и все молчала. Она смотрела на плачущих детей, на захлопотавшегося сына, на старуху Вайсман, на улыбавшегося безногого.
— Мамо, шо ж вы стоите, як засватанная? — спрашивал её Яшка.
Два раза она не ответила ему, а на третий раз сказала:
— Вот и мы дождали дня.
До вечера выселенные сидели молча на узлах, а когда начало темнеть, вышел учитель и сказал:
— Очень прошу всех вас ко мне. Закаменевшие женщины зарыдали сразу.
Взяв два узелка с земли, учитель пошёл к дому. Комнату всю завалили узлами, кастрюлями, чемоданами, обвязанными проволокой и бечёвками. Дети уснули на кровати, женщины на полу, а Розенталь и Вороненко вполголоса разговаривали.
— Я о многом в жизни мечтал, — говорил Виктор Вороненко, — то мне хотелось орден Ленина иметь, то хотел свой мотоцикл с коляской, чтобы по выходным ездить с женой к Донцу; был на фронте, мечтал семью повидать, сыну привезти «железный крест» и сгущённого молока, а теперь я мечтаю только об одном: иметь гранаты, — вот бы шухеру наделал!
А учитель сказал:
— Чем больше думаешь о жизни, тем меньше её понимаешь. Скоро я перестану думать, но это случится, когда мне размозжат череп. Пока немецкие танки бессильны помешать мне думать — я думаю о мире.
— Да что там думать, — сказал Вороненко, — гранаты бы ручные, побольше шухеру, пока я жив, Гитлеру сделать!
II
Агроном Коряко ждал приёма у коменданта города. Говорили, что комендант — человек пожилой, знающий русский язык. Откуда-то стало известно, что в далёкие времена он учился в рижской гимназии. Коменданту было уже доложено, и агроном ходил в волнении по приёмной, поглядывая на огромный портрет Гитлера, беседующего с детьми. У Гитлера на лице была улыбка, а дети, необычайно нарядные, с серьёзными, напряжёнными лицами, смотрели на него снизу, с малой высоты своего детского роста. Коряко волновался. Ведь он некогда составлял план коллективизации по району — вдруг есть донос по этому случаю. Он волновался, — впервые в жизни предстояло ему говорить с фашистами. Волновался он и потому, что находился в помещении сельскохозяйственного техникума, где преподавал год тому назад полеводство. Он понимал, что совершает решающий шаг и не сможет никогда вернуться к прежнему. И все волнения души агроном тушил одной фразой. Он твердил её беспрерывно:
— Играть надо на козырную карту, на козырную карту надо играть.
Из комендантского кабинета послышался вдруг полный муки, хриплый, сдавленный крик.
Коряко отошёл к входной двери. «Эх, ей-богу, зря я сам лезу, сидел бы, и никто бы не тронул», — с внезапной тоской подумал он. Дверь распахнулась, и в приёмную выбежал начальник полиции, недавно приехавший из Винницы, и молодой бледный адъютант коменданта, который в базарный день делал облаву на партизан. Адъютант что-то громко сказал писарю по-немецки, и тот вскочил и кинулся к телефону, а начальник полиции, увидев Коряко, крикнул:
— Скорей, скорей! Где тут доктор? С комендантом припадок.
— Да вот наискосок дом, самый лучший врач в городе, — показал в окно Коряко. — Только он, извините, Вайнтрауб — еврей!
— Вас? Вас? — спросил адъютант.
Начальник полиции, уже научившийся калякать по-немецки, сказал:
— Хир, айн гут доктор, абер эр ист юд.
Адъютант махнул рукой, кинулся к двери, а Коряко, догоняя его, показывал:
— Сюда, сюда, вот этот домик.
У майора Вернера был жестокий приступ грудной жабы. Доктор сразу понял это, задав несколько вопросов адъютанту. Он выбежал в соседнюю комнату, обнял, прощаясь, жену и дочь, захватил шприц, несколько ампул камфары и вышел следом за молодым офицером.
— Минуту… Я ведь должен надеть повязку, — сказал Вайнтрауб.
— Не надо, идите так, — проговорил адъютант. Когда они входили в комендатуру, молодой офицер сказал Вайнтраубу:
— Я предупреждаю: сейчас прибудет наш врач, за ним послан авто. Он проверит все ваши медикаменты и методы.
Вайнтрауб, усмехнувшись, сказал ему:
— Молодой человек, вы имеете дело с врачом, но если вы мне не доверяете, я могу уйти.
— Идите скорей, скорей — крикнул адъютант.
Вернер, худой, седой человек, лежал на диване с потным, бледным лицом. Полные смертной тоски, глаза его были ужасны. Вернер медленно произнёс:
— Доктор, ради моей бедной матери и больной жены — они не переживут. — И он протянул к Вайнтраубу бессильную руку с белыми ногтями.
Писарь и адъютант одновременно всхлипнули.
— В такую минуту они вспомнили о матери, — набожно проговорил писарь.
— Доктор, я не могу дышать, у меня темнеет в глазах, — тихо крикнул комендант; он молил глазами о помощи.
И доктор спас его.
Сладостное чувство жизни вновь пришло к Вернеру. Сердечные сосуды, освободившись от спазм, свободно гнали кровь, дыхание стало свободным. Когда Вайнтрауб хотел уйти, Вернер схватил его за руку.
— Нет, нет, не уходите, я боюсь, это может повториться.
Тихим голосом он жаловался:
— Ужасная болезнь. У меня уже четвёртый приступ. В момент припадка я чувствую весь мрак надвигающейся смерти. Нет в мире ничего страшней, темней, ужасней смерти. Какая несправедливость в том, что мы смертны! Правда ведь?
Они были одни в комнате.
Вайнтрауб наклонился к коменданту и, сам не зная отчего, точно толкнул его кто-то, сказал:
— Я еврей, господин майор. Вы правы, смерть страшна. На мгновение глаза их встретились. И седой врач увидел растерянность в глазах коменданта. Немец зависел от него, он боялся нового приступа, и старый доктор с уверенными, спокойными движениями защищал его от смерти, стоял между ним и той страшной тьмой, которая была так близко, совсем рядом, жила в склеротическом сердце майора.
Вскоре послышался шум подъехавшего автомобиля. Вошёл адъютант и сказал:
— Господин майор, прибыл главный врач терапевтического госпиталя. Теперь можно отпустить этого человека.
Старик ушёл. Проходя мимо ожидавшего в канцелярии врача с орденом «железного креста» на мундире, он сказал улыбаясь:
— Здравствуйте, коллега, пациент в полном порядке сейчас.
Врач неподвижно и молча смотрел на него.
Вайнтрауб шёл к дому, громко нараспев говоря:
— Только одного хочу я, чтобы меня встретил патруль и расстрелял перед окнами, на глазах коменданта, больше у меня нет желаний. Не ходи без повязки, не ходи без повязки.
Он смеялся, размахивал руками, казалось, что он пьян. Жена выбежала к нему навстречу.
— Ну как, что, всё обошлось? — спрашивала она.
— Да, да, жизнь дорогого коменданта совершенно вне опасности, — улыбаясь, говорил он и, войдя в комнату, вдруг повалился, рыдая, стал биться своей большой лысой головой об пол.
— Прав, прав учитель, — говорил он, — будь проклят тот день, когда я стал медиком.
Так шли дни. Агроном стал поквартальным уполномоченным, Яшка служил в полиции, самая красивая девушка в городе Маруся Варапонова играла на пианино в офицерском кафе и жила с адъютантом коменданта. Женщины ездили в деревни менять барахло на пшеницу, картофель, пшено, ругали немецких шофёров, требовавших огромной платы за провоз. Биржа труда рассылала сотни повесток — и к станции шли девушки и парни, с котомками и узелками, грузиться в товарные эшелоны. В городе открылось немецкое кино, солдатский и офицерский публичный дом, на главной площади построили большую кирпичную уборную с надписью на русском и итальянском языке: «Только для немцев». В школе учительница Клара Францевна задавала в первом классе детям задачу: «Два „Мессершмитта“ сбили восемь красных истребителей и двенадцать бомбардировщиков, а зенитная пушка уничтожила одиннадцать большевистских штурмовых самолётов. Сколько всего уничтожено красных самолётов». И остальные учительницы боялись при Кларе Францевне говорить о своих делах, ждали, пока она выйдет из учительской комнаты. Через город гнали пленных, они шли, оборванные, шатаясь от голода, и женщины подбегали к ним, давали им куски хлеба, варёный картофель. Казалось, пленные потеряли человеческий образ, так измучены были они голодом, жаждой, вшами. У некоторых лица опухли, у других, наоборот, щеки ввалились, заросли тёмной пыльной щетиной. Но, несмотря на страшные страдания, они несли свой крест и с ненавистью смотрели на сытых, хорошо одетых полицейских, на носящих немецкие мундиры изменников. И ненависть была так велика, что если б предоставили им выбор, их руки потянулись бы не за горячим караваем хлеба, а к горлу предателя. По утрам толпы женщин под наблюдением солдат и полицейских шли на работу на аэродромы, мосты, исправлять пути, железнодорожные насыпи. Мимо них проходили с запада эшелоны с танками и снарядами, с востока на запад шли составы с пшеницей, скотом, заколоченные товарные вагоны с девчатами и парнями.
Женщины, старики, малые дети — все ясно понимали, что происходит в стране, какой участи обрекли немцы народ и ради чего вели они эту страшную войну. И когда однажды к Розенталю во дворе подошла старуха Варвара Андреевна и, плача, спросила: «Что ж это в свете делается, деду?» — учитель вернулся к себе в комнату и сказал:
— Ну, вероятно, через день-два немцы устроят евреям великую казнь, — слишком страшна жизнь, на которую они обрекли Украину.
— При чём же евреи? — спросил Вороненко.
— Как при чём? Это одна из основ, — сказал учитель. — Фашисты создали всеевропейскую всеобщую каторгу и, чтобы держать каторжан в повиновении, построили огромную лестницу угнетения. Голландцам живётся хуже, чем датчанам, французам хуже, чем голландцам, чехам хуже, чем французам, еще хуже приходится грекам, сербам, потом полякам, ещё ниже — украинцы, русские. Это всё ступени каторжной лестницы. Чем ниже, тем больше крови, рабства, пота. Ну, и в самом низу этой огромной каторжной многоэтажной тюрьмы находится пропасть, которой фашисты обрекли евреев. Их судьба должна страшить всю великую европейскую каторгу, чтобы самый страшный удел казался счастьем по сравнению с уделом евреев. Ну вот, мне кажется, страдания русских и украинцев настолько велики, что подоспела пора показать, что есть судьба ещё страшней, ещё ужасней. Они скажут: «Не ропщите, будьте счастливы, горды, рады, что вы не евреи!» Это простая арифметика зверства, а не стихийная ненависть.
III
Во дворе, где жил учитель, за этот месяц произошло немало изменений. Агроном стал необычайно важен, потолстел. К нему ходили с просьбами женщины, приносили самогон, каждый вечер агроном напивался, заводил патефон, пел «Мой костёр в тумане светит». В речи его появились немецкие словечки. Он говорил: «Когда я иду в нах гауз или на шпацир, прошу ко мне не обращаться с просьбами». Яшка Михайлюк дома бывал редко, большей частью он ездил по району, ловил партизан. Приезжал Яшка обычно с крестьянской подводой, привозил с собой сало, самогону, яйца. Мать, безумно любившая его, готовила богатые ужины. Однажды на такой ужин пришёл унтер-офицер из гестапо, и старуха Михайлюк с укором сказала Даше Вороненко:
— Не угадала ты, дура, видишь, какие люди к нам ходить стали, а ты живёшь со своим одноногим в жидовской комнате.
Она никак не могла простить красавице Даше, что та в тридцать шестом году отказала её сыну и пошла замуж за Вороненко. Яшка насмешливо и загадочно сказал:
— Скоро тебе просторно жить станет. Бывал я в городах, где очищено всё сплошь… до последнего корешка.
Даша рассказала об этих словах дома. Старуха Вайсман начала причитать над внучкой.
— Даша, — сказала она, — я вам оставлю своё обручательное кольцо, а потом с нашего огорода пудов пятнадцать картошки можно будет снять, тыкву и бурак. Девочка прокормится кое-как до весны. У меня есть ещё отрез сукна на дамское пальто, можно будет его выменять на хлеб. Она ведь совсем мало ест, у неё плохой аппетит.
— Прокормим как-нибудь, — ответила Даша, — а вырастет, мы её выдадим замуж за нашего Виталия.
В этот день пришёл к учителю доктор Вайнтрауб. Он протянул учителю маленькую бутылочку, закрытую притёртой стеклянной пробкой.
— Концентрированный раствор, — сказал он, — мои взгляды изменились, в последние дни я начал считать это вещество необходимым и полезным медикаментом.
Учитель медленно покачал головой.
— Благодарю вас, — грустно произнёс он, — но мои взгляды тоже изменились за последнее время, я решил отказаться от этого лекарства.
— Почему? — удивлённо сказал Вайнтрауб. — С меня хватит. Вы были правы, а не я. По центральным улицам ходить мне нельзя, жене моей запрещено ходить на базар под страхом расстрела, мы все носим эту повязку. Когда я выхожу с ней на улицу, у меня на руке словно тяжёлый обруч из раскалённой стали. Так жить нельзя, вы совершенно правы. И даже каторги в Германии мы, оказывается, недостойны. Вы слышали, как там работают несчастные девочки и мальчики? Но еврейскую молодёжь туда не берут, значит, её, — нас всех ждёт что-то во много раз худшее, чем эта страшная каторга. Что это будет — я не знаю. Зачем мне ждать этого? Вы правы. Я бы ушёл в партизаны, но с моей бронхиальной астмой это неосуществимо.
— А я за эти страшные недели, которые мы с вами не виделись, — сказал учитель, — стал оптимистом.
— Что? — испуганно переспросил Вайнтрауб. — Оптимистом? Простите, но вы, кажется, сошли с ума. Вы знаете, что это за люди? Я пришёл сегодня утром в комендатуру просить только о том, чтоб дочь мою после избиения освободили на один день от работы — и меня выгнали, и спасибо, что выгнали.
— Не об этом я говорю, — сказал учитель, — больше всего я боялся одной вещи, даже больше, чем боялся, — ужасался её, покрывался холодным потом при одной мысли о ней. Знаете, того, что фашистский расчёт окажется верным. Я уже говорил об этом Вороненко. Я боялся, я ужасался, я не хотел дожить до этого дня, до этого часа. Неужели вы думаете, что фашисты вот так просто затеяли эту огромную травлю и истребление многомиллионного народа? В этом холодный, математический расчёт. Они пробуждают лишь одно тёмное, разжигают ненависть, возрождают предрассудки. В этом их сила. Разделяй, натравляй и властвуй! Возрождать тьму! Натравить каждый народ на соседний, порабощенные народы на народы, сохранившие свободу, живущих по ту сторону океана на живущих по эту сторону, и все народы всего мира на один еврейский народ. Натрави и властвуй! А мало ли в мире тьмы и жестокости, мало ли суеверий и предрассудков! И они ошиблись. Они развязывали ненависть, а родилось сочувствие. Они хотели вызвать злорадство, ожесточение, затемнить разум великих народов. А я сам воочию увидел, на себе испытал, что страшная судьба евреев вызывает у русских и украинцев лишь горестное сочувствие, что они, испытывая сами страшный гнёт немецкого террора, готовы помочь, чем могут. Нам запрещают покупать хлеб, ходить на базар за молоком, и наши соседки сами берутся делать для нас покупки: десятки людей заходили ко мне и советовали мне, как лучше спрятаться и где побезопасней. Я вижу сочувствие многих. Я вижу, конечно, и равнодушие. Но злобу, радость от нашей гибели я видел не часто, — всего лишь три-четыре раза. Немцы ошиблись. Счетоводы просчитались. Мой оптимизм торжествует. Я никогда не имел иллюзий — я знал и знаю жестокость жизни.
— Это всё верно, — сказал Вайнтрауб и посмотрел на часы, — но мне пора: еврейский день кончается, половина четвёртого… Мы с вами, вероятно, не увидимся больше. — Он подошёл к учителю и сказал: — Разрешите с вами проститься, мы ведь знаем друг друга почти пятьдесят лет. Не мне вас учить в такие минуты.
Они обнялись и поцеловались. И женщины, смотревшие на их прощание, плакали.
Много событий произошло в этот день. Накануне Вороненко достал у мальчишек две ручные гранаты «Ф-1». Он обменял «фенек» на стакан фасоли и два стакана семечек.
— Что мне, — сказал он учителю, стоя под деревом и глядя, как сын его Виталик обижает маленькую Катю Вайсман, — что мне, пришёл домой раненый, но никакого удовольствия нет, а как мечтал, ей-богу, и в окопе и в госпитале. Во-первых, немецкая оккупация; зверство это с их биржами труда, каторжанством в Германии, голодуха, подлость, немецкие и полицейские хари, предательство проклятых изменников. — Вороненко сердито крикнул сыну:
— Что ты делаешь ребёнку, фашист? Ты же ей все кости повыдёргиваешь! А? Как, ты считаешь: её отец погиб в бою за родину и посмертно награждён орденом Ленина, а ты должен её бить нещадно с утра до ночи? И что за девочка такая, ей-богу, стоит, как овца, откроет глаза и не плачет даже. Хоть бы убежала от дурака, а то стоит и терпит…
Никто не видел, как он незаметно ушёл из дому, постукивая костылями. Он постоял немного на углу, оглядываясь на дом, где остались его жена и сын, и пошёл в сторону комендатуры. Больше он не видел ни жены, ни сына. И агроном не вернулся домой. Граната, брошенная одноногим лейтенантом попала в окно приёмной коменданта, где собрались поквартальные уполномоченные в ожидании новых инструкций. Коменданта в это время не было — он гулял в саду; так советовал ему врач с «железным крестом» на мундире. Каждый день сорокаминутная прогулка по тропинке фруктового сада и недолгий отдых на скамеечке.
Утром больную Лиду Вайсман полицейский погнал убирать трупы отравившихся ночью доктора Вайнтрауба, его жены и дочери.
Кое-кто из тёмных людей хотел пробраться в квартиру к доктору. У жены его была каракулевая шуба, да вообще много имелось хороших вещей: серебряные ложки, хрустальные бокалы, из которых пили, когда приезжал сын — ленинградский профессор, ковры. Но немцы поставили караул, и никто ничего не получил, даже доктор Агеев, просивший «Большую медицинскую энциклопедию» и горячо объяснявший, что книги эти немцам совершенно не нужны, они ведь писаны на русском языке.
Тела везли по всем улицам. Худая, скверная лошадь останавливалась на каждом углу, точно мёртвые её пассажиры каждый раз просили остановиться, чтобы посмотреть на заколоченные дома, на террасу, застеклённую синим и жёлтым стеклом в доме Любименко, на каланчу.
Пациенты смотрели на последнее путешествие доктора из окон, ворот, дверей. Никто, конечно, не плакал, не снимал шапок, не прощался с ним. В страшные эти времена кровь, страдания и смерть никого не трогали, потрясала людей лишь любовь и доброта. Доктор не был нужен городу: кому охота лечиться в такое время, когда здоровье сущая кара. Кровохарканье, паралич, тяжёлая грыжа, смертные сердечные припадки, злые опухоли спасали от изнурительных работ, от немецкой каторги. И о болезнях мечтали, вызывали их, молили о них бога. Мёртвого доктора провожали угрюмыми и молчаливыми взглядами. Лишь одна старуха Вайсман заплакала, когда телега проехала мимо дома, потому что накануне доктор, придя прощаться с учителем, принёс для маленькой Кати кило рису, кулёк какао и двенадцать кусков сахару. Он хорошо лечил людей, — доктор Вайнтрауб, но не любил лечить бесплатно. Никому никогда он не делал такого богатого подарка.
Только к вечеру вернулась Лида Вайсман.
Она сказала, что доктор и докторша оказались тяжёлыми, что земля была очень каменистой и твёрдой, но, к счастью, немец позволил копать неглубоко. Она пожаловалась, что сбила лопатой каблук и порвала юбку, когда слезала с подводы — зацепилась за гвоздик. У неё хватило здравого смысла, а быть может, хитрости помешанной, не сказать Даше, что на заставе, при въезде в город, висит Виктор Вороненко
Но когда Даша вышла, она деловито и тихо сказала:
— Виктор там висит, наверное, страшно хочет пить — рот раскрыт, и губы совершенно пересохли.
Даша перед вечером узнала от старухи Михайлюк о судьбе Виктора. Она молча ушла в глубь двора, где были посажены огурцы, и села между грядок. Вначале мальчишки подозревали, что она собирается воровать с огорода, и следили за ней, но потом поняли, что она задумалась. Она закусила зубами губу и думала. Совершенно не жалея себя, казнилась страшными мыслями. Она вспомнила первый день их совместной жизни и вспомнила вчерашний, последний день, она вспоминала военного врача третьего ранга и сладкий кофе, который она варила для врача и пила вместе с ним, слушая пластинки. Она вспомнила, как муж спросил её шопотом ночью: «Тебе не противно спать с одноногим?» и как она ответила: «Ничего не поделаешь». Она была грешна перед ним всеми грехами, хотелось бежать от людей. Но мир стал жесток, и некому было сочувствовать ей, — надо было подняться с земли, снова уйти к людям. В этот вечер пришла её очередь носить воду из колодца.
Немецкий солдат, живший в соседнем дворе, побежал в уборную, на ходу стаскивая ремень, а на обратном пути увидел сидящую Дашу и подошёл к забору. Он стоял и молча любовался её красотой, её белой шеей, её волосами, её грудью. Она чувствовала его взгляд и думала, зачем, ко всему горю, бог наказал её такой красотой — ведь немыслимо чисто, без греха, жить красивой в подлое, страшное время.
Потом к ней подошёл Розенталь и сказал:
— Даша, вы хотите остаться одна. Я вместо вас наношу воды. Вы посидите здесь, сколько нужно для вашей души. Виталика я накормил холодной пшённой кашей.
Она молча кивнула, посмотрела на него и всхлипнула. Он, пожалуй, единственный из горожан совершенно не изменился за всё время, остался таким, каким был, — внимательным, вежливым, читал свои книги, спрашивал: «Я вам не помешаю?», желал здоровья, когда кто-либо чихал. А ведь от всех людей ушло то, что так ей нравилось. — вежливость, деликатность, отзывчивость. Кажется, только этот старик один во всём городе, говорил: «Как вы себя чувствуете?», «Вы сегодня утром очень бледны», «Поешьте, ведь вы вечером почти ничего не ели». А мир жил так: «Э, всё равно война, всё равно немцы, всё горит, всё пропадает». И она ведь так жила, как весь мир, — неряшливо, не думая о душе.
Она быстро копала щепочкой землю между огуречными плетями и затем старательно закапывала ямки, равняя их с землёй. И когда уже совсем стемнело, она немного поплакала — ей стало легче дышать, захотелось есть, пить чай и захотелось подойти к тронутой Лиде Вайсман и сказать ей: «Ну вот, мы теперь две вдовы — ты и я». А потом она уйдёт в монашки.
В сумерках Розенталь поставил на стол подсвечник, достал из шкафа две свечи. Он их давно берёг. Каждая из них была завёрнута в синюю бумагу. Он зажёг обе свечи. Он раскрыл ящик, которого никогда до этого не открывал, вынул пачки старых писем, фотографий и, сидя за столом, надев очки, перечитывал письма, писанные на голубой и розовой бумаге, выцветшей от долгого времени, внимательно рассматривая фотографии. Старуха Вайсман тихо подошла к нему.
— Что будет с моими детьми? — сказала она.
Она не умела писать. За всю свою жизнь не прочла она ни единой книги, она была невежественной старухой, но в ней взамен книжной мудрости развилась наблюдательность и житейский, во многое проникающий разум.
— На сколько вам хватит этих свечей? — спросила она.
— Я думаю, на две ночи, — сказал учитель.
— Сегодня и завтра?
— Да, — ответил он, — на завтрашнюю тоже.
— А послезавтра будет темно.
— Я думаю, что послезавтра будет темно.
Она мало кому верила. Но Розенталю можно было верить, и она поверила ему. Страшное горе поднялось в её сердце. Она долго смотрела на лицо спящей внучки и строго сказала:
— Скажите, в чём виновато дитя?
Но Розенталь не слыхал её, он читал старые письма.
В эту ночь он перебрал огромный ворох своих воспоминаний. Ему вспомнились сотни людей, прошедших через его жизнь, его ученики и его учителя, вспомнились враги и друзья, вспомнились книги, споры времён студенчества, неудачная, жестокая любовь, пережитая шестьдесят лет тому назад и положившая холодную тень на всю его жизнь, вспомнились годы бродяжничества и годы труда, вспомнилось, сколько было душевных шатаний — от страстной, исступлённой религиозности к ясному, холодному атеизму, вспомнились горячие, фантастические, непримиримые споры. Всё это отшумело, осталось позади. Конечно, он прожил неудачную жизнь. Он много думал, но он мало сделал. Пятьдесят лет он был школьным учителем в маленьком, скучном городке. Когда-то он учил детей в еврейской профессиональной школе, потом, после революции, он преподавал алгебру и геометрию в десятилетке. Ему надо было жить в столице, писать книги, печататься в газетах, спорить со всем миром.
Но в эту ночь он не жалел, что жизнь не удалась ему. В эту ночь впервые ему были безразличны давно ушедшие из жизни люди, страстно ему хотелось одного лишь — чуда, которого он не мог понять, любви. Он не знал её. В раннем детстве воспитывался после смерти матери в семье дядьки, в юности познал горечь женской измены. Всю жизнь свою он прожил в мире благородных мыслей и разумных поступков.
Ему хотелось, чтобы к нему подошёл кто-нибудь и сказал: «Закройте ноги платком, ведь с пола дует, у вас ревматизм». Ему хотелось, чтобы ему сказали: «Зачем вы носили сегодня воду из колодца, ведь у вас склероз». Он ждал, что одна из лежащих на полу женщин подойдёт к нему и скажет: «Ложитесь спать, вредно так поздно ночью сидеть за столом». Ведь никогда никто не подходил к его постели и не поправил одеяла, не говорил: «Вот так будет теплее, вот и моё одеяло». Он знал это, ему предстояло умереть в ту пору, когда законы зла, грубой силы, во имя которой творились невиданные преступления, правили жизнью, определяли поступки не только победителей, но людей, попавших под их власть. Безразличие и равнодушие — великие враги жизни. В эти страшные дни судила ему судьба умереть.
Утром было объявлено, что евреям, живущим в городе, нужно явиться на следующий день в шесть часов утра на плац, возле паровой мельницы. Всех их отправят в западные районы оккупированной Украины: там имперские власти устраивают специальное гетто. Вещей приказано было взять ровно пятнадцать килограммов. Пищу брать не полагалось, так как во всём пути следования военное командование обеспечивало сухим пайком и кипятком.
IV
Весь день к учителю ходили соседи советоваться, спрашивать его, что он думает об этом приказе. Пришёл старик-сапожник Борух, остряк и сквернослов, великий мастер модельной обуви, пришёл печник Мендель, молчальник и философ, пришёл жестянщик Лейба, отец девяти детей, пришёл широкоплечий седоусый рабочий-молотобоец Хаим Кулиш. Все они слышали о том, что немцы во многих городах уже объявляли об этих отправках, но нигде никогда никто не видел ни одного эшелона евреев, не встречал колонн на дальних дорогах, не получал известий о жизни в этих гетто. Все они слышали о том, что колонны евреев идут из городов не к железнодорожным станциям, не по широким шоссейным дорогам, а что ведут евреев в те места, где под городом яры и овраги, болота и старые каменоломни. Все они слышали, что через несколько дней после ухода евреев немецкие солдаты выменивали на базаре мёд, сметану, яйца на женские кофты, детские джемперы, туфли, что жители, приходя домой с базара, тихо передавали друг другу: «Немец менял шерстяной джемпер, который надела соседка Соня в то утро, когда их выводили из города», «Немец менял сандалии, которые носил мальчик, эвакуированный из Риги», «Немец хотел получить три кило мёда за костюм нашего инженера Кугеля». Они знали, они догадывались, что ждёт их.
Но в душе они не верили этому, слишком страшным казалось убийство народа. Убить народ. Никто не мог душой поверить этому.
И старый Борух сказал:
— Разве можно убить человека, который делает такие туфли? Их не стыдно повезти в Париж на выставку.
— Можно, можно, — сказал печник Мендель.
— Ну, хорошо, — сказал жестянщик Лейба, — скажем, им не нужны мои чайники, кастрюли, самоварные трубы. Но не убьют же они из-за этого девять человек моих детей.
И старый учитель Розенталь молчал, слушал их и думал: хорошо поступил он, не приняв яда. Всю свою жизнь прожил он с этими людьми, с ними должен прожить он свой горький последний час.
— Надо бы податься в лес, но некуда податься, — сказал молотобоец Кулиш. — Полицейские ходят за нами следом, с утра уже три раза приходил уполномоченный по кварталу. Я послал мальчика к тестю, и хозяин дома шёл за ним следом. Хозяин хороший человек — он мне прямо сказал: «Меня предупредили в полиции, если даже один мальчик не придёт на плац, то ты ответишь головой, домовладелец».
— Ну что ж, — сказал Мендель-печник, — это судьба. Соседка сказала моему сыну: «Яшка, ты совсем не похож на еврея, беги в деревню». И мой Яшка сказал ей: «Я хочу быть похожим на еврея; куда поведут моего отца, туда пойду и я».
— Одно я могу сказать, — пробормотал молотобоец: — если придётся, я не умру, как баран.
— Вы молодец, Кулиш, — проговорил старый учитель, — вы молодец, вы сказали настоящее слово.
Вечером майор Вернер принимал представителя гестапо Беккера.
— Лишь бы провести организованно завтрашнюю операцию — и мы бы вздохнули, — сказал Беккер. — Я замучился с этими евреями. Каждый день эксцессы: пятеро сбежали, — есть сведения, что к партизанам; семья покончила самоубийством; трое задержано за хождение без повязок; на базаре опознана еврейская женщина, она покупала яйца, несмотря на категорический запрет появляться на базаре; двое арестовано на Берлинерштрассе, хотя прекрасно знали, что по центральной улице им запрещено ходить; восемь человек разгуливали по городу после четырёх часов дня; две девушки пытались скрыться в лес во время марша на работу и были застрелены. Всё это мелочи. Я понимаю, что на фронте нашим войскам приходится иметь дело с более серьёзными трудностями, но нервы есть нервы. Ведь это события одного дня, а каждый день одно и то же.
— Каков же порядок операции? — спросил Вернер. Беккер протёр замшей пенсне.
— Порядок разработан не нами. Конечно, в Польше мы имели более широкие возможности применять энергетические средства. Да без них, по существу, невозможно обходиться, ведь речь идёт о статистических цифрах с солидным количеством нулей. Здесь, конечно, нам приходится действовать в полевых условиях. Сказывается близость фронта. Последняя инструкция позволяет отклоняться от параграфов и применяться к местным условиям.
— Сколько же вам нужно солдат? — спросил Вернер..
Во время этого разговора Беккер держал себя необычайно солидно, куда солидней, чем в обычное время. И сам комендант Вернер чувствовал внутреннюю робость, разговаривая с ним.
— Мы строим дело таким образом, — сказал Беккер. — Две команды — расстреливающая и охраняющая. Расстреливающая — человек пятнадцать — двадцать, обязательно добровольцы. Охраняющая должна быть сравнительно не велика, из расчёта один солдат на пятнадцать евреев.
— Почему так? — спросил комендант.
— Опыт показывает: в тот момент, когда колонна видит, что маршрут её проходит мимо железной дороги и шоссе, начинается паника, истерики, многие пытаются бежать. Кроме того, в последнее время запрещено применять пулемёты — очень невелик процент смертельных попаданий, — предписывается стрелять личным оружием. Это сильно замедляет работу. Ещё надо добавить, ведь рекомендуется расстреливающую команду собирать из минимального количества людей — на тысячу евреев команду в двадцать человек, не больше. Пока идёт работа, немало дела и у охраняющей команды. Вы сами понимаете, что среди евреев довольно большой процент мужчин.
— Сколько же времени это займёт? — спросил Вернер.
— Тысяча человек при опытном организаторе — не более двух с половиной часов. Самое главное — это суметь распределить функции, разбивку и подготовку группы, своевременно подвести её, а сама операция непродолжительна.
— Сколько же вам, однако, нужно солдат?
— Не меньше ста, — решительно сказал Беккер. Он посмотрел в окно и добавил:
— Значение имеет и погода. Запрашивал метеоролога, назавтра в первой половине предполагается тихий солнечный день, к вечеру возможен дождь, но это не имеет для нас значения.
— Следовательно… — нерешительно произнёс Вернер.
— Порядок таков. Вы выделяете офицера, конечно, члена нацистской партии. Расстреливающую команду он составляет так: «Ребята, мне нужны несколько человек с хорошими нервами». Это надо провести сегодня вечером в казарме. Записать надо по крайней мере тридцать, так как процентов десять, как показывает опыт, всегда отпадает. После этого с каждым индивидуально проводится беседа: боишься ли ты крови, способен ли ты выдержать большое нервное напряжение. Больше никаких объяснений с вечера не следует делать. Одновременно по списку составляется команда охранения, унтер-офицеры инструктируются с вечера. Производится проверка оружия. Команда выстраивается в касках к пяти часам утра перед канцелярией. Офицер подробно знакомит с задачей и обязательно ещё раз опрашивает добровольцев. После этого каждому из них выдаётся триста патронов. К шести они приходят на плац, где назначен сбор евреев. Порядок следования: расстреливающая команда идёт впереди колонны в тридцати метрах. За колонной следуют две повозки, так как всегда есть некоторый процент старух, беременных и истеричных женщин, теряющих в дороге сознание. — Он говорил медленно, чтобы майор не упустил некоторых деталей.
— Ну вот, собственно, и всё; дальнейшее инструктирование на месте работы берут на себя мои сотрудники.
Майор Вернер посмотрел на Беккера и вдруг спросил:
— Ну, а как же дети?
Беккер недовольно покашлял. Вопрос выходит за рамки делового инструктирования.
— Видите ли, — сказал он строго и серьёзно, прямо глядя в глаза коменданту, — хотя рекомендуется отделять их от матерей и работать с ними отдельно, я предпочитаю этого не делать. Ведь вы понимаете, как трудно оторвать ребёнка от матери в такую печальную минуту.
Когда Беккер простился и ушёл, комендант вызвал адъютанта, передал ему подробно инструкцию и сказал вполголоса:
— Я всё же доволен, что этот старый доктор покончил с собой заранее: у меня были бы угрызения совести в отношении его; как-никак он ведь мне многим помог, не знаю, дожил ли бы я без его помощи до приезда нашего врача… А последние дни я себя отлично чувствую — и сон гораздо лучше, и желудок, и уже два человека мне говорили, что у меня лучше цвет лица. Возможно, что это связано с этими каждодневными прогулками по саду. Да и воздух в этом городке превосходный, говорят, тут до войны были санатории для лёгочных и сердечных больных.
И небо было синим, и солнце светило, и птицы пели.
* * *
Когда колонна евреев миновала железную дорогу и, свернув с шоссе, направилась к оврагу, молотобоец Хаим Кулиш набрал воздуха в грудь и громко, перекрывая гул сотен голосов, закричал по-еврейски:
— Ой, люди, я отжил!
Он ударил кулаком по виску шедшего рядом солдата, свалил его, вырвал у него из рук автомат и, не имея времени понять чужое, незнакомое оружие, размахнулся тяжёлым автоматом наотмашь, как бил когда-то молотом, ударил по лицу подбежавшего сбоку унтер-офицера. В начавшейся после этого сутолоке маленькая Катя Вайсман потеряла мать и бабушку и ухватилась за полу пиджака старика Розенталя. Он с трудом поднял её на руки, приблизив губы к её уху, сказал:
— Не плачь, Катя, не плачь.
Держась рукой за его шею, она сказала:
— Я не плачу, учитель.
Ему было тяжело держать её, голова его кружилась, в ушах шумело, ноги дрожали от непривычно долгого пути, от мучительного напряжения последних часов.
Толпа пятилась от оврага, упиралась, многие падали на землю, ползли. Розенталь вскоре оказался в первых рядах.
Пятнадцать евреев подвели к оврагу. Некоторых из них Розенталь знал. Молчаливый печник Мендель, зубной техник Меерович, старый добрый плут электромонтёр Апельфельд. Его сын преподавал в Киевской консерватории и когда-то мальчишкой брал уроки математики у Розенталя. Тяжело дыша, старик держал на руках девочку. Мысль о ней отвлекала его.
«Как утешить её, чем обмануть?» — думал старик, и бесконечно горестное чувство охватило его. Вот и в эту последнюю минуту никто не поддержит его, не скажет ему слова, которого хотел он и жаждал услышать всю жизнь, больше всей мудрости книг о великих мыслях и деяниях человека.
Девочка повернулась к нему. Лицо её было спокойно; то было бледное лицо взрослого человека, полное снисходительного сострадания. И во внезапно пришедшей тишине он услышал её голос.
— Учитель, — сказала она, — не смотри в ту сторону, тебе будет страшно. — И она, как мать, закрыла ему глаза ладонями.
* * *
Начальник гестапо ошибся. Ему не пришлось вздохнуть свободно после расстрела евреев. Вечером ему доложили, что вблизи города появился большой вооружённый отряд. Во главе отряда стоял главный инженер сахарного завода Шевченко. Сто сорок рабочих завода, не успевшие выехать с эшелоном, ушли с инженером в партизаны. Этой ночью произошёл взрыв на паровой мельнице, работавшей для немецкого интендантства. За станцией партизаны подожгли огромные запасы сена, собранные фуражирами венгерской кавалерийской дивизии. Всю ночь горожане не спали, — ветер дул в сторону города, пожар мог переброситься на дома и сараи. Кирпичное тяжёлое пламя колыхалось, ползло, чёрный дым застилал звёзды и луну, и тёплое безоблачное летнее небо было полно грозы и пламени.
Люди, стоя во дворах, молча наблюдали, как расползался огромный пожар. Ветер донёс чёткую пулемётную-очередь, несколько ударов ручных гранат.
Яшка Михайлюк в этот вечер прибежал домой без фуражки, он не принёс с собой ни сала, ни самогону. Проходя мимо женщин, молча стоявших во дворе, Яшка сказал Даше:
— Ну что, прав я? Просторно тебе жить теперь — одна хозяйка в комнате?
— Просторно, — сказала Даша, — просторно! В одну могилу уложили и Виктора моего, и девочку шестилетнюю, и учителя-старика. Всех их я своими слезами оплакала, — и вдруг закричала: —Уйди, не смотри на меня погаными глазами, я тебя тупым ножом зарежу, секачом зарублю! Яшка побежал в комнату, сидел там тихо. А когда мать его хотела пойти запирать ставни, он сказал ей:
— Ну их, не отпирайте дверь, они там все, как бешеные, ещё кипятком вам глаза выжгут.
— Яшенька, — сказала она, — ты бы лучше опять на чердак пошёл, там и кровать твоя стоит, а я тебя на ключ закрою.
Словно тени, мелькали в свете пожара солдаты. Их подняли по тревоге, вызывали в комендатуру. Старуха Варвара Андреевна стояла среди двора, седые растрепавшиеся волосы её в свете пожара казались розовыми.
— Что? — кричала она. — Справились, запугали? Во как полыхает! Не боюсь я фрицев! Вы против стариков и детей! Дашка, придёт ещё день, мы их всех, проклятых, в огне жечь будем.
А небо всё багровело, накалялось, и людям, стоявшим во дворах, казалось, что в тёмном дымном пламени горит всё недоброе, подлое, нечистое, чем заражали немцы человеческие души.
СТАЛИНГРАД
Волга — Сталинград
Долог путь от Москвы до Сталинграда. Наша машина шла фронтовыми дорогами, мимо прелестных рек и зелёных городов. Мы ехали пыльными просёлками, укатанными грейдерами; ехали яркими синими полднями, в горячей пыли, и на рассвете, когда первые лучи солнца освещают пышно налившуюся краской рябину, ехали ночью, и луна и звёзды блестели в тихих водах Красивой Мечи, золотой рябью плыли по молодому быстрому Дону.
Мы проехали через Ясную Поляну. Вокруг яснополянского дома пышно разрослись цветы, через открытые окна в комнаты входило солнце, и свежебелёные стены сияли. Лишь плешины на земле возле могилы, где немцы закопали восемьдесят убитых, да чёрные следы пожара на дощатом полу дома напоминали о немецком вторжении в Ясную Поляну. Дом отстроен, снова цветут цветы, снова торжественна своей великой простотой могила; тела вражеских солдат отвезены от неё и похоронены в огромных воронках от тяжёлых немецких фугасок, упавших на яснополянскую землю. И места эти поросли сырой болотной травой.
А мы едем всё дальше по прекрасной земле, охваченной тревогой войны. Всюду: на полях, во время пахоты и молотьбы, за лошадьми, впряжёнными в плуги, на тракторах и комбайнах, за рулём грузовиков, на опасной, тяжкой страде прифронтовых разъездов трудится русская женщина. Это она первой вбежала в подожжённый немцами яснополянский дом, это она равняет лопатой не имеющую конца-края дорогу, по которой идут танки, боеприпасы, скрипят колёсные обозы. Русская женщина приняла на свои плечи тяжесть огромного урожая — сняла его, связала в снопы, обмолотила зерно, свезла на ссыпной пункт. Её загорелые руки не знают покоя от зари до зари. Она правит прифронтовой землей. Подростки и старики помощники ей. Нелегко даётся женщине работа. Вот, утёрши пот, помогает она лошадям тащить вязнущую в песке гружённую тяжёлой медью зерна подводу. Стучит топором на лесозаготовках, валит толстые стволы сосен, водит паровозы, дежурит на речных переправах, носит письма, до зари работает в конторах колхозов, совхозов, МТС. Это она по ночам не спит, ходит вокруг амбаров, стережёт свезённое зерно. Она не боится великой тяжести труда, она не боится ночной прифронтовой жути, глядит на дальний свет ракет, покрикивает, стучит в колотушку. Шестидесятилетняя старуха Бирюкова ночью пошла караулить амбары, вооружившись окованным железом сковородником, а утром, смеясь, рассказала мне: «Темно, луны ещё нет, один прожектор ходит по небу. Только я слышу — подбираются какие-то к амбару, замок пробуют. Сперва испужалась, думаю: что я, старуха, им, окаянным, причинить могу? А потом, как вспомнила, каким потом кровавым мои дочки этот урожай для моих сынов собрали, подошла тихо, наставила, свой сковородник, да как зареву почище городового: „Стой, ни с места, стрелять буду!“ Ну, они так и ахнули в бурьян, зашумели. Отбила я их сковородником от амбара».
Нелегко трудится русская женщина, принявшая в свои руки громаду труда в поле и на заводе. Но тяжелей трудовой ноши та тяжесть, которую несёт её сердце. Она не спит ночи, оплакивая убитого мужа, сына, брата. Она терпеливо ждёт письма от пропавших без вести. Своим прекрасным, добрым сердцем, своим ясным разумом переживает она все тяжёлые неудачи войны. Сколько скорби, сколько широкого и ясного ума в её мыслях, в её словах, как глубоко и мудро поняла она грозу, грохочущую над страной, как добра, человеколюбива и терпелива она!
Нашей армии есть, что защищать, ей есть, чем гордиться — и славным прошлым, и великой революцией, и обширной, богатой землёй. Но пусть гордится наша армия русской женщиной — прекраснейшей женщиной земли. Пусть помнит армия о жене, матери, сестре, пусть боится пуще смерти потерять уважение и любовь русской женщины, ибо нет на свете ничего выше и почётней этой любви.
О многом думалось по дороге к Сталинграду. Ведь длинна эта дорога. Вот уже другое время: часы здесь на час вперёд. Вот и другие птицы — большеголовые коршуны на толстых мохнатых лапах неподвижно укрепились на телеграфных столбах, по вечерам серые совы тяжело, неловко летают над дорогой. Злей стало дневное солнце. Ужи переползают дорогу. И степь уже другая — пышное многотравие её исчезло. Степь коричневая, жаркая; она поросла пыльным бурьяном и полынью, тощим, жалким ковылём, льнущим к потрескавшейся земле. Волы тащат телеги. Вот и двугорбый верблюд стоит среди степи. Всё ближе Волга. Физически ощущается огромность захваченного врагом пространства, страшное чувство тревоги давит на сердце, мешает дышать. Это война на юге, война на Нижней Волге, это ощущение вражеского ножа, зашедшего глубоко в тело, эти верблюды и плоская выжженная степь, говорящие о близости пустыни, — вызывают чувство тревоги.
Отступать дальше нельзя. Каждый шаг назад — большая и, может быть, непоправимая беда. Этим чувством проникнуто население приволжских деревень, это чувство живёт в армиях, защищающих Волгу и Сталинград. Ранним утром мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально в этот холодный и ветреный час. Низко неслись тёмные облака, но воздух был ясен, и на много вёрст был виден белый обрывистый правый берег и песчаные степи Заволжья. Светлая волжская вода широко и свободно шла меж огромных земель, точно могучий металл, прочно соединивший правобережье и Заволжье. У высокого берега вода бурлила, вертела арбузные корки, точила осыпающийся песчаник, волна вздыхала, колебля бакан. К полудню ветер разогнал облака, сразу стало жарко, и Волга засияла под высоко и круто поднявшимся солнцем, поголубела, воздух над ней подёрнулся лёгким синеватым туманом, мягко и спокойно лежал у воды песчаный луговой берег. Одновременно радостно и горько было глядеть на прекраснейшую из рек. Пароходы, выкрашенные в зелёно-серую краску, закрытые увядшими ветвями, стояли у причалов, лёгкий дымок едва поднимался над трубами, — они сдерживали своё шумное, живое дыхание, боясь быть замеченными врагом. Всюду к самому берегу тянутся окопы, блиндажи, противотанковые рвы. У некогда шумных переправ, где беспечно толпились люди, скрипели подводы, гружённые арбузами и дынями, где шныряли мальчишки с удочками, теперь стоят зенитные пушки, сдвоенные и счетверённые пулемёты, вырыты укрытия, замаскированные грузовики, рассредоточившись, ожидают очереди. Война подошла к Волге. Нигде так не звучала артиллерийская канонада, как здесь, над волжским простором. Звук артиллерийской стрельбы, не стеснённый преградами, усиленный эхом, звучит здесь во всю полноту, могуче перекатываясь, поднимается от земли к небу и вновь опускается от неба к земле. Этот торжественный грохот напоминает людям о том, что война вступила в решающую полосу, что отступать дальше нельзя, что Волга — это главный рубеж нашей обороны. И по ночам старухи в волжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмём Сталинград — дальше за Волгу пойдём. Не возьмём Сталинграда — придётся нам обратно за свою границу итти, не удержаться нам тогда в России». Это, конечно, сказка, но в этой сказке, как во всякой сказке, придуманной народом, больше правды, чем в другой были. И мысль о Волге и Сталинграде, о главной и решающей битве владеет всеми: стариками, женщинами, бойцами рабочих батальонов, танкистами, лётчиками, артиллеристами.
В конце августа немцы напали на Сталинград с воздуха. Такой силы воздушного удара немцы не концентрировали ни разу за всю войну: противник произвёл свыше тысячи самолётовылетов. Он обрушил свои удары на жилые кварталы, на прекрасные здания центральной части города, он бил по библиотекам, по детской больнице, по госпиталям, по школам и другим учебным заведениям. Огромное зарево и клубы дыма поднялись над Сталинградом, протянувшимся свыше чем на шестьдесят километров вдоль берега Волги. Долгие часы один из прекраснейших городов Советского Союза подвергался чудовищной бомбёжке. Немцы, конечно, знали, что все заводы находятся на окраине города. Но били они главным образом по центру. Мы не собираемся укорять их за это. Поднявшим меч внятен лишь язык меча.
Одновременно с воздушным налётом противник рвался к Волге северней города. Колонна танков и следующие за танками грузовики с мотопехотой некоторое время непосредственно угрожали северной окраине Сталинграда в районе тракторного завода. Удар врага отразила противотанковая часть подполковника Горелика и зенитчики подполковника Германа. Вместе с ними сражались рабочие батальоны тракторного завода и «Баррикад», нашлись среди рабочих прекрасные артиллеристы, танкисты, миномётчики. Прямо из заводских ворот выезжали танки, выкатывались орудия, вывозились миномёты на поле боя. В эту огненную ночь заводы продолжали работать среди рёва разрывов, в бушевавшем вокруг пламени. Много десятков тяжёлых пушек и танков получила армия за два дня боёв северо-западней Сталинграда. Прекрасно спокойное мужество рабочих, инженеров, начальников заводских цехов. Навсегда войдёт в историю этой войны имя весёлого и пламенного капитана Саркисьяна, первым встретившего тяжёлыми миномётами немецкие танки. Навсегда запомнится зенитная батарея лейтенанта Скакуна. Потеряв связь с командованием зенитного полка, она больше суток самостоятельно дралась с воздушным и наземным врагом. Её атаковали с воздуха пикировщики, с земли — тяжёлые танки противника. Земля и воздух, пламя и дым, чугунный грохот бомбовых разрывов, вой снарядов и пулемётных очередей смешались в единый хаос. На батарее были девушки-зенитчицы: прибористки, дальномерщицы-стереоскопистки, разведчицы. Сутки дрались они рядом с товарищами — артиллеристами. «Подавлены, накрыли», — каждый раз думал командир полка, когда замолкали зенитки. И каждый раз снова слышалась чёткая, размеренная пальба зенитных пушек. Сутки длился этот страшный бой. Лишь на следующий день вечером пришли с батареи уцелевшие четыре бойца и раненый командир. Они рассказали, что за время боя девушки ни разу не ушли в укрытия, а бывали минуты, когда нельзя было не уйти. И внезапный прорыв врага к городу был отбит. Положение упрочилось.
Так открылась первая страница эпопеи обороны Сталинграда, — страница, написанная огнём и кровью, мужеством рабочих и любовью. Оборона Царицына и оборона Сталинграда. Кровопролитные бои снова идут в тех же местах, где красные войска обороняли Царицын. Снова в сводках называются деревни и хутора, известные по обороне Царицына, войска идут мимо поросших травой старых окопов, описанных историками гражданской войны; немало участников обороны красного Царицына, рабочих, партийных работников, рыбаков, крестьян добровольцами идут оборонять красный Сталинград.
Мы приехали в Сталинград вскоре после налёта. Ещё кое-где дымились пожарища. Приехавший с нами товарищ сталинградец показывает нам свой сгоревший дом. «Вот здесь была детская, — говорит он, — а здесь стояла моя библиотека, а вон в том углу, где исковерканные трубы, я работал — туг стоял мой письменный стол». Из-под нагромождения кирпича видны изогнутые остовы детских кроватей. Стены дома горячи, как тело покойника, не успевшее остыть. Ясное беспечное небо смотрит сквозь прогоревшую крышу. Над зданием детской больницы имени Ленина видно скульптурное изображение орла; одно крыло орла отбито осколком бомбы, другое простёрто для полёта. Стены и колоннада погибшего Дворца физкультуры покрыты копотью пожара, и на чёрно-бархатном фоне ослепительно выделяются две белые скульптуры нагих юношей. На окнах пустых домов дремлют холеные сибирские кошки, зелёные вазоны дышат свежим воздухом сквозь выбитые стёкла. Мальчики собирают возле памятника Хользунова осколки бомб и зенитных снарядов. В тихий вечерний час печальна розовая красота заката, глядящего через сотни пустых оконных глазниц. Над многими зданиями прибиты мраморные мемориальные доски: «Здесь выступал в 1919 году Сталин», «Здесь помещался штаб обороны Царицына». В центральном сквере стоит каменная колонна с надписью: «Пролетариат красного Царицына борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей».
Сталинград живёт и будет жить. Нельзя сломить воли народа к свободе. Рабочие отряды расчищают улицы, дымят заводские трубы, а небо покрыто круглыми облачками зенитных разрывов. Люди сразу привыкли к войне. На паром, переправляющий к городу войска, то и дело налетают неприятельские истребители и бомбардировщики. Рокочут пулемётные очереди, бьют зенитки, а матросы, поглядывая на небо, едят сочные ломти арбуза, мальчишки, свесив с парома ноги, внимательно следят за поплавком своей удочки, пожилая женщина, сидя на скамеечке, вяжет чулок. Каждый день на фронт уходят новые рабочие отряды. Сталинград стал в строй пролетарских крепостей страны: Тулы, Ленинграда, Москвы. Эти крепости неприступны. Мы входим в подворотню разрушенного дома. Население дома обедает на столах, устроенных из досок и ящиков, дети дуют в миски с горячими щами. Один из военных товарищей поднимает с земли полуобгоревшую книгу. «Униженные и оскорблённые», — читает он вслух, оглядывает сидящих на узлах женщин и вздыхает. Подошедшая школьница, поняв ход его мыслей, говорит сердито: «К нам это не относится, — мы оскорблённые, но не униженные. Униженными мы никогда не будем».
Ночью мы ходим по улицам. В небе гудение моторов, бесшумно сталкивается свет наших и немецких прожекторов. Торжественно выглядят прямые улицы, пустынные широкие площади. Позвякивают винтовки патрулей. Рокоча, движутся танки, танкисты внимательно оглядывают улицы. Идёт пехота, тяжело и грузно шагая по асфальту. Лица бойцов сосредоточены и задумчивы. Наутро бой. Бой за Волгу, за Сталинград. Вспоминается весь далёкий путь: вновь ожившая, торжественная и тихая Ясная Поляна; пчёлы на могиле Толстого; благородный и верный труд крестьянок на широких полях прифронтовой полосы; Красивая Меча при свете луны; старушечьи сказки о пленном немце, сказавшем: «Не возьмём Сталинграда — не удержаться нам тогда в России»; грохот артиллерийской канонады над Волгой; бронзовый лётчик Хользунов, глядящий внебо; матрасы на волжской переправе… Горько воевать на Волге. Но нет, не только об обороне нужно нам думать. Здесь, на Волге, должна решиться судьба великой войны за свободу. Пусть здесь опустится на врага выкованный в тяжких испытаниях меч победы.
А войска всё идут, идут по тёмным улицам. Лица людей задумчивы. Эти люди будут достойны великого прошлого, революции, — тех, кто пал, обороняя красный Царицын от белогвардейцев. Эти люди достойны любви трудовой русской женщины, они не могут потерять её уважения.
Сталинград
5 сентября 1942 года
Рота молодых автоматчиков
Вечером лежали в степной балке и ругали старшину. Большинство автоматчиков разулись, покачивая головами, разглядывали покрасневшие, саднившие ступни. Болели шеи, натружённые ремнём автомата. Кое-кто решил постирать в мелком, разлившемся по дну балки ручье. Прозрачная вода становилась коричнево-мутной от грязных портянок. Потом портянки сохли на ветвях диких груш и вишен, а ребята ощупывали пальцы ног и вздыхали:
— Да, после такого марша надо бы ногам дать отдохнуть.
Лазарев, узкоплечий парень, с давно нестриженными русыми волосами, мягко льнущими к впалым вискам и затылку, сердито говорил:
— Я старшину предупреждал насчёт того, что ботинки мне тесны, а он говорит: разносятся. Вот и разносились: в кровь ноги разбил.
— Ему хорошо на кухне ехать, загорать, а мы степь ступнёй мерим, — сказал черноглазый, черноволосый горьковчанин Романов и, задрав разутую ногу, бережно подул на воспалившуюся горячую кожу.
— Пыль, солнце, и нет спасения, и конца ей нет и краю, — сказал Петренко. — То ли дело Украина — садки и садки!
Лазарев рассмеялся.
— Ты степь не ругай. Желдубаев обижается, когда степь ругают.
Казах Желдубаев — товарищ Лазарева. Они подружились во время учёбы в резервной части, беседуя в тихий час после занятий, на долгом марше под жестоким степным солнцем, в вихре пыли, такой густой, что рядом идущий вдруг исчезает, становится невидим. И, должно быть, Лазарев кричал в облако пыли:
— Эй, Желдубаев, ты здесь, что ли? Ни черта не видно!
После марша у них были совершенно одинаковые по цвету лица, хотя Желдубаев был самым чёрным, а Лазарев самым белым среди автоматчиков. Загар не приставал к лицу Лазарева, и высокий лоб его оставался таким же белым, каким был до степного похода, А в густой пыли дороги лица казаха и нарофоминца были одинаковы — серые, и только глаза — чёрные круглые у Желдубаева и голубые у Лазарева — сверкали живой влагой.
Они не вели длинных бесед. Они слишком уставали, чтобы вести долгий разговор. Но шагали они рядом, и изредка Лазарев спрашивал:
— Что, брат, устал?
А Желдубаев, вытаскивая обвёрнутую набухшей газетной бумагой пробку из фляги, протягивал товарищу стеклянную пузатую бутылку с тёплой и мутной водой.
— Пей раньше ты, — говорил Лазарев.
— Ничего, ничего, пей, пожалуйста, — отвечал Желдубаев.
Вечером, если не успевали подвезти хлеб, они делили сухари и свёртывали из экономии одну козью ножку. Они жалели друг друга. Вся рота автоматчиков жила необычайно дружно, семейно. Может быть, это происходило от того, что рота была сплошь из молодёжи. И статный Дробот — командир роты, и его заместитель Березюк, сухопарый и длинноносый, и командир взвода лейтенант Шуть, — словом, все автоматчики были примерно одних лет, кто с двадцатого, кто с двадцать третьего года. Но одни из них уже воевали больше года, как Дробот и Березюк, другие, как Романов и Желдубаев, впервые шли в бой.
Ходили они немного вразвалку, поглаживая висящий на груди автомат, поглядывали снисходительно на бойцов-стрелков и весьма гордились тем, что служат в роте автоматчиков. При марше полка их рота шла впереди, и все встречные поглядывали на них и говорили:
— Гляди, автоматчики идут.
Дробот для порядка был строг с ними, требовал, чтобы тщательно ухаживали за оружием, проверял автоматы, подтягивал ребят, но они сами знали и чувствовали, что для них значит ППШ. Дробот и Березюк были украинцами, их семьи остались на оккупированной территории — у Дробота под Белгородом, у Березюка — в Винницкой области, — и в них обоих была какая-то сосредоточенность, злобность, передававшаяся бойцам. Березюка ранили в осенних боях, и на щеке у него был большой розовый, лучами расходившийся рубец. Он всегда придирался к командирам взводов и отделений, но видно было, что делает он это не по злобе, а от любви к службе, и на него не сердились. Любили автоматчики командира взвода Шуть — молодого лейтенанта. Он ещё в школе слыл хорошим, верным товарищем, а ставши комвзводом, говорил своим бойцам:
— Главное, ребята, держите товарищество, не нарушайте, для нас это первое дело.
И сам он никогда не нарушал товарищества автоматчиков.
Черноглазый Романов работал до призыва в знаменитой Павловской артели — на Оке, где делаются лучшие в Советской стране перочинные ножи. Идя на службу, он взял с собой несколько замечательных ножиков со множеством приспособлений. Один был в форме самолёта, другой походил на танк. Романов предполагал, что ножи пригодятся ему в трудную минуту, на такой ножик всегда наменяешь и табаку, и спичек, и чего хочешь, но товарищество в роте было так крепко, и так пришлись по душе Романову ребята, что он не стал менять своих ножей, отдал их без всякого обмена товарищам. Лазарев, грустно улыбаясь, говорил товарищам:
— А я, ребята, до войны токарем был по дереву — шахматы работал из берёзы. Наделал я их великую силу, а сам играть не могу. — И, поглядывая на бойцов живым, умным взглядом, повторял: — Вот какое дело: шахматы делал с утра до ночи, а играть не научился, некогда было.
Пока сохли портянки, автоматчики нюхали дым, идущий от кухни, и позёвывали: очень хотелось есть, но ещё больше хотелось спать после пятидесятикилометрового марша.
Но им не пришлось отдохнуть по-настоящему. В этот день немецкие танки и мотопехота прорвались на одном из участков под Сталинградом. Немцы стремились к Волге, они чуяли влажное дыхание великой реки, они чуяли близость зимы, они напрягали все силы, чтобы вырваться к огромному городу. Командир полка Савинов получил приказ выступить в ту же ночь.
Он прошёл мимо отдыхавших в балке батальонов, оглядывая утомлённые лица людей, прислушиваясь к отрывкам разговоров отдыхавших на земле красноармейцев. Прошёл он мимо автоматчиков и пытливо оглядел их молодые похудевшие, ставшие совсем мальчишескими лица. Многие из них никогда не были в бою.
«Как они, выдержат ли, устоят ли — эти ребята в побелевших от злого солнца гимнастёрках?»
Через несколько часов полк вступил в бой, и этот бой длился больше десяти дней…
Во время краткого отдыха полк вновь стоял в степной балке. Тёплый вечерний воздух был полон рокота своих и вражеских самолётов, высоко в синем небе раздавались пулемётные очереди, стреляли пушки, выли моторы. На земле в это время тоже шёл бой. Белые и чёрные облака разрывов стлались над плоской степью, коротко и чётко печатали скорострельные полуавтоматические пушки, глухо раздавались разрывы тяжёлых немецких снарядов. Иногда протяжно рокотали залпы гвардейских миномётных дивизионов, и в гуле разрывов тонули звуки битвы, шедшей на земле и в небе. А иногда бой утихал, и становилось тихо, — так тихо, что слышно было, как шуршит степная сухая трава и стрекочут кузнечики. В глубокой балке бойцы себя чувствовали спокойно и мирно, точно отдыхали у себя дома, а не в нескольких километрах от противника. Автоматчики лежали на земле, поглаживая свои автоматы. Кряхтя от удовольствия, вытягивались во весь рост. Некоторые из них разулись, некоторые сняли гимнастёрки, и снова на ветвях тощих диких груш и вишен лениво колыхались портянки и жёлтые, мытые в холодной воде рубахи — после нехитрой красноармейской стирки. Я гляжу в молодые худые лица автоматчиков, вышедших из длившегося много дней и ночей боя. Для многих из них этот бой был первым. На их лицах странное смешение весёлого мальчишества и опыта заглянувших в тёмные зрачки смерти людей.
Дробот говорит спокойно и задумчиво. Хорошо, когда молодой командир после боя недоволен собой, спокойно и объективно отмечает ошибки, помешавшие с полной силой развернуться автоматчикам, с настоящей тревогой разбирает случившиеся промахи; хорошо, когда молодой командир ни одного слова не говорит о себе, о своих личных боевых ощущениях и храбрых поступках, хорошо, когда он с восхищением и товарищеской гордостью рассказывает о бойцах. Рота выдержала испытание. На всю роту лишь одни человек оказался недостойным товарищества автоматчиков: младший сержант Роганов в момент наступления очутился на командном пункте полка. Прибежавший на КП Березюк удивлённо спросил:
— Почему вы здесь, младший сержант, а не со своим отделением?
Роганов ответил, что пришёл на КП за ужином для бойцов.
— Неужели нельзя было бойца послать? — медленно сказал Березюк, кривя стянутый шрамом рот. — Сию же минуту отправляйтесь на передний край.
— Есть, — ответил Роганов, но не исполнил приказа лейтенанта.
Всю ночь Березюк был в бою с автоматчиками и не видел Роганова, а утром ему сказали, что Роганов околачивается по полковым тылам. Березюк рассказал бойцам в короткую передышку боя о дезертирстве младшего сержанта.
— Эх, встретился б он мне, застрелил бы, как собаку, — сказал молодой боец.
И товарищество автоматчиков подтвердило в один голос: пусть не живёт на свете, расстрелять его. И никто в мире не имел большего права произнести эти жестокие слова, чем они. Они получили это право смертного приговора дезертиру, потому что сами не жалели своей жизни, потому что щедро проливали свою молодую кровь, потому что прочней металла сделалась их дружба и товарищество в степных боях под Сталинградом.
Вот как рассказывал Лазарев о первом бое:
— Пустили нас впереди стрелков: автоматчики ведь. Приказали к самым дзотам его добираться. Пятеро нас было: я, Романов, что ножи ребятам подарил, Петренко, Бельченко и друг мой главный — Желдубаев. Уже к вечеру было, солнышко садится, а огонь такой, что страшно сказать, — мина к мине ложится, дым, пыль стоит, вся земля вокруг нас минами разрыта. Они, мины, землю глубоко не роют, а вроде разгребают, как курица лапами. Засвистит — ляжем, разорвётся — опять вперёд идём. Несколько раз он нас накрыть хотел, — ну прямо, кажется, вот уже последнее дыхание пришло, в пяти шагах рвутся, в ушах так и звенит. Тут бы пожилой человек пропал обязательно, а у нас, молодых, ноги крепкие; как кинемся в сторону — один туда, другой сюда, он за нами минами не угонится, потеряет цель, а мы соберёмся, опять вперёд идём. Такое нас упорство взяло: ну, что хочешь делай, лезем вперёд и только. Уж совсем близко стали подходить, метров двести оставалось, вдруг пять танков из-за холма вышли и прямо на нас. Романов рядом со мной был. Посмотрел он на них — в первый раз он немецкие танки видал — и сказал: «Ну, смерть нам сейчас будет». Легли мы, смотрим на них. Обратно повернуть? Нет, такой мысли у ребят не было, а танки постояли, через наши головы огонь повели, постреляли и опять за холм вернулись. Переглянулись мы: что же, ребята, давай вперёд пробираться. Такое уж наше дело, ничего не попишешь. И снова пошли, только, правду скажу, настроение у нас стало очень серьёзное, особенно после танков этих, и не верилось, что живыми из этого боя выйдем. Но тут мы совсем к немцу подошли, видать их прямо, совсем рядом. Человек двадцать пять автоматчиков мы насчитали, офицер с ними был, — шинель распахнута, и сумку видно на ремне под шинелью. Ходит, он взад и вперёд, всё поглядывает в нашу сторону. Их двадцать пять, а нас пятеро, у них автоматы, и мы с автоматами. Полежали мы, подумали каждый про себя и открыли с ними бой. И только очереди мы первые дали, Желдубаев толкает меня и говорит: «Я сшиб его». И я как-то удивился, говорю: «Да ну?» А он на меня посмотрел, зубами смеётся: «Правда». И как-то он сказал это «правда», что сразу у нас настроение поднялось, и мы смеяться стали, и такое настроение стало, ну, я прямо не скажу, объяснить нельзя. Только минуты даже не прошло — немецкий снайпер Желдубаева сшиб, прямо в лоб пуля пошла, он лёг рядом со мной и слова не сказал, и не стало его. Лежит мёртвый, и я в его крови. Тут уж мы четверо бой вели. Я не могу рассказать, как только отбили мы своим огнём этих двадцать пять, не скажу я, сколько мы их положили, какие там убегли, врать не хочу. Дело вечером было, только не мы, а они с поля ушли; и я остался с Желдубаевым в степи, выкопал ему могилу, положил его туда своими руками, простился с ним и своими руками закопал землёй.
Товарищи слушали рассказ Лазарева, изредка вставляя реплики:
— Случай интересный был у Бугрова, но Бугров — он убитый.
— Это верно, когда танки пошли на нас, мы подумали: «Ну, смерть нам сейчас будет!»
— А хуже всего в бою, что старшина обеда не приносит, загорает возле кухонь и на передовую боится полезть; вот у нас от этого тоже потеря была: невтерпёж станет, пойдёт кто за обедом, а его и подшибут. Тут местность — степь, обед на передовую надо ночью всегда подвозить, днём не проберёшься, а в части не сообразили; вот и бывали дни, голодными воевали, а от этого настроение, знаете, какое? Хорошо ещё, мы, молодые, сознание имеем для любой трудности. Ночью, словом, обед надо на передовую везть.
Когда Лазарев кончил рассказ о том, как прощался он с мёртвым Желдубаевым, черноглазый Романов сказал:
— Я раньше думал: что же самое страшное в бою? А теперь вижу: самое страшное товарища в бою потерять. Как перед смертью лейтенант Шуть стал с нами прощаться и сказал: «Я только одно прошу, ребята, будьте дружней, держитесь дружней, держитесь всегда вместе, не тушуйтесь», так у всей роты слёзы и покатились. Я понял тогда: товарищ в бою — это лучше отца-матери. И я не думал, что автоматчики всей ротой плакать могут.
Степь была залита розовым светом садящегося солнца, а в балке стоял полумрак. Шли от кухонь бойцы с котелками, светлели на тёмных ветвях сохнущие портянки и рубахи. Мне подумалось, как жестоко и страшно ошибся младший сержант Роганов: лучше потерять жизнь в бою, чем потерять уважение и любовь верных людей из роты молодых автоматчиков.
17 сентября 1942 года. Донской фронт, северо-западнее Сталинграда
Душа красноармейца
Противотанковое ружьё напоминает старинную пищаль. Оно так же велико, тяжеловесно, управляются с ним два бойца — первый и второй номер. В походе первый номер несёт ружьё, второй номер — увесистые бронебойные патроны, похожие на снаряды малокалиберной пушки, счётом тридцать штук, пятизарядную винтовку, к ней сто патронов, две противотанковые гранаты, ну и, само собой, — шинель и вещевой мешок. Всё это вместе по весу приблизительно соответствует ружью. От ружья в походе сильно ноет плечо и затекает рука. Прыгать с ним неудобно, трудно ходить по скользкому, тяжесть ружья мешает движению, не даёт сохранять равновесие. Бронебойщик шагает тяжёлой широкой походкой, немного припадая на одну ногу, куда падает тяжесть ружья. Его походку можно отличить от лёгкого хода командира, от мерного, ровного марша стрелка, от шаркающей «флотской» поступи автоматчиков, от стремительного хода привыкшего к вечному движению связиста. Да и по внешности легко отличить бронебойщика. Этот народ большей частью коренастый, плечистый. По духу, характеру такой человек должен походить на тех русских охотников, которые ходили с рогатиной поднимать в чаще матёрого медведя. И надо прямо сказать, что клыкастый угрюмый бирюк — безобиднейшая тварь по сравнению с тяжёлым немецким танком, вооружённым скорострельными пушками и пулемётами.
Человек, опытный в металлургическом производстве либо знающий работу шахты, прийдя в заводской цех или в надшахтное здание, почти всегда без ошибки укажет вам сталевара, горнового, чугунщика, каталя либо забойщика, крепильщика, машиниста врубовой машины. Каждого из них заметно отличает и походка, и одежда, и взмах руки при ходьбе, и речь. Всякий ищет себе профессию по характеру, а тяжкая и благородная профессия допечатывает характер рабочего, по подобию своему образует человека. Так и военное дело отбирает и соединяет людей по возрасту, силе, уму, по характеру, по страсти. И первая задача умелого командира и дельного комиссара—помогать этому естественному отбору, подсказывать людям их профессию в суровой и тяжкой работе войны, помогать определяться пулемётчикам, разведчикам, связистам.
Вот для меня боец Громов сделался образцом характера бронебойщика, хотя среди людей в роте многие были шире его в плечах, решительнее в движениях, как, скажем, темнолицый Евтихов, причинивший, немало беды немцам, или старший сержант Игнатьев, человек с большими руками, большим тяжёлым подбородком и резкими, быстрыми поворотами толстой, красной от загара, шеи.
Громову тридцать семь лет, до войны занимался он в Нарофоминском районе Московской области сельскими, колхозными делами — проще говоря, был пахарем. Вряд ли выходя июньским рассветом в прошлом году на колхозную конюшню и запрягая смирную лошадку в неповоротливую скрипучую подводу, думал он о том, что примерно через год придётся ему заняться истреблением один на один тяжёлых немецких танков.
Глядя на его бледносерое, не поддающееся загару лицо, тронутое морщинами от долгой нелёгкой работы, невольно спрашиваешь себя: случайно ли стал этот человек бронебойщиком, первым номером расчёта противотанкового ружья? Может быть, тот же случай мог определить его ездовым в полковой обоз, или посыльным при штабе, либо мог состоять он часовым при армейском интендантстве, проверять разовые и постоянные пропуска?
Но нет, не так. В его короткой раздражённой речи, в его светлых жёлто-зелёных и совсем не добрых глазах, в его движениях и повадках, в его неохотном рассказе, в его уверенно-снисходительном отношении к миру — во всём проявляется характер этого человека. Внутренний закон, а не случай определил его в стрелки противотанковой роты. В глазах его, дерзких, глядящих прямо и придирчиво, в его недобром, чуждом всепрощению отношении к слабостям человеческим, в его резких и насмешливых суждениях о несовершенстве жизни сказывался характер недюжинный, прямой, сильный и упрямый.
Ещё в походе Громов болел, «мучился животом», но не захотел ложиться в госпиталь. Он медленно шёл под не ведающим жалости степным солнцем, неся на плече ружьё. Командир отделения Чигарев два раза сказал ему:
— Сходи в санчасть. Ты с лица сбледнел как-то.
— А что мне санчасть? — сердито отвечал Громов. — На печь, что ли, меня положат? Одно лечение — вперёд итти.
— Ну, дай ружьё понесу, — говорил второй номер Валькин, — натёрло, небось, холку.
— Ладно, ты за мою холку не беспокойся, — раздражённо ответил ему Громов, — шагай за мной, твоё дело маленькое.
И он шёл, всё шёл в горячей белой пыли, время от времени облизывая шершавые, сухие губы, вздыхал и тяжело, шумно втягивал в себя воздух. Ему было очень трудно. Ночью, несмотря на усталость, он спал плохо, беспокойно и тяжело, его лихорадило. «Вот, война, — думал он, — днём жара мучит, ночью холод, озноб бьёт».
Впервые в жизни пришлось ему побывать на Волге. Острым, всё замечающим глазом осматривал он просторные степные земли, оглядывал больших мохнатых коршунов, цепкими когтистыми пальцами держащихся за белые скользкие изоляторы на телеграфных столбах, прищурившись, смотрел он на реку, всю в белых барашках, поднятых сильным низовым ветром. Он разговаривал в деревнях с рослыми волжскими старухами, с бородатыми седыми рыбаками и вздыхал, слушая рассказы о богатствах огромной реки, о больших урожаях пшеницы, бахчах, виноградниках.
«Эх, дошёл, жулик, до коренной волжской земли», — думал он, прислушиваясь по ночам к орудийным раскатам, гулко перекатывающимся над речным простором. Он мучился от невесёлых, тяжёлых мыслей, — они не оставляли его ни днём в степи, ни на ночных привалах, он наполнялся тяжёлой, медленной злобой и безжалостно осуждал в своём сердце все ошибки, все проявления нестойкости.
И весь он был охвачен тяжёлой злобой человека, которого война оторвала от родного поля, от избы, от жены, родившей ему детей, — злобой недоверчивого Фомы, своими глазами увидевшего огромную народную беду, вызванную нашествием немцев. Он видел сожжённые деревни, навстречу ему по пыльным дорогам тащились телеги беженцев, он видел старух и стариков, баб с грудными ребятами на руках, ночевавших под открытым небом в степных балках, он видел невинную кровь, он слышал страшные простые рассказы, которые были правдой от первого до последнего слова.
И ни болезнь, ни тяжесть похода по знойным и пыльным дорогам не могли сломить его воли, его желания — уничтожать немецкие танки… Это желание, упорное и медленное, созрело и выросло в сердце Громова, человека, никогда не забывающего обид. Его тяжёлое сердце медленно раскалялось в огне войны, оно, точно каменный уголь, разогретый в горне, рдело тёмнокрасным огнём. И уже нельзя было потушить этот огонь. Он презрительно поглядывал на стрелков, на расчёты лёгких пулемётов. Он верил в силу своего огромного ружья-пушки, он прощал ружью его вес и вечером, после чудовищного напряжения сил, никогда не относился к ружью небрежно или с раздражением. Он терпеливо и внимательно очищал тряпочкой побелевший от пыли ствол, медленно и любовно смазывал замок, пробовал пальцами могучую пружину спускового механизма, разглядывал темносинюю сталь, блестевшую под слоем масла. Прежде чем лечь, он, кряхтя, укладывал спать своё ружьё — так, чтобы не было ему сыро, чтобы не ложилась на него дорожная пыль, чтобы не попала в дуло земля, чтобы не наступил на него проходящий в темноте боец. Он его уважал — большое ружьё, он верил в него так, как в мирные времена верил в стальные лемеха тяжёлого плуга. Он был умелым пахарем в мирные времена, а в час войны Громов взял в руки ружьё, пробивающее броню германского танка. Это ружьё было подстать его натуре, его нелёгкой душе, его недобрым зелёным глазам, — всему духу человека, не прощающего обиду и помнящего добро и зло до последнего вздоха. Он не так уж сладко жил до войны. Он изведал и тяжкий долгий труд, и нужду. Но такой обиды он не мог помыслить. И он шёл на врага, припадая на ту ногу, куда ложилась тяжесть ружья, облизывая пересохшие губы, дыша знойным, белым от пыли воздухом, необщительный, неудобный для людей, шедших рядом и уступающих ему дорогу. Так в древние времена шли воины с неуклюжими мушкетами, и все кругом поглядывали на них с почтением, надеждой и даже со страхом. И в словах его, в насмешливой и гордой независимости проявлялась душа человека, который пошёл на войну, ничего уже не жалея: мог он, усмехнувшись, отдать последнюю папиросу, небрежно кинуть попросившему прикурить бойцу единственный свой коробок спичек, не жалел он своего заболевшего в походе тела, не считал быстрых ударов натруженного сердца, не думал о смерти, навстречу которой шагал…
— Громов, верно, сходил бы в санчасть, — говорил ему старший сержант Игнатьев.
— Нет, — отвечал Громов.
Ему было очень трудно: жестокая война всей тяжестью легла на его плечи, его знобило ночью, а днём в степи иногда белый туман застилал ему глаза, и он не знал — пыль ли это встала в воздухе, или меркнет от хвори его зрение.
И он шагал всё вперёд, — больной солдат, упрямый и злой, не ждущий никаких похвал за великий подвиг — терпение,
Ночью они заняли боевой рубеж. Пробираться пришлось ползком, то и дело останавливаясь, припадая к земле. Над передним краем летала фашистская «керосинка» — потрескивающий шумливый самолёт. «Керосинка» ставила фонари — ракеты — и летала между ними, высматривала в белом сиянии, куда бы уронить малокалиберную бомбу. Вреда от этой «керосинки» было немного, но шуму ибеспокойства она причиняла порядочно — мешала спать, словно блоха.
Почти до рассвета не спал Громов, лёжа на дне «пистолетной» щели, устроенной таким образом, что в неё можно было упрятаться и расчёту и противотанковому ружью на тот случай, если германским танкистам удалось бы утюжить гусеницами наш передний край. Валькин дремал, прислонившись к стене ямы. Ему было холодно, и он то и дело натягивал на ляжки полы шинели. Громов сидел рядом с ним и постукивал зубами. «Керосинка» повесила ракету прямо над их головами, и в щели стало так неприятно светло, что Валькин проснулся. Он посмотрел на Громова и тихо, позёвывая, сказал:
— Слышь, возьми мою шинель, ей-богу, а я так посижу, выспался я вроде.
— Ладно, спи, — ответил Громов.
Он никогда не был любезен со вторым номером, но сердцем помнил ворчливую и нежную заботу товарища. И Валькин, глядя иногда на угрюмого Громова, думал:
«Этот уж вытащит меня, хоть без обеих ног останусь, не бросит, зубами утащит от немца».
— Волга где? — спросил Громов.
— Вроде на левой руке, — сказал Валькин.
— А справа холмики — это немец, — сказал Громов и спросил: — Ты пряжку в сумке отстегнул? Патроны сподручней доставать будет.
— Весь магазин разложил, — ответил Валькин. — Тут и патроны, и гранаты, и сухари, и селёдка, — чего хочешь.
Он рассмеялся, но Громов даже не улыбнулся.
С восходом солнца начался бой. Сразу определилось, что главными запевалами были наши артиллеристы и немецкие миномётчики. Они забивали все голоса боя — и пулемётные очереди, и треск автоматов, и короткое рявканье ручных гранат. Бронебойщики сидели впереди нашей пехоты, на «ничьей» земле; над их головами угрюмо завывали советские снаряды, за их спиной рвались германские мины, с змеиным шипом резавшие воздух, сухо барабанили сотни осколков и комьев земли. Перед глазами и за спиной бронебойщиков поднялись стены белого и чёрного дыма, серо-жёлтой пыли. Это принято называть «адом». И Громов среди этого ада прилёг на дно щели, вытянул ноги и дремал. Странное чувство внутреннего покоя пришло к нему в эти минуты. Он дошёл, не сдал. Он дошёл и донёс своё ружьё, он шёл так исступлённо, как идут в дом мира и любви, как идут больные путники домой, боясь остановок, охваченные одним лишь желанием увидеть близких. Ведь несколько раз в пути казалось — он упадёт. И вот он дошёл. Он лежал на дне щели, ад выл тысячами голосов, а Громов дремал, вытягивая натруженные ноги: бедный и суровый отдых солдата.
Валькин сидел на корточках возле него и, шопотом матерясь, глядел, как бушевала битва. Иногда мины шипели так близко, что Валькин прятал голову и быстро оглядывался на Громова, — не видит ли первый номер егоробости. Но Громов полуоткрытыми глазами смотрел в небо, лицо его было задумчиво и спокойно. Несколько раз шли немцы в атаку и отходили обратно: не могли прорваться сквозь огонь советской пехоты. И у Валькина нарастала тревога: он внутренне чувствовал, что с минуты на минуту должны появиться танки. Он поглядывал на Громова и беспокоился — сможет ли больной первый номер выдержать бой с немецкими машинами.
— Ты бы поел чего, а? — спросил он и добавил, желая вызвать Громова на разговор: — Говорил я старшине, чтоб сто граммов тебе дали, для лекарства прямо, от живота, — не дал, черт. А сам, небось, сколько хочешь потребляет.
Но и этот интересный разговор не поддержал Громов. Он лежал на спине и молчал. Валькин внезапно припал к краю щели.
— Громов, идут — закричал он пронзительно. — Идут, Громов, вставай!
И Громов встал. В дыму и пыли, поднятой рвущимися снарядами, двигались огромные, быстрые и осторожные, одновременно тяжёлые и поворотливые танки. Немцы решили прорубить путь пехоте.
Громов дышал шумно и быстро, жадным, острым взором разглядывал танки, шедшие развёрнутым строем из-за невысокого холма.
Я спрашивал его потом, что испытал он в первый миг своей встречи с танками, не было ли ему страшно.
— Нет, какой там, не испугался, даже, наоборот, боялся, чтоб не свернули в сторону, — а так страху никакого… Пошли в мою сторону четыре танки. Я их близко подпустил — стал одну на прицел брать. А она идёт осторожно, словно нюхает. Ну, ничего, думаю, нюхай. Совсем близко, видать её совершенно. Ну, дал я по ней. Выстрел из ружья невозможный, громкий, и отдачи никакой, только легонько совсем толкнуло, меньше чем от винтовки. А звук прямо особенный, рот раскрываешь и всё равно глохнешь. И земля даже вздрагивает. Сила! — И он погладил гладкий ствол своего ружья. — Ну, промахнулся я, словом. Идут вперёд. Тут я второй раз прицелился. И так мне это весело, и зло берёт, и интересно, ну прямо в жизни так не было. Нет, думаю, не может быть, чтобы ты немца не осилил, а в сердце словно смеётся кто-то: «А вдруг не осилишь, а?» Ну, ладно. Дал по ней второй раз. И сразу вижу — попал, прямо дух занялся: огонь синий по броне прошёл, как искра, быстрый. И я сразу понял, что бронебойный снарядик мой внутрь вошёл и синее пламя это дал. И дымок поднялся. Закричали внутри немцы, так закричали, я в жизни такого крику не слышал, а потом сразу треск пошёл внутри, трещит, трещит. Это патроны рваться стали. А потом пламя вырвалось, прямо в небо ударило. Готов! Я по второй танке дал. И тут уж сразу, с первого выстрела, пламя синее на броне. Дымок пошёл. Потом крик. И огонь с дымом снова. Дух у меня возрадовался, и хвори никакой, сразу выздоровел. И гордо как-то себя чувствую. И так дух радуется, прямо не было со мной такого. Всему свету в глаза смотреть могу. Осилил я. А то ведь день и ночь меня мучило: неужели она меня сильней…
Разговаривали мы с Громовым в степной балке. Солнце уже село. Сумрак наполнил балку, неясно чернели длинные противотанковые ружья, прислонённые к стенке овражка, прорытого весенней водой, мерно посапывали, завернувшись в шинели, бронебойщики. Молча сидел подле Валькин, натягивал на мёрзнущие ноги полы шинели. Лицо его было тёмным от загара и сумерек, казалось мрачным.
— Ты бы закрылся шинелью, больной ведь человек, — сказал он.
— Э, чего там! — Громов махнул рукой.
Его взволновал рассказ о первой встрече с танками. Глаза его светились в полутьме, они были совсем светлыми, большими, зелёными, недобрыми.
И я сидел рядом и смотрел молча на него: на больного солдата, осилившего немцев, на человека, которому было совсем не легко воевать, на труженика земли, ставшего бронебойщиком не по случаю, не по велению начальства, а просто по доброй воле, от всей души.
20 сентября 1942 года. Донской фронт, северо-западнее Сталинграда
Сталинградская битва
Месяц тому назад одна наша гвардейская дивизия своими тремя стрелковыми полками, с артиллерией, обозами, санитарной частью и тылами подошла к рыбачьей слободе на восточном берегу Волги, напротив Сталинграда. Марш был совершён необычайно стремительно — на автомашинах. День и ночь пылили грузовики по плоской заволжской степи. Коршуны, садившиеся на телеграфные столбы, становились серыми от пыли, поднятой движением сотен и тысяч колёс и гусениц, верблюды тревожно озирались, — им казалось, что степь горит; могучее пространство всё клубилось, двигалось, гудело, воздух стал мутным и тяжёлым, небо заволокло красной ржавой пеленой, и солнце, словно тёмная секира, повисло над тонущей во мгле землёй. Дивизия почти не делала остановок в пути, вода вскипала в радиаторах, моторы грелись, люди на коротких остановках едва успевали глотнуть воды и отряхнуть с гимнастёрок тяжёлую, мягким пластом ложившуюся пыль, как раздавалась команда: «По машинам!»— и снова моторизованные батальоны и полки, гудя, двигались на юг. Стальные каски, лица, одежда, стволы орудий, закрытые чехлами пулемёты, мощные полковые миномёты, машины, противотанковые ружья, ящики с боеприпасами — всё сделалось рыжевато-серым, всё покрылось мягкой тёплой пылью. В головах людей стоял шум от гула моторов, от хриплого воя гудков и сирен, — водители боялись столкновений в пыльной мгле дороги, всё время жали на клаксоны. Стремительность движения захватила всех — и бойцов, и водителей, и артиллеристов. Только генералу Родимцеву казалось, что его дивизия движется слишком медленно; он знал, что в эти дни немцы, прорвав нашу сталинградскую оборону, вырвались к Волге, заняли господствующий над городом и Волгой курган и продвигались по центральным улицам города. И генерал всё торопил движение, всё повышал и без того бешеный темп его, всё сокращал и без того короткие остановки. И напряжение его воли передавалось тысячам людей, — им всем казалось, что вся их жизнь состоит в стремительном, день и ночь длящемся походе.
Дорога повернула на юго-запад, и вскоре стали попадаться клёны и вербы с красными стройными ветвями, с узкими серебристо-серыми листьями, вокруг раскинулись большие сады, засаженные приземистыми яблонями. И одновременно с приближением к Волге дивизия увидела тёмное высокое облако — его нельзя было спутать с пылью, оно было зловещим, быстрым, лёгким и чёрным, как смерть: то поднимался над северной частью города дым горящих нефтехранилищ. Большие стрелы, прибитые к стволам деревьев, указывали в сторону Волги, на них было написано: «Переправа», и надпись будила в солдатской душе тревогу; казалось, что чёрный ободок вокруг надписи из того смертного дыма, что стоит под горящим городом. Дивизия подошла к Волге в грозные для Сталинграда часы: нельзя было дожидаться ночной переправы. Люди торопливо сгружали с машин ящики с оружием и патронами, ломали крышки, вместе с хлебом получали гранаты, бутылки с горючей жидкостью, сахар, колбасу…
Нелёгкая вещь быстро переправить через Волгу полнокровную дивизию даже во время манёвров. Но переправить дивизию, когда над Волгой светит ясное солнышко, когда воздух прозрачен, когда в небе носятся жёлтые осы — «мессеры», когда немецкие пикировщики бомбят берег, а миномёты и автоматчики обстреливают с высот расстилающуюся перед ними в своей ясной шири реку, — это не то, что не легко, это больше, чем трудно.
Но дух стремительного движения, принятый дивизией на марше, воля к сближению с противником помогли справиться с этой задачей. Переправа прошла с малыми потерями, — настолько стремительно и смело была она проведена. Люди грузились на баржи, паромы, лодки. «Готово?» — спрашивали гребцы. «Вперёд, полный!» — кричали капитаны катеров, и серенькая подвижная полоска зыбкой воды между бортом, и берегом вдруг начинала расти, шириться, волна тихо поплёскивала у носа судёнышка, и сотни глаз напряжённо, внимательно глядели то на воду, то на поросший, начавший желтеть листвой низовой берег, то туда, где в беловатой дымке высился сожжённый город, принявший жестокую и прекрасную судьбу. Баржи колыхались на волне, и людям стрелковой дивизии становилось страшно оттого, что враг всюду, в небе и на берегу, а они встречаются с ним, не чувствуя успокаивающей прочности земли под ногами. Невыносимо прозрачен и чист был воздух, невыносимо ясно синее небо, безжалостно ярким казалось солнце, обманчиво неверной текучая мутная вода. И никого не радовало, что воздух чист, что ноздри ощущают речную прохладу, что воспалённых от пыли глаз касается нежная влажность дыхания Волги. На баржах, паромах, катерах и лодках молчали. О, почему не стоит над рекой душная и густая земная пыль! Почему так прозрачен и тонок голубоватый дымок горящих шашек! Головы тревожно поворачивались, все глядели на небо.
— Пикирует, паразит! — крикнул кто-то.
Метрах в пятидесяти от баржи вдруг выгнало из воды высокий и тонкий голубовато-белый столб с рассыпчатой вершиной. Столб обвалился, обдав людей обильными брызгами, наплескав водой на дощатую палубу. И тотчас ещё ближе вырос и обрушился второй столб, за ним — третий. А в это время немецкие миномётчики открыли беглый огонь по начавшей переправу дивизии. Мины рвались на поверхности воды, и Волга покрывалась рваными пенными ранами, осколки застучали по бортам баржи; тихо вскрикивали раненые, так тихо, словно старались скрыть ранение от друзей, врагов, самих себя. А тут уж засвистели над водой винтовочные пули.
Был страшный миг, когда тяжёлая мина ударила в борт небольшого парома, блеснуло пламя, тёмным дымом закрыло паром, послышался звук взрыва и протяжный, точно родившийся из этого грохота, людской вскрик. И тотчас тысячи людей увидели, как среди покачивающихся на воде древесных обломков зеленеют тяжёлые стальные каски плывущих. Двадцать гвардейцев из сорока на пароме погибли.
И правда, страшен был этот миг, когда гвардейская дивизия, сильная, как Илья Муромец, не смогла помочь двадцати раненым, ушедшим под воду.
Ночью переправа продолжалась; и никогда, пожалуй, сколько существуют свет и тьма, люди так не радовались мраку сентябрьской ночи.
Генерал Родимцев провёл эту ночь в напряжённой деятельности. За время войны Родимцеву пришлось пройти через много испытаний. Его дивизия дралась под Киевом, она выбивала из Сталинки прорвавшиеся эсэсовские полки, она не раз разбивала кольцо окружения, переходя от обороны к бешеным атакам. Темперамент, сильная воля, спокойствие, быстрота реакции, уменье наступать, когда всякому другому кажется, что о наступлении мечтать нельзя, тактическая опытность и осторожность, сочетающиеся с тактическим и личным бесстрашием, — черты военного характера молодого генерала. И характер генерала стал характером его дивизии.
Мне часто приходилось встречать в армии больших патриотов своего полка, батареи, танковой бригады. Но нигде, пожалуй, не видел я такой привязанности, такого патриотизма, как здесь. Он носит трогательный и подчас несколько смешной характер. В дивизии гордятся, конечно, в первую очередь своими боевыми делами, гордятся своим генералом, своей техникой. Но если послушать командиров, то нигде нет такого повара, умеющего мастерски печь пирожки, такого парикмахера, как Рубинчик, который не только замечательно бреет, но и артистически играет на скрипке. «О, наша дивизия!» — только и слышишь во время разговоров. Когда кого-нибудь хотят пристыдить, говорят: «Что ты, ей-богу, делаешь, ведь в нашей-то дивизии…» Часто также слышишь: «Вот скажу генералу… генерал будет доволен, генерал будет огорчён». Ветераны, «фундаторы», как они себя называют, рассказывая о больших военных делах, обязательно вставят в разговор: «Да уж так повелось, наша дивизия всегда дерётся на самых ответственных участках». Раненые в госпиталях беспокоятся, как бы их не отправили в другую часть, пишут письма товарищам, а по выздоровлении часто проделывают долгий и трудный путь, лишь бы разыскать свою дивизию.
Может быть, в эту ночь, когда последние подразделения переправились в Сталинград, генерал подумал, что дружба, связывающая людей, поможет ему воевать в этой исключительно своеобразной и тяжёлой обстановке.
Действительно, трудно было бы придумать более сложную и неблагоприятную обстановку начала боя. Дивизия, вступая в Сталинград, разделялась на три части: во-первых, тылы её и тяжёлая артиллерия оставались на восточном берегу, отделённые от полков Волгой; во-вторых, полки, переправившиеся в город, тоже не могли держать сплошной линии фронта, так как немцы уже стояли между двумя полками, переправившимися в заводском районе, и полком, переправившимся ниже по течению, в центральной части города.
Я убеждён, что именно это чувство своего «дивизионного» патриотизма, любовь, привычка, связывающая командиров, некое единство военного стиля, единство характера дивизии и её командира в большой степени помогли разъединённым подразделениям, отделённым от тылов Волгой, действовать не вразброд, а как стройное целое, — установить связь, взаимодействие и в конце концов, блестяще решив общую боевую задачу, создать непрерывную линию фронта всех трёх полков и образцово наладить снабжение боеприпасами и продовольствием. Этот дух общности был как бы подосновой боевого умения, мужества и упорства командиров и бойцов дивизии.
В самом городе, положение было тяжёлым: немцы считали, что занятие Сталинграда вопрос дня, может быть, — часов. Главной силой обороны являлась, как часто это бывает в тяжёлые времена, наша артиллерия. Но немцы энергично и довольно успешно боролись с ней силами автоматчиков, — условия города позволяли незаметно подкрадываться к пушкам и внезапными очередями выбивать расчёты. Немцы вот-вот собирались вырваться к берегу и опрокинуть нас в Волгу. Но недаром день и ночь шли в клубах пыли машины, недаром степь словно заволокло густым жёлтым дымом.
Наутро генерал Родимцев переправился в Сталинград на моторной лодке.
Дивизия сосредоточилась и была готова к бою.
Что должна была предпринять дивизия, вступившая в строй обороняющих Сталинград войск? Дивизия, тыл которой находился за Волгой, командный пункт в пяти метрах от воды, а один полк был «отжат» немцами от остальных полков. Занять оборону, начать срочно окапываться, укрепляться в домах? Нет, не это. Положение было настолько тяжёлым, что Родимцев прибег к иному, грозному, уже испытанному им под Киевом средству, — он начал наступать! Наступать всеми полками, всеми средствами своего могучего огня, всей силой своего умения, всей стремительностью. Он начал наступать всей силой горького гнева, охватившего тысячи людей, увидевших в красном свете восходящего солнца тяжко израненный немцами город с его белыми домами, чудесными заводами, широкими улицами и площадями.
Солнце восхода, словно огромный, налившийся кровью скорби и гнева глаз, смотрело на бронзового Хользунова, на орла с одним простёртым крылом над обвалившимся зданием детской больницы, на белые фигуры нагих юношей, выделяющихся на бархатно-чёрном фоне покрывшегося копотью пожара Дворца физкультуры, на сотни молчавших, ослеплённых домов. И такими же, налитыми кровью гнева и скорби, глазами смотрели на изуродованный немцами город тысячи людей, переправившиеся через Волгу. Немцы не ожидали наступления, немцы настолько были уверены в том, что, методически отжимая наши войска к берегу, сбросят их в Волгу, что прочно не закрепляли занятого пространства. Гвардейский полк Блина и два других штурмовали занятые немцами районы города. Они не ставили себе первой целью соединиться, первой их целью было бить противника, отнять у него то, что создавало выгодные условия немецких позиций — возможность просматривать берег и Волгу, контролировать центральную переправу. Полк Елина пошёл на штурм, не видя двух своих товарищей-полков Но полк чувствовал и верил, что он не один принял тяжкий жребий. Он чуял дыхание двух гвардейских полков близко, рядом, возле себя. Он слышал их тяжкую поступь, грохот их артиллерии звучал, как братские голоса, дым и пыль сражения, взметнувшиеся высоко в воздух, говорили о движении гвардии вперёд, пикировщики, словно потревоженные галки, вились с утра до вечера над дерущимися батальонами гвардейцев.
Полк Елина штурмом взял огромные здания — опорные пункты немцев.
Никогда ещё полку не приходилось вести таких боёв. Здесь все общепринятые понятия сдвинулись, сместились, словно в город над Волгой шагнули леса, степные овраги, горные кручи и ущелья, равнинные холмы. Здесь как бы воедино собрались особенности всех театров войны от Белого моря до Кавказских гор. Одно отделение в течение дня переходило из-за кустарников и деревьев, напоминающих рощи Белоруссии, в горную расщелину, где в полумраке нависающих над узким переулком стен приходилось пробираться по каменным глыбам обвалившегося брандмауэра; ещё через час оно выходило на залитую асфальтом огромную площадь, во сто крат более ровную, чем донская степь, а к вечеру ему приходилось ползти по огородам, среди вскопанной земли и полуобгоревших поваленных заборов, совсем как в дальней курской деревеньке. И эта резкая смена требовала постоянного напряжения командирской мысли, быстрой перестройки всех приёмов боя. А иногда часами длились упорные штурмы домов, бои происходили на подступах, у стен дома, в заваленных кирпичом полуразрушенных комнатах и коридорах, где сражающиеся путались ногами в сорванных проводах, среди измятых остовов железных кроватей, кухонной и домашней утвари. И эти бои не были похожи ни на один театр от Белого моря до Кавказа.
В одном здании немцы засели так прочно, что их пришлось поднять на воздух вместе с тяжёлыми стенами. Шесть человек сапёров под лютым огнём чующих смерть немцев поднесли на руках десять пудов взрывчатки и произвели взрыв. И когда на миг представишь себе эту картину: лейтенанта сапёра Чермакова, двух сержантов — Дубового и Бугаева, сапёров Клименко, Шухова, Мессерашвили, ползущих под огнём вдоль разрушенных стен, каждого с полуторапудовым запасом смерти, когда представишь на миг их потные, грязные лица, их потрёпанные гимнастёрки, представишь, как сержант Дубовой крикнул: «Не дрейфь, сапёры!», и Шухов, кривя рот, отплёвывая пыль, отвечал: «Где уж тут! Дрейфить раньше надо было!» — то, право же, чувство великой гордости охватывает тебя. Ведь какие молодцы!
А пока Елин победоносно занимал здание за зданием, другие два полка штурмовали курган, с которым многое связано в истории Сталинграда, курган, известный со времён гражданской войны, курган, на котором играли дети, гуляли влюблённые, где катались зимой на санях и на лыжах. Место, которое на русских и немецких картах обведено жирным кружком, место, о занятии которого немецкий генерал Тодт, вероятно, сообщил радостной радиограммой германской ставке. Там оно значится как «господствующая высота, с которой просматривается Волга, оба её берега и весь город». А на войне то, что просматривается, то и простреливается. Страшные это слова — «господствующая высота». Её штурмовали гвардейские полки.
Много хороших людей погибло в этих боях. Многих не увидят матери и отцы, невесты и жёны. О многих будут вспоминать товарищи и родные, вздыхать знакомые. Много тяжёлых слёз прольют по всей России о погибших в боях за курган. Не дёшево далась гвардейцам эта битва. Красным курганом назовут его. Железным курганом назовут его — весь покрылся он колючей чешуёй минных и снарядных осколков, хвостами-стабилизаторами германских авиационных бомб, тёмными от пороховой копоти гильзами, рубчатыми рваными кусками гранат, тяжёлыми стальными тушами развороченных германских танков. Но пришёл славный миг, когда боец Кентя сорвал немецкий флаг, бросил его на землю и наступил на него сапогом.
Полки дивизии соединились. Невиданно тяжёлое наступление, начатое с берега Волги, чуть ли не от самой воды, завершилось успехом. Этим как бы закончился первый период боевой работы дивизии в Сталинграде. Этот период принёс дивизии большой успех. Фронт, занятый её полками, сплошной линией прошёл по выгодным и устойчивым рубежам. Люди обогатились в этих боях огромным, бесценным опытом, который нельзя было почерпнуть ни в одной академии мира, ибо мир, сколько он стоит, не знал таких боёв, как эти: войска с танками, артиллерией, миномётными полками, поддерживаемые мощными воздушными армиями, сражались на улицах и площадях огромного города. В этих боях сотни и тысячи людей, бойцов и командиров, узнали, что такое борьба за многоэтажный дом, связисты научились тянуть провода не шлейфом, а отдельными линиями вдоль стен домов, в этих боях по-настоящему поняли значение радиосвязи, сапёры узнали, как нужно минировать и разминировать улицы и переулки. Вероятно, боец Хачетуров, сумевший под огнём обезвредить сто сорок две германских мины, мог бы читать лекции по этому вопросу. Бойцы и командиры полной мерой измерили ценность в уличных боях миномётов, противотанковых пушек, ручных гранат, противотанковых ружей. Они научились маскировать в домах, подвалах могучую технику дивизии. По выражению командира полка майора Долгова, «гвардеец полюбил бутылку с горючей жидкостью».
Начался второй период тяжкой битвы — оборонительная война, с десятками внезапностей, мощными атаками немецких танков, жестокими налётами пикировщиков, контратаками наших подразделений, снайперская война, в которой участвуют все виды огня — от винтовки до тяжёлой пушки и пикирующего бомбардировщика; новый период со своим изумительным, странным, ни на что не похожим бытом. Ведь шли не только часы, шли дни и недели жизни в этом дымном аду, где ни на минуту не смолкали пушки и миномёты, где гул танковых и самолётных моторов, цветные ракеты, разрывы мин стали так привычны для города, как некогда были привычны дребезжанье трамвая, автомобильные гудки, уличные фонари, многоголосый гул тракторного завода, деловитые голоса волжских пароходов. И здесь ведущие битву создали свой быт—здесь пьют чай, готовят в котлах обеды, играют на гитаре, шумят, следят, за жизнью соседей, беседуют. Здесь живут люди, чей характер, привычки, склад души и мысли — плоть от плоти народа, пославшего на трудный подвиг своих сыновей.
Мы пошли на командный пункт дивизии в девять часов вечера. Тёмные воды Волги освещало разноцветными ракетами, они на невидимых стеблях склонялись над истерзанной набережной, и вода казалась то шелковисто-зелёной, то фиолетово-синей, то вдруг становилась розовой, словно вся кровь великой войны впадала в Волгу. Со стороны заводов слышалась стрельба автоматов, орудийные залпы освещали белыми зарницами тёмные трубы, и на миг казалось, что завод работает по-обычному, что это печатают ночные бригады клепальщиков, что голубоватые вспышки автогена освещают заводские корпуса и трубы. Пронзительно тонко свистел ночной воздух, разрезаемый пулями, отвратительно злорадно шипели германские мины, наполняя волжский простор треском разрывов. В свете ракет видны разрушенные постройки, изрытая окопами земля, лепящиеся вдоль обрыва и оврагов блиндажи, глубокие ямы, прикрытые от непогоды кусками жести и досками.
— Слышь, обед приносили? — спрашивает боец, сидящий у входа в блиндаж.
Из темноты отвечает голос:
— Давно пошли, а вот нет их обратно. Либо залегли где, либо не дойдут уже вовсе. Сильно очень бьёт около кухонь.
— Вот паразит! Обедать охота, — недовольно говорит сидящий и зевает.
Командный пункт дивизии размещён в глубоком подвале, напоминающем горизонтальную штольню каменноугольной шахты; штольня выложена камнем, креплена брёвнами, и, как в заправской шахте, по дну её журчит вода. Здесь, где все понятия сместились, где продвижение на метры равносильно многокилометровым боевым движениям в полевых условиях, где иногда расстояние до засевшего в соседнем доме противника измеряется двумя десятками шагов, естественно, сместилось и взаиморасположение командных пунктов дивизии. Штаб дивизии находится в двухстах пятидесяти метрах от противника, соответственно расположены командные пункты полков и батальонов. «Связь с полками в случае прорыва, — шутя говорит работник штаба, — легко поддерживать голосом, крикнешь — услышат. А оттуда голосом в батальон передадут». Но обстановка командного пункта такая же, как обычно, — она не меняется, где бы ни стоял штаб: в лесу, во дворце, в избе. И здесь, в подземельи, где всё ходит ходуном от взрывов мин и снарядов, сидят, склонившись над картой, штабные командиры, и здесь, ставший традиционным во всех очерках с фронтов войны, связист кричит: «Луна, луна!», и здесь, скромно держа в рукаве махорочную папиросу и стараясь не дышать в сторону начальства, сидят в углу связные. И сразу же здесь, в штольне, освещенной бензиновыми лампочками, чувствуется, что к одному человеку тянутся все нити проводов из разрушенных домов, заводиков, мельниц, занятых гвардейской дивизией, что к одному человеку обращены вопросы командиров, что один человек немного насмешливой, спокойной и внимательной речью определяет строй жизни гвардейцев. Голоса людей спокойны, подчас медлительны, движения неторопливы, часто видишь улыбающиеся лица, часто слышится смех. Люди с тренированной в боях волей ведут себя так, словно им легко, будто они шутя, без усилий творят самое трудное, самое тяжёлое дело на земле. А ведь в штольне душно: когда входит сюда свежий человек, крупные капли пота сразу же выступают у него на висках, на лбу, он дышит часто и прерывисто. В штольне, словно у основания плотины, сдерживающей страшный напор рвущихся к Волге вражеских сил, пол, стены, потолок — всё дрожит от напряжения, от тяжести взрывов бомб и ударов снарядов дребезжат телефоны, пляшет пламя в лампах, и огромные неясные тени судорожно движутся на мокрых каменных стенах. А люди спокойны — они здесь, в этом горниле, были вчера, были месяц назад, будут завтра. Сюда несколько ночей тому назад прорвались немцы и бросали под откос ручные гранаты — пыль, дым, осколки летели в штольню, из тьмы доносились выкрики команды на чуждом, дико звучащем здесь, на волжском берегу, языке. И командир дивизии Родимцев оставался в этот роковой час таким же, как всегда: спокойным, с немного насмешливой речью, каждым размеренным своим словом закладывающий увесистый камень в пробитую вражеской силой плотину. И вражеская сила отхлынула.
Дивизия вошла в ритм битвы. Дыхание людей, биения сердец, короткий сон, приказы начальников, стрельба орудий, пулемётов, противотанковых ружей — всё находится в ритме битвы. Это, наверное, самое трудное, думается мне, в этих внезапных налётах пикирующих бомбардировщиков, в ночных и дневных штурмах фашистской пехоты, в стремительных наскоках десятков танков, вдруг появляющихся то на рассвете, то в три часа дня, в убаюкивающем ложном спокойствии вечерних сумерек — обрести чувство ритма. Ритм бури! Ритм сталинградской битвы!
Родимцев рассказывает мне о том, что в недавнем ночном штурме участвовали немецкие сапёры.
Он говорит негромко и задумчиво, а ложечка на самодельном столе пляшет, подпрыгивает, точно, её охватил страх и она хочет убраться из этой гудящей штольни с мечущимися по стенам мутными тенями. Стрекотнул автомат, звук его хорошо слышен здесь.
— Вот это немец, — говорит Родимцев. Он рассказывает обстоятельно, не торопясь.
— Война здесь подвижная, гибкая, — говорит он. — Она то ночная, то дневная, то танковая, а бывает, что и танки, и авиация, и огневые налёты артиллерии и миномётов концентрируются в одной точке. Немец нарочно меняет тактику. Но мы за месяц отлично научились воевать в этих условиях. Действуем большей частью мелкими группами. Во взятии дома у нас участвуют две группы: штурмовая и закрепления. Штурмуют люди, вооружённые гранатами, бутылками с горючей жидкостью, ручными пулемётами. А группа закрепления, пока ещё штурмовая, добивает противника, подтягивает боеприпасы, продовольствие, запасец не меньше, чем на шесть дней, ведь часты случаи окружения. Вот сегодня пришли два бойца, — оказывается, четырнадцать дней воевали в доме, окружённом «немецкими» домами. Эти двое спокойно эдак потребовали сухарей, боеприпасов, сахару, табаку, нагрузились и пошли, говорят: у нас там двое остались, дом стерегут, курить хотят. Вообще война в домах — своеобразнейшее дело. Особенность этой войны в Сталинграде — гибкость, резкие, почти мгновенные изменения тактики да и всего характера боёв. То борьба заодин дом, то вот, как недавно, — два полка немецкой пехоты и семьдесят танков внезапно обрушиваются на полк Панихина, и эдак десять — двенадцать атак на день. Я спросил его, не утомлён ли он этим круглосуточным напряжением боёв, этим круглосуточным грохотом, этими сотнями немецких атак, которые были ночью, вчера днём, будут завтра.
— Я спокоен, — сказал он, — так нужно. Я уж, пожалуй, всё видел. Как-то мой командный пункт утюжил немецкий танк, а после автоматчик для верности бросил гранату, я эту гранату выкинул. И вот вышел, воюю и буду воевать до последнего часа войны.
Он сказал это спокойно, негромким голосом. Потом он стал расспрашивать о Москве. Поговорили как полагается о театрах.
— У нас тут тоже были два концерта — играл на скрипке парикмахер Рубинчик.
И все вокруг заулыбались, вспомнив о концерте. А телефоны за время этого разговора звонили раз десять, и генерал, чуть-чуть поворачивая голову, говорил два-три слова дежурному по штабу. И в этих коротких словах, произносимых легко, буднично, словах боевых приказов, была торжественная сила человека, овладевшего ритмом боевой бури, человека, диктовавшего этот страшный чёткий ритм войны, ставший ритмом, стилем гвардейской дивизии, стилем всех наших сталинградских дивизий, всех советских людей, воюющих в Сталинграде.
Заместитель генерала, полковник Борисов, отдавал последние распоряжения перед штурмом одного из домов, занятого немцами. Этот пятиэтажный дом имел большое значение; из его окон немцы просматривали Волгу и часть берега.
План штурма меня поразил множеством деталей, сложностью разработки. На аккуратно сделанном чертеже был нанесён дом и все соседние постройки. Условные значки показывали, что на втором этаже в третьем окне находится ручной пулемёт, на третьем этаже в двух окнах сидят снайперы, а в одном расположен станковый пулемёт, — словом, весь дом был разведан по этажам, по окнам, по чёрным и парадным подъездам. В штурме этого дома участвовали миномётчики, гранатомётчики, снайперы, автоматчики, в этом штурме участвовала полковая артиллерия и мощные пушки, находившиеся на том берегу, в Заволжьи. У каждого рода оружия была своя задача, строго сопряжённая с общей целью; взаимная связь, управление осуществлялось системой световых сигналов, по радио, телефонами. Ведущая мысль этого наступления была одновременно простой и сложной: цель была бы ясна ребёнку, а пути к этой цели казались настолько сложными, что только большой военной грамотностью можно было их преодолеть.
И в этом снова ощутилось своеобразие сталинградской битвы. Здесь сочеталось огромное стихийное столкновение двух государств, двух борющихся на жизнь и смерть миров с математической, педантически точной борьбой за этаж дома, за перекрёсток двух улиц; здесь скрестились характеры народов и воинская умелость, мысль, воля; здесь происходила борьба, решающая судьбы мира, борьба, в которой проявлялись все силы и слабости народов: одного — поднявшегося на бой во имя мирового могущества, другого — вставшего за мировую свободу, против рабства, лжи и угнетения.
Глубокой ночью мы ехали вдоль Сталинграда на моторной лодке. Шесть километров дороги, несколько десятков минут по широкой волжской воде.
Волга кипела, синий пламень разрывов германских мин вспыхивал на волнах, выли несущие смерть осколки, угрюмо гудели в тёмном небе наши тяжёлые бомбардировщики; сотни светящихся трасс, окрашенных в синий, красный, белый цвета, тянулись к ним от германских зенитных батарей, бомбардировщики изрыгали по немецким прожекторам белые трассы пулемётных очередей. Заволжье, казалось, потрясало всю вселенную могучим рокотаньем тяжёлых пушек, всей силой великой нашей артиллерии, на правом берегу земля дрожала от взрывов, широкие зарницы бомбовых ударов вспыхивали над заводами: земля, небо, Волга — всё было охвачено пламенем. И сердце чуяло — здесь идёт битва за судьбы мира, здесь решается вопрос всех вопросов, здесь спокойно торжественно среди пламени сражается наш народ.
20 сентября 1942 года
Сталинград
Власов
Днём Волга пустынна, лишь темнеют силуэты потопленных у берега барж и пароходов. Ни лодки, ни дымка, ни натруженного дыхания буксира, ни рыбачьего серого паруса не увидишь и не услышишь на Волге. Тёмная вода бежит под облачным небом, холодом веет от неё. Низкий берег, поросший лесом, так же пустынен, как Волга. Но почему с такой яростью, с упорством взбесившегося быка немец уродует тысячами тяжёлых снарядов и мин пустынную полоску берега, почему с утра до заката солнца вьются над этой бедной полоской земли десятки немецких пикировщиков, с угрюмым бешенством бомбят кажущуюся пустой землю?
Здесь переправа. И, едва сгущаются сумерки, из землянок, блиндажей, траншей, из тайных укрытий выходят люди, держащие переправу. Это по ним немцы в последние недели выпустили восемь тысяч мин и пять тысяч снарядов, это на них обрушилось за полторы недели пятьсот пятьдесят авиационных бомб. Земля на переправе вспахана злым железом, словно безумные кони, ведомые обезумевшим пахарем, дни и ночи коверкали, рвали, корёжили огромными лемехами плуга бедный клочок прибрежной земли.
В сумерках появляется тёмный высокий силуэт негруженой баржи. Хозяйским хриплым баском покрикивает буксирный пароходик. Точно по чьему-то слову чудесно оживает всё вокруг, жужжат буксующие в песке грузовики, красноармейцы, покряхтывая, несут плоские ящики со снарядами, бутылками с горючей жидкостью, патроны, гранаты, хлеб, сухари, колбасу, пакеты пищевых концентратов. Баржа оседает всё ниже и ниже. А немецкий огонь не прекращается ни на минуту. Но теперь он не прицельный, наблюдатели противника не видят, что происходит на берегу, не видят тёмной шири реки. Мины со свистом перелетают через Волгу, рвутся, освещая на миг красными вспышками деревья, холодный белый песок. Осколки, пронзительно голося, разлетаются вокруг, шуршат меж прибрежной лозы. Но никто не обращает на них внимания. Погрузка идёт стремительно, слаженная, великолепная своей будничностью. Под огнём немецких миномётов и артиллерии люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно. Их работа освещена пламенем горящего Сталинграда. Ракеты поднимаются над городом, и в их стеклянно-чистом свете меркнет мутное дымное пламя пожаров. Тысяча триста метров волжской воды отделяют причалы лугового берега от Сталинграда. Не раз слышали бойцы понтонного батальона, как в короткой тишине над Волгой проносился приглушённый, кажущийся издали печальным звук человеческих голосов: «а-а-а…» — то поднималась в контратаку наша пехота. Этопротяжное «ура» пехоты, дерущейся в пылающем Сталинграде, этот вечный огонь, дымное дыхание которого доходило через широкую воду, придавали бойцам переправы силу творить свой суровый подвиг, в котором воедино слились тяжкая будничная работа русского рабочего с доблестью солдата. Все они понимали значение своей работы. Переправа питает сталинградские дивизии хлебом и снаряжением. Танки, полки пополнений, всё идёт через переправу. И переправа работает: идут к Сталинграду баржи, лодки, тральщики, моторные катеры. Работал до последнего времени штурмовой мостик, наведённый с острова на правый берег Волги. Его строили у берега; стук сотен топоров и визг пил, режущих сосновые и еловые брёвна, заглушал в людских сердцах тревогу, трудовой гул покрывал шум германских воздушных моторов, раскаты артиллерийской стрельбы. Люди за трое суток построили мост через Волгу — шестьдесят пять станов плотов с двумястами балками-поперечинами были скреплены цинковым тросом, прочными планками, покрыты тёсом. Мост завели верхним концом по течению, и вода стала заносить его на правый берег. Шесть человек внесли на мост пятнадцатипудовый якорь. И когда мост стал подходить к правому берегу, якорь спустили в воду. Штурмовой мостик лег через Волгу. Вероятно, из того количества металла, которое потратили иемецкие лётчики, артиллеристы и миномётчики на разрушение этого штурмового мостика, сделанного из сосны и ели, можно было бы создать конструкцию огромного железного моста. Тем мужеством, тем самопожертвованием, тяжёлым трудом, которые проявили бойцы понтонного батальона при восстановлении разрушаемых немцами пролётов штурмового мостика, держится связь страны с борющимся Сталинградом. Эта связь прочна и нерушима, ей порукой солдатская кровь и большие трудовые руки.
Бойцы понтонного батальона все почти ярославцы. Живут ярославцы на редкость дружно, большим братским землячеством.
Заместитель командира батальона по политической части Перминов, сам волгарь, человек с тёмнокрасным от солнца и речного ветра лицом, находится на переправе с первого дня. Голос у него громкий, привыкший к команде, привыкший перекрикивать грохот рвущихся снарядов, он даже во время бесед говорит, словно команду отдаёт.
— Эх, не люди у нас в батальоне, — говорит Перминов, — я даже не знаю, золото-люди! Гордятся: мы — ярославцы. Недавно в газете статья была большая о Ярославле, так эту газету вконец зачитали, собрание устроили — обсуждали. Как петухи, гордятся: «Про наш Ярославль как пишут!» И вот удивительная вещь: ведь работа на переправе — горькое дело, последние дни авиация тучей над нами висит, — поверите ли, за один день насчитали мы тысячу восемьсот заходов, — глохнешь от этого воя и рёва, а люди так любят свой батальон, так своей работой гордятся, что, заикнитесь только об откомандировании человека, — трагедия будет. Эвакуировали мы на-днях в тыл двух раненых красноармейцев — Волкова и Лукьянова, особенно досталось Волкову: в шею ему осколок попал и лопатку рассекло. Проходит несколько дней. Зовут меня красноармейцы: Волков и Лукьянов явились! Я глазам своим не поверил: ведь тридцать километров то попутными машинами, то ползком добирались. И как-то трогательно до слёз, и зло берёт: ведь удрали, черти, из госпиталя. Что с ними тут делать, — их ведь лечить надо, а под огнём, в земле сидя, какое лечение? Дождались ночи, посадили их на машину и обратно отправили в госпиталь. И они от обиды плакали, и у нас всех такое чувство было, словно мы нехорошее дело сделали. Да, народ привык к вечному огню, сам удивляешься.
Днём переправа не работает. Днём безлюден берег, пустынна Волга, тёмная вода бежит под облачным осенним небом, — холодом веет от неё. Лишь изредка промчится среди бурунов пены, резко меняя курс, быстроходный моторный катер с мощным зисовским мотором. Гудит берег от бомбовых разрывов, летят в воздух тучи земли, дыма, жёлтая листва осенних деревьев. Зловеще свистят над водой мины, пущенные из тяжёлых немецких миномётов.
С рассветом понтонный батальон отдыхает. Похрапывают в блиндажах и землянках бойцы под оглушительный рёв немецкой авиации, с тупым бешенством корёжущей землю.
— Как можно спать при такой бомбёжке? — спрашиваю я бойцов.
— Да вот спим, — говорят понтонёры, — день не поспишь, второй не поспишь, а потом ляжешь. Да поустанешь как следует и всё равно заснёшь.
Люди на этом раскалённом берегу, зарывшись в землю, не изменяют чудесному строю своей простой души. Когда читаешь воспоминанья о войне французов, англичан, американцев, все они пишут, что на войне, в бою, они становятся иными, что весь душевный мир их изменяется, что они переоценивают все ценности, что казавшееся им дорогим и близким вдруг становится ненужным, смешным.
А русский человек, воюющий в пламени горящего, сотрясаемого взрывами Сталинграда, — такой же неизменный, ясный, простой, бесконечно скромный, каким знаем мы его и в великом мирном труде. Так же бережно хранит он письма, пришедшие из дальних деревень, так же любовно говорит о ребятишках своих и стариках, покурит, вздохнёт, задумается, когда ему не в меру тяжело, кипятит чаёк среди развалин дома, окружённого немецкими автоматчиками, и верит в то, что добро есть добро, что нет ничего сильнее в жизни, чем правда.
И здесь, на переправе, идёт во время дневного отдыха обычная, прекрасная своей святой будничностью жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед, русская печь, хитро и умело построенная в земле, печет пышный, лёгкий подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня и отчаянно парятся в ней, лупцуют себя вениками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжёлые бомбы немецких пикировщиков. При слабом свете, проникающем в блиндаж пишут бойцы письма, не забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтоб, не дай бог, не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабку Марию Семёновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив».
И ничто не изменит справедливого отношения бойца к жизни.
Немцы всё неистовствуют над полосой волжского берега. Немецкие лётчики разнесли прямым попаданием бомбы русскую печь, где пёкся хлеб, но печь снова отстроили. Воздушной волной снесло трубу с бани, но снова дымит труба, и парится в бане ярославец. В блиндаж заместителя командира батальона вбежал повар и одновременно весёлым и злым голосом крикнул:
— Разрешите доложить, кухня во второй роте взлетела, вся чисто, вместе со щами, двухсоткой, прямым попаданием!
— Не медля варить второй обед в котле, — сказал Перминов.
Жизнь упряма, крепок наш человек, — его не сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему, пусть никто не думает, что легко здесь воевать, что привычка к огню снимает тяжесть войны. Смерть идёт рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба кладбище. Среди жёлтых опавших листьев стоят строгие холмики — могилы, простые дощатые памятники с фамилией, именем, датой смерти. Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и тёмный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской переправы. И люди прочтут на нём имена двадцати восьми бойцов-ярославцев, прочтут имя комбата Смеречинского, основателя переправы, прочтут имя его преемника — чеченца капитана Езаева, прочтут о Шоломе Аксельроде, командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И людям расскажут, как в тёмные ночи, как при свете полной луны, когда Волга горела синим огнём, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь говорил бойцам Перминов и как сурово гремел в холодном осеннем воздухе салют.
Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, большой работы, что события его жизни, его черты характера выражают собой характер целой эпопеи. И, конечно, именно сержант Власов, великий труженик мирных времён, шестилетним мальчиком пошедший за бороной, отец шестерых старательных, небалованных ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе и хранителем колхозной казны, — и есть выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы.
В этом высоком человеке, с тёмкокоричневым узким горбоносым лицом, с тонкими губами и большими, тяжёлыми кистями рук, воплотились многие черты народного характера. Власов — человек долга. В колхозе народ в его бригаде покряхтывал иногда — очень уж суров был этот никогда не улыбающийся темнолицый человек с карими, тяжело и яростно глядящими глазами. Дома ребята побаивались отца, бывал он строгонек с ними, и даже старший сын, служащий теперь в гвардии, робел, когда Павел Власов говорил ему: «Алексашка, гляди у меня, я не баловал в жизни, не вильнул ни разу, и ты не балуй!»
Власов был колхозным казначеем, на руках у него хранились большие тысячи. Когда колхоз сплавлял лес по Волге, Власова избрали главным бригадиром на плотах, — уж больно хорошо знали его плотовщики. Получив извещение из военкомата, Власов пошёл в правление, сдал все деньги до копейки, отчитался в своей бригадирской работе, простился со стариками и сказал, уходя: «Работал я честно, в колхозе не последним был, а убьют на войне, за мной долгов не останется, во всём отчитался». Дома он простился с семьёй просто и сурово, словно уходил в поле или лес заготовлять, велел детям слушаться мать, писать, как справляются с работой. Провожали его родные без водки, без песен, — Власов не пил вина. Взял он в мешок смену белья, стиранных портянок, хлеба, десяток луковиц, соли и пошёл в ночь, высокий, прямой, с плотно сжатыми губами, пошёл, не оглянувшись на родную деревню, — человек могучей аввакумовской души, ни разу не слукавивший перед народом и самим собой, жестоко и неистово требовательный к другим и к себе. Такие суровые души выковываются тяжким молотом векового труда, и можно было бы их назвать жёсткими, не будь они столь бескорыстно преданы правде, груду и долгу. Таких людей, как Власов, немало в нашем народе, и вряд ли думали немцы о них, начиная поход против России, — эту железную аввакумовскую породу невозможно ни согнуть, ни сломать. Они, Власовы, — выразители не доброты и мягкости народного характера, они — носители суровости, непримиримости, неистребимой, неистовой силы русской народной души.
И вот сержант Власов строит штурмовой мостик от острова к заводскому берегу. Трое суток, семьдесят пять часов, не спал он, не ел щей, лишь торопливо во время короткой передышки съедал ломоть хлеба, запивал его несколькими глотками волжской воды и вновь брался за топор. В этой исступлённой, жестокой работе узнали Власова бойцы его отделения, товарищи по походам и боевым трудам, живущие с ним в одном блиндаже, — Мальков, Лукьянов, Новожилов, узнали все бойцы понтонного батальона, научились любить и уважать суровую, железную силу его. Не только любить, но и бояться её.
Здесь, на волжской переправе, во всю высоту распрямилась фигура Власова. В долгие осенние ночи, глядя на сумрачные лица бойцов, переправляющихся через Волгу, на тяжёлые танки и пушки, поблёскивающие в свете горящих нефтехранилищ, глядя на сотни раненых в рыжих от пропитавшей их крови, изодранных осколками шинелях, прислушиваясь к мрачному вою германских мин и к далёкому протяжному «ура» нашей пехоты, поднимающейся в контратаки, думал Власов одну тяжёлую, большую думу.
Вся сила его духа обратилась к одной цели: держать переправу нашего войска. Это дело, было свято. Это дело стало единственной целью, смыслом его жизни. И всякий человек, мешавший работе переправы, становился для Власова смертным врагом, будь он хоть сын ему, хоть брат.
Был такой случай. Немец разбил пристань на правом берегу. Власову с его отделением приказали на быстроходном моторном катере переправиться через Волгу, исправить причал. День был ясный, светлый, и немец, едва увидев катер, открыл огонь, — вода вскипала от частых разрывов.
Шофёр-моторист Ковальчук изменил курс, причалил к острову и сказал:
— Вылезайте, на тот берег не пойду, мне жизнь дороже разных там причалов.
Как только не просил, не уговаривал его Власов!
— Вылазь к чертям собачьим! — кричал Ковальчук. — Я на переправе работать не буду, лучше в плен попасть, чем здесь работать.
Власов рассказал мне об этом случае тяжёлыми, медленными словами. Вот дословно его рассказ:
— Знал бы я мотор, я бы его живо спешил… Весь день мы по острову, как зайцы, бегали. А обратно нас лодки с острова гоже не везут, — дезертиры вы, говорят. Пришлось хитрость делать—перевязали себя бинтами. Змеев, тот ногу подвязал, палку в руки взял. Перевезли под видом раненых. Такого со мной в жизни не было. Никогда я в жизни не хитрил. А переправа полночи не работала. Вот оно что… Через несколько дней выстроили батальон, вывели этого. Прочёл Перминов приговор, сказал слово про кровь сотен и тысяч бойцов. Стал этот проситься, плакал. Да какая тут жалость! Будь моя воля — я б его без приговора растерзал. Целый день, как заяц, бегал…
Тёмное лицо Власова спокойно и неподвижно, яркие карие глаза его смотрят прямо на меня, впалые щёки и упрямый рот придают всему облику его выражение скорбное и суровое. В нём, в этом сорокадвухлетнем человеке, отце шестерых детей, человеке великого и тяжкого трудового долга, словно воплотилась гневная сила нашего народа…
— Потом Перминов сказал: «Кто хочет привести приговор в исполнение?» Я вышел из строя, взял у товарища винтовку и пристрелил того. Какая тут жалость!
И вот сержант Власов стоит на носу тяжёлой баржи, медленно плывущей через Волгу. На барже четыре тысячи тонн снарядов, гранат, ящиков с горючей жидкостью, на барже четыреста красноармейцев. Эта баржа идёт днём, положение таково, что некогда дожидаться ночи. Власов стоит, прямой, угрюмый, и смотрит на разрывы мин, пенящие воду.
Он оглядывает молодых бойцов, стоящих на барже. Он видит: людям страшно. И сержант Власов, человек с чёрными, начавшими серебриться, волосами, говорит молодому бойцу:
— Ничего, сынок. Хоть бойсь, не бойсь, — нужно! Тяжёлая мина прошипела над головой и взорвалась в десяти метрах от баржи, несколько осколков ударилось о борт, и тотчас вторая мина разорвалась, не долетев.
— Сейчас угодит, подлец, по нас, — сказал Власов и посмотрел на бойцов, лёгших вдоль борта.
Мина пробила палубу недалеко от выезда, проникла в трюм и там взорвалась, расщепила борт на метр ниже воды. Наступил страшный миг. Люди заметались по палубе. И страшней вопля раненых, страшней тяжёлого топота сапог, страшней, чем разнёсшийся над водой крик: «Тонем!», был глухой и мягкий шум воды, ворвавшейся в развороченный борт баржи. Катастрофа произошла посредине Волги. И в эти страшные минуты, когда в полуметровую дыру хлестала вода, когда страх смерти охватил людей, сержант Власов сорвал с себя шинель и страшным усилием, преодолевая напор воды, — плотной, словно стремительный свинец, сильной, словно вся Волга напружилась своим огромным, тяжким телом, чтобы прорваться в пробоину, — втиснул свёрнутую кляпом шинель в эту пробоину, навалился на неё грудью. Несколько мгновений, пока подоспела помощь, длилось это единоборство человека с рекой. Пробоину забили. Власов уже был наверху, он перевалился всем телом за борт, сержант Дмитрий Смирнов держал его за ноги, а Власов, с лицом, налившимся тёмной кровью, шпаклевал мелкие пробоины паклей.
Обстрел продолжался. И едва баржа была спасена от потопления, как раздался крик: «Горит, пламя пошло!» — это загорелись бутылки с горючей жидкостью.
Власов, покоривший своей железной душой всех, кто был на барже, закричал:
— Скидай шинели, плащ-палатки сюда давай!
И пламя, сжигающее стальные танки, было потушено здесь, на барже, везущей четыре тысячи тонн боеприпасов.
Власов прошёл на нос и снова стал на посту. Боеприпасы, четыреста бойцов достигли сталинградского берега.
Мне кажется, что этого человека можно назвать великим человеком.
1 ноября 1942 года
Сталинградский фронт
Царицын — Сталинград
«Рабочие и крестьяне! Честные трудящиеся граждане всей России! Настали самые трудные недели. В городах и во многих губерниях истощённой страны нехватает хлеба. Трудящееся население охватывается тревогой за свою судьбу. Враги народа пользуются тем тяжким положением, до которого они довели страну, для своих предательских целей: они сеют смуту, куют ковы и пытаются вырвать власть из рук рабочих и крестьян. Бывшие генералы, помещики, банкиры поднимают головы. Они надеются на то, что пришедший в отчаяние народ позволит им захватить власть в стране…» Этими словами начинается один из самых ярких и сильных документов революции, подписанный Лениным и Сталиным и опубликованный 31 мая 1918 года в «Правде».
Четверть века отделяет нас от того времени, когда рождённая в дыму и огне мировой войны молодая республика билась за жизнь. 18 февраля 1918 года германская армия начала наступать. В начале мая немецкие оккупанты захватили всю Украину, Крым и Белоруссию. Фельдмаршал Эйхгорн устроил свою резиденцию в Лилках, самом красивом районе одного из красивейших городов Европы — Киева. На Дону правил генерал Краснов. Деникин шёл во главе добровольческой армии на Кубань, к Екатеринодару. В Грузии правили меньшевики, а немцы, приглашённые ими, хозяйничали в Тифлисе, подбирались к Баку.
В руках восставших чехословацких эшелонов находились летом 1918 года Ново-Николаевск, Челябинск, Омск, Уфа, Пенза, Самара, Симбирск, Екатеринбург. В Сибири организовалось белогвардейское правительство. Контрреволюционное восстание произошло в Ярославле. Деревня была охвачена брожением. Голод и эпидемии вместе с контрреволюционными войсками штурмовали центральные районы Советской страны.
Казалось, горящая земля колебалась, обваливалась под ногами. Народ, измученный трёхлетней войной, народ, проливший реки крови, истерзанный разрухой и голодом, вновь поднимался на войну за свою честь, свободу, землю.
Огромные тяжкие клещи контрреволюции вот-вот должны были сомкнуться вокруг Москвы и Петрограда. Враги двигались с севера и юга, с востока и запада. Сомкнись эти клещи, Советская страна, лишённая своих продовольственных ресурсов, вынуждена была бы занять круговую оборону перед фронтом всех враждебных революции сил. И последней крепостью советской власти, вставшей на пути немецких оккупантов и действовавших их оружием войск генерала Краснова, был город на Волге — Царицын.
В Царицыне должно было сомкнуться тяжкое кольцо вражеского окружения. Это хорошо понимали великие стратеги великой революции. Царицын, кроме того, лёг на пути германского империализма, стремившегося к Каспийскому морю, Баку, на пути в Месопотамию, Аравию и Иран.
Был жаркий август. По ночам всё ясней слышалась артиллерийская стрельба. Войска Краснова рвались к Царицыну. В середине месяца положение обострилось. Красновцы вышли к Волге северней и южней Царицына, охватив город в кольцо. Бои шли непосредственно в предместьях города — в Гумраке, Воропонове, Садовой. Лучи прожекторов по ночам освещали улицы. Тревожно и протяжно выли заводские гудки — рабочие завода Дюмо, орудийного завода, рабочие огромных лесопильных заводов бр. Максимовых, нефтеперегонного завода Нобеля шли тысячами защищать свой родной город. Железным ядром царицынской обороны стали рабочие. Здесь, рядом с царицынскими пролетариями, сражались бойцы коммунистической дивизии, сплошь состоящей из донских рабочих — шахтёров и металлистов. Сюда пришли они тяжким путём, отбиваясь день и ночь от наседавших на них белогвардейских войск, восстановили под огнём артиллерии взорванный мост через Дон и соединились с царицынскими рабочими, чтобы разделить с ними тяжкие груды по обороне города. Сюда впоследствии пришёл Рогожско-Симоновский рабочий полк, сформированный на «Гужоне» и «Динамо». Здесь были Сталин и Ворошилов.
15 августа 1918 года был критическим днём в обороне города. Многим положение казалось безвыходным и безнадёжным. В семь часов вечера 15 августа военный совет за подписью Сталина и Ворошилова заявил:
«Совет Народных Комиссаров и все революционные соседи с горячим вниманием и возможным содействием следят за героической борьбой красного Царицына за глубочайшие интересы всей советской России, а также за своё избавление от нашествия красновских банд.
Спасение красного города зависит от дальнейшей стойкости, дисциплинированности, сознательности, выдержки икипучей самодеятельности советских кругов.
Положение города остаётся осадным».
Ожидаемая из Астрахани помощь не пришла — в Астрахани вспыхнуло контрреволюционное восстание.18 августа в два часа ночи было назначено контрреволюционное восстание в Царицыне. Заговор был раскрыт ЧК. Красноармейская газета «Солдат революции» в экстренном выпуске от 21 августа сообщала своим читателям: «В Царицыне раскрыт крупный заговор белогвардейцев. Видные участники заговора арестованы и расстреляны. У заговорщиков найдено 9 миллионов рублей. Заговор в корне пресечен мерами советской власти. Берегитесь, предатели! Беспощадная расправа ожидает всех и каждого, кто посягнёт на советскую рабоче-крестьянскую власть».
Красновцы делали всё, чтобы захватить город, взорвать власть изнутри. Но город выстоял. Великими жертвами, бессонными ночами, большой кровью, тяжким трудом рабочих, железной сталинской волей был отбит первый натиск враждебных сил, разбито кольцо окружения, восстановлены пути сообщения. Славно бились Луганский и Сиверский рабочие полки, бронепоезд Алябьева стремительно появлялся то на северном, то на южном участке фронта. Много крови пролили царицынские рабочие, комсомольцы, коммунисты, дни и ночи крушила врага красная артиллерия. 22 августа наши войска заняли деревни Пичугу и Ерзовку. Ночью 26-го наши части ворвались на станцию Котлубань, захватили трофеи и разгромили штаб Мамонтова. В этот день Сталин телеграфировал в Москву Пархоменко: «Положение на фронте улучшилось. Везите немедля всё, что получили. Сталин». Здесь, конечно, невозможно последовательно восстановить все события первого и второго окружения Царицына 1918 года, деникинско-врангелевского похода на Царицын в 1919 году.
Когда думаешь о жизни этого города, о его суровой и благородной доле, связанной с тяжёлыми молодыми днями советского государства, то ясно вырисовываются основные черты характера и судьбы Царицына. У города, как и у человека, своя судьба. Есть люди, чьим высоким уделом является тяжкий жребий войны. И, когда видишь такого человека где-нибудь в театральном зале, на выставке картин или в кругу семьи, в лёгких туфлях, в косоворотке, светлом летнем костюме, невольно угадываешь в быстром и резком повороте, во внезапно на мгновенье ставшем суровом взгляде, в властном, спокойном слове, что судьба рано или поздно приведёт этого человека к тяжким лишениям, к походам, к сухому солдатскому сухарю, угадываешь этого человека в дыму и пламени сражения.
Царицын — Сталинград, — город, стоящий на великом волжском рубеже, город между севером и югом, город, за спиной которого пески и степи Казахстана, город, широкой грудью своей обращенный к западу, к хлебным богатствам Дона и Кубани, — избрал себе гордый удел быть твердыней революции в роковой час народной судьбы.
Двадцать четыре года прошли с того времени, когда Царицын, выдержав напор врага, не дал соединиться чёрным силам, шедшим с юга и севера, и, словно занесённая тяжкая секира, поднялся над рвавшимися с запада на восток немцами.
Прошли два десятилетия мирного строительства. Заросли травой окопы под Гумраком, Воропоновом, Бекетовкой. Деревья выросли там, где скрипели обозы. Ушли из жизни старики-рабочие, участники царицынской обороны. Стали седыми когда-то черноволосые рабочие-добровольцы. А те, кто босоногими мальчишками бегали среди дымившихся котлов красноармейских кухонь, кто подбирал стреляные гильзы и играл в войну там, где шла война, стали взрослыми людьми, отцами семейств, большими людьми советской державы.
Стремителен был рост людей Сталинграда, стремителен был рост самого города за годы мирной советской жизни. На гигантах заводах — тракторном имени Дзержинского, «Красном Октябре», «Баррикадах» работали десятки тысяч человек. Возникла судоверфь, Сталгрэс, реконструировались старые предприятия, возникли десятки новых заводов.
В городе, где в начале века были две гимназии, одна библиотека, один сиротский приют и четыреста кабаков, к исходу двух десятилетий мирной советской жизни возникли прекрасные вузы — механический, медицинский, педагогический, где учились пятнадцать тысяч студентов, возникли десятки техникумов, сотни школ, библиотеки, музеи.
Город песчаных бурь и пыли весь был заасфальтирован, вокруг него выросло двадцатикилометровое зелёное кольцо, сотни гектаров фруктовых садов, кленовые и каштановые аллеи.
Город приземистых одноэтажных и двухэтажных домов, кривых улиц стал городом великолепных высоких белых зданий, городом классической планировки, городом широких площадей, украшенных памятниками, площадей, обрамлённых зеленью деревьев и пёстрым узором цветников. Сотни заботливых рук мели, чистили, поливали улицы Сталинграда. Из города песчаных бурь Сталинград превратился в город ясного волжского воздуха, город солнца и здоровья.
Ночью с Волги Сталинград казался огромной шестидесятикилометровой гирляндой яркого электрического света, красиво светились цветные рекламы магазинов, театров, кино, цирков, ресторанов. Музыка, усиленная радиорупорами, слышалась далеко над Волгой. Городом гордились, город любили — и правда, Сталинград стал одним из прекраснейших наших городов: городом труда, науки, жаркого солнца, широкого простора, городом Волги.
Сталинградцы любили свой город особенной, преданной и верной любовью за тот непомерный труд, за жертвы и лишения, которые испытали они в период строительства. Это были великие десятилетия. Некоторым людям теперь, во время войны, прошедшее мирное время кажется спокойной, безоблачной идиллией. Это неверно, конечно. В суровых условиях напряжённого труда прошло это время, немало бурь перенесла наша страна, не легко далось ей выполнение великих планов коллективизации и индустриализации.
И сталинградцы помнят суровую пору строительства тракторного завода, первого гиганта первой пятилетки. Враждебный, холодным взором следила заграница за строительством. Сколько сверхчеловеческих усилий воли, какое напряжение ума! И сколько трудностей, неполадок, сколько рабочего пота!
Вся страна следила за сталинградской стройкой, радовалась её успехам, скорбела о неудачах. 17 июня 1930 года завод был открыт. Начался период освоения сложнейшей, не ведомой дотоле России техники поточного производства. Новые острые трудности, новая напряжённая борьба. Иностранные газеты предвещали гибель молодому заводу. Они писали: «Ввиду провала Сталинградского тракторного Советскому Союзу снова придётся закупать тракторы за границей». Большой и малый конвейеры то и дело останавливались, пролёты не давали деталей. За первый год завод выпустил всего 1002 трактора, в 1931 было выпущено 18 410, в 1932 — 28 772 трактора, вскоре эта цифра подошла к 50 000! Трудности остались позади. Любимый народом, первый гигант первой пятилетки заработал полным ходом.
Когда экскурсионные пароходы приближались к прекрасному белому городу на Волге, отдыхавшие на палубе люди не только видели тысячи сверкающих на солнце окон, зелёные сады, слушали музыку и шум трамвайных и автомобильных гудков, они видели чёрный дым, поднимавшийся над тремя гигантами: Тракторным, «Октябрём», «Баррикадами», они видели, как сквозь задымленные окна цехов лилась в искрах сталь, слышали тяжёлый грохот, подобный грозному морскому прибою. Это красный Царицын, это Сталинград напоминал людям, что он знает свою судьбу русской крепости на Волге, что он готов принять тяжёлый и гордый свой удел в роковой час народной судьбы, что он не забыл заросших травой окопов над Гумраком, над Воропоновом, над Садовой и Бекетовкой…
Днём 23 августа 1918 года по приказу Ворошилова рабочие шахтёрские полки Коммунистической и Морозовско-Донецкой дивизии перешли в наступление на центральном участке фронта, у Воропонова; они кровью своей и жизнью отбрасывали наседавшего на город противника.
23 августа 1942 года, в пять часов дия, ровно через двадцать четыре года, восемьдесять тяжёлых немецких танков и колонны мотопехоты прорвались к детищу сталинградцев — тракторному заводу. Одновременно с этим сотни бомбардировщиков обрушили мощный бомбовый удар на жилые кварталы Сталинграда. То был первый натиск фашистских полчищ, рвавшихся к волжским рубежам.
Город запылал, окутался дымом, огромное пламя поднялось к небу. И словно не было двух десятилетий мирного труда между временами первой германской оккупации Украины, Дона и вторым нашествием немцев. И вновь в дыму, в грохоте битвы встал красный Царицын — Сталинград, город прекрасной и горькой судьбы.
Нельзя даже сравнивать силу немецкого удара в августе 1942 года с силой натиска красновцев в 1918 году. Удары танковых дивизий, страшный огонь тысяч орудий и миномётов, ожесточённые налёты воздушных армий — вряд ли в истории войн были удары подобной силы. Всё изменилось в ведении войны за эти десятилетия. Не так выглядело поле сражения, не так шло управление боем, не такими средствами осуществлялись огневые удары. Стремительно маневрировали танковые и моторизованные войска. В воздухе были бои, которых никто не мог представить себе в 1918 году. Небо и земля взаимодействовали, огромные массы людей и металла стремительно перебрасывались самолётами с одного участка фронта на другой. Всё изменилось, всё было иначе — огромней, сильней, стремительней. И лишь одно оставалось неизменным, таким, словно не люди нового поколения вышли на оборону Сталинграда, — мужественное сердце великого народа — сердца Якова Ермана, Николая Руднева, Алябьева не перестали биться! В страшный час, когда восемьдесят немецких танков внезапно подошли к окраине тракторного завода, а сотни самолётов жгли жилые кварталы города, рабочие тракторного завода и «Баррикад» продолжали свою работу. Сто пятьдесят пушек выпустил завод в одну ночь, восемьдесят танков были выпущены из ремонта с 23 по 26 августа. В первую ночь сотни рабочих, вооружившись автоматами, станковыми и ручными пулемётами, заняли оборону у северной окраины завода. Они дрались рядом с дивизионом тяжёлых миномётов лейтенанта Саркисьяна, первым остановившим немецкую танковую колонну. Они дрались рядом с зенитчиками подполковника Германа, половиной своих орудий бивших по немецким пикировщикам, а половиной прямой наводкой расстреливавших немецкие танки. Бывали минуты, когда гул бомбовых разрывов поглощал все звуки, и подполковнику Герману казалось, что выдвинутая вперёд батарея лейтенанта Свистуна раздавлена совместным натиском немецкой авиации и танков. Но через некоторое время вновь слышалась размеренная стрельба зенитных орудий. Сутки продержалась батарея, не имея связи с командованием полка. К вечеру 24 августа четверо бойцов вынесли раненого Свистуна. Они были единственными уцелевшими. Но первый натиск противника был отбит. Немцам не удалось взять город с ходу. Началась борьба на подступах, на улицах города, на площадях, в рабочих посёлках, на территории цехов сталинградских заводов-гигантов.
Семьдесят дней идёт борьба в самом Сталинграде, сто дней длится борьба, — если считать бои на дальних подступах к городу. Железными буквами нужно навечно записать в историю Советской страны имена знаменитых снайперов Чехова и Зайцева, имена тридцати трёх героев, отразивших атаку колонны тяжёлых танков, имена рабочих добровольцев Токарева и Полякова, имя комиссара противотанковой бригады Крылова и многих, многих лётчиков, танкистов, миномётчиков, стрелков, имя девушки-сталевара Ольги Ковалёвой, имя сержанта Павлова, который уже пятьдесят дней со своим отделением держит дом у одной из центральных площадей Сталинграда. «Павловский дом» называется в официальных сводках это здание. Их кровью, их волей, их мужеством держится Сталинград.
Потери германской армии огромны, количество убитых и раненых немцев приближается к двумстам тысячам. Тысяча танков, больше тысячи орудий и самолётов превращены в груды металлического лома. Но если можно восстановить потери в технике, если можно пригнать на убой новые толпы немецких солдат, то нет в мире силы, которая вернула бы немцам потерянные три месяца, нет уже способа восстановить рухнувший темп летнего наступления. Тактический успех германского летнего наступления не увенчался главным стратегическим результатом. Движение на восток и на юг приостановлено. Волжская крепость выстояла. Город, избравший своим гордым и тяжким уделом быть крепостью русской революции, город, сумевший на первом году республики сдержать натиск врага, сейчас, в пору её двадцатипятилетия, снова сыграл решающую роль в ходе Великой Отечественной войны.
И вот он лежит в развалинах, то дымящихся и тёплых, как ещё неостывшее тело, то холодных и мрачных. Ночью луна освещает рухнувшие здания. Расщеплённые пеньки срезанных снарядами деревьев, пустынные асфальтовые площади в зеленоватом холодном лунном свете блестят, точно покрытые ледком озёра, и, как проруби, темнеют на них огромные ямы, пробитые фугасными бомбами. Молчат развороченные снарядами заводские цехи, не дымят грубы, могильными холмами возвышаются цветники, украшавшие заводские дворы. Город мёртв? Нет, город жив! Даже в короткие минуты затишья в каждом разрушенном доме, в каждом цехе завода идёт напряжённая жизнь. Зоркие глаза снайперов высматривают врагов; ходами сообщений, среди развалин, несут снаряды, мины, патронные ящики; наблюдатели, засевшие в верхних этажах, ловят каждое движение противника. Командиры сидят, склонившись над картами, в подвалах, писари переписывают донесения, политработкики читают бойцам доклады, шуршат газетные листы, трудолюбиво делают своё опасное дело сапёры. Кажется, что безлюдны, пустынны и мертвы развалины. Но вот из-за угла медленно и осторожно появился немецкий танк. Тотчас же не спящий ни днём, ни ночью бронебойщик даёт выстрел по фашистской машине. Немецкий пулемётчик, прикрывая танк, начинает бить из окна дома по кирпичному прикрытию бронебойщика. Наш снайпер, сидящий на втором этаже соседнего дома, прикрывая своего бронебойщика, бьёт по пулемётному гнезду немцев. Видимо, немец ранен, а может быть, и убит — пулемёт замолкает. И тотчас же гремят разрывы немецких мин — красные куски кирпича летят со стены дома, в котором притаился снайпер, — это немцы мстят за пулемётчика. Наш наблюдатель сообщает данные о немецкой батарее, и советские пушки, до этого молчавшие в окнах, парадных дверях домов, открывают огонь. Немецкий танк улепетнул, снова ушёл за угол дома. Быстро меняют свои позиции снайпер, бронебойщик, лёгкие полковые пушки. Так бывает в редкие минуты затишья.
А большей частью дома, площади, заводы грохочут огнём, взрывами. Нелегко сейчас жить в Сталинграде.
Передо мной лежит обрывок бумаги, исписанный карандашом: это полученное недавно донесение в штаб батальона от командира роты. Вот текст его:
«Вр. 11.30. Гв. ст. лей-ту Федосееву: Доношу — обстановка следующая: противник старается окружить мою роту, засылает в тыл автоматчиков, но все его попытки не увенчались успехом. Гвардейцы не отступают. Пусть падут смертью храбрых бойцы и командиры, но противник не должен пройти нашу оборону. Пусть знает вся страна 3-ю стрелковую роту; пока командир жив, фашистская сволочь не пройдёт. Командир 3-й роты находится в напряжённой обстановке и сам лично физически нездоров. На слух оглушён и слаб. Происходит головокружение, и он падает с ног, происходит кровотечение из носа. Несмотря на все трудности, гвардейцы 3-й роты не отступают назад, погибнем героями за город Сталина. Да будет врагам могилой советская земля! Надеюсь на своих бойцов и командиров, через мой труп ни одна фашистская гадина не пройдёт.
ККалеганов.»Нет, великий город не умер! Земля и небо содрогаются от гула нашей могучей артиллерии, сражение идёт с той же силой, как два месяца тому назад. Десятки тысяч живых сердец мерно и сильно стучат в сталинградских домах — это сердца сталинградских рабочих, донецких шахтёров, горьковских, уральских, московских и ивановских, вятских и пермских рабочих и крестьян. Об эти железные сердца разбились немецкие атаки. Эти сердца самые верные в мире.
Никогда Сталинград не был так велик и прекрасен, как теперь, когда, обращенный в развалины, он торжественно славится свободолюбивыми народами мира. Сталинград жив. Сталинград борется. Да здравствует Сталинград!
5 ноября 1942 года
Сталинградский фронт
Глазами Чехова
Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые, мёртвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые круглые, чуть жёлтые, чуть зеленоватые, глаза, — не поймёшь, светлые они или тёмные — видят далёкие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, подъезжающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме напротив, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбёжка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «не слышу».
Анатолию Чехову идёт двадцатый год. Он прожил невесёлую жизнь. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих-стариков своей готовностью помочь обиженному, с десятилетнего возраста познал тёмные стороны жизни. Отец его пил, жестоко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми. Года за два до войны Анатолий Чехов оставил школу, где шёл по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими специальностями, стал электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером. 29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов.
— Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому, — говорит он. — Ну, я, хотя в школе снайперов шёл по всем предметам отлично, при первой стрельбе совершенно оскандалился — выбил девять очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет».
Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги, он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через девять линз оптического прицела, он понял внутренний теоретический принцип всех приспособлений: и поворота дистанционного маховичка, и связи пенька, приподымающегося при прицеливании, с горизонтальными нитями… И объёмное, широкое, четырёхкратно приближённое изображение Чехов воспринимал не только глазами стрелка, но и физика.
Лейтенант ошибся — при стрельбе из боевого оружия по движущейся мишени Чехов поразил «в головку» всеми тремя данными ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором — учить курсантов снайперской и обычной стрельбе, пользованию автоматом и различными гранатами. Так уж повелось, что в школе, и на производстве, и в военном деле он легко и в совершенстве овладевал пониманием различных предметов.
Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «жалел бить по живому», захотелось пойти на передовую.
— Я хотел лишь стать таким человеком, который сам уничтожает врага, — сказал мне Чехов.
На марше он тренировал себя по определению расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» — и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на-глаз с точностью до двух-трёх метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию девяти двояковыпуклых и вогнутых линз. Самый идиллический пейзаж научился он воспринимать как совокупность ориентиров: берёзки, кусты шиповника, ветряные мельницы стали для него местами, откуда мог появиться противник, и помогали быстро и точно повернуть дистанционный маховичок.
Первые свои сталинградские дни Чехов командовал пехотным отделением, а затем минометным взводом. Чехов сам себе ставил задачи и сам остроумно и тонко решал их, и в этих решениях ему приходилось напрягать не только свои сильные молодые руки и ноги, ясные совершенные глаза, но и думать — думать напряжённо, быстро, трудно, как, пожалуй, не случалось ему при решении самых сложных задач по физике и алгебре, которые любил для устрашения школяров закатывать педагог.
С первых же дней боёв он перестал воспринимать сражение как хаос огня и грохота, а научился угадывать, чего хочет противник.
— Было ли страшно в первые дни? Нет. У меня такое чувство было, что я учу бойцов маскироваться, стрелять, наступать, словно это и не война.
На фронте часто заводят разговор о храбрости. Обычно разговор этот превращается в горячий спор. Одни говорят, что храбрость — это забвение, приходящее в бою. Другие чистосердечно рассказывают, что, совершая мужественные поступки, они испытывают немалый страх и крепко берут себя в руки, заставляют усилием воли, подняв голову, выполнять долг, итти навстречу смерти. Третьи говорят: «Я храбр, ибо уверил себя в том, что меня никогда не убьют».
Капитан Козлов, человек очень храбрый, много раз водивший свой мотострелковый батальон в тяжёлые атаки, говорил мне, что он, наоборот, храбр оттого, что убеждён в своей смерти и ему всё равно, придёт к нему смерть сегодня или завтра. Многие считают, что источник храбрости — это привычка к опасности, равнодушие к смерти, приходящее под постоянным огнём. У большинства в подоснове мужества и презрения к смерти лежит чувство долга, ненависть к противнику, желание мстить за страшные бедствия, принесённые оккупантами нашей стране. Молодые люди говорят, что они совершают подвиги из желания славы, некоторым кажется, что на них в бою смотрят их друзья, родные, невесты. Один пожилой командир дивизии, человек большого мужества, на просьбу адъютанта уйти из-под огня, смеясь, сказал:
— Я так сильно люблю своих двух детей, что меня никогда не могут убить.
Я думаю, что спорить фронтовому народу о природе храбрости нечего. Каждый храбрец храбр по-своему. Велико и ветвисто могучее дерево мужества, тысячи ветвей его, переплетаясь, высоко поднимают к небу славу нашей армии, нашего великого народа.
Но если каждый отважный отважен по-своему, то себялюбивая трусость всегда в одном: в рабском подчинении инстинкту сохранения своего живота. Человек, сегодня бежавший с поля боя, завтра выбежит из горящего дома, оставив огню свою старуху-мать, жену, малых ребят.
У Чехова увидел я ещё одну разновидность мужества, самую простую, пожалуй, самую «круглую», прочную: ему органически, от природы было чуждо чувство страха смерти — так же, как орлу чужд страх перед высотой.
Он получил свою снайперскую винтовку перед вечером. Долго обдумывал он, какое место занять ему — в подвале ли, засесть ли на первом этаже, укрыться ли в груде кирпича, выбитого тяжёлой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны — окна с обгоревшими лоскутками занавесок, свисавшую железными спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остовы двуспальных супружеских кроватей. Его пытливый и совершенный глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей, он видел поблёскивавшие осколки зеленоватых хрустальных рюмок, куски зеркала, порыжевшие и обгоревшие усы финиковых пальм на подоконниках, покоробившиеся куски жести, развеянные дыханием пожара, словно лёгкие листы бумаги, обнажившиеся из-под земли чёрные кабели, толстые водопроводные трубы — мышцы и кости города. Чехов сделал выбор — он вошёл в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены, на площадках лестниц, в прямоугольники сгоревших дверей видны были пустые коробки; этажи различались лишь по разной окраске стен: квартира второго этажа была розовой, третьего — тёмносиней, четвёртого—фисташковой с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала широкий вид: прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая широкая улица, дальше, метрах в семистах, начиналась площадь. Всё это было немецким. Чехов устроился на лестничной площадке у остроконечного выступа стены, устроился, так, чтобы тень от выступа падала на него, — он становился совершенно невидим в этой тени, когда вокруг всё освещалось солнцем. Винтовку он положил на чугунные узорчатые перила. Он поглядел вниз. Привычно определил ориентиры, их было немало. По пустынной улице шли два немецких солдата. Они остановились в ста метрах от того места, где сидел Чехов. Четыре минуты юноша смотрел на немцев. Он медлил. Это странное чувство нерешительности знакомо почти всем снайперам перед первым выстрелом. О нём рассказывал Чехову знаменитый Пчелинцев, приезжавший в школу снайперов и вспоминавший о своём первом снайперском, охотничьем выстреле по фашистскому солдату.
Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало тёмносиним. Словно серые тихие покойники, стояли высокие обгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная, — толстое стальное зеркало танкиста, равнодушно отражающее жестокую картину битвы. Луна была медово-жёлтой, спелой, а свет её, словно отделившийся от мёда сухой белый воск, казался лёгким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой белый свет тонкой плёнки лёг на мёртвый город, на сотни безглазых домов, на поблёскивающий, как лёд, асфальт улиц и площадей. Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается, так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, весёлым, вернуть из холодной степи эти тысячи девушек, которые, кутаясь в шубки, ожидали на грейдере попутных машин; этих мальчишек и девчонок, со старческой серьёзностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска; этих стариков, кутающихся в бабьи платки; городских бабушек, надевших поверх кацавеек сыновьи пальто и шинельки.
Тень мелькнула по карнизу. Бесшумно прошла большая сибирская кошка, распушив хвост. Она поглядела на Чехова, глаз её засветился синим электрическим огнём. Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья, послышался сердитый голос немца, пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам. Чехов приподнялся, посмотрел: в тени улицы мелькали быстрые тёмные фигуры — немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было — вспышка выстрела сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят?» — подумал с тоской Чехов, и сразу же, едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо, с железной злобой заработал советский пулемёт. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть, блестящими при луне осколками стёкол, стал спускаться вниз. В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шёлковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку, чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшённой каши; сидел на кирпичиках, рассматривал пепельницу с надписью «Жена, не серди мужа» и слушал, как в тёмном углу подвала красноармеец-сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбёжке, о танцевальных площадках, о славных девчатах. И, слушая его, Чехов всё ещё видел перед собой картину мёртвого Сталинграда, освещенного полной луной. Он рано, с самых детских лет, познал тяжесть жизни. «Отец часто шумел, — мне и читать, и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел», — печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу зла, принесённого немцами нашей стране, он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, оно жгло его.
Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил:
— Ну что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?
Чехов сидел задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон:
— Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить.
Утром он встал до рассвета, не попил, не поел, а лишь налил в баклажку воды и положил в карман несколько сухарей и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, кругом всё осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с вёдрами, носят офицерам мыться. Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, он отнёс прицел от носа солдата на четыре сантиметра вперёд и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то тёмное, голова мотнулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал на бок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец; в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий — он хотел пройти к лежавшему с ведром, но он не прошёл. «Три», — сказал Чехов и стал спокоен. В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок, — туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу — донесение. Он определил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы к дому напротив, где сидели автоматчики и пулемётчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и питья. Обедали немцы всухомятку — Чехов знал их меню, утреннее и дневное: хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный миномётный огонь, вели его примерно тридцать — сорок минут и после кричали хором: «Рус, обедать!» Это приглашение к примирению привело Чехова в бешенство. Ему, весёлому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мёртвом городе. Это оскорбило чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспощаден. Он быстро научился отличать солдат от офицеров. У офицеров были тужурки, фуражки, они не носили поясного ремня, ходили в ботинках. Солдат он сразу отличал по сапогам, ремню, пилотке. Ему хотелось, чтобы немцы не ходили по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами скрипел от желания пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далёких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки — «жалел бить по живому», стал страшным человеком: истребителем оккупантов. Не в этом ли железная, святая логика Отечественной войны?
К концу первого дня Чехов увидел офицера. Офицер шёл уверенно, изо всех домов выскакива-ли автоматчики, становились перед ним навытяжку. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова.
Чехов заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, чем в стоящего: попадание получалось точно в голову. Он сделал одно открытие, помогавшее ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дуло винтовки до края стены сантиметров на четырнадцать — двадцать. На белом фоне выстрел не был виден.
Он желал теперь лишь одного: чтобы немцы не ходили по Сталинграду во весь рост, он желал пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. И он добился своего: к концу первого дня немцы не ходили, а бегали, к концу второго дня они стали ползать. Утренний солдат не пошёл уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной, они отказались от свежей воды и пользовались гнилой, из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать». В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина. Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь — били миномёты, пушки, станковые пулемёты. Особенно упорно «тыркали и гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали: «Рус, ужинать!»
Всю ночь слышны были удары кирки и лопаты — немцы копали в мёрзлой земле ход сообщения. На третье утро Чехов увидел множество изменений: немцы подвели две траншеи к асфальтовой ленте улицы — они отказались от воды, но хотели по этим траншейкам подтаскивать боеприпасы. «Вот я вас и пригнул к земле», — подумал Чехов. Он сразу увидел в стене дома напротив маленькую амбразурку. Вчера её не было. Чехов понял: «Немецкий снайпер». «Гляди», — шепнул он сержанту, пришедшему смотреть его работу, и нажал на спусковой крючок. Послышался крик, топот сапог — автоматчики унесли снайпера, не успевшего сделать ни одного выстрела по Чехову. Чехов занялся траншеей. Немцы ползком пробирались до асфальта, перебегали асфальт и снова прыгали во вторую траншею. Чехов стал бить в тот момент, когда они вылезали на асфальт. Первый немец пополз обратно в траншею.
— Вот я вогнал тебя в землю, — сказал Чехов.
На восьмой день Чехов держал под контролем все дороги к немецким домам. Надо было менять позицию, немцы перестали ходить и стрелять. Он лежал на площадке и смотрел своими молодыми глазами на умерщвлённый немцами Сталинград, — юноша, жалевший бить «по живому» из рогатки, ставший железной и святой логикой Отечественной войны страшным человеком, мстителем.
16 ноября 1942 года
Сталинградский фронт
Направление главного удара
Ночью сибирские полки дивизии полковника Гуртьева заняли оборону. Всегда суров и строг вид завода, но можно ли найти в мире картину суровее той, что увидали люди дивизии в октябрьское утро 1942 года? Тёмные громады цехов, поблёскивающие влагой рельсы, уже кое-где тронутые следами окиси, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в беспорядке валяющиеся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, холмы красного шлака, уголь, могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами. На асфальтированной площадке темнели ямы, вырытые авиационными бомбами, всюду валялись стальные осколки, изорванные силой взрыва, словно тонкие лоскуты ситца. Дивизии предстояло стать перед этим заводом и стоять насмерть. За спиной была холодная тёмная Волга. Ночью сапёры взламывали асфальт и в каменистой почве выдалбливали кирками окопы, в мощных стенах цехов прорубали боевые амбразуры, в подвалах разрушенных зданий устраивали убежища. Полки Маркелова и Михалёва обороняли завод. Один из командных пунктов был устроен в бетонированном канале, проходившем под зданиями главных цехов. Полк Сергеенко оборонял район глубокой балки, шедшей через заводские посёлки к Волге. «Логом смерти» называли её бойцы и командиры полка. Да, за спиной была ледяная тёмная Волга, за спиной была судьба России. Дивизии предстояло стоять насмерть. Прошлая мировая война стоила России больших жертв и большой крови, но в первой мировой войне чёрная сила противника делилась между западным фронтом и восточным. В нынешней войне Россия приняла всю тяжесть удара германского нашествия. В 1941 году германские полки двигались от моря до моря. В нынешнем, 1942, году немцы всю силу своего удара сконцентрировали в юго-восточном направлении. То, что в первую войну распределялось на два фронта великих держав, что в прошлом году давило на Россию, — на одну лишь Россию фронтом в три тысячи километров, нынешним летом и нынешней осенью тяжким молотом обрушилось на Сталинград и Кавказ. Но, мало того, здесь, в Сталинграде, немцы вновь заострили своё наступательное давление. Они стабилизировали свои усилия в южных и центральных частях города. Всю огневую тяжесть бесчисленных миномётных батарей, тысячи орудий и воздушных корпусов обрушили немцы на северную часть города, на стоящий в центре промышленного района завод «Баррикады» Немцы полагали, что человеческая порода не в состоянии выдержать такого напряжения, что нет на земле таких сердец, таких нервов, которые не порвались бы в диком аду огня, визжащего металла, сотрясаемой земли и обезумевшего воздуха. Здесь был собран весь дьявольский арсенал германского милитаризма — тяжёлые и огнемётные танки, шестиствольные миномёты, армады пикирующих бомбардировщиков с воющими сиренами, осколочными, фугасными бомбами. Здесь автоматчиков снабдили разрывными пулями, артиллеристов и миномётчиков — термитными снарядами. Здесь была собрана германская артиллерия от малых калибров противотанковых полуавтоматов до тяжёлых дальнобойных пушек. Здесь бросали мины, похожие на безобидные зелёные и красные мячики, и воздушные торпеды, вырывающие ямы объёмом в двухэтажный дом. Здесь ночью было светло от пожаров и ракет, здесь днём было темно от дыма горящих зданий и дымовых шашек германских маскировщиков. Здесь грохот был плотен, как земля, а короткие минуты тишины казались страшней и зловещее грохота битвы. И если мир склоняет головы перед героизмом русских армий, если русские армии с восхищением говорят о защитниках Сталинграда, то уже здесь, в самом Сталинграде, бойцы Шумилова с почтительным уважением произносят:
— Ну, так что мы? Вот люди: держат заводы. Страшно и удивительно смотреть: день и ночь висит над ними туча огня, дыма, немецких пикировщиков, а Чуйков стоит.
Грозные эти слова для военного человека: направление главного удара, жестокие, страшные слова. Нет слов страшнее на войне, и, конечно, не случайно, что в хмурое осеннее утро заняла оборону у завода сибирская дивизия полковника Гуртьева. Сибиряки — народ коренастый, строгий, привыкший к холоду и лишениям, молчаливый, любящий порядок и дисциплину, резкий на слова. Сибиряки — народ надёжный, кряжистый. Они-то в суровом молчании били кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения, готовя смертную оборону.
Полковник Гуртьев, сухощавый пятидесятилетний человек, в 1914 году ушёл со второго курса Петербургского политехнического института добровольцем на русско-германскую войну. Он был тогда артиллеристом, воевал с немцами под Варшавой, под Барановичами, Чарторийском.
Двадцать восемь лет своей жизни посвятил полковник военному делу, воевал и учил командиров. Два сына его лейтенантами ушли на войну. В далёком Омске остались жена и дочь-студентка. И в этот торжественный и грозный день полковник вспомнил и сыновей-лейтенантов, и дочь, и жену, и много десятков воспитанных им молодых командиров, и всю свою долгую, полную труда, спартански скромную жизнь. Да, пришёл час, когда все принципы военной науки, морали, долга, которые он с суровым постоянством преподавал сыновьям своим, ученикам, сослуживцам, должны были получить проверку, и с волнением поглядывал полковник на лица солдат-сибиряков: омичей, новосибирцев, красноярцев, барнаульцев, — тех, с кем сулила ему судьба отражать удары врага. Сибиряки пришли к великим рубежам хорошо подготовленными. Дивизия прошла большую школу, прежде чем выступить на фронт. Тщательно и умно, беспощадно придирчиво учил бойцов полковник Гуртьев. Он знал, что, сколь ни тяжела военная учёба, ночные учебные штурмы, утюжение танками сидящих в щелях бойцов, долгие марши, — всё же во много крат тяжелее и суровее сама война. Он верил в стойкость, в силу сибирских полков. Он проверил её в дороге, когда за весь долгий путь было лишь одно чрезвычайное происшествие: боец уронил на ходу поезда винтовку, соскочил, поднял винтовку и три километра бежал до станции, чтобы догнать идущий к фронту эшелон. Он проверил стойкость полков в сталинградской степи, где необстрелянные люди спокойно отразили внезапную атаку тридцати немецких танков. Он проверил выносливость сибиряков во время последнего марша к Сталинграду, когда люди за двое суток покрыли расстояние в двести километров. И всё же с волнением поглядывал полковник на лица бойцов, вышедших на главный рубеж, на направление главного удара.
Гуртьев верил в своих командиров. Молодой, не знающий устали, начальник штаба полковник Тарасов мог дни и ночи сидеть в сотрясаемом взрывами блиндаже над картами, планировать сложный бой. Его прямота и беспощадность суждений, его привычка смотреть жизни прямо в глаза и искать военную правду, как бы горька она ни была, зиждились на железной вере. В этом небольшом сухощавом молодом человеке с лицом, речью и руками крестьянина жила неукротимая сила мысли и духа. Заместитель командира дивизии по политической части Свирин обладал крепкой волей, острой мыслью, аскетической скромностью, он умел оставаться спокойным, весёлым и улыбаться там, где забывал об улыбке самый спокойный и жизнерадостный человек. Командиры полков Маркелов, Михалёв и Чамов были гордостью полковника, он верил им, как самому себе. О спокойной храбрости Чамова, о несгибаемой воле Маркелова, о замечательных душевных качествах Михалёва, любимца полка, по-отечески заботливого к подчинённым, мягкого и «симпатичнейшего человека», не знающего, что такое страх, все в дивизии говорили с любовью и восхищением, — и всё же с волнением глядел на лица своих командиров полковник Гуртьев, ибо он знал, что такое направление главного удара, что значит держать великий рубеж сталинградской обороны. «Выдержат ли, выстоят ли?» — думал полковник.
Едва дивизия успела закопаться в каменистую почву Сталинграда, едва управление дивизии ушло в глубокую штольню, выдолбленную в песчаной скале над Волгой, едва протянулась проволочная связь и застучали радиопередатчики, связывающие командные пункты с занявшей в Заволжьи огневые позиции артиллерией, едва мрак ночи сменился рассветом, как немцы открыли огонь. Восемь часов подряд пикировали «Юнкерсы-87» на оборону дивизии, восемь часов, без единой минуты перерыва, шли волна за волной немецкие, самолёты, восемь часов выли сирены, свистели бомбы, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий, восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли, смертно выли осколки. Тот, кто слышал вопль воздуха, раскалённого авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного десятиминутного налёта немецкой авиации, тот поймёт, что такое восемь часов интенсивной воздушной бомбёжки пикирующих бомбардировщиков. Восемь часов сибиряки били всем своим оружием понемецким самолётам, и, вероятно, чувство, похожее на отчаяние, овладевало немцами, когда эта горящая, окутанная чёрной пылью и дымом заводская земля упрямо трещала винтовочными залпами, рокотала пулемётными очередями, короткими ударами противотанковых ружей и мерной злой стрельбой зениток. Казалось, всё живое должно быть сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопавшись в землю, не согнулась, не сломалась, а вела огонь — упрямая, бессмертная. Немцы ввели в действие тяжёлые полковые миномёты и артиллерию. Нудное шипение мин и вой снарядов присоединились к свисту сирен и грохоту рвущихся авиационных бомб. Так продолжалось до ночи. В печальном и строгом молчании хоронили красноармейцы своих погибших товарищей. Это был первый день — новоселье. Всю ночь не умолкали немецкие артиллерийские миномётные батареи, и мало кто спал в эту ночь.
Этой ночью на командном пункте полковник Гуртьев встретил двух своих старых друзей, которых не видел больше двадцати лет. Люди, расставшиеся молодыми, неженатыми, встретились уже седыми, морщинистыми. Двое из них командовали дивизиями, третий — танковой бригадой. Они обнялись, и все вокруг: начальники их штабов, и адъютанты, и майоры из оперативного отдела увидели слёзы на глазах седых людей.
«Какая судьба, какая судьба!» — говорили они. И в самом деле: что-то величественное и трогательное было во встрече друзей юности в грозный час, среди пылавших заводских корпусов и развалин Сталинграда. Видно, правильной дорогой шли они, если встретились вновь при выполнении высокого и тяжёлого долга.
Всю ночь грохотала немецкая артиллерия, и, едва взошло солнце над вспаханной немецким железом землёй, появилось сорок пикировщиков, и снова завыли сирены, и снова чёрное облако пыли и дыма поднялось над заводом, закрыло землю, цехи, разбитые вагоны, и даже высокие заводские трубы потонули в чёрном тумане. В это утро полк Маркелова вышел из укрытий, убежищ, окопов, он покинул бетонные и каменные норы и перешёл в наступление. Батальоны шли вперёд через горы шлака, через развалины домов, мимо гранитного здания заводской конторы, через рельсовые пути, через садик городского предместья. Они шли мимо тысяч безобразных ям, вырытых бомбами, и над головами людей был весь ад немецкой воздушной армии. Железный ветер бил в лицо, и они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?
Да, они были смертны. Полк Маркелова прошёл километр, занял новые позиции, закрепился на них. Только здесь знают, что такое километр. Это — тысяча метров, это сто тысяч сантиметров. Ночью немцы атаковали полк во много раз превосходящими силами. Шли батальоны немецкой пехоты, шли тяжёлые танки, и пулемёты заливали позиции полка железом. Пьяные автоматчики лезли с упорством лунатиков. О том, как сражался полк Маркелова, расскажут мёртвые тела бойцов, расскажут друзья, слышавшие, как в ночь и на следующий день и снова в ночь рокотали русские пулемёты, раздавались взрывы русских гранат. Повесть об этом бое расскажут развороченные и сожжённые немецкие танки и длинные вереницы крестов с немецкими касками, выстроившиеся повзводно, поротно, побатальонно…
Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из них, но они сделали своё дело.
На третий день немецкие самолёты висели над дивизией уже не восемь, а двенадцать часов. Они оставались в воздухе после заката солнца, и из высокой тьмы ночного неба возникали воющие голоса сирен «Юнкерсов» и, как тяжёлые и частые удары молота, обрушивались на полыхавшую дымным красным пламенем землю фугасные бомбы. С утренней зари до вечерней били по дивизии немецкие пушки и миномёты. Сто артиллерийских полков работали на немцев в районе Сталинграда. Иногда они устраивали огневые налёты, по ночам они вели изматывающий методический огонь. Вместе с ними работали миномётные батареи. Это было направление главного удара.
По нескольку раз в день вдруг замолкали немецкие пушки, миномёты, вдруг исчезала давящая сила пикировщиков. Наступала необычайная тишина. Тогда наблюдатели кричали: «Внимание!», и боевое охранение бралось за бутылки горючей жидкости, бронебойщики раскрывали брезентовые сумки с патронами, автоматчики обтирали ладонью свои ППШ, гранатомётчики ближе подвигали ящики гранат. Эта короткая, минутная тишина не означала отдыха. Она предшествовала атаке.
Вскоре лязг сотен гусениц, низкое гудение моторов оповещали о движении танков, и лейтенант кричал:
— Товарищи, внимание! Слева просачиваются автоматчики.
Иногда немцы подходили на расстояние тридцати — сорока метров, и сибиряки видели их грязные лица, порванные шинели, слышали картавые выкрики, угрозы, насмешки, а после того как немцы откатывались, на дивизию с новой яростью обрушивались пикировщики и огневые валы артиллерии и миномётов. В отражении немецких атак великую заслугу имела наша артиллерия. Командир артиллерийского полка Фугенфиров, командиры дивизионов и батарей находились вместе с батальонами, ротами дивизии на передовой. Радио связывало их с огневыми позициями, и десятки мощных дальнобойных орудий на левом берегу жили одним дыханием, одной тревогой, одной бедой и одной радостью с пехотой. Артиллерия делала десятки замечательных вещей: она прикрывала стальным плащом пехотные позиции, она корёжила, как картон, сверхтяжёлые немецкие танки, с которыми не могли справиться бронебойщики, она, словно меч, отсекала автоматчиков, лепившихся к броне танков, она обрушивалась то на площадь, то на тайные места сосредоточения, она взрывала склады и поднимала на воздух немецкие миномётные батареи. Нигде за время войны пехота так не чувствовала дружбу и великую помощь артиллерии, как в Сталинграде.
В течение месяца немцы произвели сто семнадцать атак на полки сибирской дивизии.
Был один страшный день, когда немецкие танки и пехота двадцать три раза ходили в атаку. И эти двадцать три атаки были отбиты. В течение месяца каждый день, за исключением трёх, немецкая авиация висела над дивизией десять — двенадцать часов. Всего за месяц триста двадцать часов. Оперативное отделение подсчитало астрономическое количество бомб, сброшенных немцами на дивизию. Это — цифра с четырьмя нолями. Такой же цифрой определяется количество немецких самолёто-налётов. Всё это происходит на фронте длиной около полутора-двух километров. Этим грохотом можно было оглушить человечество, этим огнём и металлом можно было сжечь и уничтожить государство. Немцы полагали, что сломают моральную силу сибирских полков. Они полагали, что перекрыли предел сопротивления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума, не потеряли власть над своими сердцами и нервами, а стали сильней и спокойней. Молчаливый, кряжистый сибирский народ стал ещё суровей, ещё молчаливей, ввалились у красноармейцев щёки, мрачно смотрели глаза. Здесь, на направлении главного удара германских сил, не слышно было в короткие минуты отдыха ни песни, ни гармоники, ни весёлого лёгкого слова. Здесь люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение. Бывали периоды, когда они не спали по трое, четверо суток кряду, и командир дивизии, седой полковник Гуртьев, разговаривая с красноармейцами, с болью услышал слова бойца, тихо сказавшего:
— Есть у нас всё, товарищ полковник, и хлеб — девятьсот граммов, и горячую пищу непременно два раза в день приносят в термосах, да не кушается.
Гуртьев любил и уважал своих людей, и знал он — когда солдату «не кушается», то уж крепко, по-настоящему тяжело ему. Но теперь Гуртьев был спокоен. Он понял: нет на свете силы, которая могла бы сдвинуть с места сибирские полки. Великим и жестоким опытом обогатились красноармейцы и командиры за время боёв. Ещё прочней и совершенней стала оборона. Перед заводскими цехами выросли целые переплетения сапёрных сооружений, — блиндажи, ходы сообщения, стрелковые ячейки; инженерная оборона была вынесена далеко вперёд, перед цехами. Люди научились быстро и слаженно производить подземные манёвры, сосредоточиваться, рассыпаться, переходить из цеха в окопы ходами сообщения и обратно, в зависимости от того, куда обрушивала свои удары авиация противника, в зависимости от того, откуда появлялись танки и пехота атакующих немцев. Были сооружены подземные «усы», «щупальцы», по которым истребители подбирались к тяжёлым немецким танкам, останавливающимся в ста метрах от здания цехов. Сапёры минировали все подходы к заводу. Мины приходилось подносить на руках, по две штуки, держа их подмышками, как хлебы. Этот путь от берега к заводу шёл на протяжении шести — восьми километров и полностью простреливался немцами. Само минирование производилось в глубоком мраке, в предрассветные часы, часто на расстоянии тридцати метров от фашистских позиций. Так было заложено около двух тысяч мин под брёвна разнесённых бомбёжкой домиков, под кучки камней, в ямки, вырытые снарядами и минами. Люди научились защищать большие дома, создавая плотный огонь от первого этажа до пятого, устраивали изумительно тонко замаскированные наблюдательные пункты перед самым носом у неприятеля, использовали в обороне ямы, вырытые тяжёлыми бомбами, всю сложную систему подземных заводских газопроводов, маслопроводов, водопроводов. С каждым днём совершенствовалась связь между пехотой и артиллерией, и иногда казалось, что Волга уже не отделяет пушек от полков, что глазастые пушки, мгновенно реагирующие на каждое движение врага, находятся рядом со взводами, с командными пунктами.
Вместе с опытом росла внутренняя закалка людей. Дивизия превратилась в совершенный, на диво слаженный единый организм. Люди дивизии не чувствовали, сами не понимали, не могли ощутить тех психологических изменений, которые произошли в них за месяц пребывания в аду, на переднем крае обороны великого сталинградского рубежа. Им казалось, что они те же, какими были всегда: они в свободную тихую минуту мылись в подземных банях, им так же приносили горячую пищу в термосах, и заросшие бородами Макаревич и Карнаухов, похожие на мирных сельских почтарей, приносили под огнём на передовую в своих кожаных сумках газеты и письма из далёких омских, тюменских, тобольских, красноярских деревень. Они вспоминали о своих плотницких, кузнечных, крестьянских делах. Они насмешливо звали шестиствольный немецкий миномёт «дурилой», а пикирующих бомбардировщиков с сиренами «скрипунами» и «музыкантами». На крики немецких автоматчиков, грозивших им из развалин соседних зданий и кричавших: «Эй, рус, буль-буль, сдавайся», они усмехались и меж собой говорили: «Что это немец всё гнилую воду пьёт или не хочет волжской?» Им казалось, что они те же, и только вновь приезжавшие с лугового берега с почтительным изумлением смотрели на них, уже не ведавших страха людей, для которых не было больше слов «жизнь» и «смерть». Только глаза со стороны могли оценить всю железную силу сибиряков, их равнодушие к смерти, их спокойную волю до конца вынести тяжкий жребий людей, занявших смертную оборону.
Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии и её людей, героизм сделался будничной, каждодневной привычкой. Героизм всюду и во всём. Героизм был в работе поваров, чистивших под сжигающим огнём термитных снарядов картошку. Великий героизм был в работе девушек-санитарок, тобольских школьниц — Тони Егоровой, Зои Калгановой, Веры Каляды, Нади Кастериной, Лёли Новиковой и многих их подруг, перевязывавших и поивших водой раненых в разгаре боя. Да, если посмотреть глазами со стороны, то героизм был в каждом будничном движении людей дивизии: и в том, как командир взвода связи Хамицкий, мирно сидя на пригорке перед блиндажом, читал «беллетристику», в то время как десяток немецких пикировщиков с рёвом бодали землю, и в том, как офицер связи Батраков, аккуратно протирая очки, вкладывал в полевую сумку донесения и отправлялся в двенадцатикилометровый путь по «логу смерти» с таким будничным спокойствием, словно речь шла о привычной воскресной прогулке, и в том, как автоматчик Колосов, засыпанный в блиндаже разрывом по самую шею землёй и обломками досок, повернул к заместителю командира Свирину лицо и рассмеялся, и в том, как машинистка штаба, краснощёкая толстуха, сибирячка Клава Копылова, начала печатать в блиндаже боевой приказ и была засыпана, откопана, перешла печатать во второй блиндаж, снова была засыпана, снова откопана и всё же допечатала приказ в третьем блиндаже и принесла его командиру дивизии на подпись.
Вот такие люди стояли на направлении главного удара.
Об их несгибаемом упорстве больше всего знают сами немцы. Ночью в блиндаж к Свирину привели пленного. Руки и лицо его, поросшее седой щетиной, были совершенно чёрные от грязи, превратившийся в тряпку шерстяной шарф прикрывал шею. Это был немец из пробивных отборных частей немецкой армии, участник всех походов, член нацистской партии. После обычных вопросов пленному перевели вопрос Свирина: «Как расценивают немцы сопротивление в районе завода?» Пленный стоял, прислонившись плечом к каменной стене блиндажа. «О!» — сказал он и вдруг разрыдался.
Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара, их нервы и сердца выдержали.
К концу второй декады немцы предприняли решительный штурм завода. Такой подготовки к атаке не знал мир. Восемьдесят часов подряд работала авиация, тяжёлые миномёты и артиллерия. Три дня и три ночи превратились в хаос дыма, огня и грохота. Шипение бомб, скрипящий рёв мин из шестиствольных «дурил», гул тяжёлых снарядов, протяжный визг сирен одни могли оглушить людей, но они лишь предшествовали грому разрывов. Рваное пламя взрывов полыхало в воздухе, вой истерзанного металла пронизывал пространство. Так было восемьдесят часов. Затем подготовка кончилась, и сразу же в пять утра в атаку перешли тяжёлые и средние танки, пьяные орды автоматчиков, пехотные немецкие полки. Немцам удалось ворваться в завод, их танки ревели у стен цехов, они рассекали нашу оборону, отрезали командные пункты дивизии и полков от переднего края обороны. Казалось, что лишённая управления дивизия потеряет способность к сопротивлению, что командные пункты, попавшие под непосредственный удар противника, обречены уничтожению, но произошла поразительная вещь: каждая траншея, каждый блиндаж, каждая стрелковая ячейка и укреплённые руины домов превратились в крепости со своими управлениями, со своей связью. Сержанты и рядовые красноармейцы стали командирами, умело и мудро отражавшими атаки. И в этот горький и тяжёлый час командиры, штабные работники превратили командные пункты в укрепления и сами, как рядовые, отражали атаки врага. Десять атак отбил Чамов. Огромный рыжий командир танка, оборонявший командный пункт Чамова, расстреляв все снаряды и патроны, соскочил на землю и стал камнями бить подошедших автоматчиков. Командир полка сам стрелял из миномёта. Любимец дивизии, командир полка Михалёв, погиб от прямого попадания бомбы в командный пункт. «Убило нашего отца», — говорили красноармейцы. Сменивший Михалёва майор Кушнарёв перенёс свой командный пункт в бетонированную трубу, проходящую под заводскими цехами. Несколько часов вёл бой у входа в эту трубу Кушнарёв, его начальник штаба Дятленко и шесть человек командиров. У них имелось несколько ящиков гранат, и этими гранатами они отбили все атаки немецких автоматчиков.
Этот невиданный по ожесточённости бой длился, не переставая, несколько суток. Он шёл уже не за отдельные дома и цехи, он шёл за каждую отдельную ступеньку лестницы, за угол в тесном коридоре, за отдельный станок, за пролёт между станками, за трубу газопровода. Ни один человек не отступил в этом бою. И если немцы занимали какое-либо пространство, то это значило, что там уже не было живых красноармейцев. Все дрались так, как рыжий великан-танкист, фамилии которого так и не узнал Чамов, как сапёр Косиченко, выдёргивавший чеку из гранаты зубами, так как у него была перебита левая рука. Погибшие словно передали силу оставшимся в живых, и бывали такие минуты, когда десять активных штыков успешно держали оборону, занимаемую батальоном. Много раз переходили заводские цехи от сибиряков к немцам, и снова сибиряки захватывали их. В этой бою немцам удалось занять ряд зданий и заводских цехов. В этом бою немцы достигли максимального напряжения атак. Это был самый высокий потенциал их удара на главном направлении. Словно подняв непомерную тяжесть, они надорвали какие-то внутренние пружины, приводившие в действие их пробивной таран.
Кривая немецкого напора начала падать. Три немецких дивизии, 94-я, 305-я, 389-я, дрались против сибиряков. Пяти тысяч немецких жизней стоило сто семнадцать пехотных атак. Сибиряки выдержали это сверхчеловеческие напряжение. Две тысячи тонн превращенного в лом танкового металла легло перед заводом. Тысячи тонн снарядов, мин, авиабомб упали на заводской двор, на цехи, но дивизия выдержала напор. Она не сошла со смертного рубежа, она ни разу не оглянулась назад, она знала: за спиной её была Волга, судьба страны.
Невольно думаешь о том, как выковывалось это великое упорство. Тут сказался и народный характер, и высокое сознание великой ответственности, и угрюмое, кряжистое сибирское упорство, и отличная военная и политическая подготовка, и суровая дисциплина. Но мне хочется сказать ещё об одной черте, сыгравшей немалую роль в этой великой и трагической эпопее — об удивительной целомудренной морали, о крепкой любви, связывавшей всех людей сибирской дивизии. Дух спартанской скромности свойствен всему командному составу дивизии. Он сказывается и в бытовых мелочах, и в отказе от положенных законом ста граммов водки во всё время сталинградских боёв, и в разумной, нешумливой деловитости. Любовь, связывающую людей дивизии, я увидел в той скорби, с которой говорят о погибших товарищах. Я услышал её в словах красноармейца из полка Михалёва, ответившего на вопрос: «Как живётся вам?» — «Эх, как живётся, — остались мы без отца».
Я увидел её в трогательной встрече седого полковника Гуртьева с вернувшейся после второго ранения батальонной санитаркой Зоей Калгановой. «Здравствуйте, дорогая девочка моя», — тихо сказал Гуртьев и быстро с протянутыми руками пошёл навстречу худой стриженой девушке. Так лишь отец может встречать свою родную дочь. Эта любовь и вера друг в друга помогали в страшном бою красноармейцам становиться на место командиров, помогали командирам и работникам штаба браться за пулемёт, ручную гранату, бутылку с горючей жидкостью, чтобы отражать немецкие танки, вышедшие к командным пунктам.
Жёны и дети никогда не забудут своих мужей и отцов, павших на великом волжском рубеже. Этих хороших, верных людей нельзя забыть. Наша Красная Армия может лишь одним достойным способом почтить святую память павших на направлении главного удара противника — освободительным, не знающим преград наступлением. Мы верим, что час этого наступления близок.
20 ноября 1942 года
Сталинградский фронт
По дорогам наступления
По Волге идёт лёд. Льдины шуршат, сталкиваясь, крошатся, лезут друг на дружку. Этот сухой, напоминающий шуршанье песка шопот слышен на много саженей от берега. Река почти вся сплошь покрыта льдом, лишь изредка в белой широкой ленте, плывущей среди тёмных бесснежных берегов, видны пятна воды. Белый волжский лёд несёт на себе стволы деревьев, брёвна. Вот на ледяном холме сидит, насупившись, большой ворон. Его чернота видна даже на фоне тёмной полыньи. Вчера здесь проплыл мёртвый краснофлотец в полосатой тельняшке. Матросы с грузового парохода сняли его. Мёртвый врос в лёд. Его с трудом оторвали. Он словно не хотел уходить с Волги, где воевал и погиб. Необычайно странно выглядят волжские пароходы и баржи среди льдов. Чёрный дым пароходных груб подхватывается ветром, стелется над рекой, цепляется, рвётся в клочья на поднимающихся дыбом льдинах. Тупые широкие носы барж медленно подминают под себя светлую ленту, тёмная вода за кормой снова покрывается идущим от Сталинграда льдом. Никогда ещё в такую позднюю пору не работали волжские пароходы. «Это наша первая полярная навигация», — говорит капитан буксирного парохода. Нелегко работать во льдах, часто рвутся буксирные канаты, матросы рубят молотами тяжёлые тросы, балансируя, перебегают по зыбким колеблющимся льдинам. Капитан, с длинными седыми усами, с тёмнокрасным от ветра лицом, кричит осипшим голосом в рупор. Пароход, покряхтывая от напряжения, подбирается к затёртой льдом барже. Но день и ночь работает эта переправа — везут баржи боеприпасы, танки, хлеб, лошадей. И если грозная переправа, переправа огня, там наверху, у города, обеспечивает сталинградскую оборону, то эта нижняя переправа, переправа льда, обеспечивает сталинградское наступление.
Девяносто дней штурмовали главные немецкие силы дома и улицы, заводы и сады Сталинграда. Девяносто дней отражали дивизии, защищающие город, невиданный натиск тысяч немецких орудий, танков, самолётов, сотни жестоких атак выдержали бойцы Родимцева, Горохова, Гуртьева, Батюка. Их волей, их железными сердцами, их большой кровью отбивал Сталинград натиск врага. Всё тесней сжималось кольцо вокруг нашей обороны, всё трудней становилась связь с луговым берегом, всё упорней удары. Тяжёлым месяцем был август в обороне города. Тяжелее было в сентябре, ещё бешеней стал напор немцев в дни октября. Казалось, нехватит человеческих сил, чтобы устоять в огне, бушевавшем над городом. Но красноармейцы выдержали — может быть, для этого понадобились сверхчеловеческие силы. Но нашлись в грозный час в нашем народе эти сверхчеловеческие силы. Рубеж волжской обороны не был пройден врагом. Пусть же наше наступление будет достойно сталинградской обороны, пусть оно будет живым, грозным огневым памятником тем, кто пал, обороняя Волгу, Сталинград. Когда мы переправлялись через Волгу, пароходы буксировали мимо нас баржи, полные пленных румын. Они стояли в худых зелёных шинелишках, в белых высоких шапках и притоптывали ногами, тёрли замёрзшие руки. «Вот они и увидели Волгу», — говорили матросы. Румыны угрюмо смотрели на воду, на шуршащий лёд, и по лицам их было видно, что мысли у них невесёлые, как эта чёрная зимняя вода. Все дороги к Волге полны пленных. Их видно издалека на ровном просторе тёмной бесснежной степи, белые шапки колышутся в такт движению. Идут колонны по двести — триста человек, идут небольшие партии в двадцать — пятьдесят пленных. Медленно, отражая своим движением все изгибы степного просёлка, движется колонна, растянувшаяся на несколько километров. В ней свыше трёх тысяч румын. Эту огромную толпу пленных конвоируют несколько десятков бойцов. Отряд в двести человек идёт обычно под охраной двух-трёх бойцов. Румыны шагают старательно, некоторые отряды даже держат равнение, идут в ногу, и это смешит встречных. Некоторые пленные довольно хорошо говорят по-русски. Они кричат: «Войны не надо, домой надо, конец Гитлеру». И конвоиры, усмехаясь, говорят: «Как вышли наши танки им в тыл да все дороги перерезали, так закричали сразу — войны не надо, а раньше, небось, не кричали, стреляли, да в деревнях девок портили, да стариков пороли». А пленные всё движутся, движутся, идут толпами, погромыхивая котелками, флягами, подпоясанные верёвками, кусками проволоки, накинув на плечи пёстрые одеяла… И женщины, смеясь, говорят: «Ну, чисто цыгане кочуют румынцы эти».
Дивизии генерала Труфанова начали наступление туманным утром. Был легкий морозец. Тишина, которая в тумане кажется особенно полной, в назначенную минуту сменилась рёвом пушек, протяжным и грозным гулом гвардейских миномётных батарей. И едва замолкла канонада, как из тумана появились русские танки, тяжёлые машины стремительно взбирались на крутые склоны холмов, пехотинцы сидели на танках, бежали следом за ними. Туман скрывал движение машин и людей, — с наблюдательного пункта лишь видны были мутные вспышки орудийной стрельбы. Центральную высоту штурмовал батальон лейтенанта Бабаева. Первыми ворвались на гребень высоты заместитель Бабаева лейтенант Матусовский, лейтенанты Макаров и Елкнн, бойцы Власов, Фомин и Додохин. Старший сержант Кондрашёв вбежал в румынский дот и прикладом винтовки стал бить пулемётчиков. Румыны подняли руки. Когда туман рассеялся, с командного пункта видно было, что центральная высота от низа до самого гребня колышется, дышит движением серых русских шинелей. Одно за другим замолкали тяжёлые румынские орудия, стоявшие в лощинах и на обратных скатах холмов. И когда зазуммерили полевые телефоны, когда связные прибежали с донесениями от командиров рот и батальонов о том, что три господствующие высоты взяты штурмом нашей пехоты, в прорыв двинулись танковые и моторизованные полки. Мы едем по следам наступавших танков. Вдоль дорог лежат трупы убитых румын; брошенные орудия, замаскированные сухой степной травой, смотрят на восток. Лошади бродят в балках, волоча за собой обрубленные постромки; разбитые снарядами машины дымятся сизыми дымками; на дорогах валяются каски, украшенные румынским королевским гербом, тысячи патронов, гранаты, винтовки. Вот румынский дзот. Гора расстрелянных закоптившихся патронов лежит возле пулеметного гнезда. В ходе сообщения белеют листки писем, коричневая степная земля стала кирпично-красной от крови. Тут же валяются винтовки с прикладами, расщеплёнными русскими пулями. А навстречу всё время движутся толпы пленных. Прежде чем направлять пленных в тыл, их обыскивают. Смешно и жалко выглядят эти груды деревенских бабьих вещей, которые обнаруживаются в румынских мешках и карманах. Тут и старушечьи платки, и бабьи серёжки, и нижнее бельё, юбки, и детские пелёнки, и пёстрые девичьи кофты. У одного солдата нашли двадцать две пары шерстяных чулок, у другого четыре пары совершенно рваных женских калош. Чем дальше мы едем, тем больше брошенных машин, пушек. Всё чаще встречаются движущиеся в тыл трофейные машины. Тут и грузовики, и изящные малолитражки, и бронированные транспортёры, и штабные машины. Мы въезжаем в Абганерово.
Старуха-крестьянка рассказывает нам о трёхмесячном пребывании оккупантов.
— Пусто у нас стало. Курица не заквохчет, петух не закричит. Ни одной коровы не осталось. Некого утром выгонять, некого вечером встречать. Всё подчистую румынцы, индюки эти, подобрали. Всех стариков, поди, у нас перепороли — тот на работу не вышел, тот зерна не сдал. В Плодовитой, там старосту четыре раза пороли, сына моего, калеку, угнали, с ним девочка и мальчонка десятый год. Вот четвёртый день плачем. Нет их и нет.
Станция Абганерово полна захваченных трофеев. Тут стоят десятки тяжёлых пушек и сотни полевых орудий. Их обращенные в разные стороны стволы словно растерянно озираются. Длинными вереницами стоят трофейные автомобили с эмблемами дивизий, затейливо выписанными женскими именами. Станционные пути забиты захваченными нашими войсками эшелонами. Немцы уже успели перешить железнодорожную колею, и на сборных товарных составах можно прочесть названия многих городов и стран, захваченных гитлеровцами. Тут и французские, и бельгийские вагоны, и польские, но, на каком бы языке ни была сделана надпись, на каждом вагоне жирно напечатан чёрный имперский орёл — символ рабства и насилия. Стоят эшелоны, гружённые мукой, кукурузой, минами, снарядами, жирами, укупоренными в большие прямоугольные банки; вагоны с эрзац-валенками на толстой деревянной подошве, с бараньими шапками, технической аппаратурой, с прожекторами. Жалко и нищенски выглядят санитарные теплушки с наспех сколоченными нарами, покрытыми грязным тряпьём. Бойцы, покряхтывая, выносят из вагонов бумажные эрзац-мешки с мукой, укладывают их на грузовики. На каждом мешке жирно отпечатан орёл.
Вечером мы продолжаем наш путь. Идут войска, колышутся чёрные противотанковые ружья, стремительно проносятся пушки, буксируемые маленькими сильными автомобилями. С тяжёлым гуденьем идут танки, на рысях проходят кавалерийские полки. Холодный ветер, неся пыль и сухую снежную крупу, с воем носится над степью, бьёт в лицо. Лица красноармейцев стали бронзово-красными от жестокого зимнего ветра. Нелегко воевать в эту погоду, проводить долгие зимние ночи в степи под этим ледяным, пронизывающим ветром, но люди идут бодро, подняв головы, идут с песней. Это сталинградское наступление. Настроение армии исключительно хорошее. Все — от генералов до рядовых бойцов — живут ощущением великой ответственности, великого значения происходящего. Дух суровой трезвой деловитости лежит на всех действиях и поступках командиров. В штабах не знают отдыха, исчезло понятие дня и ночи. Высшие командиры и начальники штабов работают чётко, серьёзно, напряжённо. Слышны негромкие голоса, отдающие короткие приказания. Успех велик, успех несомненен, но все живут одной мыслью — враг окружён, ему нельзя дать прорваться, его нужно уничтожить. Этой ответственной и трудной задаче посвящена вся жизнь, каждое дыхание людей Сталинградского фронта. Не должно быть ни тени легкомыслия, преждевременного успокоения. Мы верим, что сталинградское наступление будет достойно великой сталинградской обороны.
28 ноября 1942 года. Абганерово, юго-западней Сталинграда
Новый день
Шестнадцатого декабря днём подул сильный северовосточный ветер. Тёмные мокрые облака, теряя тяжёлую влагу, поднялись вверх, посветлели. Туман стал мёрзнуть и оседать белым пухом на проводах военного телеграфа и на низко подстриженных минными осколками прибрежных деревьях. Лужи, стоявшие в снарядных воронках, заковало белыми пластинками льда, ледяной узор пополз по смотровым стёклам грузовиков, обращенных к ветру. Тёмные тела пудовых мин и тяжёлых снарядов, сложенных в ямах у восточного причала переправы, покрылись лёгким инеем. Земля стала звонкой, воздух просторным. И на западе, над рваным каменным кружевом мёртвого города, поднялся красный закат.
Ветер и течение гнали Волгой огромную трёхсотсаженную льдину. Она проползла мимо Спартановки, мимо осквернённых врагом развалин тракторного завода, стала медленно поворачиваться и у «Красного Октября» остановилась, упёрлась своими широкими плечами между наледью восточного и западного берега Волги.
В ясное небо, осторожно раздвигая звёзды, поднялась луна, и всё бывшее в мире белым стало неясным синим и голубым, лишь одна луна оставалась яркой и белой, словно вобрала в себя всю белизну степного снега. А ветер всё продолжал дуть — холодный, и злой, и милый для тысяч сердец.
Течение, сдержанное льдиной, стало искать себе ходов поближе к речному дну, поверхность воды покрылась рыхлой тончайшей корочкой, через несколько часов она упрочилась, закристаллизовалась, и в эту же ночь по трёхсантиметровому прогибающемуся и постреливающему льду первым перешёл с левого на правый берег Волги сержант сапёрно-инженерного батальона Титов.
Он вышел на берег, оглянулся на далёкое Заволжье и стал свёртывать папироску. И в эту минуту, когда Титов, бахвалясь, ответил окружившим его красноармейцам: «Как перешёл? Взял да и перешёл, чего проще», — именно в эту минуту время перелистнуло величавую и трагическую страницу в книге сталинградской борьбы, — страницу, написанную крепкими большими руками с потрескавшейся от ледяной воды кожей, — руками сержантов, красноармейцев понтонных и инженерно-сапёрных батальонов, руками мотористов, грузчиков патронов, всех тех, кто сто дней держал переправу через Волгу, переплывал тёмносерую ледяную реку, глядел в глаза быстрой жестокой смерти. Когда-нибудь споют песню о тех, кто спит на дне Волги. Эта песня будет проста, правдива, как труд и смерть среди чёрных ночных льдов, вдруг загоравшихся синим пламенем от разрывов термитных снарядов, от холодных голубых глаз «арийских» прожекторов.
Ночью мы идём по Волге. Двухдневный лёд уже не прогибается под тяжестью шагов, луна освещает сеть тропинок, бесчисленные следы салазок. Связной красноармеец идёт впереди уверенно и быстро, словно он полжизни своей шагал по этим пересекающимся тропинкам. Неожиданно лёд начинает потрескивать, связной подходит к широкой полынье, останавливается и говорит:
— Эге, да мы, видать, не так пошли, надо бы вправо взять.
Эту утешительную фразу почти всегда произносят связные, куда бы и где бы они вас ни водили. Мы берём вправо и снова выходим на тропинку.
Круглые облачка плавно накатываются на луну, и тогда белая Волга темнеет, словно покрывается серой золой. Разбитые снарядами баржи вмёрзли в лёд, голубовато поблёскивают обледеневшие канаты, круто поднявшиеся вверх кормы, носы разбитых катеров, моторных лодок.
На заводах идёт бой. Тёмные разрушенные стены цехов вдруг освещаются белым и розовым огнём орудийных выстрелов. Гулко, с перекатом ударяют пушки, сухо и звонко разносятся минные разрывы, то и дело слышатся чеканящие очереди автоматов и пулемётов. Эта музыка разрушения странно похожа на мирную работу завода, словно бьёт паровой молот, плюща болванки стали, словно, как в мирные времена, идёт клёпка и разбивают скрап в копровом цехе для загрузки мартенов, словно жидкая сталь и шлак, льющиеся в ковши, освещают розовым быстрым светом молодой волжский лёд.
Звуки ночного боя на заводе тоже говорят о новой странице сталинградской борьбы, — это уже не тот стихийный грохот, поднимавшийся высоко к небу, рушившийся с неба потоками на землю, захлёстывавший весь огромный волжский простор. Это битва снайперских ударов. Прямые и быстрые трассы пулемётных очередей и снарядов пролетают между цехами, они не похожи на светящиеся медленные гиперболы воздушной войны, — на близких дистанциях между цехами трассы подобны сверкающим копьям и стрелам, пущенным невидимым во тьме воином. Стремительно возникают они из камня стен и вонзаются в холодный камень стен, исчезают в нём. Снаряды и мины долбят немецкие дзоты, ищут зарывшихся в тайных, замаскированных блиндажах немецких пулемётчиков, подобно бритвенному ножу разрезают перекрытия над глубокими ходами сообщения. Снайпер — герой сегодняшних боёв в заводском районе: снайпер-миномётчик, снайпер-артиллерист, снайпер-гранатомётчик, снайпер-пехотинец. Немец закопался в землю, ушёл в каменные норы, залез в глубокие подвалы. Немцы расползлись по бетонированным бакам, по водопроводным и канализационным колодцам, они забрались в подземные тоннели. Лишь снайперским снарядом, точно брошенной гранатой, термитным шаром можно их выковырять, уязвить, выжечь из глубоких тёмных нор.
Приходит утро, и солнце всходит в ясном морозном небе над Сталинградом, умерщвлённом немцами. Солнце всходит над жёлтым песчаником, обнажённым в обрыве берега, оно освещает каменные источенные снарядами развалины, заводские дворы, превратившиеся в поля битвы, где в смертной схватке сходились полки и дивизии, оно освещает края огромных ям, вырытых тонными бомбами. Дно этих страшных ям всегда в угрюмом сумраке, солнце боится касаться их. Солнце, улыбаясь, глядит сквозь простреленные насквозь снарядами заводские трубы. Солнце светит над сотнями подъездных путей, где цистерны с развороченным брюхом лежат, как убитые лошади, где сотни товарных вагонов громоздятся один на другой, поднятые силой взрывной волны, толпятся вокруг холодных паровозов, словно обезумевшее от ужаса стадо, жмущееся к своим вожакам. Солнце светит над грудами красного от ржавчины железа, над могучим военным и заводским металлом, погибшим в корчах взрывов и сохранившим навек мгновенную смертную судорогу. Зимнее солнце светит над братскими могилами, над самодельными памятниками, поставленными в тех местах, где лежат убитые в боях на направлении главного удара.
Мёртвые спят на холмистых высотах, у развалин заводских цехов, в оврагах и балках, они спят там, где воевали, и, как величественный памятник их верности, стоят эти могилы у траншей, блиндажей, каменных стен с амбразурами, которые не сдались противнику.
Святая земля! Как хочется навек сохранить в памяти этот новый город торжествующей народной свободы, выросший среди развалин, вобрать его весь в себя, — все эти подземные жилища с дымящими на солнце трубами, с переплетением тропинок и новых дорог, с тяжёлыми миномётами, поднявшими дула между землянок; с этими сотнями людей в ватниках, шинелях, шапках-ушанках, занятых бессонным делом войны, несущих мины, как хлебы, подмышкой, чистящих картошку подле нацеленного дула тяжёлой пушки, переругивающихся, поющих вполголоса, рассказывающих о ночном гранатном бое, таких великолепно будничных в своём героизме. Как сохранить в памяти все эти бесчисленные картины, эту чудесную движущуюся панораму сталинградской обороны, эту живую минуту великого сегодня, которое завтра станет вечной страницей истории.
Но всё меняется, — и как не похожа переправа сегодняшнего дня на вчерашнюю, как не похож снайперский ночной бой на заводе на стихийные ноябрьские атаки, так сегодняшний сталинградский день не похож на отошедшие дни октября и ноября. Русский солдат вышел из земли, вышел из камня, он распрямился во весь рост, он ходит спокойно, неторопливо при ярком солнечном свете по сверкающей закованной Волге. Переваливаясь, идут бойцы, волоча салазки, ездовые сердито подгоняют лошадей, неуверенно ступающих по гладкому льду. На снежном холме левого берега чеканно выделяются грузчики, разгружающие припасы. Почтальон с кожаной сумкой медленно бредёт под солнцем на командный пункт батальона, а по холму несут термосы с супом, несут двое связных, шагающих во весь рост в сорока метрах от немецких окопов. Да, солдаты завоевали солнце, завоевали дневной свет, завоевали великое право ходить по сталинградской земле во весь рост под голубым небом, завоевали день. Только сталинградцы знают цену этой победы, и они сами смеются, глядя на движение войск и машин под солнцем. Ведь долгие месяцы малейшее шевелящееся пятнышко, дневной дымок, человек, мелькнувший в ходе сообщения, вызывали на себя огонь немецких войск. Ведь на долгие месяцы дневное сталинградское небо, захваченное «Юнкерсами», перестало быть русским небом, а стало немецким адом, ведь долгие месяцы тысячи людей ожидали ночи, чтобы выйти из камня и земли, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха, расправить онемевшие руки.
Да, всё меняется, и те немцы, которые в сентябре, ворвавшись на одну из улиц, разместились в городских домах и плясали под громкую музыку губных гармошек, те немцы, что ночью ездили с фарами, а днём подвозили припасы на грузовиках, сейчас затаились в земле, спрятались меж каменных развалин. Долго простоял я с биноклем на четвёртом этаже одного из разрушенных сталинградских домов, глядя на занятые немцами кварталы и заводские цехи. Ни одного дымка, ни одной движущейся фигуры. Для них нет здесь солнца, нет света дня, им выдают сейчас двадцать пять — тридцать патронов на день, им приказано вести огонь лишь по атакующим войскам, их рацион ограничен ста граммами хлеба и конины. Они сидят, как заросшие шерстью дикари в каменных пещерах, и гложут конину, сидят в дымном мраке, среди развалин уничтоженного ими прекрасного города, в мёртвых цехах заводов, которыми гордилась Советская страна. По ночам они выползают на поверхность и, чувствуя страх перед медленно сжимающей их русской силой, кричат: «Эй, рус, стреляй в ноги, зачем голову стреляешь?», «Эй, рус, мне холодно, давай менять автомат на шапку!»
Из шестиствольных миномётов они разрушили водопровод, они выпустили пятьсот снарядов по Сталгрэсу, они сожгли всё, что могло гореть, они уничтожили школы, аптеки, больницы; и пришли для них страшные дни и ночи, когда законом истории и волей русского солдата им определено встретить возмездие здесь, среди холодных развалин, во тьме, без воды, гложа конину, прячась от солнца и дневного света, под жестокими звёздами русской декабрьской ночи. Да, всё меняется, всё изменилось в Сталинграде. Справедлив и грозен закон истории, непоколебима воля наших сталинградских армий.
19 декабря 1942 года
Сталинград
Военный совет
Когда входишь в блиндажи и подземные жилища командиров и бойцов, вновь охватывает страстное желание сохранить навек замечательные черты этого неповторимого быта: эти светильники и печные трубы, сделанные из артиллерийских гильз; эти чарки из снарядных головок, которые на столах рядом с бокалом из хрусталя; эту фарфоровую пепельницу с надписью «Жена, не серди мужа» рядом с противотанковой гранатой; этот огромный матовый электрический шар в рабочем блиндаже командующего, и эту улыбку Чуйкова, говорящего: «Ну да, и люстра, мы ведь в городе живём»; и этот том Шекспира в подземном кабинете генерала Гурова с положенными на раскрытые страницы очками в металлической оправе; эту пачку фотографий в конверте на исчерченной красным и синим карте с надписью «Папочке»; этот подземный кабинет генерала Крылова с добрым письменным столом, за которым шла великолепная работа начальника штаба; все эти самовары и патефоны, голубые семейные сахарницы и круглые зеркала в деревянных рамах, висящие на глиняных стенах подземелий — весь этот быт, мирную утварь, вынесенную из огня горящих зданий; это пианино на командном пункте пулемётного батальона, где играли под рёв германского наступления; и этот высокий, благородный стиль отношений, простоту и непосредственность людей, связанных узами крови, памятью о павших, величайшими трудами и муками сталинградских боёв. Когда командующий 62-й армией разговаривает со связным и связной разговаривает с командующим, когда телефонист заходит к начальнику штаба проверить на слышимость аппарат, когда командир дивизии Батюк отдаёт приказ красноармейцу, а командир роты докладывает командиру полка Михайлову о ночном бое, — во всём, в каждом движении, в каждом слове и взгляде ощущается этот особый стиль высокого достоинства, стиль, совмещающий в себе железную, беспощадную дисциплину, когда по одному слову тысячи людей поднимались на смерть, и одновременно братство и равенство всех сталинградцев — генералов и бойцов. Пусть эту черту, этот стиль не упустят те, кто будет писать историю сталинградской битвы.
Не раз писалось о том, как создавалась великая сталинградская оборона, как цементировалась она. Это — слава нашего человека, слава его мужеству, терпению, его способности к самопожертвованию.
Среди многих условий, определивших успех нашей обороны, следует на одно из почётных мест поставить умелое руководство 62-й армией. О нём нужно рассказать нашему читателю. Командующий Чуйков, член военного совета Гуров и начальник штаба Крылов были не только военными руководителями операций, они являлись и духовным стержнем сталинградской обороны. Не только ясная, спокойная военная мысль, не только беспощадная воля и упорство нужны были для руководства 62-й армией. В это великое дело нужно было вложить всё сердце, всю душу. И суровые приказы в дни октября часто шли не только от разума, но и от сердца. И эти суровые, холодные приказы, продиктованные сердцем, как пламя, жгли людей, поднимали их на сверхчеловеческие подвиги самопожертвования и терпения, ибо в те дни человеческих подвигов было мало для решения задач, стоявших перед бойцами 62-й армии.
Военный совет армии делил с бойцами все тяжести обороны. Восемь раз переезжал командный пункт армии. В Сталинграде знают, что значит переезд КП. Это значит: попадание тонных бомб и прицельный огонь автоматчиков. Сорок работников штаба погибли от миномётного огня в блиндажах военного совета. Была одна страшная ночь, когда тысячи тонн горящей нефти вырвались из подожжённых немецкими снарядами хранилищ и с рёвом устремились на блиндажи военного совета. Пламя поднималось на высоту восьмисот метров. Волга запылала, вся покрывшись горящей нефтью. Горела, земля, огненные потоки стремительно срывались с крутого обрыва. Начальника штаба генерала Крылова, работавшего в своём блиндаже и лишь по страшному жару заметившего, что кругом всё пылает, в последнюю минуту сумели перетащить через огненную реку. Всю ночь военный совет простоял на узкой кромке берега среди ревущего чёрного пламени. Командир гвардейской дивизии Родимцев послал к месту пожара бойцов. Они вернулись и доложили, что военный совет ушёл. «На левый берег?» — спросили их. «Нет, — ответили бойцы, — ближе к переднему краю».
Бывали дни, когда военный совет находился ближе к противнику, чем командные пункты дивизий и даже полков. Блиндажи сотрясались так, словно находились в центре мощного землетрясения. Казалось, что могучие брёвна крепления сгибаются, словно эластичные прутья, земля ходила волнами под ногами, кровати и столы приходилось прибивать к полу, как в каютах кораблей во время бури. Бывало, что посуда на столе рассыпалась на мелкие черепки от постоянной вибрации высокой частоты. Радиопередатчики отказывали, многочасовая бомбёжка выводила из строя и лампы. Уши уже не воспринимали грохота, казалось, что две стальные иглы проникают в ушные раковины и мучительно давят на мозг. Вот в такой обстановке проходили дни, а ночью, когда стихала бомбёжка, командарм Чуйков, сидя за картой, отдавал командирам дивизий приказы. Гуров, спокойный, дружественный, неожиданно появлялся в дивизиях и полках. Крылов вёл свою работу над картами, таблицами, планами, писал доклады, проверял тысячи цифр, думал. И все они поглядывали на часы и вздыхали: «Вот скоро и рассвет, и снова волтузка».
Вот те условия, в которых работал военный совет 62-й армии. Когда я спросил Чуйкова, что было самым тяжёлым для него, он, не задумываясь, ответил:
— Часы нарушения связи с войсками. Представляете себе, бывали дни, когда немцы обрывали всю проволочную связь с дивизиями, радио переставало работать от сотрясения, отказывали лампы. Пошлёшь офицера связи — убивает, пошлёшь другого — убивает. Всё трещит, грохочет, и нет связи. Вот это ожидание ночи, когда можно, наконец, связаться с дивизиями… Не было для меня ничего страшней и мучительней этого чувства связанности, неизвестности.
Мы беседуем с командиром долгую декабрьскую ночь. Иногда Чуйков прислушивается и говорит:
— Слышите, тихо, — и, смеясь, добавляет: — Честное слово, скучно.
Он — высокий человек с большим тёмным, несколько обрюзгшим лицом, с курчавыми волосами, крупным горбатым носом, большими губами, большим голосом. Этот сын тульского крестьянина Чуйкова почему-то напоминает генерала далёких времён первой отечественной войны. Когда-то он был рабочим в шпорной мастерской в Петрограде, вырабатывал «малиновый звон». Девятнадцатилетним юношей он командовал полком во время гражданской войны. С тех пор он военный.
Для этого человека оборона Сталинграда не была одной лишь военной проблемой, пусть даже первостепенного стратегического значения. Он переживал и ощущал романтику этой битвы, жестокую и мрачную красоту её, поэзию войны, поэзию смертной обороны, к которой он обязывал железным приказом командиров и красноармейцев. Для него эта битва за Сталинград была торжеством и величайшей славой русской пехоты. Когда чёрные силы немецкой авиации и танков, артиллерии и миномётов, собранные фон Боком, Тодтом и Паулюсом на направлении главного удара, обрушивались всей тяжестью на линию нашей обороны, когда в чёрном дыму тонуло солнце и гранитный фундамент зданий рассыпался мелким песком, когда от гула моторов танковых дивизий колебались подточенные стены зданий и, казалось, нет и не может быть ничего живого в этом аду, — тогда из земли поднималась бессмертная русская пехота.
Да, здесь все силы германской техники были встречены русским солдатом-пехотинцем, и Чуйков, для которого эта залитая кровью земля была дороже и прекрасней райских садов, говорил: «Как, пролить столько крови, подняться на такие высоты славы и отступить? Да никогда этого не будет!» Он учил командиров спокойному, трезвому отношению к противнику. «Не так страшен чорт, как его малюют», — говорил он, хотя знал, что в некоторые дни немецкий чорт бывал очень страшен на направлении главного удара. Он знал, что суровая правда в оценке противника — необходимейшее условие победы, и говорил: «Переоценивать силу противника вредно, недооценивать — опасно». Он говорил командирам о гордости русского военного, о том, что лучше офицеру не сносить головы, чем поклониться перед строем немецкому снаряду. Он верил в русский военный задор. Суровейший среди суровых, он был беспощаден с паникёрами и трусами. Говорят, победителей не судят. Но, я думаю, случись так, что 62-я армия была бы побеждена, ее командующего тоже нельзя было бы судить.
Такой же верой в силу нашей пехоты жил генерал майор Крылов. На этой вере основывал он свою сложную работу, свои расчёты, свои предвидения. Судьба положила ему жребий быть от первого до последнего дня начальником штаба армии, защищавшей Одессу, затем начальником штаба героической армии, семь месяцев оборонявшей Севастополь, и, наконец, начальником штаба 62-й сталинградской армии. Этот спокойный, задумчивый человек, с размеренной негромкой речью, мягкими движениями и мягкой улыбкой, пожалуй, единственный генерал в мире, столь богатый опытом обороны городов. Такого опыта не имеет ни одна академия.
Суровую науку свою генерал Крылов изучал в огне пожаров и грохоте взрывов. Он приучил себя методически работать, обдумывать сложные вопросы, размышлять над замыслами противника, разрабатывать и детализировать манёвры и планы в таких адских условиях, в которых ни один человек науки не мог бы и на минуту сосредоточить свои мысли.
В Сталинграде ему иногда казалось, что севастопольская битва не кончилась, а продолжается здесь, что грохот румынской артиллерии на подступах к Одессе слился с рёвом немецких пикировщиков, нависших над сталинградскими заводами. В Одессе бой шёл на внешнем обводе, в пятнадцати — восемнадцати километрах от города, в Севастополе он придвинулся к окраинам, шёл на Северной и Корабельной стороне, а здесь он вошёл в самый город—на площади и в переулки, в дворы, в дома, в цехи заводов. Здесь бой шёл на том же страшном потенциале, как и в Севастополе, но масштабы его, воинские массы, втянутые в него, были неизмеримо больше. И здесь сражение, наконец, было выиграно. Крылову казалось, что это победа не только сталинградской армии, — что это победа Одессы и Севастополя.
В чём была тактика противника во всех трёх битвах за города? Немцы во всех трёх сражениях применяли метод последовательного, методического прогрызания нашей обороны, рассечения боевых порядков и уничтожения, подавления их по частям в тех случаях, когда им удавалось расчленить эти боевые порядки. В этих ударах весь главный расчёт делался на силу мотора, на массированное применение концентрированной техники, на ошеломление. В такой тактике с военной точки зрения не было ничего порочного. Наоборот, это была правильная тактика, но в ней имелся один органический порок, избежать которого немцы не могли, — это диспропорция между силой могучего мотора и несовершенством немецкой пехоты. И вот стальным клином, вошедшим в эту брешь, были великолепно вооружённые русские стрелковые дивизии, оборонявшие Сталинград, их стойкость, их бессмертное мужество. Эту силу Крылов по-настоящему понял в Одессе, он измерил её возможности в Севастополе, и он стал свидетелем и участником её торжества на берегу Волги, в Сталинграде.
Вероятно, если через четверть века люди, командовавшие 62-й армией, встретятся с командирами сталинградских дивизий, эта встреча будет встречей братьев. Старики обнимутся, утрут слезу и начнут вспоминать о великих сталинградских днях. Вспомнят погибшего в бою Болви-нова, которого нежно любили бойцы за то, что он до дна выпил с ними горькую чарку солдатской беды, Болвинова, который, обвязавшись гранатами, подползал к боевому охранению и говорил своим бойцам: «Ничего, ребята, не поделаешь, держись». Вспомнят, как Жолудева засыпало в блиндаже, и он под землёй вместе со своим штабом затянул песню: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить!» Вспомнят трубу, в которой сидел Родимцев, и вспомнят, как в тот день, когда дивизия Родимцева переправлялась через Волгу, работники штаба армии сели в танки и поддерживали переправу. Вспомнят, как Гуртьева засыпало вместе со штабом в пещере и как друзья прокопали к ним ход. Вспомнят, как командир дивизии Батюк шёл на доклад к командующему и крупнокалиберный германский снаряд упал ему под ноги, но не разорвался, и как Батюк покачал головой и зашагал дальше, заложив руки за борт шинели. Вспомнят, как генерал Гуртьев звонил по телефону своему другу генералу Жолудеву и говорил: «Крепись, дорогой, помочь ничем тебе не могу». Вспомнят, как на замёрзшем берегу встретились Горишный и Людников.
Вспомнят многое. Вспомнят, конечно, и то, как крепко жал Чуйков и как жарко бывало не только по дороге в блиндаж командующего, но и в самом его блиндаже. Многое вспомнят. Это будет торжественная, радостная встреча. Но будет в ней и большая печаль, ибо многие не придут на неё из тех, кого невозможно забыть, ибо все — и командарм и командиры дивизий — никогда не забудут великого и горького подвига русского солдата, большой кровью своей отстоявшего отчизну.
29 декабря 1942 года
Сталинград
Сталинградское войско
Дорога в батальон идёт по железнодорожным путям, заставленным товарными составами, среди молодого, выпавшего ночью снега. Мы идём по пустырю, изрытому бомбовыми и снарядными ямами. Впереди, на кургане, темнеют водонапорные баки, в которых засели немцы. Пустырь этот хорошо виден немецким снайперам и наблюдателям, но худенький, щуплый красноармеец в длинной шинели, шагающий рядом со мной, идет спокойно, неторопливо и утешительно объясняет: «Думаете, он нас не видит? Видит. Раньше мы тут ночью ползали, а теперь не то: бережёт патроны и мины». Мой спутник неожиданно спрашивает, не играю ли я в шахматы, и тут же выясняется, что он шахматист первой категории, вот-вот должен был стать мастером. Никогда не приходилось мне беседовать об этой абстрактной и благородной игре, чувствуя, что на меня смотрят немцы, берегущие патроны. Отвечал я моему спутнику довольно рассеянно, отвлекаясь размышлениями, достаточно ли бережливы засевшие в железобетонных баках немцы. Но чем ближе мы подходим к этим бакам, тем хуже они становятся видны, — отступают за гребень кургана. Мы пошли тропинками по территории одного из цехов громадного сталинградского завода. Мимо груды рыжего железного лома, мимо колоссальных сталеразливочных ковшей, мимо стальных плит и разваленных стен. Красноармейцы настолько привыкли к разрушениям, произведённым здесь, что не замечают их вовсе. Наоборот, интерес вызывают случайно уцелевшее стекло в окне разрушенной заводской конторы, высокая не простреленная труба, чудом уцелевший деревянный домик.
— Смотри, пожалуйста, живёт домик, — говорят проходящие и улыбаются.
И действительно, трогательно выглядят эти редкие уцелевшие свидетели мирной жизни в царстве разрушения и смерти. Командный пункт батальона помещается в подвале огромного четырёхэтажного корпуса одного из промышленных комбинатов. Это крайний западный пункт на нашей сталинградской линии фронта. Он, словно мыс, вдаётся в занятые немцами дома и постройки. Противник рядом, но красноармейцы занимаются своими хозяйственными делами уверенно и неторопливо. Двое пилят дрова, третий рубит поленья топором. Проходят бойцы с термосами. Под наполовину обвалившимся выступом стены сидит боец и старательно слесарит, поправляет повреждённую часть миномёта. Он раздумывает, прежде чем принять решение в отдельных деталях своей работы, затем снова принимается за инструмент и напевает, — совершенно мастеровой человек в обжитой своей мастерской!
А здание носит на себе следы страшной разрушительной работы немцев. Вокруг него чернеют огромные ямы, вырытые германскими «пятисотками». Бетонные стены и потолки пробиты прямыми попаданиями авиационных бомб. Железная арматура, изодранная силой взрывов, провисает и прогибается, как тонкая рыбачья сеть, порванная огромной белугой. Западная стена разрушена дальнобойной артиллерией. Северная полутораметровая стена обвалилась от удара из шестиствольного миномёта. Огромная труба — мина с развёрнутой железными лепестками верхней частью валяется на каменном полу. Стены исклёваны ударами лёгких снарядов и мин. Но здесь же из металла и камня, искрошенного немецким огнём, руками красноармейцев вновь создавались стены с узкими длинными амбразурами. Эта разрушенная крепость не сдавалась. Она выстояла форпостом нашей обороны и сейчас своим огнём поддерживает наше наступление.
И сейчас, как и вчера, идёт здесь жестокая, справедливая война. В некоторых пунктах прорытые батальоном траншеи находятся от противника в двадцати метрах. Часовой слышит, как по немецкой траншее ходят солдаты, слышит руготню, которая поднимается, когда немцы делят пищу, всю ночь слышит он, как отбивает чечётку немецкий караульный в своих худых ботинках. Здесь всё пристреляно, каждый камень является ориентиром. Здесь много снайперов, и здесь, в этих глубоких узких траншеях, где люди нарыли себе землянки, поставили печки с трубами из снарядных гильз, где по-хозяйски ругают товарища, отлынивающего от рубки дров, где, вкусно прихлёбывая, едят деревянными ложками суп, принесённый в термосе по ходу сообщения, — здесь день и ночь дарит напряжение смертной битвы.
Немцы понимают всё значение этого участка в системе своей обороны. Здесь нельзя показаться на вершок над краем траншей, чтобы не щёлкнул выстрел немецкого снайпера. Здесь немцы не берегут патронов.
Но мёрзлая каменная земля, в которую глубоко зарылись немцы, не может уберечь их. День и ночь стучат кирки и лопаты, наши красноармейцы шаг за шагом продвигаются вперёд, грудью раздвигая землю, всё ближе и ближе к господствующей высоте. И немцы чуют, что близок час, когда уж ни снайпер, ни пулемётчик не выручат. И их ужасает этот стук лопат, им хочется, чтобы он прекратился хоть на время, хоть на минуту.
— Рус, покури! — кричат они.
Но русские не отвечают. Тогда стук кирок и лопат исчезает в грохоте взрывов: немцы хотят в разрывах гранат утопить страшную методическую работу русских. В ответ из наших траншей тоже летят «феньки» — гранаты. А едва рассеивается дым и стихает грохот, как немцы снова слышат могильный стук. Нет, эта земля не обережёт их от смерти. Эта земля — их смерть. Всё ближе — с каждым часом, с каждой минутой приближаются русские, преодолевая каменную твёрдость зимней земли…
Но вот мы снова на командном пункте батальона. Через разрушенную стену, на которой сохранилась дощечка: «Закрывайте двери, боритесь с мухами», мы проходим внутрь глубокого подвала. Здесь на столе стоит румяный медный самовар, красноармейцы и командиры отдыхают на пружинных матрацах, снесённых сюда из окрестных разрушенных домов.
Командир батальона — капитан Ильгачкин, высокий худой юноша с чёрными глазами, с тёмным высоким лбом. По национальности он чуваш. В его лице, в горящих глазах, во впалых щеках, в его речи чувствуется фанатизм, сталинградская одержимость. Он и сам говорит это.
— Я здесь с сентября. И теперь я ни о чём не думаю, только о кургане. Утром встану — и до ночи. А когда сплю, во сне его вижу. — Он возбуждённо стучит кулаком по столу и говорит: — Возьму курган, возьму! План разработали так, что ни одной ошибки в нём быть не может.
В октябре он и красноармеец Репа были одержимы другой идеей: сбивать «Ю-87» из противотанкового ружья! Ильгачкин произвёл довольно сложные подсчёты с учётом начальной скорости пули и средней скорости самолёта, составил таблицу поправок для стрельбы. Была построена фантастически остроумная и простая «зенитная» установка: в землю вбивался кол, устраивалась на нём втулка, на эту втулку надевалось колесо от телеги. Противотанковое ружьё сошниками укреплялось на спицах колеса, а телом своим лежало между спицами. И сразу же худой и унылый Репа сбил три немецких пикировщика «Ю-87», волтузивших наш передний край.
Теперь за противотанковое ружьё взялся знаменитый сталинградский снайпер Василий Зайцев. Он приспосабливает к нему оптический прицел со снайперской винтовки, хочет разрушать немецкие пулемётные точки, всаживать пулю в самую бойницу. И я уверен, что он добьётся своего. Сам Зайцев — молчаливый человек, о котором говорят в дивизии так: «Наш Зайцев культурный, скромный, уже двести двадцать пять немцев убил». Он пользуется большим уважением в городе. Воспитанных им молодых снайперов называют «зайчатами», и, когда он обращается к ним и спрашивает: «Правильно я говорю?» — все хором отвечают: «Правильно, Василий Иванович, правильно». И вот теперь Зайцев консультируется с техниками, чертит, думает, выписывает.
Здесь, в Сталинграде, как нигде, часто видишь людей, вкладывающих в войну не только всю кровь свою, всё сердце, но и все силы ума, всё напряжение мысли. Сколько мне пришлось их встречать здесь — и полковников, и сержантов, и рядовых красноармейцев; напряжённо день и ночь думающих всё об одном и том же, что-то высчитывающих, чертящих, словно люди эти, защищающие город, взяли на себя обязанность разрабатывать изобретения, вести исследования здесь, в подвалах города, в котором недавно занимались этим делом много блестящих профессорских и инженерских умов в просторных институтских и заводских лабораториях. Сталинградское войско воюет в городе и на заводах. И как некогда директора сталинградских заводов-гигантов и секретари райкомов партии гордились тем, что у них, а не в другом городском районе, работает знаменитый стахановец или стахановка, так и теперь командиры дивизий гордятся своими знатными людьми. Батюк, посмеиваясь, перечисляет по пальцам:
— Лучший снайпер Зайцев — у меня, лучший миномётчик Бездидько — у меня, лучший артиллерист в Сталинграде Шуклин — тоже у меня.
И как некогда каждый район города имел свои традиции, свой характер, свои особенности, так и теперь сталинградские дивизии, равные в славе и заслугах, отличаются одна от другой множеством особенностей и характерных черт. О традициях дивизий Родимцева и Гуртьева мы уже писали. В славной дивизии Батюка принят тон украинского доброго гостеприимства, добродушной, любовной насмешливости. Тут любят, рассказывать, как Батюк стоял у блиндажа, когда немецкие мины со свистом одна за другой ложились в овраг возле начарта, пытавшегося выйти из своего подземелья, и шутя корректировал стрельбу:
— Правей два метра. Так, левей метр. Начарт, держись!
Туг любят посмеяться и над легендарным виртуозом стрельбы из тяжёлого миномёта Бездидько. И Бездидько, не знающий промаха, кладущий мины с точностью до сантиметров, смеётся и сердится. И сам Бездидько, человек с певучим мягким тенорком, лукавой украинской улыбкой, имеющий на своём счету тысячу триста пять немцев, любовно посмеивается над худеньким командиром батареи Шуклиным, подбившим из одной пушки в течение дня четырнадцать танков:
— А вин оттого и бив одной пушкой, шо у него тильки одна пушка и була.
Здесь в батальоне любят посмеяться, рассказать друг о друге смешное. Рассказывают о внезапных ночных стычках с немцами, о том, как ловят падающие на дно окопа немецкие гранаты и бросают их обратно в немецкие траншеи; как «сыграл» вчера шестиствольный «дурило» и влепил все шесть мин по немецким блиндажам; как огромный осколок от тонной бомбы, легко могущий убить наповал слона, пролетая, разрезал красноармейцу, словно бритва, шинель, ватник, гимнастёрку, нижнюю рубаху и не повредил даже самого ничтожного клочка кожи, капли крови не выпустил. И, рассказывая все эти истории, люди смеются, и самому всё это кажется смешным, и ты сам смеёшься.
В соседнем отсеке заводского подвала размещаются ротные миномёты. Отсюда стреляют, отсюда смотрят на противника, здесь поют, едят, слушают патефон.
Тонкий луч солнца проникает через щит, закрывающий окно подвала. Луч медленно вполз по ножке кровати, ощупал сапог лежащего, поиграл на металлической пуговице шинели, выполз на стол и осторожно, точно боясь взрыва, коснулся ручной гранаты, лежащей возле самовара. Он полз всё выше, и это значило, что солнце садилось, что наступал зимний вечер.
Обычно говорят — тихий вечер. Но этот вечер нельзя было назвать тихим. Раздалось протяжное курлыканье, потом послышались тяжёлые частые взрывы, и все сидевшие в подвале сказали в один голос: «Шестиствольный сыграл». Потом послышались такие же тяжёлые взрывы и затем протяжный далёкий гул. А спустя несколько мгновений ухнул одиноко взрыв. «Наше дальнобойное с того берега», — сказали сидевшие. И хотя всё время стреляли, хотя приход вечера в тёмном холодном подвале стал заметен лишь по тому, что солнечный луч полз снизу вверх и уже подходил к чёрному закопчённому потолку, — всё же это был настоящий тихий вечер.
Красноармейцы завели патефон.
— Какую ставишь? — спросил один. Сразу несколько голосов ответили:
— Нашу поставь, ту самую.
Тут произошла странная вещь: пока боец искал пластинку, мне подумалось: «Хорошо бы услышать здесь, в чёрном разрушенном подвале, свою любимую „Ирландскую застольную“». И вдруг торжественный печальный голос запел:
За окнами шумит метель…Видно, песня очень нравилась красноармейцам. Все сидели молча. Раз десять повторяли они одно и то же место:
Миледи смерть, мы просим вас За дверью обождать…Эти слова, эта наивная и гениальная бетховенская музыка звучали здесь непередаваемо сильно. Пожалуй, это было для меня одно из самых больших переживаний войны, ибо на войне человек знает много горячих, радостных, горьких чувств, знает ненависть и тоску, знает горе и страх, любовь, жалость, месть. Но редко людей на войне посещает печаль. А в этих словах, в этой музыке скорбного сердца, в этой снисходительной, насмешливой просьбе:
Миледи смерть, мы просим вас За дверью обождать…была непередаваемая сила, благородная печаль.
И здесь, как никогда, я порадовался великой силе подлинного искусства, тому, что бетховенскую песню слушали торжественно, как церковную службу, солдаты, три месяца проведшие лицом к лицу со смертью в этом разрушенном, изуродованном, не сдавшемся фашистам здании.
Под эту песню в полутьме подвала торжественно и выпукло вспоминались десятки людей сталинградской обороны, людей, выразивших всё величие народной души. Вспомнился суровый, непреклонный, непримиримый сержант Власов, державший переправу, вспомнился сапёр Брысин, красивый, смуглый, не ведающий страха в своём буслаевском удальстве, дравшийся один против двадцати в пустом двухэтажном доме. Вспомнился Подханов, не захотевший после ранения уходить на левый берег, — когда начинался бой, он выбирался из подземелья, где находилась санитарная рота, и, подползая к переднему краю, стрелял из винтовки. Вспомнилось, как сержант Выручкин откапывал под ураганным огнём на тракторном заводе засыпанный штаб дивизии. Он копал с такой стремительной яростью, что пена выступала у него на губах, и его силой оттащили, — боялись, что он упадёт мёртвым от нечеловеческого напряжения. Вспомнилось, как за несколько часов до этого тот же Выручкин бросился к горящей машине с боеприпасами и сбил с неё огонь. И вспомнилось, что Выручкина не смог поблагодарить генерал Жолудев, так как Выручкина убило немецкой миной. Может быть, в крови его от прадедов передавалась эта солдатская доблесть — забывая обо всём, кидаться на помощь попавшим в беду, может быть, от этого и дали их роду кличку Выручкиных. Вспомнился мне боец понтонного батальона Волков. Раненный в шею, с рассеченной лопаткой, он тридцать километров добирался то ползком, то на попутных машинах из госпиталя на переправу и плакал, когда его увезли обратно в госпиталь. Вспомнились мне те, что сгорели в посёлке тракторного завода, но не вышли из горящих зданий, вели огонь до последнего патрона. Вспомнились те, кто дрался за «Баррикады» и за Мамаев курган, те, кто отражали немецкие танки в Скульптурном саду, вспомнился мне батальон, погибший весь, от командира до левофлангового бойца, защищая Сталинградский вокзал. Вспомнилась мне широкая проторённая дорога, ведущая к рыбачьей слободке по берегу Волги, дорога славы и смерти; молчаливые колонны, шедшие по ней в жаркой пыли августа, в лунные сентябрьские ночи, в ненастье октября, в ноябрьском снегу. Они шли тяжёлой поступью — бронебойщики, автоматчики, стрелки, пулемётчики, шли в торжественном суровом молчании, и лишь позвякивало их оружие да гудела земля под их тяжёлым шагом.
И вдруг вспомнилось мне письмецо, написанное детской рукой, письмецо, лежавшее возле убитого в дзоте бойца. «Добрый день, а может быть и вечер. Здравствуйте, тятя. Я без вас шипко скучаю. Приходишь домой, как на фатеру. Приезжайте хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слёзы градом льются. Писала дочь Нина».
И вспомнился мне этот убитый тятя, — может быть, он перечитывал письмо, чувствуя свою смерть, и смятый листочек так и остался лежать около его головы…
Как передать чувства, пришедшие в этот час в тёмном подвале не сдавшегося врагу завода, где сидел я, слушая торжественную и печальную песнь, и глядел на задумчивые, строгие лица людей в красноармейских шинелях?
1 января 1943 года
Сталинград
Сталинградский фронт
Шестого августа генерал-полковник Ерёменко принял командование над войсками Сталинградского фронта. Тяжёлые и грозные это были дни. Безжалостное солнце стояло над степью. Его широкий мутный лик тонул в лёгкой, сухой пыли. Эта пыль, поднятая тысячами красноармейских сапог, колёсами обозов, гусеницами танков и тягачей, поднималась высоко-высоко вверх, и казалось, что безоблачное небо покрылось свинцовой пеленой.
Армии отступали. Угрюмы были лица людей. Пыль покрывала их одежду, оружие, пыль ложилась на дула орудий, на брезент, покрывавший ящики с штабными документами, на чёрные лакированные крышки штабных пишущих машинок, на беспорядочно наваленные на подводы чемоданы, мешки, винтовки. Серая сухая пыль проникала в ноздри и глотку. Губы сохли от неё и покрывались трещинами. Эта пыль проникала в людские души и сердца, она делала глаза людей беспокойными, она переливалась в артериях и венах, и кровь бойцов становилась от неё серой. То была страшная пыль, — пыль отступления. Она разъедала веру, она гасила жар сердца, она мутно вставала перед глазами наводчика и стрелка. Бывали минуты, когда люди забывали о долге, о своей силе, о своём грозном оружии, и мутное чувство овладевало ими. Немецкие танки, гудя, двигались по дорогам. День и ночь висели над донскими переправами немецкие пикировщики, со свистом проносились над обозами «мессеры». Дым, огонь, пыль, смертная духота…
И людям иногда казалось, что нет кислорода в том горячем воздухе, который они ловят сухими губами, что они задохнутся в серой сухой пыли. Да, в эти дни лица шагавших бойцов были так же бескровны, как лица раненых, лежавших на тряских полуторках.
В эти дни шагавшим с оружием хотелось стонать и жаловаться, как тем, кто лежал в грязных кровавых бинтах на деревенской соломе в ожидании санитарных машин. Великая армия великого народа отступала.
Первые обозы отступающей армии вошли в Сталинград. По нарядным улицам города, мимо зеркальных витрин, мимо выкрашенных в голубую краску киосков, торговавших газированной водой с сиропом, мимо книжных магазинов и магазинов детских игрушек проезжали грузовики с серолицыми ранеными, фронтовые машины с помятыми крыльями, с продырявленными пулями и осколками кузовами, легковые штабные «эмки» с лучеобразными трещинами на передних стёклах, машины со свисающими клочками сена и бурьяна, машины, покрытые пылью и грязью военных дорог… И дыханье войны обожгло город, вошло в него.
Печать тревоги легла на лица горожан. Всё как будто продолжалось попрежнему, и всё изменилось. Лишь могучие заводы продолжали изрыгать чёрный дым, день и ночь работала сталинградская промышленность. «Баррикады», тракторный превратились в арсенал Сталинградского фронта, и на смену гибнущим в тяжком, неравном бою, на смену уничтоженным под Котельниковым и Клетской, на смену потерянным на речных переправах каждую ночь шли к фронту артиллерийские полки и танковые батальоны, созданные великим трудом наших рабочих.
Город готовился стать театром войны. В штабах готовили оборону. Перекрёстки улиц и городские садики, где назначали свидания влюблённые, теперь отмечали как тактически выгодные или, наоборот, рискованные позиции, имеющие ограниченный или полный обзор, обстрел, обеспечивающие фланги или усиливающие центр. Война подошла к Сталинграду. И милые степные дороги, поросшие дикой вишней, балки, холмы со старинными, от прадедов идущими названиями превратились в коммуникации, пересечённую местность, в высоты: сто два ноль, сто двадцать восемь шесть, сто тридцать и пять. Война рвалась к Сталинграду.
Немецкое командование верило в силу своего пробивного тарана, сконцентрированного на направлении главного удара. Оно считало, что нет в мире силы, способной противостоять авиационному корпусу генерал-полковника Рихтгофена, танкам и пехоте фон Бока. Они двигались к Волге и Сталинграду, они с каждым днём пробивались к нему всё ближе и ближе с юга — от Цымлянской и Котельникова, с северо-запада — от Клетской. Для немцев вопрос занятия Сталинграда и выхода к Волге казался решённым. Срок определялся просто: надо было только разделить длину оставшегося пути на среднюю величину суточного продвижения. Произведя эту нехитрую выкладку, Гитлер объявил миру день занятия Сталинграда.
И вот в эти тяжёлые дни августовского отступления, в край деревенских пожаров, в край дыма, огня, в сухую горячую пыль, когда в мутном воздухе стоял гул моторов воздушных эскадр генерал-полковника Рихтгофена, а степная земля между Доном и Волгой прогибалась под тяжестью танковых колонн, марша пехотных дивизий и колёс артиллерийских полков, предводительствуемых фон Боком, — в этот мирный край, ставший адом, приехал командующий новым Сталинградским фронтом.
Немцы, мыслившие арифметическими категориями, полагали, что из дымного ада, созданного ими, может родиться лишь паника, слабость, апатия, неверие в добрый для русских исход войны. Они потирали руки: после долгого отступления, после больших потерь здесь, в степях, где бродят верблюды, где близка пустыня, русские, подавленные неудачами, не противопоставят им никакой серьёзной силы, не станут оборонять город на высоком обрывистом берегу, имея за спиной полуторакилометровую Волгу. Русские действительно знали, что за их спиной — широкая и быстрая река, но они знали, что за их спиной — судьба России.
Измученные боями на Северном Донце, на Осколе и на Дону, русские войска стали перед городом на Волге, и не оказалось в мире силы, могущей сдвинуть их. Как создалась, как родилась эта сила? Где источник её, укрепивший людей над волжским обрывом?
Немцы ждали, что движение их тарана будет происходить по законам арифметической прогрессии. Этот закон проверили они в Польше и Голландии, во Франции и Бельгии, в Югославии и Греции. Там на пятый день немецкие колонны проходили вдвое больше, чем в первый, а на десятый вдвое больше, чем на пятый. В Европе немцы наступали по геометрическим законам движения падающей с горы лавины, под Сталинградом они наступали по законам движения телеги, взбирающейся вверх по крутой горной дороге.
Но теперь пришло время сказать о самом чудесном, основанном на великой вере в силу народа и в его любовь к свободе. Ерёменко привёз из Москвы не только мысли и волю сталинградской обороны, он привёз из Москвы мысль и волю сталинградского наступления.
Генерал-полковник Ерёменко — пятидесятилетний широкоплечий грузный человек, в котором массивная неповоротливость движений сочетается с лёгкостью и быстротой. Когда Ерёменко надевает очки и читает бумаги или глядит на карту, он похож на деревенского учителя, отдыхающего за книгой в школьной избе после часов занятий. Но когда внезапно он поднимает телефонную трубку и говорит начальнику артиллерии: «Усильте огонь! Как коршун, как коршун, нависайте над отходящим противником!», когда он быстрой и короткой фразой приказывает перебросить несколько артиллерийских полков с одного участка фронта на другой, когда он приказывает внезапно выбросить зенитные средства на наметившуюся над пустынной степью трассу германской транспортной авиации, чувствуешь и видишь, что Ерёменко не только генерал массивной, гранитной обороны, — что он генерал внезапного, быстрого наступательного манёвра.
Генерал-полковник Ерёменко — человек большого военного опыта. Он знает тяжёлую жизнь солдата, он сам ходил в 1914 году в штыковую атаку, во время которой заколол двадцать два немца. Он — солдат, ставший генералом. И когда во время руководства сложным сражением, выслушивая донесения и отдавая короткие быстрые приказы, между разговором с генералом, чьи войска ворвались во вражеские окопы, и приказом фронтовой авиации о начале боевых вылетов он снимает телефонную трубку и сердито говорит: «Валенки, валенки быстрей, быстрей подвозите!», понимаешь, что для него война — высшая жизненная реальность, в которой нет никаких романтических иллюзий.
— Кто хочет умереть? — стариковски усмехаясь, спрашивал он меня и сам ответил: — Никто особенно не хочет.
Для Ерёменко война — это продолжение жизни, это обычная жизнь. Законы войны — это законы жизни. Тут нет таинственности, кантовской «вещи в себе». Ерёменко оценивает и красноармейцев, и генералов с житейской простотой и трезвостью. Он знает, как ведёт себя в жизни и работе многосемейный человек, любящий пожаловаться на боль в пояснице, и горячий юноша, не привыкший обдумывать свои поступки.
— Лучший возраст солдата, должно быть, двадцать пять — тридцать лет, — говорит он. — Его ещё не тянет в обоз, он не думает всё время о семье, и он уже потерял юношескую горячность. Солдату воевать одной храбростью нельзя — он должен быть житейски опытным, житейски умным, житейски хитрым.
Ерёменко знает превратности войны — он испытал и проверил их долгим опытом и годами военных трудов. Он, один из организаторов обороны Смоленска, уже однажды встречал главные силы противника и видел, как впервые во время великой войны трещали германские планы, как нарушились темпы, как смешались казавшиеся неумолимыми пути движения танковых германских колонн. В этом он познал силу нашей обороны. Он проверил силу нашего наступления, когда войска под его руководством прорвали на Калининском фронте линии противника и заняли Пено, Андреаполь, Торопец, подходили к Витебску. Но он познал и горечь неудачи и вероломную силу противника во время германского прорыва к Брянску и Орлу.
Он знал переменчивость военного счастья, злые превратности войны и не считал немцев разбитыми в период больших наших успехов.
Величественной эпопее обороны Сталинграда предшествуют необычайно упорные и героические бои в степях, к югу от города. Отсюда первоначально предполагали прорваться немцы к городу, и здесь встретили они железную стену сопротивления. Войска генерала Шумилова отражали напор врага в плоской степи, где широко могли развернуться силы немецкой авиации и танковых соединений. Здесь война ничем не напоминала той, что развернулась впоследствии на улицах и площадях Сталинграда. Казалось, она отличалась, как день от ночи, от уличных сталинградских боёв. Но здесь, в пустынной степи, впервые проявились те замечательные качества упорства и высокого самопожертвования, под знаком которых прошла вся битва за Сталинград. Здесь, в степи, всё было не так, как в городе. Тут происходили удивительные, казалось, не имеющие никакого отношения к борьбе за город, происшествия. Здесь часовой, стоявший у минного поля, однажды увидел, как заяц выскочил на минированный участок степи и тотчас вслед ему кинулась, пуша хвостом, быстрая серовато-рыжая лисица. Часовой увидел, как оба зверя — и преследуемый и преследующий — подорвались на минах. Он хотел подобраться к ним и тоже упал, тяжело раненный осколком мины, задетой его сапогом. А в это время с другого конца, объезжая раскрывшее себя минное поле, появились немецкие танки, и раненый часовой стрелял из винтовки, давая знать о движении врага. Здесь, в степи, началась битва за Сталинград, здесь расчёты противотанковых пушек сержанта Апанасенко и Кирилла Гетьмана отражали атаки тридцати тяжёлых танков, здесь писал перед штурмом занятого немцами разъезда свою клятву донбассовский пролетарий Ляхов, здесь, в степи, дрались танки «KB» полковника Бубнова, так дрались, что и теперь каждый день услышишь рассказы об удивительной, неистребимой бубновской бригаде. Здесь шли на штурм высоты двадцать пять гвардейцев полковника Денисенко, залегли, когда их осталось пятнадцать, снова поднялись и пошли, залегли, когда их осталось шесть, и опять пошли вперёд; залегли, когда их осталось трое, но и эти трое поднялись и продолжали итти вперёд. И такова была сила этих людей, что, когда двое упали убитыми, третий, единственный уцелевший из двадцати пяти, пошёл всё же вперёд, достиг гребня и повёл огонь из пулемёта, укрывшись за сожжённый немецкий танк.
Здесь, в степи, немцы не смогли пройти к городу с юга. Тогда, сосредоточив все силы в излучине Дона, они прорвали нашу оборону у хутора Вертячего и танковой колонной вышли к северной окраине города, у тракторного завода. Это было 23 августа 1942 года.
Немцы предполагали захватить заводы, выйти к переправам и к 25 августа овладеть Сталинградом. Тогда-то грудь с грудью столкнулись германские силы, сконцентрированные на направлении главного удара, с нашей 62-й армией.
Началось великое сражение, за ходом которого, затаив дыхание, следили народы мира.
Генерал-лейтенант Чуйков принял командование над 62-й армией в самые роковые часы сталинградской битвы. Чуйков явился на командный пункт командующего фронтом, в глубокое подземелье на западной окраине пылающего Сталинграда. Мы не знаем, что говорил Ерёменко Чуйкову, напутствуя его на тяжкую работу. Об этом разговоре знают лишь онидвое.
Командующий фронтом много лет уже знал генерала Чуйкова, знал его и по манёврам мирного времени и по великой войне. Он знал храбрость Чуйкова, его неукротимую энергию, непоколебимое упорство, с которым он не отступал от раз намеченной цели. «Этот человек панике не поддаётся», — сказал командующий фронтом.
Великий и тяжёлый труд выпал на долю генерала Чуйкова. Его девизом, девизом его помощников — Горохова, Родимцева, Гурьева, Гуртьева, Батюка стали слова: «Стоять насмерть!» Верность этому девизу доказали они в невиданных испытаниях сталинградского сражения. Верность этому девизу доказали командиры полков и батальонов, рот и взводов сражавшихся в Сталинграде дивизий. Верность этому суровому благородному девизу доказали десятки тысяч бойцов, не отступивших ни на шаг от занятой ими обороны.
Генерал Чуйков и его помощники в полной мере делили с бойцами все трудности боёв. В Сталинграде не было глубины эшелонирования — в городе, который узкой лентой протянулся вдоль волжского берега на длину в шестьдесят километров, не стало тылов и переднего края. Сожжённый, обращенный в развалины, Сталинград превратился в город-окоп, город-траншею, город-блиндаж. И в этом день и ночь гремевшем выстрелами и взрывами окопе, среди пламени пожаров и гула немецких бомбардировщиков, рядом находились и командующий армией генерал-лейтенант Чуйков, и генералы, и полковники, командовавшие дивизиями, и бойцы-автоматчики, сапёры, бронебойщики, артиллеристы, стрелки.
В этом аду сто дней и сто ночей работал Чуйков и его помощники. В этом аду шла чёткая, размеренная и напряжённая работа их штабов, в этом аду планировался бой, шли заседания, выносились решения, составлялись и подписывались боевые приказы, в этом аду каждый день и каждый час каждое дыхание Чуйкова и его помощников были подчинены одному девизу: «Стоять насмерть!»
Все они, помощники Чуйкова, прошли и выдержали великое испытание: от молодого гвардейского генерала Родимцева до седого полковника Гуртьева.
Немцы, столкнувшись с необычайным упорством 62-й армии, поняли, что им не захватить Сталинграда, наступая по всему фронту. Они решили расчленить нашу оборону, вбить клинья в 62-ю армию, расколоть её так, как колют клиньями сопротивляющееся тяжким ударам топора бревно. После чудовищных усилий, после огромных жертв им удалось в трёх местах продвинуть острия своих клиньев к берегу Волги. Они думали, что имеют дело со структурой, подобной древесине, что вбитые клинья расколют 62-ю армию. Но немцы ошиблись. Клинья были вбиты, а 62-я армия осталась попрежнему единой, подчинённой воле своего командующего, неистребимым, неколющимся, совершенным целым. Это казалось чудом: армия, отделённая от своих тылов многоводной осенней Волгой, армия, в которую вошли три тяжких германских клина, продолжала бороться как единый слаженный могучий организм.
В чём же разгадка этого чуда? Немцы ошиблись, немцы не поняли, не смогли определить внутренней, органической структуры 62-й армии. Они думали, что это древесина, боящаяся клиньев, а они имели перед собой благородную сталь, ту сталь, которая состоит из мелких микроскопических кристаллов, связанных могучими силами молекулярного сцепления. Каждый из этих кристаллов — сталь! И нет, не было и не будет в мире такого клина, который мог бы расколоть эту сталь. Чтобы разрушить, уничтожить 62-ю армию, нужно было расчленить, оторвать друг от друга все эти бесчисленные кристаллы. Мыслимо ли это? Немцы хорошо доказали, что это невозможно, ибо, надо им отдать справедливость, они использовали все дьявольские силы германского милитаризма, чтобы уничтожить 62-ю армию.
Здесь не представляется возможности говорить обо всех этапах борьбы 62-й сталинградской армии. Но хочется сказать о великих силах, связавших воедино тысячи кристаллов в нерушимое, крепкое целое.
Прежде всего — долгое отступление не деморализовало, — как ожидали этого немцы, — наши войска. В пыли степных дорог, в свете горящих деревень крепла горечь, креп гнев, крепла решимость умереть, но не подчиниться насилию, чёрной рабовладельческой силе захватчиков. Это суровое чувство стало обще всем людям фронта — от командующего до рядового бойца. И это чувство легло в фундамент сталинградской обороны.
Сознание величайшей ответственности за судьбу народа в равной мере ощущалось и командованием и рядовыми. Это сознание, пронизавшее всю духовную жизнь 62-й армии, проявлялось в том, что красноармейцы, ефрейторы, сержанты, иногда по нескольку дней оторванные от командных пунктов, сами брали на себя командирские функции, умело, хитро, разумно защищая опорные пункты; блиндажи, укреплённые здания. Это сознание в роковые минуты превращало бойцов в командиров, лишало немцев возможности нарушить управление, создавало монолитное единство.
Люди, боровшиеся в рядах 62-й армии, вступали в великое братство сталинградской обороны. Это братство, теснее уз семьи, объединило людей различного возраста и различных национальностей. Словно символ этого сурового братства, стоят передо мной трое раненых, медленным, трудным шагом идущих к перевязочному пункту. Эти трое залитых кровью людей шли, крепко обнявшись, покачиваясь от слабости, останавливаясь. И когда один из них терял силы, двое других почти, несли его на себе.
— Кто вы, — земляки? — спросил я их.
— Нет. Мы из Сталинграда, — сипло и тихо ответил слепой боец, шагавший посредине, с глазами, повязанными грязным кровавым бинтом.
Большой связывающей силой для людей 62-й армии являлась укреплённая кровью вера друг в друга.
— Моим первым, главным принципом военного искусства является постоянная и неусыпная забота о войсках, — говорит генерал Ерёменко. — Прежде всего — это поставить войска в наивыгоднейшие условия по отношению к противнику, постоянно знать противника; заботиться о налаженном боепитании, снаряжении, одежде. — Он усмехается и добавляет по-житейски просто: — Ну, и чтобы было что кушать — погорячей и пожирней.
Эту постоянную внимательную заботу ощущали все войска фронта. Её познал командующий 62-й армией генерал-лейтенант Чуйков, получавший всегда в особо тяжёлые минуты ободряющие короткие записки от командующего фронтом и могучую поддержку фронтовой артиллерии, которая находилась в личном ведении командующего.
Эту постоянную заботу хорошо знает полковник Горохов, стоявший на правом фланге 62-й армии. Два с лишним месяца войска Горохова были отрезаны от правобережных коммуникаций двумя немецкими клиньями, стояли на «пятачке», прижатые к берегу Волги. И в течение этих двух месяцев множество раз в минуты сверхчеловеческого напряжения Горохов слышал спокойный дружеский голос, получал короткие приветы, поддержанные и подтвержденные сокрушительной работой дальнобойной артиллерии и гвардейских минометов.
Вера друг в друга пронизывала весь Сталинградский фронт — от командующего до рядового. И простым выразителем её был тот красноармеец, который, подойдя в Сталинграде к генерал-полковнику, сказал:
— А я вас давно знаю, товарищ командующий! Я еще на Дальнем Востоке с вами служил.
И если красноармейцы знали генерал-полковника, то и он хорошо знал своих бойцов. С великим уважением и любовью говорит он о бойцах Сталинградского фронта.
— Здесь, в Сталинграде, наш красноармеец показал всю силу и зрелость русского народного духа, — говорит он.
Противнику не удалось разбить нашу сталинградскую оборону, — благородная структура 62-й армии не поддалась чудовищному напору пробивного тарана. Могучие силы сцепления, связывающие кристаллы стали, оказались сильнее зла, победившего Европу.
62-я армия выдержала, восторжествовала. Пришёл день, когда генерал Чуйков, его помощники Родимцев, Горохов, Гуртьев, Гурьев отдали приказ открыть огонь по окружённым в районе Сталинграда немецким войскам! Пришёл день, когда 62-я армия от обороны перешла к нападению, приняла участие в сталинградском наступлении. Это наступление, план которого родился в знойные, пыльные дни августа, в тяжкие душные ночи, когда отсвет пожаров, пылавших на Дону, достигал Волги, когда пламя горящего Сталинграда раскаляло ненавистью сердца красноармейцев, — это наступление свершилось. Первый этап сталинградской битвы пройден. Таких ста дней не знал мир. Битва в городе, битва во время которой заводские рабочие, выходя во время перерыва из цехов, видели, как немецкие танки, перевалив через гребень холма, шли в атаку на наши боевые порядки, битва, в которой бронированные катеры волжской флотилии вступали в бой с немецкими танками, выходящими на сталинградскую набережную, битва, могучими крыльями взметнувшаяся над степью! Там, в степи, обезумевшие от грохота зайцы прыгали в окопы к нашим бойцам, и бронебойщики, ласково гладя дрожащего косого, говорили:
— Не бойсь, не подпустим германа!
Первый этап этой битвы окончен. Генерал-полковник Ерёменко полулежит на походной кровати, положив раненую ногу на подушку, и короткими словами переговаривается по телефону с командующими армиями.
Центр сталинградских боёв перенесён из тёмных развалин, из узких, засыпанных грудами кирпича переулков, из заводских цехов на широкий простор приволжских степей. Да, первый этап великой сталинградской битвы завершён. Участников её ждут заслуженные награды. Полковник Гуртьев, полковник Горохов, полковник Сараев возведены в звание генералов.
Тысячи бойцов и командиров награждены орденами.
Но мне хочется сказать о самой великой награде, которой удостоены все бойцы и командиры Сталинградского фронта, — о великой народной благодарности.
В одном из затонов, у одного из сталинградских заводов, стояла вмёрзшая в лёд баржа, В трюме её жили шестьсот человек рабочих, их жёны, матери, дети, ожидая эвакуации в Заволжье. В тёмный холодный вечер в трюм спустился человек. Он прошёл среди мрачно насупившихся стариков-рабочих, думавших невесёлую думу. Он прошёл мимо скорбно молчавших старух, мимо молодой измученной женщины, день назад родившей сына на грязных сырых досках, устилавших трюм, мимо детей, спавших на грудах узлов. Этот человек при свете коптилки стал громко читать:
— «На-днях, наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление, против немецко-фашистских войск…»
И чудное дело: словно вольный волжский ветер дошёл до тёмного душного трюма. Народ плакал. Плакали женщины, плакали суровые мастера-металлисты, плакали нахмуренные седые старики. Эти благодарные слёзы пусть будут великой народной наградой тем, кто вынес на своих плечах страшную тяжесть сталинградской обороны, кто кровью своей отстоял Сталинград.
Декабрь 1942 года.
1943
Жизнь
Эту историю рассказал мне случайный спутник — капитан, больной малярией. Он стоял на дороге под холодным дождём, прикрываясь плащ-палаткой, и улыбался синим ртом, просил, поднимая руку. Наш Усуров остановил полуторку. Капитан полез в кузов, сел на мокрый грязный брезент, прикрывавший кучу хлама, который таскал с собой наш хозяйственный Усуров: трофейную итальянскую кровать, немецкий снарядный ящик, старые покрышки, груду скрежещущих двадцатилитровых бачков. Дорога была скверной, полуторка ползла с трудом, колёса то и дело буксовали, иногда машина шла боком, и все сидевшие в кузове хватались за борты. Раза два пришлось останавливаться — в радиаторе кипела вода. Усуров ходил вокруг полуторки, бил сапогом по покрышкам, садясь на корточки, смотрел на рессоры и говорил угрожающе шофёрские слова, хорошо известные всем ездящим по фронтовым дорогам: «Два раза дифером цепляли», «коренной лист готов», «подшипник на бандрате готов», «гук — скоро готов будет», «задний мост откатывать придётся», «масла нехватит», «запорем мотор». Такие слова вселяют уныние в сердце… Пока мы ехали, больной капитан, постукивая от озноба зубами, рассказал эту историю. Потом он сказал: «Вот и санчасть, я доехал». Майор Бова ударил кулаком по крыше кабины, Усуров выглянул в окошко. Кривя рот, сказал: «Разве можно на таком спуске останавливать и так ведь второй месяц без тормозов ездим». Капитан полез через борт, поблагодарил и, медленно скользя по грязи, побрёл, подбирая полы плащ-палатки, к дальней хате.
Усуров вышел, поглядел и сказал, указывая пальцем: «Вот он где подъём, о котором я говорил, метров четыреста гора, машин двадцать уже засели, и трёхосные не осилили, и американские сидят, — как раз для нашей Коломбины…» Он шлёпнул ладонью по мокрому борту старой полуторки и вдруг запел с весёлым озорным отчаянием: «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой…», селв кабину и запустил мотор. Историю, рассказанную капитаном, я записал.
I
Вот уже две недели, как небольшой отряд красноармейцев с боем пробивался по разрушенным войной шахтным посёлкам, шёл донецкой степью. Дважды немцы окружали его и дважды рвал отряд кольцо окружения, двигался на восток. Но на этот раз прорваться было невозможно. Немцы окружили отряд плотным кольцом пехоты, артиллерии, миномётных батарей.
Вопреки логике и разуму, казалось немецкому полковнику, они не хотели сдаваться. Ведь фронт отошёл на сто километров, а жалкая горсть советской пехоты, засев в развалинах надшахтного здания, продолжала стрелять. Немцы били по ней день и ночь из пушек и миномётов. Подойти близко не было возможности — у красноармейцев имелись пулемёты и противотанковые ружья. Запас боеприпасов у них, очевидно, был очень велик: они не жалели патронов.
Вся история приняла скандальный характер. Армейское начальство прислало раздражённую, насмешливую радиограмму, — не нуждается ли полковник в поддержке корпусной артиллерии и танков. Полковник, оскорблённый, огорчённый, вызвал начальника штаба.
— Вы понимаете, — сказал он, — что славы нам не принесёт разгром этого жалкого отряда, но каждый лишний час его существования — это позор мне, каждому из вас, всему полку.
С рассветом началась обработка развалин тяжёлыми полковыми минами. Пудовые желтопузые мины послушно и точно шли на цель. Казалось, каждый метр земли вспахан, взрыт. Было истрачено полтора боекомплекта, но полковник приказал не прекращать огня. Мало того, он ввёл в действие стопятимиллиметровые батареи. Дым и пыль высоко поднялись вверх, в грохоте обрушились высокие стены копра. «Продолжать огонь», — сказал полковиик. Камни летели во все стороны, железная арматура рвалась, как гнилые нитки. Бетон рассыпался. Полковник смотрел в бинокль на эту страшную работу.
— Не прекращать огня, — снова повторил он.
— На каждого русского мы, вероятно, выпустили пятьдесят тяжёлых мин и тридцать снарядов, — проговорил начальник штаба.
— Не прекращать огня, — упрямо сказал полковник. Солдаты хотели есть, устали, но им не пришлось ни завтракать, ни обедать.
Только в пять часов дня полковник дал сигнал общей атаки. Немцы рванулись к развалинам с четырёх сторон. Всё было приготовлено. Атакующие имели на вооружении автоматы, ручные пулемёты, мощные огнемёты, взрывчатку, ручные и противотанковые гранаты, ножи, лопаты. Они приближались к развалинам, гася в грозном крике, в грохоте и лязге страх перед людьми, засевшими в надшахтном здании. Атакующих встретило молчание. Ни одного выстрела. Ни одного шевеления. Первым ворвался разведывательный отряд. «Рус! — кричали солдаты. — Где ты, рус?» Камни и железо молчали. Естественно, первой пришла в голову мысль: русские перебиты все до одного. Офицеры приказали произвести тщательные поиски, вырыть тела, донести об их количестве.
Поиски длились долго, но трупов не было обнаружено. Во многих местах стояли лужи крови, валялись окровавленные бинты, изодранные, запачканные кровью рубахи.
Поиски обнаружили четыре ручных пулемёта, исковерканных немецкими снарядами. Консервных банок, пакетов пшенного и горохового концентрата, кусков сухарей найдено не было. В одной яме разведчик обнаружил наполовину съеденную кормовую свёклу. Солдаты исследовали эксплоатационный ствол шахты: отовсюду вели к стволу следы крови. К скобе, вбитой в деревянную обшивку, была привязана верёвка. Очевидно, русские спустились по аварийным скобам в шахту и унесли с собой раненых. Трое немецких разведчиков, обвязавшись верёвками, держа наготове ручные гранаты, стали спускаться по стволу. Пласт залегал мелко, глубина ствола была не больше семидесяти метров. Едва разведчики достигли шахтного Двора, как начали отчаянно дёргать верёвку. Их вытащили без сознания, в крови, но огнестрельные раны на их телах подтвердили, что русские находятся в шахте. Ясно было, что долго им там не пробыть — найденная наполовину изглоданная свёкла свидетельствовала: продовольствия у русских нет.
Полковник сообщил обо всех этих событиях командованию и получил снова от начальника штаба армии исключительно жёлчную и язвительную телеграмму: генерал поздравлял его с необычайно крупным успехом и выражал надежду, что в ближайшие дни окончательно удастся сломить сопротивление русских. Полковник пришёл в отчаяние. Он понимал, что становится смешным.
После этого были приняты следующие меры.
Дважды спускали по стволу бумагу, писанную на русском языке, с предложением сдаться. Полковник обещал сдавшимся сохранить жизнь, раненым — помощь. Оба раза на бумаге была карандашная резолюция: «Нет». После этого пришли немецкие химики и забросали ствол дымовыми шашками. Но, очевидно, отсутствие диффузии воздуха помешало дыму распространиться по подземной выработке. Тогда потерявший равновесие полковник велел собрать женщин из шахтёрского посёлка и объявить им, что если сидящие в шахте красноармейцы не сдадутся, все женщины и дети будут расстреляны. Женщинам было предложено избрать трёх делегаток; этих делегаток спустят в шахту, и они обязаны уговорить красноармейцев сдаться ради спасения женщин и детей. Если красноармейцы откажутся сдаваться, ствол шахты будет взорван.
В делегацию вошли: жена крепильщика Нюша Крамаренко, Варвара Зотова, работавшая до войны на углемойке, Марья Игнатьевна Моисеева — тридцатисемилетняя женщина, мать пятерых детей; старшей её девочке исполнилось тринадцать лет. Женщины просили немцев разрешить спуститься с ними в шахту старику-забойщику Козлову, — они боялись, что заблудятся без провожатого, так как после газопуска красноармейцы, вероятно, ушли в дальние выработки. Старик сам вызвался проводить их. Немцы приспособили над стволом ворот и блок, прикрепили к нему «букет» — деревянную бадью, используемую обычно на проходках, и закрепили трос, снятый с подорванной клети.
Делегацию отвели к шахте. Толпа женщин и детей с плачем шла следом. Сами делегатки тоже плакали — они прощались с детьми, со своими родными, с посёлком, с белым светом.
Бабы со всех сторон кричали:
— Нюшка, Варька, Игнатьевна! На вас вся надея! Уговорите их, голубчиков, сукиных сынов, постреляют нас, проклятые, пропадём мы и дети наши пропадут, — подушат, как кутенят.
Делегатки плача кричали:
— Да нешто мы сами не знаем, у самих дети! Олечка, иди сюда, дай хоть посмотрю на тебя! Неужто через это душегубство пропадать всем. Да мы их, мужичков бешеных, за волосы силом повытаскиваем, глаза им, дуракам, повынимаем. Они должны сознавать, сколько невинных душ через них пропадёт.
Старик Козлов шёл впереди, припадая на левую ногу, — её смяло в 1906 году, во время падения кровли при проходе западного бремсберга. Он шёл, мерно размахивая зажжённой шахтёрской лампой, спешил уйти вперёд от кричавших и плачущих баб, — они нарушали торжественное настроение, которое всегда приходило к нему при спуске в шахту. И сейчас, обманывая себя, он представлял, как клеть опустит его в шахту, как влажная сырость коснётся лица его, как придёт он в забой по тихой продольной, освещая лампочкой тёмный ручеёк, бегущий по уклону, и покрытые жирной пухлой угольной пылью балки крепления. Он снимет в забое шахтёрки, сложит их, засечёт куток и пойдёт рубать мягкий коксующийся уголёк. Через час зайдёт к нему в забой кум, газовый десятник, и спросит: «Ну, что, рубаешь?» И он утрёт пот, улыбнётся и скажет: «А что ж с ним делать, рубаю, пока жив. Посидим, что ли, отдохнём». Они сядут у воздушника, поставят лампочки, вентиляционная струя будет мягко обдувать его чёрное, блестящее от пота тело, и они поговорят, не торопясь, о газовом угольке, о новой продольной, о кумполе, выпавшем на коренной штрек, посмеются над заведующим вентиляцией. Потом кум скажет: «Ну, Козёл, с тобой тут всю упряжку просидишь», — посветит лампочкой и пойдёт. А он скажет: «Иди, иди, старый», — а сам возьмёт обушок и давай по струям рубать, в мягкой чёрной пыли. Шутка ли, сорок лет при таком деле! Но как ни торопился хромой старик, бабы не отставали от него. Плач и визг стояли в воздухе; вскоре весь народ подошёл к скорбным развалинам надшахтного здания. Ни разу Козлов не был здесь с того дня, как бледный, с трясущимися руками пузатый инженер Татаринов, когда-то, молоденьким штейгером, строивший этот копёр, самолично подорвал толом надшахтные здания. Это было дня за два до прихода немцев.
Козлов огляделся вокруг и невольно снял шапку. Бабы выли и бесновались, холодный мелкий дождь падал деду на лысину, щекотал кожу. Ему показалось, что бабы воют по скончавшейся шахте, а у него было чувство, словно он снова на кладбище, в осенний день, подходит к открытому гробу проститься со своей старухой, Немцы стояли в пелеринках и в шинелях, переговаривались, покуривали сигарки, поплёвывали, словно всё это смертоубийственное дело шло само собой. Только один, здоровенный солдат, с совершенно рябым лицом и большими тёмными мужицкими руками, уныло и хмуро разглядывал развалины шахты. «Вроде сочувствует… Може, тоже подземным был, — подумал старик, — забойщиком или по крепи…» Он первым полез в «букет». Нюшка Крамаренко завыла громко, во весь голос: «Олечка, ангелочек, деточка». Замурзанная с большим животом, раздувшимся от свёклы и сырых кукурузных зёрен, трёхлетняя девочка хмуро и сердито смотрела на мать, точно осуждала её за слишком шумное поведение. «Ох, не могу, млеют мои руки, ножки мои млеют!» — кричала Нюшка. Она боялась чёрного провала, где сидели разъярённые от сражения бойцы. «Всех нас постреляют, нешто они разберут в темноте, — кричала она, — нас там, внизу, вас тут — подавят наверху…» Немцы подсаживали её в «букет», она отталкивалась от борта ногами. Старик хотел помочь ей, но потерял равновесие и больно ударился скулой об железину. Солдаты засмеялись, и смущённый, злой Козлов рявкнул: «Лезь, дура, в шахту едешь, не в Германию, чего ревёшь!»
Варвара Зотова ловко и легко прыгнула в бадью, она оглядела плачущих женщин и детей, протягивающих к ней руки, и крикнула: «Не бойсь, женщины, всех их там околдую, на-гора вывезу!» Её залитые слезами глаза вдруг заблестели весело и озорно. Варваре Зотовой нравилось это опасное путешествие, — она и в девичестве славилась озорством. Да и перед самой войной, уже замужней женщиной, матерью двух детей, она в получку вместе с мужем ходила в пивную, играла на гармонии и плясала, грохоча коваными тяжёлыми сапогами, с молодыми грузчиками, её товарищами по работе на углемойке. И вот сегодня, в эту тяжёлую и страшную минуту, Зотова, весело и отчаянно махнув рукой, сказала: «Эх, раз живём. Что суждено, того не минуешь, верно, дед?»
Марья Игнатьевна Моисеева занесла свою толстую большую ногу через борт, охнула, кряхтя сказала: «Варька, подсоби, не хочу, чтобы немец меня касался, без него справлюсь», — и перебралась в бадью.
Она сказала старшей девочке, державшей на руках полуторагодовалого мальчика: «Лидка, козу накорми, там ветки нарубленные. Хлеба нет, — так ты тыквы, половину, что от вчерашней осталась, свари в чугуне, — она под кроватью лежит. Соли у Дмитриевны позычишь. Да смотри, чтобы коза не ушла, а то уведут в минт». Бадью повело. Игнатьевна, потеряв равновесие, схватилась за борт, и Варька Зотова обняла её за толстую талию. «Что это у тебя, — удивлённо спросила она, — за пазуху положено?» Марья Игнатьевна не ответила ей, сердито сказала немецкому ефрейтору:
— Ну, что сердце зря рвать, посадили — так спускайте, что ли!
И ефрейтор, точно поняв, дал сигнал солдатам. Бадья пошла вниз. Раза три она сильно ударилась о поросшую тёмной зеленью деревянную обшивку, да так, что все валились с ног. Потом пошла она плавно, сырость и мрак охватили людей, бедный свет бензинки освещал сгнившую обшивку ствола, вода бежала по ней, бесшумно поблёскивая. Холодом дышала шахта, и чем ниже спускалась бадья, всё страшней, холодней становилось душе.
Женщины молчали. Они вдруг оторвались от всего, что было дорого им и привычно, шум голосов, плач и причитания ещё стояли у них в ушах, а суровая тишина чёрного подземелья уже охватила их, подчиняя их мозг и сердце. И вдруг в одно мгновенье всем им пришли на мысль люди, уже третьи сутки сидевшие там, в глубине, во мраке… Что они думают? Что они чувствуют? Чего ждут, на что надеются? Кто они — молодые ли, старые ли? Кого вспоминают, о ком жалеют? Где берут силу для жизни? Старик осветил лампой белый плоский камень, замурованный между двумя балками, и сказал: «С этого камня тридцать шесть метров до шахтного двора, здесь первый горизонт. Надо голос подать женский, а то ребята постреляют нас».
И бабы подали голоса.
— Ребята, не бойтесь, бабы едут! — гаркнула Зотова.
— Свои, свои, русские, свои! — голосила Нюшка. А Марья Игнатьевна протяжно подхватила:
— Слышь, сынки, не стреляйте! Сынки, не стреляйте!
II
На шахтном дворе их встретили два часовых с автоматами; у каждого из них на поясе висело по дюжине ручных гранат. Они разглядывали женщин и старика, мучительно щурясь от слабенького света бензинки, прикрывали глаза ладонями, отворачивались, — желтый язычок пламени, величиной с младенческий мизинчик, закрытый густой металлической сеткой, слепил их, как летнее молодое солнце.
Один из них хотел помочь выбраться Марье Игнатьевне, подставил ей для упора плечо. Но он, видно, не соразмерил своей силы, и когда Моисеева оперлась об него ладонью, он вдруг потерял равновесие и упал. Второй часовой рассмеялся и сказал:
— Эх, ты, Ваня!..
Нельзя было понять, молоды они или стары, — лица их заросли бородами, говорили они медленно, движения их были осторожны, как у слепых.
— Пожевать ничего у вас нет, а, женщины? — спросил тот, что неудачно помогал Марье Игнатьевне.
Второй сразу же перебил:
— А хоть бы и есть, — товарищу Костицыну сдадут, он сам уже разделит.
Женщины молча всматривались в них, старик, поднимая лампу, освещал высокий свод подземного шахтного двора.
— Ничего, — бормотал он, — крепь держит, крепь такая — дай бог здоровья, на совесть ставили.
Один из часовых остался у ствола, второй пошёл проводить делегаток к командиру.
— Где вы тут помещаетесь? — спросил старик.
— Да вот тут за воротами, направо, вниз коридор, там и сидим.
— Нешто это ворота? — удивлённо сказал Козлов. — Это же вентиляционная дверь. На первом уклоне…
Часовой шёл рядом с ним. Женщины шли следом.
В нескольких шагах от вентиляционной двери стояли два пулемёта, направленных на шахтный двор. Пройдя ещё несколько метров, старик приподнял лампу и спросил:
— Спят, что ли?
Часовой спокойно и медленно ответил:
— Нет, это покойники.
Старик посветил лампой на тела в красноармейских шинелях и гимнастёрках. Их головы, груди, плечи и руки были перевязаны ржавыми от старой, сухой крови бинтами и тряпками. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, — словно греясь. На некоторых были ботинки с вылезшими концами портянок, двое были в валенках, двое — в сапогах, один — босой. Глаза их запали, лица поросли щетиной, но не такой густой, как у часового.
— Господи, — тихо говорили женщины, глядя на покойников, и крестились.
— Пошли, чего стоять, — проговорил часовой.
Но женщины и старик ещё смотрели на тела, с ужасом вдыхали запах, шедший от них. Потом они пошли дальше. Из-за угла коренного штрека слышался негромкий стон.
— Здесь, что ли? — спросил старик.
— Нет, это госпиталь наш, — ответил часовой.
На досках и сорванных вентиляционных дверях лежали трое раненых. Подле них стоял красноармеец и подносил ко рту раненого котелок с водой.
Двое лежали совсем неподвижно, не стонали; старик посветил лампой на них.
Красноармеец с котелком спросил:
— Откуда, что за народ?
Но, поймав напряжённые взгляды женщин, обращенные к неподвижно лежащим, успокаивающе добавил:
— Скоро кончатся, часика через два так. Раненый, пивший воду, сказал тихо:
— Мамаша, рассолу бы из кислой капусты.
— Да мы депутация, — сказала Варвара Зотова.
— Какая такая, от немцев, что ли? — спросил санитар.
— Ладно, ладно, — перебил часовой, — командиру всё расскажете.
Раненый сказал Козлову: «Посвети-ка, дед», — и, икнув откуда-то из самого нутра, приподнялся, откинул полу шинели, прикрывавшую развороченную выше колена ногу.
— Ой, батюшки мои! — вскрикнула Нюшка Крамаренко. — Ой!
Раненый тем же тихим голосом говорил: «Посвети-ка, посвети». И всё приподнимался, чтобы лучше рассмотреть.
Он смотрел спокойно и внимательно, разглядывая ногу свою, как чужой, посторонний предмет, не веря, что это мёртвое, гниющее мясо, чугунно-чёрная, охваченная гангреной кожа является частью живого, привычного ему тела.
— Ну вот, видишь, — сказал он укоризненно, — черви завелись и шевелятся. Я говорил командиру, — зачем мучиться было со мной, оставили бы наверху, я бы гранаты мог бросать, а там бы пристрелил сам себя.
Он снова посмотрел на рану и недовольно сказал:
— Так и ходят, так и ходят. Часовой сердито сказал ему:
— Не тебя одного тащили, с этими двумя, — он показал на лежащих, — четырнадцать человек покойников.
Нюша Крамаренко сказала:
— Чего же вам здесь мучиться, поднялись бы на-гора, там хоть в больнице обмоют, повязку сделают.
Раненый спросил:
— Кто ж, немцы?. Нехай тут меня живым черви съедят.
— Пошли, пошли, — сказал часовой, — нечего здесь, гражданки, агитацию разводить.
— Постой, постой, — сказала Марья Игнатьевна и начала вытаскивать из-за пазухи кусок хлеба. Она дала хлеб раненому. Часовой протянул руку с автоматом и властно-сурово сказал:
— Запрещено. Каждая кроха хлеба, которая в шахте, поступает командиру для дележа. Пошли, пошли, гражданки! Нечего!
И они прошли дальше мимо госпиталя, где стоял уже запах смерти, такой же, как в мертвецкой, в которой они были несколько минут назад.
Отряд расположился в выработанной печи на первом западном штреке восточного уклона шахты. На штреке стояли пулемёты, имелось даже два лёгких ротных миномёта.
Когда депутация свернула на штрек, женщины услышали звуки столь неожиданные для них, что невольно остановились. Со штрека раздавалось пение. Пели негромко, устало, пели какую-то незнакомую им песню, мрачную, невесёлую.
— Это для духовности, заместо обеда, — сказал серьёзно сопровождавший их боец, — второй день командир разучивает с ними; ещё отец, говорит, пел её, когда при царе на каторге был.
Одинокий голос, полный печали, затянул:
Наш враг над тобой не глумился, Вокруг тебя были свои, И мы, все родные, закрыли орлиные очи твои…— Слушайте, бабы, — тихо и серьёзно сказала Нюша Крамаренко, — вы меня пустите наперёд, я лучше вас сумею слезами, криком. А то ведь ребята, видно, такие, что постреляют там немцы детей наших, а они на своём стоять будут.
Старик вдруг повернулся к ним и сдавленным голосом, охваченный бешенством, сказал:
— Что, суки, уговаривать пришли, — так вас самих пострелять надо!
И Марья Игнатьевна шагнула вперёд, отстранила Нюшу и старика и сказала:
— А ну, пустите меня, мой черёд пришёл говорить. Часовой, стоявший на штреке, вскинул автомат.
— Стой, руки вверх!
— Бабы идут! — крикнула Марья Игнатьевна и, пройдя мимо, властно спросила:
— Где командир, показывай.
Из темноты послышался негромкий голос:
— В чём дело?
Бензинка осветила группу красноармейцев, полулежавших на земле. В центре сидел большой, плечистый человек с круглой русой бородой, густо запачканной угольной пылью.
Все сидевшие вокруг него были тоже в угле, с чёрными руками, белки глаз их поблёскивали, и зубы казались белыми, снежно-белыми.
Старик Козлов смотрел на их лица с великим умилением души: это были бойцы, прошумевшие своей железной славой по всему Донбассу. И ему казалось, что он увидит их в кубанках, в красных галифе, с серебряными саблями и с лихими чубами, торчащими из-под папах и фуражек с лакированными козырьками. А на него смотрели рабочие лица, чёрные от рабочей угольной пыли, — такие лица были у его кровных друзей, рабочих — забойщиков, крепильщиков, запальщиков, коногонов. И, глядя на них, старый забойщик понял всем своим сердцем, что страшная горькая судьба, которую они предпочли плену, — это его судьба.
Он сердито оглянулся на Марью Игнатьевну, когда та заговорила.
— Товарищ командир, — сказала она, — мы к вам вроде депутации.
Он встал, высокий, очень широкий и очень худой, и тотчас поднялись за ним красноармейцы. Они были в ватниках, в грязных шапках-ушанках, заросшие бородами. И женщины смотрели на них. То были их братья, братья их мужей, — такими выезжали они из шахты после дневных и ночных упряжек, — в угле, спокойные, Утомлённые, щурясь от света.
— В чём же дело, депутатки? — спросил командир и улыбнулся.
— Дело простое, — ответила Марья Игнатьевна, — собрали немцы баб и детей и сказали: отправляйте женщин в шахту, пусть уговорят бойцов сдаваться; если не сумеете их на-гора поднять, постреляем вас всех тут с детьми.
— Так, — сказал командир и покачал головой. — Что же ты нам скажешь, женщина?
Марья Игнатьевна посмотрела в лицо командиру; она повернулась к двум своим товаркам и спокойно, печально спросила:
— Что же мы скажем, женщины? — И стала вытаскивать из-за пазухи куски хлеба, коржи, варёную свёклу и картофелины в кожуре, сухие корки.
Красноармейцы отвернулись, потупились, стыдясь смотреть на пищу, прекрасную, немыслимую своим видом, своим обаятельным запахом. Они боялись смотреть на неё, — то была жизнь. Один лишь командир смотрел прямо на холодный картофель и хлеб.
— Это не только мой вам ответ. Добро это мне старухи наносили, — сказала Марья Игнатьевна, — еле ведь донесла, всё боялась, как бы немец под кофтой не пощупал. — Она выложила всё это бедное приношение в платок, низко поклонившись, поднесла командиру, сказала:
— Извините.
И он молча поклонился ей. Нюшка Крамаренко тихо сказала:
— Игнатьевна, я как увидела того раненого, как его живым черви едят, услышала его слова, так я обо всём забыла.
А Варвара Зотова оглядела красноармейцев улыбающимися глазами и сказала:
— Выходит, ребята, зря депутация в шахту ездила. И красноармейцы глядели на её молодое лицо.
— А ты оставайся с нами, — сказал один, — выйдешь за меня замуж.
— Ну и что ж, пойду, — сказала Варвара, — а кормить жену будешь?
И все тихо рассмеялись.
Два с лишним часа просидели женщины в шахте. Командир со стариком-забойщиком ушли в дальний угол печи, негромко разговаривали.
Варвара Зотова сидела на земле, подле неё, опершись на локоть, лежал небольшого роста красноармеец. В полутьме она видела бледность его лба, резко выступавшие из-под кожи лицевые кости, желваки на скулах. Он смотрел откровенным, пристальным взором, по-детски полуоткрыв рот, на её лицо и грудь. Бабья нежность заполнила её сердце, она тихонько погладила его по руке, придвинулась к нему. Лицо его искривилось улыбкой, и он хрипло шепнул ей:
— Эх, зря вы нас тут расстроили, — что женщины, что хлеб, всё про солнышко напоминают.
Она вдруг обняла его, поцеловала в губы и заплакала. Все сидевшие серьёзно и молча смотрели, никто не пошутил и не посмеялся. Стало тихо.
— Что же, пора нам ехать, — сказала Игнатьевна и поднялась. — Дед Козлов, Дмигрич, поднимайся, что ли!
Старый забойщик сказал:
— Проводить до ствола — провожу, а с вами на-гора не поеду; делать мне там нечего.
— Что ты, Дмитрич? — сказала Крамаренко. — Ты же тут с голоду умрёшь.
— Ну, и что ж, — сказал он, — я тут со своими людьми умру, в шахте, где всю жизнь проработал. — Сказал он это спокойным и ясным голосом — и все сразу поняли, что уговаривать его не к чему.
Командир вышел вперёд:
— Ну, женщины, не будьте на нас в обиде. Вас же, я думаю, немцы только запугать хотели, чтобы нас на провокацию взять.
— Детям своим о нас расскажите. Пусть они своим детям расскажут: умеют умирать наши люди.
— Эх, письмецо с ними передать, — сказал один красноармеец, — после войны бы переслали привет наш смертный.
— Не нужно писем, — сказал командир, — их, вероятно, обыщут, после того как они поднимутся.
И женщины ушли от них, плача, словно оставляли в шахте мужей и братьев, обречённых злой смерти.
III
Дважды в эту ночь немцы бросали в ствол дымовые шашки. Костицын приказал закрыть все вентиляционные двери, завалить их мелким угольным штыбом. Часовые пробирались к стволу через воздушники, стояли на посту в противогазах.
Во мраке пробрался к Костицыну санитар и доложил, что раненые погибли.
— Не от газу, а, своей смертью, — сказал он, и найдя руку Костицына, передал ему маленький кусок хлеба.
— Не захотел Минеев есть, сказал: сдай обратно командиру, мне уже это без пользы.
Командир молча положил хлеб в свою полевую сумку, где хранился продовольственный запас отряда.
Прошло много часов. Бензиновая лампочка погасла, все лежали в полном мраке. Лишь на несколько мгновений капитан Костицын включил ручной электрический фонарь, — батарея почти вся выгорела, тёмнокрасная ниточка накалилась с трудом, не в силах преодолеть огромность мрака. Костицын разделил продукты, принесённые Игнатьевной, на десять частей. На каждого человека приходилось по картофелине и по куску хлеба весом в шестьдесят — восемьдесят граммов.
— Ну, что, дед, — сказал он забойщику, — не жалеешь, что остался с нами?
— Нет, — отвечал старик, — чего жалеть, у меня тут на сердце спокойно, и душа в чистоте.
— А ты б рассказал что-нибудь, дед, — попросил голос из темноты.
— Правда, дед, послушаем тебя, — поддержал второй голос. — Ты не стесняйся, нас тут человек десять осталось, люди всё рабочие.
— А с каких работ? — спросил старик.
— С разных. Вот товарищ капитан Костицын до войны учителем был.
— Я ботанику преподавал в учительском институте, — сказал капитан и рассмеялся.
— Ну, вот, четверо нас тут — слесаря. Вот я и три друга мои.
— И все четыре Иванами зовёмся. Четыре Ивана.
— Сержант Ладьев наборщиком был в типографии, а санитар наш Гаврилов… он здесь, что ли?
— Здесь, — ответил голос, — кончилась моя санитарная работа.
— Гаврилов — он кладовщиком в инструментальном складе был.
— Ну, и один Федька — парикмахером работал, а Кузин — аппаратчиком был на химическом заводе.
— Вот и всё наше войско.
— Это кто сказал, санитар? — спросил старик.
— Правильно, видишь, ты уж нас привык различать.
— Значит, шахтёров нет среди вас, подземных?
— Мы теперь все подземные, — сказал голос из дальнего угла, — все шахтёры.
— Это кто ж говорит? — спросил старик, — слесарь, что ли?
— Он самый.
И все тихо, лениво засмеялись.
— Да, вот приходится отдыхать.
— Мы и сейчас в бою, — сказал Костицын, — мы в осаждённой крепости. Мы отвлекаем на себя силу противника. И помните, товарищи, что пока хоть один из нас дышит, пока глаза его не закрыты, — он воин нашей армии, он ведёт великий бой.
Слова его были сказаны в темноту, звонким голосом, он почти прокричал их, и никто не видел, как Костицын вытер пот, выступивший на висках от чрезмерного напряжения, понадобившегося ему, чтобы произнести эти громкие слова.
«Да, это учитель, — подумал забойщик, — это настоящий учитель». — И он одобрительно сказал:
— Да, ребята, ваш начальник всей нашей шахтой заведывать бы мог, был бы заведующий настоящий.
Но никто даже не понял, как много похвалы вложил старик в эти слова, никто не знал, что Козлов всю жизнь свою ругал заведующих, говорил, что нет на свете человека, который смог бы заведывать такой знаменитой шахтой, ствол которой он, Козлов, прорубал своими руками.
Во тьме, охваченный доверием и любовью к людям, чью жестокую и страшную судьбу он добровольно разделил, старик сказал:
— Ребята, я эту шахту знаю, как муж жену не знает, как мать сына родного не знает. Я, ребята, в этой шахте проходил сорок лет, всю свою жизнь работал. Только и было у меня перерыву три раза — это в пятом году, за восстание против царя продержали меня в тюрьме четырнадцать месяцев, и потом в одиннадцатом году — ещё на полгода сажали за то, что агитацию против царя вёл, и в шестнадцатом — взяли меня на фронт, и в плен я к немцам попал.
— Вот видишь, — сказал насмешливый голос, — вы, старики, любите хвалиться. Мы на Дону стояли, старик один, казак, всё перед нами выхваливался, кресты царские показывал, насмешки строил. А вот в плен мы живыми не идём, а ты пошёл.
— Видел ты меня в плену?! — Крикнул Козлов. — Видел ты меня там?! Меня раненым взяли, я без памяти был.
— Сержант, сержант, — сказал строго Костицын.
— Виноват, товарищ капитан, я ведь не по злобе, а посмеяться.
— Ладно, чего там, — сказал старик и махнул в темноте рукой в знак прощения, но никто, конечно, не видел, как он это сделал.
— Я из плена три раза бегал, — миролюбиво сказал он. — Первый раз из Вестфалш, работал там на шахте тоже; и вроде работа та же, и вроде шахта как шахта, но не могу, и всё. Чувствую — удавлюсь, а работать там не стану.
— А кормили как? — спросили в один голос несколько человек.
— Ну, кормили! Двести пятьдесят граммов хлеба и суп такой, что на дне тарелки Берлин видать. Ни слезинки жиру. Кипяток.
— Кипяточку сейчас я бы выпил. И снова раздался голос командира:
— Меркулов, помните мой приказ, — об еде не разговаривать.
— Так я ведь о кипяточке, нешто это еда, товарищ капитан, — добродушно и устало ответил Меркулов.
— Да, поработал я там с месяц и в Голландию бежал, через границу перебрался, — говорил Козлов, — шестнадцать суток в Голландии жил и потом на пароход пробрался, — в Норвегию ехать. Только не доехал. Поймал нас немец в море и в Гамбург привёл. Дали мне там крепко, к кресту подвязывали. Два часа висел, фельдшер мне пульс щупал, водой отливал, а потом послал в Эльзас, на руду — тоже подземная работа. Тут уж наша революция подошла, я снова бежал, через всю Германию прошёл. Ну, тут уже мне помогали рабочие ихние. Я по-ихнему разговаривать стал. В деревнях не ночевал, больше старался в рабочих посёлках. Вот так и шёл. А двадцать вёрст оста лось мне итти — снова меня поймали, и в тюрьму. Тут уж я в третий раз бежал. Пробрался в Прибалтийский край, ну, и тифом заболел. Неужели, думаю, не приду на шахту, неужели придётся помереть? Нет, осилил я немца, осилил и тиф. Выздоровел. До двадцать первого года в гражданской войне был, добровольцем пошёл. Я ведь против старого режима очень был злой, ещё парнем молодым афишки разбрасывал, — тогда так листовки мы звали.
— Да ты, старик, неукротимый! — сказал сидевший рядом с Козловым боец.
— О брат, я, знаешь, какой, — с детским бахвальством сказал Козлов, — я человек рабочий, революционный, я ради правды никогда не жалел ничего. Ну, и пришёл я, как демобилизовали меня, в апреле. Это было перед вечером уже. Пришёл. — Он помолчал, переживая давнишнее воспоминание. — Пришёл, да… пришёл. И правду скажу, не в посёлок зашёл, а прямо вышел на здание, ну на копёр посмотреть. Стою, и слёзы льются, — и не пьяный ничуть, а плачу. Ей-богу, вот тебе честное слово. Смотрю на шахту, на глеевую гору и плачу. А народ уже меня узнал, к моей бабе побежали. Кричат: «Козёл твой воскрес, на здание вышел, стоит там и плачет». Так, веришь, мне старуха до последнего часа простить не могла, что я к шахте на свидание раньше, чем к ней, пошёл. Ты — шахтёр, у тебя, говорит, вместо сердца кусок угля.
Он помолчал и сказал:
— Но веришь ли мне, товарищ боец, — ты, я слышу, тоже парень рабочий, — я прямо скажу — вот это мечтание было: на этой шахте жизнь проработать, на этой шахте помереть.
Он обращался к невидимым в темноте слушателям, как к одному человеку. Ему казалось, что это человек, хорошо знакомый ему, давний друг его, рабочий, с которым судьба привела встретиться после постылых дней, сидит рядом с ним в выработанной печи и слушает его с вниманием и любовью.
— Что же, товарищи, — сказал командир, — подходите паёк получать.
— Может, присветить, — сказал шутя кто-то, — как бы два раза не подошёл кто?
И все рассмеялись, — столь немыслимым показалось им совершить такое подлое преступление.
— Давайте, давайте, чего же не подходите, — сказал Костицын.
И из темноты раздались голоса:
— Ну, чего же, подходи ты… деда-забойщика давайте наперёд, подходи, дед, чего ж ты, щупай свою пайку.
И старик оценил эту благородную неторопливость измученных голодом людей. Он много видел в своей жизни, видел он не раз, как голодные бросаются на хлеб.
После дележа еды старик остался сидеть с Костицыным. Костицын тихо говорил ему:
— Вот, товарищ Козлов, спустились мы в шахту двадцать семь человек, — девять осталось. Люди сильно ослабели, хлеба больше нет. Я боялся, что люди друг на друга озлобятся, когда поймут всю тяжесть нашего положения. И была такая минута, верно была — начали попустому ссориться. Но произошёл перелом, и я себе многое в заслугу ставлю, мы тут до вашего прихода разговор один серьёзный имели. Вот так мы живём здесь: чем тяжелей нам, — тем тесней друг к другу жмёмся, чем темней, — тем дружней живём. У меня отец на каторге был в царские времена, ещё в пору студенчества, и мне его рассказы с детства помнятся. Он говорил: «Надежды мало было, а я верил». И меня он так учил: «Нет безнадёжных положений, борись до конца, пока дышишь». И ведь так оно — страшно подумать, как мы этот месяц дрались, какими силами на нас враг шёл, — и вот ничего, не сдались мы этой силе, отбились. Девять нас осталось, глубоко в землю ушли, над нами, может быть, дивизия немцев стоит, а мы не побеждены, будем драться и выйдем отсюда. Не отнять у нас неба, ветра, травы, мы отсюда выйдем.
Старик так же тихо ответил ему:
— А чего из шахты выходить, — тут он, дом. Бывало, заболеешь и в больницу не идёшь, ляжешь в шахте — она вылечит.
— Выйдем, выйдем! — громко, так, чтобы слышали все, сказал Костицын. — Выйдем из этой шахты, мы — непобедимые люди, мы доказали это, товарищи!
Но едва произнёс он эти слова, как тяжёлый, медленный глухой удар потряс свод и почву. Заскрипела, затрещала крепь, глыбы породы повалились наземь, всё, казалось, зашевелилось вокруг, а затем вдруг сомкнулось, сжало повалившихся людей, сдавило им грудь, сперло дыхание. Был миг, когда, казалось, нечем дышать: то густая и мелкая пыль, годами копившаяся на сводах, на крепи, поднялась и заполнила воздух.
Чей-то кашляющий, задыхающийся голос хрипло произнёс:
— Немец ствол взорвал! Могила всем нам…
И тотчас же упрямый, исступлённый голое Костицына перебил:
— Нет, не втопчет он нас в землю, выйдем мы, слышите, подымемся наверх, мы выйдем!
И какое-то святое и злое упорство охватило людей. Кашляя и задыхаясь, словно опьяневшие от мысли, владевшей ими, кричали они:
— Выйдем, товарищ капитан, поднимемся наверх, своей волей поднимемся!
IV
Костицын отрядил двух человек к стволу. Их повёл старик-забойщик. Итти было трудно, во многих местах взрыв вызвал завалы и обрушения кровли.
— За мной, сюда, за ногу меня щупай, — говорил Козлов, и уверенно, легко переползал через груды породы и поваленные стойки крепленья…
Он нашёл часовых на шахтном дворе, — оба они лежали в тёплой, но уже холодевшей крови, и крепко держали в руках раздробленные свои автоматы.
Похоронили погибших, завалили их тела кусками породы. Один из бойцов сказал: «Вот теперь нас три Ивана осталось».
Старик долго лазил по подземному двору, пробрался к стволу, шумел там, разбирал крепь и породу, охал, ужасался силе взрыва.
— Вот окаянство, — бормотал он, — ствол взрывать? Где же это видано? Всё равно, что младенца по спине дубиной ударить.
Он уполз куда-то далеко, затих совсем, и бойцы раза два окликали его.
— Дед, а дед, хозяин, давай назад, капитан ждёт. Но старик молчал, не отзывался.
— Не придавило ли его, — сказал один из бойцов и снова закричал — Дед, забойщик, где ты там, вертайся, слышишь, что ли!
— Эй, где вы? — послышался из штрека голос Костицына.
Он подполз к бойцам, и они рассказали ему о смерти часовых.
— Это Иван Кореньков, что хотел письмо с женщинами передать, — сказал Костицын, и все они помолчали. Потом Костицын спросил:
— Где же старик наш?
— Давно уполз, сейчас покличем его, — сказал боец, а то можно очередь дать из автомата, он услышит.
— Нет, — сказал Костицын, — давайте ждать.
Они сидели тихо, всё поглядывали наверх, в сторону ствола, — не видно ли белого света. Но мрак сплошной и бесконечный.
— Похоронили нас немцы, товарищ капитан, — сказал боец.
— Ну, чего ты, нас нельзя хоронить, — ответил Костицын, — мы уж много их хоронили и ещё столько похороним.
— Хорошо бы, — сказал второй боец.
— Конечно, хорошо, — протяжно подтвердил тот, что говорил о похоронах. И по голосам их Костицын понял, чтоони сомневаются в его вере.
— С тонну взрывчатки заложили, всё переворотили, — проговорил он, поддерживая их недоверие.
Издали послышалось шуршание породы, потом снова затихло.
— Это крысы шуруют, — сказал боец. — Какая нам всё-таки судьба выпала тяжёлая. Я с детства на тяжёлых работах был, и на фронте мне ружьё тяжёлое досталось — бронебойное, и смерть выпала тоже тяжёлая.
— А я ботаником был, — сказал Костицын и рассмеялся. Он всякий раз смеялся, вспоминая, что был ботаником. То прежнее время представлялось ему ослепительным, светлым, — он забыл, какие были у него тяжёлые нелады с заведующим кафедрой, и что один из ассистентов написал на него заявление, забыл, как провалил он при защите свою кандидатскую работу и должен был, мучаясь самолюбием, второй раз защищать. Здесь, в глубине заваленной шахты, прошлое представлялось ему то лабораторным залом с настежь раскрытыми большими окнами, то светлой, полной росы и утреннего солнца лесной поляной, где он руководит коллекторами, собирающими растения для институтских гербариев.
— Нет, то не крысы, то наш дед вертается, — сказал второй боец.
— Где вы здесь? — крикнул издали Козлов.
Они прислушивались к его дыханию; оно было уже слышно за несколько шагов, и в дыхании этом ощутили они нечто тревожное, радостное, заставившей их всех насторожиться и встрепенуться.
— Ну, где вы? Тут, что ли? — нетерпеливо спросил Козлов. — Не зря я с вами остался, ребята, давайте скорее к командиру, ходок открылся.
— Я здесь, — сказал Костицын.
— Ну, товарищ командир, только пополз я к стволу, и сразу учуял, — струя воздушная, по ней пополз — и вот дело: завал наверху задержался, закозлило его, а до первого горизонта по стволу свободно, ну, и трещина там на первый горизонт от сотрясения, с неё и тянет струя. А ведь с первого горизонта квершлаг есть, метров на пятьсот, в балку выходит, я тот квершлаг тоже проходил в десятом году. Пробовал я полезть по скобам, метров двадцать поднялся, а дальше скобы повыбиты, тут уж я своей последней спички не пожалел, посветил — ну, как я вам раньше говорил, так и было. Там скобок с десяток нужно поставить, камень разобрать, которым ствол обмурован, метра два пробить и на выработанный горизонт пройти. Все помолчали.
— Ну вот, — спокойно и медленно сказал Костицын, чувствуя, как сильно бьётся его сердце, — ну вот, я ведь говорил вам, что туг нас не похоронишь.
Один из бойцов вдруг заплакал.
— Неужто, неужто мы опять свет увидим? — сказал он. Второй тихо сказал:
— Как вы, товарищ капитан, знать всё это могли? Я думал, вы так только, чтобы духовность в нас поддержать, про надежду нам говорили.
— Ну, я командиру сразу про первый горизонт сказал, как ещё женщины в шахте были, от меня его надежда, — самоуверенно сказал старик, — он только молчать велел, пока не подтвердится.
— Жить-то хочется, ясно, — сказал боец, который заплакал и теперь стыдился своих слёз.
Костицын поднялся и сказал:
— Я должен посмотреть и убедиться, после этого вызовем сюда людей. А вы, товарищи, здесь ждите; если кто придёт из отряда, им слова не говорите до моего возвращения. Ясно? Бойцы снова остались одни.
— Неужели свет увидим? — сказал один. — Даже страшно делается, как подумаешь.
— Герой, герой, а жить-то хочется, — неодобрительно сказал тот, что плакал и всё ещё стыдился своих слёз.
Вряд ли на земле была когда-либо работа мучительней и трудней той, что делал отряд Костицына. Беспощадная тьма давила на мозг, мучила сердца, голод терзал людей на работе и во время краткого отдыха. Люди лишь теперь, когда появился выход из казавшегося им безнадёжным положения, почувствовали всю страшную тяжесть, давившую на них, измерили муки того ада, в котором находились.
Самая пустая работа, она у здорового, сильного человека при свете дня заняла бы короткий час, растягивалась на долгие сутки. Бывали минуты, когда измождённые люди ложились на землю, и им казалось: нет силы подняться. Но проходило некоторое время, и они вставали и, держась рукой за стену, вновь шли делать своё дело. Некоторые работали молча, медленно, обдуманно, боясь потратиться на лишнее движение; другие лихорадочно, со злым уханием работали короткие минуты, а затем, сразу выдохшись, сидели, безвольно опустив руки, ждали, пока к ним вернётся сила. Так жаждущий терпеливо и упорно ожидает, пока соберётся несколько мутных тёплых капель влаги из пересохшего источника. Те, что вначале особенно радовались и считали, что выход из шахты вот-вот должен произойти, легко теряли веру и надежду. Те, что не верили в скорое спасение, чувствовали себя спокойней и работали ровней. Иногда во мраке раздавались крики отчаяния и бешенства:
— Света давайте… нет силы без света… Как без хлеба работать… Хоть поспать, поспать… Лучше помереть, чем так работать…
Люди жевали ремни, слизывали языком смазку с оружия, пытались на кладбище ловить крыс, но в темноте быстрые и нахальные крысы выскальзывали из самых рук. И люди с гудящими головами, с вечным звоном в ушах, пошатываясь от слабости, вновь брались за работу.
Казалось, Костицын был выкован из железа. Казалось, он одновременно присутствует и там, где три слесаря Ивана рубят и сгибают скобы из толстых железин, и там, где идёт разборка породы, и там, где в стволе шла работа по вколачиванию новых скоб. Казалось, он видел в темноте выраженье лиц бойцов и подходил в нужную минуту к тем, кто терял силы. Иногда он ласково, по-товарищески помогал подняться упавшим, иногда он медленно и негромко произносил: «Я приказываю вам встать, лежать здесь имеют право только мёртвые». Он был безжалостен и жесток, но Костицын знал, что позволь он малейшую слабость, жалость к падающему, — погибнут все.
Однажды боец Кузин лёг на землю и сказал:
— Что хотите мне делайте, товарищ капитан, нет моей силы встать.
— Нет, я вас заставлю встать, — сказал ему Костицын. Кузин, тяжело дыша, с мучительной насмешкой сказал:
— Как же вы меня заставите, может, застрелите? А мне только и хочется, чтобы меня пристрелили, — нет силы муку терпеть.
— Нет, не застрелю, — сказал Костицын, — лежи, пожалуйста, мы тебя на поверхность на руках вытащим. Вот там, при солнце, руки не подам, вслед плюну, — иди на все четыре стороны.
Кузин с проклятьем поднялся и пошёл разбирать породу.
Лишь один раз Костицын потерял самообладание.
К нему подошёл боец и тихо сказал:
— Упал сержант Ладьин, не то помер, не то сомлел, — не откликается.
Костицын хорошо знал простой и ясный характер сержанта, он знал, что в случае смерти или ранения командира Ладьин примет командование и поведёт людей так, как вёл их сам Костицын.
И, подходя в темноте к сержанту, он знал, что тот молча работал и сдал раньше других лишь оттого, что был ещё слаб после недавнего ранения и большой потери крови.
— Ладьин, — позвал он, — сержант Ладьин, — и рукой провёл по влажному лбу лежавшего. Сержант не отзывался. Тогда Костицын наклонился над ним и вылил на голову ему и на грудь воды из своей фляги. Ладьин пошевелился.
— Кто это здесь? — спросил он.
— Я, капитан, — сказал командир, наклоняясь над ним. Ладьин обнял рукой шею Костицына, тыкаясь мокрым лицом в его щеку, шопотом сказал:
— Товарищ Костицын, мне уже не встать. Вы меня пристрелите и мясо моё поделите среди людей. Это спасение будет. — И он поцеловал Костицына холодными губами.
— Молчать! — закричал Костицын.
— Товарищ капитан, не выдержат иначе люди.
— Молчать! — снова крикнул Костицын. — Я приказываю молчать!
Его ужаснула простота этих страшных слов, произнесённых в темноте. Он оставил Ладьина и быстро пошёл туда, где слышался шум работы.
А Ладьин пополз следом, подтягивая за собой тяжёлую железину, останавливаясь каждые несколько метров, набирая силы, и снова полз.
— Вот ещё скоба одна, — сказал он, — передайте тем, что наверху работают.
Всюду, где не ладилась работа, бойцы спрашивали:
— А где дед, хозяин наш? Отец, пойди сюда! Отец, где же ты там? А, хозяин!
И все они и сам Костицыи ясно понимали и знали, что не будь среди них этого старика, им бы никогда не удалось справиться с огромной работой, которую они, наконец, довели до конца. Он легко и свободно двигался в темноте по шахте. Он ощупью разыскивал нужные им материалы. Это он нашёл молот и зубило, это он принёс из дальних продольных три ржавых обушка. Это он посоветовал привязывать ремнями и верёвками тех, кто работал в стволе — вколачивал новые скобы взамен выбитых. Это он первым добрался до верхнего горизонта и разобрал во мраке камни, закрывавшие вход в квершлаг. Казалось, он не испытывал усталости и голода, так легко и быстро передвигался он, поднимался и спускался по стволу. Работа двигалась к концу. Даже самым ослабевшим вдруг прибавилось силы. Даже Кузин и Ладьин почувствовали себя крепче, твёрдо, не шатаясь, встали на ноги, когда сверху закричали:
— Последнюю скобу вбили!
Радостное, пьяное чувство охватило всех. Костицын в последний раз повёл людей в печь, там роздал он автоматы, каждому велел прикрепить к поясу ручные гранаты.
— Товарищи, — сказал он, — пришла минута вернуться снова на землю. Помните: на земле война. Товарищи! Нас спустилось сюда двадцать семь, возвращаются на землю — восемь. Вечная память тем, кто навеки останется здесь.
И он повёл отряд к стволу.
Только пьяный нервный подъём дал людям силу вскарабкаться по шатким скобам, подтягиваться метр за метром вдоль скользкого и мокрого ствола шахты. Больше двух часов занял подъём шести человек. Наконец они поднялись на первый горизонт и ожидали, сидя в низком квершлаге, оставшихся ещё внизу Костицына и Козлова.
Никто не видел в темноте, как случилось это. Казалось, произошло это по жестокой ненужной случайности. Во время подъёма уже в нескольких метрах от квершлага вдруг сорвался вниз старик-забойщик.
— Дед, хозяин, отец! — закричали сразу несколько голосов. Тело старика тяжело и гулко упало на груду породы, лежащей посреди шахтного двора.
— Проклятая, подлая нелепость, — бормотал Костицын, тормоша неподвижное тело. И только сам старик-забойщик, за несколько минут до своей гибели, чувствовал, что с ним творится что-то необычное, страшное.
«Смерть, что ли, пришла?» — думал он.
В ту минуту, когда бойцы, вколотившие последнюю скобу, радостно закричали, когда самые слабые и изнурённые вдруг почувствовали, что могут ещё двигаться, он ощутил, что силы жизни оставляют его. Никогда с ним не было такого. Голова кружилась, красные круги мелькали в глазах. Он поднимался по стволу вверх, уходил из шахты, на которой проработал всю свою жизнь. И с каждым его движением, с каждым новым усилием слабели его руки, холодело сердце. В мозгу мелькнули далёкие, давно забытые картины: чернобородый отец, мягко ступая лаптями, подводит его к шахтному копру… Англичанин-штейгер качает головой, смеясь смотрит на маленького одиннадцатилетнего человека, пришедшего работать в шахту… И снова красным застилает глаза. Что это — вечернее солнце в дыму и пыли донбасского заката, кровь или та красная дерзкая тряпка, которую он выхватил из-под пиджака и, гулко стуча сапогами, понёс впереди огромной толпы оборванных, только что поднявшихся на поверхность шахтёров, прямо на скачущих из-за конторы казаков и конных полицейских?.. Он собрал все силы, хотел крикнуть, позвать на помощь. Но силы не было, слова не шли. Он прижался к холодному скользкому камню лицом, пальцы его цеплялись за скобу. Нежная мокрая плесень касалась его щеки, вода потекла по его лбу, и ему показалось, что мать плачет над ним, обливает слезами лицо его.
— Куда, куда ты уходишь, хозяин?.. — спрашивала вода.
И снова хотел он крикнуть, позвать Костицына и сорвался, упал вниз.
V
Они вышли в балку ночью. Шёл мелкий тёплый дождь. Они сняли шапки и молча сидели на земле. Тёплые капли падали на их головы. Никто из них не говорил. Ночной сумрак казался светлым для их глаз, привыкших к многодневному мраку. Они дышали, глядели на тёмные облака, тихонько гладили ладонями мокрую весеннюю траву, пробивавшуюся среди мёртвых прошлогодних стеблей. Они всматривались в туманный ночной сумрак, вслушивались: то капли дождя падали с неба на землю. Иногда с востока поднимался ветер, и они поворачивали свои лица к ветру. Они смотрели, — пространство было огромно, и каждый видел во мраке перед собой то, чего хотелось, — солнце.
— Автоматы прикройте от дождя, — сказал Костицын.
Вернулся разведчик. Он громко, смело окликнул их.
— Немцев в посёлке нет, — сказал он, — три дня, как ушли; пошли скорей, там нам две старухи котёл картошки варят, соломы настелили, спать ляжем. Сегодня двадцать шестое число; это мы в шахте двенадцать суток просидели. Они говорят: тут за наш упокой тайно всем посёлком молились.
В доме было жарко. Две женщины и старик угощали их кипятком и картошкой.
Вскоре все бойцы уснули, прижавшись друг к другу, лёжа на влажной тёплой соломе. Костицын сидел с автоматом на табуретке, нёс караул.
Он сидел, выпрямившись, подняв голову, и всматривался в рассветный сумрак. День и ночь и ещё день проведут они здесь, а на вторую ночь двинутся в путь. Так решил он. Странный царапающий звук привлёк его внимание. Казалось, мышь скребла. Он прислушался. Нет, то не мышь. Звук доносился откуда-то издали и в то же время был совсем близко, словно кто-то робко и несмело, то, наоборот, настойчиво и упорно ударял маленьким молотом… Может быть, в ушах всё ещё стоит шум от их подземной работы? Ему не хотелось спать. Он вспомнил Козлова.
«У меня стало железное сердце, — подумал он, — теперь я не смогу ни любить никого, ни жалеть».
Старуха, бесшумно ступая босыми ногами, прошла в сени. Начало светать. Солнце прорвалось сквозь облака, осветило край белой печи, капли заблестели на оконном стекле. Негромко тревожно заквохтала в сенях курица. Старуха что-то сказала ей, наклоняясь над лукошком. И опять этот странный звук.
— Что это? — спросил Костицын. — Слышите, бабушка, словно молоточек где-то стучит, или кажется мне?
Старуха негромко ответила из сеней:
— Это здесь в сенях, цыплята вылупляются, носом стучат, яйцо разбивают…
Костицын посмотрел на лежащих. Бойцы спали тихо, не шевелясь, ровно и медленно дыша. Солнце блеснуло в обломке зеркала на столе, и светлое узкое пятно легло на впалый висок Кузина. Костицын вдруг почувствовал, как нежность к этим, всё вынесшим людям, наполнила его всего. Казалось, никогда в жизни не испытывал он такого сильного чувства, такой любви, такой нежности.
Он вглядывался в чёрные, заросшие бородами лица, смотрел на искалеченные чугунно-тяжёлые руки красноармейцев. Слёзы текли по его щекам, он не утирал их.
Величественно и печально выглядит мёртвая донецкая степь. В тумане стоят взорванные надшахтные здания, темнеют высокие глеевые курганы, голубоватый дым горящего колчедана ползёт по чёрным склонам терриконов и, сорванный ветрам, тает без следа, оставляя лишь острый запах сернистого газа. Степной ветер бежит меж разрушенных шахтёрских домиков и над огромными конторами. Скрипят наполовину сорванные двери и ставни, красны ржавые рельсы узкоколеек. Мёртвые паровозы стоят под взорванными эстакадами. Отброшены силой взрыва могучие подъёмные механизмы, вьётся по земле сползший с подъёмного барабана стальной пятисотметровый канат, обнажились отточенные бетонированные раковины всасывающих шахтных вентиляторов, червонной медью блестит обмотка распотрошённых огромных динамомоторов, на каменном полу механических мастерских ржавеют бары тяжёлых врубовых машин. Страшно здесь ночью при свете луны. Нет тишины в этом мёртвом царстве. Ветер свистит в свисающих прядях проводов, колокольцами позванивают клочья кровельного железа, вдруг стрельнёт, распрямляясь, смятый огнём лист жести, с грохотом повалится кирпич, скрипнет дверь шахтёрской башни. Тени и лунные пятна ползают по земле, прыгают по стенам, ходят по грудам железного лома и чёрным обгоревшим стропилам.
Всюду над степью взлетают зелёные и красные мухи, гаснут, исчезают в сером тумане. То немецкие часовые, боясь умерщвлённого ими края угля и железа, постреливают в воздух, отгоняют тени. Огромное пространство тушит слабый треск автоматов, гаснут в холодном небе светящиеся пули, и снова мёртвый, побеждённый Донбасс страшит, ужасает победителя, и снова потрескивают очереди автоматов и летят в небо красные и зелёные искры. Всё говорит здесь о страшном ожесточении: котлы взрывали свою железную грудь, не желая служить немцам, чугун из домен уходил в землю, уголь хоронил себя под огромными пластами породы, а могучая энергия электричества жгла моторы, породившие её. И при взгляде на мёртвый Донбасс сердце наполняется не только горем, но и великой гордостью. Эта страшная картина разрушения — не смерть. Это свидетельство торжества жизни. Жизнь презирает смерть и побеждает её.
Жизнь истребительного полка
Мне случилось посетить истребительный противотанковый артиллерийский полк. На вооружении полка находятся модернизованные скорострельные пушки, способные делать двадцать пять выстрелов в минуту, подвижность полка обеспечивают могучие трёхосные машины, развивающие скорость до ста километров в час.
Вот уже мало кто помнит имена тех людей, которые в трагические душные дни начала июля 1941 года первыми подняли над головой фляги и бутылки, наполненные бензином, и метнули их в надвигавшиеся немецкие танки — имя политрука Шнейдермана, имена капитанов Тертышного и Коврижко. То был великий почин, подхваченный сотнями и тысячами людей. Фляга, наполненная бензином, — вот чем начала наша пехота борьбу с германскими танками. Стремителен был прогресс этого дела, рос и богател арсенал противотанковой борьбы; огромные поля засевались не пшеницей и житом, а противотанковыми минами, на помощь связке гранат пришли специальная противотанковая граната и наше великолепное противотанковое ружьё. Противотанковым пушкам, действовавшим повзводно и побатарейно, приданным батальонам и полкам, пришли в помощь могучие огнём, летучие истребительные артиллерийские полки.
Надо думать, что этот рост дела истребления германских танков был прогрессом в самом широком, самом гуманном и благородном смысле этого слова. Ибо не было у нашего народа, да и у всех народов мира врага опасней, чем эти танковые колонны. И не было за всю историю войны у сражающегося народа дела благородней, чем истребление стальной гусеничной саранчи, расползшейся по Европе, пожирающей и вытаптывающей, жгущей и разрушающей всё, что создавалось веками тяжёлого народного труда, творчеством мысли и сердца.
Гуманизм, любовь к ближнему, прогресс в каждую эпоху имеют своих лучших представителей в разных слоях общества и в разных областях человеческой деятельности. В наше грозное время носителями прогресса, выразителями гуманизма являются те, кто уничтожают фашистские бронированные полчища.
Одиннадцать месяцев тому назад вновь сформированный полк занял оборону в районе Фроловка — Гремячье. В этот майский день 1942 года батареи полка впервые открыли огонь по противнику. Четырёхорудийные батареи, стоя на открытых позициях, стреляли по немецким танкам и пехоте, идущей следом за танками. Жесток и мощен был огонь великолепных скорострельных пушек — лёгких, низко посаженных, словно распластавшихся своими стальными телами по земле. Ослепительно сверкали под майским солнцем в руках подносчиков медные гильзы, стальные головки бронебойных снарядов и осколочно-фугасных гранат.
Но не менее жесток и мощен был натиск противника. Здесь, на этом направлении, рассчитывал он с ходу прорваться, здесь собрал он тяжёлый бронированный кулак и ударял сплеча этим кулаком по нашей обороне. И дорогой ценой заплатил полк за первый опыт боёв, которые решила вести летучая артиллерия, идя на сближение с пехотой и танками противника. Бомбёжка с воздуха, миномётный и артиллерийский огонь, огонь станковых и ручных пулемётов, огонь автоматов — всё принял на себя истребительный полк, открытой грудью встретивший немецкое наступление. Бывали минуты, когда немецкие танки находились в нескольких десятках метров от пушек, бывали минуты, когда чудом казалась быстрая работа расчётов и движение людей под плотной струёй стали, которую немцы направляли на орудия. В первые же часы боя связь была сорвана, и командование полка ушло на батареи. Командир полка, подполковник Хмара, сам прямой наводкой расстреливал противника. Вместе с ним находились на батареях комиссар полка Стеценко, заместитель командира майор Луканин, помощник начальника Штаба Захаров. Они действовали не по уставу: командованию полка не полагается стрелять из пушек. Но таково было ожесточение этого боя, так тяжёл и страшен был натиск противника, что другого решения командование не нашло в своём первом бою.
Много дней длился бой с наступавшими немецкими танками. Лязг гусениц и вой моторов с утра до ночи стоял в ушах орудийных расчётов. Четверо суток вёл полк бой с немецкими танками в районе станции Касторная. Немцам казалось, что полк смят, уничтожен, но куда бы ни двигались их танки, снова и снова встречал их огонь истребительного полка. Он двигался быстрее их, он встречал их на путях тайного ночного сосредоточения, в степных оврагах, на лесных просеках, в высокой степной траве. Он был таким же, как в первый день боя — быстрым, бесстрашным, смертельно опасным, разящим броню, разворачивающим башни и брюхо тяжёлых машин.
Великий ущерб причинил немцам полк, бивший прямой наводкой. То, что до недавних времён было исключением, короткой минутой в боевой жизни артиллерии, то стало будничным делом, каждодневным правилом, главным законом артиллерийского полка. Стрельба прямой наводкой! Да, много беды причинил немцам полк, но в этих боях он и сам истёк кровью. Дорогой ценой заплатил он за опыт этих первых боёв. Погибли командир, основатель полка, полковник Хмара, заместитель командира, майор Луканин, помощник начальника штаба Захаров, командир батареи Вайсман, комиссар батареи политрук Носонов, ранен был военком Стещенко.
А через шесть дней полк, пополнив потери, снова дрался с немецкими танками и пехотой в предместьях Воронежа. И был он богат новым опытом, опытом, которого никто не дал ему, опытом, купленным драгоценной кровью.
Истребительный противотанковый полк. Буревестник Великой Отечественной войны — он появляется там, где противник собирает бронированный кулак для прорыва нашей обороны. В период наступлений летучий полк там, где главное направление нашего удара, он идёт вместе с пехотой, рвущей оборонительные рубежи противника, он вместе с танковым корпусом развития успеха входит в прорыв и участвует в тяжёлых и смелых рейдах по глубоким тылам врага. И великая растерянность охватывает тыловых немцев, когда при ночной тревоге, в сотне километров от фронта, слышат они не треск партизанского автомата, не взрыв ручной гранаты, а победный грохот советской артиллерии.
Стремительность передвижения один из главных принципов в жизни истребительного полка. «Нынче здесь, а завтра там», усмехаясь, говорят командиры. Весь этот год, с мая по май, прошёл для полка в боях и в движении. В памяти командиров и расчётов запечатлелись ночные марши под зелёной степной луной, быстрое движение среди высоких деревьев, когда звёзды и тёмные ночные листья дубов мелькали мимо глаз в сумасшедшем хороводе, горячая донская пыль, чёрная воронежская и рыжая сталинградская грязь, летние ливни и осенние дожди, жестокие степные метели, глубокие снега.
В этом стремительном движении находящегося на марше полка имеются свои строгие законы — им подчиняются и люди, и пушки. Никогда не нарушается полукилометровая дистанция между батареями, пятидесятиметровая между орудиями одной батареи. Полк всегда спешит, и нет силы, которая могла бы остановить его, заставить смешаться. Однажды четыре «Мессершмитта» настигли полк на марше, они стремительно снизились, ожидая, что водители остановят машины и расчёты разбегутся по полю.
Но ни одна машина не остановилась, напористо и равномерно мчался полк по дороге. Три раза, оглушительно воя моторами, запустив пронзительные свистульки, стреляя из всех пушек и пулемётов, прошли «мессеры» над полком. Ни одна пушка не выбыла из строя, ни одна машина не остановилась.
«Да разве можно останавливаться? — сказал мне командир полка майор Серенко, — ведь в движущуюся пушку „мессеру“ трудней попасть, чем в стоящую. В канаву с собой пушку не потянешь, а, оставив такую красавицу-пушку, самому бежать в канаву у нас никто не согласится».
Майор Серенко — третий командир полка. После смерти подполковника Хмары командование принял подполковник Гончаров. С ним полк участвовал 19 ноября 1942 года в прорыве линии обороны противника северо-западнее Сталинграда. Вместе со стрелковым гвардейским полком майора Зорькина полк вошёл в прорыв и, не оглядываясь, оставляя в тылу у себя целые полки румын, углубился в первый же день на тридцать километров во вражескую оборону. Гром его пушек, раздававшийся в тылу фашистской армии, вызывал страх и панику среди румынских, солдат. «Раз в тылу бушует русская артиллерия, значит вся русская армия прошла мимо нас», — думали румыны.
Полк шёл всё вперёд, участвовал в занятии Перелазовского, Чернышевского, Морозовской. Иногда движение его было так стремительно, что он вырывался на много вперёд, опережая боевое охранение пехоты. Однажды в туманное декабрьское утро батарея Худякова сблизилась с противником на двести метров. Наша гвардейская пехота осталась позади. Прямо перед пушкой сержанта Филина оказался станковый немецкий пулемёт. Немцы вначале опешили, увидев перед собой советскую пушку, а затем открыли по ней огонь, огонь, который не давал поднять голову, шевельнуть рукой. Но Филин всё же поднял голову — вторым выстрелом он попал прямо в пулемёт. Вся батарея видела, как взлетевшие высоко вверх части разбитого пулемёта известили о конце этого необычайного единоборства. В это же утро батарея Худякова, весёлого худенького ленинградца, уничтожила два немецких танка.
Месяц воевал полк, поддерживая гвардейскую пехоту. За этот месяц крепкая дружба установилась между командирами обоих полков. Случайно перед посещением истребительного полка я был в гвардейской части, в которую входил полк Зорькина. Несколько сот километров отделяет эту часть от артиллеристов-истребителей. И когда я сказал Худякову, что видел на-днях Зорькина, он так всполошился и разволновался, словно я сказал ему, что встретил его старшего брата или отца. Он мне задал о Зорькине множество вопросов: попрежнему ли он спокойный, рассудительный, здоров ли, как ему воюется, вспоминал ли он об артиллеристах-истребителях? И подконец с горечью сказал:
— Вот встречаться с немецкими танками нос к носу и бить их нахально с открытой позиции мы все привыкли и не считаем трудностью это дело; а узнаешь человека, которого поддерживаешь в бою, полюбишь его от души, а тут тебе приказ — перебрасывают за триста километров, — и как в воду. Скажут тебе спасибо, и всё, а в сердце заноза на всю жизнь, к этому вот не привыкнешь.
Командиру полка Владимиру Михайловичу Серенко двадцать девять лет. Он принял командование в тот момент, когда подполковник Гончаров, его предшественник, выезжал на совещание к командующему Тацинским гвардейским танковым корпусом генералу Боданову. Предстоял смелый и опасный рейд танков. Не заходя в хату, где находился штаб полка, Серенко пересел в машину Гончарова и поехал к генералу. Эта стремительность была в стиле полка. Наутро Гончаров простился с выстроившимся полком — он получил назначение командиром бригады, — представил нового командира. В последнюю минуту оглядел он лица командиров, красноармейцев, вспомнил то, чего уж никогда ему не забыть, хотел сказать что-то, но только махнул рукой и полез в машину. Серенко на следующий день должен был повести артиллеристов-истребителей в самую опасную и ответственную операцию из всех тех, в которых пришлось участвовать полку со дня его основания.
Танки, минуя грейдеры и просёлки, шли по снежной целине. Толщина снега была тридцать — сорок сантиметров, истребительный полк шёл непосредственно за танками. День и ночь выл злой ветер. В первые же часы на колонну налетела немецкая авиация. Серенко приказал покрыть машины и пушки белым шёлком трофейных парашютов, и весь полк вдруг стал невидим, немецкие самолёты так и не смогли отыскать его. В этот же день полк отбивал контратаки немецких танков, они появлялась из лощин и из-за холмов группами по три — пять штук, но каждый раз встречал их точный и злой огонь истребительных пушек. Отбивая контратаки танков и пехоты, маскируясь от авиации, колонна продолжала двигаться вперёд. Ночь провели в степи, укрывшись плащ-палатками. Утром снова двинулись вперёд по снежной целине.
По многу раз на день колонну атаковали немецкие танки, завязывался бой. Во время боя, среди снежной степи заседала парткомиссия — в партию приняли командира батареи Худякова и командира взвода Василенко. В тот час, когда Худякова принимали в партию, онуничтожил огнём своей батареи немецкий танк и две пушки. Командир взвода Василенко после того, как его приняли в партию, сказал:
— Вот, товарищи, — приду домой коммунистом, ведь я здешнего района, совсем близко мы к дому моему подошли, завтра-послезавтра там будем.
Смеясь, он добавил:
— Шутили надо мной, что я, мол, папаша, что мне ногами не дойти до дому, а вот нет.
И эти обычные, малозначительные слова все теперь помнят в полку: Василенко был убит через два часа после того, как произнёс их. Так он и не дошёл до своего дома, похоронили его среди снежной степи. А полк артиллеристов-истребителей всё шёл и шёл вперёд.
Тяжёлый это был рейд. Немцы ударили крупными силами по тылам колонны, окружили её и пытались уничтожить. В течение недели немецкие танки группами по 15–17 штук атаковали колонну советских войск, стоявшую между снежными холмами. На вершинах этих холмов заняли позиции пушки истребительного полка. Ветер выл в ушах красноармейцев, снег слепил глаза. Двадцать раз атаковали их немецкие танки, и двадцать раз истребители отбивали их атаки. Люди устали настолько, что во время боя спали на снегу, и орудийный грохот не мог их разбудить. Через неделю колонна снова пошла вперёд, всё глубже заходя немцам в тыл.
Об этом походе в памяти артиллеристов-истребителей сохранились картины суровых зимних снегов, горящие немецкие танки, припорошенные снегом трупы в голубовато-серых шинелях; в сердце навеки осталось чувство дружбы к усатому полковнику Савченко, командовавшему колонной танков, спокойному и насмешливо рассудительному, к танкистам с перепачканными маслом и копотью лицами — рабочим горячего цеха войны.
И снова полк на стремительном марше. Днём и ночью стоит в ушах шум автомобильных моторов, а расчёты мягко покачиваются, сидя на орудиях.
Я застал полк в обороне в одной из излучин Северного Донца. Пушки стоят на открытых позициях. По ту сторону реки немцы. Пушки находятся в досягаемости пулемётного и ружейного огня, но противник не стреляет — он не видит их. Недаром прошёл год, не забыта большая кровь первого боя. Истребители изумительно маскируют орудия перед самым носом у противника. Песок, земля, покрытые кочками и маленькими жёлтыми листочками ветви прибрежных деревьев — кажется здесь не спрячешь и зайца. А истребители ухитрились сделать невидимыми свои пушки. Распластавшись, прижавшись к песчаной почве, они кажутся притаившимися хищниками, готовыми каждый миг вдруг прянуть на врага всей мощью своей стальной мускулатуры. Красноармейцы ведут занятия. И в этих занятиях отразился опыт боёв. Происходит сдача норм на звание ефрейторских расчётов: каждый номер такого ефрейторского расчёта, вне зависимости от того, кто он — замковый ли, заряжающий, установщик, подносчик ли, должен владеть высшей квалификацией артиллериста — быть наводчиком. Такому расчёту не страшно, если во время боя порвётся связь, если выбудет командир орудия или наводчик. Их заменит любой из номеров. Теперь уж не понадобится командиру полка самому вести огонь, как было это в день первого боя. Ну, а если понадобится, к орудию станет майор Серенко так, как одиннадцать месяцев тому назад сделал это подполковник Хмара.
Я гляжу на красноармейцев, на их лица, тёмные от загара, от ветра, от снега, морозов. Мне казалось, что исгребители-артиллеристы должны быть молоды, как истребители-лётчики. Но оказалось не так. Почти всё наводчики люди зрелых возрастов — Воинов, Мигулов, Кутляков. А командир орудия Павел Артемьевич Комаров даже участвовал в войне 1914 года, ему все сорок пять лет. Эта человеческая, внутренняя сила, эта глубокая решимость драться до конца с немецкими танками, не отступив ни на шаг, словно связана с возрастом зрелости.
На переднем крае затишье. Блестит под солнцем Северный Донец. Поют жаворонки. На склоне холма пашут женщины, понукают запряжённых в плуг коров. Бабочка села на дуло орудия, сложила крылышки и застыла. Ей, вероятно, приятно тепло нагретого весенним солнцем металла. Красноармейцы, улыбаясь, смотрят на неё. Какая тишина! И какое напряжение, какая гроза в этой тишине. Ведь каждый час, каждый миг может грянуть решающая битва. И в тот час, в тот миг, когда грянет она, вдруг поднимутся буревестники Великой войны — артиллеристы и истребители танков.
Юго-Западной фронт.
Апрель.
Июль 1943 года
1
Так же, как летом 1942 года, немецко-фашистские войска 5 июля 1943 года вновь перешли в наступление против Красной Армии.
И снова над созревшими полями пшеницы и ржи, над простором лугов, скромной красотой своей затмевающих все цветники и роскошные оранжереи земли, над красным репьём, над иван-да-марьей, над жёлтым львиным зевом и донником, над яркой дикой гвоздикой, над сладостно цветущими по деревенским околицам липами, над речками и прудами, заросшими тиной и жирным ярким камышом, над красными кирпичными домиками орловских деревень, над мазаными хатами курских и белгородских сёл поднялась в воздух пыль войны.
И снова крик птиц, шум кузнечиков, гудение оводов и шершней стали неслышимы в пронзительном и ноющем многоголосом рёве авиационных моторов. И снова звёзды и месяц ушли с ночного неба, погашенные и изгнанные наглым светом бесчисленных ракет и фонарей, повешенных немцами вдоль линии фронта.
Двести пятьдесят часов шла битва на Орловско-Курском и Белгородском направлениях, битва, в которую немцы бросили почти два десятка линейных и эсэсовских танковых дивизий, десятки пехотных дивизий, десятки полков бомбардировочной и истребительной авиации, большие массы артиллерии.
Вечером 4 июля в немецких частях зачитывался приказ Гитлера, извещавшего фашистские войска о начале боевых действий. Как всегда высокопарным тоном фюрер говорил о решающей битве, которая должна решить судьбу войны.
Ночью сапёрные батальоны разминировали минные поля, резали проволоку, расчищая путь для танков, самоходной артиллерии и пехотных полков, Которые должны были перейти в решающее наступление.
План немецкого командования был очевиден. Его расшифровку подсказывает сама конфигурация фронта. Удар, нанесённый с двух сторон у основания Курского выступа, должен был привести к тому, что движущиеся от Белгорода на север, а от Орла на юг германские войска, соединившись, охватят в кольцо части Красной Армии, расположенные в Курском выступе.
Надо думать, что, достигнув успеха, немцы продолжали бы наступление уже в глубь страны, возможно, что на Москву или в обход Москвы, — так же, как после успешной для них прошлогодней операции на Изюм-Барвенковском направлении они тотчас же начали Широкое наступление на Кавказ и на Сталинград.
Народ и армия никогда не забудут первого немецкого наступления летом 1941 года. На протяжении трёх тысяч километров, от моря до моря, шли полчища фашистов по советской земле.
Наступление летом 1942 года противник; предпринял на меньшем протяжении, — то было наступление на юг. Инерция наступательного движения немцев была преодолена лишь после того, как они прошли многие сотни километров, захватили широкие пространства Дона, Кубани, приволжских прикаспийских степей, вышли к Волге и горам Кавказа. И вот началось оно, третье немецкое наступление! Казалось, всё обещало ему успех. Район наступления на Белгородском и Курском направлениях был строго ограничен. За сорок — пятьдесят минут можно объехать на автомобиле участок фронта, где немцы собрали семьдесят пять процентов танковых дивизий, имеющихся у них на всём советско-германском фронте. Каких только пышных названий танковых дивизий из знаменитого корпуса СС ни встретишь здесь: «Адольф Гитлер», «Великая Германия», «Тотенкопф», «Райх», «Викинг». С конца марта и начала апреля бесконечные эшелоны и автомобильные колонны везли к месту, где немцы предполагали захлопнуть в огромный железный капкан наши войска, тысячи и десятки тысяч тонн снарядов. Ко времени наступления они собрали по пять — восемь боекомплектов на дивизию, и это составляло в общем своём весе многозначную цифру, которую мог бы принять во внимание и геолог. На сорокакнлометровом фронте прорыва на Курском направлении противник сконцентрировал около тысячи артиллерийских орудий. И вот оно началось, третье немецкое наступление.
Мне пришлось побывать в частях, принявших на себя главный удар противника на Курском и иа Белгородском направлениях: в стрелковом полку, которым командует подполковник Шеверножук, полку, встретившем удар немецкой армады возле одной железнодорожной станции (Поныри) между Орлом и Курском, станции, хорошо известной в мирные времена своими яблоками, и на Белгородском направлении в истребительном артиллерийском полку, входящем в часть подполковника Чевола. Эти два подполковника, вряд ли знающие о существовании друг друга, в один день и в один час встретили немецкие танки и самоходную артиллерию, стремительно ринувшиеся с севера и с юга, с задачей встретиться в Курске. Так ведь и говорилось немецким солдатам перед началом наступления: «Сейчас вы получаете продукты на пять дней, следующая выдача будет в Курске». Подполковник Евтихий Шеверножук — грузный человек, огромного роста, с медленными, спокойными движениями, с медленным, спокойным голосом. Он движется медленно, улыбается медленно, хмурится медленно. Но иногда его огромное тело легко и быстро поворачивается, и голос звучит отрывисто, властно, сурово. Он человек, богатый великим опытом войны, испытавший всю горечь отступления 1941 года, знающий силу наших наступательных ударов, человек, знающий свою собственную силу, глубоко, и спокойно уверенный в ней и потому не любящий зря и без нужды показывать её людям. Часть, в которую входит полк Шеверножука, за пять дней выдержала тридцать две ожесточённых танковых атаки, в этих атаках участвовало восемьсот германских танков, и вместе с танками шла в атаку штурмовая пехотная дивизия «Огня и меча». Десять тысяч семьсот человек и двести двадцать один танк потеряли немцы во время этих атак.
Немцы предполагали нанести ошеломляющий удар, но сами были ошеломлены тем сопротивлением, которое встретили. «Это не война, — растерянно говорили пленные немецкие танкисты, — это не война: мы утюжили русские окопы гусеницами тяжёлых машин и сами видели, как из засыпанных траншей, из самой земли поднимались чёрные от пыли красноармейцы и тут же, едва мы успевали отойти на метр-два, били по нашим машинам бутылками и гранатами… Это не война, это нечто большее».
Я был в полку в тот день, когда его отвели на пять километров от станции, где вёл он беспрерывный стодвадцатипятичасовой бой. Мы лежали в овраге, прислушиваясь к выстрелам наших пушек и разрывам немецких снарядов. Капли недавно прошедшего проливного дождя блестели на широких листьях лопухов и в венчиках цветов, повёрнутых к вышедшему из туч солнцу. Когда раздавался особенно сильный разрыв, листва вздрагивала и тысячи капель вспыхивали на солнце. Десятки людей спали, лёжа на мокрой земле, укрывшись шинелями. Ливень наплескал воды в складки шинельного сукна, но люди спали сладостно и глубоко, глухие к грохоту битвы, к шуму уходящей летней грозы, к свету горячего солнца, к ветру, к гудению тягачей. Мне думается, что в эти часы не было на всей земле людей, гак свято достойных отдыха, чем эти спавшие среди луждождевой воды красноармейцы. Для них овраг, где земля и листья содрогались от выстрелов и разрывов, был глубочайшим тылом, таким, как Свердловск или Алма-Ата. Для них небо в искрах и белых облачках зенитных разрывов, небо, по которому с воем развернулись и перешли в пике двадцать шесть немецких пикировщиков, обрушившихся на железнодорожную станцию, было мирным летним небом. Ведь несколько часов назад этот дым бомбовых разрывов, этот земной прах, взметнувшийся вверх и, подобно струям чёрной воды, хлынувший вниз, окружал их днём и ночью; они задыхались в пыли, она слепила их, забивалась в ноздри, едкий дым проникал в глотку и лёгкие, и они среди визга разрываемого металла всматривались в идущие на них немецкие танки. И яркое летнее солнце над их головой казалось печальным, траурным, серым в высоком чёрном облаке, стоящем над цветущим миллионами цветов полем смерти. Их плечи, руки и пальцы болели от стрельбы, их спины ныли от тяжести снарядов и мин, которые подтаскивали они сто часов к огневым позициям, их уши перестали воспринимать звуковые волны, заполнявшие бушующее воздушное море. Вот они лежат и спят на Мокрой траве, среди цветов и мягких, шерстистых листьев лопуха. Шеверножук и его заместитель подполковник Баргер лежат на склоне оврага и рассказывают опрошедших боях, рассказывают вполголоса, словно боясь разбудить спящих.
К нам подходит плечистый светлолицый сержант. Щёки его розовы, глаза смеются, маленькие светлые усики закручены полукольцом под самые ноздри. Он обращается к начальству с чеканной лёгкостью старого солдата, и все невольно улыбаются, глядя, как он улыбается.
— Товарищ подполковник, прибыл с командой автоматчиков, по вашему вызову.
— А, очень хорошо, — сказал Шеверножук, — тут приехала концертная бригада, она устраивает в честь нашего полка концерт. Будете присутствовать.
Сержант с одновременно почтительным и смеющимся лицом говорит:
— Товарищ подполковник, концерт это как бы отдых, лучше разрешите автоматчикам поспать, это ведь тоже отдых. — И он со сдержанным лукавством смотрит на подполковника.
— Давайте, спите, — говорит подполковник. Сержант умудряется, стоя в высокой траве, щёлкнуть каблуками и уходит.
Рассказы командира полка и его заместителя по политической части отлично дополняют друг друга, помогают понять внутренние силы, определившие славный исход необычайно жестоких, кровопролитных боёв, по напряжению и по масштабу своему равных величайшим битвам человечества.
Полк по составу своему отражает многонациональный состав нашего государства. Большинство красноармейцев — это русские рабочие и крестьяне, жители Курской, Орловской и Московской областей, часть же бойцов — узбеки, казахи, татары. Все они, спаянные трудовой дружбой и кровным братством войны, выступили в этих боях как единое, нерушимое и могучее целое. Ни один человек во всём полку во время страшных испытаний не проявил растерянности и слабости. Рядом стоят имена Пургина, Абдухаирова, Андрющенко, Стукачёва, знаменитого в полку казаха Сати Балдеева, дравшегося со своим ручным пулемётом против ста фашистов и победившего в этом неравном бою. Ещё в период затишья командование провело большую и кропотливую работу, обдуманно проводило подбор людей для перевода боевой команды, подаваемой по-русски, на национальные языки, с величайшим уважением и вниманием относилось к нуждам красноармейцев нерусской национальности, свято блюло великий и гордый принцип национального равенства. Эта работа принесла свои плоды.
Великую службу сослужили красноармейцам напряжённые учебные занятия в период затишья, многократные обкатывания танками. Многие из них участвовали в войне с самых первых дней, стали квалифицированными рабочими и мастерами горячего и тяжкого цеха войны. Хладнокровие красноармейцев в этих боях многообразно и богато. Маленьким примером может послужить такая деталь, подмеченная командиром полка. Когда в краткий миг затишья по ходу сообщения в окопы принесли обед, противник внезапно открыл ураганный огонь из тяжёлых артиллерийских и миномётных батарей. Подполковник Шеверножук увидел, как его красноармейцы, прервав обед, спокойно сидят в окопах среди чёрного вихря поднятой взрывами земли, под пронзительным воем осколков и прикрывают ладонями котелки, чтобы в суп не попала земля.
Как проявили себя командиры стрелковых батальонов, встретившие главный удар противника?
— О, — улыбаясь, сказал мне Шеверножук, — командир теперь зубастый, управления из своих рук не выпускает ни при каких обстоятельствах. Помню, сколько горя было в первые месяцы войны из-за плохой связи. Кто справа, кто слева — сосед ли, противник, ничего не знаешь. В этих боях, а ведь таких напряжённых боёв полк не вёл ни разу, в дыму, в огне, под зверской бомбёжкой, при беспрерывных танковых атаках, ни разу не нарушалась моя связь с батальонами и связь по радио и по телефону между батальонами. И внутри батальонов связь телефоном и через связных такая прочная, словно нервы к мясу приросли, — не вырвешь. А летом сорок первого года связь как паутина была, чуть ветерок подует — рвётся.
Командиры батальонов: капитан Зозулин, принявший на себя главный удар на станции Поныри, и майор Чаялов воюют с первых дней войны, третий командир батальона Лиходед на фронте больше года. Всех трёх командиров батальонов связывает личная дружба, окрепшая за Долгие месяцы совместной работы. Командир полка и командир дивизии были весьма озабочены тем, чтобы между комбатами завязывалась дружба, — они понимали, жестоком бою эта дружба представляет такую же реальную силу, как налаженная связь, как правильное размещение артиллерии и противотанковых ружей.
— В этих боях, — говорит командир полка, — комбаты показали свою полную военную зрелость. Как не похоже на первые дни войны! Ни разу ни один из комбатов не просил помощи сверху. А ведь надо сказать прямо, два года назад завяжись такое, мне через пятнадцать минут десять петиций было бы. А теперь говорят: «Справлюсь сам, только обеспечьте то-то и то-то». И друг о друге помнят, как о самих себе.
— Надо ещё сказать, — говорит подполковник Баргер, — о безукоризненном мужестве командира. «Стоять насмерть» — это обязательный элемент его военной работы. В армии нет больше штатских людей.
Нам пришлось через несколько минут после этой беседы наблюдать маленький эпизод. Выходя из оврага, мы столкнулись с небольшим отрядом красноармейцев. Среди них было несколько темнолицых узбеков, несколько широкоскулых казахов, остальные были русские. Внезапно из-за рощи вынырнуло до десятка немецких пикировщиков в сопровождении «мессеров». Воздух сразу наполнился грохотом разрывов, урчанием крупнокалиберных пулемётов, торопливой пальбой зениток. Командир маленького отряда крикнул: «Огонь!»
И вот, наблюдая за действиями, движениями красноармейцев, за выражением их лиц, я вдруг понял, в чём тайна нашего успеха и почему бронированный кулак, занесённый Гитлером на Курском направлении, бессильно опустился, не пробив нашей обороны. Эта горсть людей, шедших, вероятно, получать ужин, внезапно застигнутых стремительным и злым немецким налётом, с великолепным спокойствием, с неторопливостью умельцев и мастеров, с точным расчётом умных и опытных рабочих военного дела, в течение двух-трёх секунд заняла позиции и открыла огонь из винтовок, автоматов, ручных пулемётов.
Ни тени замешательства. Казалось, выбирай они по полчаса положение для ведения огня, нельзя было бы найти мест удачней, чем те, которые заняли они. Они стреляли со старательным спокойствием рабочих, делающих умную, сложную, но хорошо знакомую им работу, И вся земля вокруг вела такой же умный, старательный огонь. Прошла минута, самолёты, встреченные плотным огнем, рванулись вверх, ушли на север, и красноармейцы, деловито осмотрев оружие, собрались, молча пошли дальше, погромыхивая котелками. За всё время налёта в маленьком отряде было произнесено всего лишь одно слово — команда командира отряда «огонь!». Вот так летом 1943 года наши красноармейцы встретили внезапный штурмовой налёт немецкой авиации.
Народ за два года великих испытаний научился воевать спокойно, талантливо и грозно, так же, как умеет этот великий и талантливый народ работать в поле, в шахте, в научной лаборатории, в горячем цеху.
II
Подполковник Никифор Чевола, в прошлом грозненский рабочий, командир артиллерийской противотанковой бригады, встретил немцев, когда они рвались на Белгородском направлении по шоссе Белгород — Курск, с юга на север. Это было как раз в те часы и дни, когда стрелковый полк Шеверножука отбивал танковые атаки немцев, стремившихся к Курску с севера на юг. Здесь истребительная бригада Чеволы трижды вставала на пути германских танковых колонн, участвовала в огромных сражениях, в сложном взаимодействии пехоты, танков, артиллерии, авиации, в великой битве, шедшей в трёх измерениях, с молниеносно возникающими и исчезающими полюсами напряжения, битве, полной смерти, вражеского вероломства и хитрости, тайных замыслов, ложных движений, внезапной страшной тишины и столь же внезапных коротких и мощных ударов. Три раза пытались немецкие танки обойти бригаду и три раза, разгадывая их замысел, Чевола встречал их внезапным шквальным огнём. Первый раз ударил он в лоб танковойколонне. Второй раз притаилась бригада в шестистах метрах от большака, ведущего к Обоянскому шоссе. Пропустив девять «тигров», шедших углом в походном охранении, могучим фланговым огнём ударили истребители по ста шестидесяти танкам, вперемежку с бронированными транспортёрами, ползущим, подобно железному удаву, по советской земле. В течение пяти минут великолепные модернизованные пушки, делающие по двадцать пять выстрелов в минуту, подожгли, четырнадцать танков. Огромный железный удав в облаке дыма и пыли сполз с дороги и ушёл вправо, скрылся за холмом.
Истребительная бригада, угадывая движение немцев, высылая разведчиков, стремительно метнувшись просёлочными дорогами, в третий раз преградила путь фашистским танкам. Батареи бригады стали на огневые позиции вечером по флангам маленькой деревушки, покинутой жителями. Ночью никто не спал. Мазаные стены хаток светлели под высокой луной. Через два часа в деревню пришла немецкая танковая разведка. Все, от командира бригады до подносчиков снарядов, поняли, что с рассветом начнётся бой.
Этот бой длился три дня и три ночи. Тридцать — сорок бомбардировщиков с рассветом пикировали над огневыми позициями, над окопами пехоты, над нашими танками, действовавшими совместно с истребительной бригадой. Едва уходили бомбардировщики, как появлялись танки — они шли в атаку группами по сорок, восемьдесят, сто сорок штук одновременно. Шли они лавиной, без всякого порядка, и так же лавиной откатывались, оставляя железные трупы. В первый день боя снайпер наводчик Новиков подбил семь танков, из них три «Т-6». Работал Новиков не торопясь; спокойно наведёт, выстрелит, улыбнётся, оботрёт чёрный пот и опять наведёт. При каждом удачном выстреле пехота кричала «ура», бросала вверх пилотки и каски. Но едва откатывались танки, — приходили «Юнкерсы» и «мессеры», рубили землю пулемётными очередями, вспахивали её бомбовыми ударами. Вслед за танками под прикрытием их брони шли батальоны немецких автоматчиков, но наша пехота отгоняла их пулемётным и ружейным огнём. Чёрный дым стоял в воздухе, лица людей были совершенно черны. Все охрипли от крика, потому что только крик можно было слышать в грохоте и лязге. Ели рывками, накоротке, и куски белого свиного сала мгновенно становились чёрными от пыли и дыма. О сне никто не думал в эти раскалённые сто двадцать часов, но если кому-либо удавалось подремать несколько минут, то происходило это обычно днём, когда особенно силен был грохот боя и почва тряслась, как во время землетрясения. Ночью тишина бывала ужасна, нервы напрягались, и сон отлетал, спугнутый тишиной. А днём всё же было спокойней в ставшем привычным столпотворении.
В последний день батареи истребительной бригады остались одни на поле боя — пехота отошла, танки почти все вышли из строя.
Подполковник Чевола держал связь с командованием ло радио. Его пушки были в полуокружении. Немцы заполнили эфир таким же воем, каким был заполнен воздух. Они забивали работу наших станций. Настраиваясь на волну Чеволы, чей-то вкрадчивый голос говорил: «Я Некрасов… Я Некрасов…» И Чевола с налитыми кровью глазами кричал в эфир: «Брешешь, пошёл вон отсюда, не верю!»
Чевола теперь ясно понял, разгадал до конца, чего хотели немцы. Они стремились пробиться сквозь заслон и «ударить под корень» нашему большому стрелковому соединению. Это вещало беду десяткам тысяч людей, это ставило под угрозу оборону на большом участке фронта. Генерал, командир стрелкового соединения, сказал по радио Чеволе: «В ближайшие часы помочь не могу, отходи».
Старший начальник, фланг которого прикрывала бригада, позволил Чеволе отойти. Но командир бригады, ясно представляя последствия своего отхода, отвечал: «Приказания не выполняю, остаёмся умирать».
Артиллеристы понимали, что сулит им наступающий день.
— Мы одни остались, — говорили они.
С рассветом пошли немецкие танки, одновременно пришла авиация и зажгла деревню. Под прикрытием дыма и пламени немецкая пехота рванулась в атаку.
Трофим Тесленко, наводчик первого орудия первой батареи первого полка бригады, сказал мне:
— Танк для истребителя не страшен, вот автоматчики, пехота мешают работать, пушки за ствол хватают.
Это слово «работа» я слышал от людей бригады так же часто, как слышал его в мирные времена на донбассовских заводах и шахтах. Война для нашего народа стала работой, тяжёлой, страшной и грозной работой, работой, которой народ овладел во всю глубину и ширь своего таланта, огромной силы, разума, смётки. «Я работаю наводчиком», «я работаю замковым», «я работаю заряжающим», — говорят красноармейцы, так же как говорили: «я работаю забойщиком», «я плотничаю».
Командир батареи Кецельман был ранен, умирал в луже чёрной крови, первое орудие было разбито, прямым попаданием снаряда оторвало руку и голову установщику сержанту Смирнову, старший ефрейтор Мелёхин — командир орудия, весёлый, подвижной, виртуоз истребительной работы, в которой доля секунды решает исход дуэли, лежал тяжело контуженный, тёмным и мутным взором смотрел на орудие — оно тоже напоминало оборванного, пострадавшего человека, клочья резины свисали с колёс, распоротых осколками. Наводчик Тесленко и замковый Калабин были легко ранены, но оставались в строю. Целым был лишь подносчик Давыдов. А немцы подошли уже совсем близко, «хватались за стволы», как говорят артиллеристы.
Тогда принял команду над батареей командир соседнего орудия, Михаил Васильев, в прошлом кронштадтский моряк. Вот слова, которые он произнёс: «Ребята, помереть в нашем деле не грех, помирают не такие головы, как наши». И он приказал открыть огонь по немецкой пехоте осколочными снарядами.
Когда же не стало осколочных, по немцам-автоматчикам били в упор бронебойными. Это было страшно.
Так шла эта битва, пока не подоспели на помощь новые истребительные части, наша пехота и танки. В полку остался один виллис, и он вывез все пушки, а один расчёт на руках тащил своё орудие шесть километров, расчёт, в котором не было ни одного нераненого красноармейца. Когда бригада, сменившись, шла на отдых, генерал, командовавший стрелковым соединением, выехал ей навстречу и, стоя в пыли фронтовой дороги, склоняя голову, пожимал руки проходившим мимо него истребителям.
III
Немцы не прошли на Белгородском направлении. Немцы не прошли на Курско-Орловском направлении. Наступление, которое готовилось в течение четырёх месяцев, наступление на столь узком участке, что успех его казался немецкому командованию неминуемым, провалилось. Наступление, «обречённое на успех», ибо впервые немцы, собрав огромные силы — восемнадцать танковых дивизий, мощные воздушные эскадры и десятки пехотных дивизий, — не ставили себе целью огромные территориальные захваты и прорывы на сотни километров в глубь страны. Они хотели верным, коротким ударом в углы Курского выступа захлопнуть в капкан наши войска, стоящие в районе Севска, Льгова. Это самое концентрированное из всех летних немецких наступлений провалилось. Провалилось настолько позорно, с такой огромной потерей тысяч танков, самолётов, десятков тысяч людей, что Берлин вынужден был поставить себя в жалкое и смешное положение перед собственными солдатами, офицерами, генералами — участниками и организаторами наступления — и заявить, что наступала Красная Армия, а не немецко-фашистские войска. Существовал взгляд, что в нынешней войне сторона, собравшая силы и наносящая в полевых и степных условиях, при хорошей проходимости дорог, удар, обязательно на первом этапе должна иметь территориальный успех. Казалось, это закон не только стратегии, но и физики, механики. Этот закон опровергла Красная Армия. Немцы не прошли.
Мы пытались рассказать на примерах борьбы на двух полюсах Курского выступа о некоторых особенностях и качествах — тактических, психологических, этических, выкристаллизовавшихся в Красной Армии за два года войны и сыгравших немалую роль в нынешних боях.
Для полноты нужно добавить ещё, что этим летом впервые наша авиация выступила во всей своей мощи и что впервые германская авиация, «артиллерия самого дальнего действия», вынуждена была ограничить свои операции передним краем, то есть стала «артиллерией полевой».
Ещё одной исключительно важной особенностью июльских боёв 1943 года является отсутствие элемента внезапности. В этом нынешнее наступление немцев диаметрально противоположно наступлению, начатому 22 июня 1941 года.
Поистине наслаждение, я не подберу другого слова, доставила мне беседа с подполковником Смысловым, одним из работников нашей разведки, человеком скромным, умным, глубоким, самокритичным и, думается, по-настоящему талантливым. Речь шла не только о войсковой тактической разведке. Смыслов рассказал мне, естественно в пределах дозволенного, о сложнейшей, умнейшей работе, где научное исследование и сопоставление данных, приносимых агентурой, лётчиками, радистами, пленными, изучение захваченных документов и прочее даёт возможность анатомически изучить строение неприятельского фронта, его эпидермис, эпителий, костяк, нервы, даёт возможность проследить движение танковой дивизии из глубины Германии на Восточный фронт и определить место, в котором она притаилась.
Эта огромная, трудоёмкая работа увенчалась раскрытием дня и часа столь злополучного для немцев наступления.
Может возникнуть вопрос: но ведь немцы-то ведь тоже знали, что мы готовы встретить их удар, почему же наносили они его как раз там, где мы ожидали его? Случайно ли это? Heт. Немцы, очевидно, многое знали, и всё-таки пошли туда, где их ждали. Они не могли не пойти. Огромные боевые грузы, свезённые ими на определённые участки фронта, геологической тяжестью своей навалились на свободу выбора, свободу действий германской ставки, превратились из элементов, осуществляющих волю германского командования, в элементы, давящие, связывающие эту волю. Немецкое командование в 1943 году не в силах быстро и внезапно подготавливать удары, его свобода ограничена, связана сотнями и тысячами условий, преодолеть которые германское командование не в состоянии. Разъярённому быку, видящему обнажённый меч, но уже не имеющему ни сил, ни возможности свернуть или остановиться, можно уподобить германскую армию 1943 года. Не Гитлер движет войну 1943 года, а война движет Гитлера и его генералитет. Мы и наши союзники свободны в выборе места и времени удара, обстоятельства подчиняются нам, наша воля в войне свободна.
В этом главная особенность военных действий в июле 1943 года. Немцы, начав наступать, вынуждены были лгать не только миру, но и самим себе, что они обороняются. Нам незачем спорить с реальностью. Реальность за нас.
Оборона кончилась!
Среди созревших пшеничных полей, среди огромных, сладостно пахнущих лугов, в серой и жёлтой пыли, под грозовым июльским небом, под грохотанье высокого грома, под порывами жаркого ветра движутся по дорогам наши танки, колонны артиллерии, грузовики с мотопехотой, скрипят полковые обозы. Радиаторы машин, башни тяжёлых танков, дула пушек украшены колосьями пшеницы, букетами дикой красной гвоздики, васильков, полевой ромашки.
Красная Армия перешла в наступление.
21 июля 1943 года.
Орёл
Сегодня войска Красной Армии вошли в Орёл. К рассвету замолкли очереди автоматов, треск винтовочных выстрелов, тяжёлый, слитный гул артиллерийского огня перенёсся с западной окраины города вновь на простор несжатых полей, на шоссейные и грейдерные дороги. С каждым часом грохот битвы становился приглушённей. Солнце взошло над городом. Среди дыма ещё не погасших пожаров, среди неосевшей пыли, поднятой высоко в небо взрывами, по мостовым, покрытым битым кирпичом и осколками стекла, шли наши войска.
Шли люди в пыльных сапогах, в выгоревших гимнастёрках, с лицами, тёмными от злого августовского солнца, люди, которые много недель, в зной, в проливные дожди, сквозь огонь и смерть, шаг за шагом прорывая проволоку, разрушая траншеи, неотступно и неуклонно шли к Орлу с севера и с востока, с юга и с юго-востока. В пять часов утра по городу прошло управление стрелковой дивизии полковника Кустова. Впереди несли знамя первого полка майора Плотникова. Командиры шли такие же запылённые, как бойцы, в простреленных и продранных осколками гимнастёрках. Сурово выглядел этот первый парад в дыму пожарищ, в пыли взрывов, в высоком тумане, застилавшем небо над разрушенными кварталами города.
И сотни людей выходили из подворотен, выползали из подвалов, бежали навстречу идущим под красным знаменем командирам и красноармейцам.
Откуда появилось столько цветов в эти минуты — ведь так суров был город в час окончания боя? Казалось, вдруг расцвели они среди изуродованных немцами улиц и дворов — и дети, женщины, бросали цветы к ногам шагавших красноармейцев. Как всегда, навеки незабываема и для тех, кого встречали, и для жителей освобождённого Орла эта первая минута, этот первый радостный крик встречи, встречи, которую уже пережили тысячи наших сёл, десятки освобождённых городов. Должно быть, великая справедливость судьбы в том, что счастье, гордость этой встречи всегда выпадали на долю тем передовым бойцам, которые вынесли на себе главную тяжесть боёв, и тех, кто пережил всю тяжесть немецкого гнёта. Они — матери, жёны, сестры и дети красноармейцев и командиров, двадцать месяцев не знавшие о судьбе своих близких, они — братья и отцы угнанных в Германию девушек и молодых женщин, они — родственники замученных в гестапо и в германских концентрационных лагерях советских людей, — первыми бросаются, ещё под взрывы гранат и выстрелы, навстречу нашим бойцам.
И, глядя на грязные, потные, запылённые лица красноармейцев, плачут слезами радости, произносят перехваченным от волнения голосом скупые слова:
— Пришли… вернулись… хорошие наши.
Это они перевязывали раны бойцам, это они убирали и обмывали убитых в бою пехотинцев и танкистов и приносили венки, чтобы украсить их могилы на площади Первого мая. И это они, старухи и старики, плакали над заколоченными гробами восемнадцати танкистов. Велика, торжественна и вовеки нерушима связь и судьба всех советских людей, и оттого так горьки были слёзы орловских женщин над мёртвыми телами танкистов. В эту горькую и торжественную минуту были они им сыновьями, мужьями, братьями.
Мы приехали в Орёл днём 5 августа — по Московскому шоссе. Мы проехали по ожившей, весёлой и деловитой Туле, мимо Плавска и Черни; и чем дальше, тем свежей выглядели раны, нанесённые немцами нашей земле.
Развалины мценских домов поросли травой, голубое небо глядит сквозь пустые глазницы окон и сорванные крыши. Почти все деревни между Мценском и Орлом сожжены, развалины изб ещё дымятся. Старики и дети копаются в кучах кирпича, ищут уцелевшие вещи — чугуны, сковороды, смятые огнём железные кровати, швейные машины. Какая горькая и какая знакомая картина!
У железнодорожного переезда прибита свежеобтёсанная белая доска с надписью «Орёл». Железнодорожные пути взорваны немцами, рельсы, развороченные силой взрыва, искривились, изогнулись. Милый орловский вокзал, так хорошо знакомый многим москвичам, — взорван, дымятся разрушенные здания железнодорожных мастерских. Истерзанная силой взрыва сталь валяется на земле, на мостовой.
С холма хорошо виден весь город, та страшная работа, которую перед уходом вели немцы, работа палачей, казнивших огнём и взрывчаткой красивейшие здания и сооружения Орла. Взорван мост через Оку, соединяющий центр города, Ленинскую улицу, с вокзалом, его массивные пролёты тяжело рухнули в воду. Взорвано белое здание почты и телеграфа, зияет пустыми глазницами театр, взорван Педагогический институт и белое здание городской больницы, пряди проводов свисают на мостовые, погромыхивают сорванные взрывами вывески и листы кровельной жести. Дети стоят возле сожжённых школ, и мальчик с худеньким, серьёзным личиком говорит мне:
— Немцы врали, что любят детей, а сожгли все школы.
Эту разбойничью работу немцы проводили методически и планомерно, по приказу генерал-разбойника Моделя, в течение пяти суток. Но, пожалуй, ещё страшней разрушений, произведённых ими, выглядят уцелевшие следы их пребывания в Орле — названия улиц на немецком языке, вывески над солдатскими и офицерскими увеселительными заведениями, объявления, приклеенные к стенам, жирный знак свастики, нарисованный масляной краской в комнате офицерской столовой, худой с тощей шеей имперский орёл, прилепленный к стенам некоторых зданий. На каждой улице можно видеть вывески комиссионных магазинов «Скупка… скупка… скупка…»
Через эти комиссионные магазины немцы выкачивали у населения Орла мебель, картины, платья, меха, обувь, носильные вещи. И эти десятки, сотни вывесок над комиссионными магазинами свидетельствуют ярче многих рассказов о характере разбойничьей экономики, установленной оккупантами.
Но не только на стенах домов и на табличках, повешенных на углах улиц, оставили немцы следы своего растленного пребывания. Есть некоторые люди, которым стыдно сейчас смотреть открыто и прямо в глаза нашим красноармейцам, люди слабой, податливой души, работавшие на немцев, своей услужливой молчаливостью старавшиеся если не выслужиться, то по крайней мере не вызывать их гнева. И теперь этим людям страшно и стыдно.
Несколько часов ездили и ходили мы по улицам Орла, разговаривали с женщинами, с детьми, стариками. Они рассказывали о нищенских голодных нормах питания, которым немцы обрекли рабочих, — двести граммов хлеба в день и сто граммов соли в месяц, о том, как вчера немцы взорвали здание, где находились сорок тяжело раненных военнопленных красноармейцев, о грубой, наглой германизации, которую пытались проводить они в школах, о подлой черносотенной газетке, издававшейся ими.
Пыль стоит над городом, её поднимают тяжёлые танки и орудия, со скрежетом и грохотом идущие по улицам, её поднимают тысячи красноармейских сапог. Запах гари стоит в воздухе, голубой молочный дымок поднимается над догорающими пожарищами. Осколки стекла и битый кирпич поскрипывают под ногами. Сквозь выбитые стёкла глядят увядшие от жары пожаров комнатные растения и цветы. Но удивительное, странное дело!
Немцы хотели разрушить город, а он выглядит так радостно, молодо, как вряд ли когда-нибудь выглядел. Люди смеются, возбуждённо разговаривают, дети кричат «ура» проезжающим машинам, вокруг красноармейцев собираются группы женщин, мужчин, стариков, все рассказывают быстро, оживлённо, — и кажется, что каждый красноармеец, стоящий возле дома или сидящий на ступеньках и живо, горячо разговаривающий с жителями, — это брат, сын, вернувшийся в родной дом после долгой разлуки. Первый день — день начала жизни! Над многими домами уже вывешены красные флаги, ветер расправляет их складки. Всего шесть-семь часов тому назад были здесь немцы, а в городе уже чувствуется первый удар пульса ожившей советской жизни.
Привезена громкоговорительная установка. На площади слышен «Интернационал», на стенах расклеиваются плакаты и воззвания, жителям раздают листовки. На всех углах стоят румяные девушки-регулировщицы, лихо машут красными и жёлтыми флажками. Пройдёт ещё день-два, и Орёл начнёт оживать, работать, учиться, станет в славный строй наших городов и сёл, ведущих победоносную борьбу с фашизмом.
И в этот первый, беспокойный и радостный день, когда под удаляющийся грохот канонады, среди пыли и дыма вновь стал советским, русским Орёл, мне вспомнился Орёл, который я видел ровно двадцать два месяца тому назад, в тот октябрьский день 1941 года, когда в него ворвались немецкие танки, шедшие по Кромскому шоссе. Мне вспомнилась последняя ночь в Орле — больная, страшная ночь: гуденье уходящих машин, плач женщин, бегущих следом за отходящими войсками, скорбные лица людей, полные тревоги и муки, вопросы, которые мне задавали. Вспомнилось последнее утро Орла, когда, казалось, весь он плакал и метался, охваченный страшной, смертной тревогой.
Город стоял тогда во всей своей красоте, без единого выбитого стекла, без единого разрушенного здания. Но являл он собой вид обречённости и смерти. Эта обречённость была во всём. Город плакал весь, словно навеки расставался человек с самым дорогим и близким, что было у него в жизни. И чем нарядней выглядел он тогда, чем ярче блистало осеннее солнце в это последнее советское утро в бесчисленных стёклах домов, тем безысходней была тоска в глазах людей, понявших и знавших, что вечером в Орле будут немцы. И, вспомнив то горе, ту тревогу, то страшное смятение, в котором был город, я как-то по-особенному ощутил святое счастье сегодняшней встречи разорённого и опоганенного немцами Орла с великой страной, с великой армией.
Я понял, почему плакали женщины, обнимая красноармейцев, и, протягивая им детей своих, просили поцеловать отцовским поцелуем малышей. И, слушая речь полковника-танкиста, стоявшего на пыльном боевом танке над телами убитых в бою за Орёл офицеров и красноармейцев, прислушиваясь к тому, как его отрывистые слова прощания послушно и гулко повторяли сгоревшие дома, как бы оживая и подчиняясь живой силе, которую несут в сердцах своих наши красноармейцы и командиры, я видел и понимал: эта сегодняшняя встреча и то горькое расставание в октябрьское утро 1941 года — едины, связаны между собой. Это проявление верной любви народа. Она сильней всего на свете. Сильней смерти!
5 августа 1943 года
Первый день на Днепре
I
Командир дивизии генерал Горишный встретил один из батальонов полка Борисова на подходе к Днепру. Генерал вышел из машины и громким, медленным и отчётливым голосом — этот голос слышали все бойцы — сказал комбату:
— Капитан Ионин, приказываю вам выйти на рубеж реки Днепр и занять оборону по берегу.
Ионин знал задачу до того, как генерал отдал этот приказ. Горишный знал, что Ионину задача известна. Но генерал нарочно торжественно, перед лицом красноармейцев, произнёс слова, которые полны были величайшего смысла и значения для тех, кто шёл в этот час по полям и лесам Украины.
И как только Горишный произнёс слово «Днепр», точно тронуло ветром батальон. Люди, подняв винтовки, стали кричать «ура».
Первым вышел к Днепру батальон старшего лейтенанта Гаврилина). Быстрая, прозрачная вода бесшумно бежала вдоль песчаного берега. Белый, необычайно чистый песок зашуршал под ногами.
Дно Днепра было покрыто таким же чистым песком, и вода, бегущая у берега, казалась светложёлтой, а песок мягко светился под ней то голубоватым, то зелёным цветом.
Впереди лежал плоский песчаный остров, поросший лозой, дальше снова блестела полоса Воды, а за ней в дымке вставал поросший тёмным лесом правый берег Днепра. Люди сошли к воде, начали мыть лица. Многие становились на колени и пили днепровскую воду. И делали они это не потому, что им хотелось пить после долгого и мучительно-утомительного перехода, а потому, что и умывание и питьё днепровской воды — всё приобрело в эти минуты значение торжественного символа.
Год тому назад дивизия генерала Горишного отражала первые атаки 6-й германской армии, предводительствуемой фельдмаршалом Паулюсом на великом волжском рубеже в Сталинграде. Бои шли у Мамаева кургана. Таких боёв не знал мир. То не были бои за Мамаев курган. То не были бои за один только Сталинград. То были бои за судьбу России. Думал ли кто-нибудь из тех, кто в сентябрьские дни 1942 года среди развалин Сталинграда на крутом берегу Волги, среди дыма и пламени, под вой немецких пикировщиков отражал зловещий натиск германских танковых и пехотных дивизий, что через год войска Красной Армии огромным победоносным фронтом, от Смоленска до Днепропетровска, выйдут к Днепру? Мечтали ли об этом сталинградцы?
И потому-то в торжественном и молитвенном волнении люди становились на колени и пили светлую днепровскую воду. Они были свидетелями и участниками величайшего торжества нашего народа. За спиной их лежали сотни километров дороги. Когда-нибудь расскажут об этом страдном пути — о метелях и вьюгах, о злых ветрах, об осенней распутице и холодных дождях, о страшном огне немецких миномётов и орудий, о тяжёлых самоходных пушках и танках «Т-6», нападавших из засад на передовые цепи советской пехоты.
Когда-нибудь расскажут о том, как в декабре 1941 года красноармейский ансамбль в тёмный морозный вечер пел перед бойцами песню:
Ой, Днипро, Днипро, ты течёшь вдали И вода твоя, как слеза…Это было в глубоких воронежских снегах, и бойцы, слушавшие песню, и сами певцы плакали — такими далёкими казались им Днепр, Украина. Людям, которые вышли к Днепру в осенний день 1943 года, не нужно было рассказывать и напоминать обо всём этом. Они несли всё это в душе своей.
II
Днём мы пришли на командный пункт командира стрелкового корпуса генерала Лазько. Генерал сидел в хате у открытого окна. Перед ним на столе лежала карта, расчерченная красным карандашом. Наша артиллерия, расположенная неподалеку, вела огонь через Днепр. При каждом выстреле стёкла позвякивали. Где-то значительно впереди сухо раздавались редкие разрывы — это немец «кидал», как говорят красноармейцы, с того берега мины. Генералу докладывали и начальник штаба и командующий артиллерией. Человеку, работавшему раньше на заводе, могло бы показаться, что он снова попал в кабинет директора большого завода. Недаром принято называть у нас части и соединения «хозяйствами».
«Хозяйство» Лазько огромный и сложный организм. Нормальная деятельность и работа такого хозяйства определяется десятками условий. И о чём только не приходится думать, чтобы обеспечить все эти условия. Речь у генерала и двух полковников, докладывавших ему, шла о дорогах, о переправах, о мостах, о зенитных средствах, о горючем, о ремонтных базах, об отставших понтонах, о множестве видов боеприпасов, о продовольствии, о моральном состоянии бойцов, о плотах, о лодках. Говорили они негромко, просматривали донесения о подвезённых на огневые позиции минах для полковых и ротных пушек и для дивизионной артиллерии крупных калибров, о наличности боеприпасов на «допах» и о боеприпасах, находящихся в пути. Они озабоченно совещались, отмечая на карте растянутые коммуникации, по которым шёл подвоз. Десятки, пожалуй, не десятки, а сотни вопросов нужно было решить, увязать, чтобы стрелковый корпус, снабжённый огромной, сложной и многообразной техникой, действовал во всю мощь своего огня, действовал с наибольшим эффектом и с наименьшими потерями.
Вот один из элементов нормального действия военного хозяйства — связь. Но, право же, работа московского узла связи, вероятно, не сложней работы какого-нибудь военного хозяйства, где необходимо беспрерывно в условиях вечного движения, внезапных изменений боевой обстановки, в условиях, когда опытный и хитрый враг делает всё возможное, чтобы помешать нормальной работе, каждочасно и каждоминутно связывать роты, батальоны, полки и дивизии в единое, гармонично работающее целое.
А ведь, кроме того, нужно поддерживать связь с «верхом», со средствами усиления, с танками, авиацией, — с соседями справа и слева. Радио, телефон, телеграф, посыльные, офицеры связи участвуют в этой работе. Если посмотреть на работу одного хотя бы элемента, осуществляющего связь в бою и в движении — к примеру, скажем, радиосвязи, — и учесть, сколько напряжённого труда нужно затратить для её нормальной работы — и в шифровании, и в сохранении в полевых и боевых условиях сложной аппаратуры, и в поддержке нужного напряжения, и в маскировке от рыщущего в воздухе немца, и если вспомнить, что это лишь один элемент многообразной связи, вспомнить, что сама связь лишь одно из многочисленных слагаемых военного действия, можно представить себе всю сложность и напряжённость работы руководителей современной войны. В нынешней войне участвует большая техника. Самолёты и пушки, гвардейские миномёты ничуть не проще, чем самые сложные станки и аппараты современной промышленности. И ведь надо помнить, что военная работа идёт вопреки сильному и опытному противнику, он днём и ночью применяет огромные усилия к тому, чтобы рвать коммуникации, разрушать мосты, сжигать и взрывать склады, уничтожать находящиеся на марше колонны, нарушать связь, подслушивать, врываться танками, авиацией, внезапными огневыми налётами в боевые порядки военного хозяйства.
Велик почёт, созданный для наших генералов — командиров дивизий, корпусов и армий. Велики и почётны награды, которых удостоены они. Но велика, огромна, тяжела ответственность, лёгшая на их плечи. Ни на секунду, днём и ночью, не должны, не могут они забывать о ней. Это ответственность за успех боёв, за скорейший и полный разгром врага, за очищение нашей земли от захватчиков. И одновременно это ответственность перед миллионами матерей, пославших на войну своих сыновей, это ответственность за святую кровь, ибо малейшая небрежность, неточность, малейшая неслаженность в работе военного хозяйства заставляет платить за них драгоценной, святой кровью бойцов.
Об этой тягчайшей ответственности за жизнь бойцов, ответственности перед матерями великой страны должны свято помнить все наши генералы и офицеры, не забывать её ни на секунду, с достоинством и честью нести всю моральную тяжесть её.
Может быть, потому так нахмурены, серьёзны, озабочены были лица генерала и полковника, обсуждавших на командном пункте, в деревенской хате на берегу Днепра сложные и трудные вопросы переправы людей, пушек, продовольствия, боеприпасов, подтягивания растянувшихся тылов, баз и складов горючего.
III
В ходе войны, в её решающие минуты играют огромное значение не только замысел и расчёты командиров, но и трезвая, чёткая работа тылов и взаимодействие всех видов оружия… В решающие минуты войны великая доля успеха зависит от военного счастья, от жертвы, порыва, душевной силы, от кажущейся подчас безрассудной отваги, от умения внезапно использовать счастливый случай.
Когда вода заблестела в первых косых лучах, в тишине утра послышался со стороны Киева неясный, далёкий шум, и боевое охранение, окопавшееся у самой воды, сообщило, что вверх по Днепру идёт пароход. Командир батальона Гаврилин приказал красноармейцам залечь и без приказания не открывать огня. Из-за излучины видна была пароходная труба. Пароход шёл очень медленно, он тащил за собой гружёную баржу, а течение в рукаве Днепра было сильным. На палубе в ранний час стоял лишь один человек, — комбат в бинокль различил немецкие унтер-офицерские нашивки. Унтер-офицер тоже смотрел в бинокль, внимательно осматривал берег. Когда пароход вышел к тому месту, где залегли бойцы, Гаврилин приказал открыть огонь. Дружно застучали очереди из автоматов, оглушительно взорвали тишину утра выстрелы противотанковых ружей. Некоторые бойцы, вскочив на ноги, стали бросать в сторону парохода гранаты. С парохода открыли пулемётный огонь. Штурвальный резко повернул пароход, и он пристал к противоположному берегу. Переправившиеся на лодках бойцы роты лейтенанта Кондакова побежали к пароходу. Команда бросила пароход, спрыгнула на берег и скрылась.
И случилось так, что первым вбежавшим на пароход был младший лейтенант Дмитрий Яржин, до войны работавший машинистом на Волге. Среди бойцов его взвода оказался красноармеец Сухинин, до войны работавший штурвальным на речном пароходе. Через час батальон был переправлен на правый берег Днепра. Началась переправа дивизии. Во время одного из рейсов над пароходом пролетели несколько «мессеров», но заместитель, командира полка Максимов приказал бойцам убраться с палубы, и «мессеры» прошли, приняв судно за свое. Правда, ещё через некоторое время пароход подвергся налёту немецкой авиации и, получив девяносто три пробоины, перестал жить. Но он сделал своё дело, этот пароход. На барже, которую он буксировал, груз состоял из брёвен, досок, гвоздей. Сотни умелых верных рук застучали молотками и топорами, начали строить понтоны и плоты.
Мы знакомились с несколькими переправами через Днепр. Все они в первые часы и дни шли под знаком величайшего порыва, стихийного народного энтузиазма, всю великую тяжесть их рядовые и офицеры Красной Армии с охотой и радостью приняли на себя. Люди, не дожидаясь подхода понтонов и всех прочих табельных переправочных средств, достигнув берега Днепра, стремительно переправлялись через широкую и быструю воду на плотах, рыбачьих лодках, на самодельных понтонах, устроенных из бочек, покрытых досками, переправлялись под мощным огнём неприятельской артиллерии и миномётов, под жестокими ударами немецких бомбардировщиков и истребителей. Были случаи, когда бойцы переправляли полковые пушки на воротах, когда группа красноармейцев переправилась через Днепр на плащ-палатках, набитых сеном.
Этот стихийный порыв во многом помог Красной Армии закрепить плацдармы на правом берегу Днепра. Когда мощные табельные средства подтянулись к Днепру, когда началось строительство мостов и наведение понтонов, когда двинулись танки и тяжёлая артиллерия, когда могучие залпы зенитной артиллерии огненным плащом прикрыли переправы, а рёв моторов наших истребителей с рассвета до заката стоял над Днепром, — в это время на правом берегу уж находилась наша пехота, вооружённая пулемётами, полковыми пушками, миномётами. Она вела ожесточённые бои с немцами, спутав и смешав их расчёты организованно отразить наши попытки к переправе.
Так счастье, смелость, дерзость стали великим вкладом в решении сложнейшей задачи современной войны — форсировании Днепра, одной из самых больших рек нашего материка.
В этом синтезе, единстве дерзкого вдохновения и холодного расчёта, в единстве партизанской удачи с могучей силой наших пушек, танков и самолётов, в единстве мудрой науки войны и вдохновенного безумства смелых и состоит одна из отличительных черт нашей Красной Армии. Эта черта отсутствует в превосходно вымуштрованной, вооружённой техникой и опытом ремесленной армии немецких фашистов.
IV
Такие вечера часто бывают на Украине в осеннюю пору. Широкие, как на рисунках Доре, полупрозрачные лучи заходящего солнца освещали западный берег Днепра. Облака на горизонте светились, как огромные лёгкие фонари, полные розовых нежных лучей. Далёкий сосновый лес темнел под небом, полным мирной прелести и вечернего света. А на земле красное большое пламя вырывалось из чёрного беспокойного дыма, стоявшего над горящей деревней, и ослепительно вспыхивал прямой яркий блеск снарядных разрывов и пушечных выстрелов. На земле шла битва за Правобережье.
Тёмные немецкие самолёты низко пронеслись над прибрежной землёй, и слышались каркающие, картавые очереди их пулемётов.
И удивительно, какая-то глубокая, полная внутреннего смысла связь была между этим прекрасным, светлым вечерним небом и адом, бушевавшим на земле. Грохот освободительной битвы гармонировал с благородной тишиной и покоем неба.
В этот вечер мы сидели на брёвнах возле командного пункта командира гвардейской дивизии генерала Горишного. Капе генерала помещался в брошенном немцами дзоте. Массивные брёвна пахли сосновой смолой.
Горишный рассказывал о ходе боя. Ожесточение битвы на правом берегу Днепра напоминало бои в Сталинграде. Десятки злых контратак предпринимали немцы. Самоходные пушки, огонь тяжёлых миномётов, артиллерия и авиация поддерживали немецкую пехоту, поднимавшуюся по многу раз на день в тщетном стремлении сбросить наших бойцов в Днепр. Многократно возникали гранатные бои, завязывались рукопашные схватки, в которых наши бойцы кололи немцев штыками, рубили лопатками. В медсанбаты поступают раненые с штыковыми и ножевыми ранами. Трудно было закапываться в первое время, когда бои шли на самой прибрежной полосе, — едва бойцы вырывали в песке окоп глубиной в полметра, как выступала вода и стены окопов заваливались. Теперь, когда шаг за шагом наши войска расширяют плацдарм, когда на правом берегу обосновалась не только пехота, но и мощная наша техника, когда под ногами бойцов твёрдая почва, когда за спиной уже не десятки и сотни метров, а километры пройденной по Правобережью земли, нет уже силы, способной отбросить нас обратно, нет силы, которая может помешать нашему движению вперёд. Горишный подходит к телефону, находящемуся в неглубоком окопе, и разговаривает с командирами, ведущими бой.
И с ними он говорит таким же спокойным, несколько протяжным голосом украинца, каким беседует с нами. Многих командиров называет он по имени и отчеству, ведь людей дивизии связывает долгая боевая дружба. И, может быть, потому так спокойно звучит его негромкий голос здесь, на Днепре, что крепка и непоколебима его вера в людей, сражавшихся вместе с ним у Мамаева кургана и на заводе «Баррикады» на великом волжском рубеже.
Иногда Горишный прислушивается к хаосу звуков, на слух определяет, что происходит на поле боя, какой из его дивизионов открыл огонь, по какому из батальонов сделал огневой налёт противник. Хаос боя не был для него хаосом, он уверенно разбирался в нём и читал его. В этот вечер, когда в высоком небе стояла ясная тишина, и на земле, в дыму, среди туч земли и песка, поднятых взрывом, шёл бой, пролилось много крови сталинградцев. Донесли, что убита сотрудница медсанбата Галя Чабанная. Горишный и его заместитель, полковник Власенко, оба вскрикнули. Горишный сказал:
— Ах, ты, боже мой, когда после победы уезжали из Сталинграда, на остановках выбегали и в снег друг дружку бросали. И её, помню, мы купали в снегу, и она смеялась так, что весь эшелон слышал. Никто во всей дивизии не смеялся громче и веселей.
Ранен был майор Максимов, заместитель командира полка. Это он обманул в первый день переправы немецких лётчиков.
Пришёл на командный пункт заместитель командира батальона старший лейтенант Сурков. Шесть ночей не спал он. Лицо его обросло бородой. Но не видно усталости в этом человеке, он весь ещё охвачен страшным возбуждением боя. Может быть, через полчаса он уснёт, положив под голову полевую сумку, и тогда уже не пробуй разбудить его. А сейчас глаза его блестят, голос звучит резко, возбуждённо. Этот человек, бывший до войны учителем истории, словно несёт в себе огонь днепровской битвы. Сурков рассказывает о немецких контратаках, о наших ударах, рассказывает, как откопал засыпанного в окопе посыльного, своего земляка, когда-то бывшего у него учеником в школе. Сурков учил его истории; сейчас они боевые участники событий, о которых будут через сто лет рассказывать школьникам.
А вечернее небо становилось всё величавей, выше, всё торжественней. И под этим небом на холодном днепровском песке лежала мёртвая девушка, смеявшаяся громче всех в дивизии, пришедшей с далёкой Волги.
10 октября 1943 года.
Украина
Как передать чувство, охватившее нас, когда вновь увидели мы белые хаты, пруды, заросшие камышом и яркой ряской, высокие тополи, георгины, глядящие из-за плетней, когда с земли и неба дохнуло нам в лицо мягкое дыхание Украины и она встала перед нами в своей несказанной прелести, в печали, в гневе своём, в богатстве земли, в чёрных рубищах пепелищ, в миловидности щедрых садов, в огне и в слезах.
Да, не простое это чувство и нелегко передать его. Но это чувство обще всем — и генералам армии, и великой бессонной пехоте, обгоняющей в своём тяжком святом движении танки и авиацию, — ибо поступь народа, освобождающего себя и свою землю, идущего день и ночь вперёд, в дождь, в грязь, по грудь в воде, раздвигая колючие ветви в дремучих лесах, перепахивая сапогами жирную землю мокрых полей, — самая быстрая, самая лёгкая, самая верная. За ней не угнаться и птицам небесным и самолётам.
Каково же оно, это чувство, заставляющее людей с впалыми щеками шагать, шатаясь от усталости, и петь песню, спать под дождём в канаве и улыбаться во сне, итти на смерть, славя в сердцах своих жизнь? Каково же оно, это чувство, если старики, заслышав русскую речь, бегут навстречу нашим войскам и молча плачут, не в силах произнести слова, и старые умные крестьянки с тихим удивлением говорят: «Мы думали, спиваты и смиятымось будем, як побачим своих, а на сердци наче печаль и сльозы льються». Каково же оно это чувство? Народу дано не часто, единожды пережить его: в нём радость встречи, и мука безвозвратных потерь, и гордость, и счастье вновь обретённой свободы, и печаль воспоминаний о поражениях первых дней войны, в нём вся огромность народной жизни в тяготах, радостях, в воскрешении к новому, в надежде, в ужасе пережитого. Это чувство рождает сознание единства народа, это сознание загорается в муках, среди стонов гибнущих в огне детей и старух, и потому потрясает сердца встреча трудового украинского народа с братьями, идущими к ним из Сибири, с Волги, из казахских степей.
Мы все переживаем удивительное ощущение «воскрешения времени». Наши армии движутся на запад теми путями, которыми отступали они на восток осенью 1941 года. Мы освобождаем города, отданные немцам в страшные август, сентябрь, октябрь 1941 года. Мы идём на запад не только в пространстве, но и во времени. Вот освобождены нами Орёл, Волхов, Мценск, Харьков, Белгород, Сталино, и мы вторглись в октябрь 1941 года. Освобождены Смоленск, Глухов, Рославль, Полтава, Нежин, Чернигов, и этим наш народ выправил чугунное тысячепудовое колесо времён ещё на один месяц, — мы шагаем по сентябрю 1941 года. Вот занят Кременчуг, наши войска штурмуют германский фашизм в Киеве, Днепропетровске, Гомеле, Могилёве, — мы вступаем в август. Недалёк день, когда Красная Армия, дойдя до границ, злодейски нарушенных фашистами, торжественно вернёт нашему народу и человечеству рассветный час июня двадцать второго дня, тот час, когда моторы германских самолётов завыли в нашем небе и хрустнули пограничные столбы под ударами тяжелолобых танков. В этот день мы окончательно докажем, что фашизму не дано править колесом времён, мы поставим на место календарь и часы истории, мы скажем: украденное зверем время возвращено человеку, разуму, творчеству, труду, истории.
Новые города вырастут на месте сожжённых, заросшие бурьяном поля вновь будут засеяны житом, пшеницей и ячменём, вырастет молодой лес, на деревенских пепелищах вырастут весёлые белые хаты, оживёт край угля и стали — Донбасс. Но нет уже силы на земле, способной оживить наших погибших матерей и сыновей, нет силы, которая могла бы разгладить морщины, вернуть зрение глазам, ослепшим от слёз, вернуть молодость тем, чьи волосы поседели. Потому часто плачет народ, встречая свою армию, ибо в великой радости освобождения есть и великая печаль. И должно быть, последний день войны будет не только днём торжества, радости и победы, но и днём слёз и печали, когда вспомнят всех павших в бою, всех замученных, заживо сожжённых, затоптанных в землю, погибших в неволе, умерших с голода за колючей проволокой германских концентрационных лагерей. Да, лишь единожды дано пережить народу такое чувство.
Жадно хотят знать наши люди, как жила Украина. Два года Черниговщина и Киевщина были немецким тылом, два года Приднепровье жило, отделённое от нас трёхсотвёрстной стеной. То был глубокий тыл немецких войск, то были земли, где германский фашизм считал себя хозяином, прочным хозяином, на веки веков, навсегда.
Когда наши войска входят в деревню и пушечная канонада сотрясает воздух, гуси поднимаются и, хлопая огромными белыми крыльями, тяжело летают над крышами. Из леса, из бурьяна, из поросших высоким камышом болот выходят люди.
Лишь у очень наивного человека могла возникнуть мысль, что фашизм в тыловых районах вёл себя сдержанней, чем в фронтовой полосе, что людям, живущим под нацистским игом, в трёхстах километрах от фронта, были предоставлены элементарные права и обеспечены минимальные условия существования. Нет, тысячу раз нет! Я видел десятки сёл, сожжённых немцами на Десне, на берегу Днепра, в междуречьи — прекрасной плодородной долине между Десной и Днепром, превращенной фашистами в ад человеческих страданий и мук. Я видел село Козары, между Нежином и Козельцом, где на чёрных пепелищах стоят кресты. Здесь были загнаны в избы и сожжены тысячи стариков, женщин и детей$7
Я видел убитую деревню Сувид на правом берегу Десны, принявшую мученическую судьбу Козар, я видел соседние с ней деревни: Воропаево, Старое Воропаево, Жукин. Я видел казнённую деревню Кувечичи западнее Чернигова, видел Водянки, Томаровку. Я видел десятки деревень Черниговщины и Киевщины, сожжённых немцами при отходе за Днепр. Ещё дымятся пожарища, тяжёлый дух жжёной глины стоит в воздухе, и десятки тысяч стариков и детей, оставшихся без крова, сидят под хмурым осенним небом, прикрываясь от дождя и непогоды в шалашах, крытых ветвями деревьев, пучками случайно уцелевшей от огня соломы.
Фашизм отказался теперь от индивидуальных казней и убийств. Фашизм расстреливает и казнит не отдельных людей, а целые деревни и города. Команды факельщиков и автоматчиков, снабжённых зажигательными пулями, поджигают и расстреливают десятки цветущих деревень, казнят улицы, кварталы, целые города.
Мы проехали через Глухов, Кролевец, Нежин, Козелец, Остёр, Чернигов. Прекрасный Чернигов убит немцами, нет в городе ни одного живого дома. Остёр и Глухов тяжело ранены. Козелец был оставлен немцами целым, наши войска выбили их стремительно, не дав уничтожить этот зелёный украинский городок. Через два дня армада немецких бомбардировщиков налетела на Козелец, разрушая фугасными бомбами беззащитные одноэтажные домики, окружённые садами. Козелец мёртв. Немецкая авиация довершила то, что не успели сделать факельщики. В этом виден план, единое организующее начало разрушения. Мы знаем, что такую же судьбу приняли города Донбасса, Харьковщины, Полтавщины.
Можно твёрдо сказать, что человечество не знало за всю свою историю преступлений такой жестокости, таких масштабов. Речь идёт об огромных землях, о десятках и сотнях городов, о тысячах сёл. Речь идёт об организованной казни миллионов детей, стариков, женщин, пленных, раненых. Речь идёт о рабстве великих народов.
Каждый красноармеец, каждый офицер и генерал Красной Армии, увидевший Украину в крови и в огне, услышавший правдивый рассказ народа о том, что делалось на Украине за два года немецкого владычества, понимает всей душой, всем сердцем своим, что на нашей земле теперь живут два святых слова. Одно из них — любовь. Второе — месть.
Сущность фашизма именно в том, что он одинаково страшен для народов как в кровавом своём злодействе, так ив своих «мирных» социальных проявлениях.
Мне приходилось посетить отдельные районы и сёла, вышедшие живыми из рук фашистов. Города и сёла — как люди. Одни из них приняли мученическую смерть в огне или расстреляны зажигательными пулями. Другие, тяжело раненные, истекающие кровью, — избежали смерти и теперь медленно возвращаются к жизни, залечивают раны. Есть и такие счастливцы-сёла, где немцы не сожгли ни одного дома, не казнили никого, не успели никого угнать в каторгу.
Но в этих уцелевших сёлах ненависть к немцам так же сильна. Нет, кажется, таких ругательных слов, а ими ведь не беден украинский язык, которыми старики и старухи не обзывали бы немцев.
«Гад», «сатана», «хай ему кажну ничь собака сныться», «кат», «злодияка», «сто чортив его батькови», «проклятый собака», «холера», «хвороба его б взяла», «зараза» — только и слышишь, когда диды и бабки рассказывают о немцах.
Своей чванливостью, своим хамством, своей фантастической жадностью фашисты глубоко оскорбляли чувство человеческого и национального достоинства украинских селян.
Следы немецко-фашистского стиля видны во всём. Объявления и указатели улиц и дорог написаны крупными немецкими буквами, а где-то снизу скромно значатся надписи на украинском языке. В некоторых местах украинские надписи вовсе отсутствуют, — очевидно, фашисты считали, что черниговские и киевские селяне должны были поголовно знать немецкий язык.
Немцы в деревнях отправляли естественные надобности в сенях и на крыльце, в палисадничках перед окнами хат, не стесняясь девушек и старух. Во время еды они с хохотом громко портили воздух, лезли руками в общие блюда, рвали пальцами варёное мясо. Не стесняясь крестьян, они ходили в хате голыми, затевали между собой ссоры и драки из-за всевозможных пустяков. Их прожорливость, способность съесть сразу два десятка яиц, кило мёду, огромную миску сметаны вызывала насмешливое и презрительное отношение.
Дух торгашества, делячества, мелкого жульничества поражал украинских селян. Немцы пытались всучить им в обмен на мёд, яйца, свинину — сломанные ножики, негодные зажигалки со стёртыми кремнями, хитрили, мошенничали, обманывали не только крестьян, но и друг друга.
Немецкие районные и участковые коменданты поражали украинцев своей грубостью, склонностью к обжорству и пьянству.
Отдыхавшие в тыловых сёлах немцы с утра до вечера рыскали в поисках еды, жрали, пьянствовали и резались в карты.
По высказываниям пленных и по письмам, взятым у убитых солдат, видно, что немцы на Украине считали себя представителями высшей расы, живущими в дикарских деревнях. Они полагали, что культурные навыки можно отбросить в диких восточных пространствах. Поэтому они ходили голыми в присутствии деревенских женщин, громко портили воздух, когда старики садились вечерять, сами наедались до того, что у них начинались рвоты и корчи.
И умный, насмешливый, опрятный, брезгливый украинский крестьянин с отвращением и презрением смотрел на фашистов.
— О це так культура! — слышал я от десятков людей. — А ще казалы, що нимци культурни. Ну, побачилы мы гитлеровську культуру. Воны думалы, шо мы не культурни. Наша людына николы цёго не зробыть, не згадае зробыть, шо робыли у нас нимци.
Особенно запомнился мне разговор со стариком-крестьянином Павлом Васильевичем. Старик — страстный садовод, с увлечением говорящий о яблонях, взращённых им. Всё отношение его к миру, к природе полно тонкого, подлинно артистического чувства. Он поклонник красоты, эстет в высоком смысле этого слова.
Когда он складывал руки и устало, сощурив глаза, тихо произносил:
— Молоденька яблоня, хиба е що$7
Немецкая экономика сельского хозяйства с предельной выпуклостью и простотой показала украинскому селянству, что хотели получить немцы от Украины.
Колхозы были превращены в «громады» и «общины». В 1943 году районные и участковые «кустовые» коменданты стали организовывать при посредстве старост и сельских бургомистров так называемые «десятихатки», то есть обработку земли десятью дворами.
Немецко-фашистская «громада» отбросила сельское хозяйство на 70–80 лет назад. Снова появились соха, серп, цеп, допотопная ручная мельница.
Наше государство оказывало огромную помощь колхозам инвентарём, горючим, ссудами.
Фашисты за два года своего владычества ничего не дали крестьянам Киевщины и Черниговщины. Плуг и соху волокли на себе крестьяне или впрягали в них коров и полудохлых лошадей. Любопытно, что из Германии немцы ввезли лишь некоторое количество молотилок.
Фашисты прирезали к каждому двору три-четыре десятых гектара, доведя приусадебный участок до одного га. Они подняли по поводу этого демагогический шум, а затем обрушили на крестьянство такие тяготы, что богатейшие украинские колхозники за один год превратились в крепостных, объединённых подневольным трудом и плетью полицейского.
В 1942 году в большинстве сёл немцы забрали себе весь богатый урожай, оставив колхозникам голодную норму — 200 граммов на едока.
С каждого двора бралась поставка: 1 центнер мяса, 300 яиц и с каждой коровы 600 литров молока. Кроме того, дворы были обложены подушным сбором. Мельницы брали за помол такой чудовищный налог, что крестьяне предпочитали молоть зерно на ручных мельницах, сделанных из снарядных гильз и деревяжек, обитых железом. Молоть зерно на этих ручных мельницах приходилось тайно, так как власти изымали их и преследовали крестьян за пользование ими. Помол зерна на этих ручных мельницах мучительно тяжёлая операция.
Крестьяне говорили о немецкой политике в сельском хозяйстве: «Земля наша, а жито нимецьке; коровы наши, а молоко нимецьке».
За два года фашисты вывезли, выкачали огромное количество ценностей, ограбили богатейший народ. За два года они не дали украинской деревне ни одной коробочки спичек, ни одного грамма керосина, ни одного сантиметра мануфактуры. Лавки были пусты. Лишь кое-где были организованы обменные пункты, где фашисты меняли соль на яйца и птицу по грабительскому эквиваленту.
Экономическая политика немецкого фашизма в украинской деревне отличалась тупой, наглой откровенностью, — то был голый грабёж. Это понял весь украинский народ, попавший в крепостную кабалу, поняли даже единичные реакционные люди, которые перед приходом фашистов говорили:
— Кажуть, вин в бога вируе; кажуть, вин полоски наризае.
Любопытно, что старосты и бургомистры, то есть предатели своего народа, в последнее время часто вели двойную политику и пытались, обманывая немцев, защищать интересы крестьян. Настолько жестокой была немецко-фашистская политика в украинской деревне!
Фашисты сами же полностью развеяли созданный ими миф о том, что они хорошие организаторы. Их политика была политикой идиотов. О тех методах, которыми проводил фашизм свою политику в украинской деревне, достаточно писали наши газеты.
Хочется подчеркнуть общую черту, присущую всем этим приёмам и методам: отношение к украинцам как к низшей расе, полное пренебрежение к человеческому достоинству населения. Плеть, брань, порка, пощёчина были обычны в практике районных комендантов и бургомистров. Нам рассказывала учительница, несколько дней тому назад бежавшая из Киева, как зимой она и спутница её, женщина-врач, зашли погреться в помещение немецкой офицерской столовой на вокзале. Немецкая девушка-официантка подошла к ним и знаками предложила уйти. Женщины медлили. Тогда эта девушка подошла к ним вплотную, к двум русским женщинам с высшим образованием, и замахала руками, как машут на кур, случайно зашедших в открытую дверь. «Киш, киш, киш», — говорила она. Женщина-врач сказала ей по-немецки: «Как вы можете так унижать наше человеческое достоинство?» Девушка удивлённо взглянула на седую женщину, размахнулась и дала ей пощёчину. Вот это тупое, ограниченное чувство превосходства, презрение к великому народу отличало всех как военных, так и гражданских немецких чиновников на Украине.
И украинский народ, народ казачьей вольности, народ Запорожской сечи, народ, создавший прекраснейшие песни, народ, превративший свою землю в цветущий сад и щедрое пшеничное поле, — этот народ всей гордостью своей, всем достоинством своим восстал против фашистских захватчиков. Надо прямо сказать: никто из нас не предполагал, каких размеров достигло партизанское движение в глубоком немецком тылу на Украине. Целые районы были в руках партизан. Десятки важных дорог не использовались немцами, так как их контролировали партизаны.
Партизаны диктовали во многих местах старостам и бургомистрам условия сбора урожая, и старосты выполняли эти условия, потому что партизаны были более реальной силой, чем немцы. Полицейские покидали десятки сёл Черниговщины и спасались вместе со своими семьями в города.
Картина величавой борьбы встала перед нашими глазами, когда мы приехали в район междуречья, в лесистый и болотистый клин между Десной и Днепром. На всех лесных дорогах валяются серые обгоревшие остовы немецких военных машин. На всём здесь лежат следы «немецкого ужаса», ужаса перед партизанами. Немцы на сотни метров вырубали леса по обе стороны дорог, чтобы отдалить от себя партизан. Во многих деревнях стоят мощные укрепления, построенные из толстых сосновых брёвен; эти укрепления окружены окопами, обнесены колючей проволокой, к ним ведёт целая паутина ходов сообщения. На опушках лесов стоят дзоты, построены блиндажи, амбразуры направлены в сторону лесной чащи: немцы строили «внутренний вал», чтобы сдержать партизанскую волну, грозно поднявшуюся в сосновых лесах Приднепровья. На деревенских колодцах прибиты дощечки с немецкой и украинской надписями. Надписи вещают, что вода годна для питья, не отравлена и что за чистоту воды отвечает такой-то и такой-то. Это всё свидетельства той смертной жестокой борьбы, которую вели украинские партизаны с захватчиками. В каждой деревне рассказывают о дерзких налётах партизан, о вырезанных немецких гарнизонах, о сожжённых машинах, об отбитых у немцев обозах.
И вот оно выходит из лесов, славное воинство украинского народа. Нельзя без слёз, волнения и радости смотреть на этих бородатых дядьков, на парней с лихо заломленными папахами, с молодецкими чубами, на молодых и пожилых женщин, по-деревенски повязанных платками. Вот идут они рядами, с винтовками, с немецкими автоматами, с гранатами за поясом. Скрипят колёса партизанских обозов, тихонько пофыркивают лошади. Пушкари сидят на немецких пушках, поставленных на передки деревенских телег, ездовые понукают лошадей, увязающих в белом прибрежном песке. Кто они, эти люди, одетые в пиджаки, в шинели, в немецкие мундиры, деревенские свиты, с картузами, папахами, кепками, старыми мятыми фуражками на головах? Кто они, эти старики, юноши, бородатые сорокалетние мужи? Кто они, идущие лесными дорогами, скачущие верхом вдоль днепровского берега, разводящие костры меж огромных меднотелых сосен? Это — великая, вечно живая душа народа, его гордость, его смелость, его свобода, его достоинство. Это — душа Украины. Её не смогли убить фашисты. А ведь фашисты всё сделали для этого. Мир не знал такого террора, такой кровавой жестокости. Немцы объявили, что если крестьянин уходит в партизаны, то семья его — жена, мать, дети — сжигаются заживо, запертыми в избе. И они идут, десятки тысяч партизан, вечная украинская вольница, люди, которым свобода народа дороже всего на свете. Они идут, и пепел стучит в их сердца.
Эти строки писаны недалеко от Киева. В ветреное и хмурое утро встретили мы на околице приднепровской деревни Тарасевичи мальчика. Ему было лет тринадцать — четырнадцать. Мальчик был необычайно худ, желтовато-землистая кожа обтягивала его скулы, крупные шишки выступали на черепе, губы его были грязные, бескровные. Глаза его смотрели утомлённо, в них не было ни радости, ни печали, в них не было жизни. Страшны бывают эти старческие, утомлённые, погасшие глаза детей.
— Где твой отец?
— Убылы, — ответил он.
— А мать?
— Померла.
— Братья, сестры есть у тебя?
— Е сестра, ии угналы в Нимечину.
— А родственники остались?
— Ни, их спалылы в партизаньскому сели.
Он пошёл на картофельное поле, ступая чёрными от грязи босыми ногами, подтягивая лоскутья порванной рубахи.
Эти строки писаны недалеко от Киева. Киев виден. Блестят купола Лавры, белеют высокие дома в лёгкой дымке…
Пришедшие из Киева люди рассказывают, что немцы окружили кольцом войск огромную могилу в Бабьем Яру, в которую были брошены тела пятидесяти тысяч евреев, убитых в Киеве в конце сентября 1941 года. Немцы лихорадочно выкапывают трупы, жгут их.
Неужели они настолько безумны, что надеются замести страшный след свой? Этот след выжжен навечно слезами и кровью Украины. В самую тёмную ночь горит он.
Октябрь 1943 года.
1944
Мысли о весеннем наступлении
I
Солнце встало над огромными просторами юга Украины, небо очистилось от тёмных туч, подул тёплый ветер, и мокрая тяжкая земля стала сохнуть, терять тысячи тысяч тонн воды, выпавших на неё за долгие дни и ночи ноября, декабря, января, февраля, марта. Многие годы этот плоский край сухих зимних ветров не знал такого количества влаги, обрушившейся с небес на землю. Говорят, гнилая зима была здесь в 1929 году. Но и её старожилы не могут сравнить с нынешней. Земля мокрым болотным студнем лежала на десятки и сотни тысяч километров, не имея под собой твёрдой промёрзшей подошвы. В этом плоском болотном студне вязли колёса пушек, гусеницы тягачей, копыта лошадей и волов. В этом чавкающем, липком месиве увязали сапоги и ботинки пехотинцев. Казалось, что самолёты «У-2», медленно и низко летящие в сером тумане, тоже вязнут в земле, притянутые её страшной тяжестью.
Когда сегодня пролетаешь над Днепром, Ингульцом и Ингулом, над лабиринтом ручьёв и речушек, над Бугом и лиманами, на сохнущей земле видны глубокие борозды, следы колёс и гусениц. Пути наступления разлились, как реки, вышедшие из берегов грейдерных, шоссированных, просёлочных, полевых, булыжных дорог. Русло дорог не вмещало живое, потное тело нашей наступавшей армии, и движение шло во всю ширь степного простора.
Вот всё жарче светит солнце, и уже лёгкие облачка пыли тянутся за грузовиками, и темнолицый капитан, с полами шинели, облепленными сухой чешуёй рыжей, коричневой, серой земли, с наслаждением вдыхая эту пыль, улыбаясь, говорит:
— Ох, и страшенная сила в грязище была! Пыль сегодня хорошо как пахнет.
Несколько дней тому назад над этой степью стоял пронзительно острый вой полуторок, трёхтонок, пятитонных «язей», тракторов, гусеничных транспортёров, доджей и студебеккеров. Они выли в злом стремлении вырваться из миллионов цепких лапок грязи, поспеть за пехотой, их бешеные, но бессильные колёса выбрасывали липкие комья, буксуя в масляных колеях. И тысячи жилистых, худых, потных людей, стиснув зубы, тянули, тянули днём, тянули ночью, под вечным дождём и вечным, трижды проклятым, мокрым, тающим снегом, огромные тылы наступавших армий. Тянули жилами своими, тянули волей, железной силой характера, жаждой победы, бешеным жаром мести, терпением.
И вот теперь всем участникам этого великого, тяжкого труда, всем рабочим беспримерного наступления, от генералов до красноармейцев, хочется оглянуться, измерить огромный путь, осознать: что же произошло, что стало ясным миру за месяцы жесточайшего единоборства Красной Армии с фашистскими войсками на полях и степных просторах Украины? Никто не мыслил возможности наступления в полное бездорожье, в зиму невиданной распутицы, в весну разлива десятков рек и сотен речушек, в холодном аду туманов, дождей, тающих снегов, в липкой глине, в мокром чернозёме, в иле камышёвых плавней, в тине низких берегов, раздувшихся вод, чующих близость моря.
Это наступление свершилось.
30 января 1944 года силовая разведка, по батальону от каждой дивизии, начала прощупывать немецкую оборону на никопольском плацдарме немецко-фашистских войск. День выдался морозный. Нога бойца не вязла в грязи, лёгкий ледок похрустывал под подошвой сапога, земля восхищала своей твёрдостью. Гулко звучали очереди пулемётов и выстрелы пушек. Днепровская оборона немцев была построена добротно, продуманно, умело. Окопы полного профиля. Сеть ходов сообщения. Отличные, многонакатные блиндажи для укрытия и обогревания. Впереди обороны были вынесены проволочные заграждения и минные поля. Оборону подкреплял истерически-грозный приказ Гитлера — держать никопольский плацдарм, как бы дорого это ни стоило генерал-полковнику Голлиту, командующему армией. Оборону подкрепили пространными объяснениями, доведёнными до офицерства армии. Плацдарм открывал путь к Крыму. Плацдарм политически давил на Антонеску, обеспокоенного судьбой десятка румынских дивизий, запертых войсками генерала Толбухина в Крыму. Плацдарм прикрывал никопольский марганец. Этим марганцем снабжалась вся германская металлургия, дымившая восточней Берлина. Плацдарм прикрывал Кривой Рог с его несметным запасом великолепной кроваво-кирпичной железной руды. Солдатам напомнили, что они находятся в составе армии «мщения», носящей номер погибшей в Сталинграде армии фельдмаршала Паулюса и созданной Гитлером для реванша. Наконец оборону подкрепляли необычайно удобные для немцев естественные условия — яры, овраги, высоты. Такова была их оборона в нижнем течении Днепра. Куда, пожалуй, выгодней нашей сталинградской обороны в нижнем течении Волги, на узкой полосе высокого берега.
И случаю, а быть может судьбе, было угодно, чтобы с новой 6-й армией столкнулась сталинградская армия Чуйкова. Тогда, осенью 1942 года, на Волге 6-я армия бешено наступала, таранила нашу смертную оборону. Здесь, на Днепре, роли переменились: наступала Красная Армия, 6-я армия Голлита заняла оборону. Там, в Сталинграде, в решающий момент Великой Отечественной войны, сто дней и ночей огромные массы панцырных войск Паулюса, поддержанные эскадрой опытного воздушного разбойника Рихтгоффена, рвались к великому рубежу волжской обороны. Там, на этом рубеже, мир стал свидетелем катастрофы, постигшей наступательную стратегию германского командования. Там германское наступление разбилось о стойкость русской пехоты, о мудрую, испепеляющую силу советской артиллерии. Там, в жестоких испытаниях, невзгодах, в огне, перед страшным, жадным лицом смерти, встали во весь рост боец, офицер, генерал Красной Армии, раскрыли всю свою силу, терпение, талант и богатство души, свою ясную, железную волю. Вместе с телами мёртвых немцев, с вычеркнутыми из списка существующих штурмовыми и гренадерскими дивизиями, вместе с сожжёнными и искорёженными танками и пикировщиками «штукас» была вычеркнута из действительности, искорёжена и сожжена доктрина мировой гегемонии фашизма, доктрина наступательной стратегии немецко-фашистских войск. После Сталинграда гитлеризм заговорил об обороне, после Сталинграда фашизм стал кричать о «восточном вале», о «днепровском вале», о линии «Ленинград—Одесса», о сохранении оккупированных земель и награбленных богатств. До Сталинграда фашизм говорил о другом — о власти над миром. И вот дивизии Красной Армии, осенью 1942 года оборонявшие Сталинград, в январе 1944 года готовились к решающему удару по 6-й немецкой армии, перешедшей к обороне на никопольском плацдарме в нижнем течении Днепра. Роли переменились. За плечами у Красной Армии были Курская дуга, Орловский выступ, бои за Харьков и на Северном Донце, форсирование Днепра в среднем течении, битва за Киев, брусиловское сражение.
В день 30 января немцы приняли действия нашей силовой разведки, поддержанной артиллерией, за общее наступление. Их самоуверенность и на сей раз привела к жестокой неудаче. Теперь известно, что немецкие генералы винят друг друга в катастрофе. Они обвиняют в своих докладах начальника штаба 30-го армейского корпуса Клауса в том, что он «неправильно оценивал положение, недооценивал противника и преувеличивал собственные силы». Всё это верно, конечно. Неверно лишь, что это личный грех Клауса. В тупом и хвастливом отношении к противнику, в самоуверенном превосходстве органический порок немецко-фашистской государственности и военщины; это порок фундамента, а не крыши. Вечером 30 января немцы подводили итог своим успехам. Конечно, их оборона оказалась неприступной. Конечно, красным гвардейским дивизиям не удалось сломить их. И конечно, об этом было сообщено в хвастливых тонах наверх.
А в это время, в ночь на 31-е, наше командование заканчивало осуществление решительного и быстрого манёвра. Этот манёвр — лучший свидетель зрелости мысли и воли, мужавших в невиданных испытаниях войны. Прозорливо было выбрано направление удара, решительно и быстро сжат и занесён огромный, тяжкий кулак, смело принято решение об оставлении на второстепенных участках фронта заслона, поддержанного лишь минными полями.
Утром началось наступление. Небо дрогнуло, когда над седой степью разнёсся голос нашей артиллерии. Дрогнула земля. Гвардейские корпуса стальными челюстями пушек грызли оборону противника. Потенциал боя нарастал с каждым часом. Уже кое-кто вспомнил белое каление сталинградской битвы. Ледок на лужах лопался, как оконные стёкла, от гула наших тяжёлых орудий. Немцы дрались упорно и умело. Но не только воинская зрелость наших бойцов и командиров подавляла умение и упорство немцев. Величие духа, благородная цель торжествовали в этой битве над низким духом армии убийц детей и стариков. Идеалы человечности и добра стали элементами нашей военной действительности, вплелись в боевую теорию и боевую практику Красной Армии, слились с тактическими приёмами наших генералов и офицеров. В стройном взаимодействии огромных воинских масс, управляемых высшим генералитетом, в единении командиров стрелковых рот и артиллерийских батарей, братскими глазами глядевшими на поле боя из далеко выдвинутых наблюдательных пунктов, в тесной связи радийных танков с артиллерией и самолётов-корректировщиков с наземными войсками проявляется дух коллективизма нашего народа, единство правого дела и высокой цели.
К вечеру на узком участке фронта у корпусного командира Глазунова обозначился успех: в немецкой обороне появилась глубокая вмятина. И здесь вновь тактика наших войск отразила веками складывавшийся характер народа и одновременно черты молодой революционной страны, страны смелых новаторов во всех областях жизни. В той решительности, с которой в узкий прорыв был двинут полный живой и горячей крови танковый корпус Танасчишина, в той быстроте, с которой местная неудача противника была развита и углублена до размеров катастрофического шока, — во всём этом выразился дух большевистской энергии и революционная смелость решения, умение быстрого выбора главного звена в сложной цепи боевых событий. К утру прорыв сулил немцам окружение и гибель.
Действие нашей артиллерии во всё время прорыва обороны немцев являет поучительный пример трудолюбия, ума и полного отсутствия косности. Весь огромный артиллерийский оркестр свободно и легко переходил от одного этапа боя к следующему, одновременно не только определяя действия пехоты и танков, но и подчиняясь действиям пехоты и танков, не только осуществляя заранее разработанный план, но и чутко реагируя на всё новое и неожиданное, возникавшее в процессе боя. Это не так уж легко в напряжённом темпе современного манёвренного сражения переходить от подавления заранее засечённой огневой обороны противника к сопровождению перешедшей в атаку пехоты, от уничтожения вновь обнаруженных и вновь оживающих целей к артиллерийскому бою в глубине прорванной обороны, тушить немецкий огонь на флангax и перед фронтом вырвавшихся вперёд подразделений. Такая работа требует больших духовных сил, огромного напряжения внимания, мысли, воли, быстрой реакции, смелости. Эти богатства нашли в себе наши люди, советские люди, русские артиллеристы, огневики и управленцы. Немцы пытались парировать наш обходный манёвр контрманёвром. Они ведь всегда кичились своей подвижностью. Но худое время пришло для них. Они «переманеврировали», — вместо манёвра получилось беспомощное, лихорадочное метание. Подвижность и манёвренность$7
Днём 1 февраля танковый корпус Танасчишина глубоко вошёл в тыл немцев, рассек силы противника. Этот удар был нанесён точно, танки вышли в тыл германской обороны, как хирургический нож, вызвав паралич.
В этот решающий день борьбы корпус потерял всего четыре танка.
Вслед за танками устремились в прорыв пехота и артиллерия. Принцип единства цели, подчинение всех второстепенных задач главной и основной задаче, который лежит в основе нашего государственного и хозяйственного строительства, полностью проявился в тактике наших войск в заключительной части операции. Не обращая внимания на сопротивление отдельных гарнизонов на высотах и в деревнях, широко и смело применяя обходный манёвр, наши войска углубились на сорок — пятьдесят километров в глубину немецкой обороны, седлая дороги отхода. Никопольская группировка немцев была разгромлена.
Когда я спросил генерал-полковника Чуйкова, бежал ли враг на одном из участков боя, Чуйков, усмехнувшись, ответил мне: «Он не побежал потому, что не мог, — он был уничтожен».
Так завершилась вторая встреча сталинградских армий с новой 6-й армией немцев, армией «мщения». Всего четырнадцать месяцев отделяли битву на Волге от битвы на Днепре. Исход их полон глубокого значения. В нём философия всей войны, 6-я армия на советской земле потерпела крах на двух полюсах германской стратегии войны: стратегии наступления и стратегии обороны.
Сталинградские дивизии Красной Армии доказали на Волге неприступную мощь нашей обороны, бессилие 6-й армии фельдмаршала Паулюса. На Днепре, на никопольском плацдарме, сталинградские дивизии победоносно пронесли знамя нашей наступательной стратегии по втоптанным в землю остаткам перешедшей к обороне 6-й армии генерал-полковника Голлита.
В нашем двукратном торжестве на двух полюсах войны сказались законы народной жизни, народного характера, сказалось всё, что корнями уходит в далёкое прошлое, и всё то, что связано с прекрасными чертами нашего молодого, смелого, передового советского государства.
II
Погода резко ухудшилась. День и ночь валил на землю тяжёлый снег, нудно, часами, моросили дожди, снова шёл снег и таял, едва коснувшись земли. Туман висел над степью, низкие облака, казалось, впритир шли над землёй, такие же тёмные, холодные, полные тяжёлой влаги, как и долины, холмы, поля, над которыми они ползли. Видимость часто ограничивалась ста, ста пятьюдесятью метрами. Все виды транспорта остановились. Ни гусеницы танков и транспортёров, ни опутанные цепями колёса мощных трёхосных машин не в силах были преодолеть эту чудовищную топь. Горючее, выдаваемое на двести километров, сжигалось на одном километре дороги. Колёса тяжёлых орудий увязали, их откапывали, вытягивали пушку волоком, и она вновь проваливалась, увязала, сделав один или два оборота колёс.
Разбитый противник с надеждой взирал на непроходимые топи. Одесская газетка «Молва» предсказывала полную остановку нашего наступления. Злая стихия, казалось, готова была помешать нам пожать успех. И вот тут-то во весь свой исполинский рост поднялся наш боец-пехотинец, великий человек Великой Отечественной войны.
Там, где оказались бессильны могучие моторы, перед строем остановленной стихией техники вышли бойцы с винтовками и автоматами, миномётчики с батальонными миномётами, артиллеристы с лёгкими полковыми пушками.
Наступление не остановилось ни на один день, ни на один час. Кто расскажет о великом подвиге наших людей? Кто создаст эпос этого не виданного миром движения, этого бессонного, день и ночь идущего наступления. Пехотинцы шли, неся на себе по полтора боекомплекта патронов, шли в мокрых, свинцовых, тяжёлых шинелях. Налетал жестокий северный ветер, и шинели замерзали, колом стояли, словно жестяные, не защищая от ветра. На сапоги налипали пудовые подушки грязи. Иногда люди делали не больше километра в час, так тяжела была эта дорога. На десятки километров кругом не было сухого места, и, чтобы передохнуть или переобуться, бойцы садились в грязь. Миномётчики двигались рядом со стрелками, каждый нёс на себе по полдюжине мин на верёвочных петлях.
Артиллеристам казалось, что не было в мире большей ошибки, чем та, когда назвали полковую пушку лёгкой пушкой. Как тяжела была эта лёгкая пушка! Иногда бой приходилось давать на таких участках, где даже лошади или волы не могли протащить лёгкие деревенские подводы с боеприпасами. Бывали случаи, когда десятки красноармейцев становились цепью и передавали друг другу снаряды к огневым позициям артиллерии. Жестокий огневой бой казался артиллеристам милым, желанным отдыхом, так тяжело было тащить пушки по грязи.
Но страстное чувство безостановочного движения вперёд жгло кровь и сердце всей наступающей армии.
«Ничего, — говорили люди, — немцам тяжелей, немцам гибель».
И темпы этого не виданного в истории наступления были сказочно высоки. Оно шло днём и ночью, сокрушая опорные пункты немцев, перерезая пути отхода, седлая железнодорожные узлы и перекрещения дорог в глубоких тылах противника. Оно шло одновременно с востока на запад и с севера на юг, в гармоничном сочетании этих двух движений, каждый раз отрубая новые и новые участки немецкой обороны, превращаясь в систему окружений, полуокружений, стальную, умную сеть, в которой гибли немецкие части со своей техникой и живой солдатской силой.
Командование, управлявшее сложным наступательным боем в его наиболее совершенной и трудной форме — обхода, охвата и окружения в необычайных условиях бездорожья и распутицы, — делило с бойцами всю тяжесть жизни под вечным дождём и талым снегом, в непроходимой грязи степных просторов. Штабы, погружённые на виллисы, буксировались цугом тяжёлыми танками и тракторами. Бывали дни, когда генералы шли пешком десятки километров. Однажды, когда застрявший в грязи вездеход отказался итти, корпусной командир Глазунов погрузил переносную рацию на сопровождавших его радистов, по-солдатски подвернул за пояс полы шинели и пешком ушёл вперёд, управляя по радио боем своих дивизий. Постоянная, нерушимая связь с войсками была высшим законом для командиров дивизий, и не было таких трудностей, которые могли бы нарушить эту связь.
Великую услугу наступающим войскам оказали самолёты «У-2». Они не только перебрасывали штабных командиров, доставляли срочные приказы и донесения, но и подвозили патроны пехоте, снаряды и мины артиллеристам и миномётчикам. Трудно даже понять, как удавалось трудолюбивым и скромным чернорабочим нашей авиации отрываться от липкой и цепкой земли с импровизированных посадочных площадок. Но ведь это нужно было для победы, для наступления, — и это делалось вопреки всем законам механики и всему старому опыту.
Войска фронта наступали в тех районах, где реки особенно широко разливаются, чуя близость моря, образуя лиманы в своих устьях, где само море широко врезывается в глубь суши на многие десятки километров. Берега реки в нижнем течении низменны, болотисты, разливы щедры и необъятны.
И кто расскажет будущим поколениям о подвиге инженерных войск фронта, о понтонёрах, о сапёрах, об их святой работе, о великолепных народных талантах, о страстотерпцах, стоявших по пояс в ледяной грязи и по шею в ледяной воде, бивших сваи кувалдами и певших ещё песни при этом.
Кто запомнит эти сотни бродов, штурмовых мостиков, понтонных, паромных, лодочных переправ, капитальных мостов, по которым шли танки и тяжёлые корпусные пушки. Всё это строилось и воздвигалось со сказочной быстротой, строилось при далеко отставших табельных средствах. Полковник Ткаченко, державший когда-то самую страшную переправу мира — переправу 62-й армии на Волге, переправу льда и огня, рассказывал мне о переправах нашего сегодняшнего наступления. Всё использовалось для строительства мостов и переправ, всё, что было легче воды. Заборы, ворота, двери, старые лодки, столбы, металлические бочки из-под бензина, брошенные немцами, лёд и огромные бочки из-под виноградного вина — «весёлые бочки», как их называли сапёры, — всё шло в дело. Никто не верил в возможность навести мост через Днепр при нехватке и отсутствии отставших табельных средств. Но понтонёры верили полковнику, а Ткаченко верил в своих сталинградских сынов — и они навели мост длиной в восемьсот девяносто семь метров за тридцать восемь часов. И по этому мосту прошла артиллерия.
Не было страшней работы, чем строительство моста на Южном Буге. У сапёров был лишь ничтожный плацдарм на западном берегу, противник наседал, и сапёры строили мост не под огнём немцев, а в самом огне. Штормовой северный ветер помогал немцам: уровень воды резко изменился, пал на полтора метра. Топь казалась бездонной — пробная свая ушла на одиннадцать метров вглубь, как в тесто. Но мост был построен, и за трое суток полковник пропустил через него больше десяти тысяч обозных подвод. И вот уже позади Дон, и Северный Донец, и Днепр, и Ингулец, и Ингул, и Буг, и Днестр, и лиманы, и огромный лабиринт весенних рек, потоков, речушек…
Чтобы победить, перехитрить страшную стихию, оказаться сильней, умней её, мало было таланта великого народа. Я глубоко убеждён, что в этой борьбе проявился гений народа.
Немецкая пропаганда пытается объяснить катастрофу, постигшую оккупационную армию зимой и весной этого года, тем, что русским помогла стихия, «генерал грязь». Немецкий генерал, чей злополучный доклад лежит сейчас передо мной, объяснял командованию армией: «Русские отложили начало наступления до оттепели, русские преднамеренно ждали оттепели… виной катастрофы является стихия».
Какая убогая тупость! Какое двухмерное мышление! Какая органическая неспособность понять факты, проанализировать их и сделать выводы.
Ведь мы победоносно наступали во все времена года — зимой в 1941 году, летом и осенью 1943 года, осенью, зимой и весной в 1944 году.
Эта нынешняя стихийная грязь и распутица были бесконечно тяжелы для нас. Мы наступали не благодаря грязи, а наперекор, вопреки ей. Я видел у членов военного совета фронта барометры и приборы, записывающие кривую атмосферного давления, — весь штаб ждал с часу на час, со дня на день улучшения погоды, генералы, водители войск, жаждали его, так же, как последний рядовой, наступавший по колено в грязи. Я беседовал с учёным метеорологом, читавшим специальные лекции военному совету. И как всегда бывает с предсказывателями погоды, его, беднягу, бессознательно осуждали люди, жаждавшие заморозков для нашего наступления, словно он был виноват в тяжёлом ненастья. Он рассказал мне, как по поручению генерала летал на самолёте к знаменитому на юге девяностопятилетнему пасечнику, умевшему по сотням тончайших признаков наблюдать природу, предсказывать туманы, ветры, заморозки, тепло. Но и старый пасечник не видел улучшения погоды. Метеосводки, показания радиозондов, кольцевые радиоданные о погоде каждое утро лежали на столе генерала армии Малиновского рядом с важнейшими оперативными донесениями. Стихия была жестока, распутица с каждым днём усиливалась, реки не хотели замерзать, набухали, разливались, заливали огромные низменные просторы.
Но, наперекор стихиям, Красная Армия продолжала победоносно наступать.
Каковы же действительные выводы о силах и духовной природе армий, боровшихся в украинских степях зимой и весной нынешнего года?
Так же, как в несказанно тяжёлых сталинградских оборонительных боях, в этом наступлении проявил себя могучий и благородный характер нашего человека. Стальным клином вошёл наш пехотинец в брешь, образовавшуюся между силой германского мотора и духовной убогостью немецких офицеров и солдат, борющихся за трижды проклятую идеологию массовых убийств невинных, идеологию рабства, социального и расового неравенства. Наш боец и офицер встали во весь рост перед лицом титанических трудностей. Мы покорили стихию и разбили противника. Враг покорился стихии и был разбит на полях сражений. Да, мы наступали в невиданно трудных условиях, мы наступали вопреки распутице, вопреки разливу рек, а не благодаря им. Стихия покорна не слабым, а сильным духом. Слабые духом покорны стихии. Наша пехота, наш красноармеец и офицер сумели в условиях этого наступления восполнить своим мужеством, талантом, своим терпением, смёткой то, что отняла у нас распутица. Мы осуществляли сложный и мудрый манёвр, когда моторы наши останавливались из-за бездорожья. Мы отражали контратаки танков пехотными средствами, ибо истребительная артиллерия не поспевала за наступлением. Мы научились крошить оборону противника, имея считанные снаряды, так как боеприпасы не поспевали в час боя к огневым позициям.
Пехота сумела подавлять лёгкими огневыми средствами — винтовкой, пулемётом, батальонным миномётом тяжёлую огневую оборону противника. Мы вынесли тылы на своих плечах. Мы на руках вынесли свою артиллерию. Духовное богатство советских людей полностью восторжествовало над величайшими трудностями, победило стихию, повергло врага.
Так проявила себя Красная Армия перед лицом титанических трудностей.
— Ну, а как же проявили себя солдаты, офицеры, генералы немецко-фашистской армии? Каков был их дух, в чём искали они и нашли средство борьбы, силу?
В наши руки попали доклад и объяснительная записка командира 16-й мотодивизии генерал-лейтенанта графа фон Шверина. Гитлеровское командование предало его суду, как одного из виновников катастрофы: это на него обрушился удар наступавших сталинградцев. Его оправдания перед генерал-полковником Голлитом, командовавшим армией, исчерпывающе отвечают на поставленный здесь вопрос. Их не нужно комментировать. Хочется только вспомнить вот что:
16-ю мотодивизию я встречал при её наступлении на Степное и Астрахань в конце лета 1942 года. Она запомнилась мне по рассказам жителей, выделявших солдат и офицеров фон Шверина, как особо наглых и разнузданных подлецов. Они ездили голыми на мотоциклах по улицам Степного, в непотребном виде плясали на улицах под губные гармошки, бешено пьянствовали, истребляли огромные количества мяса, мёда, сахара, пожрали всех кур и барашков в округе, в пьяном «философском» азарте доказывали русским девушкам, что судьба России и русских стать вечными рабами высшей расы — германских господ. Они отметили свой путь расправой над тысячами стариков и детей. Учительница средней школы в Степном рассказывала мне, как офицер этой дивизии пытался изнасиловать её и как денщик офицера запер её в квартире со своим пьяным хозяином на ключ, и она стояла, держа на руках шестимесячного ребёнка, а офицер графа фон Шверина то приставлял дуло револьвера к голове младенца, то стрелял в пол, всаживая пули у самых ног молодой женщины.
И вот что писал командир этой 16-й мотодивизии, граф фон Шверин, весной 1944 года. Прежде всего о наступлении наших войск:
«Во второй половине дня все высоты были у противника, где он сосредоточился в небольшом количестве и подтянул туда тяжёлое вооружение.
Одновременно корпус сообщил, что противник неустановленной силой продвинулся из Екатериновки на Каменку и уже прорвался на северную окраину Широчаны.
Во второй половине дня противник усилил натиск в направлении высот, что восточней и северо-восточней Михайловки.
Офицеры сомневались, что дивизия сможет удержать рубеж, но со стороны командования было объявлено, что приняты все меры для обеспечения прочной обороны.
С наступлением темноты противник начал наступление и прорвался на северную окраину Михайловки, создалась паника… В 23.00 противник большими силами с криками „ура“ атаковал высоту 87,5, опрокинул находящийся там батальон зенитных орудий 9-й танковой дивизии, стал теснить их на запад. Этими действиями противник отрезал единственно годную дорогу на Михайловку. В этой обстановке распространились панические слухи, что противник овладел высотами на северо-западе Михайловки. Подразделения артиллерийского полка, прикрывающие этот участок, оставили свои позиции. Михайловке угрожало окружение. Я полагал, что за оставление Михайловки я не заслуживаю упрёка».
Вот так рисовал картину немецкий генерал-лейтенант. Вот как он описывает состояние своих войск во время нашего наступления:
«3 февраля утром ко мне явился полковник Фишер с остатками своего штаба. Он доложил, что его полк оттеснён на восток (!) и, вероятно, находится в окружении. Одновременно я получил сообщение со станции Апостолово, что отдельные группы рассеянной дивизии находятся там. Они сильно истощены, не имеют боеприпасов и оружия. При отступлении из Михайловки было потеряно большое количество автомашин. Пехота вынуждена была бросить орудия, чтобы легче продвигаться. Потеряны боеприпасы и тяжёлое вооружение. Много людей настолько утомились, что остались лежать на дорогах. Это положение привело солдат в состояние полнейшей дезорганизации и деморализации. Из бывших в Михайловне частей 123-й пехотной дивизии и 306-й пехотной дивизии никого не оказалось. Было неизвестно, отступили ли они ночью в северо-восточном направлении, или полностью разбиты.
306-й полевой запасной батальон — ограниченно боеспособный. Он пополнился из обозников, в нём нет чувства единства, его руководство неполноценно.
Остатки второго и третьего батальонов 60-го мотополка — в состоянии истощённости. Нехватает вооружения, пулемётов совсем нет, тяжёлого оружия совсем мало. Нет средств управления в штабах.
Остатки 45-го пехотного полка физически и морально до того истощены, что едва пригодны к действию. Отсутствует вооружение, боеприпасы, состав руководства и обеспечения».
С чувством законной гордости и глубокого удовлетворения каждый советский человек, боец, офицер, рабочий, интеллигент прочтут эти признания гитлеровского генерала.
И, наконец, граф фон Шверин даёт общую картину состояния своих панцырных, механизированных войск:
«Грузовики и тягачи беспомощно стояли в грязи, солдаты беспомощно наблюдали, как гибнет их оружие, снаряжение, боеприпасы, а также личные вещи. Эти люди бродят по колено в грязи без плана и руководства, положение их катастрофическое, они всюду сеют панику и испуг. Управление войсками приостанавливается, и всюду царит замешательство, так как без связи весь аппарат управления выбывает из строя. Всё это выглядит, как будто солдату сначала отнимают ноги, затем руки и, наконец, закрывают рот. Такое состояние властвует над каждым, кто попал в это положение, независимо от того, офицер он или солдат».
И поистине великолепно следующее глубокомысленное резюме: «Мои соединения должны иметь хорошие твёрдые дороги; когда дороги плохи, они теряют возможность к передвижению».
Это свидетельство поверженного противника достаточно объективно.
Так, столкнувшись в единоборстве на полях и степях Украины, проявила свою духовную силу Красная Армия, и своё бессилие — немецко-фашистские войска. Злая стихия, одинаково враждебная и нам и противнику, была побеждена сильными духом советскими людьми. Распутица и разливы рек не помешали свершить справедливую месть над разбойничьими ордами, вторгшимися на нашу землю. Немцы проявили в своей оборонительной стратегии всю дефектность и ограниченность своего духа и военного мышления. Так же как и в сталинградском наступлении, их подвела диспропорция между силой мотора и духовной силой, гибкостью, умением офицеров и солдат, попавших в условия, не предусмотренные уставом. Они не проявили ни духовной силы, ни тактической гибкости, ни умения.
«Мои соединения должны иметь хорошие твёрдые дороги; когда дороги плохие, они теряют возможность к передвижению». Это формула попугая, а не генерала.
Великолепные образцы оборонительного боя, данные нами в Сталинграде, оказались для них недоступны. Ручная граната, этот суворовский штык нынешней войны, это мощное оружие рукопашной оборонительной схватки, оказалось им не по плечу.
Лишь в одном остались они себе верны до конца. Весь путь их отступления отмечен расстрелами тысяч женщин, стариков, убийствами невинных, трупами детей, брошенных в колодцы. Уходя из деревень, лишённые возможности угнать свою технику, они подтягивали вплотную чёрные зловещие машины к белым украинским хаткам и поджигали бензиновые баки. Так они и стоят, обгоревшие, угрюмые остовы машин рядом с погубленными ими белыми домиками. Это символ немецкого фашизма: подобно издыхающему скорпиону, вонзает он своё жало во всё живое, чтобы в смердящей смерти своей погубить невинную жизнь.
Призыв вождя Красной Армии товарища Сталина «истребить всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу родину для её порабощения», претворяется в жизнь. Теперь мы можем сказать это, когда Красная Армия повсеместно выходит к государственным границам Советского Союза. В десятках гигантских «котлов» и «мешков», в стальных сетях окружений истребляет Красная Армия многомиллионную армию немецко-фашистских злодеев. Тех, кто дерзнул перейти нашу границу и живым ускользнул от расплаты, Красная Армия настигнет в их логове. Наступает новый, решающий этап войны.
3-й Украинский фронг
26 апреля
Советская граница
Командный пункт генерал-лейтенанта Мещерякова поместился на краю деревни, на холме.
— Курорт, — весело говорили офицеры связи и работники штаба, подъезжая к хате, над которой простёрлись огромные, толстые ветви дерева.
Через бинокль из окна можно было разглядеть холмистую линию, по ней проходила оборона немцев. Днём, богатая глубокой чистой водой, река блестела на солнце ярко и весело. Ночью сквозь тёмную резную листву проглядывали звёзды, и река серебрилась при свете месяца.
По южному склону холма рос виноград, в долине густо поднималась кукуруза, шелестела шелковистыми острыми перьями. В хатах даже в полдень было прохладно, и белёные стены ярко блестели, а ночью, при луне, казались голубыми.
Генерал в сумерки гулял под низко нависшими ветвями. Он медленно шёл, сняв фуражку, и часовые часто теряли его из виду в глубокой тени деревьев. Они пристально всматривались в темноту и вдруг видели в лунном свете его седую голову. Он стоял на холме и подолгу смотрел на реку, в ту сторону, где окопались немцы.
И всё время, пока он глядел, часовые молчали, не напевали, не курили скрытую в рукаве цыгарку, не перекликались. А когда командарм заходил в хату, вспыхивал огонёк папироски, — это закуривал автоматчик, стоявший у хаты начальника штаба, начинал чуть слышно свистеть песню плечистый пожилой боец Панкратов, охранявший домик командующего, покашливал татарин Кафий, которого в батальоне охраны штаба звали Колькой.
Днём у генерала собрались командиры дивизий. Сложные и большие дела предстояли армии. Склонившись над картой, слушали командующего полковники и генералы. В дружном действии пехоты, танков, артиллерийских полков, инженерных батальонов, истребительной и тяжёлой авиации предстояло ломать немецкую оборону, разрубать немецкие дивизии, бить врага на его земле.
Командующий познакомил собравшихся с планом. Командиры частей докладывали о степени готовности, высказывали соображения об особенностях неприятельских позиций на этом рубеже. Говорили о ложных демонстрациях, о направлении главного удара, о боеприпасах, о связи проволочной и беспроволочной, о взаимодействии артиллерии и танков, авиации и пехоты, о минных полях, о наведении мостов, о дымовых завесах на переправах, о продовольственном снабжении, о многосложном вопросе взаимодействия в глубине прорванной обороны противника.
Командующий слушал внимательно. Люди, победоносно доведшие свои полки и дивизии до границ родной земли, имели за плечами десятки сложных сражений, хорошо знали противника, его силы и слабости. Они знали своих подчинённых, их характеры, склонности, страсти, их опыт, их умение. Они прошли школу войны невиданной тяжести. Они доказали в испытаниях и превратностях сражений силу своего духа. Они показали, что для этой невиданной войны мало было знаний, данных им в академиях, они обогатили эти знания своим вдохновением, талантом, смелостью мысли, творчеством. Они показали, что водить в бой полки и дивизии — это не только наука, но и искусство, в высоком, вдохновенном смысле этого слова. Они показали в этой войне всё уважение своё к традиции и всё презрение к штампу и шаблону. Они не боялись чёрной работы, лишений, опасностей, холода, — они были сыновьями народа.
Командующий армии, облокотившись на стол, внимательно слушал скупые, немногословные речи командиров.
Совещание кончилось.
Наступила минута, когда надо было прощаться. Но ни Мещерякову, ни командирам частей не хотелось расставаться. Что-то торжественное и волнующее было в этом собрании на границе освобождённых земель, на новом рубеже войны.
Людей связывало братство, — огромная братская цепь лишений, горя первых месяцев войны, великих военных трудов.
Мещеряков негромко проговорил:
— Да, вот и перешли мы границу. Вчера вечером посмотрел я с этого холма и задумался. Был в этих местах в войну четырнадцатого года человек один…
Он рассмеялся и сказал:
— Семён Маркович Мещеряков, крестьянский сын, рядовой первого взвода, второй роты.
Начальник артиллерии, коренастый, большеголовый генерал, с седым густым ёжиком волос над морщинистым лбом, автор известного учебника, заведывавший до войны кафедрой в академии, живо сказал:
— А ведь мы с вами, Семён Маркович, почти соседями были, я тут в пятнадцатом году километров на сто двадцать юго-западней служил: в горной артиллерии наводчиком.
— Пушки Гочкиса, — сказал начальник связи, толстый полковник в очках, кашляя и смеясь, — пушки Гочкиса. Мне ли их не знать, я ведь был чертёжником в ремонтных артиллерийских мастерских Юго-Западного фронта, со второго курса политехникума добровольцем пошёл.
— Ох ты, куда нам! — сказал курчавый генерал, известный и стране и миру по страшному удару, который он нанёс немцам под Сталинградом. — Я в то время в Питере тринадцатилетним мальчишкой был, в шорной мастерской подмастерьем работал.
А молодой щеголеватый командир гвардейской дивизии, с Золотой Звездой Героя Советского Союза, весело проговорил:
— В этих местах я был в сорок первом году, командовал батальоном в звании майора. А во времена доисторические, о которых товарищ командующий говорит, я под стол пешком ходил: старший брат Колька достиг должности помощника пастуха, а я у него состоял для особых поручений.
Все рассмеялись.
Вошёл адъютант и, подойдя к генералу, наклонившись, сказал ему шопотом несколько слов. Генерал кивнул и проговорил:
— Вот, оказывается, обед готов. Так что никого не отпускаю. Прошу, товарищи, ко мне пообедать. Стол накрыт под деревьями, и воздух свежий.
Толстый полковник негромко сказал соседу:
— Воздух свежий вещь хорошая, но вино тоже неплохая штука. Будет ли?
Командующий повернулся к нему и сказал:
— Ну, а как же, товарищ полковник! Отличное виноградное вино, прохладное, прямо из погреба. Неужели вы сомневались во мне?
Полковник смутился. Он уж сразу понял, что товарищи по службе теперь долго его будут дразнить при встречах: «А помните, как вы у командующего вина требовали?»
В этой же деревне, за этим же столом, под этим же тенистым деревом, где сегодня командующий угощал обедом командиров дивизий, три недели тому назад сидел командир немецкого корпуса генерал-лейтенант граф фон Эрленкампф.
Ночью предстояло переезжать на новый командный пункт. Денщики под руководством адъютанта упаковывалии чемоданы, шофёр, возивший графа с первых дней войны, заливал, горючее в запасные бачки, подвязанные толстыми ремнями и обрывками проволоки к лакированному кузову большой оппелевской машины «Адмирал».
Эрленкампф сидел за столом, не снимая плаща, рядом с ним стоял начальник штаба полковник Клаус.
— Сядьте, Клаус, — сказал Эрленкампф, — выпейте коньяку. — Он налил стаканы и, усмехнувшись, сказал:
— Давайте чокнемся. Чокнемся за благополучный переход русской границы… для меня и для вас, конечно.
— Русский поход не кончен, — сказал Клаус.
— Что ж, рано ещё пить за благополучное окончание русского похода мне и вам… — сказал командир корпуса.
Обычная сдержанность изменила ему. Он выпил, налил коньяку в стакан и снова выпил.
— Весёлые мысли приходят мне в голову, — сказал он, — поистине удивительно весёлые мысли. Вот примерно в этих местах я устроил обед своим офицерам, это было двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого года. Великий день, — говорили мы. Мало того, мы верили в это. И вот я снова сижу под таким же деревом, й снова на восток от меня русская земля. Кто, кстати, придумал эти слова: «восточное жизненное пространство»? Ничто не изменилось, Клаус, как будто? Чушь! Тогда мы были силой, теперь мы… да что говорить вам. Вы не хуже меня знаете положение дел. Где командиры дивизий, с которыми я пил за успех в сорок первом? Краузе убит партизанами, Фишер погиб под Белгородом, фон Ростоцкий взят в плен на Дону. А все другие? А незаменимый Бюхнер? А железный полковник Гаус? А ваш предшественник Шюллер? Никого нет. А где солдаты гренадеры, где те, кто дважды сменял их? Вчера я навёл итоговую справку — на весь личный состав корпуса неполных два процента ветеранов. Подумайте, неполных два процента! Остальные остались — одни в земле, другие в плену, некоторые искалеченными вернулись на родину. Клаус, это не жизненное пространство. Пространство смерти, вот слово! И вот мы с вами вышли, руки и ноги у нас на месте. Мы не лежим в земле, нас не отдали, как многих, под суд, не разжаловали, не сместили на низшую должность, как графа Шверина. За всё это стоит выпить, а? За незабываемые картины, виденные во время русского похода, за фельдмаршала Паулюса, за фельдмаршала Манштейна, — помните, мы видели его бредущим по грязи, с грязными руками и лицом, когда испортилась его машина, — за бегущего Голлита, за крах Браухича, за то страшное поле под Касторной, где не видно было этой проклятой земли, так плотно лежали на ней тела наших солдат, за сошедших с ума после русских артиллерийских штурмов, за валяющихся в грязи офицеров и солдат, за огромные танковые армии, погибшие до последней машины. А, Клаус, что же вы скажете? Никогда начальник штаба не видел генерала в таком состоянии.
— Вас трудно сегодня назвать оптимистом, — сказал начальник штаба.
— Одного я понять не мог и не могу, — продолжал Эрленкампф. — Мы всё время теряли, и сегодня, переходя снова границу, я могу сказать: мы теряли всё, что можно терять, — стратегические планы, уверенность, технику, и самое главное — мы теряли наши знания, наш опыт, заболели манией «котла» и «окружения». Провоевав в России три года, мы не научились воевать, а наоборот, мы стали хуже воевать, мы сделались трусливей, малограмотней. Офицер сорок второго года хуже, глупей офицера сорок первого, а офицер сорок четвёртого худосочней, глупей, бледней офицера сорок третьего. От офицеров первого сорта мы перешли к офицерам четвёртого. Всё это понятно. Но почему у русских действует прямо противоположный закон? Почему они так богаты способными людьми? Что они, из земли, что ли, растут? Где они берут эти тысячи тысяч талантливых офицеров? Откуда они? Почему война иссушила мозг германской армии? Почему война рождает русским богатейший урожай талантливых людей? Где берут они их? А, Клаус?
— Я не знаю, — сказал Клаус.
Эрленкампф поглядел на него и сказал с обычным спокойствием:
— Давайте забудем этот разговор, Клаус. Вы понимаете, что значит для человека, чей прадед был немецким генералом, перейти русскую границу так, как я её сегодня перешёл.
Хозяин избы, в которой стояли автоматчики, охранявшие военный совет, был очень стар. Даже его сына бойцы охраны и шофёры командующего называли стариком. Они так и говорили: «старый старик» и «тот старик, что помолодше».
Главным разговорщиком со стариками был Панкратов, охранявший домик командующего. Человек положительный, до войны занимавший высокую должность председателя в колхозе, Панкратов имел привычку вникать во все обстоятельства жизни, любил объяснять и слушать.
Хозяин довольно складно говорил по-русски, он когда-то жил под Бендерами и служил у русского помещика.
— Тут уж русский воевал в шестнадцатому году, — говорил старик, — я помню, и в этой хате у меня стоял русский солдат.
— Так, — сказал Панкратов, любивший подвергать факты анализу. — Ну, скажем, жил у тебя русский солдат. Как же ты смотришь, что он у тебя жил?
— Другой стал, — сказал старик, — тогда один только солдат грамоту знал, и к нему со всех хат солдаты ходили, один просит письмо прочесть, другой просит письмо написать. А теперь, я вижу, каждый себе письмо пишет, каждый себе письмо читает, газету читает, книжку читает, карту смотрит, тетрадку пишет.
— Правильно, — сказал Панкратов. — А ты неграмотный, что ли? Не переменился?
— Нет. Меня с мужика не скинешь. Какой был, такой остался. И сын мой неграмотный. Нас с мужика не скинешь.
— Видишь, а у меня сын заведующий областным финансовым отделом. Над всеми бухгалтерами и счетоводами воевода.
Старик рассмеялся и проговорил:
— Я твоего сына не знаю. Вот моего я знаю.
— Ты вроде не веришь, — сказал Панкратов, — да разве я один? Вот по моему колхозу, знаешь, сколько мы по учёной части людей пустили? Сёмка Пронин в профессорах ходит. Анютка и Вера Мироновы на докторши выучились. Степановых Люба тоже докторша, приезжала в сорок первом году, две шпалы носит. Беловых два брата в инженерах. Колхозного конюха Митриева внук Павел тоже инженер, начальник производства. В учителях, в городе, шесть человек. Козин Витька, какой был обормот, — теперь в Москве, в газетах пишет. А уж механиков, трактористов — это я не считаю, собьёшься считать! От нашего колхоза, хочешь знать, два полковника воюют. Ты говоришь, сына моего не видел? Как я его тебе представлю сюда? Или, хочешь, напишу, чтобы справку прислал. Ты покумекай, борода, маленько, поймёшь тогда, чем мы верх над немцем взяли. И он стал считать по пальцам:
— Немец — раз, итальянцы, — два, финны, венгры, румыны — это сколько? Пять. От Испании, писали в газете, дивизию обормотов ихних представили. Это всё на нас одних. Такого не было. Всё злодейство на нас навалилось, со всего света. Тут бы никто не выдержал. Если б в четырнадцатом году такая махина на нас насела, а? Вот я так и понимаю, сила огромная у нас стала, народ у нас после революции весь в гору пошёл. Если уж генерал из мужиков вышел, будь спокоен, представим такого, что и не мечтал никто. А Гитлер, дурачок, не понял этой механики. Думал, у нас всё по-старому — мужик лапти плетёт, а рабочий в кабак ходит.
Он говорил так быстро, что старик и половины не понял из его слов.
Панкратову очень хотелось рассказать, что сам командующий вышел из простого звания, но усомнился, полагая в этом военную тайну, и промолчал.
А в это время пришёл старшина и сказал:
— Панкратов, ты что же здесь идиллии разводишь, тебе время заступать. Расселся хозяин и сидит, или наряд хочешь заработать?
А вечером, в сумерки, генерал стоял на холме и смотрел на реку, на далёкие холмы, где окопались немцы. И часовые видели при лунном свете его седую голову. О чём же он думал?
На запад уже не лежали русские и украинские земли, попранные немцами. Там лежали земли врага. За спиной у армии были огромные просторы, пройденные от Волги, десятки рек.
А вода всё бежала, наслушавшись грома орудий и взрывов гранат, печальных песен, унося в себе взгляды и мысли рыбаков в рваных ситцевых рубахах, кидавших сети в глубокие омуты, унося в себе ночной шопот разведчиков и солёную кровь бойцов, что дрались на этих реках за свободу России и Украины, Молдавии и Белоруссии. Реки бежали в море, и слёзы, и кровь, и мысли народа смешивались с морской водой. Оттого так горька и солона была морская волна.
Оттого столько силы в кипучей морской волне, что бегут в море реки из страны, ничего не пожалевшей в кровавой войне. Из страны, где живёт народ, вложивший в борьбу и великие силы свои, и сердца, и освобождённые революцией талант и разум трудового человека.
3-й Украинский фронт
Май
Бобруйский «котёл» (Дорожные записи)
I
День и час наступления рождаются в великой тайне, Но, конечно, тысячи тысяч людей, вся Красная Армия, весь советский народ знали, что наступление будет, и ждали его. Противник томительно ждал нашего наступления, готовился к нему, лихорадочно вслушиваясь в лукавую, заманивающую стрельбу наших пушек, вызывавших на ответный огонь немецкие батареи, скрытые в лесах, рощах, высокой зелёной ржи.
Да, немцы ждали и готовились к нашему наступлению.
Дивизии фельдмаршала фон Буша, собранные против армий одного лишь Рокоссовского, к часу удара числом своим не уступали дивизиям Рундштедта, подготовленных к отражению вторжения английских и американских войск во Францию. Но дивизии Буша превосходили европейские армии немцев своей выучкой и военным опытом. Эти отборные войска должны были отразить атаку армий 1-го Белорусского фронта. Фон Буш лично, незадолго до нашего наступления, объезжал дивизии и полки, призывая к стойкости солдат. С солдат была взята подписка, что они умрут, но не отступят ни на шаг. Им объявили, что отступавшие будут расстреляны, а семьи их в Германии репрессированы. Оборона на реке Друть уходила в глубину на многие километры. Шесть линий траншей, минные поля, проволока, артиллерия всех калибров — всё было подготовлено для успешного отражения атаки. Немцы ждали удара. Офицер, захваченный нами в плен за несколько дней до начала наступления, рассказал, что единственной темой разговоров среди немецкого офицерства было предстоящее наступление советских войск. Шопотом поговаривали о громадном белорусском «котле». Гадали о направлении ударов. В армиях были отменены отпуска. В обороне были подготовлены новинки. Так, например, в предвидении нашей артиллерийской подготовки немцы, помимо мощных многонакатных блиндажей, устроили в траншеях специальные куполы из гофрированного металла. Такой металлический колокол, сверху засыпанный песком, выдерживает удар снаряда среднего калибра и служит укрытием для пулемёта и пулемётчика на время артиллерийской подготовки. Едва кончается огонь артиллерии, пулемётчик выскакивает со своим оружием по специальному лазу и ведёт огонь. Такие пулемёты в некоторых траншеях находились друг от друга на расстоянии 10–15 метров. В предвидении того, что многие батареи засечены нашей артиллерийской разведкой, немцы установили новые, «немые», батареи пушек и миномётов, ничем не выдававшие своего присутствия в период затишья. Они были специально предназначены к ведению огня по нашей пехоте.
В чём же, рождается вопрос, тайна наступления, если все мы, и не только наши друзья, но и враги наши, ждали его?
Тайна наступления была в том, что немцы не знали дня его и часа, не знали направления главного и вспомогательных ударов. Успех немецкого наступления в июне 1941 года был в значительной степени определён вероломной, бандитской внезапностью. Неуспех немецкого наступления в июле 1943 года в известной степени определялся тем, что мы знали об этом наступлении, ждали его и готовились к нему. Наша разведка установила не только день, но и час его. Немцам не удалось нанести удар в спину. Немецкое наступление, лишённое элемента бандитской внезапности, превратилось в отступление. Битва за Курск, начатая немцами, кончилась на Днепре. В этой битве немцы потеряли Украину. При встрече грудь с грудью немцы были разбиты. Ровно через три года после начала войны грохот артиллерийской канонады, перекатываясь по трём фронтам с севера на юг, известил мир, что началась битва за Белоруссию.
Нам не помогало, как немцам в июне 1941 года, вероломство. Повернувшись к врагу грудью, мы доказали в эти дни своё преимущество над ним, превосходство нашего оружия, превосходство нашего духа, нашего умения.
II
Войска генерала Горбатова начали артиллерийскую подготовку в четыре часа утра. Дул порывистый холодный ветер рассвета. Воздух, избы в пустой деревне, деревья, земля, не по-летнему низкие облака казались серыми, словно весь мир в. этот рассветный час был нарисован скучными водянистыми чернилами. На деревьях, торопя приход солнца, кричали птицы. Серый свет без солнца тревожил и пугал их. В это утро было две зари. Небо на западе осветилось мерцающим, сплошным и беспрерывным огнём, он спорил с огнем всходившего солнца. Святой огонь отечественной войны.
Тяжкие молоты артиллерии главного командования, рёв дивизионных пушек, удары гаубиц, чёткая и частая стрельба полковых пушек слились в единый потрясающий землю звук. Облака, поглощая огонь, начали светиться, точно и в самом деле взошло в небо ещё одно солнце.
В грохот артиллерийской молотьбы ворвался свистящий звук, словно огромный паровоз выпускал пары, и в небо поднялись сотни огненных серпов и остриём своим вонзились в немецкие траншей, — то начали свою работу дивизионы гвардейских миномётов… Кошка бежала по пустой улице деревни, она, видимо, кричала, но крик её не был слышен. Листва белорусских клёнов, дубов, тополей трепетала. В пустых избах вылетали стёкла, рушились печи, хлопали двери и ставни.
На мгновенье смолкла стрельба, но тишины не было — на деревьях дружно пели птицы. Они приветствовали солнце свободы, всходившее над Белоруссией.
Когда сторонний человек подъезжает к металлургическому заводу, то грохот разумного труда кажется ему хаосом, рёвом моря. В этом сегодняшнем грохоте нашей артиллерии непосвящённому человеку тоже могло почудиться бушевание стихии, хаос. Но то был грохот труда войны, труда столь же умного, сложного и большого, как труд тысяч инженеров, горновых, сталеваров, чертёжников, прокатчиков, диспетчеров на металлургическом заводе. Сотни и тысячи часов кропотливой, напряжённой работы предшествовали этому буйному пиршеству артиллерийского огня. Каждое из многих сотен орудий било по заранее разведанной и засечённой цели.
Огромный труд разведчиков, командиров полков и дивизионов, лётчиков, топографов и штабных офицеров предшествовал шквальному огню артиллерии. Он, этот разумный и кропотливый труд, направлял движение и удары огневого вала, и каждая из наших пушек била по пушке, по пулемёту врага. И всё же не весь огонь противника был подавлен во время артиллерийской подготовки. Несколько раз наша пехота поднималась в атаку и встречала огонь немецких пулемётов и миномётов. Немцы отлично понимали значение рубежа своей обороны, они дрались за него со страшным упорством, с бешенством отчаяния, с яростью самоубийц. Они выползали из-под гофрированных листов металла, устанавливали в полуразрушенных траншеях пулемёты; их «немые» орудия и пулемёты заговорили. В этой встрече грудь с грудью немцы напрягли все свои силы, достигли высшего потенциала своего оборонительного упорства. Это был бой без всяких скидок на «эластичность», мастером которой считался бывший командующий 9-й армией генерал Модель, «Модель эластичный». В нынешних боях 9-я армия должна была проявить всю свою стойкость.
Тяжело было наступать дивизиям Красной Армии по болотистой пойме Друти на высоты, занятые немцами, на тянущиеся на километры одна за другой траншеи… К середине дня в воздух поднялась наша авиация. Никогда не приходилось видеть мне такого количества самолётов. Огромный простор неба стал вдруг тесен, как становится тесной Красная площадь в дни майского праздника. Небо гудело — мерно рокотали пикирующие бомбардировщики, жёсткими железными голосами гудели штурмовики, пронзительно взвывали моторы «яков» и «лагов». Луга и поля стали пятнистыми от плавных теней облаков и быстрых теней сотен самолётов, летевших между землёй и солнцем. За линией фронта поднялась высокая чёрная стена: дым казался тяжёлым и чёрным, как земля, а земля легко шла в небо, превращенная в дым. И в это время новый тяжкий звук вошёл в оркестр битвы. Танковый корпус, тайно сосредоточенный в лесу, всем своим стальным телом пополз к месту нового сосредоточения, готовясь войти в прорыв вражеской обороны. Машины шли, замаскированные срубленными ветвями и стволами молодых берёзок и осин. Миллионы молодых зелёных листочков трепетали в воздухе, молодые лица танкистов глядели из люков. Готовясь к наступлению, на фронте обычно говорят: «будет свадьба», «будет праздник». И невольно думалось, глядя на сталь, увенчанную зеленью: вот он наступил, праздник, — суровый, дерзкий праздник войны.
Пришли минуты, когда грохот артиллерии, гул самолётов, рёв танковых моторов слились в один потрясающий небо и землю гуд. И казалось — то поднялся Урал, до которого собирались дойти захватчики, поднялся и зашагал на запад, прогибая землю и небо. И ничего так не хотелось, как чудом перенести в этот час торжества силы нашего рабочего отечества тысячи тысяч великих, скромных тружеников, рабочих и инженеров, чьей бессонной работой, чьими золотыми, честными руками, чьим тяжёлым потом созданы пушки, танки, самолёты Красной Армии. Их не было, они не могли быть здесь, но пусть знают они, что в эти грозные, кровавые дни приходилось слышать от многих и многих генералов, офицеров, красноармейцев-пехотинцев слова великой благодарности и великой любви, обращенные к нашим рабочим. Их труд, их пот сохранил много молодой крови, крови тех, кто шёл вперёд.
III
Говорят, пехота царица полей. В эти дни пехота была царицей не одних только полей, она царила в лесах, на болотах, на реках. Все роды оружия служат ей, но и она служит им всем. Велика сила моторов, брони, огня механизмов. Пушка борется с пушкой, осколки снарядов рвут колючую проволоку. Сапёры прокладывают проходы в минных полях. Страшная это работа: в тридцати — пятидесяти метрах от траншей противника во время нашей артиллерийской подготовки ползком пробираться вперёд, обезвреживать мины, резать проволоку. Здесь мы встретились со старыми сталинградцами-гуртьевцами, сапёрами майора Рывкина, мастера дела, в котором ошибиться можно лишь раз. Так же, как на заводе «Баррикады», ползал перед брустверами немецких окопов сухощавый старший сержант Ефим Ефимович Дудников — в руках ножницы, щуп, в брезентовой сумочке гранаты, на боку пистолет лучшего сапёра Сталинграда легендарного Брысина, погибшего несколько месяцев тому назад. Этот пистолет был передан Дудникову командованием дивизии. Проходы в минных полях перед фронтом дивизии были сделаны столь тщательно, что за весь период прорыва вражеской обороны ни один человек не подорвался на вражеской мине. Полковая артиллерия н самоходные пушки, танки поддержки пехоты сопутствовали стрелкам во всё время прорыва. Упорное, бешеное сопротивление немцев, длившееся тридцать часов, было сломлено, и к полудню на второй день наши войска захватили все шесть линий немецких траншей. Сильны моторы и броня танков, сокрушительна сила артиллерийского огня. Сила моторов и пулемётного огня помогли пехоте. И пехотинец, демиург войны, идущий в тоненькой гимнастерочке по железным полям битвы, щедро оплатил ту помощь, что оказали ему при прорыве обороны врага. Он не остался в долгу ни перед артиллерией, ни перед танками, ни перед сапёрами.
Стрелковые полки, вырвавшись вперёд, не знали ни дня, ни ночи. Их бессонное боевое движение не дало врагу закрепиться ни на одном из рубежей. Ни на Догбысне, ни на реке Оле, ни на Вири. Пехота указывала самоходным пушкам скрытые в зарослях «фердинанды» У сапёров не стало работы по разминированию дорог и строительству мостов: столь стремительным был натиск пехоты, что немцы не успевали взрывать и минировать. Из-под одного большого моста было вытащено полторы тонны заранее заложенной немцами взрывчатки. Сотни мостов, мостиков, гатей остались целы. Путь танкам был открыт. Пехота шла полями, в болотах по пояс, тёмным лесом, колючими зарослями, появляясь там, где не ждали её немцы. Она щедро оплатила свой долг артиллерии и танкам. Операция была рассчитана высшим штабом на девять дней, генерал Горбатов взялся провести её за семь. Человек с винтовкой, в выцветшей от дождя и солнца гимнастёрке дал возможность командованию осуществить свой замысел в три дня.
В чём же заключался этот замысел?
Идея его, как все хорошие и большие идеи, была проста. После прорыва немецкой обороны главный удар был намечен на неожиданном для немцев направлении. Танки, войдя в прорыв и устремившись перпендикулярно к Березине, в определённом пункте резко меняли направление движения и, выйдя северней Бобруйска в тыл немцам, должны были превратиться в стальную наковальню, на которой очутятся пять пехотных и одна танковая дивизия противника. Успех операции сулил немцам жестокий «котёл», смертное окружение. Сосредоточение танковых и артиллерийских сил на направлении главного удара происходило в величайшей тайне. Огромные переброски боевой техники шли в течение нескольких недель в тёмные ночные часы. Пятьдесят опытных офицеров руководили движением. Артиллерийские и танковые полки задолго до рассвета бесследно исчезали в лесах на берегу Друти. Немецкие разведчики констатировали изо дня в день одно и то же: «По дорогам обычное движение».
И вот к полудню на третий день после начала наступления танки Бахарева вошли в прорыв. Они ринулись по дорогам, которые пехота не дала немцам заминировать, переправлялись по мостам, которые пехота не дала немцам взорвать. В течение нескольких часов марш танков был закончен — группировка немцев, отступавшая под ударами наших пехотных дивизий на запад от Друти, была отрезана у восточного берега Березины. Этой части 9-й немецко-фашистской армии не удалось вырваться к Березине, как вырвалась к ней когда-то армия Наполеона. Возмездие настигло немцев не на переправе, а на восточном берегу реки. Березине отныне суждено навеки ужасать всех, помысливших о вторжении в Россию. Березина 1944 года стала рядом с Березиной 1812 года.
IV
Мне удалось видеть, как были сцементированы стены бобруйского «котла» и как, если можно так выразиться, действовали ножом и черпаком каши подразделения внутри самого «котла». Нож рассекал связь и взаимодействие немецких армейских корпусов с дивизиями, дивизий — с полками, полков — с батальонами и ротами. Нож уничтожал тех, кто не складывал оружия. Черпак щедро вычерпывал пленных. Он действовал быстро, легко, неутомимо в руках умелых «кашеваров».
Генерал Урбанович сидел в немецком солдатском блиндаже на опушке соснового леса. Солома на нарах ещё сохранила отпечатки тел немцев, лежавших здесь несколько часов тому назад. На земляном полу валялись журналы, пухлые книги немецких романистов… Телефонист упорно твердил: «Резеда, слушай меня, Резеда, Резеда, Резеда. Я Мак, я Мак!» Виллисы стремглав, как по шоссе, мчались меж сосновых стволов, останавливались у входа в блиндаж. Потные от жары и радостного возбуждения, командиры-артиллеристы, пехотинцы, офицеры связи докладывали генералу обстановку. В воздухе стоял грохот наших пушек, ухали разрывы немецких снарядов. Урбанович, худощавый человек с начинающей лысеть головой, сидел за картой, положенной на сосновые нетёсаные доски стола. Протирая платочком пенсне, он склонялся над картой и, водя по ней карандашом, отдавал приказания окружавшим его офицерам. Танки, самоходные пушки, стрелковые батальоны, артиллерийские батареи размещались им на дорогах, мостах — всюду, где могли быть попытки прорыва немцев из окружения. Спокойные движения, профессорски неторопливая речь Урбановича были противоположны возбуждению окружавших его людей. Боясь, что приказания его будут неточно выполнены в лихорадочном напряжении этих часов и что «котёл» даст течь, он спрашивал:
— Вам понятно? Запишите. Теперь повторите. Повторите ещё раз. Так. Можете итти.
Одна за другой перерезались дороги отхода немцев. Стены «котла» становились всё плотней и непроницаемей. К вечеру 27 июня немцы поняли постигшую их катастрофу. Два дня, проведённые нами внутри «котла», богаты таким огромным количеством впечатлений, событий, что простой перечень их занял бы много страниц.
Несколько раз немцы, в первые часы окружения, когда управление армейского корпуса и дивизий не было окончательно нарушено, пытались, собрав танковый и артиллерийский кулак, прорваться на северо-запад. Они перешли в атаку в три часа утра 26 июня. Огромной крови стоили им эти попытки. И тщетными оказались они. Тогда немецкое командование предложило войскам вырываться из окружения отрядами, применяя тактику обмана и вероломства. Подняв одну руку и держа в другой оружие, фашисты объявляли о сдаче, а затем, подойдя на близкое расстояние, бросались в атаку. Несколько наших парламентёров, среди них майор, вышедшие на переговоры, были убиты. И вновь огромной кровью заплатили фашисты за это вероломство. Июнь 1944 года — это не июнь 1941. Страшно выглядели белорусские леса в эти дни. Были места в этих лесах, где не стало видно земли под телами фашистов.
Наступил третий период ликвидации «котла». Немцы потеряли артиллерию. Тысячи огромных, откормленных артиллерийских лошадей бродили среди сосен и в высокой зелёной ржи. Штабели снарядов одиноко стояли под деревьями. Брошенные пушки смотрели на восток, на запад, на север и на юг: в последние часы артиллеристы-немцы ждали нас со всех четырёх сторон.
Рассыпались корпуса, дивизии, полки и роты. Немецкие генерал-лейтенанты устраивали митинги под высокими соснами, и наши одиночки-разведчики наблюдали из кустарников, как генералы убеждали группки солдат повременить со сдачей в плен. Командиры дивизий, брошенные ординарцами, лишённые кухни и поваров, занялись сбором земляники на лесных полянах. Командиры полков шуршали среди стеблей ржи, выглядывая на дорогу, по которой шли наши танки. Гауптманы, обер-лейтенанты, позванивая орденами, рыли себе берлоги под деревьями.
В «котле» начал работать наш черпак. Пыль поднялась высоко в небо — то зашагали на восток тысячи немецких сапог. По десяткам белорусских дорог задымились жёлтые столбы пыли, шли немецкие пленники, солдаты и офицеры. Лица их были черны от грязи, мундиры оборваны, головы опущены, глаза смотрели в землю.
Каких только диковинных немцев не пришлось повидать нам за эти часы, когда черпак выбирал их из бобруйского «котла». Командира полка с семью орденами, убийцу с небесно-голубыми глазами и розовыми губками жеманной девицы, в бумажнике которого мы увидели серии страшных фотографий; на одной из них изображён повешенный партизан и женщина, обнимающая его мёртвые ноги. «Это было в Польше», — сказал нам немец, как будто разбой в Польше не наказуем. «Но почему же на дощечке возле тела казнённого сделана русская надпись: „Мера наказания партизану“»? — «Это ничего не значит, это было на границе России и Польши», — ответил убийца. Мы говорили с ошалевшими гауптманами и обер-лейтенантами, только что вышедшими из ржи с поднятыми руками. Не успев опустить руки, они тотчас же заявляли, что Германия непобедима. Когда их спрашивали о судьбе их батальонов, уже пыливших на восток, они безмерно равнодушно пожимали плечами и с дрожью волнения в голосе просили возвратить им ножички, бритвы, перламутровые пилки для ногтей и прочие безделки, не полагающиеся им по должности военнопленных. Из глубины-«котла» были вычерпаны диковинные человеки, которых не встретить среди пленных немцев переднего края. Интенданты, пасторы, каратели, знаменитый дипломированный повар с жирными щеками, услаждавший своим искусством желудок генерал-лейтенанта, командовавшего дивизией, капитан гигантского роста, с плечами такой ширины, что он, пожалуй, не смог бы пройти в широко распахнутые ворота, и с таким маленьким черепом, что он был бы тесен для новорождённого младенца. Этот капитан командовал тыловыми обозами. Короткий разговор с ним убедил нас, что лошади его обоза совершенно не были удовлетворены интеллектуальным уровнем своего шефа. Немцев «вычёсывали» из лесов, из рощ, из оврагов, из ржи, из болот, поодиночке, десятками, сотнями, огромными толпами. В последние часы добыванием пленных занимались не только автоматчики, стрелки и танкисты, но и «добровольцы» — киномеханик клубной передвижки, парикмахер штаба дивизии, девушки из политотдела дивизии.
Сто часов нашего наступления понадобилось, чтобы довести отборные, воевавшие три года на Восточном фронте дивизии немцев до состояния полного потрясения, маразма, беспомощности. Сто часов понадобилось, чтобы превратить хорошо организованную, глубоко закопавшуюся в траншеи, снабжённую мощной артиллерией и танками, бешено сопротивлявшуюся в первые дни группировку немецко-фашистских войск в огромную толпу, шагающую в жёлтых облаках пыли под конвоем десятков наших автоматчиков. Всё это свидетельствует об огромном, решающем превосходстве Красной Армии над силой фашистских войск.
V
Через три дня мы вернулись в штаб генерала Горбатова, встретили людей, с которыми в серый холодный рассвет слушали артиллерийскую подготовку, видели плавный могучий ход нашей авиации, слушали рокот бахаревских танков, сосредоточившихся для ввода в прорыв. Неужели прошло только три дня с того часа, когда пехота пошла по смертной пойме Друти в атаку на немецкие траншеи?
Начальник штаба, генерал Ивашечкин, ближайший помощник Горбатова, сидит за столом, его курчавая голова склонилась над картой. Седеющий высокий человек, генерал Горбатов, обратился к войскам с поздравлением, с призывом после славных бобруйских побед ещё стремительней бить врага. Его помощники знают закон своего генерала: не жалеть в бою фашистской крови, пуще глаза беречь кровь нашего бойца и командира.
Войска движутся вперёд, далёкий путь лежит перед ними, велика ждущая их слава. Успеха и счастья, товарищи!
1-й Белорусский фронт
28 июня
Добро сильнее зла
I
Часто в петлистой фронтовой дороге во время короткой остановки в пути, в мимолётной встрече с прохожим в лесу, в минутном разговоре у деревенского колодца, под скрип иссушенного солнцем журавля, вдруг увидишь и услышишь чудесные вещи: мелькнёт перед тобой драгоценное чудо человеческой души. Иногда услышишь милое мудрое слово солдата или деревенского сердитого старика, либо лукавой и одновременно простосердечной старухи. Иногда увидишь такое, что слёзы невольно навернутся на глаза, а иногда жизнь рассмешит, — и через несколько дней вспомнишь и смеёшься. Сколько поэзии, сколько красоты в этих мимолётных картинах, увиденных на лесных полянах, в высокой ржи, под медными стволами сосен, на песчаном берегу речки в час ясной утренней зари, в пыли и дыму пышного, огненного заката, при свете месяца. А иногда потрясёт тебя увиденное, кровь отольёт от сердца, и знаешь, — страшная картина, мелькнувшая перед глазами, навечно, до самого смертного часа будет преследовать тебя, давить на душу.
Но вот, удивительное, странное дело — станешь писать корреспонденцию, и всё это почему-то не помещается на бумаге. Пишешь о танковом корпусе, о тяжёлой артиллерии, о прорыве обороны, а тут вдруг старуха с солдатом разговаривает, или жеребёнок-сосунок, пошатываясь, стоит на пустынном поле, возле тела убитой матки, либо в горящей деревне пчёлы роятся на ветке молодой яблони, и босой старик-белорусс вылезает из окопчика, где хоронился от снарядов, снимает рой, и бойцы смотрят на него, и, боже мой, сколько прочтёшь в их задумавшихся, печальных глазах.
В этих мелочах душа народа, в них и наша война, в её муках, победах, суровой, выстраданной славе.
Белорусская природа схожа и не схожа с украинской, и так же не схожи и схожи лица белорусских и украинских крестьян и крестьянок. Белорусский пейзаж — печальная акварель, нежные и скупые краски. Всё это найдёшь и на Украине — болота, речушки, сады, леса, рощи, рыжие пески и песчаную глинистую пыль на дорогах. Но нет в украинской природе этой монотонной печали. Нет в украинских лицах тихой задумчивости, нет однообразия белой и серой одежды. Белорусская земля скупей, болотистей, и она не отпустила природе столько цветов, плодородия, богатства, а человеку — красок в лице и одежде.
Но когда смотришь на выходящие из лесов полчища белоруссов-партизан, обвешанных гранатами, с немецкими автоматами, с патронными лентами, обмотанными вокруг пояса, то видишь, как щедро богат белорусский народ вечной любовью к своей земле, свободе.
Вот машина привозит нас к деревне. Стоят несколько женщин в белых платках, мальчишки, старик без шапки и смотрят, как парень в рваном пиджаке, положив наземь немецкий автомат, копает заступом землю. Сколько мы уже видели на пути белых свежих крестов, повязанных рушниками, не успевшими даже запылиться, сколько мы видели открытых могил, высоких, библейски строгих стариков с развевающимися бородами, несущих на руках гробы. По этим белым крестам и открытым могилам можно видеть путь немцев.
Должно быть, и здесь хоронят кого-нибудь. Может быть, парень копает могилу своей невесте, сестре?
Но не смерть собрала здесь людей. В 1941 году, окончив семилетку, деревенский парнишка закопал свои учебники и ушёл в лес, в партизаны. Сегодня, через три года, он откапывает свои книги. Разве не чудесный это символ — паренёк, партизан, положивший на землю автомат, в пыли движущихся к Минску армий, бережно и хмуро, озабоченно и любовно листающий отсыревшие жёлтые страницы школьного учебника? Его зовут Антон. Пусть спешат к нему инженеры, писатели, профессора. Он ждёт их.
А машина уже катит вперёд — спешит нагнать наступающую дивизию. Как найти нашу старую сталинградскую знакомую, в пыли и в дыму, среди рёва моторов, под лязганье гусениц танков и самоходок в скрипе огромных колёсных обозов, идущих на запад, в потоке движущихся на восток босых ребятишек, женщин в белых платках, угнанных перед боями немцами и теперь идущих домой?
Добрые люди посоветовали нам, чтобы, избавиться от остановок и расспросов, искать дивизию по известному многим признаку — в её артиллерийском полку идёт в обозной упряжке верблюд по кличке «Кузнечик». Этот уроженец Казахстана прошёл весь путь от Сталинграда до Березины. Офицеры связи обычно высматривают в обозе Кузнечика и без расспросов находят движущийся день и ночь штаб.
Мы посмеялись диковинному совету, как шутке, и поехали дальше.
В этом огромном потоке стороннему человеку всё могло показаться чужим, и сам он мог почувствовать себя затерянным среди тысяч не ведающих друг друга людей. Но сторонний человек с удивлением увидел бы, что все, кто движется вперёд, обгоняя друг друга, отлично знакомы между собой.
Вот пехотный лейтенант, ведущий боковой тропинкой взвод, помахал рукой сидящему на самоходной пушке юноше в шлеме и комбинезоне, и тот, улыбаясь, закивал, стал кричать что-то, не слышное в лязге гусениц. Вот обозный, в совершенно белой пилотке, с серыми от пыли бровями, ресницами, усами, кричит водителю тягача, такому же пыльному, перепачканному, и водитель, ничего не слыша, на всякий случай утвердительно кивает.
А едущие в кузове полуторки два лейтенанта то и дело говорят, указывая на проходящие машины:
— Вон майор из противотанкового полка на виллисе поехал… Аничка, не заглядывайся, свалишься… Гляди, вон Люда из роты связи! Ох, чорт, как её разнесло!.. Никитин, ты что, уже из госпиталя обратно в батальон?
Три года люди воюют плечо к плечу, и в этих мимолётных встречах, в движущемся железном потоке выражается дружество, связь всех этих пыльных, худых, загоревших офицеров, сержантов, ефрейторов, бойцов, в белых от солнца и пыли гимнастёрках, с медалями на выцветших, грязных ленточках, с красными и жёлтыми нашивками ранений.
Мы въезжаем в лес. Сразу становится тихо, машина идёт едва намеченной дорогой, в стороне от грейдера. Под широкой и прочной, точно отлитой, листвой огромных дубов, на мягкой траве, которая бывает особенно нежна и приятна в старых дубовых рощах, стоят три миловидные женщины. Тени резной листвы и светлые пятна солнца ложатся на их плечи и головы. Как прекрасен этот летний тихий час, и как горько плачут женщины, едва случайным вопросом водителя: «Какая, гражданочки, жизнь?» — затронута была их великая печаль.
Почти в каждой белорусской деревне слыхали мы о беде, постигшей многие тысячи матерей.
Недели за две до начала боёв немцы стали забирать в сёлах детей от восьми до двенадцати лет. Они говорили, что хотят учить их. Но всем скоро стало известно, что детей держат в лагерях за проволокой. Матери шли к ним за десятки вёрст.
— Матки млеют, дети кричат, на колючке виснут, — рассказывала женщина.
Потом дети вдруг исчезли. Где они, что с ними? Убиты, угнаны в рабство, или, как рассказывают, их держат возле госпиталей для германских офицеров, переливают их кровь раненым немцам?
Чем можно утешить неутешное горе?
А ещё через несколько сот метров пути мы увидели, как две быстрые тени мелькнули меж деревьев: две девушки, собиравшие землянику, бросились бежать.
— Эй, не бойсь, — крикнул водитель, — это не немцы, свои!
И девушки вышли из овражка, смеялись, закрывая рот платками, и смотрели, как проезжает наша машина, протягивали нам плетёные квадратные корзинки, полные земляники. Вот мы вновь въезжаем на главную дорогу, в пыль и в грохот. И первое, что мы видим, это запряжённого в телегу верблюда, коричневого, почти голого, потерявшего всю свою шерсть. Это и есть знаменитый Кузнечик. Навстречу ведут толпу пленных немцев. Верблюд поворачивает к ним свою некрасивую голову с брезгливо отвисшей губой — его, видимо, привлекает непривычный цвет одежды, может быть, он чувствует чужой запах. Ездовой деловито кричит конвоирам: «Давай сюда немцев, их сейчас Кузнечик съест!» И мы тут же узнаём биографию Кузнечика: при обстрелах он прячется в снарядные и бомбовые воронки, ему полагается уже три нашивки за ранение и медаль «За оборону Сталинграда». А ездовому командир артиллерийского полка Капраманян обещал награду, если он доведёт Кузнечика до Берлина. «Вся грудь в орденах у тебя будет», — серьёзно, улыбаясь одними лишь глазами, сказал командир полка. По указанной Кузнечиком дороге мы приехали в дивизию.
II
Многих старых знакомых не нашёл я в гуртьевской дивизии, многих из тех, кого знал лично и надолго запомнил по коротким встречам, и тех, о чьих великих подвигах слышал. Нет и самого Гуртьева, павшего при взятии Орла: в момент разрыва снаряда на наблюдательном пункте он телом своим закрыл командующего Горбатова. Фуражка Горбатова была забрызгана кровью генерала-солдата. Но попрежнему неутомимо работает в дивизии гвардии полковник Свирин, артиллерист Фугенфиров, сапёр Рывкин. И часто проходят мимо тебя то офицер, то сержант, то ефрейтор с зелёной ленточкой сталинградской медали.
А на место ушедших пришли молодые, новые, и неукротимый дух павших живёт в них. Здесь принято передавать оружие сталинградцев молодым героям. Пистолет Гуртьева отдан его сыну, лейтенанту; пистолет удальца-сапёра Брысина носит его друг Дудников. И среди молодых сапёров уже славится бесстрашный умница Черноротов.
Во время боя мы воочию убедились, что такое дружба сталинградцев. Прибежал связной и крикнул: «На артиллерийском энпе убит Фугенфиров!» Свирин, схватившись за голову, застонал, лица людей в часы победы стали темны. И все в горе растерянно повторяли: «Ах, боже мой, как же это так!» А через пятнадцать минут сообщили: Фугенфиров цел и невредим. Был в дивизии связист Путилов. Когда в Сталинграде порвалась связь штаба с полками, он пополз исправить порыв, был тяжко ранен, зажал концы провода зубами и умер. Связь продолжала работать, скреплённая его мёртвым ртом. Катушка Путилова передаётся теперь как знамя, как орден лучшим связистам дивизии. И мне подумалось, что этот провод, скреплённый мёртвым Путиловым на заводе «Баррикады», тянется от Волги к Березине, от Сталинграда к Минску, через всю нашу огромную страну, как символ единства, братства, живущих в нашей армии, в нашем народе.
Ночевали мы в лесу, в палатке дивизионного медсанбата. Утром мы увидали странную картину: по лесу от одной палатки медсанбата к другой санитары несли раненого. На носилках, умостившись у ноги раненого, путешествовали, чинно покачиваясь, два котёнка.
Когда мы вошли в палатку, то увидели такую картину: раненые, лёжа на носилках и на траве, наблюдали, как девушка-санитарка дразнила котят еловой веткой. Котята проделывали всё, что положено им по штату в таких случаях: крались на брюхе, шли боком, распушив хвосты, прыгали вверх всеми четырьмя лапами, сталкиваясь в воздухе, валились на спину, били хвостами.
Я посмотрел на раненых, вышедших час-два тому назад из боя. Их гимнастёрки и бельё были истерзаны смертным железом, залиты чёрной, запёкшейся кровью. Но их серые, землистые лица мучеников улыбались. Видимо, было необычайно значительно и важно то, на что они смотрели. Они видели смерть, и вот они увидели жизнь: ведь это говорило об их детстве и об их детях, о доме, отвлекало от страданий и крови.
Не улыбалась только девушка-санитарка, — то была нужная работа, лечебная процедура. И право же, сколько нежного и тонкого женского ума нужно, чтобы, живя в восьми — десяти километрах от боя, вечно двигаясь, возить с собой этот живой инвентарь, для того чтобы вызвать улыбку на обескровленных губах. Один из армейских старожилов, капитан Аметистов, рассказал мне, что ему часто приходится встречать в горбатовских войсках трогательную любовь к животным: один из генералов возит с собой голубя, который «пьёт чай»: опускает клюв то в сахар, то в налитую для него в блюдечко воду. У уважаемого танкового командира живёт ёж и лукавец-кот. В полках живут приручённые зайцы, собаки с перебитыми и залеченными лапами. Один командир полка приручил даже лисицу, и она, убегая на день в лес, вечером возвращается к своему начальнику.
И снова я подумал — что в этой мелочи? Прихоть, желание развлечься? Или это говорит всё об одном и том же: о чудесной, широкой любви нашего человека к жизни, к прекрасной природе, к миру, где свободному человеку надлежит истребить чёрные силы зла и быть разумным и добрым хозяином.
III
Мы въехали в Бобруйск, когда одни здания пылали, а другие лежали в развалинах.
Дорога к Бобруйску — это дорога возмездия! Машина с трудом пробивается среди сгоревших и изуродованных немецких танков и самоходных пушек. Люди идут по трупам немцев. Трупы — сотни, тысячи трупов! — устилают самоё дорогу, лежат в кюветах, под соснами, в смятой зелёной ржи. Есть места, где машины едут по мёртвым телам, так густо устилают они землю. Их беспрерывно закапывают, но количество трупов так велико, что с этой работой нельзя справиться в один день. А день сегодня изнурительно жаркий, безветреный, и люди едут и едут, зажимая рты и носы платками. Здесь кипел котёл смерти, здесь свершилось возмездие, суровое, страшное возмездие над теми, кто, не сложив оружия, пытался вырваться по перерезанным нами дорогам на запад, возмездие над теми, кто кровью детей и женщин залил нашу землю.
У въезда в пылающий и разрушенный Бобруйск на низком песчаном берегу Березины сидит немецкий солдат, раненный в ноги. Он, подняв голову, смотрит на танковые колонны, идущие на мост, на артиллерию и самоходные пушки. К нему подходит красноармеец и, зачерпнув консервной банкой воды, даёт напиться.
И невольно подумалось, что бы сделал немец летом 1941 года, когда через этот мост шли на восток панцырные колонны фашистских войск, если б на песчаном берегу Березины сидел наш боец с перешибленными ногами. Мы знаем, что бы он сделал. Но мы ведь люди, этим мы победили зверя. Фашисты воюют с детьми, женщинами, ранеными. Высший закон жизни осудил их на уничтожение. Близок день суда света над тьмой, добра над злом! Близок день полного возмездия!
И снова дорога, пыль, речушки, поля, треск автоматов в лесах.
В полуразрушенном тёмном сарае идёт первый опрос взятых вчера вечером генералов: командира шестой дивизии генерал-лейтенанта Гайне и знаменитого палача, бывшего последовательно комендантом Орла, Карачева и Бобруйска, генерал-майора Адольфа Гамана. Здесь, в этом сарае, апафеоз «котла».
Гайне, в солдатских сапогах, с удлинённым лысым черепом, утирает пот с красного лица, улыбается, кивает головой. Голос у него сиплый, не поймёшь, от простуды ли, или от большого шнапса, которым он поддерживал в себе мужество в период коротенькой своей пятидневной боевой деятельности. Речь его многословна и неясна — то ли он всё ещё пьян, то ли он не умеет ясней мыслить и выражать свои мысли словами. Вспоминается, как пленный немецкий капитан жаловался несколько часов тому назад на необычайно низкий уровень генералитета последнего времени: Гитлер поставил нацистских генералов-ефрейторов на смену кастовому генералитету. И, слушая скудную, путаную, тусклую речь Гайне, думаешь: «Да, есть на что пожаловаться фашистским гауптманам и обер-лейтенантам…» И вот начинает отвечать Адольф Гаман. Ои необычайно объёмистый, низкорослый старик, с большим красным лицом и тяжёлыми щеками. Гитлер наградил его не то девятью, не то одиннадцатью орденами и знаками отличий; они у него и на толстой груди, и на толстом животе, и на толстом боку, поэтому их трудно сосчитать.
Ужасное чувство охватывает, когда глядишь на Гамана. Внешне он похож на человека. Руки, глаза, волосы, речь — всё это не отличает его от человека. А перед глазами встают раскопанные могилы, где лежат сотни, тысячи трупов женщин и детей, похороненных живыми, трупы, у которых анатомы находили песок в лёгких; вспоминаешь развалины взорванного им четвёртого августа 1943 года Орла, снесённый им с лица земли Карачев, ещё горящий, дымящийся сегодня Бобруйск.
Вот этим же басистым голосом он отдавал приказания своим поджигателям, вот этой пухлой рукой подписывал он приказ о массовом истреблении беспомощных старцев и младенцев. Вот этой же толстой ногой в ладном сапожке он утаптывал землю над недобитыми в яме старухами и детьми. Нет, страшно дышать одним воздухом с ним, с этим нечеловеком. Как полагается уголовнику, он всё отрицает — и массовое убийство евреев, и массовые расстрелы партизан, и угон населения, и вообще всякое насилие. Раз только, кажется в Орле, был казнён мужчина за убийство из ревности. Взорвал ли он Орёл? Да, но ведь всем известно, что он солдат и выполнял приказ Шмидта, командующего второй танковой армией. Да, да, он и в Карачеве выполнял приказ командования. И в Бобруйске. И вдруг он бросает быстрый, хитрый, испуганный взгляд на спрашивающих, взгляд седого жулика и убийцы, взгляд труса.
С каким отвращением, с каким брезгливым любопытством смотрит на него щуплый паренёк-автоматчик в зелёных обмотках и тяжёлых ботинках! Нет, хорошо, что первый опрос длился недолго, что Гамана уже увозят в тыл.
Почти одиннадцать месяцев тому назад генерал Горбатов на митинге в Орле призывал бойцов к мести, к тому, чтобы настигнуть орловского палача. Красноармейцы выполнили наказ.
Машина наша бежит все дальше среди дремучих партизанских лесов Белоруссии. Далеко за спиной уже остался Бобруйск, не так далеко уже до Минска. И всё, что мы видим, всё, что на мгновенье мелькает и исчезает из глаз, но навек останется в памяти, всё говорит о том, что добро побеждает зло, что свет сильнее тьмы, что в правом деле человек попирает зверя.
1-й Белорусский фронт
5 июля
Бои в Люблине
Наша машина, обгоняя артиллерийские и пехотные полки, всячески нарушая правила движения, всё ближе подходила к Люблину. Было около восьми часов вечера. На шоссе, ведущем от Ленчны к Люблину, наступавшую на город дивизию застиг проливной дождь. Было тепло. Жёлтые тяжёлые тучи низко нависли над землёй, ливень лил совершенно отвесно, с земли подымался густой туман. Сделалось темно, точно наступила ночь. Потоки жёлтой воды бежали по шоссе, вода стекала по каскам гвардейцев, выцветшие белые гимнастёрки вдруг потемнели, пропитавшись тяжёлой влагой. Люди шли, то и дело стирая с лица и со лба слепившую их воду, на ходу отжимая рукава и полы шинелей и гимнастёрок.
В трёх километрах от Люблина мы нагнали передовой полк дивизии. Орудия с хода разворачивались, съезжали с шоссе на картофельные поля и открывали огонь. В смятой, мокрой ржи лежали тела убитых бойцов в железных касках, некоторые мертвецы ещё не потерявшими гибкость пальцами прижимали к груди своё оружие. Под чёрным дымящимся танком лежал убитый в кожаном шлеме, сквозь разодранную одежду белело в сумерках его тело. С поросшего деревьями бугра, прилегавшего с юга к шоссе, трещали сотни автоматных очередей. Пехота заходила цепью в спелую рожь, устанавливала пулемёты и противотанковые ружья, образуя как бы железный коридор, по которому двигались к Люблину войска. В мутном от дождя и чёрного дыма воздухе мы, наконец, увидели купола костёлов и монастырей, остроконечные крыши зданий. Всего лишь восемнадцать часов назад мы так же въезжали солнечным ясным днём в Холм и издали любовались белыми стенами собора.
Через несколько минут мы поднялись на возвышенность, где находился люблинский мясокомбинат… У длинных приземистых построек головной батальон сосредоточивался для атаки — город лежал внизу.
Огромные склады мясокомбината были захвачены с хода, немцы не смогли ни вывезти, ни уничтожить награбленное ими у польских крестьян добро.
В конторе мясокомбината на полу валялись сотни бумаг, осколки выбитых взрывами стёкол, счёты, пишущие машинки. Никогда на войне не приходилось нам слышать такое дикое смешение звуков: разрыв и свист неприятельских мин, пулемётные и автоматные очереди, цоканье осколков, тревожные и настойчивые звонки нескольких конторских телефонов, опрокинутых на письменных столах, пронзительный визг обезумевших от ужаса свиней: они вырвались из каменных хлевов и носились в огромном прямоугольнике двора.
А через несколько мгновений все звуки эти потонули в грохоте нашей артиллерии: пушки, подкатив вслед за пехотой, развернулись тут же, у стен мясокомбината, и открыли огонь по противнику.
Немцы попали в капкан, построенный нашими танками и пехотой. Танки отрезали им одну за другой все дороги отхода на запад, пехотные части генерала Рыжова вышли в этот вечер к Люблину с севера и востока. Сперва немцы пытались вырваться, но, отброшенные нашими частями, перешли к обороне внутри самого Люблина. В самом центре немецкий военный комендант с командой своих головорезов-карателей установил крупнокалиберные пулемёты и открыл шквальный огонь вдоль нескольких перекрещивающихся улиц. Борьба пехоты с противником была особенно жестокой, трудной и сложной в эти первые часы. Сумерки сгустились. Тьма нарушалась лишь вспышками выстрелов и пламенем отдельных пожаров. Командиры передовых подразделений не знали города, ни один из них не имел плана Люблина, и ориентироваться ночью в лабиринте улиц и узких переулков, поваленных столбов и разрушенных зданий было очень трудно. У немцев было в ночном бою несомненное преимущество — четыре с половиной года топтали их сапоги польскую землю, немало разбойничьих ночных облав устраивали они за это время на мирное население Люблина. Они достаточно изучили люблинские улицы.
Утром мы увидели картину уличного боя в густо населённом городе. Лёгкие полковые пушки стояли на тротуарах и в подворотнях, артиллерийские наблюдатели, вооружённые биноклями, ползали по крышам, выглядывали из окон, миномётчики с городских площадей и пустырей возле костёла вели обстрел занятого немцами района города, и широкое жёлто-красное пламя то и дело вырывалось из жерл тяжёлых миномётов.
Мы стремительно проехали по одной из центральных улиц Люблина — Любартовской, к месту, где находился полк, очищавший западный район города. Здесь уже никто не ходил по мостовой, бойцы перебегали вдоль стен домов. В бетонном гараже нашли мы командование полка. Тут же перевязывали раненых, а на каменном полу лежал убитый, с лицом, прикрытым куском марли.
Сидя, прислонившись к стене, спал боец-связист. Нам объяснили, что он проработал без сна и отдыха в течение пятидесяти часов. Вскоре мы снова вышли на улицу. Над пустынной площадью стояла лёгкая завеса дыма и кирпичной пыли. И надолго запомнится нам высокая, сухая фигура седого генерала Рыжова, спокойно идущего через пустую площадь к кирпичным домам, из которых густо полыхал ружейный и пулемётный огонь.
Самое удивительное в боях на улицах Люблина — это то, что сотни людей, жителей города, и не только мужчины, но женщины, дети, старики, не прячась от снарядов и мин, пренебрегая опасностью, выходили на улицы из подвалов, подворотен, собирались вокруг бойцов и офицеров, расспрашивали, рассказывали, приглашали попить воды, отдохнуть на скамеечке, совали в руки угощение. Много трогательных сцен пришлось видеть нам в это утро, много хороших благодарных слов выслушали наши бойцы от люблинцев.
И всё это вместе: толпы, приветствовавшие армию на подходе к городу, серьёзные, умные политические рассуждения старика-лингвиста, знатока шести европейских языков, и мелочи, быстро мелькнувшие перед нами, — артиллерист, поднявший на руки кудрявую девочку, юноша, вскочивший на ходу на подножку нашей машины и бросивший на колени водителю Мухину две пригоршни конфет, и цветы, которые женщины бросали бойцам из раскрытых окон, — всё это создавало атмосферу радостного, праздничного настроения, странно гармонировавшую с суровым громом боевых орудий.
Люблин
23–24 июля.
В городах и селах Польши
1
Дороги в Восточной Польше идут средь созревших полей пшеницы, ячменя. Во многих местах крестьяне убирают урожай. Зреют яблоки, сливы, груши, но, по-видимому, любимое дерево здесь вишнёвое. И урожай на вишню необычайно богатый, войска проходят по деревне меж красных шпалер вишнёвых деревьев. На некоторых перекрёстках предприимчивые мальчишки продают вишни ведёрками и котелками. Цены у «купцов» настолько божеские, что даже на солдатское жалованье можно без особого ущерба купить запас вкусной вишни. Цветёт сиреневым и белым цветом картошка, уж кое-где хозяйки копают её, появились молодые овощи — морковь, бобы, брюква. Много сахарного зелёного горошка; он растёт вдоль дороги, стручки его соблазняют мальчишек и солдат. Из лиственных густых лесов, из болот, поросших неестественно яркой и густой травой, по глубокому песку просёлков тянутся подводами и пешком тысячи и тысячи польских крестьян, везут и несут в деревни спрятанное от немцев добро, гонят коров, телят, лошадей. Эти крестьяне в фетровых шляпах, без пиджаков, топающие босиком, эти крестьянки в косынках и фартуках, навьюченные зимней одеждой, подушками, одеялами, зеркалами, самотканными коврами, толпами идущие навстречу нашим передовым подразделениям танков, пехоты, конницы, — если подумать по-настоящему, исчерпывающе выразили дружбу и доверие польского народа к Красной Армии. В этом встречном походе польского крестьянства, несущего из лесов своё добро обратно в дома под грохот советской артиллерии, выражено понимание польским крестьянином моральной и политической чести наших войск, доверие к силе Красной Армии, к нашему военному успеху, законности и культурности всех наших принципов в отношении населения. Едва фронт откатывается на двадцать — двадцать пять километров от освобождённых польских деревень, как глаз, жаждущий картин мира, с удовольствием следит за идиллическими сценами деревенской жизни: крестьянин косит, а его дети кувыркаются на стоге сена, дразнят шуструю мохнатую собачонку, тщетно стремящуюся взобраться по крутому и скользкому стогу, женщины, улыбаясь проходящим, копаются в огородах, девушки у бетонных деревенских колодцев шутят с ухажёрами, другие поливают цветы, обирают с деревьев вишню.
Как же жили здесь люди при немцах? Из государств Европы, захваченных военной силой немецкого фашизма, Польша порабощена дольше всех других. В сентябре исполняется пять лет, как Польша превратилась в германское генерал-губернаторство. Можно верить, что немцам не придётся праздновать этот юбилей, — повидимому, дата его совпадёт с возрождением польского государства, демократического и независимого. Но с особым интересом расспрашиваем мы поляков о тех порядках и законах, которые установили немцы в польском губернаторстве, о тех условиях, в которых жило население Польши в эти долгие, как пять столетий, пятьдесят месяцев. Конечно, картина, которую увидели мы сегодня, далеко не полно отражает немецкое хозяйствование в Польше. Мы ведь пока говорим с людьми лишь в восточных, между Бугом и Вислой, районах. Но и эти поверхностные и неполные сведения говорят о многом.
Когда в местечке Ленчна, находящемся недалеко от Люблина, я сошёл с машины, меня окружило несколько десятков человек — стариков, молодых людей. Все они улыбались, кто-то, растолкав толпу, точно должен был сделать важное, спешное дело, пробился вперёд; это был лысый, полный человек. Он подошёл ко мне, пожал руку, рассмеялся, удовлетворённо закивал головой.
— Яка механизация! — сказал человек, указывая на проходившие по шоссе танки.
Сразу несколько голосов заговорили, склоняя всячески слово «механизация». У нас завязался разговор. Я спросил, ждало ли население Красную Армию.
Несколько человек ответили мне словами, которые мне уже приходилось слышать от старухи-работницы в Люблине и от украинца-крестьянина в прибугской деревне:
— Як бога!
Я начал расспрашивать пожилого крестьянина с впалыми щеками о немецких порядках в Польше. И этот человек с суровым лицом аскета вдруг всхлипнул и расплакался. Сразу лица людей стали серьёзны и мрачны. Поистине средневековые ужасы, бандитский грабёж творили в Польше немцы. Об этом рассказывали в сёлах и городах десятки, сотни людей. Об этом я вновь услышал во время разговора в Ленчне. Деревня задыхалась от налогов. Так организованно, педантично грабить могут не просто бандиты, а лишь немецкие бандиты. Крестьянин снял в прошлом году урожай в девятнадцать мер пшеницы, из них десять, то есть больше половины, сдал немцам. Огороды сажались по строгому плану, по развёрстке, и к осени у крестьян почти целиком отбирались все плоды их трудов: фасоль, морковь, брюква, горох, петрушка. Учитывалась каждая курица, и польские куры жили в польских деревнях, но пресловутые «яйки» почти целиком поедались в Германии. На люблинских складах я видел феноменальные штабели ящиков с яйцами, подготовленных к увозу в Германию. Не только на ящиках, но и на каждом яйце имелся штамп. Надо сказать, что яйца оказались свежими. Масло, молоко, все молочные продукты учитывались, обкладывались, забирались. С коровами повторялось то же, что и с курами. Польские коровы жили в польских деревнях, но львиная доля удоя шла немцам. Крестьянам давалась привилегия пасти и доить коров, на немцев падал труд есть масло и пить сливки. Поистине классическое выражение разделения сельского труда, организованного в системе фашистской экономики.
В деревне существовало знаменитое «право убоя». Крестьянин, выкормивший три свиньи, две из них сдавал солтусу или войту, а одну мог зарезать сам. «Право убоя» распространялось на остальной скот и на гусей. Нарушение этого правила каралось необычайно жестоко. Правда, надо сказать, за сданного гуся крестьянин получал талончик на покупку нескольких «дека», то есть двух горстей сахара. Владельцы подвод и лошадей должны были три раза в неделю с утра до ночи работать на немцев: участвовать в перевозках на склады награбленного у них же добра, подвозить лес и камень на строительство мостов и дорог. Полякам вполне ясно: все эти годы их родная страна была крепостным батраком Германии. Польша батрачила, под вечной угрозой кнута и тюрьмы, для Германии на своих же родных полях, Польша пасла и доила своих коров для Германии, Польша растила коней для Германии, Польша снимала со своих яблонь яблоки для Германии. После посещения нескольких десятков польских деревень мне стали понятны слёзы крестьянина в Ленчне. Мне стала также понятна непримиримая каменная жестокость к врагу польских партизан. Такая же чудовищная эксплоатация была в городах, в Люблине и Холме, где мне пришлось беседовать с представителями разных слоев общества, со старыми и молодыми рабочими и работницами, с чиновниками, купцами, священниками, прислугой.
Конечно, самый тяжкий груз лёг на плечи польского рабочего. И продолжительность рабочего дня, и заработки, и нищенские нормы продуктов по карточкам, и политический террор, и забвение всех демократических прав обрекало на смерть физическую и духовную польского пролетария. Надолго запомнится мне нищая, тёмная комната, где седой старик-токарь, похожий на всех чудесных стариков-токарей мира, с тёмными искорёженными железом руками, рассказывал мне, как брат рассказывает брату и отец сыну, о своей работе при немцах. И тёмная нищая комнатка люблинского пролетария казалась мне ещё темней.
Однако нужно сказать, что польские купцы и фабриканты тоже попали под удар германского фашизма. Конечно, их бедствия весьма относительны по сравнению с великими страданиями трудового народа, но и они испытали бесправие, и многие из них не избежали тюрем и репрессий, были превращены в приказчиков и конторщиков, их предприятиями и магазинами завладели немцы, ранее работавшие у них приказчиками и конторщиками. Многих из них переселили в бедные районы Люблина, а в их квартирах поселились фашистские нувориши. И в этих слоях польского общества, как и среди ксендзов и священников, велика неприязнь к немецкому новому порядку.
О зверском отношении немцев к польской интеллигенции часто писали наши газеты. Немцы считали польскую интеллигенцию просто вредной им, ненужной. В самом деле, что может быть вредней умного слова, честной книги, непокорных стихов, тревожащей, бередящей душу музыки — в Польше, обречённой немцами на рабство, на каторжный труд под дулом гестаповского автомата, под батогом войта, солтуса, полицейского.
Одно существование талантливых учёных, инженеров, писателей, музыкантов противоречило взгляду немецких фашистов на Польшу как на страну славянских скотов. Этот взгляд на страну, подарившую миру гений Коперника, музыку Шопена, стихи Мицкевича, трудолюбивый, прекрасный разум Марии Склодовской-Кюри, плеяду великих польских революционеров, привёл к тому, что все эти годы широкой рекой текла кровь лучших людей Польши. В старинном Люблине, городе со стапятьюдесятьютысячным населением, немцы закрыли университет, театры, библиотеки, музей, многие школы. Даже кино были отданы немцам, и полякам разрешалось посещать лишь два плохоньких иллюзиона.
Так жило польское население под железным сапогом германского губернаторства.
Лишь одних жалоб и стонов не слышал я в Польше, лишь одних слёз не видел я — жалоб и слёз евреев. Почти все они удушены, убиты, от древних стариков до новорождённых детей. Мёртвые тела их сожжены в печах. И в Люблине, городе, где до войны жило больше сорока тысяч евреев, я не встретил ни ребёнка, ни женщины, ни старухи, говоривших на языке, на котором говорили мой дед и бабка.
II
Ни в чём не проявляется так чудовищная сущность фашистского вампира, как в вопросах национальных. Массовое механизированное убийство польских евреев совершалось в течение нескольких лет. Людям объявляли, что их везут в трудовые лагери, затем товарные поезда с обречёнными подвозились по ветке к специальным длинным низким баракам. Людям предлагали раздеться и итти в «баню». Их убивали на этих фабриках смерти окисью углерода или электричеством, тела убитых сжигались в печах. Одна из таких фабрик находилась в двух километрах от Люблина, вторая в этом же районе, на станции Сабибур, около Владавы. Поляк, пробывший долго «на окопах» с человеком, бежавшим с сабибурской фабрики смерти, рассказал мне такие вещи, что ни думать, ни говорить об этом нет сил. Это лежит за пределами всех человеческих представлений о страдании и преступлении. Рассказал этот поляк и о том, что обречённые, безоружные, голые люди почти ежедневно на пороге фабрики вступали в борьбу с конвоем и гибли смертью бойцов. У нас уже писали о великом эпосе борьбы и гибели варшавского гетто. Но вот удушение евреев закончено… Сабибурская фабрика смерти была перенесена в Холм. На месте её земля вспахана и посеяна пшеница. Самый внимательный человек не найдёт следов чудовищной бойни. Но так ли это?
В Холме, начиная с прошлого года, зловонный дым валил из трубы фабрики. Люди говорили мне, что дым этот маслянистой плёнкой оседал в гортани, спирал дыхание. Много дней и ночей немцы уничтожали под Холмом следы другого чудовищного злодеяния. Они сжигали тела убитых ими в течение 1941 и 1942 годов русских военнопленных. Тела убитых и замученных были закопаны, но когда весной прошлого года началось наше наступление, сабибурская фабрика смерти, перекочевав в Холм, стала жечь убитых немецкими злодеями десятки тысяч русских военнопленных.
Начиная с прошлого года, немцы в Польше приступили к своей последней злодейской провокации. Они стали разжигать вражду между поляками и украинцами, пытались истреблять их, искусственно раздувая ненависть. Подробно и много рассказывали мне поляки и украинцы в при-бугских деревнях, местечках и городках о поистине дьявольских методах, к которым прибегали фашисты. Во всех польских деревнях репрессии осуществлялись руками отдельных изменников-украинцев. Во всех украинских деревнях бич и автомат был в руках изменников-поляков. Немцы, переодеваясь в крестьянскую одежду, врывались в деревни, грабили, убивали, жгли, выдавая себя то за поляков, то за украинцев, то за белоруссов, в зависимости от того, каков был национальный состав подвергаемой казни деревни. Была разработана преступная, сложная и подлая система отнятия привилегий у одних национальностей и передачи их другим, затем новых перетасовок этих привилегий. Как ни были подло, тонко и сложно задуманы все эти ухищрения, благородный, простой и ясный разум народа отлично разобрался в них. Но надо сказать, были и отдельные люди, поддавшиеся на провокацию фашистов.
Наконец во всё время своего владычества в Польше фашисты переселяли немцев из бедных деревень в богатые силезские хозяйства, выбрасывали силезских поляков на неплодородные земли, в худые деревушки.
Вот короткий и неполный рассказ о немецкой работе в Польше. Эти сведения помогли мне всё же понять многое. И то, почему заплакал пожилой крестьянин в Ленчне, когда я спросил его, как жилось при немцах. И то, почему так тверды в своей борьбе польские партизаны. И то, почему так жадно ищут боя солдаты генерала Берлинга. И то, почему трогает до глубины души выражение лиц польских солдат-пехотинцев, миномётчиков, мотоциклистов, артиллеристов, когда видишь их в красном свете заката, переходящими через Западный Буг. И то, почему в Люблине во время жестокого боя горожане, пренебрегая смертью, витавшей по улицам, шли к нам, как к братьям. И то, почему на вопрос: «Ждали нас?» дрогнувшим от волнения голосом отвечают: «Як бога!»
1-й Белорусский фронт
26 июля.
Треблинский ад
I
На восток от Варшавы вдоль Западного Буга тянутся пески и болота, стоят густые сосновые и лиственные леса. Места эти пустынные и унылые, деревни тут редки. И пешеход, и проезжий избегают песчаных узких просёлков, где нога увязает, а колесо уходит по самую ось в глубокий песок.
Здесь, на седлецкой железнодорожной ветке, расположена маленькая захолустная станция Треблинка, в шестидесяти с лишним километрах от Варшавы, недалеко от станции Малкинья, где пересекаются железные дороги, идущие из Варшавы, Белостока, Седлеца, Ломжи.
Должно быть, многим из тех, кого привезли в 1942 году в Треблинку, приходилось в мирное время проезжать здесь, рассеянным взором следить за скучным пейзажем — сосны, песок, песок, и снова сосны, вереск, сухой кустарник, унылые станционные постройки, пересечения железнодорожных путей… И, может быть, скучающий взор пассажира мельком замечал идущую от станции одноколейную ветку, уходящую среди плотно обступивших её сосен в лес. Эта ветка ведёт к карьеру, где добывался белый песок для промышленного и городского строительства.
Карьер отделён от станции расстоянием в четыре километра, он находится на пустыре, окружённом со всех сторон сосновым лесом. Почва здесь скупа и неплодородна, и крестьяне не обрабатывают её. Пустырь так и остался пустырём. Земля кое-где покрыта мхом, кое-где высятся худые сосенки. Изредка пролетит галка или пёстрый, хохлатый удод. Этот убогий пустырь был выбран и одобрен германским рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером для постройки всемирной плахи; такой не знал род человеческий от времён первобытного варварства до наших жестоких дней. Да, вероятно, и вселенная не знала такой плахи. Здесь была устроена главная плаха СС, превосходящая Сабибур, Майданек, Бельжице, Освенцим.
В Треблинке было два лагеря: трудовой лагерь № 1, тде работали заключённые разных национальностей, главным образом поляки, и еврейский лагерь, лагерь № 2.
Лагерь № 1 — трудовой или штрафной — находился непосредственно возле песчаного карьера, неподалеку от лесной опушки. Это был обычный лагерь, каких гестаповцы построили сотни и тысячи на оккупированных восточных землях. Он возник в 1941 году. В нём, как в некоем единстве, существовали черты немецкого характера, искажённые в страшном зеркале гитлеровского режима. Так в бреду горячечного уродливо и искажённо отражаются мысли и чувства, пережитые больным до своей болезни. Так сумасшедший, действующий в состоянии умопомрачения, в своих поступках искажает логику поступков и замыслов нормального человека. Так преступник творит свои дела, соединяя в ударе молотом по переносице жертвы умелые навыки — глазомер и хватку рабочего-молотобойца с хладнокровием нечеловека.
Бережливость, аккуратность, расчётливость, педантичная чистота — всё это не плохие черты, присущие многим немцам. Приложенные к сельскому хозяйству, к промышленности, они дают свои плоды. Гитлеризм приложил эти черты к преступлению против человечества, и рейхс СС действовало в польском трудовом лагере так, словно речь шла о разведении цветной капусты или картофеля.
Площадь лагеря нарезана ровными прямоугольниками, бараки выстроились под линеечку, дорожки обсажены берёзками, посыпаны песочком. Были устроены бетонированные бассейны для домашней водоплавающей птицы, бассейны для стирки белья с удобными ступенями, службы для немецкого персонала — образцовая пекарня, парикмахерская, гараж, бензоколонка со стеклянным шаром, склады. Примерно по такому же принципу, с садиками, питьевыми колонками, бетонированными дорогами, был устроен и люблинский лагерь на Майданеке, по такому же принципу устраивались в Восточной Польше десятки других трудовых лагерей, где гестапо и СС полагали осесть всерьёз и надолго. В устройстве этих лагерей отразились черты немецкой аккуратности, мелочной расчётливости, педантичной тяги к порядку, немецкая любовь к расписанию, к схеме, разработанной до малейших мелочей и деталей.
Люди поступали в трудовой лагерь на срок, иногда совсем не большой, — 4–5—6 месяцев. В него пригоняли поляков, нарушавших законы генерал-губернаторства, причём нарушения были, как правило, незначительными, ибо за значительные нарушения полагался не лагерь, полагалась немедленная смерть. Донос, оговор, случайное слово, оброненное на улице, недовыполнение поставок, отказ дать немцу подводу либо лошадь, дерзость девушки, отклонившей любовные предложения эсэсовца, даже не саботаж в работе на фабрике, а одно лишь подозрение в возможности саботажа — всё это привело сотни и тысячи поляков — рабочих, крестьян, интеллигентов, мужчин и девушек, стариков и подростков, матерей семейств — в штрафной лагерь. Всего через лагерь прошло около пятидесяти тысяч человек. Евреи попадали в лагерь лишь в том случае, если они были выдающимися знаменитыми мастерами — пекарями, сапожниками, краснодеревщиками, каменщиками, портными. Здесь имелись всевозможные мастерские, и среди них солидная мастерская мебели, снабжавшая креслами, столами, стульями штабы германской армии.
Лагерь № 1 существовал с осени 1941 года по 23 июля 1944 года. Он был ликвидирован полностью, когда заключённые слышали уже глухой гул советской артиллерии…
23 июля ранним утром вахманы и эсэсовцы, распив для бодрости шнапса, приступили к ликвидации лагеря. К вечеру были убиты и закопаны в землю все заключённые. Удалось спастись варшавскому столяру Максу Левиту, раненным пролежал он под трупами своих товарищей до темноты и уполз в лес. Он рассказал, как, лёжа в яме, слушал пение тридцати мальчиков, перед расстрелом затянувших песню «Широка страна моя родная», слышал, как один из мальчиков крикнул: «Сталин отомстит!», слышал, как упавший на него в яму после залпа вожак мальчиков, любимец лагеря, Лейб, приподнявшись, попросил: «Пане вахман, не трафил, проше пана еще раз, ещё раз». Сейчас можно подробно рассказать о немецком порядке в этом трудовом лагере, — имеется множество показаний десятков свидетелей, поляков и полек, бежавших и выпущенных в своё время из лагеря № 1. Мы знаем о работе в песчаном карьере, о том, как не выполнявших норму бросали с обрыва в котлованы, знаем о норме питания: 170–200 граммов хлеба и литр бурды, именуемой супом, знаем о голодных смертях, об опухших, которых на тачках вывозили за проволоку и пристреливали, знаем о диких оргиях, которые устраивали немцы, о том, как они насиловали девушек и тут же пристреливали своих подневольных любовниц, о том, как сбрасывали с шестиметровой вышки людей, как пьяная компания ночью забирала из барака десять — пятнадцать заключённых и начинала неторопливо демонстрировать на них методы умерщвления, стреляя в сердце, затылок, глаза, рот, висок обречённым. Мы знаем имена лагерных эсэсовцев, их характеры, особенности, знаем начальника лагеря, голландского немца Ван-Эйпена, ненасытного убийцу и ненасытного развратника, любителя хороших лошадей и быстрой верховой езды, знаем массивного молодого Штумпфе, которого охватывали непроизвольные приступы смеха каждый раз, когда он убивал кого-нибудь из заключённых или когда в его присутствии производилась казнь. Его прозвали «смеющаяся смерть». Последним слышал его смех Макс Левит 23 июля этого года, когда по команде Штумпфе вахманы расстреливали мальчиков. Левит в это время лежал недостреленным на дне ямы. Знаем одноглазого немца из Одессы Свидерского, названного «мастером молотка». Это он считался непревзойденным специалистом по «холодному» убийству, и это он в течение нескольких минут убил молотком пятнадцать детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, признанных не пригодными для работы. Знаем худого, похожего на цыгана, эсэсовца Прейфи, с кличкой «старый», угрюмого и неразговорчивого. Он рассеивал свою меланхолию тем, что, сидя на лагерной помойке, подстерегал заключённых, приходивших тайком есть картофельные очистки, заставлял их открывать рот и затем стрелял им в открытые рты.
Знаем имена убийц-профессионалов Шварца и Ледеке. Это они развлекались стрельбой по возвращавшимся в сумерках с работы заключённым, убивая по двадцать, тридцать, сорок человек ежедневно.
Все эти существа не имели в себе ничего человеческого. Искажённые мозги, сердца и души, слова, поступки, привычки, словно страшная карикатура, напоминали о чертах, мыслях, чувствах, привычках, поступках. И порядок в лагере, и документация убийства, и любовь к чудовищной шутке, напоминавшей чем-то шутки пьяных драчунов, немецких студентов-буршей, и хоровое пение сентиментальных песен среди луж крови, и речи, которые они беспрерывно произносили перед обречёнными, и поучения, и благочестивые изречения, аккуратно отпечатанные на специальных бумажках, — всё это были чудовищные драконы и рептилии, развившиеся из зародыша традиционного германского шовинизма, спеси, себялюбия, самовлюблённой самоуверенности, педантичной слюнявой заботы о собственном гнёздышке и железного холодного равнодушия к судьбе всего живого, из яростной тупой веры, что немецкая наука, музыка, стихи, речь, газоны, унитазы, небо, пиво, дома — выше и прекрасней всей вселенной.
Так жил этот лагерь, подобный уменьшенному Майданеку, и могло показаться, что нет ничего страшней в мире. Но жившие в лагере № 1 хорошо знали, что есть нечто ужасней, во сто крат страшней, чем их лагерь. В трёх километрах от трудового лагеря немцы в мае 1942 года приступили к строительству еврейского лагеря, лагеря плахи. Строительство шло быстрыми темпами, на нём работало больше тысячи рабочих. В этом лагере ничто не было приспособлено для жизни, всё было приспособлено для смерти. Существование этого лагеря должно было, по замыслу Гиммлера, находиться в глубочайшей тайне, ни один человек не должен был живым уйти из него. И ни одному человеку не разрешалось приблизиться к этому лагерю. Стрельба по случайным прохожим открывалась без предупреждения за один километр. Самолётам германской авиации запрещалось летать над этим районом. Жертвы, подвозимые эшелонами по специальному ответвлению железнодорожной ветки, до последней минуты не знали о ждущей их судьбе. Охрана, сопровождавшая эшелоны, не допускалась даже во внешнюю ограду лагеря. При подходе вагонов охрану принимали лагерные эсэсовцы. Эшелон, состоявший обычно из шестидесяти вагонов, расчленялся в лесу, перед лагерем, на три части, и паровоз последовательно подавал по двадцать вагонов к лагерной платформе. Паровоз толкал вагоны сзади и останавливался у проволоки, таким образом ни машинист, ни кочегар не переступали лагерной черты. Когда вагоны разгружались, дежурный унтер-офицер войск СС свистком вызывал ожидавшие в двухстах метрах новые двадцать вагонов. Когда полностью разгружались все шестьдесят вагонов, комендатура лагеря по телефону вызывала со станции новый эшелон, а разгруженный шёл дальше по ветке, к карьеру, где вагоны грузились песком и уходили на станции Треблинка и Малкинья уже с новым грузом.
Здесь сказалась выгода положения Треблинки: эшелоны с жертвами шли сюда со всех четырёх стран света, с запада и востока, с севера и юга. Эшелоны из польских городов Варшавы, Мендзыжеца, Ченстохова, Седлеца, Радома, из Ломжи, Белостока, Гродно и многих городов Белоруссии, из Германии, Чехословакии, Австрии, Болгарии, из Бессарабии.
Эшелоны шли к Треблинке в течение тринадцати месяцев, в каждом эшелоне было шестьдесят вагонов, и на каждом вагоне мелом были написаны цифры 150–180—200. Эта цифра показывала количество людей, находящихся в вагоне. Железнодорожные служащие и крестьяне тайно вели счёт этим эшелонам. Крестьянин деревни Вулька (самый близкий к лагерю населённый пункт), шестидесятидвухлетний Казимир Скаржинский, говорил мне, что иногда бывали дни, когда мимо Вульки проходило по одной лишь седлецкой ветке шесть эшелонов, и почти не было дня в течение этих тринадцати месяцев, чтобы не прошёл хотя бы один эшелон. А ведь седлецкая ветка была лишь одной из четырёх железных дорог, снабжавших Треблинку. Железнодорожный ремонтный рабочий Люциан Цукова, мобилизованный немцами для работы на ветке, ведущей от Треблинки к лагерю № 2, говорит, что за время его работы с 15 июня 1942 года по август 1943 года в лагерь по ветке от станции Треблинка ежедневно подходили от одного до трёх железнодорожных составов в день. В каждом составе было по шестьдесят вагонов, а в каждом вагоне не менее ста пятидесяти человек. Таких показаний мы собрали десятки. Если мы даже уменьшим все цифры, показанные свидетелями движения эшелонов к Треблинке, примерно в два раза, то всё же количество людей, привезённых туда за тринадцать месяцев, выразится цифрой примерно в три миллиона человек.
Самый лагерь, с внешним обводом, складами для вещей казнённых, платформой и прочими подсобными помещениями, занимает очень небольшую площадь — семьсот восемьдесят на шестьсот метров. Если на миг усомниться в судьбе привезённых сюда миллионов, и если на миг предположить, что немцы не убивали их тотчас по прибытии, то спрашивается, где же они, эти люди, могущие составить население маленького государства или большого столичного европейского города? Тринадцать месяцев, триста девяносто шесть дней, эшелоны уходили, гружённые песком или пустые, ни один человек из прибывших в лагерь № 2 не уехал обратно. Пришло время задать грозный вопрос: «Каин, где же они, те, кого ты привёз сюда?»
Фашизму не удалось сохранить в тайне своё величайшее преступление. Но вовсе не потому, что тысячи людей невольно были свидетелями этого преступления. Гитлер, уверенный в безнаказанности, принял решение об истреблении миллионов невинных летом 1942 года, в период наибольшего успеха фашистских войск. Теперь можно доказать, что главные цифры убийств, произведённых немцами, приходятся на 1942 год. Убеждённые в своей безнаказанности, фашисты показали, на что они способны. О, если бы Адольф Гитлер победил, он сумел бы скрыть все следы всех преступлений, он бы заставил замолчать всех свидетелей, пусть их были бы десятки тысяч, а не тысячи. Ни один из них не произнёс бы ни слова. И невольно ещё раз хочется преклониться перед теми, кто осенью 1942 года, при молчании всего ныне столь шумного и победоносного мира, вели бой в Сталинграде на волжском обрыве против немецкой армии, за спиной которой дымились и клокотали реки невинной крови. Красная Армия, вот кто помешал Гиммлеру сохранить тайну Треблинки.
Сегодня свидетели заговорили, возопили камни и земля. И сегодня перед общественной совестью мира, перед глазами человечества мы можем последовательно, шаг за шагом пройти по кругам треблинского ада, по сравнению с которым Дантов ад безобидная и пустая игра сатаны.
Всё, что написано ниже, составлено по рассказам живых свидетелей, по показаниям людей, работавших в Треблинке с первого дня существования лагеря по день 2 августа 1943 года, когда восставшие смертники сожгли лагерь и бежали в лес, по показаниям арестованных вахманов, которые от слова до слова подтвердили и во многом дополнили рассказы свидетелей. Этих людей я видел лично, долго и подробно говорил с ними, их письменные показания лежат передо мной на столе. И все эти многочисленные, из различных источников идущие свидетельства сходятся между собой во всех деталях, начиная от описания повадок комендантской собаки Бари и кончая рассказом о технологии убийства жертв и устройстве конвейерной плахи.
Пойдём же по кругам треблинского ада.
Кто были люди, которых везли в эшелонах в Треблинку? Главным образом евреи, затем поляки, цыгане. К весне 1942 года почти всё еврейское население Польши, Германии, западных районов Белоруссии было согнано в гетто. В этих гетто — варшавском, радомском, ченстоховском, люблинском, белостокском, гродненском и многих десятках других, более мелких, были собраны миллионы еврейского населения — рабочих, ремесленников, врачей, профессоров, архитекторов, инженеров, учителей, работников искусств, людей нетрудовых профессий, все с семьями, жёнами, дочерьми, сыновьями, матерями и отцами. В одном варшавском гетто находилось около пятисот тысяч человек. Повидимому, это заключение в гетто явилось первой, предварительной частью гитлеровского плана истребления евреев. Лето 1942 года — пора военного успеха фашизма — было признано подходящим временем для проведения второй части плана — физического уничтожения. Известно, что Гиммлер приезжал в это время в Варшаву, отдавал соответствующие распоряжения. День и ночь шла подготовка треблинской плахи. В июле первые эшелоны уже шли из Варшавы и Ченстохова в Треблинку. Людей извещали, что их везут на Украину, для работы в сельском хозяйстве. Разрешалось брать с собой двадцать килограммов багажа и продукты питания. Во многих случаях немцы заставляли свои жертвы покупать железнодорожные билеты до станции «Обер-Майдан». Этим условным названием немцы именовали Треблинку. Дело в том, что слух об ужасном месте вскоре прошёл по всей Польше, и слово Треблинка перестало фигурировать у эсэсовцев при погрузке людей в эшелоны. Однако обращение при погрузке в эшелоны было таким, что не вызывало уже сомнений в судьбе, ждущей пассажиров, В товарный вагон набивалось не менее ста пятидесяти человек, обычно сто восемьдесят — двести. Весь путь, который длился иногда два-три дня, заключённым не давали воды. Страдания от жажды были так велики, что люди пили собственную мочу. Охрана требовала за глоток воды сто злотых и, получив деньги, обычно воды не давала. Люди ехали, прижавшись друг к другу, иногда даже стоя, и в каждом вагоне, особенно в душные летние дни, умирало к концу путешествия несколько стариков и больных сердечными болезнями. Так как двери до конца путешествия ни разу не раскрывались, то трупы начинали разлагаться, отравляя воздух в вагонах. Едва кто-либо из едущих зажигал в ночное время спичку, охрана открывала стрельбу по стенам вагона. Парикмахер Абрам Кон рассказывает, что в его вагоне было много раненых и пятеро убитых в результате стрельбы охраны по стенкам вагона.
Совершенно иначе прибывали в Треблинку поезда из западноевропейских стран. Здесь люди ничего не слышали о Треблинке и до последней минуты верили, что их везут на работы, да притом ещё немцы всячески расписывали удобства и прелесть новой жизни, ждущей переселенцев. Некоторые эшелоны прибывали с людьми, уверенными, что их вывозят за границу, в нейтральные страны: за большие деньги они приобрели у немецких властей визы на выезд и иностранные паспорта.
Однажды прибыл в Треблинку поезд с гражданами Англии, Канады, Америки, Австралии, застрявшими во время войны в Европе и Польше. После длительных хлопот, сопряжённых с дачей больших взяток, они добились выезда в нейтральные страны. Все поезда из европейских стран приходили без охраны, с обычной обслуживающей прислугой, в составе этих поездов были спальные вагоны и вагон-рестораны. Пассажиры везли с собой объёмистые кофры и чемоданы, большие запасы продуктов. Дети пассажиров выбегали на промежуточных станциях и спрашивали, скоро ли будет Обер-Майдан.
Прибывали изредка эшелоны цыган из Бессарабии и из других районов. Несколько раз прибывали эшелоны молодых поляков — крестьян и рабочих, участвовавших в восстаниях и партизанских отрядах.
Трудно сказать, что страшней: ехать на смерть в ужасных мучениях, зная о её приближении, либо, в полном неведении гибели, выглядывать из окна мягкого вагона в тот момент, когда со станции Треблинка уже звонят в лагерь и сообщают данные о прибывшем поезде и количестве людей, едущих в нём.
Для последнего обмана людей, приезжавших из Европы, самый железнодорожный тупик в лагере смерти был оборудован наподобие пассажирской станции. На платформе, у которой разгружались очередные двадцать вагонов, стояло вокзальное здание с кассами, камерой хранения багажа, с залом ресторана, повсюду имелись стрелы-указатели: «Посадка на Белосток», «На Барановичи», «Посадка на Волковыск» и т. д. К прибытию эшелона в здании вокзала играл оркестр, все музыканты были хорошо одеты. Швейцар в форме железнодорожного служащего отбирал у пассажиров билеты и выпускал их на площадь. Три-четыре тысячи людей, нагружённых мешками и чемоданами, поддерживая стариков и больных, выходили на площадь. Матери держали на руках детей, дети постарше жались к родителям, пытливо оглядывая площадь. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами человеческих ног. Обострённый взор людей быстро ловил тревожащие мелочи — на торопливо подметённой, видимо за несколько минут до выхода партии, земле видны были брошенные предметы — узелок с одеждой, раскрытые чемоданы, кисти для бритья, эмалированные кастрюли. Как попали они сюда? И почему сразу же за вокзальной платформой оканчивается железнодорожный путь, растёт жёлтая трава и тянется трёхметровая проволока? Где же путь на Белосток, на Седлец, Варшаву, Волковыск? И почему так странно усмехаются новые охранники, оглядывая поправляющих галстуки мужчин, аккуратных старушек, мальчиков в матросских курточках, худеньких девушек, умудрившихся сохранить в этом путешествии опрятность одежды, молодых матерей, любовно поправляющих одеяльца на своих младенцах. Все эти вахманы в чёрных мундирах и эсэсовские унтер-офицеры походили на погонщиков стада при входе в бойню. Для них вновь прибывшая партия не была живыми людьми, и они невольно улыбались, глядя на проявление стыдливости, любви, страха, заботы о близких, о вещах, их смешило, что матери выговаривали детям, отбежавшим на несколько шагов, и одёргивали на них курточки, что мужчины вытирали лбы носовыми платками и закуривали сигареты, что девушки поправляли волосы и испуганно придерживали юбки, когда налетал порыв ветра. Их смешило, что старики старались присесть на чемоданчики, что некоторые держали подмышкой книги, а больные кутали шеи. До двадцати тысяч человек проходило ежедневно через Треблинку. Дни, когда из вокзала выходило шесть-семь тысяч, считались пустыми днями. Четыре, пять раз в день наполнялась площадь людьми. И все эти тысячи, десятки, сотни тысяч людей, спрашивающих испуганных глаз, все эти юные и старые лица, чернокудрые и золотоволосые красавицы, горбатенькие и сутулые, лысые старики, робкие подростки — всё это сливалось в едином потоке, поглощающем и разум, и прекрасную человеческую науку, и девичью любовь, и детское недоумение, и кашель стариков, и сердце человека.
И вновь прибывшие с дрожью ощущали странность этого сдержанного, сытого, насмешливого взгляда, взгляда превосходства живого скота над мёртвым человеком.
И снова в эти короткие мгновенья вышедшие на площадь ловили мелочи, непонятные и вселяющие тревогу.
Что это там, за этой огромной шестиметровой стеной, плотно закрытой одеялами и начавшими желтеть сосновыми ветвями? Одеяла тоже внушали тревогу: стёганые, разноцветные, шёлковые и крытые ситцами, они напоминали те одеяла, что лежали в постельных принадлежностях приехавших. Как попали они сюда? Кто их привёз? И где они, владельцы этих одеял? Почему им не нужны больше одеяла? И кто эти люди с голубыми повязками? Вспоминается всё передуманное за последнее время, тревоги, слухи, передаваемые шопотом. Нет, нет, не может быть! И человек отгоняет страшную мысль. Тревога на площади продолжается несколько мгновений, может быть две-три минуты, пока все прибывшие успеют сойти с перрона. Этот выход всегда сопряжён с задержкой: в каждой партии имеются калеки, хромые, старики и больные, едва передвигающие ноги. Но вот все на площади. Унтер-шарфюрер (младший унтер-офицер войск СС) громко и раздельно предлагает приехавшим оставить вещи на площади и отправиться в «баню», имея при себе лишь личные документы, ценности и самые небольшие пакетики с умывальными принадлежностями. У стоящих возникают десятки вопросов: брать ли бельё, можно ли развязать узлы, не перепутаются ли вещи, сложенные на площади, не пропадут ли? Но какая-то странная сила заставляет их молча, поспешно шагать, не задавая вопросов, не оглядываясь, к проходу в шестиметровой проволочной стене, замаскированной ветками. Они проходят мимо противотанковых ежей, мимо высокой, в три человеческих роста, колючей проволоки, мимо трёхметрового противотанкового рва, снова мимо тонкой, клубками разбросанной стальной проволоки, в которой ноги бегущего застревают, как лапы мухи в паутине, и снова мимо многометровой стены колючей проволоки. И страшное чувство, чувство обречённости, чувство беспомощности охватывает их: ни бежать, ни повернуть обратно, ни драться: с деревянных низеньких и приземистых башен смотрят на них дула крупнокалиберных пулемётов. Звать на помощь? Но ведь кругом эсэсовцы и вахманы с автоматами, ручными гранатами, пистолетами. Они власть. В их руках танки и авиация, земли, города, небо, железные дороги, закон, газеты, радио. Весь мир молчит, подавленный, порабощенный коричневой шайкой захвативших власть бандитов. И только где-то, за много тысяч километров, ревёт советская артиллерия на далёком волжском берегу, упрямо возвещая великую волю русского народа к смертной борьбе за свободу, будоража, сзывая на борьбу народы мира.
А на площади перед вокзалом две сотни рабочих с небесно-голубыми повязками («группа небесковых») молча, быстро, умело развязывают узлы, вскрывают корзинки и чемоданы, снимают ремни с портпледов. Идёт сортировка и оценка вещей, оставленных только что прибывшей партией. Летят на землю заботливо уложенные штопальные принадлежности, клубки ниток, детские трусики, сорочки, простыни, джемперы, ножички, бритвенные приборы, связки писем, фотографии, напёрстки, флаконы духов, зеркала, чепчики, туфли, валенки, сшитые из ватных одеял на случай мороза, дамские туфельки, чулки, кружева, пижамы, пакеты с маслом, кофе, банки какао, молитвенные одежды, подсвечники, книги, сухари, скрипки, детские кубики. Нужно обладать квалификацией, чтобы в считанные минуты рассортировать все эти тысячи предметов, оценить их — одни отобрать для отправки в Германию, другие, второстепенные, старые, штопанные — для сожжения. Горе ошибившемуся рабочему, положившему старый фибровый чемодан в кучу отобранных для отправки в Германию кожаных саквояжей, либо кинувшему в кучу старых штопанных носков пару парижских чулок с фабричной пломбой. Рабочий мог ошибиться только один раз. Два раза ему не надо было ошибаться. Сорок эсэсовцев и шестьдесят вахманов работали «на транспорте», так называлась в Треблинке первая, только что описанная нами, стадия: приём эшелона, вывод партии на «вокзал» и на площадь, наблюдение за рабочими, сортирующими и оценивающими вещи. Во время этой работы рабочие часто незаметно от охраны совали в рот куски хлеба, сахара, конфеты, найденные в продуктовых пакетах. Это не разрешалось. Разрешалось после окончания работы мыть руки и лицо одеколоном и духами, воды в Треблинке нехватало, и для умывания ею пользовались только немцы и вахманы. И пока люди, всё ещё живые, готовились к «бане», работа над их вещами подходила к концу — ценные вещи уносились на склад, а письма, фотографии новорождённых, братьев, невест, пожелтевшие извещения о свадьбе, все эти тысячи драгоценных предметов, бесконечно дорогих для их владельцев и представляющих лишь хлам для треблинских хозяев, собирались в кучи и уносились к огромным ямам, где на дне лежали сотни тысяч таких же писем, открыток, визитных карточек, фотографий, бумажек с детскими каракулями и первыми неумелыми рисунками цветным карандашом. Площадь кое-как подметалась и была готова к приёму новой партии обречённых. Не всегда приём партии проходил, как только что описано. В тех случаях, когда заключённые знали, куда их везут, вспыхивали бунты. Крестьянин Скаржинский видел, как из двух поездов, выломив двери, вырвались люди и, опрокинув охрану, кинулись к лесу. Все до единого в обоих случаях были убиты из автоматов. Мужчины несли с собой четырёх детей в возрасте четырёх — шести лет. И дети эти так же были убиты. О таких же случаях борьбы с охраной рассказывает крестьянка Марьяна Кобус. Однажды на её глазах, когда она работала в поле, были убиты шестьдесят человек, прорвавшихся из поезда к лесу.
Но вот партия переходит на новую площадку, уже внутри второй лагерной ограды. На площади огромный барак, вправо ещё три барака, два из них отведены под склады одежды, третий под обувь. Дальше, в западной части, расположены бараки эсэсовцев, бараки вахманов, склады продовольствия, скотный двор, стоят легковые и грузовые автомашины, броневик. Впечатление обычного лагеря, такого же, как лагерь № 1.
В юго-восточном углу лагерного двора огороженное ветвями пространство, впереди него будка с надписью «Лазарет». Всех дряхлых, тяжело больных отделяют от толпы, ожидающей «бани», и несут на носилках в «лазарет». Из будки навстречу больным выходит «доктор» в белом фартуке с повязкой Красного креста на левом рукаве. О том, что происходило в «лазарете», мы расскажем ниже.
Вторая фаза обработки прибывшей партии характеризуется подавлением воли людей беспрерывными короткими и быстрыми приказами. Эти приказы произносятся тем знаменитым тембром голоса, которым так гордится немецкая армия, тембром, являющимся одним из доказательств принадлежности немцев к расе господ. Буква «р», одновременно картавая и твёрдая, звучит, как кнут.
«Achtung!» (Внимание!) проносится над толпой, и в свинцовой тишине голос шарфюрера произносит заученные, повторяемые несколько раз на день, много месяцев подряд слова:
«Мужчины остаются на месте, женщины и дети раздеваются в бараках налево».
Здесь, по рассказам очевидцев, обычно начинаются страшные сцены. Великое чувство материнской, супружеской, сыновней любви подсказывает людям, что они в последний раз видят друг друга. Рукопожатия, поцелуи, благословения, слёзы, короткие, кратко произнесённые слова, в которые люди вкладывают всю любовь, всю боль, всю нежность, всё отчаяние своё… Эсэсовские психиатры смерти, знают, что эти чувства нужно мгновенно затушить, отсечь. Психиатры смерти знают те простые законы, которые действуют на всех скотобойнях мира, законы, которые в Треблинке скоты применяли к людям. Это один из наиболее ответственных моментов: отделение дочерей от отцов, матерей от сыновей, бабушек от внуков, мужей от жён.
И снова над площадью: «Achtung! Achtung!» Именно в этот момент нужно снова смутить разум людей надеждой, правилами смерти, выдаваемыми за правила жизни. Тот же голос рубит слово за словом:
— Женщины и дети снимают обувь при входе в барак. Чулки вкладываются в туфли. Детские чулочки вкладываются в сандалии, ботиночки и туфельки детей. Будьте аккуратны.
И тотчас же снова:
— Направляясь в баню, иметь при себе драгоценности, документы, деньги, полотенце и мыло… Повторяю…
Внутри женского барака находится парикмахерская; голых женщин стригут под машинку, со старух снимают парики. Странный психологический момент: эта смертная стрижка, по свидетельству парикмахеров, более всего убеждала женщин, что их ведут в баню. Девушки, щупая головы, иногда просили: «Вот тут неровно, подстригите, пожалуйста!» Обычно после стрижки женщины успокаивались, почти каждая выходила из барака, имея при себе кусочек мыла и сложенное полотенце. Некоторые молодые плакали, жалея свои красивые косы. Для чего стригли женщин? Чтобы обмануть их? Нет, эти волосы нужны были на потребу Германии. Это было сырьё… Я спрашивал многих людей, что делали немцы с этим ворохом волос, снятых с голов живых покойниц. Все свидетели рассказывают, что огромные груды чёрных, золотых, белокурых волос, кудрей и кос подвергались дезинфекции, прессовались в мешки и отправлялись в Германию. Все свидетели подтверждали, что волосы отправляют в мешках в германские адреса. Как использовались они? На этот вопрос никто не мог ответить. Лишь в письменных показаниях Кона утверждается, что потребителем этих волос было военно-морское ведомство: волосы шли для набивки матрацев, технических приспособлений, плетения канатов для подводных лодок.
Мне думается, что это показание нуждается в дополнительном подтверждении, его даст человечеству гросс-адмирал Редер, стоявший в 1942 году во главе германского военного флота.
Мужчины раздевались во дворе. Из первой утренней партии отбиралось полтораста — триста человек, обладающих большой физической силой, их использовали для захоронения трупов и убивали обычно на второй день. Раздеваться мужчины должны были очень быстро, но аккуратно, складывая в порядке обувь, носки, бельё, пиджаки и брюки. Сортировкой носильных вещей занималась вторая рабочая команда, «красная», отличавшаяся от работавших «на транспорте» красной нарукавной повязкой. Вещи, признанные достойными быть отправленными в Германию, поступали тут же на склад. С них тщательно спарывались все металлические и матерчатые знаки. Остальные вещи сжигались или закапывались в ямы.
Чувство тревоги росло всё время. Обоняние тревожил страшный запах, то и дело перебиваемый запахом хлорной извести. Казалось непонятным огромное количество жирных, назойливых мух. Откуда они здесь, среди сосен и вытоптанной земли? Люди дышали тревожно и шумно, вздрагивая, вглядывались в каждую ничтожную мелочь, могущую объяснить, подсказать, приподнять завесу тайны над судьбой, ждущей обречённых. И почему там, в южном направлении, так грохочут гигантские экскаваторы?
Начиналась новая процедура. Голых людей подводили к кассе и предлагали сдавать документы и ценности. И вновь страшный гипнотизирующий голос кричал: «Achtung! Achtung! За сокрытие ценностей смерть! Achtung!»
В маленькой, сколоченной из досок будке сидел шарфюрер. Возле него стояли эсэсовцы и вахманы. Подле будки стояли деревянные ящики, в которые бросались ценности, — один для бумажных денег, другой для монет, третий для ручных часов, для колец, для серёг и для брошек с драгоценными камнями, для браслетов. А документы летели на землю, уже никому не нужные на свете, документы живых мертвецов, которые через час уже будут затрамбованными лежать в яме. Но золото и ценности подвергались тщательной сортировке, десятки ювелиров определяли чистоту металла, ценность камня, чистоту воды бриллиантов.
И удивительная вещь: скоты использовали всё — кожу, бумагу, ткани, всё служившее человеку, всё нужно и полезно было скотам, лишь высшая драгоценность мира — жизнь человека растаптывалась ими. И какие большие сильные умы, какие честные души, какие славные детские глаза, какие милые старушечьи лица, какие гордые красотой девичьи головы, над созданием которых природа трудилась великую тьму веков, огромным молчаливым потоком низвергались в бездну небытия. Секунды нужны были для того, чтобы уничтожить то, что мир и природа создавали в огромном и мучительном творчестве жизни.
Здесь, у «кассы», наступал перелом — здесь кончалась пытка ложью, державшей людей в гипнозе неведения, в лихорадке, бросавшей их на протяжении нескольких минут от надежды к отчаянию, от видений жизни к видениям смерти. Эта пытка ложью являлась одним из атрибутов конвейерной плахи, она помогала эсэсовцам работать. И когда наступал последний акт ограбления живых мертвецов, немцы резко меняли стиль отношения к своим жертвам. Кольца срывали, ломая пальцы женщинам, вырывали серьги, раздирая мочки ушей.
На последнем этапе конвейерная плаха требовала для быстрого своего функционирования нового принципа. И поэтому слово «Achtung» сменялось другим, хлопающим, шипящим: «Schneller! Schneller! Schneller!» Скорей, скорей скорей, бегом, в небытиё!
Из жестокой практики последних лет известно, что голый человек теряет сразу силу сопрвтивления, перестаёт бороться против судьбы, сразу вместе с одеждой теряет и силу жизненного инстинкта, приемлет судьбу, как рок. Непримиримо жаждущий жить становится пассивным и безразличным. Но для того чтобы застраховать себя, эсэсовцы дополнительно применяли на последнем этапе работы конвейерной плахи метод чудовищного оглушения, ввергали людей в состояние психического душевного шока.
Как это делалось?
Внезапным и резким применением бессмысленной, алогичной жестокости. Голые люди, у которых было отнято всё, но которые упрямо продолжали оставаться людьми в тысячу крат больше, чем окружавшие их твари в мундирах германской армии, всё еще дышали, смотрели, мыслили, их сердца ещё бились. Из рук их вышибали куски мыла и полотенца. Их строили рядами по пять человек в ряд.
— Hande hoch! Marsch! Schneller! Schneller! Руки вверх! Марш! Быстрее! Быстрее!
Они вступали на прямую аллею, обсаженную цветами и ёлками, длиной в сто двадцать метров, шириной в два метра, ведущую к месту казни. По обе стороны этой аллеи была протянута проволока, и плечом к плечу стояли вахманы в чёрных мундирах и эсэсовцы в серых. Дорога была покрыта белым песком, и те, что шли впереди с поднятыми руками, видели на этом взрыхлённом песке свежие отпечатки босых ног: маленьких — женских, совсем маленьких — детских, тяжёлых старческих ступней. Этот зыбкий след на песке — всё, что осталось от тысяч людей, которые недавно прошли по этой дороге, прошли так же, как шли сейчас по ней новые четыре тысячи, как пройдут после этих четырёх тысяч, через два часа, ещё тысячи, ожидавшие очереди на лесной железнодорожной ветке. Прошли так же, как шли вчера и десять дней назад, как пройдут завтра и через пятьдесят дней, как шли люди все тринадцать месяцев существования треблинского ада.
Эту аллею немцы называли «дорога без возвращения».
Кривляющееся человекообразное существо, фамилия которого Сухомиль, с ужимками кричало, коверкая нарочно немецкие слова:
— Детки, детки, шнеллер, шнеллер, вода в бане уже остывает! Шнеллер, детки, шнеллер! — и хохотало, приседало, приплясывало. Люди с поднятыми руками шли молча между двумя шеренгами стражи, под ударами прикладов и резиновых палок. Дети, едва поспевая за взрослыми, бежали. В этом последнем скорбном проходе все свидетели отмечают зверство одного человекообразного существа, эсэсовца Цэпфа. Он специализировался по убийству детей. Обладая огромной силой, это существо внезапно выхватывало из толпы ребёнка и, либо взмахнув им, как палицей, било его головой оземь, либо раздирало его пополам.
Когда я слышал об этом существе, повидимому, рождённом от женщины, мне казались немыслимыми и невероятными вещи, рассказанные о нём. Но когда я лично услышал от непосредственных свидетелей повторение этих рассказов, я увидел, что рассказывают они об этом, как об одной из деталей, не выделяющейся и не противоречащей общему строю треблинского ада, я поверил в возможность этого существа.
Действия Цэпфа были нужны, они именно способствовали психическому шоку обречённых, они были выражением алогичной жестокости, подавляющей волю и сознание. Он был полезным, нужным винтиком в огромной машине фашистского государства.
Нам следует ужасаться не тому, что природа рождает таких дегенератов: мало ли какие уродства бывают в органическом мире — и циклопы, и существа о двух головах, и соответствующие им страшные духовные уродства и извращения. Ужасно другое: существа эти, подлежащие изоляции, изучению как феномены психиатрической науки, в некоем государстве существуют как граждане, активные и действующие. Их бредовая идеология, их патологическая психика, их феноменальные преступления являются необходимым элементом фашистского государства. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч таких существ являются столпами германского фашизма, поддержкой, основой гитлеровской Германии. В мундирах, при оружии, при орденах империи эти существа были целые годы полноправными хозяевами жизни народов Европы. Ужасаться нужно не существам этим, а государству, вызвавшему их из щелей, из мрака и подполья и сделавших их нужными, полезными, незаменимыми в Треблинке под Варшавой, на люблинском Майданеке, в Бельжице, в Сабибуре, в Освенциме, в Бабьем Яру в Доманевке и Богдановке под Одессой, в Тростянце под Минском, на Понарах в Литве, в десятках и сотнях тюрем, трудовых, штрафных лагерей, лагерей уничтожения жизни.
Тот или иной тип государства не сваливается на людей с неба, материальные и идейные отношения народов рождают государственный строй. И вот тут-то следует по-настоящему задуматься и по-настоящему ужаснуться…
Путь от «кассы» до места казни занимал несколько минут. Подхлёстываемые ударами, оглушённые криками, люди выходили на третью площадь и на мгновенье, поражённые, останавливались.
Перед ними стояло красивое каменное здание, отделанное деревом, построенное, как древний храм. Пять широких бетонированных ступеней вели к низким, но очень широким, массивным, красиво отделанным дверям. У входа росли цветы, стояли вазоны. Кругом же царил хаос, всюду видны были горы свежевскопанной земли, огромный экскаватор, скрежеща, выбрасывал своими стальными клешнями тонны жёлтой песчаной почвы, и пыль, поднятая его работой, стояла между землёй и солнцем. Грохот колоссальной машины, рывшей с утра до ночи огромные рвы-могилы, смешивался с отчаянным лаем десятков немецких овчарок.
С обеих сторон здания смерти шли узкоколейные линии, по которым люди в широких комбинезонах подкатывали самоопрокидывающиеся вагонетки.
Широкие двери здания смерти медленно распахивались, и два подручных Шмидта, шефа комбината, появлялись у входа. Это были садисты и маниаки — один высокий, лет тридцати, с массивными плечами, со смуглым смеющимся, радостно возбуждённым лицом и чёрными волосами; другой, помоложе, небольшого роста, шатен, с бледножёлтыми щеками, точно после усиленного приёма акрихина. Имена и фамилии этих предателей человечества, родины и присяги известны.
Высокий держал в руках метровую массивную газовую трубу и нагайку, второй был вооружён саблей.
В это время эсэсовцы спускали натренированных собак, которые кидались в толпу и рвали зубами голые тела обречённых. Эсэсовцы с криками били прикладами, подгоняя замерших, словно в столбняке, женщин.
Внутри самого здания действовали подручные Шмидта, сгоняя людей в распахнутые двери газовых камер.
К этой минуте у здания появлялся один из комендантов Треблинки, Курт Франц, ведя на поводу свою собаку Бари. Хозяин специально натренировал её — бросаясь на обречённых, вырывать им половые органы. Курт Франц сделал в лагере хорошую карьеру, начав с младшего унтер-офицера войск СС и дойдя до довольно высокого чина унтер-штурмфюрера. Этот тридцатипятилетний высокий и худой эсэсовец не только обладал организаторским даром, он не только обожал свою службу и не мыслил себя вне Треблинки, где всё происходило под его неутомимым наблюдением, — он был до некоторой степени теоретиком и любил объяснять смысл и значение своей работы. Надо бы, чтобы в эти ужасные минуты у здания «газовни» появились и римский папа, и мистер Брейлс-форд, и все другие гуманнейшие заступники гитлеризма, появились бы, конечно, в качестве зрителей. Они бы смогли обогатить свои человеколюбивые проповеди, книги и статьи новыми аргументами. Кстати, святой отец, столь благоговейно молчавший, пока Гиммлер расправлялся с человечеством, прикинул бы, во сколько приёмов немцы могли бы пропустить через Треблинку его ватиканскую контору.
Велика сила человечности! Человечность не умирает, пока не умирает человек. И когда приходит короткая, но страшная пора истории, пора торжества скота над человеком, человек, убиваемый скотом, сохраняет до последнего дыхания и силу души своей, и ясность мысли, и жар любви. И торжествующий скот, убивший человека, по-прежнему остаётся скотом. В этой бессмертности душевной силы людей есть мрачное мученичество, торжество гибнущего человека над живущим скотом. В этом, в самые тяжёлые дни 1942 года, была заря победы разума над звериным безумием, добра над злом, света над мраком, силы прогресса над силой реакции. Страшная заря над полем крови и слёз, бездной страданий, заря, всходившая в воплях гибнущих матерей и младенцев, в предсмертных хрипах стариков.
Скоты и философия скотов предрекали закат миру, Европе, но та красная кровь не была краской заката, то была кровь гибнущей и побеждающей своей смертью человечности. Люди остались людьми, они не приняли морали и законов фашизма, борясь с ними всеми способами, борясь человеческой смертью своей.
Потрясают до глубины души, лишают сна и покоя рассказы о том, как живые треблинские мертвецы до последней минуты сохраняли не образ и подобие человека, а душу человеческую! Рассказы о женщинах, пытавшихся спасти своих сыновей и шедших ради этого на великие безнадёжные подвиги, о молодых матерях, прятавших, закапывавших своих грудных детей в кучи одеял и прикрывавших их своим телом. Никто не знает и уже никогда не узнает имён этих матерей. Рассказывали о десятилетних девочках, с божеской мудростью утешавших своих рыдающих родителей, о мальчике, кричавшем у входа в газовню: «Русские отомстят, мама, не плачь!» Никто не знает и уж никогда не узнает, как звали этих детей. Рассказывали нам о десятках обречённых людей, вступавших в борьбу — одни против огромной своры вооружённых автоматическим оружием и гранатами эсэсовцев — и гибнувших стоя, с грудью, простреленной десятками пуль. Рассказывали нам о молодом мужчине, вонзившем нож в эсэсовца-офицера, о юноше, привезённом из восставшего варшавского гетто, сумевшем чудом скрыть от немцев гранату, — он её бросил, уже будучи голым, в толпу палачей. Рассказывают о сражении, длившемся всю ночь между восставшей партией обречённых и отрядами вахманов СС. До утра гремели выстрелы, взрывы гранат, — и когда взошло солнце, вся площадь была покрыта телами мёртвых бойцов, и возле каждого лежало его оружие — палица, вырванная из ограды, нож, бритва. Сколько простоит земля, уже никогда никто не узнает имён погибших. Рассказывают о высокой девушке, на «дороге без возвращения» вырвавшей карабин из рук вахмана и дравшейся против десятков стрелявших в неё эсэсовцев. Два скота были убиты в этой борьбе, у третьего раздроблена рука. Он вернулся в Треблинку одноруким. Страшны были издевательства и казнь, которым подвергли девушку. Имени её не знают, и никто не чтит его.
Но так ли это? Гитлеризм отнял у этих людей дом, жизнь, хотел стереть их имена в памяти мира. Но все они, и матери, прикрывавшие телом своих детей, и дети, утиравшие слёзы на глазах отцов, и те, кто дрались ножами и бросали гранаты, и павшие в ночной бойне, и нагая девушка, как богиня из древнегреческого мифа, сражавшаяся одна против десятков, — все они, эти ушедшие в небытие, сохранили навечно самое лучшее имя, которого не могла втоптать в землю свора гитлеров-гиммлеров, — имя человека. В их эпитафиях история напишет: «Здесь спит человек!»
Жители ближайшей к Треблинке деревни Вулька рассказывают, что иногда крик убиваемых женщин был так ужасен, что вся деревня, теряя голову, бежала в дальний лес, чтобы не слышать этого пронзительного, просверливающего брёвна, небо и землю крика. Потом крик внезапно стихал и вновь столь же внезапно рождался, такой же ужасный, пронзительный, сверлящий кости, череп, душу… Так повторялось по три-четыре раза на день. Я расспрашивал одного из пойманных палачей, III, об этих криках. Он объяснил, что женщины кричали в ту минуту, когда спускали собак и всю партию обречённых вгоняли в здание смерти. «Они видели смерть. Кроме того, там было очень тесно, их страшно били вахманы и рвали собаки».
Внезапная тишина наступала, когда закрывались двери камер. Крик женщин возникал вновь, когда к газовне приводили новую партию. Так повторялось два, три, четыре, иногда пять раз на день. Ведь треблинская плаха была не простой плахой. Это была конвейерная плаха, организованная по методу потока, заимствованному из современного крупнопромышленного производства.
И как подлинный промышленный комбинат, Треблинка не возникла сразу в том виде, как мы её описываем. Она росла постепенно, развивалась, строила новые цеха. Сперва были построены три газовые камеры небольшого размера. В период строительства этих камер прибыло несколько эшелонов, и так как камеры ещё не были готовы, все прибывшие были убиты холодным оружием — топорами, молотками, дубинами. Эсэсовцы не хотели стрельбой расшифровывать перед окрестными жителями работу Треблинки. Первые три бетонированных камеры были небольшого размера, 5X5 метров, то есть площадью в двадцать пять квадратных метров каждая. Высота камеры сто девяносто сантиметров. В каждой камере имелось две двери — в одну впускались живые люди, вторая служила для вытаскивания загазированных трупов. Эта вторая дверь была очень широка, около двух с половиной метров. Камеры были смонтированы на одном фундаменте.
Эти три камеры не удовлетворяли заданной Берлином мощности конвейерной плахи.
Тотчас же приступили к строительству описанного выше здания. Руководители Треблинки гордились тем, что оставляют далеко позади по мощности, пропускной способности и производственной квадратуре камер многие гестаповские фабрики смерти: и Майданек, и Сабибур, и Бельжице.
Семьсот заключённых в течение пяти недель работали над зданием нового комбината смерти. В разгар работы приехал из Германии мастер со своей бригадой и приступил к монтажу. Новые камеры, общим количеством десять, располагались симметрично по обе стороны широкого бетонированного коридора. В каждой камере, как и в трёх предыдущих, имелись две двери — первая со стороны коридора, в неё вводились живые люди; вторая, расположенная параллельно, проделанная в противоположной стене, служила для вытаскивания загазированных трупов. Эти двери выходили на специальную платформу, их было две, симметрично расположенных по обе стороны здания. К платформе подходили линии узкоколейки. Таким образом, трупы вываливались на платформы и оттуда сразу же грузились в вагонетки, отвозились к огромным рвам-могилам, их день и ночь копали колоссы-экскаваторы. Пол в камерах был устроен с большим наклоном от коридора к платформам, и это значительно убыстряло работу по разгрузке камер. В старых камерах трупы разгружались кустарно: их носили на носилках и волокли на ремнях. Площадь каждой камеры была 7 X 8 метров, то есть пятьдесят шесть квадратных метров. Общая площадь новых десяти камер составляла пятьсот шестьдесят квадратных метров, а считая и площадь трёх старых камер, которые продолжали работать при поступлении небольших партий, — всего Треблинка располагала смертной промышленной площадью в шестьсот тридцать метров. В одну камеру загружалось одновременно четыреста — шестьсот человек. Таким образом, при полной загрузке десяти камер в один приём уничтожалось в среднем четыре—шесть тысяч человек. При самой средней нагрузке камеры треблинского ада загружались по крайней мере два-три раза в день (были дни, когда они загружались по шесть раз). Нарочно уменьшая цифры, мы можем подсчитать, что при двукратной дневной загрузке одних лишь новых камер за день в Треблинке убивалось около десяти тысяч человек, а в месяц около трёхсот тысяч. Треблиика работала ежедневно в течение тринадцати месяцев, но если мы даже сбросим девяносто дней на простой, ремонты, недоставку эшелонов, то получится чистых десять месяцев работы. Если в месяц в среднем проходило триста тысяч, то за десять месяцев Треблинка убила три миллиона человек. Мы снова пришли к цифре в три миллиона. В первый раз эту цифру мы ввели из нарочито преуменьшенного подсчёта прибывающих эшелонов.
Умерщвление длилось в камере от десяти до двадцати пяти минут. В первое время, когда были пущены новые камеры и палачи не могли сразу наладить газовый режим и производили опыты по дозировкам различных отравляющих веществ, жертвы подвергались страшным мучениям, по два-три часа сохраняя жизнь. В самые первые дни скверно работали нагнетательные и отсасывающие устройства, и тогда муки несчастных затягивались на восемь и десять часов. Для умерщвления применялись различные способы: нагнетание отработанных газов от мотора тяжёлого танка, служившего двигателем треблинской станции. Этот отработанный газ содержит в себе два-три процента окиси углерода, обладающей свойством связывать гемоглобин крови в стойкое соединение, так называемый карбоксигемоглобин. Этот карбоксигемоглобин во много раз устойчивей соединения (оксигемоглобин), образуемого при соприкосновении в альвеолах лёгких крови с кислородом воздуха. В течение пятнадцати минут гемоглобин человеческой крови плотно связывается с окисью углерода, и человек дышит «впустую» — кислород перестаёт поступать в его организм, появляются признаки кислородного голодания: сердце работает с бешеной силой, гонит кровь в лёгкие, но отравленная окисью углерода кровь бессильна захватить кислород из воздуха. Дыхание становится хриплым, появляются явления мучительного удушья, сознание меркнет, и человек погибает так же, как гибнет удавленный.
Вторым принятым в Треблинке способом, получившим наибольшее распространение, было откачивание с помощью специальных насосов воздуха из камер. Смерть при этом наступала примерно от таких же причин, как и при отравлении окисью углерода: у человека отнимали кислород. И, наконец, третий способ, менее принятый, но всё же применявшийся, убийство паром; и этот способ основывался на лишении организма кислорода: пар вытеснял из камер воздух. Применялись различные отравляющие вещества, но это было экспериментирование; промышленными способами массового убийства, были те два, о которых сказано выше.
Так весь процесс работы треблинского конвейера сводился к тому, что зверь отнимал у человека последовательно всё, чем пользовался он от века по святому закону жизни.
Сперва у человека отнимали свободу, дом, родину и везли на безыменный лесной пустырь. Потом у человека отнимали на вокзальной площади его вещи, письма, фотографии его близких, затем за лагерной оградой у него отнимали мать, жену, ребёнка. Потом у голого человека забирали документы, бросали их в костёр: у человека отнято имя. Его вгоняли в коридор с низким каменным потолком — у него отняты небо, звёзды, ветер, солнце.
И вот наступает последний акт человеческой трагедии — человек переступил последний круг треблинского ада.
Захлопнулись двери бетонной камеры. Усовершенствованные комбинированные затворы, массивная задвижка, зажим и крюки, держат эту дверь. Её не выломать.
Найдём ли мы в себе силу задуматься над тем, что чувствовали, что испытывали в последние минуты люди, находившиеся в этих камерах? Известно, что они молчали… В страшной тесноте, от которой ломались кости и сдавленная грудная клетка не могла дышать, стояли они один к одному, облитые последним, липким смертельным потом, стояли, как один человек. Кто-то, может быть мудрый старик, с усилием произносит: «Утешьтесь, это конец». Кто-то кричит страшное слово проклятия… И неужели не сбудется это святое проклятие… Мать со сверхчеловеческим усилием пытается расширить место для своего дитяти — пусть его смертное дыхание будет хоть на одну миллионную облегчено последней материнской заботой. Девушка костенеющим языком спрашивает: «Но почему меня душат, почему я не могу любить и иметь детей?» А голова кружится, удушье сжимает горло. Какие картины мелькают в стеклянных умирающих глазах? Детства, счастливых мирных дней, последнего тяжкого путешествия? Перед кем-то мелькнуло насмешливое лицо эсэсовца на первой площади перед вокзалом. «Так вот почему он смеялся». Сознание меркнет, и приходит минута страшной, последней муки… Нет, нельзя представить себе того, что происходило в камере… Мёртвые тела стоят, постепенно, холодея. Дольше всех, показывают свидетели, сохраняли дыхание дети. Через двадцать — двадцать пять минут подручные Шмидта заглядывали в глазки. Наступала пора открывать двери камер, ведущие на платформы. Заключённые, в комбинезонах, под шумное понукание эсэсовцев, приступали к разгрузке. Так как пол был покатым в сторону платформ, многие тела вываливались сами. Люди, работавшие на разгрузке камер, рассказывали мне, что лица покойников были очень желты и что примерно у семидесяти процентов убитых из носа и изо рта вытекало немного крови. Физиологи могут объяснить это. Эсэсовцы, переговариваясь, осматривали трупы. Если кто-нибудь оказывался жив, стонал или шевелился, его достреливали из пистолета. Затем команды, вооружённые зубоврачебными щипцами вырывали у лежавших в ожидании погрузки убитых платиновые и золотые зубы. Зубы эти сортировались согласно их ценности, упаковывались в ящики и отправлялись в Германию. Если бы хоть чем-нибудь для эсэсовцев было выгодно или удобно вырывать зубы у живых людей, они бы, конечно, не задумываясь, делали бы это так же, как они снимали волосы с живых женщин. Но, повидимому, вырывать зубы у мёртвых было удобнее и легче.
Трупы грузились на вагонетки и подвозились к огромным рвам-могилам. Там их укладывали рядами, плотно, один к одному. Ров оставался незасыпанным, ждал. А в это время, когда лишь приступали к разгрузке газовни, шарфюрер, работавший на транспорте, получал по телефону короткий приказ. Шарфюрер подавал свисток, сигнал машинисту, и новые двадцать вагонов медленно подкатывали к платформе, на которой стоял макет вокзала станции Обер-Майдан. Новые три-четыре тысячи человек, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на вокзальную площадь.
Матери несли детей на руках, дети постарше жались к родителям, внимательно оглядывались. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами ног. И почему сразу же за вокзальной платформой кончается железнодорожный путь, растёт жёлтая трава, и тянется трёхметровая проволока… Приём новой партии происходил по строгому расчёту, таким образом, чтобы обречённые вступали на «дорогу без возвращения» как раз в тот момент, когда последние трупы из газовен вывозились ко рвам. Ров стоял незасыпанным, ждал.
И вот спустя некоторое время снова раздавался свисток шарфюрера, и снова двадцать вагонов выезжали из леса и медленно подкатывали к платформе. Новые тысячи людей, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на площадь, оглядывались. Что-то тревожное, страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами ног…
А комендант лагеря, сидя в диспетчерской, обложенный бумагами и схемами, звонил по телефону на станцию Треблинка, и с запасных путей, скрежеща, громыхая, двигался шестидесятивагонный эшелон, окружённый эсэсовской охраной, вооружённой ручными пулемётами и автоматами, и уползал по узкой, меж двумя рядами сосен идущей колее.
Огромные экскаваторы работали, урчали, рыли день и ночь новые, огромные, на сотни метров длины и тёмной многометровой глубины, рвы. И рвы стояли незасыпанные. Ждали. Недолго ждали.
II
В конце зимы 1943 года в Треблинку приехал Гиммлер, сопровождаемый группой крупных чиновников гестапо. Группа Гиммлера прилетела в район лагеря на самолёте, а затем на двух легковых машинах въехала в главные ворота. Большинство приехавших носило военную форму, но некоторые, возможно эксперты, были гражданскими лицами — в шубах и шляпах. Гиммлер лично осмотрел лагерь, и один из видевших его рассказывал нам, как министр смерти подошёл к огромному рву и долго молча смотрел. Сопровождавшие его лица стояли в некотором отдалении и ожидали, пока Генрих Гиммлер созерцал колоссальную могилу, уже наполовину заполненную трупами. Треблинка была самой крупной фабрикой в концерне Гиммлера. В тот же день самолёт рейхсфюрера СС улетел. Покидая Треблинку, Гиммлер отдал приказ командованию лагеря, смутивший всех — и гауптштурмфюрера барона фон Пфейна, и заместителя его Короля, и капитана Франца: немедленно приступить к сожжению захороненных трупов и сжечь их все до единого, пепел и шлак вывозить из лагеря, рассеивать по полям и дорогам. В земле находились уже миллионы трупов, задача эта казалась необычайно сложной и тяжёлой. Кроме того, было приказано вновь загазированных не закапывать, а тут же сжигать. Чем был вызван инспекторский приезд Гиммлера и личный категорический приказ, которому придавалось большое значение? Причина была лишь одна — сталинградская победа Красной Армии. Видно, ужасна была сила русского удара на Волге, если спустя несколько дней в Берлине впервые задумались об ответственности, о возмездии, о расплате, если сам Гиммлер прилетел самолётом в Треблинку и приказал срочно заметать следы преступлений, совершаемых в шестидесяти километрах от Варшавы. Такое эхо вызвал могучий удар русских, нанесённый немцам на Волге.
Вначале дело с сожжением трупов совершенно не ладилось — трупы не хотели гореть; правда, было замечено, что женские тела горят лучше… Тратилось большое количество бензина и масла для разжигания трупов, но это стоило дорого, и эффект получался ничтожный. Казалось, дело это находится в тупике. Но нашёлся выход. Из Германии приехал эсэсовец, плотный мужчина под пятьдесят лет, специалист и мастер. Каких только мастеров ни родил гитлеровский режим — и по убийству малых детей, и по удавливанию, и по строительству газовых камер, и по научно организованному разрушению в течение дня больших городов. Нашёлся и специалист по откапыванию и сожжению миллионов человеческих трупов.
Под его руководством приступили к постройке печей. Это былиособого типа печи-костры, ибо ни люблинский, ни любой крупнейший крематорий мира не был бы в состоянии сжечь за короткий срок такое гигантское количество тел. Экскаватор выкопал ров — котлован длиной в двести пятьдесят — триста метров, шириной в двадцать — двадцать пять метров, глубиной в шесть метров. На дне рва по всему его протяжению были установлены в три ряда на равных расстояниях друг от друга железобетонные столбы, высотой каждый над уровнем дна в сто — стодвадцать сантиметров. Столбы эти служили основанием для стальных балок, проложенных вдоль всего рва. На эти балки поперёк были положены рельсы, на расстоянии пяти — семи сантиметров одна от другой. Таким образом были устроены гигантские колосники циклопической печи. Была проложена новая узкоколейная дорога, ведущая от рвов-могил ко рву печи. Вскоре построили ещё вторую, а затем и третью печь таких же размеров. На каждую печь-решетку нагружалось одновременно три тысячи пятьсот — четыре тысячи трупов.
Был доставлен второй «багер» — колесо-экскаватор, а за ним вскоре и третий. Работа шла день и ночь. Люди, участвовавшие в работе по сожжению трупов, рассказывают, что печи эти напоминали гигантские вулканы, страшный жар жёг лица работавших, пламя извергалось на высоту восьми — десяти метров, столбы чёрного, густого и жирного дыма достигали неба и тяжёлым, неподвижным покрывалом стояли в воздухе. Жители окрестных деревень видели это пламя по ночам за тридцать — сорок километров, оно поднималось выше сосновых лесов, окружавших лагерь. Запах горелого человеческого мяса заполнял всю округу. Когда ветер дул в сторону польского лагеря расположенного в трёх километрах, люди задыхались там от страшного зловония. На этой работе по сожжению трупов было занято восемьсот заключённых, — численный состав, превышающий количество рабочих, занятых в доменном или мартеновском цеху любого металлургического гиганта. Этот чудовищный цех работал день и ночь в течение восьми месяцев беспрерывно и не мог справиться с миллионами человеческих тел. Правда, всё время прибывали новые партии для газирования, и это тоже загружало печи.
Прибывали эшелоны из Болгарии; СС и вахманы радовались их прибытию: обманутые немцами и тогдашним фашистским болгарским правительством, люди, не ведавшие своей судьбы, привозили большое количество ценных вещей, много вкусных продуктов, белый хлеб. Затем стали прибывать эшелоны из Гродно и Белостока, потом эшелоны из восставшего варшавского гетто, прибыл эшелон польских повстанцев — крестьян, рабочих, солдат. Прибыла партия цыган из Бессарабии, человек двести мужчин и восемьсот женщин и детей. Цыгане пришли пешком, за ними тянулись конные обозы; их также обманули, и пришла эта тысяча человек под конвоем всего лишь двух стражников, да и сами стражники не имели понятия, что пригнали людей на смерть. Рассказывают, что цыганки всплескивали руками от восхищения, увидя красивое здание газовки, до последней минуты не догадываясь об ожидавшей их судьбе. Это особенно потешало немцев. Жестоко издевались эсэсовцы над прибывшими из восставшего варшавского гетто. Из партии выделяли женщин с детьми и вели их не к газовым камерам, а к местам сожжения трупов. Обезумевших от ужаса матерей заставляли водить своих детей среди раскалённых колосников, на которых в пламени и дыму корёжились тысячи мёртвых тел, где трупы, словно ожив, метались и корчились, где у беременных покойниц лопались от жара животы, и умерщвлённые до рождения дети горели на раскрытом чреве матери. Зрелище это могло помрачить рассудок любого, самого закалённого человека, но немцы правильно рассчитали, что стократ сильней это будет действовать на матерей, пытавшихся закрыть ладонями глаза своим детям. Дети кидались к матерям с безумными криками: «Мама, что с нами будет, нас сожгут?». Данте не видел в своем аду таких картин.
Поразвлёкшись этим зрелищем, немцы действительно сжигали детей.
Даже читать об этом бесконечно тяжело. Пусть читатель поверит мне, не менее тяжело и писать об этом. Может быть, кто-нибудь спросит: «Зачем же писать, зачем вспоминать всё это?».
Долг писателя рассказать страшную правду, гражданский долг читателя узнать её. Всякий, кто отвернётся, кто закроет глаза и пройдёт мимо, оскорбит память погибших. Всякий, кто не узнает всей правды, так никогда и не поймёт, с каким врагом, с каким чудовищем вступила в смертную борьбу наша великая, наша святая Красная Армия.
«Лазарет» тоже переоборудовали по-новому. Раньше больных уводили за огороженное ветвями пространство, где их встречал мнимый «врач», и убивали. Тела убитых стариков и больных на носилках транспортировали к общим могилам. Теперь же был вырыт круглый котлован. Вокруг котлована, как вокруг спортивного стадиона, стояли низенькие скамеечки, так близко к краю, что садившийся на скамеечку находился над самой ямой. На дне котлована были устроены колосники, на которых горели трупы. Больных и дряхлых стариков приносили в «лазарет», и затем «санитары» усаживали их на скамеечку, лицом к костру из человеческих тел. Потешившись зрелищем, каннибалы стреляли в седые затылки и в согбенные спины сидевших: убитые и раненые падали в костёр.
Мы знали о тяжеловесном немецком юморе и всегда невысоко ценили его. Но мог ли кто-нибудь из живущих на земле людей представить себе, что такое эсэсовский юмор в Треблинке, эсэсовские развлечения, эсэсовские шутки?
Они устраивали футбольные состязания смертников, заставляли их играть в «ловитки», организовывали хор обречённых. Вблизи общежития немцев был устроен зверинец, в клетках сидели лесные безобиднейшие звери — волки, лисы, а самые страшные свиноподобные хищники, которых носила земля, ходили на свободе, сидели на берёзовых скамеечках и слушали музыку. Для обречённых был даже написан специальный гимн «Треблинка», и там имелись такие слова:
Fur uns giebt heute nur Treblinka, Das unser Schicksal ist…[1]Окровавленных людей за несколько минут до смерти заставляли хором разучивать идиотские немецкие сентиментальные песни:
…Ich brach 'das Blumlein Und schenkte es dera Schonsten Geliebten Madlein…[2]Главный комендант лагеря отобрал в одной партии несколько детей, убил их родителей, одел детей в лучшее платье, закармливал их сластями, играл с ними, а затем, спустя несколько дней, когда эта забава надоела ему, приказал детей убить.
Одним из главных развлечений были насилия и издевательства над молодыми красивыми женщинами и девушками, которых отбирали из каждой партии обречённых. Наутро сами насильники отводили их в газовню. Так развлекались в Треблинке эсэсовцы, оплот гитлеровского режима и гордость фашистской Германии.
Здесь следует отметить, что существа эти вовсе не были механическими выполнителями чужой воли. Все свидетели подмечают общие им всем черты: любовь к теоретическим рассуждениям, философствованию. Все они имели слабость произносить перед обречёнными речи, хвастать перед ними, объяснять великий смысл и значение для будущего того, что происходит в Треблинке. Все они были глубоко и искренне убеждены, что делают правильное и нужное дело. Они подробно объясняли преимущество своей расы над всеми другими, они произносили тирады о немецкой крови, немецком характере, о миссии немцев. Их вера была изложена в книгах Гитлера, Розенберга, в брошюрах и статьях Геббельса.
Поработав и поразвлёкшись, как только что описано, они спали сном праведников, не тревожимые сновидениями и кошмарами. Совесть их никогда не мучила, хотя бы потому, что никто из них не имел совести. Они занимались гимнастикой, ревниво следили за своим здоровьем, пили по утрам молоко, очень заботились о своих бытовых удобствах, устраивали вокруг своих жилищ палисадники, пышные клумбы, беседки. Они часто, по нескольку раз в год, ездили в отпуск в Германию, так как начальство считало их «цех» весьма вредным и заботливо оберегало их здоровье. Дома ходили они с гордо поднятой головой и помалкивали о своей работе, не потому, что стыдились её, а просто, будучи дисциплинированными, не смели нарушить данной подписки и торжественной клятвы. И когда они под руку с жёнами ходили по вечерам в кино и громко хохотали, стучали подкованными сапогами, их трудно было отличить от самых рядовых обывателей. Но это были скоты в величайшем смысле этого слова, — эсэсовские скоты.
Лето 1943 года выдалось необычайно жарким в этих местах. Ни дождя, ни облаков, ни ветра в течение многих недель. Работа по сожжению трупов находилась в разгаре. Уже около шести месяцев день и ночь пылали печи, а сожжено было немногим больше половины убитых.
Заключённые, работавшие на сожжении трупов, не выдерживали ужасных нравственных и телесных мучений, ежедневно кончали самоубийством пятнадцать — двадцать человек. Многие искали смерти, нарочно нарушая дисциплинарные правила.
«Получить пулю — это был „люксус“ (роскошь)», — говорил мне коссувский пекарь, бежавший из лагеря. Люди говорили, что быть обречённым в Треблинке на жизнь во много раз страшней, чем быть обречённым на смерть.
Шлак и пепел вывозились за лагерную ограду. Мобилизованные немцами крестьяне деревни Вулька нагружали пепел и шлак на подводы и высыпали его вдоль дороги, ведущей мимо лагеря смерти к штрафному польскому лагерю. Заключённые дети лопатами равномерно разбрасывали этот пепел по дороге. Иногда они находили в пепле сплавленные золотые монеты, сплавленные золотые коронки. Детей звали «дети с чёрной дороги». Дорога эта от пепла стала чёрной, как траурная лента. Колёса машин как-то по-особенному шуршали по этой дороге, и когда я ехал по ней, всё время слышался из-под колёс печальный шелест, негромкий, словно робкая жалоба.
Эта чёрная траурная лента пепла, идущая среди лесов и полей от лагеря смерти к польскому лагерю, была словно трагический символ страшной судьбы, объединившей народы, попавшие под топор гитлеровской Германии.
Крестьяне возили пепел и шлак с весны 1943 года до лета 1944 года. Ежедневно на работу выезжало двадцать подвод, и каждая из них нагружала по шесть — восемь раз на день семь — восемь пудов пепла.
В песне «Треблинка», которую немцы заставляли петь восемьсот человек, работавших на сожжении трупов, есть слова, где заключённых призывают к покорности и послушанию; за это им обещается «маленькое, маленькое счастье, которое мелькает на одну-одну минутку». И удивительное дело, в жизни треблинского ада был действительно один счастливый день. Немцы, однако, ошиблись: не покорность и послушание подарили этот день смертникам Треблинки. Безумство смелых родило этот день. Терять им было нечего. Все они были смертниками, каждый день их жизни был днём страданий и мук. Ни одного из них, свидетелей страшных преступлений, немцы не пощадили бы, — всех их ждала газовня; да их и отправляли туда после нескольких дней работы, заменяя новыми из очередных партий. Лишь несколько десятков человек жили не дни и часы, а недели и месяцы — квалифицированные мастера, плотники, каменщики, обслуживавшие немцев, пекари, портные, парикмахеры. Они-то и создали комитет восстания. Конечно, только смертники и только люди, охваченные чувством лютой мести и всепожирающей ненависти, могли составить такой безумный план восстания. Они не хотели бежать до того, пока не уничтожат Треблинку. И они уничтожили её. В рабочих бараках стало появляться оружие: топоры, ножи, дубины. Какой ценой, с каким безумным риском было сопряжено добывание каждого топора и ножа! Сколько изумительного терпения, хитрости и ловкости понадобилось, чтобы укрыть это всё от обыска и спрятать в бараке. Были созданы запасы бензина, чтобы облить и поджечь лагерные постройки. Как накапливался этот бензин и как бесследно исчезал он, точно растворялся? Для этого понадобились сверхчеловеческие усилия, напряжение ума, воли, страшная дерзость. Наконец был произведён большой подкоп под немецкий барак-арсенал. И здесь дерзость помогла людям, бог смелости стоял за них. Из арсенала были вынесены двадцать ручных гранат, пулемёт, карабины, пистолеты. Всё это исчезло в тайниках, вырытых заговорщиками. Участники заговора разбились на пятёрки. Огромный сложный план восстания был разработан до последних мелочей. Каждая пятёрка имела точное задание. И каждое математически точное задание было безумством. Одним поручался штурм башен, на которых сидели вахманы с пулемётами. Вторые должны были внезапно атаковать часовых, ходивших у проходов между лагерными площадками. Третьи должны были атаковать бронемашины. Четвёртые резали телефонную связь. Пятые нападали на здание казармы. Шестые делали проходы в колючей проволоке. Седьмые устраивали мосты через противотанковые рвы. Восьмые обливали бензином лагерные постройки и жгли. Девятые разрушали всё, что легко поддавалось разрушению.
Было предусмотрено даже снабжение деньгами бежавших. Варшавский врач, который собирал деньги, едва не погубил всего дела. Однажды шарфюрер заметил, что из кармана его брюк видна толстая пачка кредиток, — это была очередная порция денег, похищенных из «кассы», которые доктор собирался укрыть в тайнике. Шарфюрер сделал вид, что ничего не заметил, и тотчас доложил об этом самому Курту Францу. Это было, конечно, событием чрезвычайным. Франц лично отправился допрашивать врача. Он сразу заподозрил что-то недоброе, — в самом деле, для чего смертнику деньги? Франц приступил к допросу уверенно и не спеша, вряд ли на земле был человек, умевший так пытать, как он. И он был уверен, что нет на земле человека, который мог бы устоять против пыток, известных гауптману Курту Францу. Но варшавский врач перехитрил эсэсовского гауптмана. Он принял яд. Один из участников восстания рассказывал мне, что никогда в Треблинке не старались с таким рвением спасти человеку жизнь. Видно, Франц чутьём понимал, что умирающий врач уносит важную тайну. Но немецкий яд действует верно, и тайна осталась тайной.
В конце июля наступила удушающая жара. Когда вскрывали могилы, из них, как из гигантских котлов, валил пар. Чудовищное зловоние и жар печей убивали людей. Изнурённые люди, тащившие мертвецов, сами мёртвыми падали на колосники печей. Миллиарды тяжёлых, обожравшихся мух ползали по земле, гудели в воздухе. Дожигалась последняя сотня тысяч трупов.
Восстание было назначено на 2 августа. Сигналом ему послужил револьверный выстрел. Знамя успеха осенило святое дело. В небо поднялось новое пламя, не тяжёлое, полное жирного дыма, пламя горящих трупов, а яркий, знойный и буйный огонь пожара. Запылали лагерные постройки, и восставшим казалось, что само солнце, разорвав своё тело, горит над Треблинкой, правит праздник свободы и чести.
Загремели выстрелы, захлебываясь, затараторили пулемёты на захваченных восставшими башнях. Торжественно, как колокола правды, загудели взрывы ручных гранат. Воздух всколыхнулся от грохота и треска, рушились постройки, свист пуль заглушил гудение трупных мух. В ясном и чистом воздухе мелькали красные от крови топоры. В день 2 августа на землю треблинского ада полилась злая кровь эсэсовцев, и пышущее светом голубое небо торжествовало и праздновало миг возмездия. И здесь повторилась древняя, как мир, история: существа, ведущие себя, как представители высшей расы, существа громоподобно возглашавшие: «Achtung! Mьtzen ab!»[3] Существа, вызывавшие варшавян из их домов на казнь потрясающими рокочущими голосами властелинов: «Ае r-r-r-raus! unter-r-r-r!»[4] — эти существа, столь уверенные в своём могуществе, когда речь шла о казни миллионов женщин и детей, оказались презренными трусами, жалкими, молящими пощады пресмыкающимися, чуть дело дошло до настоящей смертной драки. Они растерялись, они метались, как крысы, они забыли о дьявольски продуманной системе обороны Треблинки, о заранее организованном всеубивающем огне, забыли о своём оружии. Но стоит ли говорить об этом, и нужно ли хоть кому-нибудь дивиться этому?
Спустя два с половиной месяца, 14 октября 1943 года, произошло восстание на сабибурской фабрике смерти, организованное советским военнопленным, политруком ростовчанином Сашко Печерским. И там повторилось то же, что в Треблинке, — полумёртвые от голода люди сумели справиться с сотнями отяжелевших от невинной крови мерзавцев-эсэсовцев. Восставшие справились с палачами с помощью самодельных топоров, откованных в лагерных кузнях, оружием многих был мелкий песок, которым Сашко велел заранее наполнить карманы и ослеплять глаза караульных… Но нужно ли дивиться этому?..
Когда запылала Треблинка и восставшие, молчаливо прощаясь с пеплом народа, уходили за проволоку, по их следу со всех концов ринулись эсэсовские и полицейские части. Сотни полицейских собак были пущены по следам. Немцы мобилизовали авиацию. Бои шли в лесах, на болотах — и мало кто, считанные люди из восставших, дожил до наших дней.
После дня 2 августа Треблинка перестала существовать. Немцы дожигали оставшиеся трупы, разбирали каменные постройки, снимали проволоку, сжигали недожжённые восставшими деревянные бараки. Было взорвано, погружено и увезено оборудование здания смерти, уничтожены печи, вывезены экскаваторы, огромные, бесчисленные рвы засыпаны землёй, снесено до последнего камня здание вокзала, наконец, разобраны рельсовые пути, увезены шпалы. На территории лагеря был посеян люпин, построил свой домик колонист Стребень. Сейчас и этого домика нет, он сожжён. Чего хотели достичь всем этим немцы? Скрыть следы убийства миллионов людей в треблинском аду? Но разве это мыслимо сделать? Разве мыслимо заставить замолчать тысячи людей, свидетельствующих о том, как эшелоны смертников шли со всей Европы к месту конвейерной казни? Разве мыслимо скрыть то мёртвое, тяжёлое пламя и тот дым, которые восемь месяцев стояли в небе, видимые днём и ночью жителями десятков деревень и местечек? Разве мыслимо вырвать из сердца, заставить забыть длившийся тринадцать месяцев ужасный вопль женщин и детей, который по сей день стоит в ушах крестьян деревни Вулька? Разве мыслимо заставить замолчать крестьян, год возивших человеческий пепел из лагеря на окрестные дороги.
Разве мыслимо заставить замолчать оставшихся в живых свидетелей работы треблинской плахи, от первых дней её возникновения до дня 2 августа 1943 года — последнего дня её существования, свидетелей, согласно и точно рассказывающих о каждом эсэсовце и вахмане, свидетелей, шаг за шагом, час за часом восстанавливающих треблинский дневник? Им уже не крикнешь: «Mьtzen ab», их уже не сведешь в газовню. И уж не властен Гиммлер над своими подручными, которые низко опустив головы, теребя дрожащими пальцами край пиджаков, глухим, мерным голосом рассказывают кажущуюся безумием и бредом историю своих преступлений. Советский офицер, с зеленой ленточкой сталинградской медали, записывает лист за листом показания убийц. И в дверях стоит с сжатыми губами часовой, и на груди его та же сталинградская медаль, и худое, темное от ветров лицо его сурово. Это лицо народного правосудия. И разве не удивительный символ, что в Треблинку, под Варшаву, пришла одна из победоносных сталинградских армий? Недаром заметался в феврале 1943 года Генрих Гиммлер, недаром прилетел он в Треблинку, недаром приказал строить печи, жечь, уничтожать следы. Нет, зря метался он! Сталинградцы пришли в Треблинку, коротким оказался путь от Волги до Вислы. И теперь сама треблинская земля не хочет быть соучастницей преступлений, совершенных злодеями, она исторгает из себя кости, вещи убитых, которые пытались упрятать в нее гитлеровцы.
Мы приехали в треблинский лагерь в начале сентября, то есть через тринадцать месяцев после дня восстания. Тринадцать месяцев работала плаха. Тринадцать месяцев пытались немцы скрыть следы её работы. Тихо. Едва шевелятся вершины сосен, стоящих вдоль железной дороги. Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пень смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов. Тихо шуршал пепел и дроблёный шлак по чёрной дороге, по-немецки аккуратно обложенной окрашенными в белый цвет камнями. Мы входим в лагерь, идём по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются с лёгким звоном, миллионы горошинок сыплются на землю. Звук падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливается в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широкий, спокойный. А земля колеблется под ногами, пухлая, жирная, словно обильно политая льняным маслом, бездонная земля Треблинки, зыбкая, как морская пучина. Этот пустырь, огороженный проволокой, поглотил в себя больше человеческих жизней, чем все океаны и моря земного шара за всё время существования людского рода.
Земля извергает из себя дроблёные косточки, зубы, вещи, бумаги, — она не хочет хранить тайны.
И вещи лезут из лопнувшей земли, из незаживающих ран её. Вот они — полуистлевшие сорочки убитых, брюки, туфли, позеленевшие портсигары, колесики ручных часов, перочинные ножики, бритвенные кисти, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, полотенца с украинской вышивкой, кружевное бельё, ножницы, напёрстки, корсеты, бандажи. А дальше из трещин земли лезут на поверхность груды посуды: сковороды, алюминиевые кружки, чашки, кастрюли, кастрюльки, горшочки, бидоны, судки, детские чашечки из пластмассы. А дальше из бездонной вспученной земли, точно чья-то рука выталкивает на свет захороненное немцами, выходят на поверхность полуистлевшие советские паспорта, записные книжки на болгарском языке, фотографии детей из Варшавы и Вены, детские, писанные каракулями письма, книжечка стихов, написанная на жёлтом листочке молитва, продуктовые карточки из Германии… И всюду сотни флаконов и крошечных гранёных бутылочек из-под духов — зелёных, розовых, синих… Над всем этим стоит ужасный запах тления, его не могли победить ни огонь, ни солнце, ни дожди, ни снег, ни ветер. И сотни маленьких лесных мух ползают по полуистлевшим вещам, бумагам, фотографиям.
Мы идём всё дальше по бездонной, колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Жёлтые, горящие медью волнистые густые волосы, тонкие, лёгкие, прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны, и дальше чёрные тяжёлые косы на светлом песке, а дальше ещё и ещё. Это, видимо, содержимое одного, только одного лишь, не вывезенного, забытого мешка волос! Всё это правда! Дикая, последняя надежда, что всё это сон, рушится. А стручки люпина звенят, звенят, стучат горошины, точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных маленьких колоколен. И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку…
Учёные, социологи, криминалисты, психиатры, философы размышляют: что же это? Что же — органические черты, наследственность, воспитание, среда, внешние условия, историческое предопределение, преступная воля руководителей? Что это? Как случилось это? Эмбриональные черты расизма, казавшиеся комичными в высказываниях второсортных профессоров-шарлатанов и убогих провинциальных теоретиков Германии прошлого века, презренье немецкого обывателя к «русской свинье», к «польской скотине», к «прочесноченному еврею», к «развратному французу», к «торгашу англичанину», к «кривляке греку», к «болвану чеху», — весь этот грошовый букет напыщенного дешёвого превосходства немца над остальными народами земли, добродушно осмеянный публицистами и юмористическими писателями, — всё это внезапно, в течение нескольких лет из «детских» черт превратилось в смертельную угрозу человечеству, его жизни и свободе, стало источником невероятных и невиданных страданий, крови, преступлений. Тут есть над чем задуматься!
Ужасны такие войны, как нынешняя. Огромна пролитая немцами невинная кровь. Но сегодня мало говорить об ответственности Германии за то, что произошло. Сегодня нужно говорить об ответственности всех народов и каждого гражданина мира за будущее.
Каждый человек сегодня обязан перед своей совестью, перед своим сыном и своей матерью, перед родиной и перед человечеством во всю силу своей души и своего ума ответить на вопрос: что родило расизм, что нужно, чтобы нацизм, гитлеризм не воскрес никогда, ни по эту, ни по ту сторону океана, никогда, во веки веков!
Империалистическая идея национальной, расовой и всякой иной исключительности логически привела гитлеровцев к строительству Майданека, Сабибура, Вельжице, Освенцима, Треблинки.
Мы должны помнить, что расизм, фашизм вынесет из этой войны не только горечь поражения, но и сладостные воспоминания о лёгкости массового убийства.
И об этом сурово и каждодневно должны помнить все, кому дороги честь, свобода, жизнь всех народов, всего человечества.
Сентябрь 1944 г.
Путь к немецкой границе
I
Движение войск опережает движение слов по телеграфному проводу. События сегодняшнего утра, казавшиеся необычайно важными, заслоняются событиями дня, а вечер приносит новые вести о взятых сёлах и городах, о пленённых генералах и офицерах, о продвижении наших войск. Кажется, всего лишь несколько дней назад говорили мы, что за спиной у нас Бобруйск и не так уж далеко до Минска. А сегодня далеко на востоке остался Минск, Негорелое, горящий, испепелённый немцами городок Столбцы, милый городок Новогрудок. Наша машина прошла по хлопающим доскам переправы через верховья молодого Немана. Прозрачная вода, кажущаяся коричневой от крупного тёмного песка на дне, бежит на север. Первая река, которая встретилась нам за время наступления, идущая с юга на север — в Балтийское море. И вот уж многие десятки километров отделяют нас от Немана, машина идёт по грейдерам и шоссе под ветвями придорожных клёнов и лип, среди дымящихся, подожжённых немцами городов и местечек. И всегда впереди наша великая пехота, скрежещут крупнокалиберные пулемёты.
Всё тоньше полоса захваченной врагом нашей земли. Бои гремят в тех местах, где мы отбивались в конце июня и в начале июля 1941 года от вторгшихся к нам немецко-фашистских войск. Если в боях под Киевом мы вступили в сентябрь 1941 года, если, освобождая Гомель, наши войска шагнули в август 1941 года, то сегодня в этих местах мы вышли на рубеж июля и июня. Армия возвращает народу украденную немцами землю и украденные ими у истории, у разума, у творческого труда, у человечности три года.
Приближается великий день, когда советские земли станут свободными. Вот уже начальники полиции, бургомистры, изменники-войты, постепенно с места на место уходившие на запад с тылами немецкой армии, переползли сегодня через границу Восточной Пруссии, как туча скорпионов, змей, саранчи, изгнанная с нашей земли. Вот уже радиолай немецкой пропаганды доносится из радиоконур, поспешно отвезённых в Германию. За великим днём освобождения советских народов и земель придёт второй исторический день, когда армия освободителей, армия мщения, наша Великая Красная Армия начнёт штурмовать германские границы. Эти дни не только дни великого торжества, это дни великой ответственности Красной Армии перед народом, дни великой ответственности народа перед своей Красной Армией. В эти дни и часы всякий из нас, советских людей, должен отдавать себе полный отчёт в том, что с каждым новым километром, приближающим нас к границе, надо напрячь все силы свои, надо быть готовым к любому вероломству фашистских уголовников.
В эти дни не должно быть и тени самоуспокоенности. Малейшая беспечность либо неряшливость, бывшие преступными в тылу и на фронте в прошлом году, в нынешнее время трижды преступны и трижды недопустимы. Этой мыслью и этим чувством должна быть проникнута Красная Армия от высших генералов до рядовых бойцов — пехотинцев, сапёров, разведчиков, химиков; этой мыслью должен быть проникнут весь наш оборонный тыл от директоров гигантов танко — и самолётостроения до чугунщиков и подручных доменного мастера.
II
Больше четырёхсот километров проехали мы с наступающими войсками за эти недели. Дивизия, с которой начал я этот путь, находится сегодня далеко за Неманом. От молодого верхнего Днепра до молодого верхнего Немана путь шёл через дремучие сосновые и лиственные леса, среди полей ржи, ячменя и пшеницы, среди песков и жёлтых глинистых пустырей, среди цветущих холмов, по тенистым долинам вдоль блестящих при солнце и при полной луне речушек, ручьёв, ключей, по улицам горящих городов. Никогда за все три года войны войска не видели такой пыли на дорогах. Ни на Украине в 1941 году, ни даже в донских и сталинградских степях летом 1942 года не было такой густой, везде проникающей пыли. Иногда машины останавливаются, так: как среди яркого солнечного дня наступает жёлтая тьма и на расстоянии нескольких сантиметров невозможно ничего разглядеть. Пыль, как вода, течёт струйками по смотровым стёклам, пухлым слоем ложится на броню танков, на дула орудий, на лица и одежду людей. Зелёные леса стали молочно-белыми, седыми от мириадов пылинок, осевших на листву. Пыль клубится, как дым огромного пожарища, кажется, земля горит, вся охваченная жёлтыми клубами. Но и впрямь земля горит!
Сухие леса, зажжённые снарядами, горят тяжёлым красным огнём, и едкий, пахучий голубой и белый дым пожаров смешивается с жёлтой пылью лесных дорог. Местами трудно дышать, глаза людей становятся кроваво-красными от пыли и дыма. А в небе правит добела, раскалённое июльское солнце, в небе уж несколько дней ни облачка.
И как после зимнего наступления по грязи многие мечтали о биче войны — пыли, так теперь уже говорят: «Ох, хоть бы ливень, хоть бы грязь, лишь бы пылищу убило!»
Когда началось наступление и прозвучали первые выстрелы артиллерийской подготовки, хлеба стояли совсем ещё зелёные, а сегодня колосья налились, стебель пожелтел, окрасился медью и золотом. И удивительно радостно людям — так недавно, месяц тому назад, хлеб был ещё совсем зелёным, месяц тому назад войска стояли на Днепре и Друти…. Тяжело воевать под безжалостным солнцем, в дыму лесных и деревенских пожаров, в пыли шестнадцатичасовых маршей. Но дух человека войны высок и бодр. Часто в пыли слышишь пение, с машин, с тряских подвод полковых обозов раздаются звуки трофейных гармошек. Только в движении понимаешь, почему гармошка есть подлинная музыка солдатского похода. Ни на одном инструменте в мире не сумел бы сыграть человек, сидя на грузовике, летящем по ухабам дороги, на телеге, трясущейся по булыжникам. В такой дороге замолчит и балалайка, и труба. Гармонисту тряска не мешает. Ухнет грузовик на ухабе, — да ухнет так, что подлетит кверху всё имущество в кузове: и железные бочки с горючим, и ящики с сухарями, и вещевые мешки сидящих сверху людей, — а гармоника в этот миг, подскочив вместе с гармонистом, как-то по-особому весело и удало пустит такую трель, что невольно всякий усмехнётся и оглянется. А как любят здесь весёлое, острое слово, как охотно и дружно смеются удачной шутке!
Вот на коротком привале подъезжает к лежащим в тени дерева людям красноармеец-связист Скворцов. Это рябоватый, маленького роста человек, ветеран дивизии, участник самых жестоких и кровопролитных боёв войны. Он сидит верхом на немецкой рослой лошади, на груди у него немецкий автомат. Скворцову охота посмеяться. Как все по-настоящему остроумные люди, он, рассказывая смешное, сам сохраняет полную серьёзность. Крестьянский сын понимает природу смешного не хуже, чем знаменитые писатели-юмористы. Скворцов завёл переписку с тремя женщинами в тылу — одна, по его словам, купила для него корову, другая — золотые часы, третья — костюм, но не угадала номер. Он размышляет вслух, на какой из своих корреспонденток жениться. Через несколько минут все слушатели и автор этих строк буквально стонут от смеха, настолько комичны и одновременно серьёзны доводы «за» и «против», которые приводит красноармеец. При этом сам он ничуть не смеётся над своими предполагаемыми невестами, — наоборот, он полон искреннего уважения к ним и очень благодарен, что они ему пишут.
Оглядев слушателей, он говорит девушке-красноармейцу:
— Вот так-то, Рая, нас уж всех забронировали в тылу, а вы здесь, когда война кончится, не при чём останетесь, — всё звездочки и просветы вам нужны. Жалко мне вас, ей-богу!.. — И девушки дружно хохочут.
Скворцов подгоняет лошадь, она заупрямилась.
— Но, немка, вперёд! — говорит он. — Вперёд, я научу тебя свободу любить!..
Он скрывается в пыли, и, глядя ему вслед, люди говорят:
— Ай да Скворцов, ну и Скворцов!
И воспалённые глаза смеющихся людей глядят так, точно их промыли свежей водой.
Вообще надо сказать, что на войне шутка, весёлое слово, смех, песня — это всё вещи необычайно большие, нужные, это всё свидетели победного духа войск, преодолевающих и огонь противника, и изнурительный зной, и пыль, и длинные переходы.
Но вот уж надо сказать прямо, — плясунов и танцоров в этом походе не встретилось нам ни разу, да и, думается, нет их: уж очень тяжело, устают ноги.
Через час люди вновь шагают вперёд. Лица их сумрачны и суровы, тяжёлые глаза смотрят на огонь подожжённых немцами деревень. Такова душа нашего человека: железная суровость в ней рядом с улыбкой.
III
В эти недели мне пришлось побывать во многих городах освобождённой Белоруссии, побывать в них в день, либо на второй день после освобождения. Бобруйск, Минск, Столбцы, Новогрудок, Барановичи… Был я в польских городах: Люблине, Седлеце, Холме, Белой Подляске…
В прошлом году, во время украинского наступления, видел только что освобождённые Глухов, Бахмач, Нежин, Козелец, Чернигов, Яготин, Коростышев, Житомир. Видел я в дыму и пламени первого дня освобождения Одессу, Орёл.
Пришлось побывать мне во многих городах спустя несколько недель после освобождения: в Ворошиловграде, Киеве, Харькове, Новоград-Волынске, Ровно, Луцке, Кривом Роге… И всюду и везде — в дыму и в пламени Орла и Минска, в холодных развалинах поросших травой улиц Гомеля и в остывшем пепле Воронежа — читают глаза страшный свиток преступлений германского фашизма. И чем короче наш путь к границе, тем необъятней разворачивается перед взором наступающей армии свиток, написанный кровью миллионов детей и стариков, написанный при свете пожаров, под стоны и крики казнённых, под хрип заживо зарытых в землю. Три года на белорусской земле гитлеровцы творили преступления и злодейства, равных которым не было во всей истории человечества.
Ужасен был вид Минска. Город, опутанный колючей проволокой лагерей и тюрем, город, закованный в фашистские кандалы, город тюрем и фашистских застенков, полумёртвый, полуразрушенный город, стоявший по грудь в крови.
В страшную зимнюю ночь расстреляли немцы на его улицах много тысяч безоружных военнопленных, тысячи партизан были замучены в застенках гестапо, полиции, комендатуры, жандармерии, СС. В течение двух лет было убито в Минске свыше ста тысяч евреев — женщин, детей, стариков, рабочих, инженеров, врачей, служащих.
Никого не пощадили палачи — ни больных старух, ни рожениц, ни новорождённых. Убивали по кварталам. Убивали по возрастам. Убивали по профессиям. И убили всех. С каждым километром, приближающим нас к границе, читаем мы всё новые страницы страшного свитка.
Нет такой деревни, нет такого городка, где не оплакивали бы казнённых немцами.
Во время боя за деревню семидесятипятилетний старик, белорусе, молил нашего полковника взять его бойцом.
— Всех у меня убили, — повторял он, — всех убили, дайте мне винтовку.
Спустя несколько дней я встретил возле леса, в котором засели немцы, другого старика, с нечёсаной, клочковатой бородой, с винтовкой в руках. Глаза у него посветлели от старости.
— Дед, — сказал я, — ты б уж отдыхал. Зачем в твои годы ходить в партизанах?
— Мушу ити, — печально сказал он, — всех убил немец: бабушку мою, дочку, двух внуков моих, хату спалил. — И он пошёл в чащу, откуда слышалась стрельба автоматов и пулемётные очереди.
С востока на запад, от Волги и с гор Кавказа течёт рева крови и слёз. Из каждой деревни, из каждого лесного хуторка, из местечек и городков, из больших городов бегут кровавые ручьи и речки, впадают в великую реку страданий и гнева народа. Темно небо над этой рекой — пепел и дым закрыли над ней свет, не видно солнца и звёзд. Лишь чёрное пламя пожаров, зажжённых врагом над Волгой, освещает путь её по степям Дона, в воронежских и курских полях, в рощах Орловщины, среди долин Киевщины, в просторах Волыни…
И вот уже последние вёрсты до границы, и всё шире река, всё стремительней её страшный бег. Как глубокая вековая морщина, пройдёт через широкое чело советской страны её глубокое русло. Суров и всесилен народ, прошедший через горнило великих страданий и великой борьбы.
Уже ловит ухо злодея гул возмездия… Стоны невинных, шум крови казнённых, слёзы плачущих над павшими слились с громом наших пушек, с грохотом стальной реки, стремящейся в жестоких боях к вражеской земле. Ночь кончается.
Этот день от зари до зари наш. Пусть же трепещет тот, кто виновен!
Сентябрь 1944 г.
Творчество победы
Линия Белорусского фронта перед началом нашего наступления напоминала собой контур летящей птицы с размахом огромных крыльев на юг и на север в несколько сот километров. Теперь завеса тайны снята с дня и часа наступления. Весь мир следил за мощным взмахом железного правого крыла в двадцатых числах июня этого года и внезапным ударом левого в середине июля. За это время железные крылья фронта преодолели многие сотни километров, фигура птицы исчезла, фронт выпрямился, словно могучий напор изнутри сгладил излом.
Мне посчастливилось поспеть машиной и связными самолётами к началу наступления от крайнего правого до крайнего левого крыла и наблюдать первый день атаки на различных участках фронта, отстоящих друг от друга почти на тысячу километров.
Первый день наступления всегда особо интересен, в нём наиболее ясно и выпукло отражаются стиль, особенность, своеобразие не только метода и замысла, но и темперамента человека и людей, готовивших военное действие.
Картины боёв настолько сложны, факты столь своеобразны, что уместить всё это в рамки просто эмпирического описания, фотографирования нет возможности. Настойчиво просятся обобщённые картины и размышления о нашей тактике и о поведении противника. Группировка противника, обозначенная на карте у наших разведчиков, почти полностью во всех деталях своих, стыках частей и разветвлениях обороны, соответствовала действительному расположению немецких дивизий, полков и батарей.
В этом был первый залог нашего успеха и превосходства над немцами.
Повсему пути вдоль фронта с удивительной последовательностью сталкивался я с немецкой ошибкой в определении направления наших ударов: главного и вспомогательного. Там, где противник сосредоточивался для отражения наших танковых таранов, оказывались лишь наши сковывающие части. Там, где, как, например, на лесистом и болотистом участке у генерала Батова, немец не ждал, из-за особенностей болотистой местности, больших действий, был нанесён оглушающий, мощный и быстрый удар. Повторяю, это приключилось на всех участках фронта. И вообще-то говоря, эта цепь частных просчётов достойно увенчивалась главным просчётом, стратегической калошей, в которую села гитлеровская ставка. Главный удар во всефронтовом масштабе ожидался немцами на юге, они готовили к нему Моделя, — а сокрушительно получил по зубам фельдмаршал фон Буш на центральном участке, тот самый, у которого «провидец» Гитлер отнял незадолго до наступления много тяжёлого оружия и передал Моделю.
В чём причина этих немецких ошибок? Повидимому, в том, что предвидение немцев основывалось на шаблонных предпосылках об удобстве местности и арифметических подсчётах дальних и близких расстояний. Они угадывали наступление на участках фронта, наиболее выдвинутых на запад, наиболее проходимых, наиболее близких к узлам дорог. Творчество нашего наступления избрало путь высший, не угаданный и не предвиденный противником. Болота и леса оказались проходимыми, многокилометровые дороги легли среди зелёных болотных трав, и там, где не проходил легконогий разведчик, проползли тяжёлые танки и крупные калибры артиллерии. Кратчайшим расстоянием до границ «европейской крепости» оказалась не га геометрическая прямая линия, которую видели на карте немцы, а совсем иная, великолепная и сложная кривая, рождённая аналитической геометрией войны и насмерть захлестнувшая в трёхкратном, витебском, бобруйском и минском, «котле» армии германского «центра».
В артиллерийской подготовке прорыва на всём протяжении фронта нам сопутствовал успех, однако путь к успеху был различен. Это явление необычайно знаменательное, над ним стоит задуматься. Казалось, успех на одном из флангов звал к точному копированию методов, приведших однажды к прорыву при переходе в наступление на других участках. Раз совокупность приёмов приводит к удаче, то логично повторить эти приёмы и во второй, и в третий, и в четвёртый раз, — словом, всегда, когда сходная задача стоит перед войсками. Немцы, например, считают законным шаблон в успехе. Они, не задумываясь, переносили, и при том механически переносили, совокупность приёмов, приводивших их к успеху, во все последующие операции. Эта шаблонизация, это канонизирование приёмов успеха таит в себе много дурного: застой творческой мысли войны, пренебрежение к особенностям обстановки, которая, конечно, никогда не может быть одинаковой, и третье — даёт возможность противнику парировать методы, раскрытые однажды, многократно повторённые и, следовательно, изученные. И поистине восхитительным было то творческое, живое богатство приёмов, тот полный отказ от шаблона успеха, который пришлось наблюдать в действии наших генералов при прорыве немецкой обороны.
Три генерала бесспорно имели крупные успехи в этом наступлении. Всех трёх их объединяют выдающиеся результаты. И прямо-таки великолепно то, что каждый из них действовал, руководствуясь всей совокупностью личного опыта, творческих приёмов, каждый проявил свой стиль, своим почерком вписал страницу в золотую книгу победы.
Попробуйте-ка, став на место противника, парировать удары, столь монолитные в единстве цели и столь не схожие в творческом воплощении. Вот тяжеловесная, планово нарастающая, с плавным переносом огня от первой линии обороны к последующей артиллерийская подготовка. Ей предшествовала такая же монументальная разведка боем с введением крупных огневых средств и пехотных подразделений. Разведку и начало подготовки разделяют долгие часы. После стапятидесятиминутного ливня стали и взрывчатки в атаку бросаются крупные подразделения пехоты. Таков был стиль первого удара. И тут же рядом, на соседнем участке, прорыв осуществляется совсем иначе. Могучие артиллерийские узлы обрушивают снаряды на отдельные участки немецкой обороны. Превосходство огня над противником в этих точках достигает фантастических величин. Так на одном из участков фронта количество наших стволов относилось к количеству немецких, как 19:1. Это соотношение — свидетельство не только нашего превосходства в технике. Это свидетельство нашего умения переиграть противника. Снаряды здесь не покрывают первую линию окопов, как в первом случае, а обрушиваются на глубину обороны, где предполагается скопление живой силы, оттянутой по ходам сообщения с первой линии после начала артиллерийского огня. Затем, после короткого шквала, наступает внезапная тишина, противник по шаблону, разработанному заранее, спешит занять первую линию траншей, ожидая атаки. И тотчас же огонь артиллерии обрушивается на эту первую линию. Затем вновь наступает тишина, и внезапно в траншеях врага, нарушая все представления о расстоянии и времени, слышится «ура». Это не та пехота, которую ждал противник, это штурмовые отряды, специально тренированные, отобранные: они тайно сосредоточились перед самыми траншеями немцев, так близко, что осколки собственных снарядов долетали до них.
И вот третий прорыв вражеской обороны. Его стиль отличен и от первого и от второго. Противник знает: начался огонь — значит, начата силовая разведка. Значит, нет смысла раскрывать свои артиллерийские средства. И вдруг он видит, что разведка внезапно переросла в наступление, что после нескольких минут огня десятки, сотни, тысячи, лавины пехотинцев затопляют вражеские окопы.
Вот три прорыва. Мы не ставим себе задачу разбирать, чьи методы совершенней. Здесь важно подчеркнуть другое: единство цели и различие средств, отсутствие шаблона в достижении успеха, живое творчество на первом, ответственнейшем этапе наступления.
В условиях современного боя необычайно повышается роль командира дивизии, связь с высшим штабом не может быть всегда совершенной, ответственные решения, не терпящие ни минуты отлагательства, должны приниматься самим командиром дивизии. От этого зависит и успех в преследовании, окружении, истреблении ошеломлённого, но могущего через час-два притти в себя противника. Этим определяется в большой мере высокий темп развития операции в целом.
На одном из участков Белорусского фронта операция планировалась высшим штабом на девять дней. Штаб соединения взялся провести эту операцию за семь дней. Фактически операция, включавшая в себя прорыв обороны группировки противника, расчленение её, окружение и уничтожение, заняла трое суток. Это троекратное сокращение срока, это троекратное повышение темпа возможны стали потому, что командиры дивизий, люди, совмещающие в себе всю полноту, я бы сказал — всю тяжесть непосредственного, постоянного, круглосуточного руководства боем, проявили в полной мере свой опыт, инициативу, умение быстро в очень сложной обстановке принимать конкретные решения, устремлённые к единой дели, поставленной высшим командиром.
Наблюдая работу командира одной гвардейской дивизии в период быстрого развития боевого манёвра, я могу с ответственностью сказать, что напряжение его творческой боевой работы ничуть не уступало творческому напряжению учёного, решающего запутанную проблему, где массивная, многосложная, математическая теория переплетается с противоречивым, но обязательным эмпирическим материалом.
В течение короткого отрезка времени перед командиром дивизии стоит задача руководства боем, в котором участвуют, помимо его полков, и приданная артиллерия, и самоходные пушки, и гвардейские миномёты. Тут же решаются вопросы обеспечения боеприпасами, горючим, выбор наиболее безопасных дорог в сложной обстановке «слоёного пирога».
В бою приходится иметь одновременно дело с контратакующими «фердинандами» и танками противника и с преследованием пытающихся вырваться пехотных подразделений и обозов, приходится принимать решение о немедленном строительстве переправы на одном участке реки и об одновременном разрушении немецкой переправы на параллельной дороге. И все эти десятки решений должны быть строго увязаны с замыслом высшего штаба, с указаниями, идущими сверху.
Надо прибавить, что работа эта шла не в кабинете, а в условиях, требующих огромных физических затрат, непосредственно на поле боя, перед лицом жестоких опасностей и смерти, — шла десятки часов, без минуты отдыха и сна. Подлинная и вечная душа творчества именно в том, что в ней примиряются высокие стройные замыслы и идеи с жестокой, упрямой, воинственной и противоречивой действительностью. Так и на войне замыслу высшего командования подчиняется действительность бушующего огнём, смертью, сталью поля сражения. И в этом большая заслуга нашего командира дивизии. Теперь о дальнейшем. Ранней весной прошлого 1943 года мне пришлось на фронте подробно беседовать с одним генералом, в чьём соединении находились части, одной группой участвовавшие в прорыве обороны немцев северо-западнее Сталинграда, другой — в героической обороне Сталинграда.
Генерал рассказывал, что он замечает различие в стиле и умении этих командиров. Первые весьма решительны, сильны и опытны в наступлении, преследовании; вторые великолепно проявили себя в обороне, при отражении сильных танковых и пехотных контратак противника. Генерала беспокоила эта специализация, и он говорил мне о случаях неудач у своих командиров при быстрой смене обстановки, переходе от наступления к обороне, от обороны к наступлению. Он рассказал, как один мастер преследования смешался и дал приказ своему полку отступать, когда на фланге у него появились два десятка немецких танков, и как, примерно в это же время, на соседнем участке, другой командир полка, в чью кровь вошла героика массивной, длительной и малоподвижной обороны, прозевал внезапный ночной отход противника и до утра простоял, не пытаясь отрезать немцам путь отхода и резать их с фланга. Генерал, человек вдумчивый, сказал мне:
— Я вовсе не собираюсь усиливать в каждом из них эти отдельные черты. Это будет ошибкой. Наоборот, я пытаюсь привить им то, в чём они недостаточно ещё сильны.
Всё это было почти полтора года тому назад, ещё на донских рубежах.
И вот летом нынешнего 1944 года, на рубежах Друти, Березины, Свислочи и Немана, с особым интересом следили мы за действиями тех командиров, чьё прошлое связано с участием в обороне, либо в прорыве.
И поистине великолепен тот синтез, в котором соединился богатейший опыт прошедших боёв. Не с односторонней специализацией, не с механическим наслаиванием опыта встретились мы, а с высшей формой вождения войск, рождённой из гармонического сочетания наступательного и оборонительного умения.
В манёвренной войне, с большой плотностью во времени, сочетаются самые напряжённые, яростные оборонительные бои с преследованием, обходами, движениями, с открытыми флангами. В манёвренной войне вероломный противник то обороняется в разветвлённой сети траншей, то, разбитый и окружённый, вдруг, собравшись в кулак, бросается в яростные атаки, сам прорывает, сам пытается окружить; в манёвренной войне смены форм боя внезапны, резки и трудно угадываемы: на месте разбитой и преследуемой пехотной части в течение ночи может возникнуть свежая контратакующая дивизия, переброшенная на самолётах или автомобилями по шоссейной дороге. Разбитые и разрозненные, рассеянные по лесам и во ржи части противника иногда в течение нескольких часов вновь собираются для последнего удара отчаяния и могут представить серьёзную помеху наступающим войскам нападениями во фланг, с тыла, прорывами на дороги, по которым движутся тылы.
Ни один самый лучший мастер наступления не справился бы с своей задачей в этих исключительно сложных и напряжённых комбинированных боях, если б он одновременно не был бы мастером обороны в самом высоком смысле этого слова. Манёвренный бой немыслим вне этих двух качеств. Собственно, душа манёвренного боя именно в этом соединении быстро сменяющихся наступательных операций и обороны. Наши генералы, офицеры, красноармейцы выдержали высший экзамен победоносного периода войны в творческом единении наступательного и оборонительного боя. Можно рассказать о многих командирах полков, дивизий, о стремительных действиях Чуйкова, прозванного в Сталинграде «генерал-упорство» и казавшегося тогда мастером лишь оборонительного сражения, о великолепной работе Батова, имеющего за плечами опыт сталинградского прорыва, курской оборонительной битвы, борьбы за Днепр.
Хочется остановиться на эпизоде небольшом, но поучительном и весьма драматическом. Первый дивизион артиллерийского полка одной гвардейской дивизии, сражавшейся под Орлом, на Сожи и на Днепре, принимал участие в прорыве обороны немцев в конце июня этого года.
Артиллеристам, в большинстве своём сталинградцам, после многомесячного стояния в обороне, напоминавшей собой стабильность сталинградских боёв, пришлось сразу же после взлома немецких линий войти в прорыв вместе с пехотой и самоходной артиллерией. Артиллеристы, обогащенные опытом стремительного украинского наступления лета и осени прошлого года, отлично справлялись с новой напряжённой работой, сопровождая огнём быстро наступавшую пехоту. Быстрая смена обстановки не отразилась на работе пушек. Умение воевать в стремительном движении стало таким же элементом их боевой работы, как и пятимесячная, прославившая их, стрельба на сталинградских заводах. Они легко справлялись с новыми условиями: мгновенной ориентировкой, быстрым выбором и оборудованием огневых позиций, стрельбой прямой наводкой, подвозом боеприпасов, выбором удобных дорог, борьбой с минами противника, манёвренным боем с «фердинандами» и т. д. Командир полка Каграманян поставил первому дивизиону трудную задачу: стремительно вырваться вперёд, пробиться к последней оставшейся у окружённых немцев шоссейной доросе и оседлать её, закупорить тяжестью гаубичного огня. Этот марш, в котором дивизион оторвался даже от пехоты и двигался на мехтяге в местах, где всюду находились вкрапленные очаги сопротивлявшихся немцев, был, несмотря на всю сложность, проделан необычайно быстро и успешно. К вечеру гаубицы и пушки, превысившие в своей подвижности самые подвижные средства, вышли к шоссе. Это произошло, кажется, на четвёртый день наступления. Местность была ровная, сзади лежало шоссе, справа — невысокий кустарник, переходивший в лес. Уставшие люди уснули после нескольких дней боевого похода. Лишь часовые глядели по сторонам, да заместитель командира Фролов вглядывался в пустой просёлок: поджидал командира, поехавшего с грузовиками под охраной одной из пушек за боеприпасами. Но недолго спали люди. «К бою!» — закричал Фролов. Вскочил лежавший на плащ-палатке начальник штаба дивизиона Бескаравайный. Со всех четырёх сторон, ясно видимые при лунном свете, двигались колонны немцев. Дивизион, все эти дни преследовавший противника, сам оказался в окружении. Немцы обложили его плотным и тесным кольцом, открылиогонь. Началась эпическая битва шестидесяти трёх наших пушкарей против тысячи немцев. Людям вспоминались самые страшные часы сталинградской обороны. Ожил девиз: «Стоять насмерть!» Ожесточение немцев, рвавшихся к шоссе и чувствовавших смерть, было невероятно. Семнадцать часов дрался дивизион. У некоторых орудий осталось по одному человеку. Раненный в грудь командир орудия Селезнёв, оставшись один, подполз к заряженному орудию, дёрнул за шнур и произвёл выстрел. Наводчик Коньков один вёл огонь из гаубицы, держа в одной руке автомат. Пленные немцы поворачивали емуорудие. Семьдесят пленных захватили пушкари. Были минуты, когда огонь вели с дистанции в двадцать метров. И всё же немцы не пробились. Через сутки заместитель командира полка подполковник Степанов лично подсчитал количество трупов немцев, лежавших у пушек дивизиона, занявшем в манёвренном стремительном наступлении круговую смертную оборону. Их оказалось около семисот. И дивизион, пополнившись вновь, от обороны перешёл к стремительному, не знавшему ни дня ни ночи наступлению огнём и колёсами. Вот в сочетании кажущихся полярными, а в действительности неразъединяемых стремительных наступательных ударов и смертной обороны рождается творчество победы этого дня. И всюду так — и в работе командармов, и командиров дивизий, и в малых действиях батальонов, дивизионов, рот, батарей. В этой зрелости объяснение и смелости, и непревзойдённых темпов нашего сегодняшнего наступления. Напрашивается сопоставление этого синтетического единства с немецкой доктриной пресловутой эластичной и жёсткой обороны. Эти два полюса немецкой оборонительной тактики представлены были двумя в некотором роде «полярными» фельдмаршалами: «эластичным Моделем» и «жёстким фон Бушем».
Модель «специализировал» свою эластичность в период наших южных ударов. Фон Буш считался у немцев мастером «жёсткой» обороны после борьбы на северо-западе. Так они и считались в немецкой ставке — специалистами каждый в своей области. Однако пришёл час, когда Красная Армия расширила специальность обоих фельдмаршалов и натренированных ими войск: оба, и «жесткий» и «эластичный», потерпели крах. Мне пришлось быть при опросе трёх немецких генералов, при первом опросе их в лесных сарайчиках и хатках, когда мундиры их были украшены не только крестами с дубовыми листьями, но и сухими дубовыми листьями белорусских лесов, по которым эти генералы кочевали в течение пяти дней. Фон Лютцов, наиболее военнообразованный из них, уже ясно отдавал себе отчёт, какую роковую роль для немецкой армии «центра» сыграла узкая, догматичная, чуждая всякого синтетического начала специальность Буша, мастера «жёсткой» обороны. Этот механический принцип был применён вне всякого учёта общей стратегической обстановки, применён со схоластической тупостью и узостью, с чисто немецким упрямством, не учитывающим огромное превосходство наших танков, нашей авиации, нашей артиллерии.
Вот короткая цитата из тезисов немецкого командования к одному из совещаний командиров немецких дивизий армии «центра» незадолго до нашего наступления:
«По мнению фюрера, в настоящее время мы не можем больше совершать отходы. Вследствие этого позиции должны быть удерживаемы любой ценой. Поражение на южном участке Восточного фронта фюрер считает следствием недостаточной манёвренности при выполнении оборонительной задачи…» И далее: «Из всего этого можно сделать только один вывод: удержать позиции!»
Теперь мы уже знаем, как немцы удержали позиции. Законно будет спросить, где же, после провала «жёсткого Буша», будет проявлять свою вторую узкую специальность «Модель эластичный»? Между восточной и западной границами Германии? Между Одером и Рейном? Пространство как будто проиграно!
Так немецкая армия на разных этапах войны выдвигала узких схоластов, специалистов, начиная от специалистов по «молниеносному» наступлению и кончая специалистами «эластичной» обороны. Они проваливались, уходили со сцены театра военных действий, когда Красная Армия опускала занавес перед тем, как поднять его перед новым, а сегодня последним, актом войны.
В нашей армии создался, вырос, закалился высший тип офицера и генерала, творчески синтезировавший в себе всё богатство, всё разнообразие опыта и форм войны.
Немецкая армия, немцы не сумели подняться на эту высшую ступень. Весь путь войск Белорусского фронта в этом наступлении, начиная от первых шагов после прорыва вражеской обороны и до нынешних стремительных боёв на Висле, у подступов к Варшаве, отмечен живым творчеством победы. Наша материальная сила, огромная тяжесть удара нашей артиллерии, наших танков, нашей авиации, сила, проламывающая немецкое сопротивление, — великолепное выражение творчества всего советского народа. Без этого прочного фундамента — без советского огня и советской стали, подавляющих огонь и сталь немецкой армии, немыслима была бы победа. У нас стало больше танков, больше самолётов, больше пушек. Их боевые достоинства перекрыли силу немецкого оружия. Это результат исторического подвига советских рабочих, талантливой работы коллективного разума и коллективной воли. Сила этого творчества в том, что им охвачены все народы Советского Союза, все возрасты, все профессии, все люди — от академиков до чернорабочих.
И когда на фронте я вижу юношу-сапёра, выбежавшего первым к подожжённому немцами мосту и нашедшего блестящее, поистине творческое решение спасти мост: он начинает бросать гранаты в воду и фонтанами воды, поднятой взрывами, сбивает и тушит пламя; и когда видишь, как спустя месяц после начала наступления из лесов выходят, как по мановению, сверхмощные танки и самоходки, ещё не бывшие в сражении, призванные питать наступление и неугасимо поддерживать могучий потенциал победного напряжения; и когда, вдруг, кажется тебе, поймёшь величие общего замысла, — то чувствуешь, что в армии живым и трудным творчеством победы охвачены все — от рядовых пехотинцев, от юноши-сапёра до генералов — мастеров вождения войск.
Это творчество, ищущее высших, более совершенных форм, никогда не удовлетворяющееся сегодняшним, пытливо и остро смотрящее в будущее, творчество, вдохновлённое сталинской стратегией и объединённое сталинской волей, — и есть залог победы!
1945
Дорога на Берлин (Путевые письма)
Москва — Варшава
I
Велик путь, двенадцать сотен километров, отделяющий Москву от Варшавы. Гигантская асфальтовая лента Варшавского шоссе, то припорошённая снегом, то отлакированная гололедицей, то каменно-серая, легла среди окованных морозом полей, пустошей, болот и лесов. Холодный дым позёмки стелется над землёй и оледеневшими водами, обожжёнными январской стужей. Позёмка дует то вдоль шоссе, то поперёк его, и каменный путь наш становится невидим в струящемся сером и быстром дыму. Леса то расступаются широко, то смыкаются плотно, и кажется, наш крошечный, крытый фанерой «виллис» не продерётся сквозь узкую прямую щель, прорубленную к горизонту среди нахмуренных сосен, надевших белые снежные кожухи на широкие зелёные плечи. Дубы, осины и липы похожи на чёрные безобразные скелеты, а берёзы и придорожные ивы так прекрасны, что даже напряжённо следящий за коварной зимней дорогой шофёр восхищённо смотрит на бледносерое нежное кружево тонких ветвей.
Чтобы зарядиться бензином, мы сворачиваем с шоссе на Калугу, оттуда, через Тихонову Пустынь, Полотняный Завод, вновь выезжаем у Медыни на «Варшавку». Мы едем через развалины Медыни, Юхнова, Рославля. Кто посмеет назвать безобразными эти развалины? Они — наша память о суровом мужестве бойцов 1941 года. Калужский старичок, рассудительный и склонный к философствованию, как все сторожа, закрывая ворота заправочного пункта за нашей машиной, сказал на прощание:
— Вот едете к Варшаве, там война теперь, а было такое зимнее время — я выпускал из бочек бензин в канавы перед приходом немцев в Калугу. Пройдёт лет десять, мальчишки будут в школе учиться и меня спрашивать: «Дедка, а это верно, что немец в Калуге был?»
Но следы великой битвы 1941 года, сожжённые немцами мирные дома и сожжённые красноармейцами немецкие танки видны не только в Калуге, — они и на Полотняном Заводе, и в Малоярославце, и даже недалеко от Подольска. Эти следы всюду — в пепелищах деревень, в истерзанных снарядами стволах вековых деревьев, в засыпанных снегом старых окопах, землянках, в прищуренных щелях полуразрушенных дзотов. Сквозь эти щели смотрели стальные дула станковых пулемётов и живые глаза бойцов сурового 1941 года. След великой битвы за Москву в сердце народа. Эти названия — Малоярославец, Калуга, Полотняный Завод, Юхнов и Медынь, — связанные с жестокими, кровавыми боями, с борьбой за свободу и жизнь России и Москвы, навечно будут сохранены в истории страны и в памяти народа.
Кто посмеет назвать безобразными эти развалины? Они величественный фундамент нашей сегодняшней победы. Здесь Сталин сказал: «Ни шагу назад». Здесь любимцы славы, Жуков и Рокоссовский, ныне ведущие свои армии в пределы Германии, обороняли Москву. Путь до Вислы, двенадцать сотен километров, кажется не только пространственно большим, — это путь огромного труда, терпения, великого народного подвига, путь, обагрённый кровью и потом, путь, проложенный миллионами рабочих рук, создававших для армии танки и пушки, миномёты и снаряды в бессонном труде голодного и холодного сорок первого года. Каждый шаг этого пути завоёван, достался не даром, каждый метр его измерен трудом и подвигом. Миллион двести тысяч таких метров, полтора миллиона таких шагов — вот огромность необъятного шоссе, идущего от Москвы до Варшавы!
А машина мчится всё дальше и дальше, мелькают километровые столбы, бьёт ветер, стараясь сорвать фанерные стены и брезентовый верх, защищающие нас от стужи. В машине стоит лёгкая снеговая пыль, её вдувает через щели, и холодные пылинки тают на щеках и на лбу. Уж надвигаются лёгкие сумерки; нарядная, по-зимнему одетая лисица перебегает дорогу, бежит среди кочек, метёт богатым хвостом. Пока наш водитель, старшина Иван Пенин, некогда, в сентябре 1942 года, привёзший меня к Сталинграду, успевает затормозить, лисица отбежала метров на сто. Мы стреляем по ней из пистолетов, она даже не поглядела в нашу сторону, не ускорила своего хитрого и неверного мелкого шага. Мы садимся, довольные, в машину: поохотились на лису! И охота заняла немного времени: не больше минуты.
Сумерки сгустились, в жёлтом свете фар обледеневшая дорога кажется медной, золотистой, и заяц, выскочивший на шоссе, потрясённый и ослеплённый мчащимся к нему светящимся чудом, запетлял, замер белым комочком.
Утром мы уже в Белоруссии, проезжаем Кричев, Пропойск и Довск, въезжаем на густо обсаженный высокими деревьями участок шоссе, ведущий к Рогачёву. Здесь полгода тому назад, через смертную, широкую пойму молодого Днепра пошли в наступление наши полки освобождать Белоруссию. Здесь 19 июня 1944 года, в 4 часа, в рассветные сумерки, облачное небо осветилось быстрым огнём тысяч орудий, земля задрожала от залпов артиллерийских полков и дивизий, прогнулась от тяжести двинувшихся в атаку танков. Всё дальше мчится машина, всё ближе Бобруйск. По обе стороны шоссе ржавеют остатки тысяч немецких машин, танков, растерянно глядят на все четыре стороны пятнистые дула немецких тяжёлых орудий, зенитных и противотанковых пушек. Тут кипел котёл окружения, в который попала вторично созданная 9-я немецкая армия фельдмаршала фон Бока, та 9-я армия, которую, уничтожая, гнали войска Рокоссовского от Курской дуги до границ Белоруссии, та в третий раз созданная 9-я армия, которую ныне вновь сокрушили, пронзили, рассекли на Висле войска маршала Жукова и истребляют в своём стремительном движении к восточной границе Германии. Поистине, Красная Армия заставит по-новому рассказывать древний миф о птице феникс, возникающей из пепла: феникс германской армии не возникает из пепла, а обращается в пепел!
Мы проносимся через вытянутый вдоль шоссе Слуцк, полуразрушенную Картуз-Берёзу — места, где стремительно наступали наши войска прошлой осенью. Здесь видим мы на обочинах дорог зелёные тела наших танкеток. Это следы вероломного ночного удара, нанесённого 22 июня 1941 года по Советской стране немцами со стороны Бреста… Тяжко, полной мерой заплатят нам в этом году немцы за тот разбойничий подлый удар! Проклянут они тот день и тот час, когда перешли без объявления войны советскую границу. Внуки нынешних немцев запомнят этот день как день своего позора и злой беды. Пусть гибнет от меча возмездия тот, кто первым обнажил меч неправедной, разбойничьей войны.
Перед вечером небо на западе вдруг очистилось от туч, и удивительной красоты красно-золотистое сияние осветило землю. Мы въехали в лес, и светящиеся полосы заката, мелькавшие меж ветвей, казались огромными крыльями самолётов, плавно и мощно стремящихся на запад.
Сердце забилось радостно, точно это яркое сияние среди тёмных зимних туч вещало победу.
Ночью, в Кобрине, мы узнали о том, что взята Варшава. Ещё до света выехали мы вновь. Весть о взятии Варшавы уже распространилась по польским городам Бяла-Подляска, Мендзыжец. В Седлеце толпы людей шли на митинг, поблескивали трубы музыкантов, шагали солдаты польской армии. Мы выехали на последний участок нашей дороги, ведущей от Седлеца к Варшаве. Это была обычная своим напряжённым оживлением фронтовая дорога, и в то же время в ней было нечто особое, радостное, — мы слышали в гудках машин, в рёве моторов, лязге гусениц, видели в лицах и глазах едущих и идущих к Варшаве особое, торжественное, счастливое возбуждение.
Замедлив ход, мы проехали по многолюдным улицам маленького городка Минска-Мазовецкого.
Вот и Прага, варшавское Замоскворечье.
Здесь увидели мы подлинное народное торжество — бело-красные знамёна красиво колыхались в воздухе, балконы зданий были украшены коврами, знамёна украшали не только жилые дома, но и мёртвые развалины, оповещая, что люди, некогда жившие здесь, тоже участвуют в общем торжестве. Жители Праги праздновали освобождение Варшавы вдвойне, — они разделяли радость всей Польши, они радовались тому, что смерть, подстерегавшая их в течение многих месяцев во время обстрелов немецкими пушками и миномётами, побеждена. Тысячные толпы стояли вдоль набережных, жадно смотрели на освобождённый город.
Наш крытый фанерой маленький «виллис» подъехал к взорванному мосту, пофыркал и остановился. Надо думать, что впервые за очень и очень долгие годы это была первая машина, приехавшая по старинному шоссе из Москвы в Варшаву. Мы сошли на лёд. Вдоль смятого, перекрученного взрывом стального кружева подорванного моста подошли мы к высокому каменному быку на западном берегу Вислы, взобрались по колеблющейся многометровой пожарной лестнице и сошли на набережную. Часовой, пожилой красноармеец, стоя у маленького костра, разложенного на набережной, добродушно сказал стоявшему рядом автоматчику: «Вот, брат, какой сухарик у меня хороший в кармане нашёлся, сейчас мы с тобой пожуём его». Это были первые слова, услышанные мной в Варшаве. И я подумал, что человек в серой помятой шинели, с суровым добрым лицом, закалённым морозом и ветрами, был одним из тех, кто, отстояв в страшный год Москву, прошли двенадцать сотен вёрст в великой страде освободительной войны. И весь пеший боевой путь его, сквозь огонь, смерть, вьюги, морозы, ливни, вновь на миг встал перед моими глазами.
II
Величественно, печально, можно сказать трагично, выглядела освобождённая Варшава в тот час, когда мы пришли в неё. Германский демон бессмысленного разрушения и зла вволю проявил себя за пять с лишним лет владычества над столицей Польши. Кажется, огромное, сорвавшееся с цепи чудовище колотило чугунными кулаками по многоэтажным домам, валило стены, выбивало двери и окна, рушило памятники, скручивало в петли стальные балки и рельсы, жгло всё, что поддаётся огню, терзало железными когтями асфальт мостовых, камни тротуаров. Груды кирпича заполняют улицы огромного города. Сеть прихотливо петляющих тропинок, какие прокладывают охотники в дремучих лесах и в горах, легла через широкие площади и прямые улицы центральных районов. Люди, возвращающиеся в Варшаву, карабкаются через груды кирпича; лишь на некоторых улицах, Маршалковской, Краковском предместьи и других, могут двигаться машины и подводы. Сравнительно благополучней глядит юго-восточная часть города, район Бельведерского дворца и парка. Тут уцелели некоторые здания, их сравнительно легко восстановить, вернуть к жизни.
Всегда, когда входишь в разрушенный город, в глаза бросаются лишь зримые следы немецкой палаческой работы. Так и в мёртвой, разрушенной, сожжённой Варшаве прежде всего мысль обращается к тому, что видят сегодня, сейчас человеческие глаза: к тысячам, десяткам тысяч разрушенных зданий, к высоким стенам, чёрным от дыма пожаров, поваленным колоннам, разрушенным костёлам, театрам, заводам, дворцам, к зияющий провалам крыш, к обрушенным лестничным клеткам, к пустым глазницам окон, к страшной, зримой глазом пустыне, где иногда на много кварталов не встретишь человека. Быть может, ночью здесь, на варшавских улицах, бродят в поисках пищи волки и лисы, прокладывает петлистый след заяц, те звери, которых мы встречали в белорусских лесах? Но ведь не только на зримую нами погибшую красоту Варшавы поднял руку германский палач! Ведь не только камень, изваянный человеком, подвергся разрушению!
Здесь, в Варшаве, произошла трагедия во сто крат, в тысячу крат страшней той, следы которой зримы нами. Здесь подверглась казни и уничтожению ценность, большая, чем самые прекрасные дворцы и храмы мира, высшая ценность на этой земле — жизнь человека!
Ведь из каждого, ныне мёртвого, окна этих десятков тысяч убитых домов глядели живые глаза детей, живые глаза девушек, их матерей, дедов, бабок. Ныне мертвы эти глаза. Ведь по мёртвым ныне улицам шли десятки и сотни тысяч людей — профессоров, учителей, слесарей, артистов, механиков, бухгалтеров, врачей, часовщиков, архитекторов, оптиков, врачей, инженеров, ткачей, пекарей, каменщиков. Многие из них никогда уже не вернутся в свободную Варшаву — они убиты немцами. Десятки тысяч талантливых, честных, смелых, работящих людей, созидателей жизни, борцов за свободу погибли, казнены смертью. Ещё и сейчас в подвалах разрушенных домов лежат закоченевшие от мороза трупы убитых немцами участников трагического, заранее обречённого восстания. После этого восстания немцы изгнали из города всех жителей, они разорвали в клочья колоссальную в своей сложности и многообразии ткань жизни, сотканную полуторамиллионным населением Варшавы. Люди сотен и тысяч сложнейших и драгоценнейших профессий были рассеяны по местечкам, деревням, лесным хуторам. Сердце Польши остановилось! Но сила жизни сильней смерти. Медленно, несмело вливается жизнь в Варшаву.
Я гляжу на эти первые сотни людей — разведчиков жизни и труда, — на странные фигуры, повязанные шалями и платками, и стараюсь угадать их профессии. Вот этот, в барской шубе, с холеной золотистой бородой, в очках с телескопическими стёклами, сидящий на груде чемоданов в крестьянской телеге, быть может, известный врач, а быть может, профессор университета. Этот пешеход, легко несущий на широких плечах огромный узел, — каменщик. Этот, в берете, с измождённым лицом, едущий по узенькой тропинке на велосипеде, с подвязанным к багажнику тючком, — быть может, часовой мастер. Вот идёт вереница пожилых и молодых людей в шляпах, беретах, в шубах, плащах, осенних пальто и толкают перед собой кремового и голубого цвета детские колясочки на толстых шинах, гружённые узлами, саквояжами, чемоданчиками, портпледами. Вот, дуя на замёрзшие пальцы, глядя печальными глазами на развалины, идут девушки, молодые женщины. Их тонкие фигурки, стройные ножки обезображены толстыми платками, большими мужскими ботами, толстыми гетрами. Их уже сотни, их тысячи, этих людей, одновременно сурово и радостно, печально и весело глядящих на свой родной город. Они, эти люди, — дыхание, кровь, мозг Варшавы.
Мы перебираемся в северо-западную часть города. Вот варшавское гетто. Стена, сложенная из красного кирпича, высотой в 3 — 31/2 метра окружает десятки кварталов, входивших в гетто. Толщина стены около 40–50 сантиметров, в неё вмазаны осколки стёкол, она вся увита ржавой колючей проволокой. Эта стена, да мрачное здание Гмины-Юденрата, да два костёла — единственное, что оставили немцы в гетто. Здесь нет даже скелетов зданий, которые стоят вдоль варшавских улиц. Сплошное, волнистое красное море битого кирпича, окружённое кирпичной стеной, — всё, что осталось от многих десятков кварталов, улиц, переулков. В этом каменном море редко увидишь целый кирпич — всё раздроблено в мелкую щебёнку. О высоте стоявших здесь зданий можно судить лишь по впадинам и холмам кирпичного моря. В глубине его похоронены многие тысячи людей, которых немцы взорвали в тайных убежищах — бункерах. Пятьсот тысяч евреев согнали немцы в варшавское гетто к началу 1942 года. Почти все они погибли на фабриках смерти, в Треблинке и на Майданеке. Лишь единицы из пятисот тысяч человек чудом вышли живыми из-за красной кирпичной стены. В апреле 1943 года, когда в гетто осталось в живых около 50 тысяч человек, вспыхнуло восстание обречённых. Сорок дней и ночей длился страшный бой между плохо вооружёнными повстанцами и эсэсовскими полками. Немцы ввели в бой танковую дивизию и бомбардировочную авиацию. Повстанцы — мужчины, женщины, дети, — не сдаваясь, дрались до последнего вздоха. О потрясающем эпосе этой битвы повествует сегодня застывшее мёртвое море кирпича. Пусто в гетто; сюда никто не возвращается, сюда не идут потоки людей. Все, кто вывезены отсюда, мертвы, сожжены, и холодный пепел их рассеян по полям и дорогам. Лишь четырёх человек встретили мы здесь. Один из них, с лицом живого мертвеца, уносил на память в детской плетёной корзиночке горсть пепла, оставшегося от сожжённых гестаповцами во дворе Гмины убитых повстанцев.
Мы побывали в бункере — тайнике, где в течение долгих месяцев скрывались шесть поляков и четверо евреев. Самая необузданная фантазия не в силах нарисовать эту каменную тайную нору, устроенную на четвёртом этаже разрушенного дома. В неё нужно пробираться то по отвесным стенам проваленной лестничной клетки, то бежать над пропастью по рельсе межэтажного перекрытия, то протискиваться в узкую чёрную дыру, пробитую в тёмной кладовке.
Впереди нас шла обитательница бункера, польская девушка, смело и спокойно шагавшая над пропастью. И надо сознаться, после трёх с половиной лет войны — во время этого путешествия у меня то замирало сердце, то пот выступал на лбу, то темнело в глазах. А ведь «бункеровцы» во время немецкого владычества проделывали это путешествие не днём, а лишь в полном мраке, тёмными, безлунными ночами.
И вот мы снова на улице. Уже не сотни, а тысячи, десятки тысяч людей идут в город с востока и с запада, с севера и юга. Учёные и ремесленники, архитекторы и врачи, рабочие и артисты возвращаются из снежных полей в столицу Польши. Они, эти люди, — дыхание и кровь Варшавы. В тяжком, но радостном и свободном труде вновь восстановят, выткут они сложную, колоссально многообразную ткань жизни польской столицы.
Таков закон бытия: созидательный труд торжествует над демоном разрушения, жизнь побеждает смерть, добро сильнее зла. Освобождённая Варшава встанет из пепла.
…На утро крытая фанерой коробочка, привёзшая нас в Варшаву, пофыркивая, выкатила на шоссе и побежала в сторону Лодзи, Кутно — всё дальше на запад, по пути великой армии, следом которой мы ехали от Москвы.
20 января 1945 г.
Белорусский фронт
Между Вислой и Одером
I
Эти строки пишутся в нескольких километрах от Познани, когда сквозь тёмную снежную бурю десятки боевых самолётов летят на познанскую цитадель, а грохот наших пушек и грозный воющий протяжный гул гвардейских миномётов сливаются с сотнями пулемётных очередей. Скоро Познань станет в длинный ряд павших под силой наших ударов городов, а обороняющие её немецкие полки, отряды ландвера, фольксштурма и офицерские школы зашагают, погромыхивая котелками, сольются с десятками других отрядов пленных, идущих на восток.
Но сейчас бой идёт ожесточённо, сейчас из крепостных фортов немцев приходится выбивать сантиметр за сантиметром, сапёры залили две бочки керосина через трубу в своде одного из фортов и подожгли его, выгнали немцев из каземата. Сейчас генерал Чуйков, сидя над планом города и держа в руке телефонную трубку, зычно кричит: «По центру огня не вести, в центре Глебов!». И вдруг, радостно смеясь, ударяет адъютанта кончиком карандаша по носу и говорит: «Ага, ага, уже огневая связь есть, сейчас наладим живую связь. Рассечём, рассечём их!». А в это время войска, обтекая блокированную Познань, движутся всё дальше, вошли в Померанию, с каждым днём, с каждым часом сокращая счёт километров до Берлина. Этот счёт ведут здесь десятки тысяч людей: красноармейцы, офицеры, генералы, танкисты, лётчики, водители машин, регулировщики, паховские пекари (Iах—полевая армейская хлебопекарня), официантки в штабных столовых, обозные, заросшие седой небритой щетиной. Это не спортивный счёт километров. Это счёт жизни и смерти, счёт чести и гордости, счёт народной мести; миллионы солдатских тяжёлых сапог сокращают этот счёт, войска прорубают огнём и сталью путь к Берлину.
Дорога от Варшавы до Познани проходит по местности с резко меняющимся пейзажем; однако здесь меняется не только географический, меняется и экономический, социальный и политический пейзаж, — весь жизненный уклад края. По немецкому счёту, это уже не протекторат, не генерал-губернаторство, а «райх» — собственно немецкое государство, «третье присоединение», «Вартеланд».
Деревушки сменяются хуторками, всё чаще попадаются дома с остроконечными крышами, маленькие садики со скучными подстриженными, похожими на метёлки, деревьями. Всё чаще немецкие помещичьи имения с огромными, вместительными службами. Вот одно из них. До войны 1939 года оно принадлежало поляку. Впоследствии Гитлер подарил это имение немецкому военному, вышедшему в отставку. Новый хозяин бежал несколько дней назад, оставив своих слуг, коней, скот, птицу, погреба вин и консервированной дичи. Он бежал налегке, но всё же его нагнали наши танкисты.
Вдоль дорог идут сотни немцев, нагружённых узлами, чемоданами. Это те, кто пробовали уйти, бежать, те, кого настигли наши войска. Теперь они возвращаются обратно с запада на восток, идут, опустив головы, исподлобья глядя на стальной поток, несущийся по шоссе. Этим немцам нелегко итти, — местные поляки, старики, женщины, дети, клянут их, грозят кулаками, замахиваются, ругают. Тяжела была жизнь поляков в генерал-губернаторстве, но эта тяжесть не так уж страшна, если сравнить её с долей, выпавшей полякам, жившим в германском «райхе». Немцы, присоединив к Германии лодзинские и познанские земли, отделив их проволокой от земель польского генерал-губернаторства, заковали поляков в цепи крепостного рабства, бесправия и нищеты. Почти вся сельская польская интеллигенция — учителя, адвокаты, врачи, почти все ксендзы были вывезены в лагеря Дахау и Освенцим. Пять с половиной лет польским детям было запрещено ходить в школы, малышей было запрещено учить азбуке. С двенадцатилетнего возраста дети должны были батрачить, а живущие в городах работать на фабриках. Даже молиться возбранялось польским крестьянам. Почти все костёлы были закрыты и впоследствии превращены в немецкие склады. Поляков согнали с земли. Их земли отдали немцам. Поляков выгнали из домов. В их дома поселили немцев. У поляков отбирали вещи, коров, лошадей. Их вещи, коров, лошадей отдавали немцам. Отцов отделяли от детей, мужей от жён — всех их превратили в батраков. Каждый немец держал 4–6 батраков-поляков, ему это обходилось в гроши: взрослый батрак получал 20 марок в неделю, а подростки получали 6 марок в месяц. Дочь нашего хозяина, пятнадцатилетняя девочка, за 11 месяцев работы получила 60 марок. Продукты немцы продавали полякам «налево» — распространённое здесь слово, обозначающее незаконную продажу. Цены были таковы, что названная девочка-батрачка должна была проработать три года, чтобы купить кило сала. Полновластным хозяином деревни был остбауэрфюрер — сотский. Он распоряжался жизнью и свободой людей. Так, соседа нашего хозяина он послал в лагерь Освенцим только за то, что за год до прихода немцев тот сказал крестьянину, говорившему по-немецки: «Зачем говоришь по-немецки, тут ведь не Берлин!». Вопросы о раздаче немцам земли решались с участием местной организации фашистской партии (НСДАП). Сам бауэрфюрер Швандт, массивный толстяк, хозяин пивной и мелочной лавки, вообще не считал нужным платить своим батракам, их у него было шестеро — трое мужчин и три женщины; по истечении года он выгонял их, не давая ни пфеннига. Этот Швандт имел до войны 4 морга земли; сейчас, ограбив своих соседей поляков, он владел 50 моргами (25 га).
Поляки, хозяева земли и инвентаря, были закабалены на территории «райха» тяжелей, чем обычные батраки. Это, собственно, не было батрачество, это было крепостное право немца над поляком, рабство поляков на их родной земле, захваченной фашистской Германией. Поляк не имел права выехать из деревни, уйти от хозяина. Попытка перейти с территории «райха» в генерал-губернаторство каралась смертью. Пользоваться железной дорогой, посещать сады, парки польским крестьянам было категорически запрещено. Дети дичали, не зная школы, не зная азбуки. Даже выпить в воскресный день шкалик водки было запрещено польскому крестьянину: существовал закон, разрешавший продажу водки одним лишь немцам.
Немцы здесь делились на пять сортов: черноморские, балканские, прибалтийские, райхедейче и фольксдейче. Первые три категории были привезены главным образом в 1941 году — для освоения ставших вдруг «немецкими» польских земель. В 1944 году хлынула новая волна немцев, — это были те, которых фашисты, отступая, вывозили с собой из разных стран и областей.
В Германии существует закон об обязательной сдаче крестьянами всей сельскохозяйственной продукции на специальные скупочные пункты, где им платили 9 марок за 100 килограммов картофеля и 20 марок за 100 килограммов ржи. Несмотря на тщательную проверку комиссиями с участием представителей фашистской партии, вновь испечённое кулачьё торговало зерном и картофелем по спекулятивным ценам, продавая полякам их же рожь и пшеницу. Поляки платили огромные цены за те продукты, которые сами же производили, платили теми марками, которые с гарпагоновской скупостью им давали немцы за каторжный, многочасовый труд.
Так жили здесь поляки-крестьяне. И нужно ли удивляться той ненависти, с которой встречают они немцев, не успевших удрать, не сумевших перескочить через Одер.
Нужно ли сейчас, под конец этой жестокой войны, вновь рассказывать читателю о том, что германский фашизм есть плаха народов? Но бесконечно разнообразны формы фашистского зла, на каждом этапе по-новому раскрываются они, по-новому показывают жестокое, палаческое существо фашизма. Она, эта палаческая сущность, одинаково равна себе и в двух тысячах километров от границ Германии, где оккупанты при свете ночных пожаров грабили и убивали русских крестьян на берегу Волги, и в Бабьем Яру над днепровским обрывом, где немцы живыми закапывали в землю еврейских детей, и на Майданеке, за Вислой, превращенном в плаху и каторгу для двадцати европейских народов. И здесь, в 150–200 километрах от Берлина, звериная, палаческая сущность немецкого фашизма, вспоённого ядом расовой ненависти, неизменна, равна себе, лишь несколько отличны формы её проявления.
II
Три дня тому назад мы выехали под Познань из Лодзи. Лодзь огромный промышленный город, в нём свыше тысячи предприятий, из них не менее пятисот крупных заводов и фабрик. Лодзь вырвана из рук немцев столь стремительно, что фашисты не сумели ни ядом своих змеиных зубов, ни жалом скорпиона отравить и нарушить жизнь польского Манчестера.
Пять лет город находился в пределах «райха» и именовался Лицманштадт, по имени немецкого генерала, имевшего какие-то таинственные и неясные «заслуги» в борьбе против русских армий в 1914 году. В городе нет ни одной польской вывески, ни одного польского названия улицы: всё полностью германизировано, всё пестрит именами Гитлера, Геринга, Людендорфа и т. д. Если в деревне польский крестьянин был низведён до крепостного батрака, то поляк-лодзинец стал рабочим эпохи крепостного права. Поляки в «райхе» назывались «подлюди», и поистине интересно проследить то невероятное количество ограничений, запретов и унизительных отличий, обязательных для лодзинских поляков. У поляков были отняты предприятия и магазины, поляки были изгнаны со всех инженерских, бухгалтерских, адвокатских должностей, польских детей запрещалось учить грамоте, а для немцев существовали гимназии и университеты. В ресторанах, в кино, в театрах устраивались чуть ли не ежевечерне облавы и проверка документов для обнаружения поляков. Многие магазины были закрыты для поляков. Полякам почему-то запрещалось ездить в моторных вагонах трамвая, и они шутя говорили: «Немцы нас везут». На заводах существовали раздевалки, столовые, бани, писсуары с категорической надписью: «Nur fьr Deutsche». Для немцев-рабочих имелся свой трудовой кодекс, свои расценки, своя система оплаты, своя калорийность пищи в заводских столовых, свои нормы при отоваривании продовольственных карточек. Всё это было направлено не столько к улучшению реальных условий жизни немецкого рабочего, сколько для ухудшения моральных и физических условий существования польского рабочего, служило для пропаганды всё одной и той же бессмысленной тупой идеи расового превосходства немца над остальными народами земли.
Следы этой звериной расовой политики были оставлены на всей жизни Лодзи. И, конечно, прежде всего, ещё в большей мере, чем к полякам, применили её фашисты к лодзинским евреям. Часть города была оцеплена проволокой и превращена в гетто. Если между двумя районами гетто лежала «арийская» улица, немцы строили высокие мосты, чтобы евреи переходили по ним, не касаясь «арийской» земли. За четыре с половиной года существования лодзинского гетто в нём было убито двести пятьдесят тысяч человек. В один сентябрьский день 1942 года немцы вывезли на смерть из гетто 17 тысяч детей в возрасте от месяца до 12 лет. Кто в силах хоть на миг представить себе картину этого страшного избиения детей? Из 250 тысяч, обитавших в гетто, сохранили жизнь 850 человек. В день, когда их должны были вести из гетто на казнь, на улицах Лодзи загремели выстрелы советских танков.
Так, в муках, в кровавых страданиях, пять лет существовал город с полумиллионным населением под чугунной пятой германского фашизма…
Присоединившись к вице-министру промышленности польского правительства и к представителю нашего командования, я осмотрел крупнейшие немецкие военные заводы в Лодзи. На их организации отразились законы фашизма. Об этом свидетельствует и то расовое разделение рабочих, о котором я писал выше, и те мрачные, дышащие средневековьем карцеры и казематы, устроенные в заводских подвалах для опоздавших на работу, и те бойницы бетонных дотов, глядящие на ворота и окна главных цехов. Об этом свидетельствуют рассказы рабочих об избиениях дубинкой, о порке, мордобое, бывших обычным и любимым средством воздействия на фабричный люд со стороны немецких «организаторов» производства. Почти все эти заводы до 1939 года принадлежали полякам. Немцы захватили их, переоборудовав для нужд войны. Владельцами их обычно стали акционерные общества, управляли ими приехавшие из глубины «райха» директора. Когда присматриваешься к истории этих германских заводов, видишь, что не свободная воля их «владельцев» и директоров, а необходимость, властно провозглашённая Красной Армией и бомбардировочной авиацией наших союзников, диктовала технические контуры и географическое распределение германских заводов в восточных областях «райха». Здесь есть заводы-беженцы, заводы-инвалиды, лоскутные заводы, организованные из цехов, различных предприятий, есть даже цеха, где собраны станки, «удравшие» от бомбёжек из различных районов Германии.
Вот станкостроительный и металлообрабатывающий завод Иона. Чего только не увидишь здесь! Вот огромный многометровый станок для производства торпед, немцы его монтировали с лета 1944 года и должны были этими днями пустить в ход. Вот четырёхшпиндельный автомат для обработки ленивца к тяжёлым танкам. Вот станок для производства опорного подшипника главного вала винта подводной лодки. Вот станки, производящие пояски для снарядов. Один такой завод был уничтожен английской авиацией в глубине Германии, второй уничтожен в Познани. Этот — третий. Немцы дробили, распыляли промышленность, отдельные детали производились в различных местах — и в Германии, и в оккупированных странах, сборка шла где-то в десятом месте. Цеха эти постоянно передвигались, «драпали», меняли адреса, горели, гибли, вновь пытались возникнуть.
Теперь Красная Армия кладёт конец этой суетне: огромной стальной сетью захватывает она сотни, а быть может, сегодня и тысячи заводов и заводиков, фабрик, фабричек, мастерских, по которым фашисты пытались рассовать всю свою промышленность. Целостность немецкой промышленности нарушена, фундамент подлого здания дал трещину, уже близок час, когда рухнут стены каторжной тюрьмы, погребут под собой убийц и палачей европейских народов.
Вот ещё один крупнейший завод фирмы.
Эта махина, на которой работало более 2500 рабочих, производила моторы для «юнкерсов» и «мессершмиттов»; 58 готовых, испытанных и упакованных моторов лежат на складе. Здесь когда-то была прядильная фабрика, принадлежавшая французской фирме Алар Русо. Германский моторный завод под ударами союзной авиации бежал из Мюнхена в Айзенах, в Тюрингии, стал дробиться на филиалы. Из Тюрингии моторный завод под новыми ударами бомбардировщиков бежал в Лодзь. Но тяжёлая поступь Красной Армии заставила фашистов вновь срочно вывезти главные цеха в другой польский город. Поистине, этот мечущийся от западной до восточной границы фашистский военный завод напоминает бешеного волка, которого травят охотники.
И здесь, под Познанью, где ещё грохочут наши снаряды, сокрушая крепостные форты, где с рёвом проносятся над головой штурмовые самолёты «Ильюшины», где скрежещут пулемётные очереди, немало есть немецких военных заводов.
Полнотелый полковник Елизаров деловито записывает в книжечку под гул канонады названия познанских предприятий, о которых докладывает ему пожилой офицер. Тут и завод Фокке-Вульф, и завод бронепоездов, и производство гранат, автоматов, винтовок, патронов, и автомобильных покрышек, и автомобилей. Да, всё глубже и шире огромная смертная трещина в самом фундаменте фашистской социальной системы! Уже рушатся, обваливаются стены тюрьмы европейских народов.
30 января 1945 г.
Германия
I
Солнечным утром мы приехали к Одеру, в том месте, где течение его ближе всего подходит к Берлину. Странно казалось, что раскисшая просёлочная дорога, колючий, низкорослый кустарник, редкие деревца, невысокие холмы, спускающиеся к речной пойме, небольшие домики, там и здесь разбросанные среди полей, покрытых яркой зеленью озими, — всё это, столь обычное для глаза, столько раз уже виденное, находится в глубине Германии, на расстоянии, меньшем, чем 80 километров, от Берлина.
Это был первый день выхода наших войск на среднее течение Одера, в Бранденбургской провинции. Солнце грело совсем по-весеннему, воздух был лёгок и прозрачен, но небо врага было жестоко к нам в это тёплое, безветреное утро. Десятки самолётов кружились в воздухе, грохот скорострельных пушек, карканье пулемётных очередей, гул моторов, гром бомбовых разрывов заполняли пространство, — то немцы подняли с берлинского и окрестных аэродромов десятки и сотни «фокке-вульфов», «мессершмиттов», пикирующих бомбардировщиков. Чёрной подвижной тучей встали они над Одером, и, казалось, растревоженный рой шершеней и ос гудит, мечется в воздухе, охваченный яростью и ужасом, пытается защитить своё гнездо.
Но сквозь железный ад наши войска двигались всё вперёд, и я видел, как медленно и неуклонно шла к реке длинная цепь нашей пехоты… Люди шли тяжёлой поступью, немного пригнувшись, держа в руках винтовки и автоматы, и ни тысячепудовая тяжесть размокшей, чавкающей земли, ни огонь и сталь, обрушившиеся с весеннего неба, не могли остановить этого великолепного, казавшегося торжественным и неотвратимым, движения. А по дорогам, ведущим к Одеру, двигались тяжёлые самоходные пушки, артиллерия, миномёты. Войска Красной Армии вышли в этот день на последний водный рубеж, отделявший нас от столицы Германии; с востока нет уже естественных рубежей, лежащих между войсками 1-го Белорусского фронта и Берлином. Сколько десятков и сотен их было, этих больших и малых рубежей, перед армией, шедшей от Волги к Одеру! Вот такой же торжественной, одновременно лёгкой и медлительной, поступью подходили красноармейские цепи к Дону, к Донцу и Днепру, к Друти и Березине, к Западному Бугу и Неману, к Висле и Варте, в своём движении от Волги к злому сердцу Германии.
И мне вдруг вспомнилось в это весеннее утро на Одере, как в железную зиму сорок второго года, в жестокую январскую метель, среди ночи, багровой от пламени зажжённой немцами деревни, закутанный в тулуп ездовый вдруг закричал:
— Эй, хлопци, где тут дорога на Берлин?
Ему ответил дружный хохот шофёров и ездовых.
Жив ли шутник, спрашивавший под Балаклеей дорогу к Берлину? Живы ли те, кто смеялся ночью, три года назад, над его вопросом? А ведь в этой шутке, произнесённой в тяжкую зиму, в морозную ночь, таилось малое, но драгоценное зерно вечной народной веры в грядущую победу добра над злом. Да, многое вспомнилось… Вспомились мне и слова из приказа Гитлера, изданного зимой 1941 года, приказа о создании зоны русской пустыни:
«Пусть пламя горящих русских деревень освещает пути подхода моих резервов к линии фронта…» И в этих жестоких и самоуверенных словах человека-зверя таилось зерно гибели фашизма, зерно гибели идеологии расовой ненависти, зла, рабства и крови.
Да, многое вспомнилось в дни и часы, когда наши войска вторглись в глубину фашистской Германии. И в вечер, когда, проехав германскую границу, мы остановили машину и, сойдя с голубовато-серого шоссе, пошли по прелым иглам соснового леса, вдыхая запах земли, глядя на поля, рощи, долины, дома с крутыми крышами, сложенными из красной черепичной чешуи, захотелось крикнуть, позвать тех братьев-бойцов, что лежат на русской, украинской, белорусской и польской земле, спят вечным сном на поле брани:
— Товарищи, слышите вы нас? Мы дошли!
И, может быть, на миг забились мёртвые сердца миллионов убитых детей и старух, сердца невинных, удушенных в петлях, утопленных в колодцах, может быть, всколыхнулся пепел сожжённых, в час, когда наши танкисты и пехотинцы пересекли границу и вторглись в бранденбургские земли.
— Мёртвые — матери, сестры, убитые старцы и младенцы, слышите вы нас? Мы дошли!
Но тихо. Лишь по шоссе мчатся грузовики с длинноствольными пушками на прицепе, гвардейские миномёты, рации, боеприпасы — всё огромное хозяйство войны. И вот мелькают перед нами поля, леса, помещичьи дома, богатые деревни, рощи, городки… Вот Одер. Всё это — Германия, это германские города, германские деревни, германские земли, леса, воды, германский воздух, небо… И заходящее солнце в своей божеской, равнодушной щедрости сверкает, смеётся в тысячах лужиц, в стёклах домов, в тяжёлых кристаллах тающего снега, лежащего в канавах и под стволами сосен.
II
В Бранденбургской провинции мне пришлось побывать во многих городах и городках, деревнях, имениях, хуторах. Как передать огромный и сложный ворох впечатлений, собранный за эти дни?
На многих немецких домах, на стенах, под окнами с аккуратными зелёными решетчатыми ставнями выведена большими чёткими буквами надпись: «Licht ist dein Todt!» (Свет — это твоя смерть!). Это объявление противовоздушной обороны, призывающее к выполнению правил светомаскировки.
Но, вглядываясь в то, как всюду и везде, во всех областях общественной и частной жизни, во всех слоях населения внедрялись, пропагандировались и рекламировались, практически и теоретически, звериные принципы гитлеризма, мне невольно думалось: «Эта надпись на домах: „Свет — это твоя смерть“ — не объявление о правилах светомаскировки, это лозунг Адольфа Гитлера, главный лозунг, с которым он пришёл к немецкому народу. Это исчерпывающий принцип германской теории и практики во все годы владычества фашизма; под знаком его жил двенадцать лет немецкий народ».
Да, времена меняются!
Некогда в этой стране мрака великий поэт и мыслитель Гёте сказал, умирая: «Licht, mehr Licht!» — «Света, больше света!».
Труд миллионов иностранных рабочих, пригнанных в Германию с востока, с юга, запада и севера, стал важнейшим фактором «экономической пропаганды» гитлеризма. Труд этот оплачивался в три, пять, десять раз ниже, чем труд немцев. Немецкий рабочий в Германии получал в зависимости от квалификации 100–200 марок в месяц. Иностранец на такой же работе получал от 15 до 30. Нормы продовольственного снабжения иностранных рабочих резко отличались от норм немецкого рабочего. Они, строго говоря, не отличались даже, а просто противопоставлялись. Иностранный рабочий получал на заводе 300 граммов хлеба и миску баланды. Иногда выдавалась порция колбасы весом в 5 граммов. Немецкий рабочий получал на заводе нормальный обед и, кроме того, имел продовольственную карточку, обеспечивавшую его и его семью хлебом и продуктами питания: жирами или их заменителями, сахаром, мясом и прочим.
Кроме того, руководители германского государства пытались осуществить фашистский принцип расового расслоения и между самими иностранными рабочими, предоставляя некоторые привилегии западным рабочим перед восточными. Для ещё большего дробления интересов рабочих фашисты и в группе «Ост» (восток) проводили расслоение, противопоставляли рабочих Западной Украины рабочим Восточной Украины, а тех, в свою очередь, — русским и белоруссам.
Естественно, что экономическому неравенству между немецкими и различными группами иностранных рабочих соответствовало столь же вопиющее правовое неравенство. Лагери иностранных рабочих были фактически обычными концентрационными лагерями, окружёнными проволокой. «Фюреры» и «фюрерши» этих лагерей были просто-напросто тюремщиками. Система чудовищных штрафов, поглощавших иногда заработную плату за несколько месяцев вперёд, унизительные обыски, правила, лишавшие рабочих группы «Ост» возможности покидать лагеря в течение шести рабочих дней, запрет ходить по тротуару, запрет посещать кино, концерты, театры, обязанность вскакивать и вытягиваться при входе немца, наконец, широкое применение физических наказаний — всё это являлось невыносимым оскорблением человеческому достоинству недавно ещё свободных людей. Наконец над всеми иностранными рабочими постоянно висела опасность быть переведёнными из трудовых лагерей в тюрьму или лагерь смерти. В случае болезни, иностранных рабочих почти не лечили, имелся запрет давать им дефицитные лекарства.
Это множественное дробление пролетариата по расовому принципу, это искусственное разжигание расовой борьбы, разжигание расового противопоставления в огромном интернациональном скопище пролетариев, включавшем десять — пятнадцать национальностей, собственно и являлось главным принципом, символом веры руководителей фашистской промышленности. К чему же вела эта политика? К тому, чтобы немецкие рабочие пошли на подкуп, вообразили себя «немцами вообще», представителями расы господ, призванными владычествовать над миром. В чёрном ядовитом тумане, вставшем над Германией, их понуждали перестать различать своих подлинных врагов. Надо добавить, что описанной фазе морально-политического разложения германского рабочего класса фашизм ещё до войны предпослал террористическую фазу, физически истребляя сотни тысяч лучших и честнейших немецких рабочих. Я не берусь судить, какая из этих фаз губительней: физического или морального сокрушения немецкого рабочего. Конечно, были до последнего времени случаи, когда немецкие рабочие входили в контакт с иностранными, оказывали им материальную помощь, сочувствовали им, говорили о своей ненависти к Гитлеру, рассказывали им утешительные, подслушанные по радио новости. О таких случаях мне рассказывали наши соотечественники и французы. Но случаи эти немногочисленны, единичные. В общем же германский рабочий класс не смог противопоставить себя фашизму в его преступной борьбе за порабощение мира. Интересно отметить, что фашистам совершенно не удалось расколоть многонациональную армию иностранных рабочих. Система подлых привилегий не помогла: единый фронт ненависти к фашистам сохранил свою монолитность. И поистине нельзя без глубочайшего волнения слушать рассказы об удивительной, благородной, мужественной дружбе, о великом рабочем товариществе, о славном и прекрасном братстве угнетённых пролетариев, согнанных в Германию из всех стран Европы. Французы, поляки, бельгийцы, чехи, голландцы, сербы, русские, украинцы, белоруссы, военнопленные англичане, американцы — все они были членами великого рабочего и солдатского братства, Интернационала свободы и чести. Язва расизма не коснулась их. Подлые усилия нацистов оказались тщетны. Мне пришлось говорить с французами, которые почти пять лет прожили в отравленной атмосфере гитлеровской империи. Все они полны ненависти к расизму, все они верные слуги великой идеи свободы, равенства и братства.
Дороги запружены идущими на восток толпами освобождённых рабочих и военнопленных. Не приходилось мне видеть картины, удивительней этой. У некоторых на груди и на спине нашиты «латы». Это знаки, нашитые им гитлеровцами в лагерях. Пёстрые и фиолетовые треугольники у французов и американцев, бело-синие прямоугольники «Ост» у русских, вышитые трезубцы у украинцев. У некоторых «лата» пришита к ноге. Люди идут пешком, едут на отобранных у немцев фургонах, велосипедах, кабриолетах, колясках. Несколько американских солдат едут на тракторе, они его нашли на дороге, починили, прицепили к нему огромный грузовой фургон. Освобождённые движутся толпами, по 200–300 человек, небольшими группками. Многие идут со знамёнами, многие надели на рукава повязки с национальными цветами. В воздухе колышутся красные советские знамёна, трёхцветные французские, бельгийские, звёздные американские, бело-красные польские флаги; а вот флаги Югославии, Голландии, пестрят сотни цветных повязок. Идут одетые в куртки защитного цвета долговязые, плечистые американские солдаты-десантники, французы в беретах и пилотках, русские девушки в белых платочках, украинские парни в пиджаках, голландец в цилиндре, с бакенбардами, смуглые измождённые итальянцы, закутавшие горло шейными платками, вот чехи в коротких тёплых куртках, польки, поляки. Все они переговариваются на ходу, помогая себе жестами. Вот идут с немецкой каторги русские дети в лохмотьях, ребята в возрасте двенадцати — тринадцати лет. А вот двое солдат с коричневыми лицами, с толстыми коричнево-синими губами. Мы останавливаем их. Они улыбаются, одновременно смущённо и весело. Из их гортанной речи мы улавливаем лишь два слова: Индиан, Бомбей… Но, кстати сказать, в этом великом хаосе народов и языков все каким-то образом понимают друг друга. Мне приходилось видеть, как наш сержант или ефрейтор, знающий, как шутливо говорят здесь, все языки, кроме иностранных, беседует с французским унтер-офицером, либо солдатом, причём собеседники непонятным способом понимают друг друга.
Здесь воочию видишь, что гитлеровская Германия была тюрьмой народов мира. И в эти дни, когда рушатся стены мировой Бастилии, десятки тысяч её пленников выходят на свободу, вновь обретают священные права человека. И вновь, и вновь думаешь о всемирном значении тяжкого и великого подвига нашего народа, нашей армии.
III
Удельный вес подневольного труда иностранных рабочих в фашистской Германии был очень велик. Многие предприятия целиком обслуживались трудом иностранцев. В сельском хозяйстве, в крупных помещичьих имениях работали десятки тысяч батраков и батрачек, вывезенных из Польши, России, Украины, Белоруссии, Чехословакии. Но не только у помещиков работали батраки. Не было буквально ни одного крестьянского хозяйства, где не работало бы два — четыре батрака, привезённых с востока. Сколько сотен раз приходилось мне в немецких деревнях говорить с девушками из Одессщины, Херсонщины, днепропетровскими, киевскими, винницкими, каменец-подольскими, черниговскими. Все они на вопрос: «Где работали?» отвечали: «Робылы у баурив». В сельском хозяйстве работало большое количество несовершеннолетних мальчиков и девочек, насильственно вывезенных с Украины и из Белоруссии. На второй день нашего вторжения в Германию мы видели, как восемьсот советских детей шли по дороге на восток, шли, растянувшись на многие километры, а у дороги, молча, напряжённо вглядываясь в их лица, стояли наши бойцы и офицеры — отцы, искавшие среди идущих своих угнанных в Германию детей. Один полковник простоял несколько часов, прямой, суровый, с тёмным, мрачным лицом, и уже в сумерках пошёл к машине, — не встретил он своего сына.
Труд в сельском хозяйстве был несравненно тяжелей труда в промышленности. Его отличал полный произвол хозяина и хозяйки над жизнью и честью батраков и батрачек. Рабочий день начинался в темноте и кончался в темноте. И хотя, по общему признанию, кормили в деревне значительно лучше, чем в городе, рабочие предпочитали жить в фабричных лагерях, а не у «баурив» в деревнях.
Надо полагать, что рабский труд миллионов иностранных рабочих и явился тем экономическим фундаментом, на котором Гитлер строил в Германии идеологию расизма. И рабочий класс и крестьянство Германии были терроризованы, подавлены, а затем подкупались, обманывались, развращались фашизмом. Но иногда и в деревне мне приходилось слышать о крестьянах, сочувственно относившихся к батракам, ненавидевших фашизм. Однако отдельные случаи эти не имели никакого влияния на террористические законы, управлявшие жизнью фашистской империи.
Если отвлечься от того ужасного, беспросветного рабства, которому обрекли в Германии иностранных рабочих, по сравнению с которыми положение трудовых слоев германского народа является верхом благополучия, то картина жизни самого немецкого народа рисуется в довольно мрачных красках.
Террор, фискальство, доносительство, тысячи немцев, заключённых в лагеря и тюрьмы, казни немцев, недовольных режимом, огромное количество сирот, потерявших отцов, старики и старухи, чьи сыновья убиты на войне (мы часто видели стариков, потерявших на войне 3–5 сыновей), — все это обычные и существенные черты фашистского «парадиза».
Мне пришлось в городке Шверине видеть живших в одной грязной, тёмной комнате 8 стариков в возрасте от 70 до 80 лет. Их сыновья погибли на фронте. Все они в прошлом рабочие. Размер их пенсии ничтожен. Нищета, в которой они жили (один из стариков слеп, двое парализованы), поистине жестока. По отношению к этим старикам, уже никому не нужным, Гитлер не утруждал себя «демагогической заботой».
В Германии увидели мы, какого большого масштаба и какой интенсивности достигла в своей работе «контора» Геббельса, министерство пропаганды, гигантский комбинат демагогии и лжи. Города, фабричные помещения буквально пестрят фашистскими плакатами, дома завалены чудовищно тенденциозными, демагогическими, насквозь лживыми печатными изданиями. Театр, кино, патефонные пластинки вдалбливали, внедряли нацистскую идеологию. Я просматривал в школьных помещениях тетрадки учеников. С самых первых классов почти все упражнения, сочинения, переложения, написанные детским, ещё неверным почерком, посвящены темам войны и нацистским делам. Портреты, плакаты, поучительные надписи на стенах классов — всё это направлено лишь к одной цели: прославлению Гитлера и идей нацизма.
В течение двенадцати лет гитлеровцы кормили, пичкали миллионы немцев своей преступной пропагандой. Теперь немало в Германии юношей и девушек в возрасте 17–20 лег, которые читали одни лишь фашистские книги, брошюры и газеты, слушали одни лишь нацистские речи на собраниях и по радио, ходили в фашистские школы, учились в фашистских университетах, смотрели лишь нацистские кинофильмы, спектакли и прочее.
Надо сказать, что это молодое поколение, вспоённое на идеях гитлеризма, является главной поддержкой фашистского режима. Это молодое поколение наиболее глубоко подверглось разлагающему влиянию в первые годы военных успехов фашистской Германии. И теперь обер-убийца Гитлер и его свора апеллируют чаще всего к немецкой молодёжи в роковые, для себя часы. Мне часто в эти дни приходилось слышать рассказы наших девушек и парней о том, как немецкие школьники задерживали их при попытке бегства из лагеря в лесах и на дорогах, проявляя в этом сыскном промысле поистине удивительное рвение. И, повидимому, в период оккупации Германии придётся затратить немало труда на «безоговорочное» выколачивание из этих голов идей нацизма.
IV
Каковы же те немцы, которых мы увидели сегодня на территории Германии? Когда въезжаешь в немецкий город, то сразу же видишь сотни и тысячи белых флагов. Они вывешены над дверьми и воротами, они висят из каждого окна, форточки, они прикреплены к подоконникам, к ставням. Немцы — мужчины и женщины, старики и молодые — надели на рукава белые повязки. Это заявление о капитуляции. Почему они остались здесь, не ушли с германскими войсками?
Одни на этот вопрос отвечают вполне откровенно: «Хотели уйти, пытались уйти, но не смогли, по дороге нас обогнали советские танки, и мы вынуждены были вернуться».
Другие говорят, что сознательно не хотели уходить, зная, что это ни к чему не приведёт — всё равно, неделей или месяцем позже их настигнет Красная Армия. Третьи говорят, что их пугали трудности эвакуации, им известна судьба беженцев, ушедших в западные районы Германии: они терпят огромные лишения, ночуют под открытым небом, голодают, неделями слоняются пешком по полям и дорогам, не имея приюта и помощи. Наконец четвёртые — это брошенные на произвол судьбы своими близкими и властями, старики, старухи и инвалиды.
Мне пришлось разговаривать с немцами, которые несколько дней тому назад были в Берлине. Действительно, их рассказы о положении в немецкой столице могут отбить охоту у всякого немца пуститься в путешествие. Голод, холод, пожары, бомбёжки, гестаповский террор, ночёвки среди развалин берлинских домов — вот судьба десятков тысяч беженцев, прибывающих «транзитом» в Берлин из восточных провинций Германии.
Здесь, в городах Бранденбургской провинции, мы видели немало немцев, эвакуированных из западных районов Германии, особенно из разрушенных союзной авиацией городов Рурской области. Мы уже писали о заводах и станках, переброшенных немцами с запада на восток и попавших в руки Красной Армии. Теперь мы увидели и тех, кто работал на этих станках или владел ими. Поистине, из огня да в полымя!
Если гражданским немцам говорят о тех огромных разрушениях и страданиях, которые принесла фашистская Германия и её разбойничьи войска в Советский Союз, они подтверждают: всё это им известно, а затем добавляют, что сами-то они не имеют отношения к преступлениям и зверствам, которые творили немецкие дивизии и армии. «Это делали наци, гестапо, эсэс, эсдэ, эса», — говорят гражданские немцы. «Мы этого не делали..» Ну что ж, может быть, это и так.
Но в одном довольно большом немецком городе я присутствовал при регистрации членов национал-социалистской партии, не успевших эвакуироваться по вине наших танков. Их оказалось около 80 человек. Среди них были люди с десятилетним, тринадцатилетним стажем, с весьма определенными заслугами перед фашистским правительством Германии. Были и такие, чьи имена, вероятно, знают Гитлер и Гиммлер. Но оказалось, что и они отрицают вину свою, говорят, что вступили в национал-социалистскую партию по принуждению, под давлением, терпеть не могли режима и с радостью отрекаются от него. Никто из них не согласился принять на себя хотя бы одну стомиллионную долю ответственности за всё содеянное нацистской партией в годы войны. Попался и такой немец, который выезжал с отрядами СС для кровавого подавления партизанского движения в Советском Союзе, для расправы с восставшими против гитлеровских оккупантов советскими крестьянами. Однако и он объявил себя жертвой гитлеровского режима, сказал, что его воля была парализована фашистским террором, и посему ответственности за свои действия он нести не обязан.
Мне думается, я надеюсь, что в определении непосредственных участников фашистских убийств и преступлений суд объединённых наций обойдётся без философских споров на тему о свободе воли. Суд будет правым. Приговор убийцам вынесут именем тех миллионов детей, женщин, стариков, безоружных военнопленных, чей пепел стучит сегодня в сердца красноармейцев.
Сегодня для каждого красноармейца, офицера, генерала великой Красной Армии, победоносно, в жесточайших боях идущей к Берлину, для всех нас, находящихся на германских землях, вопрос об ответственности немецко-фашистских преступников и их пособников встал несколько по-иному, чем он стоял ещё полгода назад.
По-иному потому, что полгода назад это был вопрос духовного решения, вопрос в некотором роде теоретический. Сегодня это вопрос практики, вопрос действия. Сегодня мы в Германии!
Я думаю, решение этого вопроса лежит прежде всего в том, что и сегодня и завтра все духовные силы каждого из нас должны быть собраны, удвоены, полностью мобилизованы для борьбы с немецкой армией. Эта разбойничья армия, прикрываясь, по существу, ложным, фальшивым лозунгом защиты своих территорий, со всё возрастающим ожесточением и вероломством пытается остановить наше победоносное движение. Чувство ответственности перед родиной на последнем этапе войны должно быть поднято на небывалую высоту. Дисциплина должна быть железной. Это необходимое условие победы, это требование нашего великого народа к своей армии. Всякая распущенность, беспечность, разгильдяйство, бывшие недопустимыми, преступными во всё время войны, сегодня вдвойне недопустимы и преступны.
Суд нашего народа над преступниками войны, участниками и подстрекателями убийств, будет суров и беспощаден. Фашистам не помогут крокодиловы слёзы, гестаповцам, эсэсовцам, карателям, нацистам не укрыться ни в каких норах. Суд народов настигнет их и покарает по заслугам. Пусть трепещет тот, кто виновен!
Но Красная Армия, идущая под великими знамёнами славы, чести, свободы, не воюет с детьми, старухами, женщинами, стариками, не воюет с невиновными. Мы определим меру ответственности. Она будет не одинакова для тех, кто с разбойничьим ножом пришёл на советскую землю, расстреливал и вешал, и для тех, кто, оглушаемый террором, покорно работал для Гитлера на заводах, не принимая участия в фашистском разгуле. Красная Армия знает, что в Германии были люди, сидевшие в тюрьмах и лагерях за борьбу с гитлеровским режимом. Красная Армия своим победоносным шествием по Германии определяет день суда над разбойниками, палачами, убийцами. Это будет суд, суровей которого не знал мир. Но это не будет торопливая расправа, в которой может погибнуть невиновный, а разбойник спастись. Пусть и эта надежда на спасение оставит тех немцев, чьи руки в крови, тех, кто подстрекал к великим злодеяниям против человечества приказом, печатным словом, подлой демагогической речью.
Пришло время возмездия. Всё, что награблено, немцы вернут. За всё, что сожжено, разрушено, взорвано, Германия ответит. На этой суровой и честной земле мир для народов мира зиждется не на всепрощении, а на тяжком граните справедливого закона возмездия. Придёт время, когда немецкий народ сможет честно и прямо посмотреть в глаза народам мира, когда в стране чёрного тумана, мракобесия и зла, в стране, где жили законами тьмы, где на стенах написано: «Свет — это твоя смерть!», — люди вновь вспомнят слова, произнесённые перед смертью великим Гёте: «Света, больше света!»
16 февраля
1 Белорусский фронт.
Сила наступления
I
Наступление, начатое утром 14 января с плацдарма на Висле, южнее Варшавы, одно из крупнейших наступлений Красной Армии за всё время войны. Сила, собранная нашим Верховным Командованием на клочке земли, на западном берегу Вислы, была подобна могучей чудесной пружине — быстрый удар её на глубину в 570 километров оказался смертелен для немецких войск. На плацдарме перед наступлением собралось столь большое количество войск и техники, что там буквально стало трудно ходить и ездить: из-за каждого древесного ствола выглядывал стальной ствол орудия. Командиры батарей ссорились между собой из-за места, словно хлопотливые хозяйки в тесной общей кухне. Иногда казалось: вот прибрежная земля осядет под тяжестью тысяч орудийных стволов, складов боеприпасов, тяжёлых танков, самоходных пушек, гвардейских миномётов, военной техники и вооружения всех видов. Здесь, точно в огромном арсенале, наш великий рабочий народ собрал оружие, откованное им в дымных и жарких кузницах Урала, на огромных военных заводах, гремящих день и ночь по всему простору Советского Союза. Здесь сконцентрировался весь технический и военный опыт наших передовых людей. Здесь сжалась пружиной наша воля к победе, наша воля вернуться к мирной жизни. Здесь, на этом клочке земли, была собрана вся сила советского солдата — его грамотность, его техническое умение, его государственный и политический разум — всё, что дала ему пролетарская революция. Этот плацдарм в миниатюре вобрал в себя все особенности и черты нашего народа и нашей армии, стал выразителем нашей силы.
Немцы ожидали наступления с плацдарма, они догадывались примерно и о сроке и о направлении предполагаемого удара. Их нельзя обвинить в беспечности. Они обложили этот плацдарм тремя линиями укреплений, и каждая из этих трёх линий состояла из трёх траншей, отлично оборудованных, соединённых между собой ходами сообщений. Они усилили свои укрепления таким количеством артиллерии, миномётов, двенадцатиствольных и шестиствольных «скрипух», какое редко концентрировали в одном месте на протяжении войны. Они готовили свои войска к этой борьбе, вколачивая в солдатские головы мысль о том, что удар советских армий будет силен и жесток, требовали от каждого солдата полного напряжения сил.
Словом, с точки зрения фашистской армии, немецкие генералы и полковники, коим Гитлер поручил этот участок фронта, поступили вполне обдуманно, сделали всё возможное, чтобы воспрепятствовать нашему успеху, парализовать грозившую им опасность. Как боящиеся наводнения возводят мощную дамбу у берега гневной и сильной реки, так они отделили себя от советской силы девятью траншеями, насыпями, рвами. Как боящиеся извержения лавы стараются предугадать путь её движения и задержать его, так немцы заранее строили мощные рубежи на предполагаемом пути нашего наступления.
И вот пришёл день удара — январское утро, тонущее в белом тумане. Стальная пружина разжалась! Белый густой туман не прикрыл немецкую оборону. Удары артиллерии со снайперской точностью пришлись по намеченным целям. Вся оборона противника, все главные узлы её были изучены не только в своих пространственных координатах, но и во времени. Дело в том, что немецкое командование заставляло в определённые часы суток путешествовать свою пехоту из передних линий траншей во вторые линии, а затем на ночь вновь переводило пехоту в передние траншеи. Артиллерия обрушилась на противника незадолго до начала утреннего перемещения; такого рода удар был наиболее эффективен.
Немецкая пехота очутилась на первой линии своих траншей, точно на наковальне. По этой наковальне со всей яростью и мощью ударил тяжкий молот нашей артиллерии. Следом за огневым валом на штурм пошла советская пехота.
В этом неукротимом, стремительном движении людьми руководили не только смелость, воинское умение, опыт, но и законная жажда завершить победой навязанную нам войну, ускорить день возвращения на родину, вернуть миру мир.
К исходу второго дня, после тридцатичасового жесточайшего боя, все три многотраншейные линии обороны противника были прорваны, его мощная артиллерия изуродована и подавлена. Вечером, в сгущавшемся мраке, в кровавую брешь, прорубленную пехотой, пошли танки.
Этот миг, когда земля и небо дрожат от угрюмого гула моторов, когда все звуки гаснут и тонут, подавленные потрясающим скрежетом и лязгом сотен боевых машин, миг, когда война пехоты и артиллерии точно обретает крылья и стремительно выносится на просторы немецких тылов, бесспорно самый торжественный и радостный в сражении.
В точном определении момента ввода в прорыв танковых масс развития успеха у наших военоначальников сказываются и знание, и опыт, и сила разума, проникающего в самую суть событий и явлений.
Танковые бригады, светя сотнями ярких фар, двумя бесконечными, в десятки километров длины, колоннами ушли во мрак наводить ужас на спящие в тылу немецкие гарнизоны, будить громом своих пушек немецких полковников и генералов, почивавших под перинами в глубоком тылу, косить пулемётными очередями потоки немецких грузовиков, прорываться через линии долговременной обороны, крушить дзоты, захватывать мосты и переправы, рассекать немецкие полки и батальоны, опрокидывать с ходу спешащие на выручку окружённым немцам танки всех видов и мастей, завладевать складами боеприпасов, рвать и резать кровеносную систему, нервную ткань, питательные органы фашистской армии и фашистского государства.
II
Каждое новое наступление, каждый новый удар, нанесённый Красной Армией противнику, имеет много черт сходства с предшествующими наступательными операциями. Характер нового наступления в большой степени определяется опытом, мудростью предыдущих. Но каждое новое наступление имеет свои характерные черты, присущие только ему одному, черты, отличающие его, подчас очень резко, от предшествующих. Естественно, что особенно интересно отметить, выделить эти черты различия. Я, конечно, не могу в какой-либо мере полно перечислить особенности нынешнего наступления, приведшего наши войска на подступы к Берлину. Предварительно можно говорить лишь о некоторых моментах, которые сразу бросаются в глаза человеку, имевшему возможность наблюдать и сравнивать.
Темп наступления от Вислы до Одера оказался выше, чем в известных нам доселе наступательных операциях отечественной войны. Мне запомнилось озабоченное лицо генерал-майора авиации, которого я встретил в начале наступления.
— Моя главная задача — не отстать от пехоты, — сказал он.
Последующие события показали: у генерала авиации были основания беспокоиться, чтобы самолёты и их наземные базы не отставали от движения пехотинцев.
Танкисты ни в одном наступлении не имели такого стремительного, всесокрушающего продвижения. Был день, когда танковая лавина прошла 120 километров. Темп движения стал высшим законом для наступающих войск, всё подчинялось этому закону. Выигрыш часа, получаса, нескольких минут рассматривался как победа, как крупнейший вклад в дело успеха. Танкисты наводили переправы через реки со сказочной быстротой. Бывали случаи, когда переправу осуществляли без мостов: сапёры взрывали лёд, и танки шли по дну, поднимая своими стальными лбами груды льда. Лёд с грохотом рушился, дробился, крошился, танки, как слоны, переплывшие реку, выходили на берег, и ледяная вода потоками стекала с них. Такая переправа давала выигрыш в два-три часа времени. Драгоценные часы! А танки вновь шли вперёд, обсыхая на ветру.
Можно привести много примеров тому, какой стремительности достигло продвижение наших танков. Один из руководителей немецкой авиационной промышленности, предварительно проконсультировавшись у военных властей в Берлине, выехал на автомобиле из фашистской столицы за вещами, оставшимися в городке близ восточного берега Одера. Его уверили, что путешествие это совершенно безопасно, что городок Ландсберг находится в глубоком тылу у немецких войск. Путешествие по отличной дороге заняло меньше трёх часов. Лишь в одном месте путешественнику пришлось задержаться: через дорогу проходила большая колонна танков. Он с удовольствием наблюдал великолепные машины, пересекавшие шоссе. Один из танков остановился, несколько человек сошли с него. Это были советские танкисты.
Аналогичный случай произошёл с немецким офицером, собравшимся поехать в Познань за сигаретами для своей части. Едва он отъехал несколько километров, как был остановлен нашими танкистами. Это прискорбное происшествие произошло в 120 километрах западней той самой Познани, в которую он ехал за сигаретами. Танкисты говорят, что они двигались на запад значительно быстрей тех немецких эшелонов с подкреплениями, которые под всеми парами шли от Берлина на восток.
Этот поистине молниеносный темп наступления рожден, конечно, не только одной лишь волей к победе. Она всегда была сильна в наших войсках! Молниеносный темп определился материальным богатством, невиданной технической оснащённостью, великолепным техническим полнокровием Красной Армии, характерным для нынешнего наступления. В этом наступлении, как никогда прежде, проявилось чувство материального и духовного превосходства, владевшее сознанием наших войск. Это чувство духовного и материального превосходства дало возможность нашим войскам всегда выделять главную, стержневую задачу, пренебрегая побочными препятствиями и трудностями. Это чувство духовного превосходства помогало танкистам безудержно двигаться вперёд, не обращая внимания на крупные силы противника, остающиеся в нашем тылу, не обращая внимания на немецкие крепости и гарнизоны, продолжающие вести огонь, не отвлекаясь главными силами на борьбу с котлами и котелками, неподвижными и блуждающими, а внедряться всё глубже, всё ближе к главным жизненным артериям немецкой армии и немецко-фашистского государства. И, конечно, вскоре сказались результаты столь стремительного наступления. Котлы, оставшиеся в нашем тылу, выкипели до дна, крепости под ударами пехоты и артиллерии одна за другой пали, и огромная территория глубиной в 570 километров оказалась сегодня полностью очищенной от противника в сказочно короткий срок.
Интересно отметить ещё одну характерную для нынешнего наступления черту. Главные операции наших танкистов происходили ночью. Стремительные марши, манёвры, внезапные жестокие истребительные налёты по тыловым гарнизонам, смелые обходы крупных сил противника, уничтожающие удары по обороне, расположенной в глубине, — всё это происходило большей частью в тёмные, туманные ночи, под низкими, тяжёлыми тучами немецкого неба. Эти ночные операции танков оказались исключительно успешны. Танки несли ничтожные потери. Ночной мрак делал их почти неуязвимыми для вражеской артиллерии и для истребителей танков. Эффект же действия самих танков ночью оказывался ещё большим, чем днём. Гром их пушек, разящие пулемётные очереди, гул моторов и лязг гусениц в ночном мраке ошеломляли немцев, сковывали их волю к сопротивлению, вызывали в них смертельный ужас.
Эти ночные действия больших танковых масс родились не случайно. Они — закономерное порождение заключительного этапа войны, этапа, характеризуемого технической силой и чувством полного духовного и материального превосходства нашей армии над фашистской. Ведь эти ночные бои ведутся на вражеской территории, на ночных вражеских полях, на тёмных, узких улицах вражеских городов, среди паутины дорог, во мраке вражеских лесов.
Мы помним наступательные бои, которые вели немцы летом 1941 года на нашей земле, помним, какую неуверенность испытывали немцы ночью, всячески избегая не только стычек, но и самых незначительных передвижений после заката солнца. Мы не боимся ночного мрака на вражеской земле. Ночной мрак не спасает немцев, не укрывает их, не даёт им отдыха после сражений при жестоком свете дня. Мы научились побеждать и днём и ночью.
У поверхностного и неумного человека может возникнуть мысль, что молниеносное наступление наших войск стало возможным лишь потому, что немцы не оказывали ожесточённого сопротивления, не оборонялись на подготовленных рубежах, по «доброй воле» отошли за Одер. Мыслить так — это то же, что строить дом от крыши к фундаменту, или полагать, что сперва появляется яблоко, а из него растут ветви, листья, ствол и корни яблони. Прекрасный плод молниеносного успеха созрел, налился и был сорван нами после великих и тяжких трудов этой войны. Глубоко в землю ушли корни, высоко в небо поднялся мощный ствол великого дерева победы. Народ и Красная Армия потом и кровью взрастили плоды, которые мы пожинаем в эти дни. Ведь было время, когда Сталин, призывая к смертной борьбе с немецко-фашистскими войсками в октябрьскую годовщину 1941 года, сказал народу суровые слова о том, что у немцев в ту пору было больше танков и самолётов, чем у нас, что немецкая армия в ту пору была оснащенней нашей. Знал ли мир борьбу напряжённей и тяжелей той, что вёл советский народ за превосходство в вооружении и в промышленной мощи, за превосходство на полях сражений над фашистской Германией?
Нужно ли перечислять те великие и тяжкие битвы, в которых родилось наше превосходство над немецкой армией? Все мы помним их!
Нашу победу родила Октябрьская революция. Два с половиной десятилетия готовили победу миллионы мирных советских людей. Мы сумели осилить фашистскую Германию, измотать её, нанести ей глубокие, смертельные раны, истощить её, и мы победителями добивает её сегодня лишь потому, что больше четверти века в нашей стране рабочие и крестьяне были хозяевами жизни. Нашу победу ковал народ, её ковали те десятки тысяч сельских учительниц, преподавателей рабфаков, вечерних рабочих школ, техникумов и вузов, учивших миллионы детей рабочих и крестьян, сегодняшних танкистов, шофёров, артиллеристов, миномётчиков, стахановцев-мастеров, техников, инженеров, сегодняшних офицеров и генералов Красной Армии. Представим себе на минуту, что старая царская армия получила бы великую технику наших войск. Где бы нашлись — при сплошной неграмотности и малограмотности в старой России — миллионы людей, умеющих уверенно, властно и свободно управлять чудесными и сложными механизмами танков, зенитных пушек, штурмовых, истребительных, бомбардировочных самолётов? Свет просвещения был принесён в Россию революцией. Советские рабочие построили огромную промышленность, создали могучую технику для колхозных полей и полей оборонительных битв. Тысячи, десятки тысяч светлых голов, обречённых в дореволюционной России на прозябание в невежестве, познали радость творческого труда на нивах науки, вошли как хозяева в университеты, академии, стали управлять могучими заводами, железными дорогами.
И, может быть, только сейчас, стоя под стенами Берлина, оглядываясь назад, мы можем во всём масштабе оценить колоссальные силы, пробуждённые революцией. Вызванные революцией к жизни силы творчества народов Советского Союза решают исход этой войны за свободу нашей земли, войны за судьбы мира. В действии этих сил надо искать решения больших и малых битв отечественной войны. И в действии этих сил объяснение особенностей последнего наступления на Берлинском направлении.
Ошеломляющая мощь удара на глубину в 570 километров, уничтожение армий противника, истребление его техники, проведённые в срок, немногим превышающий две недели, — все это — следствие силы советского народа, Красной Армии, а не слабости немцев либо нежелания немцев оборонять свои решающие, последние рубежи. Неверно, что караси любят, когда их жарят в сметане. Ещё меньше любят жариться на раскалённой сковороде фашистские щуки. И попали они на эту сковороду не потому, что они слабы, а потому, что мы сильнее их.
Укреплённый район, который является главным поясом обороны Берлина, далеко превосходит по мощи линию Маннергейма. Это железобетонный и стальной комбинат, с подземными железными дорогами, с подземными заводами, с подземными электростанциями, с бетонированными шахтами, уходящими на 30–50 метров в глубь земли. Это подземное царство бетона и стали может вместить в себя целую армию. На десятки километров тянется длинная цепь надолб и низких стальных куполов дотов, похожих на торчащие каски ушедших в землю сорокаметровых гигантов. Кажется, нет силы, могущей сдвинуть либо подавить эти вкопанные в землю сорокаметровые чудовища. И всё же наши танки не только сумели обойти этот стальной пояс, но и прорвались непосредственно через него!
Мне пришлось долго беседовать с двумя танкистами, полковниками Бабаджаняном и Гусаковским, осуществившими прорыв этой полосы стратегического прикрытия Берлина. Их рассказ о тактике действия танков объяснил мне «чудо» этого прорыва. В могучей стремительности, в беззаветной смелости экипажей, в гордой, спокойной уверенности в силе и правоте советского оружия, в боевых качествах великолепных машин, в мудром опыте войны разгадка этого победоносного прорыва. Немцы были смяты, дезорганизованы, ошеломлены. Немцы не сумели и не успели привести в действие свою артиллерию. Немцы почувствовали себя беззащитными за полутораметровыми стенами. Немцы не сумели закрыть узкий проход в обороне, повидимому оставленный для контратаки немецкими танками. И по этому проходу для несостоявшейся контратаки состоялась молниеносная, точная и смелая атака танков Гусаковского.
Немцы не успели ахнуть, как танки Гусаковского оказались западней знаменитой стратегической обороны — обороны, на строительство которой ушли долгие годы работы десятков тысяч рабочих, геологические количества бетона и стали. Немцы попытались отрезать передовые танки Гусаковского, но в это время тяжёлое грохотание, лязг и гудение, потрясавшие небо и землю, оповестили их о подходе главных танковых сил соединения. То шёл Бабаджанян.
Надо сказать, не только в рассказе о тактике танков мы нашли объяснение этого успеха. Мы познакомились с биографиями, характерами людей, осуществлявших прорыв. Их ясная простота, их трогательная дружба, их поистине прекрасная скромность, их трудолюбие, самоотверженность, выносливость, их мудрая, трезвая рассудительность, соединённая с безумной смелостью, — все эти духовные черты сыновей советского народа — реальные элементы нашей боевой мощи.
Войска фронта прошли от Вислы до Одера.
Немецкая 9-я армия, оборонявшая Вислу, перестала существовать. В третий раз уничтожили эту пресловутую армию войска 1-го Белорусского фронта. Летом 1943 года она была разгромлена на Курско-Орловском направлении. Летом 1944 года её захлестнуло петлёй окружения на Березине. Зимой 1945 года она была рассечена, раздроблена на Висле, и наши танковые соединения прошли сквозь неё, как нож проходит через кусок воска. В четвёртый раз немецкое командование собрало свои резервы, на этот раз, повидимому, последние, спешно перебросило горноегерский корпус из Югославии, выдвинуло запасный берлинский армейский корпус и вновь созданному соединению, в четвёртый раз, повидимому в последний, присвоило название — 9-я армия.
В четвёртый раз назначен новый командующий этой армией, — повидимому, это будет последний её командующий, барон фон Люттвиц.
Мы помним её злополучных командующих — Моделя, фон Бока, Фромана. Фон Люттвиц торжественно объявил по армии, что его девизом является:
«Всегда впереди своих войск. Я руковожу только тогда, когда нахожусь впереди».
Девиз хорош, но беда для немцев в том, что армии их стремительно движутся не на восток, а на запад, и, повидимому, Люттвиц хотел предупредить своих офицеров и солдат, что он будет передовым в этом движении с востока на запад.
Есть все основания думать, что предстоящие бои будут последними боями этой войны. Мы стоим на Одере, на подступах к Берлину. Мощные оборонительные сооружения остались на восток от нас. Судя по старцам из берлинского фольксштурма, захваченным в плен, Гитлер мобилизовал без остатка все свои резервы. Судя по десяткам и сотням самолётов, захваченным на аэродромах без горючего, дела с бензином обстоят катастрофически плохо. Красную Армию отделяют от союзников всего лишь пятьсот с лишним километров. Взаимодействие армий, идущих на Германию с востока и запада, стало реальностью. Я видел, как высоко в небе разворачивались над Одером десятки «летающих крепостей», заходя на Берлин с востока. В деревнях и городах по берегу Одера слышен глухой, низкий гул, когда союзная авиация сбрасывает бомбовый груз на фашистскую столицу…
Да, по всему судя, это последние бои. Но эти бои не будут лёгкими боями. Немцы стянули и стягивают на восточный фронт свои главные силы. Они мобилизовали в пехоту моряков, лётчиков, офицерские и юнкерские школы, отряды СС, отряды нацистов. Они перебрасывают одну за другой пехотные и танковые дивизии с западного фронта. Они стянут на восток всё что могут из Норвегии и Италии. Наряду с унынием, охватившим широкие массы Германии, пробудилось последнее исступление нацистских кругов. Палаческая дисциплина Генриха Гиммлера, ставшего во главе армии на узловом участке фронта, заставит всех недовольных и отчаявшихся слепо подчиняться приказам гитлеровской ставки. Гитлер пойдёт на любые, самые вероломные, средства борьбы.
Эти бои будут нелёгкими боями. Но есть ли человек в мире, сомневающийся в их исходе?
Эти последние, решительные бои принесут победу, мир и счастье советскому народу и народам всего мира!
Примечания
1
Для нас осталась только Треблинка, это наша судьба.
(обратно)2
Я сорвал цветочек и подарил его любимой красотке…
(обратно)3
Внимание! Шапки сиять!
(обратно)4
Выходите все!
(обратно)



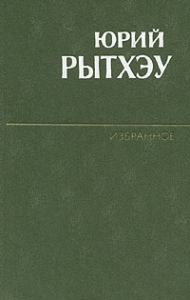
Комментарии к книге «Годы войны», Василий Семёнович Гроссман
Всего 0 комментариев