აკაკი ისმაილის ძე გეწაძე ყარამან ყანთელაძის ცხოვრეგის მხიარული და სევდიანი ამგეგი (რუსულ ენაზე) Акакий Исмаилович Гецадзе Весёлые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе Перевод с грузинского Л. Баазовой и Э. Нейман Редактор Г. Семёнов
Часть первая Жизнь уходит, жизнь приходит
Запоздалое рождение и жалобы виновника торжества
Да, дорогие, ваша правда, имя моё, пожалуй, стоит целой жизни: Ка-ра-ман! Хотя, что уж тут говорить, — человек украшает имя, а не имя человека!.. Верно и то, что прозвищ у меня великое множество: чего-чего, а этого богатства мне не занимать! Впрочем, на земле, наверное, не найдётся человека, которого бы его близкие не окрестили на свой лад. А уж меня-то!.. Пересчитать все эти прозвища — не хватит пальцев на руках и на ногах: и горемыка я, и злосчастник, плутишка и пройдоха, счастливчик, болтун, мудрец, ветрогон, пустозвон, чёрт паршивый, ангелочек… бог весть, сколько их там. Но, положа руку на сердце, так ведь и было на самом деле: одни считали меня ангелом, другие — чертякой и плутом. Вообще-то, чего греха таить, так оно и было, а потому я помалкивал и не отбрыкивался от всех этих прозвищ. Ах, да, чуть не забыл! Ещё называли меня наоборот родившимся. Но тут уж я — извините, ни в какую! Это последнее прозвище я не подпускал к себе и на расстояние ружейного выстрела. Известное дело, кто всегда со всеми соглашается, у того, значит, мозги не в положенном месте. Вот я и показал себя: задрал голову, гордо повернулся к народу и зычно гаркнул:
— Эй, вы, там! Сами вы наоборот родились! Ну и что ж, что я не головой вылез на божий свет? Лучше-ка ответьте мне, разве кто-нибудь ходит головой по земле? А? То-то же! Вверх ногами! Вот и перестаньте болтать!
После этого все словно языки проглотили! И вокруг меня тишь да гладь. Надоедливые сверчки — и те притаились. А я тут обрадовался и ещё больше взъерепенился:
— Запомните, братцы, я прыгнул на землю ножками да так и проходил по ней всю жизнь, намотайте себе это на ус! — И всё!
Ни одна живая душа не говорила мне больше об этом. Ну, а насчёт ножек, сами понимаете, сболтнул я ради красного словца. Дело в том, что две бабки-повитухи с трудом выволокли меня на свет. Оказывается, моя матушка девять лет не могла родить ребёнка, а дед Нико изгрыз с горя девять превосходнейших кальянов: как же — семейный очаг остывает!
И наконец случилось чудо: надежда и радость семьи росли вместе с животом матери, а вскоре родители забрали её к себе домой рожать. К исходу девятого месяца, это было в конце августа, под нашим раскидистым орехом был накрыт пышный стол. За ним собрались дед Нико, мой отец Амброла, бабка Гванца и дядя Пиран; сидят они так, угощаются разными яствами и ждут вестника радости. Тамада уже из кожи вон вылез, а того всё нет и нет. Ради такого праздника в погребе открыли непочатый чан, но ему долго пришлось стоять с разинутым ртом в ожидании своего часа.
Все уже устали глядеть на дорогу. Бабка Гванца каждый день с раннего утра пекла пироги и каду, варила ветчину и держала наготове в курятнике цыплят. Но весь урожайный месяц моим дорогим родственникам пришлось-таки провести под орехом. Постепенно деревья потеряли листья, а солнце тепло, пошли дожди, и стол перенесли на балкон. А вскоре совсем похолодало, стол внесли в комнату и поставили возле огня, а гонца всё нет. У отца моего лопнуло терпение, он, грешным делом, подумал, не обманула ли его жена. Засунув за пояс длинный кинжал с чёрной рукояткой, отец вскочил на жеребца и отправился к тестю.
Привязал жеребца к забору, а сам тихонечко подкрался к дверям: оттуда слышался тихий стон. Лицо его прояснилось, он заулыбался и подумал: хорошо, удачно попал: вот-вот разрешится! Ошалев от радости, отец с шумом распахнул дверь, но… Не тут-то было! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Смотрит — отяжелевшая супруга его важно восседает на старой тахте, тёща преспокойно шерсть чешет, а тесть прикорнул у камина и мирно посапывает. Старик, оказывается, приболел и оттого постанывал во сне. Всё стало понятно отцу, и он, начав было не на шутку тревожиться, успокоился и уехал домой.
Конечно, я немного запоздал со своим рождением, и родителям моим пришлось повременить с крестинами, но, клянусь вам, медлительность и степенность, свойственные рачинцу, здесь ни при чём. Родители во всём виноваты. Случилось так, что тем летом сосед наш заколол буйвола. Отец взял да и приволок домой огромный кусок мяса, а матушка поспешила его отведать. А если женщина на сносях ест буйволиное мясо да ещё досыта, до отвала — что из этого получается вы сами знаете: с родами она не торопится. Как видите, лишь одному легкомыслию своих родителей обязан я тем, что запоздал с рождением на целых три месяца и вместо отпущенных мне девяти пробыл в чреве своей родительницы, как и положено буйволёнку, добрых двенадцать. А матушкино обжорство привело к тому, что с самого же начала я заимел присущие воловьему роду качества: такие, как терпеливость и неповоротливость.
Девочка, созданная богом, и вылупившийся из яйца мальчик
Когда мне исполнилось шесть лет, я стал уже что-то соображать и однажды спросил отца:
— Па, откуда я появился?
«Па» чесанул себе затылок, сморщил лоб и ласково ущипнул меня:
— Откуда? Да оттуда… Откуда все остальные, проказник ты этакий!
— Откуда это «оттуда»? — не унимался я. — Скажи, а если не скажешь, то…
Я вспомнил, что отец не разрешал мне ложиться в его постель — я всегда спал с дядей, — и выпалил:
— Вот, возьму и лягу в твою кровать и больше оттуда не встану.
Это несколько озадачило его, он снова почесал голову и промямлил:
— Откуда ты появился?.. Э-э-э… как там его…
В это время взгляд его упал на пёстрый хурджин, который накануне мой дед, возвратившись с базара, запихнул под топчан.
И, обрадовавшись, отец воскликнул:
— Я тебя в городишке Они на ярмарке купил и принёс домой в этом хурджине!
— Вроде того как дед вчера белого гуся?
— Во, во!
— А голова моя тоже торчала из хурджина?
— Голова? Гм!.. Да, кажется, торчала.
Я заметил в голосе отца некоторую растерянность, и это меня насторожило. Поэтому на второй день я пристал уже к матери:
— Мамочка, как я появился на свет?
Мать чмокнула меня в лоб и тут же, не раздумывая, сказала:
— С неба ангелы принесли, лапочка.
— А папа сказал, что меня на ярмарке в Они купили?! — удивился я.
— Вот именно! — не растерялась мама. — Когда ангел пролетал над Они, ты, оказывается, сидел у него на правом крылышке. Ну, а ты ведь с самого начала был шалунишкой: увидел на базаре румяные яблочки и свалился на них. А тут тебя лавочник — хвать и подобрал. Но у него дома было уже двое таких ребят, вот он тебя и продал за золотой рубль.
Это тоже показалось мне подозрительным.
Тогда я решил обо всём расспросить деда.
— В поле нашли, — сказал дед. — Во время пахоты увидели тебя, ты сидел на бугорочке, я тебя сразу и схватил. Кто же отпустил бы такого мальчика!
А бабка сказала:
— Тебя нашли в гнезде у орла.
— А как я туда попал?
— Э-э… из яйца вылупился.
— Как цыплёнок?
— Нет. Цыплёнок вылупился, а ты вслед за ним погнался и схватил его за ножку, вот!
— А-а!
Дядя Пиран сказал:
— Я подстрелил в лесу оленя, а ты у него на рогах сидел.
Это сначала мне понравилось: я был страшно польщён — а вдруг я олений сын! Но, поразмыслив, сообразил, что все они старались что-то скрыть от меня.
Любопытство совсем меня одолело, и я решил во что бы то ни стало раскрыть тайну моего появления на свет. Далеко за этим ходить не пришлось, мой дружок Кечошка был моим соседом. Я залез на плетень и позвал:
— Кечо-о-о!
Но он не появлялся, и я снова заорал.
— Кечошка-а! Кечули-и! Я же знаю, что ты до-ома! Выходи-и!
Наконец открылась дверь и во двор вышел конопатый мальчишка с непомерно большой головой на тонкой шее. Он что-то жевал, и щёки его были вымазаны красной фасолью.
— Чего тебе? Наверное, хочешь в речке искупаться? Я пока занят, мать дала мне вылизать большой горшок…
— Да нет же! Иди сюда, я тебе что-то скажу на ушко.
— Знаю я твоё «на ушко»! Заорёшь в ухо!
— Нет, клянусь мамой, я потихоньку.
Ну раз уж я поклялся — пришлось ему поверить, он нехотя подошёл к плетню и сунул мне под нос своё ухо, величиной с тыквенный лист.
— Слушай, глупая башка! Знаешь, как ты на свет появился?
— Откуда же мне знать?
— А я знаю, дед купил меня на базаре за золотой рубль.
— Ого! Правда?
— А то нет! Потому-то и зовёт меня мама «золотой мой мальчик».
— Ну и что! Моя мама тоже один раз сказала мне: — Золотой мой, сбегай, принеси воды!
— А может, и тебя купили?
— Спросить?
— Давай!
Кечо рысцой бросился в дом, но вскоре вывалился оттуда насупленный. Вид у него был такой, что, казалось, вот-вот расплачется.
— Ты чего это?
— Того… папа сказал, я, говорит, тебя не покупал… Откуда, говорит, у меня деньги… я сам тебя сделал… — слёзы помешали ему договорить.
— Ну и чего ты ревёшь? Просто твой отец бедней моего, — утешил я его.
Но это не помогло.
— Я не золото-ой ма-альчик, а-а-а! — плакал он, и слёзы величиной с горошину катились у него по щекам.
Я смотрел-смотрел на него и вдруг увидел, что нос у него кривой.
— Что же, если отец тебя сам сделал, не мог он тебе поставить голову поменьше и нос поровнее? — упрекнул я его отца.
— Нос он мне ровный сделал, а я вывалился из люльки и сломал его, — вступился сын за отца.
— Так у твоего отца точно такой же нос, значит, он тоже упал из люльки?
— Ты что? Разве он поместился бы в колыбели? Когда он спит, у него ноги торчат с топчана, и мама даже вешает на них что-нибудь. А нос свой он прищемил в дверях.
Я поверил, но не переставал удивляться, как это Лукия умудрился вылепить сынка так, что они как две капли воды похожи друг на друга. Кечо был вылитый отец, только без бороды и усов. Я уже собрался было слезть с плетня, когда увидел, что по дороге идёт дочка попа Кирилэ, Гульчина, в голубеньком платье и красных сандалиях. В руках у неё был длинный прут, которым она погоняла взъерошенных гусей. Я мигом перемахнул через ограду и как разбойник преградил ей путь. Гульчина была всегда гладко причёсана, и я с особым удовольствием трепал её аккуратно заплетённые косички. Она и теперь испугалась, что я схвачу её за косы, как за вожжи, и погоню, как лошадку. Потому-то она и шарахнулась от меня и, перебежав на другую сторону дороги, замахнулась прутом.
— Не смей подходить, Караманика, не то…
Гуси всполошились, забили крыльями, но взлететь не смогли, а только шумно загоготали, вытянув шеи. Увидев, что она испугалась не на шутку, я успокоил её:
— Не бойся, Гульчина, я тебе ничего не сделаю, ты только ответь мне на один вопрос.
Убедившись, что я не замышляю ничего дурного, она опустила прутик и уже миролюбиво спросила:
— Ну, чего тебе?
Я почесал голову и спросил:
— Послушай, Гульча, откуда ты появилась?
— От бога.
— От какого бога?
— Который на небе. Не веришь — спроси у моего отца.
— Ну да! Он мне уши надерёт.
— Не бойся, если ты меня не обидишь, он тебя не тронет.
Гульча была миленькая девочка, у неё были красивые чёрные глазки и длинные, как дуги, брови, румяные щёчки и алые, словно спелая малина, губки. Тогда я ещё ни черта не смыслил в женской красоте, но её лицо навсегда таким осталось в моей памяти, тут уж ничего не поделаешь.
Накануне моя мама говорила, что красивый человек создан самим богом, и теперь, глядя на Гульчину, я вспомнил это, мысленно согласился, но и позавидовал немножко. Было обидно, что меня-то не бог создал. Мне стало жаль себя, и я чуть не заплакал, но вовремя вспомнил назидание своего дядюшки, что истинному молодцу не к лицу слёзы. Не хватало, чтобы Гульчина это заметила. Разочаровавшись во мне, она перестала бы меня уважать и бояться. Каково бы мне было? Я, конечно, ещё не разбирался во всех этих делах, но чувствовал, чем это могло бы обернуться. Потому я и крепился, что было сил, чтоб ни одна капля из глаз не вылилась.
Не сразу сообразив, что ей ответить, я только и сказал ей:
— Врунишка ты, врунишка!
— Почему?
— Знаешь, что я у отца твоего спрашивать не стану, вот и обманываешь меня.
— Тогда спроси у моей мамы.
— Не хочу!
— Что же мне делать?
— А ну покажи мне, где этот твой бог? — воскликнул я внезапно.
— Где… там! — показала она на небо.
— А в небе и ангелы летают.
— Ну и пусть.
— А меня ангелы принесли… Думаешь, я хуже тебя? Вот!
— Мне-то что! — равнодушно передёрнула она плечиками и снова погнала пред собой галдящих гусей.
Но мне не хотелось, чтоб она уходила победительницей, и я закричал ей вслед:
— Постой! А откуда бог появился?
— Чего?
— Откуда бог появился?
Она сначала растерялась, открыла рот и вылупила на меня глаза, но потом, взмахнув прутом, нашлась:
— Это ты у моего отца спроси, — и пошла вприпрыжку своей дорогой. Вот теперь-то я заставил её сбежать. Теперь мы были квиты, но несмотря на это, червячок сомнения грыз меня. Мрачный я вошёл во двор и снова пристал к матери:
— Мамуленька, а кто же создал ангелов?
— Ангелов? Бог, сынок!
— Правда?
— Вот вырастешь — узнаешь.
Я обрадовался, окрылённый вылетел на улицу, догнал девочку и крикнул ей:
— Гульча! Гульчина! Мама сказала, что ангелов тоже бог создал!
— Знаю. Папа меня всегда ангелочком называет.
— Тебя? Ангелочком? — Теперь я посмотрел на неё совсем другими глазами. С этой минуты ангелы представились мне хорошенькими девочками в голубеньких платьях и красных сандалиях. Я даже ухмыльнулся, но вдруг вспомнил, зачем я побежал за ней, и беспечно махнул рукой: — Зовёт и пусть себе! А я тебе совсем о другом хочу сказать: если бог создал ангелов, а ангелы меня, то всё равно выходит, что бог меня создал!
— Подумаешь, большое дело! — пренебрежительно ответила Гульчина, и мы расстались.
Я чувствовал себя посрамлённым. Когда я узнал, что в моём появлении замешан бог, то летел как на крыльях, а теперь был похож на несчастного мокрого цыплёнка. Меня сильно задело, что Гульчина встретила эту весть равнодушно и не разделила моей радости.
В другое время я бы вцепился ей в волосы и хорошенько поколотил бы, а теперь еле сдерживался, чтобы не расплакаться.
Разве я знал, что дома меня ждало ещё большее разочарование!..
Когда я вернулся домой, отец решил поднять на чердак огромное бревно и попросил мать помочь ему. Подложив под оба его конца палки, отец начал поднимать бревно. Мать не выдержала, палка, которую она держала, выскользнула из её рук, и бревно свалилось на землю, едва не сломав ей ногу.
— Ты, мать, жива? — бросился к ней перепуганный отец.
— Спаслась! Спаслась! — ответила побледневшая мама, присела на бревно и вытерла косынкой выступивший на лбу пот.
Увидев, что беда миновала, отец взбесился:
— Да что ж ты такая бестолковая и дохлая!
— Здравствуйте! Думаешь шутка выдержать эту тяжесть? Нашёл богатыря!
— Думаю… не думаю… а, ух! И на кой только чёрт бог создал женщину!
— Скажи, пожалуйста! А как бы ты появился на свет?.. Или твой сыночек? Может, ты думаешь, что Караманчика нам и вправду с неба сбросили, — засмеялась мать.
Я стоял за стеной амбара и всё слышал. Э-эх! Хоть бы я оглох тогда! Меня словно холодной водой окатили. Я понял, что ни сам бог, ни ангелы не имели ровно никакого отношения к моему появлению на белый свет. Более того, я смекнул, что этим богом и ангелом и была та, которой только что бревно чуть не сломало ногу. Я страдал и сокрушался оттого, что все жестоко обманывали нас, детей, — отец, мать, бабка, дед, дядя и даже поп Кирилэ, которого в деревне называют самым святым человеком. И выходило, что самым честным из всех был отец моего дружка Кечо: он-то не скрыл от сына правды.
Итак, недолго парил я орлёнком в небе, пришлось спуститься на землю. Как горька иной раз бывает правда! Хоть бы ещё два годика потешиться сладостными мечтами, прогуливаясь по небу вместе с Гульчиной!
Да к чёрту всё! Что было, то было! Ни кувшина разбитого, ни сердца не исцелить. Отчаиваться из-за этого не следует. Ну и что ж с того, что я стал человеческим сыном? Правда, если бы спросили у меня, я бы, конечно, выбрал себе в родители бога и ангелов, но ведь на свете ничего не делается по нашему хотению. Эх-ма!
Гроб и колыбель
В день моего рождения в материнский дом пришли двое братьев. Один принёс колыбель, другой гроб, — так радость и горе впряглись в одно ярмо. Смерть и жизнь, взявшись за руки, вместе вошли в маленький домик. В тот день, когда я родился, мой дед Караман испустил дух. Моя бабушка Тапло, сидя на полу, одной рукой обнимала гроб, а другой держалась за колыбель. Народ притих, все решили, что она вот-вот распустит волосы и начнёт вопить, но бабушка вдруг бодро закричала:
— Люди! Не надо слёз, не то ещё горе к ребёнку перейдёт! Что плакать-то: один ушёл, другой пришёл!
Прийти-то я опоздал на добрых три месяца, но зато вовремя попал.
Дай бог всякого благополучия нашему доброму соседу: ведь это он заколол буйвола и угостил мою мать. После смерти своего отца она должна была бы надеть чёрное платье, но моё рождение помешало этому. Ведь, коли женщина качает люльку, то ей негоже рядиться в траур. А тут не только мать, но и сама бабушка Тапло не надела чёрного. Так по бедному моему деду Караману не носили траура да и не оплакали его, как следует.
Одним словом, моё появление облегчило горе деревни, развеяло печаль домочадцев, размыло потоком пиров гору скорби и утешило близких.
— Славный мальчуган, — сказал тот, кто принёс колыбель.
Но второй, который принёс гроб, возразил:
— Он похож на неспелую айву! Что ты нашёл в нём хорошего?
— Как тебе не стыдно! — заступился за меня первый. — Ну и что, если ребёнок покрыт пока пушком? А то, что он осушил в семье и деревне слёзы, этого тебе мало? Такая кроха столько добра принесла, а подрастёт, то ли ещё будет?!
Оказывается, все только и делали, что целый месяц хвалили меня, вот это, мол, ребёнок, утешитель, если все так будут рождаться, то на земле навечно будет уничтожено горе.
— Знает парень своё дело! Ха-ха-ха!
И имечко само далось в руки: один Караман ушёл, другой пришёл, — ожил корень поваленного дуба!
А утешитель, запретивший плач и рыдания, сам всё время, пока не похоронили деда, без устали плакал. Ближайший сосед наш Олифантэ сказал:
— Ой, господи! Не успел парень на свет появиться, ему подсунули мёртвого деда… Ясно, что он будет плакать, не застольную же ему петь! Только подумать: младенец, а сердцем истинный грузин!
На что брат его возразил ему:
— Да он не деда оплакивает, а мертвеца испугался, вот и ревёт с перепугу. Смотрите — плачет, а слёз нет.
— Так они у него ещё не успели появиться. Чего у человека нет — того нет, — оборвал его Олифантэ.
Но то, что сказал деревенский староста, совершенно обескуражило и того и другого:
— Вовсе он и не по деду, и не с перепугу плачет. Ребёнок жаждет славы и хочет возвестить всему миру о своём появлении. Достойно, мол, меня встречайте!
Эх! Не будь я тогда глухим, слепым и немым, я бы всем троим глотки заткнул. Уж вранья-то бы не стерпел. Я ведь и не мыслил тогда о таких вещах, как слава, почёт — чихать я на это хотел. Потому что знал: урожай всегда поспевает в свою пору. Если только судьбе будет угодно, она и имя даст, и в уважении не откажет. Смерть деда меня не заботила, да и страху я никакого не испытывал. Клянусь вам, совсем другое меня беспокоило. Были бы живы сейчас моя мать и те обе повитухи, уж они-то вам подтвердили бы, что я совсем не хотел родиться. Ещё бы, целый год — все двенадцать месяцев, сидел я себе преспокойно в тепле, в чреве родной матери, а когда меня-таки насильно выволокли в этот холодный мир, то, понятно, стал я плакать, не в пляс же мне было пускаться от радости!
Можете попробовать: выгоните ребёнка в мороз из тёплой комнаты на двор, и если он не заплачет — отрежьте мне правый ус!
В одном только был прав брат Олифантэ: я действительно плакал тогда без слёз.
Лишь через месяц захлопал я ресницами, но весь мир показался мне окутанным туманом, кособоким и кривым. Вот тогда-то и пустил я впервые слезу по-настоящему: разве, мол, исправишь его! Почему-то я считал это только своей заботой.
Но, когда отец повёз меня из материнской деревни в свою, я уж разглядел всё вокруг.
Вот как это произошло.
В один прекрасный день к бабушке Тапло приехал на лошадке в гости зять. Перед лошадью плёлся мул, навьюченный хурджином с подарками. У нас это издревле повелось: женщина рожала у своих родителей, после рождения ребёнка ей преподносили подарки.
Мой отец тоже решил не ударить лицом в грязь и предстал перед тёщей с дарами.
Накрыли на стол.
Отец навёз столько всякого добра, что и меня благословили и ещё осталось, чтоб на сороковой день справить поминки по деду. И на сей раз отмечали печаль и радость вместе. Позднее, когда я подрос, я уж точно уверился в том, что жизнь и смерть, смех и слёзы, отчаяние и надежда всегда неразлучны, что жизнь не может существовать без смерти, как и смерть без жизни, что испокон века несутся они в одной упряжке…
Как только убрали со стола, мать оделась потеплее и села на лошадь с приготовленным для неё удобным седлом. Меня же положили в люльку и так крепко перепеленали, будто разбойника связали и боятся, как бы он не удрал. Потом отрядили мула и крепко привязали к нему верёвками хурджин. Правый глаз хурджина был пуст, зато из левого выглядывал жирный розовый поросёнок. Он был живой, страшно визжал, словно хотел остаться и, кажется, пытался даже выскочить. Что же касается моей люльки, то она была водружена на мула таким образом, что голова моя оказалась рядом с его хвостом. Так подошли мы к скалистой горной тропинке: впереди осторожно ступал конь, за конём шёл отец, державший в руке уздечку мула, с одного бока покачивался я, с другого — подаренный мне мокроносый поросёночек. Мул тяжело ступал, а я так важно раскачивался, словно ехал в царском паланкине. Временами поросёнок пугался и взвизгивал, а я ни разу не запищал. Дорога была неровная и извилистая, но мне-то что было до этого: я полёживал себе на мягком тюфячке и широко раскрытыми глазами глядел на чудеса света. Любознательность не давала мне покоя, и я боялся закрыть глаза хоть на минуту.
Словом, я спускался с гор, оставляя за своей спиной неприветливую зиму. Навстречу мне двигалась весна. Солнце слепило глаза, и я не понимал, чего ему от меня надо.
Наверху дремали пушистые облака, покойно было и на небе и на земле.
Меня никто не встречал с цветами в руках, хотя кое-где уже виднелись цикламены. В тот день я впервые услышал и щебетание птиц.
Мне очень хотелось высвободить руки из пелёнок и схватить какую-нибудь птичку или поймать солнышко и, подобно запретному плоду, сунуть его в свой беззубый рот, но меня так крепко связали и так долго качался я в тот день, что не смог шевельнуть даже пальцем. Если бы не это, кто знает, может, я и на самом деле погубил бы мир — сорвал бы с неба солнце… Но… спасибо бабушке Тапло, это она так хорошо меня запеленала. За такую услугу человечество смело может поставить ей памятник величиной с гору!
Домой мы прибыли благополучно.
Это было моё первое путешествие. Если правду говорят, что первое, с чем повстречаешься, прилипает к тебе на всю жизнь, то у меня от путешествия на муле в соседстве с поросёнком должны были остаться упрямство и обжорство.
Ободранный барсук и сосед-самодур
К тому времени мой дядя Пиран уже успел вкусить сладость охотничьих успехов. Узнав, что племянника везут домой, он решил встретить его не с пустыми руками. Зарядил своё ружьё и сунулся в лес в надежде подстрелить в честь маленького удальца хотя бы паршивого зайчишку. Не успел он подняться в гору, как его собака вспугнула зайца. Косой мгновенно перебросил уши за спину и пустился наутёк. Но дядя не растерялся, преградил ему путь, прицелился и выстрелил.
— Бууух! — грянуло ружьё.
— Ууух! — отозвались лес и скалы.
Дядя Пиран не знал, попал ли в зайца, но увидел, что тот, покатившись с крутой скалы, угодил прямо в ручей. Дядя спустился туда, но собака опередила его и оставила от зайца лишь одни задние лапки. Смущённый охотник решил было, что пулей оторвало зайцу эти лапы, и тот удрал без них, но потом увидел, что его хвалёная собака облизывается и со злостью пнул ногой прожорливого пса. С пустыми руками поднялся он по лесистой горе, не поискав даже изодранной заячьей шкуры.
Так первая охота в мою честь обернулась для меня дурным предзнаменованием: убитый дядей заяц достался собаке.
Но дядя Пиран охотился не только с ружьём: он отлавливал зверей силками.
Поднявшись в гору, он вспомнил об одной своей ловушке и направился к ней. Подойдя близко, он увидел, что в неё попал короткохвостый барсук с маленькой головкой. Барсук таращил глазки и скалил острые зубки. Дядя бухнулся на колени, воздев руки к небу и вознёс благодарение богине охоты. Он отвязал капкан и поволок его за цепь. Барсук изо всех сил грыз железные прутья, но что толку, ведь капкан, слава богу, не кукурузный початок. Придя домой, Пиран повесил барсука на тугой ветви вверх ногами. Как раз тогда, когда мы ступили во двор, он содрал с него шкуру и не удержался от удовольствия припомнить барсуку его прошлые преступления:
— Вот так-то, милый! Помнишь, как ты у меня кукурузу слопал!
Наконец, покончив с барсуком, он бросил барсучью шкуру на телегу, срубил ветку топором и несчастный барсук забился на земле. Но вдруг… приподнявшись, барсук поплёлся к телеге, где валялась его шкура. Наверное, замёрз и решил снова надеть её на себя. Возле телеги — петух со шпорами обхаживал знакомую хохлатку и грозно поводил глазами. Увидев вдруг перед собой странное существо, петух с перепугу взмахнул крыльями и вылетел со двора.
Барсук, шатаясь, ступил ещё шаг и грохнулся наземь, так и не добравшись до своей шкуры.
Глядя на его окровавленное тело, отец сморщился и с отвращением сплюнул.
— Что, противно? — спросил дед.
— До тошноты! Такого я в своей жизни ещё не видывал, тьфу! — плюнул он снова и, повернувшись к мулу, стал отвязывать люльку.
— Противно, да? — повторил дед. — А знаешь ли ты, что пока тебе недели не исполнилось, ты был точно такой же, как этот ободранный барсук, и я до тебя не мог даже дотронуться. А потом привык и стал целовать в запрещённые места. Так-то оно, сынок. Ещё плюнешь?
Отец смолчал, хотя заметно было, что эта новость нисколько его не обрадовала.
Теперь дед повернулся к охотнику.
— Безбожник ты! Как же можно, не убив зверя, сдирать шкуру?
Дядя ничего не ответил, только передёрнул плечами.
— Или, может, он воскрес, когда ты начал сдирать с него шкуру? — допытывался старик.
— Так я его по башке раз девять стукнул деревянным молотом, что же мне ещё было делать? Не резать же его как курицу! Ну, думаю, последний дух из него выйдет, когда я шкуру сдеру, — оправдывался дядя Пиран.
— Как же так? — вмешался отец. — Шкуру ты с него содрал, а он живым остался? Чудеса прямо! О, боже, что за странного зверя ты создал!
— Не удивляйся, сынок, — проговорил дед. — Подойди поближе, я тебе шепну, чтоб никто не услыхал… Мы, люди, гораздо выносливее… Власти каждый день сдирают с нас по девять шкур, а мы, как видишь, всё ещё на ногах, и передвигаемся. Куда там барсуку до нас…
Итак, застав во дворе такую картину, я, впоследствии, на себе испытывал её результаты: бог наградил меня терпеливостью и выносливостью барсука…
В тот же вечер наша семья закатила пышное празднество. Это был уже не тот стол, что по вине буйвола дожидался гостей целых три месяца!
В комнате поставили длинные лавки, дед заколол старого быка и послал дядю в деревню приглашать: с каждого двора по человеку. Все с радостью приняли приглашение, но заважничал наш ближайший сосед, отец Кечошки — долговязый Лукия.
— Подумаешь! — пожал плечами дед. — Если мой потолок слишком низок для этого дылды, то — пожалуйста!
Однако всё же решил ещё раз послать за соседом.
Дядя долго просил и умолял его прийти, но тот ни в какую.
— В чём дело, дружище? Разве мы тебя обидели? Как же так? У твоего Кечо родился дружок, а ты не хочешь благословить его? Что народ скажет? Пойдут пересуды, он, мол, не рад счастью соседа! — стыдил упрямца дядя Пиран и вдруг спросил его:
— А может, ты и в самом деле не рад?
— Пусть завтра эта земля поглотит того, кто не рад вашему счастью!.. Вот только в компанию я не пойду, не люблю я этого, и не проси больше. Всё! Я хозяин своего слова! — уселся на осла Лукия.
— Но почему? В чём дело? — не унимался дядя.
— Да в том, — признался наконец Лукия, — что не люблю я этого. Ну откуда же я знаю, каким вырастет ребёнок, хорошим или плохим? Может, станет отъявленным мерзавцем? А мы должны праздновать? Вот когда человек пройдёт свой жизненный путь, постареет, тогда и празднуй, поздравляй его с днём рождения, пожалуйста!
Дядя вернулся, и рождение моё было отпраздновано без участия нашего ближайшего соседа, но народ этого долго не забывал.
Позже я поразмыслил над словами Лукии. «Может, он и прав?» Сомнение грызло моё сердце до тех пор, пока не познал я вкуса весёлых пиров. А уж тогда, конечно, я целиком взял сторону дяди.
Ведь, в конце концов, появление человека на свет — величайшее событие, так отчего же его не праздновать? И потом, если постоянно обдумывать, будет от чего-либо весело или нет, то так никогда и не повеселишься. Кто может знать, что ему сулит завтрашний день? Чрезмерное умничанье доведёт до дурости, поэтому, если хочешь вкусить сладость жизни, слушай иногда, что подсказывает тебе собственное сердце. Ну, в общем-то, каждый волен поступать по-своему, как ему заблагорассудится. Пожалуйста!
Удлинённое ухо и заботы села, оставшегося без дурачка
Моё появление на свет прибавило семье хлопот и продлило количество праздничных вечеров. Но, как заметила моя матушка, на длину не могло пожаловаться и правое ухо моего отца.
Когда я родился, дед крепко схватил его за ухо и сказал:
— Поздравляю, сынок, поздравляю!
Ухо у отца покраснело, а вслед за ним и вся щека, но он не выдал боли и кисло улыбнулся. Затем за это ухо схватилась моя бабушка:
— Пусть процветает и увеличивается наш род! Дай бог, чтоб твой сын прославил семью и наш край!
Домочадцев сменили близкие и дальние родственники:
— Пусть ваш род пребывает всегда в благополучии, а род врага погибнет!
Постепенно красное ухо приняло синеватый оттенок. Тут за родичами явились кумовья, и за какой-нибудь месяц у измученного от счастья Амбролы правое ухо так удлинилось, что встревоженный осёл частенько на него поглядывал: — не присвоил ли он, мол, моё.
Вначале окрылённому счастьем отцу это даже нравилось: он приветливо улыбался и выражал искреннюю благодарность дёргавшему его за ухо, потом ухо стало гореть, улыбка сделалась натянутой, а после и вовсе пропала.
В конце концов он так ожесточился, что даже стукнул кого-то по голове. Потом он стал прятаться, но разве от людей укроешься? Оказывается, даже я, когда он брал меня на руки, норовил схватить его за это злополучное ухо, — родное дитя не щадило, так чего же было ждать от посторонних?! А молва — дело известное. Поскольку однажды уже прошёл слух, что ухо у отца удлинилось, то все теперь хотели за него подёргать. Словом, бедняга уж не знал, куда ему деться и что принесло ему, наконец, рождение сына: счастье или беду?
Вообще отец был очень терпелив.
Как-то у Лукии погас в очаге огонь, он не смог его разжечь и обратился к нам:
— Соседи любезные! Не найдётся ли уголька?
Отец, недолго думая, вытащил из камина голыми руками горящий уголёк и понёс Лукии. Задубелая ладонь его аж зашипела, но он мужественно донёс огонь и передал соседу.
Однако беспрестанное дёрганье за ухо испортило ему нервы и вконец вывело из себя. И он признался деду:
— Эх, с какой радостью я ждал ребёнка, а на поверку выходит, что от него одно беспокойство! Чудно: мать носила этого сморчка целых двенадцать месяцев, а отца должны за это столько времени дёргать за ухо?
— Ничего, сынок! — успокаивал его старик, — слыхал ведь: — терпи, атаманом будешь.
Ну, отец и терпел сколько мог, но однажды сердце у него закипело, как самогонный котёл на огне. Душу его переполнила горечь, но излить её из себя он не решался, боялся, что, мол, люди скажут. Однако он не на шутку тревожился: эдак останешься, чего доброго, с одним ухом! Тогда он решил пуститься на хитрость и перевязал себе челюсть: пускай думают, что зуб разболелся! Вот, уважаемые, что я натворил со своим отцом! Да, не деревня, не люди, а именно я, Караманика Кантеладзе! Впрочем, за что же я его так?.. Ну и что ж, что я получился не совсем таким? Чего мудрить, дело известное: на белом свете разные живут люди, и знатные, и бедные, и дурные. И все они нужны миру, так же, как день и ночь! День — для работы, ночь — для отдыха… Э-э-э! Ты, братец, не тяни меня за язык! Сам лучше знаю, где говорить, а где помалкивать!
Короче говоря, не то, что без таких как я, но иногда и без дурака последнего бывает туго! Лучше расскажу-ка вам одну историю. Однажды, когда я уже был юношей, иду себе преспокойно по дороге и вижу: собрался народ и галдит.
— Люди добрые! — вопит Лукия. — Великое несчастье свалилось на нас!
На крик прибежал духанщик, запыхавшись, тряся брюхом:
— Что? Где? Неужто кто-нибудь обронил в реку Риони золотые монеты!
— Может, у кого разбился кувшин, полный вина? — предположил было Эквтимэ, но так как был он уже пьян, то махнул рукой и побрёл дальше неверными шагами.
— Не лес ли горит? — забеспокоился столяр Бека.
— А может, чей-нибудь ребёнок обгорел? — спросила моя крёстная Бабила.
Лукия, разозлившись, закричал:
— Тихо! Дайте и мне сказать! Наш дурачок Генторика полез на грушу, ветка под ним обломилась, он разбил себе голову, и мозги у него вытекли.
— А говорили, у него не было мозгов? — хитро прищурившись, спросил Бека, но никто не засмеялся, и тогда он сам захохотал.
— Ты, кроме своего рубанка, ничего не видишь и не знаешь! — пристыдил его Лукия. — Мозг, любезный мой, есть и у свиньи, и у курицы, а вот разума у них нет. Понял? Так что нечего смеяться!
— А что, горючими слезами оплакивать смерть сумасшедшего? Так, что ли? — обратился Бека за поддержкой к лавочнику Темиру.
Но тот сокрушённо покачал головой.
— Бедняга не был сумасшедшим, просто чуточку того… Жаль его…
— Да ну, подумаешь! — махнул рукой Бека.
— Здорово у тебя получается! — огрызнулся Лукия.
— А чего здесь голову ломать? Ну, умер один дурак, найдётся другой, и всё тут! — возразил столяр.
— А если не найдётся, что же нам тогда делать? Кто нас забавлять будет? — спросил кузнец Адам Киквидзе.
— Не горюй! Обязательно найдётся! — не сдавался упрямый Бека.
— Может, топором вырубят? — поддел его Лукия.
— Ничего! Деревня не оплошает! Выберет себе какого-нибудь другого разиню, наречёт дураком, и всё! Без пилы выпилит, без топора вырубит, без огня выпечет. Отрежьте мне правый ус, если этого не будет! — довёл свою мысль до конца столяр.
Гентор, и вправду, был какой-то придурковатый. Он не буянил, ничего плохого не делал, а лишь бродил одиноко по просёлку и глупо улыбался каждому встречному.
Случилось так, что в раннем детстве он переболел какой-то болезнью. Смерть его тогда пощадила, но, кажется, напрасно! Мальчик рос и день ото дня глупел: он мог выбежать на дорогу в чём мать родила, ничего не стеснялся. Да и со временем ума ему не прибавилось. Пока был маленький, дурость его не особенно бросалась в глаза, но потом, когда он подрос, над ним стали подсмеиваться, он поддался этому и окончательно поглупел. Когда умерла его мать, деревенские бездельники на второй же день заманили его на кладбище, там они хорошенько посмеялись над ним и под конец заставили его даже сплясать. Что тут поделаешь, к сожалению, иной ради своего удовольствия нередко способен и на низость… И вот теперь смерть этого дурачка взбудоражила нашу деревню Сакивару. Правда, никто не оросил слезами путь до кладбища, но, тем не менее, и совсем без слёз тоже не обошлось, даже поминки по покойнику справили, и несколько дней ещё говорили о нём, а потом стали искать себе другого дурака. Между прочим, далеко за этим ходить не пришлось. Дурачок нашёлся под боком, тут же, в деревне. На другом конце деревни стояла маленькая избушка с крохотным двориком, таким крохотным — не больше двух расстеленных на земле бурок. Во дворике рос один только старый орех. В избушке жили двое сирот — Пация и Алекса. Несчастные были так бедны, что, сгори их избушка, им не о чем было бы и горевать. Впрочем, если на то пошло, у них, слава богу, были руки и ноги, да и на здоровье своё они не жаловались. Сказать, чтоб они были чересчур умны — трудно, конечно, но и не совсем уж без этого. К тому времени Пация была уже девицей на выданье, а брат её Алекса достиг жениховского возраста. Только вот никто ему не навязывался в тёщи, впрочем, и за сестрой его не очень-то охотились. Оба они были порядочные бездельники, лодыри и попрошайки. Всё лето сидели они в тени орехового дерева, а зиму коротали у чужих очагов. И всю свою жизнь только и делали, что смотрели людям в рот: авось, кто-нибудь и подбросит кусочек.
Вот в деревне и решили: хватит их зря кормить, пора к делу приставить. А как же иначе: народ беспокоится, не оставлять же деревню без дурачка, вот пускай они и потешают людей.
Известное дело — сказано-сделано, если в деревне решили, тут уж ничего не стоит надеть на простака венец, а знатного сровнять с землёй, — чтоб наши с вами враги попали им в руки!
Август был в самой поре своего цветения. В праздник богородицы сакиварцы радовались любому развлечению.
Не успели и оглянуться, а Пация и Алекса тут как тут: идут себе по деревенской улице.
— Эй, люди! Расступись, Алекса и Пация идут! — крикнул я и приветствовал сироток по татарскому обычаю, то есть поднёс руку ко лбу и низко склонил голову.
— Го-го-го! Бэээ! — заорал Кечо.
— Алекса, у-у-у!
— Пация, бэээ!
— Алекса, бууу!
— Пация, мэээ!
Ребята высовывали язык и гримасничали.
Алекса закрыл лицо руками и присел под плетнём, наверное, решил, что в него запустят камнем. Но увидев, что опасного ничего нет, угодливо захихикал.
— Ну и шутники же вы! — хихикнула вслед за ним и Пация.
— О, солнцеликая! — крикнули ей.
— Привет доброму молодцу!
Алекса заворочался, как каракатица, не зная, что сказать. А Пация скалила зубы и поводила плечами.
— Ой, батюшки! Так они же совсем придурковатые! — всплеснула руками жена столяра.
— А ну-ка, спляши, Алекса! — хлопнул в ладоши столяр. — Чего глаза вылупил? Давай пляши, если хочешь поесть завтра у меня тыквы.
— Похлопаем, братцы! — поддержал я столяра. Мы стали в круг, а Алекса взглянул на сестру, как, мол, поступить.
Пация подтолкнула его — спляши, мол, чего уж там.
Голопятый Алекса замахал руками и задрыгал ногами. Лохмотья его развевались на ветру, а рваные брюки, подвязанные верёвкой, чуть не сползли вовсе. Это ещё больше развеселило народ.
— А ну-ка, давай, красотка, подсоби! — ткнул Кечо взлохмаченную Пацию и погнал её в середину круга.
— Так я ж не умею, не могу! — чуть не заплакала бедняжка.
— Умеешь, умеешь, — загалдели все.
Пация повертела руками в воздухе и запрыгала по полянке. Она так долго плясала, что запыхалась, и язык её вывалился изо рта, как у собаки.
В тот день брат и сестра сытно поели, это им так понравилось, что потом их не приходилось особенно упрашивать: достаточно было хлопнуть разок в ладоши, и они мигом пускались в пляс.
Люди гоготали от удовольствия и, насмеявшись досыта, щедро угощали голодных плясунов.
Жена столяра даже подарила Пации своё старенькое ситцевое платье. Алекса тоже приоделся: ему дали рваные каламани и какую-то затасканную рубаху. Словом, повезло человеку!
Как-то жена лавочника сунула Пации давно отзвеневший бубен — дайру.
— Зачем он мне? — удивилась та.
— Будешь играть, а Алекса танцевать.
И на самом деле, Пации бубен понравился: поиграв разок, она уже не выпускала его из рук. Бубен звенел вовсю, Алекса плясал, а под конец и Пация пускалась в пляс.
— Браво, Алекса, браво!
— Давай, Пация, жми!
— Не отставай, Алекса! Молодец! — поднимался невообразимый шум и гам.
— Эй, Алекса! Где ты был, когда бог мозги раздавал? — кричали ему.
Ленивый дармоед охотно разрешал посмеяться над собой, угодливо хихикал и гримасничал.
— Я пошёл за мозгами с ситом, а бежал обратно, всё и растерял по дороге! И оказалось у меня одно пустое сито!..
Все смеялись, народ веселился.
Алекса и Пация бродят по деревням и потешают народ. Нет у них ни горя, ни забот, и все считают их придурками, только посудите сами, так ли это на самом деле! А ведь никто другой как люди помогли лодырям и придумали им занятие, милое их сердцу…
Однажды, помнится, по дороге в соседнюю деревню я встретил Алексу.
— Здравствуй, старина!
— Сто тысяч лет жизни Караману!
— А где же ты Пацию потерял?
— Не потерял, а посеял. Посмотрим, сколько вырастет! Ха-ха-ха!
— Ты что смеёшься? Не умерла ли она?
— Да какое там умерла!.. Мне Гогиука сказал: давай посеем её; может, две вырастут, одну я себе возьму в жёны, а вторая по-прежнему пускай у тебя остаётся… Так что я это всё время повторяю, чтоб не забыть. А умирать ей пока рано. Сейчас она у родственников в деревне, помогает им урожай собирать.
— Ну, а как же ты живёшь-можешь, дружок? Небось, опять дурака валяешь, а потом сытно лопаешь?
— Вай-вай! Что он говорит! Кто тебе сказал, что я дурак? Дурак тот, кто смеётся над моей глупостью, а потом хорошо угощает меня. Я, милый, только притворяюсь. Сами вы настоящие дураки, понятно? Я валяю дурака и ем хлеб, заработанный трудом какого-нибудь дурня! Ну, скажи, кто дурак, я или он?
Эта откровенность пришлась мне по душе, и я посоветовал ему:
— Смотри, братец, не проговорись в другом месте, иначе останешься ни с чем! Смех иногда — лекарство для отчаявшихся. Ну, а раз уж люди выбрали тебя для развлечения, пускай кормят. Когда человек смеётся, он забывает о своём горе, вот в чём дело, братец! А, если хочешь знать, один лекарь смех даже как лекарство прописывал, вот!
— Ха-ха-ха! Ну и забавный ты, Караманушка, как рождественский поросёнок! На какие только выдумки не горазд, чтоб те лопнуть! Чего же тогда не откроют эти самые… э-э-э… аптеки и не начнут продавать в ней смех?
— Ей-богу, не вру! Когда человек смеётся, на душе легче становится, а это жизнь продлевает…
— Давай вместе с тобою откроем аптеку смеха! Ты да я! Что может быть легче, а?
— Не кривляйся!.. Так мудрецы говорят…
— Ну и ну! Да если это так, тогда мои дела хороши! Теперь без смеха я уж никуда! Если для жизни, кроме этого, ничего не нужно, то я, стало, быть, никогда не помру…
Вот так, милые мои, одного ум кормит, другого глупость. А бывает и хуже, когда истинный мудрец помирает с голоду! А вот ответьте-ка мне, видели ли вы когда-нибудь истощённого от голода дурака?
Вот поди удивляйся тому, что такой человек, как я, тоже нужен деревне как воздух и вода. Хожу я по земле, выдумываю всякие небылицы и сам развлекаюсь да и другим помогаю забывать беды и горести…
Унесённый водой мост и разверзающееся небо
Мне хочется вам рассказать, как мои блаженной памяти предки попали в наш край. Это я слышал от моего покойного деда.
Оказывается, где-то неподалёку, во владениях князей Кипиани, а может, и Дадиани, жил один удивительный господин. Он разве только не ел человеческого мяса, ну, а в остальном был настоящий изверг. Если зверь не может обернуться человеком, то иной человек может стать зверем… Стоном исходила измученная им деревня. Наконец дед моего деда Звиад обречённо махнул рукой на всё, мол, будь что будет, и отсёк мучителю мечом голову.
В те времена убийц господина наказывали всенародно: на площади осуждённого привязывали к коню и пускали коня вскачь; и несчастный погибал. А всех насильно заставляли смотреть на это: вот, мол, какая страшная участь ждёт убийцу!
Поэтому родственники убитого сделали то же самое и со Звиадом, связав его и привязав к самому сильному коню.
Конь рванулся и поскакал. Люди старались не смотреть, закрывали лица руками, и многие плакали. Все жалели отважного молодца. Словом, конь летел, волоча за собой привязанного к хвосту всадника. Когда конь выскочил на бугристую тропинку, верёвка зацепилась за острый камень и оборвалась. Звиаду удалось высвободить правую руку, он ухватился за верёвку, притянул к себе ставшего на дыбы коня, ловко вскочил на него и понёсся как ветер.
Случилось всё в мгновение ока. Люди вздохнули с облегчением, закричали, зашумели и воздали хвалу и благословение спасителю деревни. Правда, родственники князя бросились к коням, но народ закрыл им все дороги. Звиад же понёсся в сторону Рачи. Он так гнал коня, что тот свалился на дороге. Невольного своего врага, вдруг обернувшегося другом, Звиад похоронил с честью, как павшего в бою товарища, а сам пошёл дальше пешком. Много ли, мало ли прошёл, наконец, показалась Риони. В горах ночью был дождь, вода в реке вздулась и бурлила, стала мутной и грязной.
На склоне горы, расположенном на другой стороне реки, раскинулась небольшая деревушка, над которой грозно повисла насупленная скала. Вот Звиад и подумал, зачем же далеко ходить, поселюсь-ка я здесь да и заживу потихонечку!
Он решил переправиться, но не нашёл моста, его унесла вода, а войти в разбушевавшуюся реку было слишком опасно. Тогда он присел на краешек камня у самого берега и задумался. В это время проходил человек в чохе. Звиад обрадовался живой душе, и они тепло приветствовали друг друга. Оказывается, Гагния — так звали незнакомца — жил в этой деревне, куда хотел попасть Звиад.
— Дело плохо, — покачал головой Гагния и печально взглянул на обломки моста, потом сбросил с плеч тяжёлые бурдюки и присел рядом. Звиад заметил, что бурдюки блестят, словно спелая слива. Гагния достал из кармана кремень, огниво и высек огонь. Нет, трубочку он не достал: табака тогда в наших краях и в помине не было, он просто развлекался.
— Может, разжечь костёр? — спросил Звиад.
— А что толку? Жарить нечего.
Они некоторое время сидели молча и глядели на реку.
— Что же мы так и будем здесь сидеть и смотреть на эту бесстыжую воду? Может, она целый месяц не спадёт! — прервал молчание Звиад.
— Знаешь, там внизу есть ещё один мост. Мне кажется, что вода не должна была его снести.
— Далеко?
— Да один день ходу.
— Ну давай рискнём. Недаром говорят: издалека объедешь, благополучно доедешь.
И Гагния, поднявшись, перекинул через плечо свои удивительно сверкавшие бурдюки. Поднялся и Звиад. Выбора не было, вот и пришлось ему последовать за Гагнией.
А дорога, известное дело, беседу любит.
— Что это за бурдюки? — спросил Звиад своего спутника.
— Эх, сынок, ещё бы немножко, и заделался бы я вчера богачом. Бурдюки эти не простые. Знаешь, кто их мне подарил?
Тут у Гагнии развязался язык, и он стал подробно рассказывать.
По его словам выходило, что раз в девять лет, в тот миг, когда ночь покидает землю, разверзается небо. И если в это время будешь один и никто из грешных не услышит слов твоих, бог бросит тебе с неба всё, что ты пожелаешь.
И не далее как вчера шёл Гагния один по дороге и вдруг услышал доносящийся откуда-то таинственный звон. Прислушался и понял — звуки сверху, с неба, а взглянув вверх, увидел, что небо как-то странно светится. И тут Гагния смекнул: счастье ему выпало, удосужился он увидеть, как разверзается небо. Стал он думать, что выгоднее просить у бога. Решил, что лучше всего попросить золото: и не ржавеет, и сносу ему нет, да и цена всегда хорошая. Содрал с себя шапку, бухнулся на колени, поднял руки к небу и неторопливо начал: «Боже великий и великодушный, заступник бедняков и обездоленных, сжалься надо мною, я ведь прах у твоих ног! Кто лучше тебя знает нужду и бедность Гагнии. Брось мне девять бурдюков вот с этим… эээ… что сверкает как солнце и слепит глаза… эээ… золотом!» — Но когда, наконец, ему удалось произнести это злополучное слово, было поздно: на небе захлопнулись врата, и бог сбросил девять бурдюков, так и не расслышав последнего слова коленопреклонённого человека. Гагния долго шарил в бурдюках, но они были пусты, и тогда он с тоской поглядел вверх, где осталось вожделенное золото. Печаль его была беспредельна, но он не посмел прогневить бога злым словом; и то сказать: разве бог виноват в том, что язык Гагнии оказался таким неповоротливым? Вместо упрёка Гагния воздал благодарность всевышнему за добротные бурдюки. И тут же стал строить планы на будущее. «К моему дворику примыкает скала, — размышлял он. — Я притащу в этих бурдюках землю, засыплю ею скалу, сделаю себе пашню и буду жить честным трудом».
Забегая вперёд, скажу вам, что это происшествие убедило Гагнию в том, что никогда в жизни не следует рассчитывать только на бога, поэтому он превратил свои мысли в дела и, действительно, сделал себе пашню всем на зависть. А бурдюки его нисколько не износились, и один из них, клянусь вам, я храню и поныне как совесть.
Эх, вот если бы я с моим языком оказался на месте бедняги! Стоял бы у меня сейчас кованый сундук, полный золота, и я бы каждый день звал вас на пир, а вы угощались бы да слушали мои истории…
Услышав рассказ Гагнии, Звиад обалдел, глаза его полезли на лоб от удивления, так он и сидел некоторое время, не произнося ни слова. Потом сокрушённо махнул рукой и сказал:
— Эх, папаша! Ты, гляжу, и желать-то толком не умеешь. Будь я на твоём месте, я бы попросил: — Бросай столько золота, сколько можешь, вот!
Но рачинец тут же обрезал его:
— А зачем тебе столько, милок? Оно же на земле не уместилось бы, так захоронился бы ты в нём, что ли? А кроме того, не знаешь разве: кого алчность одолевает, тому небо не помогает!..
Шёл Звиад с Гагнией по скалам и ущельям и диву давался: как умудрялись на таких отвесных кручах расти деревья и жить люди?
Наконец он не выдержал и спросил:
— Послушай, папаша, никак в толк не возьму: как это вам удаётся здесь пахать?
Перейдя через ручей, Гагния показал гостю на небольшой лог на крутом склоне. Мотыживший там крестьянин был опоясан верёвкой, конец которой был привязан к дубу. Крестьянин почти висел над логом.
Конечно, нашим путникам нигде не встречались кукурузные поля. Тогда у нас даже не знали, что это за фрукт. А усы украшали в ту пору лишь одних мужчин да котов. Так, то споря, то мирно беседуя, Гагния и Звиад незаметно подошли к новому мосту… то бишь к развалинам моста, ибо река снесла и его.
— Как же быть? Ждать, покуда Риони утихомирится? — забеспокоился Гагния и принялся опять высекать из кремня огонь.
— Да, огонь-то у нас есть, но только не очень-то он нам поможет! — сокрушённо произнёс он.
— Знаешь, что я тебе скажу? — предложил Звиад. — Давай надуем твои бурдюки, перевяжем их, сделаем плот, а на нём и переплывём.
Так они и поступили. Благополучно перебрались на тот берег и пошли по отмели.
В деревню пришли в обеденную пору.
Идут, а навстречу им — толпа.
— Куда это вы? — спросил Гагния у древнего старика Диомидэ, еле волочащего ноги.
— Чего? — старик приложил ладонь к уху.
— Куда это все торопятся? — заорал ему в ухо Гагния.
— Да охотники здесь убили семь медведей и сзывают всю деревню. Стол накрыли на берегу, там, где мост снесло. А вы что, не идёте?
Раз такое дело, Гагния пригласил на сельский пир и своего гостя. Звиад не заставил себя просить и тотчас же отправился с ними. Он хорошенечко поел, выпил и, захмелев, стал скользить взглядом по убиравшим со стола девушкам. Особенно приглянулась ему чернобровая стройная девушка с четырьмя косами. Звали её Тэброле.
Звиад был парень что надо, в самой силе: он хищным ястребом следил за нежной, как голубка, девушкой.
Она заметила его внимательный взгляд и, напустив на себя холодность, держалась поодаль от него. А сама смеялась нарочито звонко, так что совсем свела с ума беднягу, и тут он, не выдержав, шепнул Гагнии:
— Что это за миленький цыплёночек заливается, как колокольчик? Под каким она небом родилась?
— Под лунным, сынок, под лунным! Лунной ночью её сделали, потому она такая!
— А ты откуда знаешь?! — подивился Звиад.
— Да кому ж знать об этом, как не мне и моей супружнице! — рассмеялся хозяин в усы. И тут хмель у Звиада как рукой сняло.
Герой-невидимка и дыра в сердце земли
Словом, чтоб много не распространяться, этот нежный цыплёночек стал лакомым куском для прилетевшего издали ястреба. Гагния был гол как сокол, а пашня его была настолько мала, что и мышам не разгуляться. Один бык у него был, да и тот со сломанным рогом. А жил он на такой круче, что арбу приходилось привязывать к ореховому дереву у него во дворе, чтоб не свалилась в ущелье. Но всё же дочку он не оставил без приданого и дал ей с собой отпущенные ему небом три бурдюка: в один напихал ячмень, в другой — проса, а в третий — бобов.
Зять приставил к избушке тестя небольшой шалашик, и молодые начали новую жизнь. Вскоре цыплёнок стал курочкой, и курочка снесла яичко, — в годовщину свадьбы Тэброле родила мальчиков-близнецов — Гобеджу и Дау.
Когда дети подросли, Дау стал шататься по белу свету, выучился многим ремёслам и всегда был при деле. Гобеджа ухаживал за родительским виноградником, день и ночь обрабатывал землю, которую натаскал на своём горбу дед, пас скотину, учился владеть мечом и не забывал подбрасывать уголёк в родной очаг.
В те времена ринулись на Рачу орды османов: туркам удалось захватить крепость и замок Хидикари и висевший между ними единственный мост.
Рачинцы укрепились наверху, в узких расселинах, и не подпускали чалмушников ко дворцу своего князя Эристави. Захватчики и обороняющиеся долго стояли друг против друга. Как турки не могли продвинуться дальше, так и рачинцы не могли высунуться наружу. Одна лишь Риони не обращала никакого внимания на стражу и беспрепятственно проделывала свой обычный путь.
Вражеское войско расположилось неподалёку от Хидикари, на равнине, и готовилось перейти в наступление.
Вдруг ночью, в кромешной тьме, в лагере османов послышались истошные вопли, а случилось вот что, — неизвестный смельчак подкрался к предводителю неверных, шатёр которого находился у самого берега Риони, рассёк ему мечом голову и скрылся. Часовые заметили лишь тень убегающего, они выстрелили в него и решили, что он убит. Но оказалось, что убитым был жеребец, а всадника и след простыл. Лагерь всполошился. Турки решили, что в их ряды проникли переодетые рачинцы. С перепугу они совсем растерялись, и пошла кутерьма, — своих принимали за рачинцев. Стало светло, как днём, от сверкающих мечей. Но это было ещё не всё. Паника перекинулась на занятые турками крепости.
— Ай! Валла! Валла! — вопили турки. — Они нас обошли и бьют с тыла! Скорей, скорей отсюда!
К рассвету в той местности не осталось ни одного турка. Лишь одни вражеские шатры пестрели на равнине да валялись вокруг брошенные трупы, испачканные в кровь чалмы и обломки кинжалов и мечей.
Неподалёку шумно ржали оставшиеся без присмотра лошади.
Из-за горы налетело вороньё и набросилось на неуспевшие ещё остыть тела.
Наутро вся Рача была на ногах: что за чудо случилось? Но тайна свершившегося была известна лишь одному человеку…
За дворцом рачинского Эристави, на другом берегу Риони, приютилась маленькая деревушка Мухли. Тамошний крестьянин Агла обещал княжескому сыну доброго жеребца. Но так как шла война с турками, то крестьянин опоздал со своим подарком. Тогда княжеский сын послал к нему одетого в доспехи вооружённого Гобеджу. Агла наотрез отказался выдать скакуна гонцу, под предлогом, что жеребец пока необъезжен и может сбросить с себя молодого князя. Однако гостя приняли с почётом и хорошо угостили. Когда Гобеджа захмелел, он стал настаивать, чтоб ему разрешили сесть на жеребца. Этим он думал убить двух зайцев: обуздать коня и доставить его княжичу. Молодой князь, мол, поручил мне это, как же мне явиться пред ним с пустыми руками? Пока гость и хозяин препирались, настала ночь. Тем не менее Гобеджа добился своего: вскочил на жеребца, схватил его за гриву и помчался вниз. Неподалёку от дворца Эристави жеребец бросился в реку. С Гобеджи мигом слетел весь хмель, и он, испугавшись, стал тянуть коня обратно на берег. Но не смог выйти, а к тому времени вокруг уже не было видно ни зги. Риони торопливо катила к врагу свои волны, а жеребец опережал их. Крики Гобеджи пропадали в шуме реки. Тогда Гобеджа решил, что участь его решена и ему суждено погибнуть в реке. И, покорившись воле коня, отдался на милость волн. Человек с конём бесшумно проплыли под мостом Хидикари, так, что ни один часовой даже не кашлянул. Дальше река уже вышла на равнину и растеклась по ней рукавами, жеребец подплыл к берегу, и Гобеджа очутился пред шатром турецкого военачальника. Ну, что было потом — вы уже знаете. Тайна раскрылась, когда молодой князь спросил про жеребца.
Народ решил, что теперь Гобеджу наградят золотым мечом и возведут во дворянство. Но как бы не так. Эриставский сынок дал отважному герою хорошего пинка: если, мол, сам ты вырвался живым, почему не уберёг красивого жеребца?! И Гобедже ничего не оставалось, как, понурив голову, вернуться в свою Сакивару.
А в те дни Дау вернулся домой с промысла. На этот раз ему на редкость повезло, и он принёс домой три кисета золота. Узнав, что произошло с братом, он решил подарить ему один кисет, чтобы тот купил себе земли и встал на ноги. Дау, однако, знал, что если он предложит Гобедже принять в подарок золото, тот сочтёт это унизительным и ни за что не возьмёт. Гобеджа непременно сказал бы: у меня, слава богу, и руки и ноги целы, да и сил достаточно, я не попрошайка, чтобы жить на подачки! Поэтому Дау пустился на хитрость. И вот однажды, когда Гобеджа находился на другом берегу реки, Дау подкараулил его у моста и бросил на дороге кисет с золотом. А Гобеджа подошёл к мосту и подумал: «Смешно! Сколько лет здесь хожу, а ни разу не прошёлся с закрытыми глазами, дай-ка, пройду теперь». — И он, закрыв глаза, спокойно перешагнул через мешочек.
«Эх, видимо, такая уж судьба у моего братца — добра под носом не увидит, пройдёт мимо», — огорчился Дау и сунул мешочек обратно в карман.
Так вот, наш род как раз от Гобеджи и происходит. Однако у этого как будто неудачливого человека, но большого труженика родился ещё более трудолюбивый сын Рехвия. Парень никогда не смотрел в небо, а надеялся только на землю и на свои натруженные руки. Этот славный малый столько копошился и копался в земле, что однажды продырявил её и, всунув голову в дыру, высунул её в чужой стороне.
Да, милые и уважаемые мои!
Сын Гобеджи, Рехвия, и был тем человеком, который встретил вступившего с корабля на американскую землю Колумба и предложил ему отведать горячего лаваша и свежего хаши! Теперь вы понимаете, почему рачинский повар оказался в Америке гораздо раньше Колумба. Потому что он был работягой и любил землю. Да! Такой путь в Америку оказался куда короче!
Наверное, когда-нибудь настанет время, и в Раче родится великий учёный: он заглянет в глубь земли и, найдя там следы, оставленные Рехвией, проведёт по ним железнодорожный туннель. А потом и вопрос об открытии Америки тоже, наверное, обернётся в нашу пользу. Да что и говорить, разве мало подобных примеров, так отчего же мы, рачинцы, должны молчать и уступать другим наши замечательные заслуги пред человечеством? Ведь это же мы, рачинцы, впервые открыли Америку, мы! И напрасно это Колумбу приписывают, а Америго Веспуччи — тот и вовсе потерял совесть, взял и назвал своим именем открытую нами землю! Ну что вы на это скажете? В конце концов надо же положить этому конец! Пусть никто не считает нас простаками! Правда, мы ведём себя в высшей степени скромно, но это не значит, что нам можно сесть на голову! Ах… что это! Я чуть не разозлился, а ведь это не пристало истинному рачинцу!
После того как слава открытия Америки была присвоена другим, минуло каких-нибудь четыре сотни лет, поэтому нам, рачинцам, ещё не пришло время злиться. Ну, а насчёт того, как велика заслуга Гобеджи и его сына пред человечеством, вы только что убедились сами. Скажите: не следует ли, светлой их памяти, воздвигнуть хоть совсем маленький памятник?
Я хочу теперь воспользоваться случаем и рассказать вам ещё об одном моём прославленном предке. Звали его Гугеша, и был он страшно недоверчив и любознателен.
Однажды вернувшийся из города сосед сказал ему:
— Земля-то, оказывается, круглая, как шар.
Гугеша поглядел на взметнувшиеся в небо горы и покачал головой:
— Глупости какие! Враньё!
Но сосед решил убедить Гугешу и стал уверять:
— Вот если ты пойдёшь по одной дорожке и будешь идти всё прямо и прямо, обойдёшь земной шар и вернёшься на то же самое место!
— Да это же самое лёгкое! Проверю! — решил Гугеша да так и сделал. Он велел жене приготовить какой-нибудь еды на дорогу, взял во дворе пригоршню земли, завернул её в пёстрый лоскут, сунул за пазуху, расцеловал ребёнка, ласково погладил телёнка и собачку, перекрестился, перекинул через плечо хурджин и с посохом в руке отправился в дальний путь.
В полдень он был уже далеко от своего дома и, остановившись отдохнуть, перекусил у Никорцминдского монастыря. Затем, под вечер, прошёл Шаорское поле и решил заночевать в трактире, что стоял тогда у самого Хариствальского озера. Хорошенько поужинав, Гугеша почувствовал, что очень устал, и лёг спать на открытой террасе, решив, что вставать всё равно придётся рано и незачем зря беспокоить трактирщика.
Ноги у него устали, и каламани стали, жать ему, он разулся и положил их рядышком, носами в нужном направлении, чтобы не сбиться с пути. Уснул он незаметно, а проснувшись и увидев, что на небе уже догорает последняя предрассветная звёздочка, вскочил как ошпаренный, — ведь начинать путешествие лучше всего с утра, когда прохладнее. Однако кто-то ночью переставил его каламани, но расстроенный Гугеша не заметил этого и пошёл по направлению, которое указывали их носы.
Много ли он прошёл, мало ли, но к полудню перевалил через гору и увидел раскинувшуюся внизу деревню. Она показалась ему знакомой, и, вытаращив глаза, он воскликнул:
— До чего же на нашу Сакивару похожа! — Приятное чувство волной захлестнуло его: вот, оказывается, как на земле устроено: люди бывают похожи друг на друга, и деревни тоже.
Спустившись по склону, он вдруг увидел на том месте, где кончалась тропинка, такой же плетень, какой он поставил в прошлом году своими собственными руками:
— Так это же вылитый мой плетень! — произнёс он, совсем остолбенев.
И надо же было, чтобы у самой калитки к нему со счастливым тявканьем бросилась дворняжка. Тут уж он и вовсе обомлел. Как она похожа на мою собачку! Теперь одно за другим посыпались восклицанья:
— Домишко-то вроде как мой!
— А мальчишка как на моего похож!
Он схватил ребёнка на руки и трижды поцеловал. И вдруг рядом с мальчиком он заметил женщину. Тут уж он совсем помешался от радости, изумлению его не было никаких границ.
— Ой, люди добрые! Женщина на мою жену как две капли воды похожа!
— Да ты что, сдурел, что ли? Или тебя кто в дороге стукнул? — разобиделась женщина. — Как это — похожа? Или я не твоя жена?
Счастливый и радостный Гугеша швырнул хурджин на землю, обнял жену и поцеловал её. Теперь он действительно убедился, что земля на самом деле круглая. — Надо же, шёл, шёл и пришёл обратно туда, откуда вышел!
Тогда он разулся и бережно спрятал в сарай свои каламани: если б, мол, не носы этих каламани, то чёрт его знает, как легко можно было бы сбиться с пути, и, кто знает, где насыпали бы ему на грудь хранящуюся за пазухой грузинскую землю…
И вот, голуби вы мои, по сей день я храню эти Гугешины каламани. Да, в амбаре, не под подушкой же их держать! Только в прошлом году у меня с ними вышел один конфуз: мыши, не найдя там ничего съестного, отгрызли у них носы. А, впрочем, невелика беда! Ведь добрая слава о Гугешиных каламанах всегда будет жить в сердце и памяти народной, пока будет существовать человечество и Риони будет катить свои волны! Мыши многое могут испортить, но доброму имени они не нанесут ущерба.
Избиение царя и чудодейственный плач
Как только мы схоронили дедушку Карамана, я почему-то совсем перестал плакать. Бабушка иногда щипала меня, нарочно заставляя кричать, пусть, мол, слышат враги и друзья, завистники и доброжелатели, что у нас в колыбели лежит ангел.
Меня обычно завёртывали в хорошенькое ярко-пёстрое одеяльце. И я, бывало, попискивал, но без слёз, — боялся закапать одеяльце. Вот какой я рачительный был ещё сызмальства!
Бабка моя Гванца всё приговаривала, что она счастливейшая из смертных, что теперь ей и умереть не страшно, ибо растёт у неё такой прекрасный внук, опора семьи. Как вам это понравится — я ещё и на ногах-то не стоял, а уже считался опорой семьи!
Над головой у меня висели разные бусы, орехи, дырявые монеты, погремушки. Бабушка считала, что всё это — моя армия и крепость, которая спасёт меня от дурного глаза.
Когда мне удавалось высвободить руки из туго стянутых пелёнок, я развлекался, побрякивая этими висюльками. Чаще всего я бил по монетам, на которых был нарисован дядька с остренькой бородкой. Ведь не было у меня тогда ни привязанности, ни отвращения к деньгам, но почему-то я враждовал с этим бородачом, и с самого начала испытывал к нему непонятную неприязнь.
Бабушка Гванца, заметив это, шепнула деду:
— Смотри, отец, как наш Караманчик с царём играет!
— Не играет, а шлёпает его по физиономии! — гордо поправил её дед.
— Тише ты! Стены тоже уши имеют. Как бы кто-нибудь не услышал! — побледнела она.
Бабушка и сама отлично видела, что я вытворял, но вслух этого не говорила даже деду, боялась, не приведи господь, какой-нибудь недруг прослышит и тогда — мало ли что — дитя могут достать из колыбели и отправить на каторгу в Сибирь. Тем более, что усов у меня пока не было, и не надо было сбривать ус.
Бабушка вообще тряслась надо мной и вечно чего-то боялась. Особенно страшным казалось ей, что я с таким ожесточением дерусь с царём.
А дед подзадоривал меня:
— Во! Во! Так его, внучек, так! Хоть ты стань у нас прославленным героем! Бей его, проклятого, отомсти за меня. Так его! Молодец! Недаром тебя зовут Караманом — именем прославленного богатыря!
Бабушка в это время то таращила глаза на деда, то смотрела на меня с испугом. А я ничего не боялся, мне было совершенно безразлично, кто передо мной. Я был храбрее деда. Дед, конечно, не решался пойти против царя в открытую, а я вот бил и бил его. Долго я боролся с царём, но так и не смог сбросить его, пригрозил ему: ничего, мол, никуда от меня не денешься — вырасту, тогда и рассчитаюсь с тобой. Как-то раз я высоко приподнял в колыбели голову, дотянулся до бородки царя и хотел проглотить его, потому что в тот день у меня начали прорезаться первые зубы. А когда у меня уже прорезалось несколько зубов, то царя от меня спрятали. Не иначе, испугались, как бы я его и вправду не съел.
Эх, знай я тогда, кто он и что он, я б нашёл, что с ним сделать.
Хотя я лежал в крошечной колыбели, но колыбель моя была совсем не простая.
У ног моих день и ночь висело красное платье, которое мать надевала очень редко. Это платье бдительнее всех охраняло меня от злого духа. Вот потому-то и жил я тогда надеждой!
Во время семейных пирушек первый тост был всегда за меня. Мне были пожалованы все блага мира, известные моим домочадцам, а последнее слово за столом было всегда таким:
— Дай бог нашему Караманике столько лет жизни, сколько у солнца света, а у земли — блага. Пусть у его изголовья всегда летают ангелы, а дьявол чтоб и близко к нему не смог подобраться. Пусть род его так умножится, чтоб на земле ему не хватило места, а если можно жить в другом месте, то пусть переберётся и туда! Аминь!
Я в знак благодарности махал руками и посапывал.
Бабушка согревала воду в медном тазу и купала меня. Я очень любил плескаться в воде, а потом, чистенького, беленького, она тискала меня в объятьях и целовала в мягкое место и умоляюще вопила:
— Заберите у меня этого поросёночка, иначе я его съем.
Любил целовать и кусать меня не меньше бабушки и собственный мой отец.
Если любовные укусы бабушки проступали на моём теле выщербленным кривым следом, то отцовские — ровным двойным рядом, словно кукурузные початки.
А теперь я вам расскажу, какое чудо произвёл однажды мой плач.
В один прекрасный день мать потащила на мельницу мешок зерна. На обратном пути она попала под ливень, промокла до ниточки и в тот же вечер слегла. Когда я прикоснулся к материнской груди, мне показалось, что рот мой обожгло раскалённым железом. Я зло огрызнулся и ровно девять дней не притронулся к ней и, словно кошка, лакал коровье молоко. Мой отец помчался в Они за врачом. Врач дал матери какое-то лекарство, и больной стало легче. Она задремала, а потом заснула, да таким крепким сном, что её никак не могли добудиться.
— Элисабед! Элисабед! — орали ей в ухо на все лады. Но как камень ничего не слышит, так и мать моя ровным счётом ничего не слыхала, даже бровью не повела. Дед притащил две тяжёлые доски и принялся ими колотить друг об дружку.
— Бааах! Бууух! Бааах! Буаах!
Потом он стал бить по ним молотком.
— Бууух! Бааах! Бууух! Бааах!
Отец зажал свинью в дверях и заставил её пронзительно визжать.
Бабушка Гванца забила сначала в дайру, а потом стала стучать в медный таз.
— Дзинь-дон! Дзинь-дон! — раздавалось на всю округу.
Дядюшка Пиран схватил стоявшее у стрельчатого оконца ружьё и как безумный принялся палить из него, а горы подхватили и разнесли звуки выстрелов на весь белый свет.
Но она и глазом не моргнула.
Тут уж наши не на шутку всполошились и встревожились, решив, что с ней случилась беда.
Тогда дед поднёс ко рту матери зеркало: оно запотело. Отец дотронулся до неё — тёплая. От радости семья чуть в пляс не пустилась: жива!
Но что делать, — прошёл день, второй, третий… а она так и не просыпается!
Лукия заключил: летаргический сон одолел её, и пока сон не выйдет, нечего и пытаться будить её, всё равно не проснётся. Вот тогда-то я вспомнил, что стоило мне хоть разочек пискнуть ночью, как мама, как бы крепко она ни спала, тотчас же вскакивала и, бросив все свои сны, принималась меня баюкать. И я подумал: — Отчего не попробовать?
И вот я напрягся, разинул рот до ушей и пискнул, как кошка. Не успел я рта раскрыть, как мать, тотчас же вскочив с постели, испуганно воскликнула:
— Ай! Что это с Караманчиком?!
Я виновато притих.
— С ним ничего, детка, что же с ним может быть! А вот ты, как ты? — засуетилась бабка.
— Мне-то хорошо. А почему же он плакал? Вы что-то от меня скрываете!
Повернувшись ко мне, бабка разлилась в благословениях мне и моему плачу. Я понял, что сделал что-то хорошее и заржал от удовольствия. Тогда мать успокоилась, глаза её засветились, и лицо расплылось в улыбке.
Тут я осмелел и потребовал, чтобы она немедленно прижала меня к своей груди. Бабушка Гванца развязала мне пелёнки, схватила меня как мяч и тотчас же сунула в постель к матери.
Прошло ровно девять дней с тех пор, как я в последний раз держал во рту грудь, и, соскучившись, я надолго к ней присосался. Ох, как бабушка была счастлива; она готова была схватить дайру и пуститься с нею в пляс.
Замученная свинья тоже взвизгнула с облегчением, и теперь, мирно похрюкивая у дверей, просила чего-нибудь поесть.
Суетился радостно дед, а дядя, схватив шомпол, принялся с ожесточением чистить ружьё. А отец почему-то взволновался сильнее уже после того, как супруга его благополучно выбралась из своего сонного состояния.
Вот так, дорогие мои! Теперь вы видите, какое волшебное действие может оказать плач ребёнка! Правда, философствовать — дело не моё, но одно я вам всё же скажу: там, где не слышно детского плача, там плачет всё остальное: и дом, и двор, и дверь, и калитка, пашня и виноградник, камень и земля, винный кувшин и амбар. Там и солнце толком-то не греет, и луна не светит, и ни вино, ни вода не имеют вкуса, — сегодняшний день не весел, да и завтрашний без надежд. И чем горше ревёт ребёнок, тем слаще на душе, ибо рёв его — это самое истинное восхваление бессмертия, неиссякаемости жизни. Всё это я читал в книгах старых мудрецов.
* * *
Небось, вы теперь надивиться не можете: как это он, мол, помнит об этом? И впрямь, что может знать грудной младенец! Но не надо удивляться, лучше послушайте, что я вам расскажу!
Когда я ещё был юношей, присутствовал я при странном споре. Тётка Кечошки, Элпитэ, рассказывала моей матери про свою свадьбу, что-де под самый конец пира Адам Киквидзе вылил из рога вино под стол, оно разлилось по полу, подружка жениха поскользнулась и распласталась на полу. Но тут в разговор вмешалась Ивлита, дочка Элпитэ:
— Мамочка, ты путаешь, кузнец Адам на твоей свадьбе не был!
Элпитэ заупрямилась:
— Был!
— Не был! — твёрдо стояла на своём дочка. — Не был!
— Посмотрите-ка на неё! — рассердилась Элпитэ. — Дочка лучше знает, что было на свадьбе её матери!
Поднялся шум. Они поспорили на шёлковое платье. Порасспросили об этом соседей, родственников, — победила дочка и получила материнское шёлковое платье. Вот видите, чего только не бывает на земле!
Ивлита столько раз слышала от родственников и окружающих про эту свадьбу, что знала всех наперечёт, кто на ней побывал.
Вот вам пример, как можно выиграть не только шёлковое платье, но и кое-что получше!
Первое слово и чужой кусок
Пока я рос в колыбели, то почти совсем не плакал. Сыт ли был или голоден, весел или мрачен, всё мурлыкал да мурлыкал себе под нос.
Бабушку Гванцу это не на шутку тревожило: батюшки мои! А вдруг он немым будет?
И так как в семье отца не было ни одного немого, она стала подробно выяснять, не страдал ли этим недугом кто-нибудь в роду моей матери.
— Что вы! Бог с вами! — замахали на неё руками сородичи из маминой деревни. — Элисабед сама, правда, скуповата на разговоры, но зато у всех остальных язык хорошо подвешен!
Бабушка немного успокоилась. А до этого она заставляла меня по три раза в день высовывать язык и тщательно проверяла, всё ли у меня там в порядке. А мне-то что: я себе высовывал язык, как собака в жару.
Первое моё слово было «дай!»
Но на это никто не обратил внимания. Лишь после я понял, что его любят произносить все, но слышать никто не хочет.
— Дай, дай, дай! — орал я на все лады, показывая рукой на всё, что было вокруг меня. Но никто мне ничего не давал. Однажды, увидев корзину, полную румяных яблок, я, по обыкновению, хотел крикнуть «дай!», но язык у меня споткнулся, и вместо этого я произнёс «дед!». Дома были только я да бабушка. Она насторожилась, а я снова взмахнул рукой и закричал: «дед!», «дед!».
Старушка обрадовалась, стала меня тискать и целовать, а потом побежала со мной в поле, где наши лущили лобио.
Там она снова начала пританцовывать, держа меня на руках.
— Спятила мать! — изумился дед.
— Что случилось? — сбежались остальные.
— Заговорил, заговорил, лапочка моя, душенька, солнышко, деда позвал, дорогого моего! — заквохтала старуха.
Вот как неверно поняли моё первое слово.
Что я мог поделать? Кому пожаловаться?
Я подчинился бабкиной воле и тут же, при всех подтвердил её слова: позвал деда и потянулся к нему ручонками.
— Фу ты, словно я заново родился! — сказал отец, и, так как ноги его подкосились от чрезмерной радости, он без сил опустился на ворох стручков.
— Что? Что такое? Во второй раз? — ехидно переспросил дед. — Только чтоб не был похож на освежёванного барсука, а там как хочешь, — хоть в третий раз родись!
Теперь на моём пухлом тельце прибавились следы укусов: к отцу и бабке присоединились дед и дядя. Эх, знай бы они наперёд, как им солоно придётся от моего языка, — они б тогда разорвали меня на куски!
Когда мне исполнился годик, я уже мог стоять на ножках, а однажды даже умудрился вылезти из колыбели и начал раскачивать её. Так, стоя между тахтой и колыбелью и покачивая её, я, как дурак, ухмылялся: — вот, мол, глядите, какое я геройство совершил!
Увидев это, обрадованная мать поддержала меня пальцем и заставила самостоятельно пройтись по полу. Но тут коленки меня подвели, я упал и ушиб нос.
Она испугалась и тотчас же подхватила меня, стала подбрасывать вверх, чтоб я не успел заплакать.
На второй день я снова важно вышагивал, держась за палец матери. На третий день она вместо пальца ловко подсунула мне кусок хлеба, а сама незаметно убрала руку. Думая, что она по-прежнему держит меня, я сделал несколько шагов и вдруг, выронив хлеб, упал.
Тогда я понял, что без хлеба ходить не смогу, и уже больше не выпускал его из рук.
Через некоторое время после того, как меня вынули из люльки и надели на меня пёструю рубашку, я схватил в одну руку хлеб, а другой ухватился за подол бабушкиной юбки и пошёл за ней. Отныне я стал её неразлучным спутником.
Но так как я путался у неё под ногами, она частенько расплёскивала молоко или ломала посуду: сердилась на меня и отваживала от себя. А я, вместо того, чтобы обидеться, снова упрямо шёл за ней, словно это не она меня только что отшлёпала.
Как-то раз, в воскресный день, дед сделал мне игрушечный топорик, грабли и плуг, бабушка вынесла свою толщенную книгу, в которую заглядывала каждый вечер, мама принесла ножницы и маленькую кастрюлю, отец притащил тесак, молоток, серебряные деньги, шило и мастерок, а дядя принёс крошечное ружьё и маленький хурджин. Все эти вещи родители разложили на маленьком столике и решили: первая вещь, которую я трону, определит, кем я стану в жизни.
Деду ужасно хотелось, чтобы я стал хорошим землепашцем и виноградарем, бабушка мечтала, чтобы я был книголюбом и гадальщиком; мама предпочитала видеть меня поваром, отец — торговцем или ремесленником; а дядя спал и видел, как я отправляюсь в город на заработки или брожу по лесным дебрям…
Когда все эти соблазны судьбы оказались на столике передо мной, бабушка, слегка подтолкнув меня, дрожащим от волнения голосом произнесла:
— Иди, детка, выбери, что хочешь! Всё твоё, бери, что понравится!
В это время скрипнула дверь и вошла Царо, а за ней Кечошка. Одной рукой он держался за подол материнской юбки, а в другой зажал хачапури.
Увидев дружка, я совсем забыл об этом столике, тотчас же выхватил у него кусок хачапури и, пока Кечо не опомнился, запихал его себе в рот.
— Ой, чтоб мне ослепнуть! — всплеснула руками бабка. — Бездельник и обжора из него выйдет! Ох, горе мне!
— Горе нашим врагам! — яростно взревел отец. — Что же делать? Опозорит он нас!
— Ай-яй-яй! — запричитала мать. — Хищником вырастет, как ястреб и шакал! Этот плут будет отнимать у других последний кусок хлеба!
Словом, семья наша горько оплакивала своё горе, а Кечошка ревел, оставшись без хачапури.
Царо успокаивала плачущего ребёнка.
— Не плачь, дурачок ты! У Бабилы кеци ещё не остыли, пройдём по дороге, она тебе ещё испечёт!
Эх! Откуда мог я знать, что бедняжке Кечо самому подбросили кусок, иначе разве отнял бы у него!..
Материнское молоко и гибель курицы
Пока у меня не было зубов, мать всё время радовалась, — вот, мол, сыночек так здорово сосёт грудь, что вырастет — станет знаменитым героем, и не дай бог, если кто разозлит его! Всё перевернёт!
Но через некоторое время настроение её изменилось.
Тот случай, когда я девять дней не прикасался к её груди, обошёлся ей довольно дорого. За эти дни я истосковался по материнскому молоку, и тоска заставила меня заново полюбить его, а такая любовь обернулась для матери истинным несчастьем.
От люльки, например, я отказался легко. Да и что же делать, если я в ней не помещался, а вот от материнской груди меня никак отнять не удавалось. Что бы я ни ел, но если под конец не брал в рот грудь, то не чувствовал себя сытым. Прорезавшиеся зубки мои были так хороши, что я опасался, как бы не износились, и потому предпочитал молоко, которое не надо было ни грызть, ни жевать.
Пей себе на здоровье безо всяких усилий!
Теперь мои острые зубки делали с маминой грудью то же, что мотыга деда Нико с буграми в винограднике. Разница только в том, что земля любила, когда её долбят и ворошат, а мать каждый раз готова была упасть в обморок от моих зубов.
Однажды я прокусил ей сосок до крови. Она ужасно обозлилась и пригрозила:
— Я вижу, что этот обжора так легко не откажется от меня. Но ничего, я ему покажу!
Вскоре дядя Пиран убил медведя. Когда у зверя вырезали желчный пузырь, мать растёрла кусочек его с горькими кореньями и обмазала сосок. Я по обыкновению присосался к груди. Сосок показался мне горьким и острым. Тогда я лизнул его кончиком языка и сейчас же выплюнул.
Прошло некоторое время, и я опять потребовал грудь. Не таков я был, чтобы легко отступиться от чего-нибудь. Но мать была начеку и проделала всё снова во второй раз. Она-то хорошо знала, что повредить мне это не может, и вот я лизал и лизал медвежью желчь. Постепенно я привык к ней и даже с удовольствием стал тянуть в себя эту горечь. Всасывая её со сладким молоком матери, я впервые познал истину: человек может привыкнуть к любой горечи, и тогда ему трудно обойтись без неё…
— Что делать? — спрашивала мать у бабушки. — Не оставляет!
— Ничего, милая, — успокаивала та. — Чем дольше ребёнок сосёт материнское молоко, тем здоровее становится. Ещё немного потерпи, сам перестанет. Стыдно ему будет, когда вырастет.
Спросили у отца. Но и он не разделял переживаний жены.
— Пускай сосёт, пока хочет. Вырастет богатырём — Амираном, с богом будет бороться.
Вот я и рос, не отказывая себе ни в тыкве, ни в жареной кукурузе. Не успевали ткемали вылупиться из-под цветочков, как тотчас же становились моей добычей, не пренебрегал я и ранним виноградом, а особенно любил тюрю из вина и накрошенного чурека, после чего ходил малость осоловелый.
Словом, всё это я к тому, что многое я испробовал к этому времени, но о груди всё же не забывал. Бывало, сижу и играю с Кечо, вдруг срываюсь с места, бегу к суетящейся в огороде матери и кричу ей:
— Мамочка, я голодный!
Мать безмолвно присаживается между грядками, а я, уже здоровый детина, яростно вгрызаюсь в иссохшую грудь.
Когда мне исполнилось пять лет, меня отправили в материнскую деревню к бабушке Тапло.
Вдруг среди ночи мне захотелось пососать грудь, и я уже спать не смог. Не зная, как быть, бабушка сунула мне свою. Откровенно говоря, я не успел ничего почувствовать: что я мог разглядеть в кромешной тьме! Но потом, начав сосать, я не ощутил ни вкуса молока, ни горечи, словно в рот мне сунули трут. После этого у меня появилось неодолимое отвращение к груди, но, как всегда, это случилось не вовремя: ещё немножко, и я бы превратился в Амирана. Но что поделаешь, такая уж незавидная судьба мне выпала.
Помнится, однажды, когда мне было года три, дед доверительно спросил меня:
— Послушай, дружочек, не кажется ли тебе, что твоя бабка чересчур уж одряхлела. Не сменить ли мне её на молодуху? А? Молчишь? Значит, согласен? Ладно, завтра же сменю.
— Не хочу дру-угую бабушкууу! — заревел я.
— А ну перестань ребёнка мучать, иначе я вырву волосы из твоей бороды и свяжу из них Караману шерстяные носки, — рассердилась старуха на деда, потом обняла меня и приласкала:
— Не бойся, лапочка, не променяет!
Прошли недели две. Бабушка завертела веретено и связала мне пёстренькие цинды. Я обрадовался и спросил:
— Это из дедушкиной бороды?
— Какой бороды? — опешила бабушка.
— Ты ведь сказала, что свяжешь мне цинды из его бороды?
— А-а-а! Помню, помню! Да, душенька, они самые. Пусть ещё раз попробует тебя огорчить, не то ещё сделаю!
Я после этого долго верил, что когда дед обижает меня, бабушка выдёргивает волосы из его бороды и вяжет мне из них тёплые носки. И я был счастлив оттого, что такая она у меня заступница и ради меня не щадит даже деда.
Цинды мне нередко вязала и другая моя бабушка — Тапло. Но я никак не мог понять: ведь деда-то у неё не было, так откуда же бралась шерсть?
Когда бабушка Тапло приезжала к нам в гости, для меня всегда наступал самый большой праздник. Ещё бы, чего только она не везла мне: сладкие пироги, чурчхелы, яйца, целый круг сыра, цыплят, словом, всего, всего…
Однажды бабушка Тапло привезла мне пёстрого цыплёнка со связанными ножками.
— Помоги ему, деточка, воды напиться, смотри, как он пить хочет!
Цыплёнок, и вправду, раскрыл рот и закатил глаза.
Под жёлобом стоял большой кувшин с отбитым горлом. Когда шёл дождь, дождевая вода прямо по жёлобу лилась в кувшин, а мама потом мыла той водой волосы. Я увидел, что в кувшине осталось немного воды, взял в руки цыплёнка и сунул его туда с головой. Он попил немного и пришёл в себя.
— Ах, какой ты хорошенький, славненький, — приласкал я его. — Пойдём со мной, лапочка, сейчас я тебя покормлю кукурузой.
До этого я держал цыплёнка за ноги и нёс его вниз головой. Теперь же, пожалев его, взял за шейку и понёс к амбару. Но тут я увидел, что головка его свесилась набок, и глаза вылезли из орбит.
— Что с тобой, душенька, может, тебе стоячая вода повредила? — испугался я и стал его ласкать, как это делала со мной бабушка. Я его прижал к груди, поцеловал в головку и шептал ему:
— Ну, хорошенький мой, цыпочка моя, будь молодцом! — Потом я посадил его возле бочки и насыпал перед ним пригоршню кукурузы, но цыплёнок подрыгал ножками не в силах разорвать бечёвку и совсем притих. Тогда я сам развязал ему ножки, но и это не помогло. Сколько я умолял его поесть кукурузы! Но цыплёнок даже не шевельнулся.
Встревоженный, я бросился в дом.
— Бабушка, помоги скорее! Цыплёнок не встаёт!
— Отдохнёт, сам встанет, — успокаивала меня бабка Тапло.
— Это какой цыплёнок? — спросила меня мать, вертевшая над огнём шампур с куском свинины.
— Тот, что бабушка Тапло привезла, — проговорил я сквозь слёзы. — Вот он, лежит возле амбара.
Мать почистила ножом свиную шкурку, бросила мясо в чугунок и, взяв меня за руку, пошла со мной к амбару.
— Ах ты, негодник! Ты ж его задушил!
— Я… я его ласкал…
— Ласкал. Небось стукнул по голове?
— Нет, я его только за шейку держал…
— Ай-яй-яй! Задушил! — взволновалась мать. — Ой-ой-ой! — этот проклятый, от горшка два вершка, а уже грех на душу взял! — Мама так вопила и причитала, что распусти она волосы, — стала бы точь-в-точь похожа на плакальщицу возле покойника. Прибежали обе бабушки.
— Что с тобой, Элисабед? Не стыдно ли так переживать?
— Ай-яй-яй! — не унималась мама. — Погибли мы, вконец погибли! Караманчик, паршивец, грешником стал! Задушил этот паскудник, совсем задушил!
— Кого, женщина, скажи толком!
— Как кого? Не видите, что ли? Цыплёнка задушил! Другого никого не смог! Уй-юй-юй!
До этого, что бы я ни вытворял, мать всегда хвасталась мной и радовалась, что сыночек у неё растёт молодцом, вырастет — и врагу и другу достойно ответить сумеет.
Теперь она кричала, что я дурак и злодей, погубитель семьи и грешник. В отчаянии она ломала руки и горько плакала.
Бабушки утешали её.
— Ну, будет, будет! Он же не хотел убивать, случайно, наверное, вышло, будет тебе!
Но мама и не думала успокаиваться.
— Ребёнок, а кровь, кровь на нём! Чего теперь от него ещё ждать? Чтоб мне не дожить до этого дня! Чтоб сгорел его день рождения! Почему он не погиб, когда я носила его под сердцем! Зачем я раньше не умерла!
Вообще много горьких слов произнесла она, много вопила и плакала, и била себя по голове, но, наконец, кое-как её утихомирили и увели в дом.
А я всё это время жался к стенке и, с ужасом тараща глаза, думал:
«Что за несчастье свалилось на меня! Что я наделал!»
Поразмыслив, я припомнил, что мои отец, дед, да и сама мать немало таких цыплят зарубили, но никто и слова им не сказал. Кроме того, мать, видимо, только и ждала этого, хватала тушку, чистила, мыла, потом бросала на раскалённые глиняные сковородки-кеци, жарил, и все с удовольствием лакомились. Так что же произошло сегодня из ряда вон выходящего, раз мать подняла такой шум и голосила на весь мир?
Пока она кричала и надрывалась, я стоял как, истукан. Но как только она вошла в дом, слёзы хлынули у меня из глаз и потекли по щекам…
Бабушка Гванца, не доверяя мельничному ручью, снесла и бросила цыплёнка в ревущую Риони. И вода тотчас же унесла его, но происшествие это навсегда осталось в памяти нашей семьи.
Минуло уже более месяца после того, а мать за всё это время ни разу не поцеловала меня. Она даже не брала из моих рук фрукты. Впрочем, я-то своими грешными руками ел всё, что мне нравилось, и грех этот сходил мне запросто…
Лепёшка из чрева кошки и крестины трижды
На второй день я снова успел натворить бед.
Бабушка испекла лепёшку из кукурузной муки. Она была горячей, я вынес её на двор остудить, положил её на ореховый лист, на арбу, а сам притулился рядом.
Через некоторое время решил её съесть. Но… куда там! Лепёшку как ветром сдуло.
Недолго думая, я отправился на поиски её и тут же увидел, как Кечошкина кошка прыгнула на забор. Я понял, чьих рук, вернее, лап это дело. Эта проклятая кошка с голодухи только и знала, что бегала да вынюхивала, что бы стянуть. Однажды она осмелилась утащить у нас цыплёнка и вообще часто торчала в нашем дворе в ожидании какой-нибудь добычи. Я бежал за кошкой, но её и след простыл. Я стал плакать. Выглянула бабушка Гванца.
— Ты чего это, Караманчик?
— Кечошкин кот у меня лепёшку стащил! А-а-а! — зарыдал я сильнее, зная, что найду в бабушке свою защитницу.
— Ну и из-за этого ты ревёшь, дурачок? Вот сейчас другая испечётся, я тебе дам!
— Не хочу я другую, я ту хочу!.. — заупрямился я.
— Радость моя, так он же её уже слопал наверное!
— Разрежьте ему живот и достаньте! — стоял я на своём.
Ведь сколько раз бабушка рассказывала мне, как вспарывали живот волку и доставали оттуда целёхонького живого ребёночка. И теперь я напомнил об этом своей бабушке, отчего, мол, нельзя проделать то же самое и с котом. Бабушка долго думала, а потом сказала:
— Жаль его, он же умрёт от этого!
— А вы потом зашейте ему живот!
— Ну хорошо, хорошо, глупышка, успокойся, сделаю как ты хочешь!
И вот бабушка вошла в дом, потом вышла обратно, влезла на забор и с превеликим трудом спрыгнула во двор к Лукии, пошла к амбару, цыкнула на кота, постояла там некоторое время и, вернувшись обратно, вытащила из-под юбки целёхонькую лепёшку.
— На, ешь на здоровье!
— Из кошкиного живота достала? — удивился я.
— А как же, не с неба же упала?
— Так сразу разрезала ему живот?
— А что там мудрёного? Раз-раз и готово!
— И зашила?
— Ну, конечно, деточка. Не отпустила бы его так! Теперь ешь быстрей, не то этот обжора ещё раз захочет его стащить.
Я не стал раздумывать над тем, чем она вспорола коту брюхо и чем зашила, слёзы тотчас же высохли у меня, я успокоился и с аппетитом стал уплетать свою лепёшку.
Бабка же пошла к дому.
Под вечер я снова заметил Кечошкиного кота в нашем дворе; он рыскал явно в поисках чего-нибудь съестного. Я быстро взял лежавший возле амбара топор, подкрался к воришке и хватил его по башке. Отчаянно взвыв, кот перевернулся, пошевелил усами, подрыгал лапами и оцепенел. Я бросил его на кусок кровельного листа и выкинул во двор к Лукии. Но вдруг меня заметила Царо и заорала, что есть мочи:
— Люди добрые! Помогите! Спасите! Убил! Убил, душегуб!
Я испугался и сунул топор под арбу.
Перепуганная бабка Гванца выбежала во двор:
— Что случилось, Царо?
— Да чтоб твой подох, проклятый! Он убил моего любимого кота, вот, взгляни!
— Ой, чтоб мне лопнуть! — ударила себя по щекам бабушка. Постояв немного, она потом спокойно сказала:
— Ну, что ж поделаешь, милая, иногда и такое случается. Ничего, возместим тебе убыток и всё тут. Кот издох, только и всего. Не кричи, а я за это отдам тебе хорошую наседку.
— Ой, мамочки мои! Что она говорит! — завопила Царо ещё сильнее. — Что же, может быть она, твоя наседка, станет мне мышей ловить, а? Или отдать мне себя мышам на съедение?
Бабушка и глазом не моргнула.
— Слушай, милочка, ты эти сказки другим рассказывай, а мне голову не морочь. Как будто я не знаю, что у тебя ни одной мыши-то нет! Да и откуда мышам у вас завестись? Весь двор обыщешь — зёрнышка не найдёшь!
Но Царо не унималась и всё твердила своё:
— Отдайте мне моего кота… Отдайте скорей! К чему мне ваша паршивая наседка?
Но тут уж бабушка не вытерпела и, обозлившись, крикнула ей:
— Ах ты, побирушка несчастная! Да будь я Иисусом Христом, я бы твоего кота оживила, а вот с тебя спустила бы три шкуры!
Словом, изрядно облаяв друг друга и вдоволь нашумевшись, они, наконец, унялись.
Бабушка принесла ей большую наседку, и Царо тогда, расчувствовавшись от бабушкиной доброты, сладким голосом пропела:
— Да что же это ты, на самом деле? Как тебе не стыдно? Ну, пристало ли это нам? Унеси её быстренько, чтоб никто не увидел, иначе на весь свет осрамлюсь. Вот когда ваша кошка окотится, тогда уж вы не забудьте, дайте мне котёнка, и будем квиты.
Царо вошла в дом, а наседка наша, недолго думая, взлетела на забор и затихла. Ей уже пора было спать.
Спасибо, мамы моей не было дома, иначе вы бы увидели, что такое настоящий скандал! Думаете, всё могло бы кончиться так же просто?
Вообще-то я заставлял своих несчастных сородичей браниться не только с соседями, но, бывало, бросал яблоко раздора и в собственном доме. Когда же настало время моих крестин, я понял по-настоящему, что значит ссора в семье, и как, нередко, какая-нибудь чушь может привести к серьёзной размолвке.
По обычаю у меня должно было быть три крёстных.
На эту почётную должность дед мой решил пригласить первого богатыря в деревне Туху Схиртладзе, виноградаря Дианоза Гургенидзе, известного своим трудолюбием и усердием, и Георгия Мешвилдишвили, прославленного рачинского джигита.
Дед утверждал:
— Ребёнок переймёт все хорошие качества своих крёстных, он будет самый сильный, а лозу будет любить, как жизнь.
Бабка твердила:
— Нет, уж пусть его сын дьяка крестит, тогда он тоже будет известный человек.
Мать согласилась с бабкой, но отец возражал:
— Подумаешь! Велика честь — грамоту знать! Главное, чтобы он был хорошим ремесленником. Давайте Беку попросим: он и дом может построить, и колыбели для всей Сакивары изготовляет.
— Да ну его! — отмахнулась бабка. — Он и гробы делает. На что нам гробовщик.
— Ничего! Все мы смертны, понадобится! Колыбель и гроб, небось, из одного и того же дерева делают! Деревня может прожить без Тухи и Дианоза, а вот без Беки никак нельзя! — упорствовал отец.
Бабушка Гванца в ужасе всплеснула руками и завопила:
— Нет! Не пущу гробовщика в дом! Уж лучше дурака Генторику в кумы взять, чем его! И даже не говорите мне об этом больше! Тьфу! Изыди, сатана!
— Хватит! — разозлился отец, — можно подумать, что уездный начальник или князь Аслан Эристави придут к нам ребёнка крестить!
— Вот это ты хорошо напомнил, — оживилась бабушка. — Судью попросим, уж больно он любит на пирушки ходить, может, из-за этого и согласится.
— Упаси господи! На нём столько грехов, что просто невозможно. Он всегда невинного наказывает, а виновного оправдывает! — взволновался дед и решительно добавил — Шельмеца и взяточника в дом не пущу! Семья Нико Кантеладзе известна своей порядочностью, а ты… какого-то подонка хочешь подсунуть? Нет!
— Вот чудак-человек! Ну чего ты взбесился? Оправдывает виновного! Подумаешь! А если Караманика в чём-нибудь провинится, разве он его не оправдает? — крикнула бабушка на разгневанного деда. Тут уж дед совсем пришёл в ярость:
— Что? Что? Вы думаете, если Караманика в чём-нибудь провинится, я его в суд пущу? У меня руки, слава богу, ещё крепкие — сам с ним расправлюсь!
Наконец и дядя вставил слово:
— Такого человека, как Михаил Рехвиашвили, днём с огнём не найти.
— Хватит с нас и одного охотника! — недовольно заметил старший брат.
— Что сыскать его трудно — это уж точно! — добавил дед. — Шляется, знай себе, в горах, а семья даже не знает, жив он или нет. Вечно держит своих в страхе.
Михаил был тем самым человеком, который дал дяде впервые испить радость приобщения к охоте, ну, а ученик уж никогда не забывал своего учителя.
— А где же охотиться, как не в горах? — заступился за него дядя. — Он же не кот, чтоб в сарае бегать! Он много ходит, но и метко бьёт по цели. Разве плохо, если ребёнок переймёт это умение в дальнейшем?
Много шумели, галдели, пожимали плечами и разводили руками, но так ничего и не придумали.
Бабушка вспомнила про Эрмолоза. Уж больно хорошо, мол, поёт.
Потом отец предложил в крёстные кузнеца Адама Киквидзе — он, мол, с таким мастерством куёт, словно волшебник.
Мать хвалила Бабилу Тогонидзе. Должна же, мол, быть среди крёстных хоть одна женщина, а лучшей соседки на всём свете не сыскать!
У дяди Пирана вырвалось имя духанщика Темира. Все сразу накинулись на него, и он замолчал.
А я, вытаращив глаза, глядел то на одного, то на другого, не зная, кого поддержать. Каждого в отдельности я уважал и с каждым соглашался.
Вдруг дед на что-то рассердился и заявил:
— Как хотите, так и делайте! Но только, чтоб я здесь попа не видел!
— Пропали мы, — воскликнула бабушка, обеими руками ударив себя по голове. — Старик белены объелся и взбесился! Сумасшедший, где ж это видано, чтоб крестили без попа?
— Правду люди говорят: волос длинный, а ум короткий! — презрительно заметил дед. — Что ты смыслишь? Разве освящённое богом вино не лучше поповской водицы? Зачем же даром отдавать попу деньги? Налью я лучше в таз вина, посажу туда Карамана и — привет! Вот вам и крещенье!
— Что ты говоришь, безумец! Опомнись! Да где ж это видано, чтобы ребёнка в вине крестили? — затараторила бабушка.
— Не было видано, так будет! — беспечно ответил дед.
— Чтоб тебе пусто было! И где ты это вычитал? — не могла успокоиться бабушка.
— А зачем мне чужим умом жить?
— Вай-вай-вай! Спятил старый! Спаси и заступись, всевышний! — и расстроенная бабушка выбежала ил комнаты.
Всё, однако, имеет свой конец. И спор этот, длившийся около двух лет, наконец закончился.
Наступило утро дня моих крестин.
В полдень, когда дом заполнили гости, прибежал Пиран и, оставив дверь открытой, громко провозгласил:
— Поп Кирилэ пожаловал!
Мне не терпелось поскорей увидеть гостя, которого ждали с таким благоговением. И когда на пороге вырос человек в широкой рясе, я понял, что это долгожданный поп.
У попа Кирилэ на груди висел крест на тонкой цепочке, в руках у него тоже был крест, только побольше. Длинная чёрная борода его тоже ниспадала на грудь.
Прежде, чем переступить порог нашего дома, он произнёс, подняв крест: «Мир сему дому». Не успел он и рта закрыть, как я заревел и удрал.
Цепочка и крест мне понравились, но чёрная борода напугала меня до смерти, и я со страху не знал, куда спрятаться. Тихонько я пробрался в дядину комнату и забился в уголок. Но за мной прибежали три моих крёстных: джигит Георгий, певец Эрмолоз и мастерица печь хачапури Бабила Тогонидзе. Поймали они меня без особых усилий. Георгий дал мне конфет, Эрмолоз — леденцов, а Бабила дала попробовать сладкий пирог.
Взятка сделала своё дело, я успокоился и подошёл к попу.
Но когда мне велели встать в таз, я снова заревел и обеими руками схватился за штаны. Не сниму, мол, и всё тут!
Мне тогда было уже больше трёх лет. Хорошо, крёстный Георгий заступился: мол, он уже взрослый парень, не надо его срамить.
Бабушка согласилась с ним. А мне стало смешно. Я и вправду немного стеснялся предстать перед всеми обнажённым, но в большей степени хитрил. Не станут же насильно стаскивать с меня штаны, авось что-нибудь мне дадут, чтобы задобрить. Моя уловка удалась: Бабила, пошарив в карманах, вытащила серебряную монетку.
Я в то время ещё ничего не смыслил в деньгах, но знал уже, что на них можно накупить целую кучу сладостей в лавке у Темира.
— Хочешь? — спросил меня Георгий и потряс в кулаке монетки.
Я кивнул. Но штаны продолжал держать.
— Куда же мне их высыпать? Кармана-то у тебя нет!
Я протянул ему одну руку и зажал монеты в кулачке.
— Хочешь? — теперь Эрмолоз побренчал монетками.
— Хочу! — снова кивнул я.
— Давай лапку!
Я протянул ладошку и она тотчас же наполнилась деньгами.
Когда обе руки были заняты, раздеть меня не составило труда. Я и не пытался сопротивляться, боялся выронить монетки.
Видимо, достаточно человеку зажать в руках деньги, как ему не только штаны, но и совесть потерять легко.
Крестины меня научили многому. Но, главное, я запомнил, что стоит схитрить разок и сразу станешь вымогателем.
Крестины мне казались чем-то необыкновенным всегда. А оказалось всё очень просто. В круглый таз налили тёплой воды, поп помахал над тазом кадилом, пошептал, и меня посадили в воду. Крёстные, как мне помнится, обошли вокруг три раза и встали рядом. А поп продолжал бурчать что-то себе под нос и махать кадилом и крестом.
Бабушка стояла неподалёку и с улыбкой смотрела на меня. Вот и все крестины.
Тёплая вода была мне приятна, но борода попа наводила на меня ужас, и я молил бога, чтоб поскорее всё кончилось.
Наконец меня одели.
Но тут дед подхватил меня и потащил в дядину комнату. Там было два человека, большой котёл и ковш.
Я и оглянуться не успел, как с меня снова стащили штаны и усадили в котёл, а дед вылил на меня целый ковш вина.
Приятный запах защекотал мне ноздри. Дед сделал-таки по-своему: снова окрестил меня, но теперь уже в вине.
Когда меня вытащили из котла, я слегка охмелел. Топчан, на котором мы спали с дядей Пираном, стоял тут же, и меня, обтерев широким полотенцем, уложили в постель.
Внезапно комната закачалась, меня понесло и закружило и швырнуло куда-то в бесцветную бездну.
На второй день у нас продолжали пировать, упоминая в каждом тосте моё имя. Страшно даже подумать, кем бы я мог стать, если бы хоть одно пожелание исполнилось.
Стол был накрыт в зале. Меня привели и усадили среди гостей.
Дед протянул мне крошечный рог.
— Держи, Караман! Если выпьешь до дна, я тебе подарю этот рог.
Но отец не дал мне сделать ни глотка.
— Подожди, уж это и потом успеешь!
— Отдай! — гаркнул на него дед. — Если сейчас он не привыкнет, то потом поздно будет. А что за мужчина, если вина не пьёт! Отдай, говорю!
Сын послушался отца и нехотя вернул мне рог.
Я поднёс рог ко рту, сделал глоток, второй и… перевернул его пустым.
Гости совсем развеселились. Теперь меня захвалили ещё больше, прямо до небес вознесли.
Эрмолоз затянул песню, а потолок и стены словно бы загудели и раздвинулись. Пока гости пели, дядя Пиран взял два кувшина и пошёл в погреб за вином. Я побежал за ним, но споткнулся и… нырнул куда-то с головой.
— Вай ме! — услышал я вскрик.
Кто-то схватил меня за лодыжку и вытащил из чана, в который я угодил. Я был мокрый с головы до пят: вино ручейками стекало с меня на пол.
После такого купания в вине я опьянел, но всё же узнал своего спасителя. Да и кто не узнает свою мать! Благословенье всевышнему, что она, на счастье, оказалась в погребе! Иначе вряд ли бы вы узнали от меня об этом.
Вновь я был в свежекрещёном, так сказать, состоянии. Ну и повезло мне! За два дня я крестился трижды: в тазу, в котле и в чане. После таких тройных крестин стоило мне завидеть бороду попа Кирилэ, как я стремглав бежал прочь и прятался. Боялся, как бы, чего доброго, вновь не надумали меня крестить!
Но что удивительно: страх к попу засел во мне надолго, а вот расположения к вину я не потерял.
Падение в чан научило меня бдительности, любопытству и осторожности. От многого я старался отмахиваться и многого старался избежать, а главное, боялся залететь в небо, чтобы, не приведи господи, снова не свалиться в чан.
Постылая вода и земляничный ковёр
Стоял знойный день. Воздух вокруг словно кипел.
Мама принесла кувшин родниковой воды. Дед схватил у неё кувшин и, захлёбываясь, стал пить. Утолив жажду, он передал кувшин бабушке. Та, конечно, обиделась и не преминула упрекнуть его:
— Ты что это, старик, с годами невежей становишься? Забыл разве: вино — старшему, воду — младшему?
Поняв, что допустил оплошность, дед решил улизнуть от прямого ответа.
— А ну-ка, отчего это, ответь мне?
— Да оттого, что младший нетерпеливее, — тотчас же нашлась бабушка.
— Ну, о том, что ты нетерпелива, давно всем известно, — хихикнул дед. Потом наставительно заметил: — Видишь? Тебя считают разумной женщиной, а всё же ты не знаешь, отчего это так повелось, что воду всегда уступают младшим!
— Да сам ты ни черта не знаешь! — обозлилась бабушка.
— Ничего подобного! Таких, как мы, эта пословица не касается! Это только к детям относится…
— Вот я и говорю, что ребёнок более нетерпелив! — не сдавалась бабушка.
— Нетерпеливых и среди нас немало, погоди, не лови меня на слове! Ребёнку уступают воду потому, что он ангелочек, ротик у него чистый, и после него не противно пить, поняла?
— Похоже, что ты сам это придумал, — держалась бабушка.
— Господи! Ну что это ты все земные мудрости выдаёшь за мои! — махнул дед рукой. — Попей-ка лучше, пока вода холодная!
На второй день, когда мама снова принесла воды, первым схватил кувшин я. Я выпил сколько смог, а остальное вылил на кошку, сладко дремавшую у порога.
Кошка вскочила и как безумная пустилась прочь.
— Ты что воду льёшь? — накинулась на меня мама.
— Какое тебе дело? Моя вода, что хочу, то и делаю! — беззаботно ответил я, приставив к стенке пустой кувшин.
— Как это «моя?» — разгневалась мама.
— Да так! Бабушка ведь сказала вчера: вино для взрослых, вода для маленьких. Вот и пейте своё вино сколько хотите, а воду не троньте! — косо взглянул я на мать.
Наш спор услышала бабушка.
— Ты что, опять напроказничал? — спросила она меня.
— Ничего я не сделал! — ответил я с невинным выражением на лице.
— Ах ты, безмозглый дурак! Всю воду вылил и ещё говоришь ничего? — шлёпнула меня мать.
Бабушка решила смягчить накалившуюся обстановку:
— Ну подумаешь, воду вылил! Не свет же перевернул!
— Сегодня он воду выливает, а завтра… Растёт такой зловредник, увидите, то-то ещё будет, — разозлилась мама и, больно дёрнув меня за ухо, прикрикнула: — Ну-ка, давай! Бери кувшин и марш за водой, иначе домой не пущу!
Угроза возымела действие, и я тенью скользнул со двора.
Родничок был не так уж близко. Надо было пройти деревню, а потом перейти висячий мостик над мельничным ручьём, подняться в гору по тропинке, пройти через полянку и добраться до раскидистой липы. И вот здесь, из-под мохнато-насупленной скалы, брызжа и пенясь, бил студёный ключ.
Смотрю — на полянке Кечошка и трое наших ребят играют в осла. Ну, а как это делается, вы, наверное, знаете: один сидит на корточках, а остальные через него прыгают. Кто не перепрыгнет, тот и осёл. Если ребят много, то осликов становится несколько, и вокруг стоит невообразимый гвалт. По дороге на родник я не стал задерживаться, но зато, возвращаясь обратно, не устоял и поддался соблазну. И тут мне ужасно захотелось пить. Немного попив, я поставил кувшин в надёжное место, потом рванулся и смело прыгнул через Кечошку. Раз, два… три… и… не тут-то было!
— Ага! Теперь ты осёл! Становись! — обрадовался Кечо.
Но я наотрез отказался:
— Не могу, Кечулик, меня дома ждут, воду должен принести.
— А ну-ка не жульничай! — роем облепили меня ребята. Что поделаешь, сила — она есть сила, и я послушно опустился на корточки. В те дни в Сакивару заявился какой-то, уж очень чудно одетый странник с взлохмаченной бородой. Поговаривали, что он без роду, без племени. Он всё ходил — бродил по просёлкам, словно нищий, но так ни разу ничего ни у кого и не попросил. Не похож он был ни на придурка, ни на сумасшедшего, одно только, что уж очень странно он говорил. Столяр Бека нарёк его мудрецом, кузнец Адам же утверждал, что он малость тронутый. Бывало, глаза его зажгутся как горящие угольки, и вдруг все словно как рукой снимало, — взор его затухал, и он с отсутствующим видом глядел перед собой.
Мой крёстный Георгий сказал: — Не надо смеяться над беднягой, хватит с него и собственного его несчастья, он, мол, весь белый свет обошёл, и радости много повидал, да и горя немало хлебнул. Видно, жизнь его не раз оглушила своей дубинкой, потому он и ходит такой безразличный ко всему. Он не может долго усидеть в городе, но и в деревне не находит себе места.
И вот, когда мы играли в нашего обычного «осла», этот человек и заявился вдруг и стал как-то странно на нас поглядывать. Мне пришлось раза три стоять «ослом», и от злости я чуть не разревелся.
— Не понравилось, юноша? — услышал я его хриплый голос. — Это ещё что! Вся жизнь человеческая подобна этой игре в «осла»: если не ты перепрыгнешь через кого-нибудь, то тогда другие тебя заставят согнуть спину, сделаться ослом, а сами станут через тебя прыгать. Ээх! — вздохнул он, не спеша повернулся и побрёл восвояси.
Я тогда толком-то ничего и не понял, что он сказал, но зато позднее, когда подрос и разума у меня прибавилось, всё для меня стало ясно. Что и говорить, скверное было тогда время, не то, что теперь, хи-хи-хи, когда люди так крепко уважают и любят друг друга, хи-хи-хи… небось, как раньше люди прыгали друг через дружку и только так проторяли себе дорогу в жизнь. Но я не пошёл по такому пути, не поддался соблазну. И никогда не возникало во мне желания перепрыгнуть через кого-нибудь… Да и особых способностей к этому у меня не было. Я старался выйти из водоворота людских страстей и жить своей мирной жизнью. Мне всегда казалось, что настоящее мужество не в том, чтобы прыгнуть через кого-то, а в том, чтобы прожить жизнь, никого не обидев!
Словом, в тот день мы заигрались. За это время я снова захотел пить и по дороге домой то и дело прикладывался к горлышку кувшина. Деду достался глоток воды, да и то тепловатой.
— Куда же ты воду девал? По деревне носил, что ли?
— Выпил!
— Из родника надо было пить! А то за водой пошёл, а сам всю воду по дороге выдул! Хорошенькое дельце! Ну смотри, никому не проговорись об этом, иначе вся деревня высмеет тебя, на весь свет ославят!
— А я сначала не хотел пить, потом мне захотелось, что было делать? — оправдывался я.
— Надо было вернуться на родник! Чего ты приплёлся обратно с пустым кувшином? Не понимаешь? — дед сунул мне в руки пустой кувшин. И я, понурив голову, поплёлся за водой снова. На обратном пути я уже и не помышлял сделать хоть один глоток из кувшина. Так шутка со спящей кошкой мне дорого обошлась. А дома решили: Караман умеет ходить за водой, — и кувшин теперь всё чаще маячил за моей спиной. День-то был один, а хождений к роднику — девять.
Однажды утром я проснулся и вижу: дядя мой Пиран вместо ружья перекинул через плечо длиннющую косу, а на спину взвалил мешок.
— Куда это ты собрался? — с любопытством спросил я.
— К чёрту на кулички! — огрызнулся он.
Я почему-то обрадовался и попросил:
— Можно и мне с тобой?
— А ты хоть знаешь, какие они, эти чёртовы кулички?
— Не знаю!
— Вот видишь, а сам лезешь!
Но мне было всё равно куда идти, я готов был бежать хоть к чёрту на рога, только бы не к роднику: так опостылело мне то хождение за водой.
Позже я понял, что дяде в тот день идти на сенокос так же хотелось, как мне на родник. Вот и выходит, что чёртовы кулички у всякого свои.
Отец уже три дня косил в горах. Ночь он проводил в шалаше из сухих ветвей, и младший брат теперь должен был отнести старшему немного еды и подсобить ему в работе. Я так приставал к дяде, что он не смог мне отказать и взял меня с собой. Мы поднялись по косогору.
Отец косил у опушки леса.
Увидев нас, он просиял: по всему было видно, что наше появление было как нельзя кстати. Он бросил косу и, развязав мешок, немного перекусил, потом повесил сумку на ветку груши, чтоб в него не наползли муравьи, наточил косу и вновь взялся за работу. Дядя с кислым выражением на лице последовал его примеру. Меня они посадили возле шалаша.
Мне хорошо был виден ярко-красный ковёр. Это росла спелая земляника. Я пожалел, что не захватил с собой корзинки: хорошо было бы набрать полную корзину ягод и отнести Гульчине. Но только, когда её отца не было бы дома. Потому что я очень боялся его чёрной бороды.
Настал полдень, и сделалось невыносимо жарко. Громко и неумолчно стрекотали кузнечики. Вскоре подошли и отец с дядей. Улёгшись отдохнуть в тени дерева, они закурили. Потом отец зашёл в шалашик и вынес оттуда кувшин из выдолбленной тыквы.
— Как теперь быть? — спросил он дядю. — Не станем же мы обедать без воды? Кто пойдёт, я или ты?
Младший брат спокойно заметил: — Так я не знаю, где здесь родник.
— Охотник не собьётся в горах с тропинки. Видишь во-он там большой бук? Оттуда пойдёшь по тропинке, и она сама приведёт тебя к источнику, — сказал отец. — Ну, пойдёшь, или мне отправляться?
— Как хочешь! — пожал плечами дядя. — А вообще полагается младшему нести воду, — добавил он, поглядев на меня.
Тогда отец повернулся ко мне:
— Ну как, герой, не наскучило тебе отдыхать?
— Отчего же, здесь прохладно… — ответил я, не сморгнув.
— А ты как считаешь, кому следует идти за водой: мне или твоему дяде?
Тут уж я смекнул, почему братья завели этот разговор: — может, мол, мальчишка сообразит, что это ему следует принести воду.
Какого чёрта бежал я с равнины в горы, если мне снова за этой водой проклятой идти? Прямо из огня да в полымя!
— Ты чего язык проглотил? Посоветуй нам, как быть? Да не стесняйся: иногда и ребёнка не грех послушать.
Я не стал долго раздумывать и разрешил спор просто:
— А чего здесь думать? Сначала пускай один пойдёт, потом другой.
— Ах, ты, бессовестный! Развалился здесь, совсем лодырем стал! Лежебока ты несчастный! — разозлился отец, — может, тебе сенца под бочок подложить, чтоб мягче было, а? Ты что же наблюдать за нами сюда явился? Нахал ты эдакий, знай раз и навсегда, что работа лодырей не терпит! Убирайся вон отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели!
— Эх! — подумал я. — Видно, на роду мне это написано! — и, схватив кувшин, стрелой помчался к роднику.
Сплетённая из прутьев корзина и растущие на черешне груши
Словом, в горы я больше не пошёл, но и воду таскал по-прежнему без охоты. Тогда дед попросил нашего кузнеца Адама Киквидзе выковать для меня небольшую мотыгу: когда она была готова, дед приладил к ней красивую ручку и благословил меня на дело. Отныне, отправляясь работать в винограднике, он брал с собой меня.
Дед без устали твердил мне: — Знай, сынок, не будет счастлив тот, кто не любит землю и лозу. — Слова эти до меня не долетали, их уносил ветер, был ли он, или его не было.
Но как-то раз днём, в самый зной, дед всё-таки заставил меня поработать. Незадолго до этого он срубил старую грушу, дававшую прохладную тень, и теперь спрятаться от палящих лучей солнца можно было разве только под самыми лозами. Когда мы изрядно поработали, дед присел на пенёк. Тут же, рядом, стояла старая бочка из-под вина, в которой обычно разводилась бордосская жидкость. Теперь в бочке была чистая вода. Дед поставил ногу на мотыгу, достал кисет и задымил. А я за его спиной стал размахивать мотыгой, словно мотыжил на его голове. Он неожиданно повернулся ко мне и крикнул:
— Ах ты, сукин сын! Ты сюда дурака валять пришёл? А ну-ка вон отсюда, убирайся!
О большем я и не мечтал, и поэтому не успел дед закрыть рот, как меня там уже не было. И вот я побежал оттуда со всех ног и вдруг решил испытать своё мужество и прыгнуть со скалы. Я вспомнил, как однажды какой-то пастух влез в огромную корзину, сплетённую из прутьев, и покатился по склону в овраг. И как вам это понравится — он совсем не ушибся. Во всяком случае, в сказках, которые мне рассказывала бабушка Гванца, всё обстояло именно так.
Я помчался вдоль ручья, прокрался во двор, бросил там мотыгу, схватил большую корзину и вместе с ней ринулся обратно. Затем я поднялся на достаточную, на мой взгляд, для проявления геройства высоту, влез в корзину и, устроившись на корточках, покатился вниз.
Раздался сухой треск, потом я почувствовал, что бултыхнулся в воду.
Моя крёстная Бабила видела мою проделку и закричала что было сил. Сбежался народ. Меня тотчас же, даже не вынимая из корзины, отнесли домой. Дома была одна бабушка. Увидев стольких людей, она уже схватилась за волосы, но Бабила её успокоила.
Я был оглушён и перепуган, из-под правой брови сочилась кровь. Меня обмыли, наложили на рану какое-то травяное снадобье и перевязали. Всё тело болело от ушибов, но я не посмел издать хотя бы слабый стон! Если уж отважный молодец решил прыгать со скалы, то, извините, пусть изволит молчать!
Бабила уложила меня на дедушкину тахту, и целый день у нас в доме толклись люди.
Убедившись, что я жив, бедная моя бабушка трясущимися руками ласкала и гладила меня, и всё спрашивала, не надо ли мне чего. Я долго заставил её ждать, потом, наконец, слегка приоткрыл рот и соизволил выдавить:
— Яичко, бабуся!
— Яичко! — всполошилась старуха. — Ой, генацвале! Лишь бы ты был у меня жив-здоров! — засуетилась она и мигом принесла мне совсем ещё горячее яйцо.
— Почистить тебе? Лапочка моя, посолить или так съешь?
— Посоли! И дай водички запить, — заговорил я, осмелев.
Яйцо показалось мне необыкновенно вкусным.
— Бабуся!
— Что, радость моя, что, ласточка?
— Свари ещё такое вкусное яичко, а не то я снова влезу в корзину и прыгну в самый глубокий овраг.
— Ой! Боже мой! Ума у него нет, гадкий мальчишка! Да разве я тебе когда отказывала? Ну, говори, сколько сварить, три? Пять?
— Лучше шесть, одно я тебе отдам. Я ведь знаю, что ты их никогда не ешь!
Бабушка сварила семь яичек. Я тотчас же слопал два, одно заставил съесть бабушку, а остальные мы оставили нашим.
В это время прибежал дед. Он был так испуган, что был похож на сумасшедшего.
— Ты что? Убиться решил? Ну что я тебе плохого сказал? Неужто нельзя потерпеть от деда и одного слова? Бессовестный ты, как ты мог так опозорить меня на весь белый свет?
— Да ты что? Вовсе я и не думал умирать, просто я хотел испытать свою храбрость, — возразил я.
Тогда он обрадовался.
— Ах, вон оно что! Подумай-ка, а я уж было решил, что ты трус! Но что за геройство — со скалы прыгать? Вот, если на тебя нападут враги, например, попробуй, уложи всех поодиночке, это будет храбрость! А таких глупостей больше не делай, иначе не знаю, что с тобой сделаю!
Увидев, что я цел и невредим, он вышел во двор. Потом вернулся и пожаловался бабушке:
— Ты посмотри на этого паскудника, что он натворил! Сломал новую целую корзину!
Бабушка напала на него.
— Ты что, старый, белены объелся? Ребёнок еле жив остался, а ты из-за корзины трясёшься?
— Да, теперь я из-за корзины трясусь, а как же иначе?
Вечером обо всём узнала мама. Когда ей рассказали эту историю, она так испугалась, что упала в обморок, но потом, придя в себя, произнесла:
— Господи, до чего странный ребёнок, чтоб он жил до ста лет!
Словом, мой прыжок со скалы сделал меня маленьким господином: наши всё время боялись как бы я опять чего-нибудь не натворил. Но я не такой уж был дурачок, чтобы повторить это ещё раз.
Ну да, чёрт с ней, с этой историей! Вот послушайте-ка другую.
Когда во дворе у Кечошки поспела их знаменитая груша, то Лукия, отец его, окружил дерево забором из таких колючек, что никто и близко подойти к нему не смел.
Обычно Лукия продавал груши, потом на вырученные деньги запасался кукурузой. Поэтому он и сам их не ел, и Кечошке не разрешал. А если ветер срывал червивые плоды, то под деревом их сторожила свинья, так что Кечо оставалось лишь слюнки глотать.
Попробовал бы он сбить хоть одну грушу камешком! Показал бы тогда ему отец, где раки зимуют!
Груша росла возле нашего двора, и с того времени, как плоды её начали приобретать нежнорозовые оттенки, стала соблазнять меня.
По нашу сторону забора, рядом с ней, росла черешня.
Когда ещё груши были зелёные, а ягоды на черешнях спелые, я как-то заметил, что Кечошка, взобравшись на своё дерево, лакомится нашими черешнями. Тогда я промолчал: ведь попробуй скажи ему об этом, он мог бросить в меня камень и разбить мне голову. Но зато теперь я вспомнил об этом и решил отплатить ему. Но чтобы и ко мне не смогли придраться, я залез на свою черешню и стал с аппетитом уплетать спелые груши. Словом, чего греха таить, раза два я это сделал так, что никто ничего и не заметил. Но разве всегда везёт? И вот, когда я полез на дерево в третий раз, меня увидел Кечо. Я даже похолодел со страху, но не подал виду, уселся на ветку и стал беззаботно болтать ногами. Смотрю — Кечошка как-то уж очень приглядывается ко мне, ну, думаю, несдобровать! А он перелез через забор к нам во двор и тотчас же вскарабкался ко мне на дерево. Я насторожился и жду, что будет. Решив, что он хочет сбросить меня с дерева, твёрдо стал на толстую ветвь и занял надёжную позицию. Но Кечо вдруг разинул рот до ушей и неожиданно просиял.
— Вот, молодчина, Караман, как ты здорово сообразил! — воскликнул он и полез за грушей.
— Этому я, дружочек, научился, когда ты со своей груши съел половину нашей черешни, — с достоинством ввернул я соседу и великодушно сказал: — Не стесняйся, угощайся на здоровье!
Мы радостно засмеялись.
Короче говоря, день за днём мы с Кечо вволю попировали.
Вскоре ветки, растущие в наш двор, оголились. Тогда Кечо прыгнул с черешневой ветки на грушевую. Но я за ним не последовал: это пахло настоящим воровством.
Не успел он устроиться там поудобней, как его увидела мать. И если с их двора на дерево невозможно было влезть, то спрыгнуть с него во двор было очень просто, и Кечо прыгнул. Царо нещадно отхлестала сына бечёвкой. Когда она била его, бечёвка, разрезая воздух, издавала такой звук, словно в деревню ворвался волк и все охотники открыли по нему пальбу.
Но когда за Кечо взялся его отец, дело приняло плачевный оборот. Лукия недоумевал: как сын смог взобраться на дерево по таким колючкам, не крылья же у него выросли!
Сначала Кечо молчал, но потом не выдержал боли и сознался: — С соседской черешни перепрыгнул!
— Что-о? — навострила уши Царо. — Так я и думала, что это кто-то другой одурачил моего сына. Оставь его! — набросилась она на мужа. — Ты с него шкуру сдираешь, а тот, кого следует наказать, гуляет себе на свободе.
— Я ничего не знаю! — отрезал Лукия.
— «Не знаю!» — Разве не слышал собственными ушами: перепрыгнул, мол, с соседской черешни? Это совсем другое дело. Открой глаза и прочисть уши!
Царо подошла к межевой изгороди, ещё разок оглядела перекинувшиеся в наш двор осиротевшие ветви и истошно завопила:
— Ой! Ой! Люди добрые! Всё сожрал, проклятый! Уж лучше б тогда мой сын их съел! Ой, батюшки, пропали мы! Одни листья только остались!
Я дрожал мелкой дрожью, спрятавшись за дверьми хлева и осторожно поглядывал в щель. Лукия оставил сына и теперь набросился на жену.
— Ну, будет! Пошли в дом! Что было — то было. Не заставляй меня ссориться с соседями из-за двух гнилых груш!
— Не прощу! Не прощу! — визжала она.
— Не простишь, и чёрт с тобой! — огрызнулся он и вошёл в дом, потащив громко плачущего Кечошку.
— Элисабед! Элисабед! — орала Царо.
— Что случилось? — выглянула мать.
— Смотри, Караманика у нас все груши съел!
— Не видала! — удивилась мать.
— А ты глянь, увидишь! На вашей стороне все ветви пообчистил! С черешни ел.
— Ну знаешь, это видно проделки твоего сына! — дала отпор мама.
— Смотри-ка! Она ещё спорит!
— Не спорю, а святую правду говорю. Кечошку я знаю как облупленного. Он ведь специально обобрал ветви с этой стороны, чтоб на Караманику сказали.
— Оправдывай своего охламона! Не видать мне счастья и радости, как твой балда никогда человеком не станет.
— Может, твой сын и научил его воровать, а за нашим родом такого не водилось. Если хочешь — отдай мне Кечошку, я из обоих людей сделаю!
— Ты лучше за своим оболтусом присмотри, а я уж как-нибудь обойдусь! Что-то больно рот загорелся, видать перца наелась! Ну с чего это, скажи на милость, мой сын станет воровать собственные груши?
— А отчего же вы колючек туда понасадили? — усмехнулась мать. — Разве не знаешь, что для ребёнка запретный плод сладок? Если Кечошка у тебя по чужим садам ворует, думаешь, своё побоится тронуть? Знаю я обоих! Караманику я не хвалю, но он в сто раз лучше твоего Кечошки, так и запомни!
Я затаив дыхание не сходил с места и не отрывал глаз от щёлки.
Раньше, когда Кечошка проказничал, Царо привязывала его к амбарному столбу, но мальчик так привык к этому, что потом уж сам бежал к месту своей казни.
Мама не преминула напомнить об этом Царо, и та так оскорбилась, что готова была кусать себе локти от злости.
Мой отец был в это время дома. Но ни разу не выглянул во двор во время всей этой кутерьмы. Он вообще не любил вмешиваться в такие заварушки, зная наперёд, что почешут бабы языки, да и угомонятся. Так оно и вышло: угрожая друг другу и выплёскивая друг на друга бог весть откуда взявшиеся бранные слова, мама и Царо наконец разошлись по домам. А и то сказать, разве я один был виноват во всём?
Застрявшая рука и вкус ворованного винограда
После этого скандала я уже редко оставался во дворе. Зажав в руке увесистый кусок сыру и мчади, я бродил по округе. Как-то раз в конце деревни, за высокой изгородью, я приметил спелые орешки, но перелезть туда не посмел. И вдруг — удача! — щель, настоящая щель. Я мгновенно сунул туда руку, отломил целых три пучка орехов и потянул руку назад.
Как бы не так! Не идёт рука обратно, и всё тут. Мне показалось, что кто-то крепко схватил меня за руку! Посмотрел — никого. Проклятая изгородь руку не пускает. Может быть потому, что я украл? Я разжал пальцы, и орешки посыпались на землю. Но не тут-то было — руку всё равно вытащить не удалось. Тогда я схватился за грешную руку честной рукой и потянул, но опять никакого толка. Подумать какой хитрый забор поставили — сам вора ловит! Что же мне было делать? Не дай бог, прошёл бы кто-нибудь мимо! Как Царо обрадовалась бы, раззвонила бы об этом на весь белый свет! А сколько мук вытерпели бы мои уши! Так-то и вовсе без ушей останешься! Я представил себя безухим, и сразу слёзы градом покатились из глаз, не удержавшись, я громко всхлипнул.
— Кто там? — послышался женский голос.
Ого! Кто-то ходил там за изгородью. Слёзы тотчас же высохли у меня, я напрягся, что было сил, но… всё напрасно! Капкан действовал безотказно. Смотрю: идёт ко мне тётка в красном платье. Я пригляделся: надо же, кажется, та самая, у которой я подбил в прошлом году рябую курочку. Да, конечно, это она, я вспомнил её густые брови и огромные глаза.
«Чёрт возьми! Этого ещё не хватало! Вот и осрамился я. Кто же теперь станет меня уважать?»
А женщина подошла уже совсем близко.
«Ну теперь я пропал!»
— Ты чего плачешь, мальчик?
«Что ж ей ответить? Что, мол, орешки воровал?»
Я буркнул первое, что пришло на ум.
— Рука застряла, не могу вытащить.
Женщина посмотрела на мою руку и сказала мне:
— Вот чудак какой! Если тебе захотелось орешков, не мог что ли ветку пригнуть?
Вот, думаю, принесёт сейчас крапивы, задерёт мне штаны и…
— Да не мучай руку, исцарапаешься! Подожди, я сейчас помогу!
Смотри ты! — думаю, — ещё и издевается, подожди, мол, сейчас я тебе всыплю! И вовсе я не хочу ждать, но попробуй, освободись.
Женщина тем временем раздвинула прутья изгороди, и я легко высвободил руку. Удирать теперь было даже стыдно, и я стоял понурив голову.
— Больно? — спросила она.
— Нет, не очень, — ответил я смущённо, и вдруг мне показалось, что я похож на телёнка.
— Что ты здесь делал? Я тебя совсем не знаю.
— Да я так, прогуливался, — ответил я и пошёл прочь.
Вот беда, думаю, ещё спросит: чей ты, а тут, гляди, припомнит насчёт курицы, и тогда мне конец.
Но я напрасно испугался, она ничего не спросила, только сказала:
— Видишь, деточка, воровать ты не умеешь, кликнул бы лучше меня, и я бы тебе этот орешник с корнем отдала, не золото ведь! — и погладила меня по голове. Потом собрала рассыпавшиеся орехи, прибавила к ним ещё и, велев поднять подол рубахи, высыпала мне их туда.
Когда опасность миновала, я, в душе, даже обиделся на неё, почему она сказала, что я не умею воровать? Мне стало обидно, ведь все наши ребята, хвастаясь, наперебой рассказывали о своих проделках, и воровство казалось тогда нам истинным геройством.
Тут-то я и решил про себя: ну хорошо! Придёт время, и я покажу, на что я способен!
Наконец это время пришло!
Бабушка Гванца нередко уверяла, что в небе есть дыра: если найти её, то можно будет вылезть через неё в другой мир.
Насчёт небесной дыры я не совсем был уверен, но зато уж точно знал, что в изгородях, окружавших наши виноградники, всегда найдётся хоть одна лазейка. Да не такая, в какой рука моя застряла, а большая, в которую легко пролезть голове.
Мимо нашей калитки шла дорога, немного дальше она разветвлялась на тропинки, одна из которых вела к небольшой горке. Под той горкой находился самый знатный из всех наших виноградников — виноградник Тадеоза Кереселидзе.
Когда виноград поспел, Кечо взял меня туда. Он показал дыру в плетне, которую проделал барсук. Через эту дыру мы влезли в виноградник. До чего же был он хорош! Всюду пестрели чёрные, изумрудные и розовые гроздья. Мы поскорее залегли у спелых лоз. Гроздь винограда обычно отщипывают у самого черенка, иначе её сорвать трудно: ягоды осыпаются. Поэтому мы, как собачки, стали откусывать ягоды прямо с лоз.
Вначале мы целыми пригоршнями сыпали их в рот и глотали целиком, потом стали обрывать по ягодке и вскоре так объелись, что кожуру и косточки сплёвывали прямо на лозу.
Удивительно, до чего вкусен ворованный виноград! А может, там росли какие-то особые сорта, которых нет у моего деда? Или это просто мне так показалось?
Но Кечо уверял, что у моего деда виноград во сто крат слаще. Может быть, оно так, но только я слаще этого винограда никогда не ел.
Наверное, я бы съел там весь виноград, но от сладкого сока губы мои слиплись, и я уже с трудом открывал рот, а животы у нас, извините великодушно, так вздулись, что нам не только шевелиться, но и дышать было тяжело. Теперь мы уже не замечали красоты виноградника. Пока желудок пуст — любая еда мила, а наполни его — и пропала вся прелесть. Эту истину понял я тогда впервые. И ещё я понял, милые мои, что если хочешь наслаждаться красотой жизни, не грех иногда и поголодать.
Одним словом, долгое время не могли мы подняться с земли, но не оставаться же там было ночевать! Прихватив на прощанье самые крупные гроздья, мы подошли к лазейке. Можете себе представить, что в дыру, проделанную барсуком, пролезть нам уже не удалось, пришлось, изрядно исцарапав ноги колючками, лезть через изгородь.
У калитки Кечо приложил к губам палец и предупредил меня:
— Смотри, Каро, не проговорись!
Я кивнул головой — мол, лучше твоего знаю, но зря я был так в этом уверен.
Пока мы перешёптывались, откуда ни возьмись, появился мой дядя Пиран, с корзинкой за спиной, в которой лежали кукурузные початки.
Кечо косо взглянул на него и съёжился.
Мы вошли во двор. Дядя поставил корзину, потом почему-то оглядел меня с головы до ног.
— Эй, малыш, почему живот у тебя стал словно надутый бурдюк? — и, ткнув меня в живот локтем, произнёс: — Виноград ел?
— Какой там виноград! — поспешил я ответить, но сам растерялся.
— Украл? — нахмурился охотник.
— Что ты? — Теперь уже я совсем перепугался.
— Не ври! Дед не дал бы тебе столько съесть. Что у тебя с животом, от жадности того гляди лопнет! Это тебя Кечошка повёл воровать?
Не успел я и рта раскрыть, чтобы ответить, как из комнаты вышла мать.
— Куда это ты запропастился, негодник, целый день не евши не пивши шляешься!
— А зачем ему еда, видишь, как он брюхо набил виноградом, там и для иголки места не сыщется! — ответил вместо меня дядя.
— Где это ты съел столько? — рассердилась мать.
— Украл, — снова ответил за меня дядя.
— Этого ещё не хватало! — глаза её сверкнули недобрым блеском.
— У кого украл, говори, проклятый, чтоб тебя смерть украла!
Наверное, она меня обязательно бы побила, если бы дядя не заступился. Он повёл меня в дом, усадил у камина и заставил рассказать про набег на чужой виноградник.
— Ух ты! — изумился дядя. — Неужто в Тадеозов виноградник влезли? Что же теперь с тобой будет? В прошлом году один парень из соседнего села своровал у него виноград, так знаешь, что он с ним сделал?
— …?
— Не спрашивай, страшно даже вспомнить. Теперь этот несчастный стал одноруким. Тадеоз отрезал ему правую руку, всю, целиком! Так исстари наказывают воришек.
— Ну да! — засомневался я. — В соседнем селе ни одного однорукого нет.
— Правильно! — подтвердил дядя. — Потому что его тотчас же в город взяли.
— Как же он застёгивает себе брюки? — озадаченно спросил я. — Почему-то это меня обеспокоило больше всего.
— Помогают ему. А вдруг Тадеоз узнает про тебя, что мы будем делать! — и он удручённо покачал головой.
Я тоже испугался, но какая-то надежда всё-таки ещё теплилась во мне.
— Как же он узнает, ведь нас никто не видел?
— А он и того парня не видел, но вот пошёл по следу и дошёл до его дома. Боюсь, что он и тебя так найдёт. Что же нам делать, а? — и он понурил голову и прикрыл глаза рукой.
Слёзы душили меня, но я держался, ведь вор — герой, а герою не пристало реветь. Настроение у меня было подавленное.
— А ты его во двор не пускай, заряди ружьё и держи наготове, — несмело предложил я ему.
— Что ты! — возразил дядя. — Мало того, что человека обворовали, теперь ещё убивать его прикажешь? Тогда придёт другой, с ружьём, и арестует нас обоих, и меня, и тебя, свяжет нас по рукам и ногам и бросит в тюрьму. А кроме того, говорят, что Тадеоз знает какое-то заклинание и никакая пуля его не берёт.
Тут уж я не выдержал и зарыдал.
— Ну что ты, мальчик, что ты, миленький! — утешал меня дядя. — Не бойся, он не отрежет тебе руку, я его попрошу, он меня обязательно послушает. Нет, мучать тебя я ему не дам, а вот в тюрьму тебя, может, посадят на несколько дней. Ну, ничего, поголодаешь немного, и делу конец.
— Не хочу в тюрьму, не хочу! — заорал я.
— Ну хорошо, — почесал он затылок, — так и быть: когда они придут за тобой, я тебя спрячу в надёжное место, а им скажу, что тебя нет дома. Вот всё, чем я могу тебе помочь, дружок.
Это мне понравилось. Да и отступать было некуда: надо было прятаться и спасать свою шкуру.
В ту ночь мы с дядей легли, по обыкновению, в одной комнате. Он вскоре захрапел, а я не смог сомкнуть глаз и вздрагивал от малейшего шороха. Наконец, глубокой ночью я уснул, и во сне мне приснился усатый солдат. Утром меня разбудил собачий лай. Я вскочил как безумный и оделся так быстро, как никогда в жизни. Дядя уж был на ногах и причёсывал свой хохолок.
Он посмотрел на меня и вдруг сказал:
— Ой, кажется, пришли, Караманчик. Куда ж мне теперь тебя спрятать?
Я потерял дар речи от испуга. Но тут взгляд мой упал на топчан.
— Ну чего же ты смотришь? Полезай быстрей!
Перед топчаном лежала шкура барсука. На ночь, ложась в постель, мы вытирали об неё ноги. Я втащил её под тахту и лёг там на неё.
Дядя вышел. С замиранием сердца я ждал, что вот-вот войдут и начнут обыскивать.
И вдруг дверь легонько скрипнула, а я от страха совсем перестал дышать, закрыл глаза и притворился спящим. Но сердце моё так бешено колотилось, что я удивляюсь, как грудь моя не разорвалась.
— Вылезай, малыш! — услышал я слова дяди и, выглянув, не поверил своим глазам: он был один. Честно признаюсь вам, что целых две недели я был в тревоге и волнении, не выходил никуда из дома и старался даже не показываться во дворе. Однако скоро понял, что дом — не крепость. Как ни прячься — от людей никуда не денешься. Как-то раз, днём, послышался ожесточённый лай. Наш пёс всегда лаял так злобно, когда во двор заходил кто-то чужой. Я схватил дедову бурку, завернулся в неё, дрожу и жду, когда в комнату войдёт Тадеоз, а с ним этот проклятый солдат.
— Кто это там? — спрашивает отец маму.
— Никого нет. Это наш Куруха и собака Лукии нашли где-то кость и теперь грызутся.
Я успокоился, но ненадолго. В вечернее время было ещё того хуже.
— Эй, Нико! — крикнет, бывало, кто-нибудь. А мы с дедом в это время в погребе. При свете лучинки мы готовили там всё необходимое для приближавшегося сбора винограда. Старик идёт на зов, а я остаюсь: если уж прятаться, то лучшего места не найти: я залезаю в давильню, и пот льёт с меня в три ручья.
Дед неторопливо возвращается. Оказывается, приходил кузнец Адам Киквидзе, который должен нам сменить колесо на арбе.
— Куда ж ты это залез, Караманчик? — удивляется дед.
— Я смотрю, нет ли здесь трещины! — отвечаю я и улыбаюсь своему умению удачно соврать.
— Амброла! Эй, Амброла! — громко зовёт кто-то отца.
Я снова шарахаюсь и забиваюсь в дальний угол амбара. А это всего лишь покупатель, пришедший к отцу купить кровельного железа.
— Пиран! Где ты, Пиран!
— Ой! Вот теперь на самом деле пришли! — шепчет дрожащим голосом дядя, и я, трясясь от страха, лезу в бочку с мукой. Но и на этот раз гроза прошла стороной: приятель просил у дяди денька на два охотничью собаку. Словом, посетителей было не счесть, да и углов, где я скрывался, тоже.
Стоило вдруг залаять собаке громче обычного, как я, ошалев от испуга, не мог сдвинуться с места и оставался стоять как истукан.
Однажды пёс заливался так долго, что я решил — пришёл мой конец. Бабка выглянула — никого. Дед выглянул — никого. А собака всё лает. И, думаете, на кого она лаяла? Представьте себе — на луну.
В один прекрасный вечер я дошёл до того, что умудрился влезть в кувшин, где обычно хранили сыр, и прикрылся сверху барсучьей шкурой. Спасибо, что сосед, позвавший дедушку, быстро ушёл, иначе б я наверняка задохнулся. Я потерял сон и покой. Всё время был настороже и смотрел в оба: днём и ночью мне мерещился солдат с ружьём. С ненавистью поглядывал я на виноградник, потому что хорошо понял, что нет на свете ничего горше украденного винограда, и лишь гораздо позднее я узнал, что дядя Пиран нарочно пугал меня: бедного Тадеоза Кереселидзе в то время давно уже не было в живых, а виноградник по привычке все ещё называли Тадеозовым…
Переваренные хачапури и спрятавшийся в амбаре чёрт
Мама решила, что тесная дружба с окончательно потерявшим совесть Кечо не сулит мне ничего хорошего и отправила меня в деревню к своей матери. Как раз в это время сосед бабушки Тапло, Олифантэ, приехал в Сакивару на лошади, и ему поручили отвезти меня к ней.
Когда мы уже подъезжали к бабушкиному дому, я соскочил с коня и, решив сократить путь, помчался наверх по узенькой тропинке, а Олифантэ поехал к дому по длинной и извилистой просёлочной дороге. Не открывая — калитки, я ловко перемахнул через неё.
Бабушка Тапло была на гумне, лущила там кукурузу. Она сидела на низенькой скамеечке и, склонившись над широкой плетёнкой, бросала туда очищенные початки, шурша стеблями.
Тихонько, на цыпочках, я подкрался сзади к бабушке и закричал ей прямо в ухо:
— Бааа!
Старуха подскочила как ужаленная, но, увидев меня, бросилась целовать и смеяться от радости, во весь рот, хотя зубов там у неё осталось, наверное, всего штук пять.
— Как поживаешь, бабуля? — спросил я её бодро. — Опять глаза болят?
— Глаза у меня из-за тебя болят, плутишка, а больше мне не на что пожаловаться.
— Ну, бабуля, сейчас-то ещё ничего, а вот потом хуже будет, — «утешил» я бабушку, и так уже ни на что не надеявшуюся.
— Скажи лучше, как дела, пострелёнок?
— Хорошо. Дед Нико все песни поёт…
— А где же мама?
— Да она дома осталась!
— Батюшки мои! Кто ж тебя привёз?
— Как кто? Что я, маленький? Дядя Олифантэ сюда ехал, я схватил его коня за хвост и приехал.
— Вот сукин сын! Да скажи хоть одно слово правды!
— Тапло! Эй, Тапло! — подъехал к калитке всадник.
— Кто это там? — выглянула бабушка.
— Мальчишка пришёл?
— Ах, это ты, Олифантэ? Да, он здесь. Ты его привёз?
— Да! Элисабед велела передать, если не будет тебя слушаться, тотчас же гони обратно.
— Что же ты через забор разговариваешь? Заходи во двор, за это платы не берут.
— Да чего там! Все живы, здоровы, кланяются тебе.
— Вот об этом-то мне и расскажи. Заходи, у меня есть ягодная водка, ты же у нас любитель, отведай капельку и иди к себе с богом.
— Ооо! Ягодную водку — с удовольствием. Кто ж от неё откажется! Говорят, помогает, когда ломота в суставах!
— Ну, конечно, особенно если ноги ломит — сразу снимает, только много пить не следует, иначе и голова разламываться станет.
— Так и быть, пусть рыба задохнётся в воде!
Олифантэ привязал коня к изгороди, вошёл во двор.
Бабушка Тапло вылезла из-под кучи кукурузных стеблей, отряхнула платье, вынесла из дому треножник и поставила его под ореховым деревом.
— Присаживайся! Не обессудь, что по-простому принимаю тебя, мой Олифантэ.
— Ничего, — пригладил пышные усы Олифантэ. — По мне было бы что попить-поесть, а посидеть и на огне посижу, тётушка.
Бабушка снова пошла в дом, а я побрёл за ней. Смотрю — берёт с полки хачапури, да такой румяный, такой соблазнительный! Как бы его съесть! Изрядно проголодавшись в дороге, я проглотил слюну. Потом бабушка вынула из шкафа литровую бутыль и пошла обратно.
— Бабуля, дай хачапури! — преградил я ей путь.
— Нельзя, деточка, только один и остался.
— А мне хватит!
— Проголодался, ласточка?
— Как волк.
— Потерпи немного — вот отправим гостя, накормлю тебя. А пока поешь мчади и сыр.
— Нет, мне хватит и хачапури.
— Ох, господи! Не осрами меня перед гостем, я тебе целых два таких испеку.
Теперь мне ещё больше захотелось его съесть. И, вспомнив, что в своё время меня отвезли в отцовский дом на муле, я окончательно заупрямился:
— Ничего не знаю, дай и всё!
— Перестань, деточка, дядя отломит кусочек, а остальное тебе останется.
— А вдруг он всё слопает, что тогда делать?
— Ну, будет тебе, человек с дороги, ждёт меня! — и она вышла. Я последовал за ней.
Олифантэ отломил кусочек хачапури, сунул в рот и зашевелил усами.
Бабушка налила в стакан водки.
— Ну, будем здоровы! — сказал Олифантэ и, выпив водку одним глотком, крякнул от удовольствия.
— Охо-хо! Крепка, чересчур крепка!
Потом отломил второй кусок и отправил его в рот. Тут аппетит у него разыгрался, и он энергично задвигал челюстями.
— Ну как там твой сын, что от него слышно? — спросил он бабушку.
— Эх! Бросил меня одну, и всё тут, — вздохнула она и снова налила ему водки.
— А как там они живут? Не собираются приехать?
— Нет! Видно этот чёртов город по душе ему пришёлся, он сюда и глаз не кажет, — пожаловалась бабушка.
Но зато я во все глаза смотрел на исчезавший хачапури.
Олифантэ был шустрым мужичонкой: он всё успевал, и водку пить, и судачить и с аппетитом есть.
Гость выпил сколько положено, три раза поднял тост за семью и, наконец, обратил своё внимание на меня. У меня, несчастного, в сердце бушевал огонь. Я глотал обильно слюну, но она не в силах была потушить этого пламени. Олифантэ ел так смачно, что, глядя на него захотел бы есть и плотно поевший человек. А я ни на минуту не отрывал взгляда от оставшегося куска хачапури. И когда он отправил в рот последний кусок, наконец не вытерпел и закричал:
— Ой, бабушка! Он всё съел!
— Вот дурак! — смущённо произнесла она и зажала мне рот рукой. Но было поздно, слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
— Ай, бедненький, ему тоже хотелось хачапури! — спохватился Олифантэ и открыл рот, но там уже ничего не осталось.
— Вот срамотник! — вырвалось у бабушки. — Ничего, я ему другой дам.
— У тебя же нет больше? — чуть не плача закричал я.
— Ох, ты, боже мой! Испеку, чтоб тебе лопнуть! Сыру у меня, слава богу, всегда вдоволь! Ах ты, мать честная, надо же, как ославил меня! Хорошо ещё, что Олифантэ свой, не посторонний, иначе сраму не оберёшься!
Олифантэ смущённо заёрзал и рассудил, что лучше всего, благословив напоследок дом, уйти восвояси…
Я ждал, что бабушка как следует всыплет мне за длинный язык, но, слава богу, отделался только упрёком:
— Как тебе не стыдно? Бессовестный ты!
Но тут же разожгла огонь, нагрела жаровни и спекла такой хачапури, что я себе все пальчики облизал. Клянусь вам, вкус его я до сих пор ещё помню…
…А такой дружок, как Кечошка, нашёлся у меня и здесь: это был сын Олифантэ Кучу. Мы были одного с ним роста, хотя он был немного старше меня. Правда, рот у него был кривоват и чуточку великоват, но во всём остальном это был парень что надо.
Деревня моей матери расположилась высоко в горах, а виноградники находились далеко в долине. Спускаться туда мы не могли, поэтому мы с Кучу часто сидели без винограда.
Впрочем, в моей памяти была ещё свежа история с Тадеозовым виноградником. Я теперь походил на ту собаку, что с перепугу целых девять лет лаяла на пень. И хотя у меня и в мыслях не было лезть в чужой виноградник, но всё-таки я не сидел сложа руки. Мои карманы вечно топорщились, набитые соседскими грушами и яблоками. Не забывал я и про орешки, в которые мы с увлечением играли с Кучуной, хоть я и проигрывал всегда.
Здешние соседи не были такими как Царо, они не считали воровством, когда мы лакомились их фруктами. Более того, в деревне любили повторять: если бы груши и яблоки имели рты, то сами давно съели бы друг друга, потому для ребёнка их грешно жалеть.
Но Кучу явно не хватало одних только фруктов, ему хотелось чего-нибудь другого, поплотнее. А за этим не нужно далеко ходить, достаточно было шмыгнуть в амбар бабушки Тапло.
Но бабушка заметила это и однажды, делая вид, что беспокоится, спросила:
— Послушай, пострелёнок, ты знаешь, что у меня в амбаре чёрт заперт?
— Правда?
— Конечно! Если туда кто-нибудь посторонний войдёт, он схватит, сунет его в бурдюк и заберёт к дьяволам. Ты-то боишься его?
— Я очень боюсь и чертей и леших!
— Тогда без меня не ходи в амбар, не то унесёт — и поминай как звали!
На другой день в амбаре оказалась вылизанной баночка мёда, а из глиняного горшка пропал целый круг сыра.
— Господи! — произнесла бабушка. — Я ведь знаю, что ты один не осилишь столько! — Потом вдруг спросила: — Ты, часом, никого не видел там?
— Нет. А впрочем, бабуля, у тебя же там чёрт сидит, он, наверное, слопал всё, а потом улетел. Пойди посмотри, может, он ещё там?
Бабушка прикрыла рот рукой, чтоб не рассмеяться, и, еле сдерживаясь, погрозила мне прутом:
— Пошёл отсюда, негодник! Жалко, что я вас с Кучуникой не заперла в свинарнике: тогда этот чёрт ни мёда бы ни вылизал, ни сыра не стянул!
Я знал, что бабушка не ударит меня, но на всякий случай отскочил в сторону и стал за дверью.
Она смягчилась:
— Смотри, глупышка, ешь сколько хочешь, но этого обжору сюда не пускай! Ему же целой коровы мало, с рогами и ногами обгложет её!
Бабушка говорила правду: Кучу был настоящим обжорой, он запихивал себе в рот громадные куски и глотал не разжёвывая, и никогда не чувствовал сытости. Бабушка Тапло была совершенно права, но и я был по-своему прав: без Кучу у меня пропадал аппетит, не морить же себя голодом? Поэтому я сам ел, и нового друга угощал.
Прожорливый кабан и поминальные свечи
Бабушка Тапло плохо видела, да и ноги уже не особенно повиновались ей, однако целыми днями она не переставая работала и суетилась.
То притащит из лесу мешок орехов, потом соберёт кизил, обдаст его кипятком и вымесит на дощечке сладкий лаваш. Или наполнит два больших чана пантой — дикой грушей и перегонит на водку. Словом, работы у неё хватало, и поэтому ей было не до меня. А я был только рад этому, потому что когда бабушка была дома, мне негде было особенно разгуляться, да и Кучуна не любил попадаться ей на глаза.
Обычно бабушка никогда не поручала мне никаких дел, да и сам я не горел желанием ей помочь. Но когда изредка, бывало, я предлагал ей свои услуги, она отмахивалась от меня: больше убытка, нежели пользы, — говорила она в таких случаях.
Единственное, что вменялось мне в обязанности — следить за калиткой во дворе.
Не подумайте только, что в этой деревне боялись воришек. Воровства там тогда попросту не существовало. Мы крепко-накрепко запирали двери от потерявшего совесть прожорливого кабана. Стоило этому негоднику увидеть, что хозяев нет дома, он буквально вламывался во двор, отворял калитку сильными ударами своего рыла, и не дай бог, если мы не поспевали прийти вовремя: тогда весь двор бывал перевёрнут. Вот я и стал сторожем у этой калитки. Бабушка теперь могла не беспокоиться за свой двор, и, кроме того, она всегда знала: дома я или мотаюсь по окрестностям.
Однажды ночью пошёл сильный дождь. Бабушка с раннего утра, взяв две увесистые корзины, пошла в лес по грибы. Мы же с Кучуной, сбив кучу орехов, увлечённо играли на просохшей дороге. Счастье попеременно улыбалось то мне, то ему. Мы с ним так заигрались, что я забыл уже обо всём на свете. Но зато, вернувшись домой, я чуть не упал, в обморок со страху: калитка была настежь открыта, а в комнате возле топчана валялась опрокинутая кадка из-под кукурузной муки. Весь пол был перепачкан мукой. Кабан сожрал муки столько, сколько в него влезло, потом, обожравшись, вывалялся в муке и теперь тихонечко похрапывал от удовольствия. Вырывавшийся из его ноздрей воздух рассеивал муку далеко вокруг, а перед носом его пол был такой чистый, словно его только что подмели. Спасибо, что этот негодяй не догадался ещё влезть на топчан и не повалился в постель. Вот было б дело! Пёстрый, словно исполосованный кнутом, кабан казался теперь совершенно белым.
Завидев меня, он как ошпаренный вскочил и, повизгивая, понёсся прочь, хотя я от испуга даже с места не сдвинулся. Со спины его посыпалась мука, поднявшись над ним столбом белой пыли, и когда кабан выбежал во двор, он принял уже свой обычный вид. Мне стало стыдно: какими глазами я посмотрю теперь на бабушку! Этот разбойник, правда, и раньше нередко врывался в дом, но такого переворота ещё не устраивал.
Я тут же решил бежать домой, но что я сказал бы дома родителям? Поэтому я оставил мысль о побеге. И вообще лучше уж остаться с бабушкой Тапло, чем без дела толкаться в Сакиваре. Я знал, что она не скоро вернётся из леса, и нужно постараться, чтобы она не заметила следов набега. Загнав под топчан орехи, я бросился за помощью к Кучу, и как только он пришёл, мы сразу же завертелись.
Вначале мы откатили и поставили кадку на место, потом собрали верхний, не испачканный слой муки и высыпали его обратно, всё остальное начисто вымели и выбросили в такой овраг, куда, кроме чёрта, никто не наведывался. Потом мы заперли калитку и вычисти ли кабана, не оставив на нём и крупинки муки. Словом, мы с Кучуной, даром что побратимы, здорово намучились и даже взмокли. Но старания наши не пропали даром. Только Кучу вышел, как пришла бабушка. Уже смеркалось. Она ничего не заметила. Изрядно устав за день, она наскоро поужинала и тут же заснула. Наутро она поднялась рано и снова поспешила в лес.
Вот когда я воздал хвалу господу богу, отнявшему у бабушки Тапло свет в глазах!
* * *
Дни, проводимые мною в материнской деревне, были похожи друг на друга, и только суббота была не такая как все.
В этот день бабушка вставала ни свет ни заря и тотчас же принималась хлопотать у огня. Она становилась удивительно подвижной и расторопной, жилы на руках её набухали, а испещрённые морщинками щёки покрывались румянцем. Потом она придвигала к очагу небольшой столик и ставила на нём варёную свинину, жареную курицу с вином, разные пироги, хачапури, мёд, фрукты и другую снедь. Да, в этот день она не забывала ничего из того, что любил покойный дед Караман. Затем, когда стол был накрыт, она ставила на нём две длинные восковые свечи и зажигала их. Потом, усевшись на треножнике, истово крестилась, пока свечи не догорали до конца. Старушка тихо нашёптывала молитвы, а маленькое пламя свечей трепетало, словно тоже молилось по-своему. Эта трапеза была поминальной по деду.
Тогда я не понимал, что это значит и поэтому в первый же раз спросил у бабушки, что такое поминки.
— Это для ушедших на тот свет, чтобы они немного поели, — ответила она.
Я ничего не понял. Как отправившиеся на тот свет покойнички могли насытиться, если мы сами тут же всё съедали? И я спросил её об этом.
— Вот непонятливый! — покачала она головой. — Трапеза умасляет здесь нашу плоть, а там дух мёртвых. Поэтому всё, что ты видишь здесь, получит твой дед и попирует всласть.
— Ого! — подумал я. — Видать, тот свет не так уж плох!
Наконец, нашептавшись и отмолившись, бабушка вскидывала глаза кверху и начинала напевно тянуть:
— Мой дорогой, светлой памяти муж, не обессудь, если угощение не богатое. Ты всегда любил сытный стол, но что поделаешь, я ведь одна… На сегодня уж прости, а в следующий раз обещаю тебе — голодным тебя не оставлю!
Потом она пускала слезу, оттирала её кончиком вдовьего платка и степенно поднималась. Я недоуменно глядел на потолок, что здесь надо деду? Тот свет казался мне расположенным где-то рядом с церковью.
Пока не сгорала свеча, к трапезе нельзя было прикоснуться. Я бывало становился сам не свой от нетерпения, но что поделаешь! И, как назло, эти свечи горели невероятно долго. Нет, рачинские пчёлки в этом не виноваты, просто восковые свечи вообще горят медленно. Хорошо ещё, что были они тоненькие, иначе, набравшийся терпения человек сам, того гляди, мог стать объектом этой заупокойной молитвы…
Да, свечи догорали плавно, медленно, но красиво. И от них шёл всегда тот самый запах, который слышен обычно во всех церквах. Тогда, ребёнком, я не обращал внимания на запах свечей, потому что здесь, над столом, носились другие всевозможные запахи, приятно щекотавшие ноздри. Но теперь, вспоминая запах поминальных свечей, мне кажется, что я слышу запах смерти. Бог знает, может, это не что иное, как наш собственный запах? Разве человеческая жизнь не подобна свече? Горит, догорает и через некоторое время гаснет совсем. Эх, к чёрту эти церковные и свечные запахи! Да здравствуют запахи солнца, земли, хлеба и вина!
За этот поминальный стол садились не только мы с бабкой, звали и соседей. В этот день подобревшая бабка приглашала даже Кучуну. Она почему-то не благоволила к этому бедняге с желудком как бездонный колодец, но в этот день звала его к себе непременно, потчевала его, ничего не жалея, и страшно радовалась, когда он так аппетитно всё поглощал. Я не понимал, отчего это она так добрела и однажды спросил её об этом.
— Дай бог ему здоровья! — ответила она. — То, что он съест здесь, пойдёт впрок твоему деду на том свете.
Но только пока свечи не догорали полностью, бабушка не пускала на порог этого уважаемого гостя. Ведь она отлично знала его нрав: вряд ли он стал бы дожидаться, тем самым осквернил бы поминальную трапезу. К тому же бабушка не любила творить молитвы в присутствии посторонних. Кучуна же в это время подсматривал а стрельчатое оконце, и у него едва хватало сил, чтобы остаться живу до тех пор, пока догорят свечи.
Наконец я открывал дверь, маленький обжора врывался в комнату, как изголодавшийся кабан, и мёртвой хваткой вгрызался в жирную ветчину.
По субботам Кучуна любил мою бабушку больше, чем свою собственную, а субботу — из всех дней недели. Она была для него истинным праздником, более дорогим, чем рождество!
Потоки слёз и неорошённая трава
В воскресные дни, надев своё чёрное шёлковое платье, бабушка отправлялась в небольшую церковь, стоявшую по ту сторону речки.
Вначале она ходила туда одна, но потом, когда зрение стало окончательно изменять ей, она ушла туда в сопровождении сестры Кучуны — Пело. Больше всего она боялась поскользнуться и упасть в овраг.
Однажды вместе с ними пошёл и я.
Пело подвела бабушку к голубому деревянному кресту, а сама куда-то исчезла, предварительно напутствовав меня:
— Смотри, никуда не ходи, отсюда ты проводишь бабушку домой, понял?
Я кивнул.
В церковном дворе было много холмиков, на них лежали плоские камни, а у изголовий торчали деревянные или каменные кресты. Бабушка опустилась на колени у голубого креста и так жалостливо, так безутешно зарыдала, что я сразу почувствовал, что этот плач ей дороже самого лучшего угощения. Право, даже Кучуна не чувствовал себя за поминальным столом так хорошо, как она себя в эти минуты. Она так причитала, что я, часом, думал: не поёт ли она?
И так, вперемежку, плача и напевая, она обратилась к кресту: «Сокол мой ясный, родной мой, как ты там живёшь? Почему ты забыл меня и не навещаешь больше во сне, ничего не рассказываешь о себе? Ответь мне что-нибудь, скажи хоть одно слово!» — надрывно умоляла она то крест, то камень, то землю, но никто ей не отвечал. Всё спало беспробудным сном. Я тоже вроде как онемел, стоял как балда меж двумя крестами и всё думал о том, что место, пожалуй, это неудачное, и здесь не поиграешь в ореховые солдатики. А старушка как завелась, так уж и остановиться не могла. Казалось, она хочет выплакать все непролитые на похоронах дедушки слёзы. Как будто я был виноват, что появился тогда на свет и не дал всем поплакать от души.
Кончив плач по деду, бабушка обошла по очереди и другие могилы и над каждой уронила слезу.
— Почему ты так много плакала, бабуля? — спросил я её, когда мы вернулись домой.
— Потому, что вот уже две недели, как я ни одной слезинки на его могиле не обронила. Там уж вся трава повысохла, — ответила она.
— Чудно как! Ведь вчера только дождь был! — удивился я.
— Дождь, ласточка моя, орошает ниву, а кладбищенской траве нужны обязательно слёзы, — и она ласково погладила меня по голове.
Я ничего не понял, но спорить не стал. Да и зачем — она-то лучше знала, когда дождь, а когда слёзы нужны.
К исходу осени бабушка Тапло совсем перестала видеть, и когда бывало пасмурно, она ходила по двору, широко расставив руки.
Изменяла ей и память, и нередко она забывала то одно, то другое. Как-то она вдруг спросила меня:
— Куда это подевалась твоя мать, разве она вчера не приехала?
Дошла до того, что бабушка перестала даже отличать утро от вечера. Однажды она вывела из хлева вернувшуюся с пастбища корову и погнала её обратно.
— Куда это ты её?
— Пусть попасётся, разве не время?
— Да какое время! Уже день на исходе.
— Ой, батюшки! — всплеснула она руками и снова завела корову в хлев.
Это приключалось с ней несколько раз, но она всё держалась и не сдавалась, работая по-прежнему, не покладая рук: сушила фрукты, собирала пожухлые листья в кучи и жгла их, подкармливала запертого в свинарнике кабана и, во всех случаях, не забывала о поминальной трапезе. Единственное, чего она уже не могла, — это ходить в церковь. Бывало, я стою рядом с ней, а она меня ищет и зовёт.
— Что с тобой, бабуля, ты совсем не видишь?
— Эх, ослепла твоя бабуля, мой мальчик! А сколько я тебя просила — не обижай меня! Вот видишь, что получилось! — упрекнула она меня и печально добавила: — Сил моих больше нет, не железная ведь я!
— Ты же говорила, что я свет твоих очей, а теперь выходит, это я виноват, что ты ослепла? Ведь когда я тебя не обижал, ты всё равно плохо видела! А когда ты на меня сердилась, у тебя аж огоньки в глазах прыгали, а теперь я виноват! — возразил я ей.
— Глупенький ты ребёнок! Вот эти самые огоньки и сожгли мои глаза, — нашлась она.
Тогда я сообразил припереть её к другой стенке:
— А помнишь, сколько ты у крестов слёз пролила? Вот у тебя глаза и испортились!
Но она неожиданно расстроилась:
— Одни только слёзы и остались мне в утешение, и этого тебе жаль для меня? — и по дряблой морщинистой щеке её покатилась слеза.
Тут я уже совсем растерялся, не зная, что делать.
— Бабуля, — робко начал я, — разве ты не видишь, что твои слёзы не смогли спасти траву на кладбище, всё равно она высохла. Ведь слезами горю не поможешь, зачем же ты напрасно убиваешься?
— Да ну! — удивилась она. — Кто это тебя так научил, а?
— Разве Олифантэ не говорит всегда так?
— Олифантэ? — невольно протянула она. — Да у него для себя ума не хватает, будет он ещё других поучать! Ты не думай, что всё, что говорят, надо обязательно слушать!
Вот видите, стоило ей узнать, что я лишь повторил слова другого, как она тотчас же окрестила глупостью то, что показалось ей вначале мудрым.
Теперь, задумываясь надо всем этим, я хорошо понимаю, что слово само по себе не представляет никакой особой ценности. Ценность его измеряется тем, кто его произносит. Стоит человеку один только раз снискать себе славу мудреца, как в дальнейшем любой пустяк в его устах становится крылатым и легко перелетает с места на место. А подлинная мудрость зачастую вовсе и не видна!
Однажды воскресным утром бабушка поднялась позднее обычного и спросила меня:
— Ты одет?
— Да.
— Тогда кликни мне Пело.
— Зачем?
— Не твоего ума дело. Позови!
Я побежал и тотчас же вернулся.
— Нет её дома, в лес пошла.
— Что же мне делать, — заворчала она. — Вчера мой мужик обижался на меня, — совсем, говорит, ты меня забыла. Может, ты меня проводишь, Караманушка?
— Куда, бабуся?
— В царство зашедшего солнца.
— Чт-о-о? — такое я услышал впервые.
— Да на кладбище, глупыш!
— Лучше подожди немного! Пело придёт и поведёт тебя.
— Я думаю, если ты пойдёшь со мной, ножки твои не отвалятся, а?
Мне не хотелось идти, но что поделаешь, жаль было бабушку. Я взял её за руку, и мы пустились в путь.
День выдался хмурый, а в царстве зашедшего солнца и подавно было безлюдно и мрачно.
— Пришли? — спросила меня бабушка.
— Да ты что, не узнаёшь это место?
— Как в тумане вижу. Кресты кругом, и больше ничего. Наши могилки где-то здесь у дороги… Как теперь мне их найти?
— Они и раньше никуда не убегали, — усмехнулся я.
— Караманчик, ты помнишь место, где я в прошлый раз плакала?
— Да, бабуся, как же не помнить! Вначале ты стояла на коленях у голубого деревянного креста.
— Вот молодец, хорошо запомнил, умница. Это и есть могила твоего деда. Поведи меня к тому кресту, а до остальных я уж сама как-нибудь добреду.
Я взглянул на частый лес крестов и растерялся. Их было столько, этих голубых деревяшек, что у меня в глазах запестрело.
— Ну, что же ты стоишь, Караманчик, веди меня, иначе, видишь, сыростью потянуло, как бы дождь не пошёл, — заторопила она меня.
Я снова оглядел кладбище — где же всё-таки тот крест? Вот срам-то какой. Внук не знает, где могила деда! Мне не хотелось огорчать бабушку, и облюбовав чью-то могилку, я взял старушку под руку и повёл к ней.
Бабушка опустилась на колени и зарыдала, но как! Заголосила да как безутешно! Лился и лился поток давно сдерживаемых слёз. И крест она оросила, и высохшую траву, и плоскую надгробную плиту. Она то называла деда ласковыми словами, то упрекала его за то, что он не забирает её. Потом, отведя душу, она на ощупь протянула руку и схватила дрожащими пальцами соседний крест.
— Агато, сестра моя любимая, прости, что я не навещала тебя столько времени!
Оплакав Агато, она перебралась к третьей могилке. Третьим оказался её брат Кимотэ. Поплакав и на его могилке, она побрела дальше. Пошарив руками, и ничего не найдя, бабушка тревожно спросила:
— А где здесь четвёртая могилка?
— Почём я знаю?
— Там мой племянник Бучу лежит. Горе мне, кроме меня, его некому оплакать. Разве больше нет здесь креста?
— Вон он, впереди.
— Как впереди? А ну-ка, посмотри, как следует. Здесь разве не лежат рядом три плиты?
— Нет, нет здесь больше ни крестов, ни плит.
— Куда ж они подевались?
— Камень сам ведь не убежит. Наверное, кто-нибудь унёс, — ответил я, но тут же осёкся, увидев её застывшее лицо.
— Кто же на кладбище камни ворует! Посмотри хорошенько, у Бучуки белая широкая плита. На ней всадник нарисован. Разве не видишь?
Больше врать я не мог.
— Ничего тут нету. Вон там только один белый камень валяется, и всё тут. — Потом я подбежал к тому месту и крикнул: — Бабуся! Вот Бучукин камень у тропинки.
— Ох, горе мне! — ударила она себя по щекам, — обманул ты меня, окаянный, надругался ты надо мной, заставил над чужими могилами плакать!
— Ну и что же? — попробовал я оправдаться. — Ведь трава и здесь совсем иссохла. Разве твои слёзы могут ей повредить?
— Ох, чтоб тебя святой Георгий невзлюбил! И до каких пор ты будешь таким балбесом? — сокрушённо махнула она рукой. — Ну, хоть теперь поведи меня к Бучукиной могиле, а до деда я уж сама как-нибудь доползу!
Я осторожно взял её под руку и повёл к плите, где был нарисован всадник.
Бабушка пощупала плиту, погладила её рукой и, наконец, убедившись, спросила:
— Что нарисовано на третьей могилке слева?
— Плуг, рог из-под вина и топор.
— Вот это и есть могила твоего деда. Теперь-то, надеюсь, запомнишь? — И тут она снова заплакала, заголосила, но уже не так громко, голос её всё чаще прерывался, и в причитаниях не было прежнего усердия. Она плакала теперь без слёз, потому что весь их запас вылила над чужими могилами, и трава на дедушкиной могилке осталась совсем не орошённой.
* * *
Пришла весть, что вскоре состоится свадьба моего дяди Пирана. Разве тут задержишь меня у бабушки Тапло? Пусть я тогда ещё ничего не смыслил в свадьбах, но чувствовал, что совершается что-то хорошее. И вот снова пристроившись на лошади и крепко держась за спину Олифантэ, я поспешил в родную деревню.
Изгнание из постели и собачий переполох
Когда мы подъехали совсем близко к дому, сердце моё почему-то сжалось, а потом чуть не выпрыгнуло из груди и не полетело вперёд. Я и сам не догадывался, как сильно стосковался по родному дому.
Дворовая собачка Куруха с весёлым лаем бросилась мне навстречу. Наши все оказались дома и чуть не изодрали мне щёки поцелуями. Видно, они тоже здорово по мне соскучились.
Дед приготовил для меня специально сшитые каламани, а бабушка Гванца связала к моему приезду чудесные пёстрые цинды.
Я сразу же облазил все знакомые уголки во дворе; всё оставалось прежним, не нашёл только нашего пса и спросил о нём.
— Продали! — ответил дядя, — продали доброму хозяину.
Дядя Пиран увидел, что я огорчился и решил успокоить меня:
— Эх, мой маленький! Пёсик тоже очень переживал и совсем не хотел идти к чужим людям, но что поделаешь! Он всё плакал и просил: подождите, пока мой дорогой Караманчик придёт, но мы не послушались его. Он, говорят, и теперь иногда убегает от хозяина, выходит на холмик, задирает голову и громко зовёт тебя…
Тут уж я не сдержался, расчувствовался и обронил слезу. Мне до боли было жалко нашего пса. Сколько раз он, бывало, подкрадывался ко мне, выхватывал у меня из рук лепёшку! Тогда я злился на него, но, оказывается, был неправ! Ведь он так любил меня!
Сколько раз пинал я его ногой и прогонял за дверь, но, видите, он оказался совсем не злопамятным и всем сердцем любил меня.
Помнится, дядя Пиран как-то взял себе щенка, но щенок вдруг сдох. Дядя швырнул его под виноградник Тадеоза. Я ходил туда каждый вечер, садился у самого края скалы и смотрел вниз, туда, где лежал мёртвый щенок. Нередко я так же горько плакал по нему, как бабушка Тапло по деду. И вот теперь я понял, что пса я любил не меньше этого щенка, но, увы… слезами горю не поможешь!
Заметив мою тоску, дядя Пиран, нарочно, каждый вечер, как заведённый, печальным голосом начинал одно и то же:
— Сегодня наш пёсик снова убежал от хозяина и до самого вечера жалобно скулил и звал тебя.
Из моих глаз ручьём текли слёзы, вся семья до упаду хохотала, но дядя Пиран сидел с серьёзным лицом и скорбным выражением в глазах. Мне даже во сне снилось, что мой пёс стоит на вершине утёса и зовёт меня, и подушка моя намокала от слёз. А лежала она рядом с дядиной подушкой. Мы с ним издавна спали вместе, в отдельной комнате, куда мы входили через общую, большую, с земляным, плотно утрамбованным полом. В нашей пол был выложен из крепких досок, но в ней всегда было темно, и поэтому дядя не отказывал себе в удовольствии немного посмеяться надо мной. Поужинав, он пробирался туда и кричал:
— Караман, давай укладывайся в постель, не то я запру дверь.
Я шёл туда, раздевался, складывал на стуле одежду и откидывал одеяло, но… постель оказывалась пустой. Я боялся темноты и звал дядю дрожащим голосом. Но никто не отвечал мне. Я пугался ещё больше, поднимал рёв, бежал к дверям и… сталкивался с хохочущим дядей. Он хватал меня на руки и прижимал к себе. Так, повиснув у него на шее, я добирался до постели, и мы вместе бултыхались в неё. Я так привык к его ежевечерним проделкам, что, не поревев, как следует, не мог сладко уснуть.
Но дядя Пиран не щадил меня и в другое время дня. Если и есть во мне хоть капля отваги, то знайте, это у меня от дяди.
— Хочешь стать охотником? — спрашивал он.
— Конечно, хочу.
— Хочешь в борьбе быть самым первым?
— Конечно, хочу!
— Хочешь быть самым храбрым?
— Сколько раз можно спрашивать?
— Хочешь быть прямым, как штык?
— Хочу! Хочу! Хочу!
— На, съешь тогда, — и давал мне длинный красный перец.
Я начинал есть, из глаз катились слёзы величиной с горошину, а съев, ходил весь день словно очумелый, открыв рот: дёсны, губы и даже нос нестерпимо жгло. Если уж не хватало сил терпеть, я забивался в самый тёмный уголок, чтобы никто не увидел меня и не поднял на смех, и горько-горько плакал. Но рот горел, и ничто не снимало жжения: ни вода, ни яблоко, ни молодой сыр.
С тех пор на всю жизнь возненавидел я красный цвет.
На второй день я категорически отказывался от этого угощения, а на третий всё повторялось сначала.
— Хочешь быть?..
— Да! Да! Да!
— Ну так давай, жуй, и чтоб крошки не осталось!
Я молча жевал, из глаз текли слёзы величиной с орех, и целый день я ходил потом как ошпаренный: дёсны горели, а к губам словно раскалённым железом прикоснулись.
Чем горше мне было, тем приятнее было дяде. Я лил слёзы, а для него они были бальзамом. Но я отыгрался сполна в самый сладостный для него день.
Не успели мы встретить Новый год, как семья наша, не откладывая, стала готовиться к свадебному пиршеству. Мы одолжили у соседей тысячу разных вещей, — и посуду, и скатерти, и, кто его там знает, что ещё, прибрали дом и на двух арбах отправили на мельницу мешки с зерном. Дедушка Нико наколол дров на целую неделю.
Мясник Фома зарезал во дворе нашу бесплодную корову, и от её крови вокруг снег заалел. Женщины с ног сбились, не успевали разжигать тонэ и печь лаваши. Пришлось позвать на помощь Царо. Правда, руки её были не так ловки, как язык, но всё же и она, как могла, помогала.
В субботу вечером дядя Пиран принарядился, надел белую чоху и тёмный архалук, новые башмаки, подпоясался серебряным поясом с кинжалом, а на голову нахлобучил серую войлочную шапку.
Вдруг, откуда ни возьмись, к нашему дому примчалось с десяток всадников. Отец сказал, что это дружки жениха. Тотчас же накрыли небольшой стол, пошумели, выпили, закусили и поднялись. Дядя Пиран накинул на себя мохнатую чёрную бурку и вышел вместе с ними.
Они вскочили на коней и с песнями отворили калитку.
Дядя держал за уздечку ещё одного коня: седло на нём было какое-то необычное, хотя никто в седле не сидел.
Я сразу пристал к деду:
— Разреши мне сесть на этого коня!
Но дед сказал:
— Нельзя, внучек. Дядя привезёт тебе на нём тётю.
— Какую тётю? Я хочу на коне покататься, а тётя мне не нужна!
— Но она твоему дяде нужна! — засмеялся дед и, взяв меня за руку, повёл в дом.
Я долго брюзжал и всё не мог успокоиться, но в этот удивительный вечер всем было не до меня.
Как только дядя и его дружки уехали, к нам повалил народ. На всех были красивые праздничные одежды, но мне больше всех понравились те всадники, что заезжали за дядей. Старшие чинно расселись полукругом перед пылавшим очагом и повели степенную беседу. Молодёжь затеяла песни и пляски, не переставая, звенела дайра.
В просторном зале сдвинули столы и поставили рядом с ними специально сколоченные длинные скамейки. Мать кружилась, как волчок, и Царо ей помогала.
Тут уж было не до сна: я во все глаза смотрел на происходящее. Все ждали возвращения всадников, и я, конечно, не собирался отставать от них и ежеминутно выглядывал во двор. Но шёл сильный снег и ничего не было видно.
В самую полночь где-то неподалёку грянул ружейный выстрел. За выстрелом последовала песня.
В песне той говорилось, что едут именитые гости и везут с собой фазаниху.
Я прямо-таки ошалел от удивления. Говорили, что Пиран отправился за тёткой, а теперь, выходит, едет с фазанихой? Интересно, как он её словил? Ночью ведь не охотятся. Обманывает он всех. Хотя, чему было удивляться, разве мало он меня обманывал?
Умолкнувшая было дайра снова подала голос, и перед самым очагом завертелась бешеная пляска. Некоторые из гостей зажгли факелы и вышли во двор. Я тоже пошёл вместе с ними. Мне не терпелось взглянуть на пойманную дядей птицу.
От света факелов стало совсем светло на дороге и во дворе. По-прежнему пуржило, и низкое, нависшее небо было полно белых бабочек. Бабочки опускались на факелы и тотчас же таяли.
У калитки выстрелили во второй раз. Всадники спешились. Теперь их было намного больше.
— Благословите дорожку! — крикнул кто-то в белой бурке.
Я стал искать глазами дядю и, наконец, нашёл. Но где же фазаниха? Не было при нём и охотничьего ружья. Ловко спрыгнув на землю, он поспешил на помощь какому-то всаднику и, осторожно сняв его с коня, укрыл своей буркой.
Я, недолго думая, пролез к дяде и повис у него на шее, а того, кто стоял с ним рядом, оттолкнул. Только теперь я хорошенько рассмотрел, что это была женщина — вся в белом, и на голове у неё тоже колыхалось что-то белое. Потом я узнал, что это головной убор невесты — фата.
Я стал толкать и прогонять её: женщина рассмеялась и сказала:
— Ах ты, маленький чертёнок! Я ещё в дом не вошла, а ты меня уже прогоняешь!
Но тут дядя крепче прижал её под буркой, и мы уместились там втроём. Так мы подошли к дверям. Доски, которые прежде загораживали порог, теперь были сняты: надобность в них отпала, так как проказница-свинушка, вечно норовившая прорваться в дом, преспокойно дымилась уже на столе, превратившись в ветчину.
У самого порога лежала опрокинутая тарелка.
Дядя Пиран ступил на неё правой ногой, и тарелка разлетелась вдребезги. В это время бабушка Гванца сунула женщине в рот кусок сахару, второй дала дяде, а про меня забыла, хоть я и широко открыл рот. Мне это не понравилось.
«Неужели, подумал я, обидевшись, бабушка любит эту женщину больше меня!»
— С сыном идёт невеста. С сыном! — грянули вокруг.
— Чтоб в этой семье никогда не было недостатка в сыновьях! — крикнул Эрмолоз и затянул свадебную.
Все, кто находились в комнате и во дворе, подхватили песню, и вскоре она зазвучала с такой силой, что мне показалось: ещё немного и дом с людьми взлетит на воздух.
Потом вдруг стало сразу необычайно тихо, и лишь слышно было как стучат сердца этой женщины и дяди Пирана. Один из дядиных дружков схватил ружьё и, прицелившись, выстрелил в потолок. На чердаке отчаянно взвизгнула кошка и тотчас же умолкла. Бедняжка! Наверное, сидела себе там и слушала песни, а дело вон как обернулось!
Что было потом, я уж не помню, потому что так хотелось спать, что шея у меня скривилась.
Проснулся я уже в своей комнате и тотчас же бросился к стрельчатому окошку. На небе по-прежнему порхали белые бабочки. Мама надела на меня новую одежду и повела в залу, где горел огонь и сидели гости.
Дядя Пиран и его невеста всё ещё сидели на самом почётном месте, а перед ними лежала жареная курица, совершенно нетронутая. Они то и дело раскланивались направо и налево, а гости держали в руках стаканы и без конца тараторили.
За столом оставалось лишь несколько человек. Некоторые спали тут же, положив голову на руки.
Один из гостей, с длинными усами и лохматыми бровями, не переставая бубнил песенку: «Не хочу гривенника, подай мне красивую жену». Бубнил и всё хлопал по щеке рядом сидящего: поддержи, мол! Сосед ошалело мотал головой, раскрывал рот, но ни звука у него оттуда не вылетало. Нельзя было даже разобрать, спит он, или нет, но одно ясно было, что глаза у него зажмурены.
Напротив него сидел юноша в расстёгнутой рубахе: он, не переставая, покачивался и почему-то крутил пальцем в воздухе. Не слушая усача, юноша тянул на свой лад, что, мол, дружки невесты не хуже всех остальных.
И вдруг он так сильно качнулся, что, не поддержи его мой отец вовремя, непременно бы растянулся на полу.
Я вышел во двор. Снег здесь был умят. Кто-то, укрывшись буркой, прикорнул на арбе под навесом; спящий был без шапки, и голова его свисала.
По саду бегал юноша с взлохмаченными волосами. В руке у него была рукоятка топора. Я узнал его: это был тот самый, который стрелял накануне в потолок. Он увлечённо преследовал пёструю курицу, швыряя в неё рукояткой, но всё время попадал мимо и ужасно злился.
— Ты что это, Ражден, взбесился, что ли, чем это она тебя так прогневила? — крикнули ему с балкона.
— Обожаю куриную гузку. Пока я её не съем — отсюда ни ногой. Остальное уступаю вам, ешьте на здоровье, а мне — гузку! — кричал он и снова швырял рукоятку.
Наконец, попал. Курица ткнулась в пушистый снег и замерла. Торжествующий Ражден схватил её и, гикнув, помчался на кухню.
Когда я вошёл обратно в дом, стол уже совсем опустел. Оставшиеся гости лежали на скамьях, приставленных друг к другу, и состязались в умении храпеть.
Я прошёл в нашу с дядей комнату и вдруг… вижу: любезный мой дядя и его невеста, как ни в чём не бывало, расположились себе за столиком, понатаскали всякой еды и вовсю угощаются. Вместе с ними две какие-то незнакомые девушки — светленькая и чернявая.
Недолго думая, я протянул руку и схватил со стола поджаристую куриную гузку. Но дядя стукнул меня по руке и заставил положить кусок на место. Я обиделся, и из глаз у меня тотчас же брызнули слёзы.
— Ты что же, зятёк, жестокость свою показываешь? — засмеялась светловолосая девушка. — Смотри, невесту увезём обратно!
— Чего ты ребёнка обижаешь? — накинулась на него и вторая, чернявая. — Вот подрастёт, вспомнит тебе.
Раз уж у меня объявились заступники, я сильнее оттопырил нижнюю губу и громко заревел.
Невеста взяла меня к себе на колени и приласкала назло дяде. Я теперь схватил ножку и мгновенно обглодал её, потом, бросив кость на стол, полез за гузкой.
Мне захотелось проверить, на самом ли деле она так вкусна, как говорил Ражден?
Дядя промолчал, а гузка мне понравилась, она показалась мне гораздо вкуснее ножки.
А пока суд да дело, уж и стемнело. Одна из невестиных подружек занесла зажжённый светильник, другая унесла столик. Потом они взяли меня за руки и сказали:
— Давай, Караманчик, уходить отсюда!
— Почему? — упёрся я. — Это мой дом, если хотите, сами уходите!
Тогда девушки отвели меня в угол и шепнули:
— Дядя и тётя спать хотят!
— Ну и пускай спят, только дядя здесь, а тётя пускай к себе домой уходит и там спит! А эта постель моя и дядина! — твёрдо заявил я. И вдруг я заметил, что разворошённая обычно мною постель аккуратно прибрана, а поверх неё накинуто красивое розовое одеяло.
— Ты теперь с дедом будешь спать! — таинственно сообщила мне черноволосая.
— Пускай тётя спит с дедом, если ей хочется, — огрызнулся я. — Дед так храпит, что оглохнуть можно.
Пока шёл этот разговор, дядя и тётя молчали, словно воды в рот набрали. Тётя почему-то смотрела в окно, и глаза её мне показались красными, дядя же сидел понурив голову. Но когда я сказал про дедушку, они не выдержали и расхохотались.
Прыснули и девушки и со смехом выскочили из комнаты.
За мной тотчас же пришла мать.
— Пошли, Караманчик!
— Никуда я не пойду! — заявил я и обеими руками упёрся в топчан.
— Дурак несчастный! — разозлилась мать и стукнула меня по голове.
— Ты чего дерёшься?
— С сегодняшнего дня будешь спать с дедом!
— Сама с ним спи, сама!
Снова взрыв хохота. Я же скинул с себя каламани и, как был, в одежде полез в постель. Но мама схватила меня и насильно потащила из комнаты.
«Эге, — подумал я, — здесь не шутят! Ведь я всё время спал с дядей, так что же сегодня произошло? Почему меня прогоняют отсюда? Я всё тот же Караман! Подумать только, дядя Пиран будет здесь спать с какой-то тёткой, а меня прогоняют? Но я знаю, ей и самой не очень-то хочется здесь оставаться. Я ж видел, что она плакала! Прошу вас, умоляю, не гоните меня отсюда!..»
Но никто не слышал стонов моего сердца! И тогда, рассвирепев, я набросился на несчастную тётку:
— Уходи отсюда! Иди спать к себе домой!
Но ни она, ни дядя не проронили ни слова.
— Эге! Вот дурак! — озабоченно произнесла мама, выволокла меня в другую комнату и бросила на дедову постель:
— Смотри у меня, сиди и не шевелись! Иначе, клянусь прахом отца, плохо тебе будет! Выгоню на снег босиком и домой не пущу, покапризничай мне, попробуй!
Я залился горючими слезами. Правда, деда я любил больше всех, но спать предпочитал с дядей Пираном. Ведь говорят же: привычка сильнее права. Но что оставалось делать, как не плакать?
Дед уже спал. Бабушка раздела меня и уложила с собой, но я продолжал всхлипывать. Тогда бабушка вынула из-под подушки мешочек, развязала его и, достав оттуда серебряную монету, положила мне на ладонь:
— Успокойся, мой ангелочек, сходи завтра в лавку к Темиру и купи себе леденцов и печенья. Ты ведь у меня сладкоежка?
— Да, я люблю леденцы: они хрустят во рту.
— Вот и ешь, сколько хочешь! Ну, не будешь больше плакать? Вот молодец, а когда у тебя эти деньги кончатся, я тебе ещё дам.
— Не хочу денег, хочу красивую жену! — вспомнив вдруг песенку захмелевшего юноши, заорал я.
— Что такое? — изумилась бабушка. — Чего ты хочешь?
— Не хочу денег, хочу красивую жену!
— Ха-ха-ха! Дуралей ты, глупышка! Ишь, чего захотел! От горшка два вершка! А ну-ка, спать! Спать.
Должен признаться, что свадьба мне очень понравилась, особенно выстрелы из ружья, всадники в бурках, песни и пляски, шум, гам… Даже Ражден, гонявшийся за бедной пеструшкой, и тот оставил во мне приятные воспоминания. Мне было очень хорошо тогда и хотелось, чтобы всё это ещё раз повторилось. Мысль эта крепко засела мне в голову, и я твёрдо решил завтра же жениться.
Увидев, что я вовсе не думаю спать и всё напеваю полюбившуюся мне песенку, бабушка рассмеялась:
— Ты, парень, я вижу не шутишь! Ну скажи, зачем тебе жена?
— Нам зажарят курочку, а я не поделюсь с дядей Пираном.
— Миленький ты мой, если тебе жена только для этого нужна, то давай я тебе завтра же зажарю большую курицу: ешь себе на здоровье! Ну, а теперь хватит, спи, уже поздно, всё равно мы не успеем сейчас приготовиться к свадьбе. Ты только скажи: из какого рода хочешь жену, из княжеского или из дворянского?
— Из княжеского.
— Вот молодец! Ну, а теперь спи!
Бабушка погасила стоявший на сундуке светильник, а я, натянув на себя одеяло, крепко прижался к ней:
— Бабуля!
— Что, лапочка?
— Расскажи сказку!
Бабушка вздохнула и начала:
— Однажды день и ночь поспорили, кто кого опередит. Бежала ночь, а день за ней следом. Нагнал, опередил. Потом ночь помчалась за днём и тоже опередила. С того времени они всё так и спорят: то ночь впереди, то день. Спишь?
— Нет! Потом?
— Потом… бог подарил дню солнце, а ночи луну. Солнце с луной снова стали состязаться между собой: стоило скрыться солнцу, как появлялась луна, но она не могла догнать солнце и от нетерпения уменьшалась. Бог снова наполнял луну, и по-прежнему она бежала за солнцем… так вертелось колесо жизни… После этого бог создал облака, в них то солнце скрывалось, то луна. Облака тоже меняли свою окраску, пушистые белые облака хвастались, — краше нас никого, мол, на небе нет! Чёрные тучи грозились, метали в них стрелы молний…
Мне почудилось, будто вокруг зашуршал тёплый снег, и всё стихло. Во сне я увидел себя в белой бурке, рядом с женой. Но никто не лез мне под бурку, да и пальбы тоже никакой не было. Был только снег, тёплый и пушистый. Снежные хлопья были не только белые, а самых разных цветов, и сияли они над землёй словно множество маленьких радуг. Внезапно у меня появились крылья, я взлетел, а хлопья снега подхватили меня и понесли высоко-высоко… кажется, за солнцем…
Такой прекрасный сон приснился мне впервые. До этого мне всё снились визжащий барсук и солдат с ружьём…
И всё же с дядей мне было лучше. В то время, как я лежал здесь между бабкой и дедом, мои каламани остались под дядиной постелью. Эх, как я им завидовал!
На другой день я уже забыл о своём намерении жениться и помирился с тётей Эдукией. Она надавала мне столько леденцов, что их хватило на весь день. К тому же, я видел, что все старались обласкать её, и мне расхотелось ссориться с ней.
* * *
Прошло некоторое время, и дядя привёл новую охотничью собаку. Лапы у неё были длиннее, чем у прежней, звали её Царбуа. Так вот, эта Царбуа, недолго думая, на второй же день уважила нас, стянув из кухни копчёного гуся. Бабушка страшно рассердилась, мама нахмурилась, а тётка Эдукия, которая до этого всё смотрела дяде в глаза, тоже не выдержала и сказала:
— Ты что ж, привёл её, чтобы она у нас на кухне охотилась? Убери её немедленно, не то ещё и блох разведёт.
— Вот и отлично, — вымолвил дядя. — Будешь чутко спать, и лиса кур не потаскает.
В субботу Царбуа проглотила целый мчади, схватив его с жаровни, а в воскресенье ухитрилась стянуть ветчину, прямо из кастрюли. Мама огрела её дубинкой. Впервые увидел я дядю таким рассерженным:
— Смотри, Элисабед, — гневно сказал он маме, — коли убьёшь собаку, клянусь всеми святыми, не обижайся потом на меня. Такой собаки днём с огнём не найти, а лает так, что не только зайца, но и камень заставит прыгать.
— Кого это она там заставляет прыгать — не знаю, но вижу, что очень уж бессовестно ведёт себя. Скоро, того гляди, начнёт кур рвать, потом яйца таскать, а мы — стой и смотри, да? — разгорячилась мама.
— Ну и что, вчера она съела сухой мчади и расцарапала себе горло, а сегодня, чтобы смягчить его, поела горячего мяса, — решил отшутиться дядя.
Мама ничего не ответила и молча отошла от упрямца.
За обедом дядя брал себе один кусок, второй отдавал собаке. Словом, собака встала между братьями и, представьте себе, эта негодница заставила разлаяться всю семью.
Наша большая семья распалась на две.
Отец с дедом построили для дяди Пирана новый дом, неподалёку от нашего. А моему отцу, как старшему, достался старый.
Ночной переполох и освящённые яйца
Вот и зима кончилась.
Настала весна.
Не знаю, кому что она принесла, а у меня лично отняла два передних зуба. Один зуб бабушка Гванца вытащила, потянув за накинутую на него нитку, и так ловко, что я и не заметил, а второй я вытащил сам. Забросив зуб на крышу дома, я прокричал:
— Мышка, мышка, давай поменяемся с тобой зубами!
Так меня научила бабушка Гванца, я впервые тогда узнал, что у мышей зубы словно железные и они свободно прогрызают ореховые скорлупки и кору. Как уж тут не позавидовать таким зубам, особенно мне, любителю полакомиться.
В прошлом году отец, вернувшись с промыслов, привёз мне красные чувяки, конфеты и печенье. Печенье и конфеты я тут же съел, а чувяки оказались мне велики, и мать спрятала их в сундук до пасхи.
Наконец наступила долгожданная пасха, и я от радости готов был кувыркаться и прыгать.
Этот день радовал меня ещё и по другой причине.
Бабушка Гванца собиралась красить яйца в красный цвет. Больше всего яиц доставалось обычно мне, и я устраивал настоящий яичный бой, беспощадно колотя яйца друг об друга. А потом ел и ел их. Вы уже знаете, что ваш покорный слуга большой до них охотник. Ради такого лакомства он готов снова сесть в большую плетёную корзину и покатиться вниз с самой высокой скалы!
За несколько дней до пасхи дед выбрал специально для меня четыре огромных яйца. Два из них он завернул в тряпку и повесил над очагом: продымятся, мол, и станут крепче, два других сварил в известковой воде, обещав мне, что скорлупа их станет твёрдой как камень. Эти яйца, предназначенные для боевой схватки, он положил отдельно, чтобы не смешать с остальными. Ночью перед самой пасхой сквозь сон я услышал, как бабушка вскрикнула. Вокруг темно, ни зги не видно. Послышался сдавленный шёпот:
— Тише, мать, не разбуди ребёнка! Ты что, сдурела?
— Кто-то стрелял в нас! Разве ты не слышал? — сказала бабушка дрожащим голосом.
Мне тоже послышался какой-то треск, но не думаю, чтобы это был выстрел.
— Точно стреляли из ружья! В уши мне так бабахнуло, что я чуть не оглохла.
— А выстрел близко раздался?
— Рядом!
— Не померещилось ли тебе, старая?
— До сих пор мне ещё никогда ничего не мерещилось. За что же вдруг теперь отец небесный прогневался на меня?
— Интересно, кому же это приспичило пугать нас, да ещё перед самым светлым воскресеньем?
— Разве без врагов проживёшь? Столько всяких бездельников шатается повсюду, что… Послушай, часом ты ни с кем не повздорил?
— Я не любитель этого дела, разве ты не знаешь?
— Может, Амброла кого обидел?
— Но мы бы знали об этом!
— Ох, грешный мой язык! Пиран в последнее время всё обходит нас стороной, может, он чем-то недоволен?
— Да полно тебе вздор нести! Ты что, совсем свихнулась? Я ж ему такую избу сколотил, что вся деревня глаза пялит, чем же он может быть недоволен? У него теперь семья — вот и занят по горло!
— Выходит, сам чёрт в нас стрелял? Постой! Куда ты?
— Лучинку зажечь. Выгляну во двор.
— Ни-ни-ни! Не губи меня, не зажигай огня! Может, кто-нибудь в щёлку подглядывает. Как же, посвети ему сердечному! Если в темноте не попал, то теперь прямо в лоб тебе пулю пустит!
— Не лучше ли умереть от пули, чем со страху?
— Ба-бах! — прогремело в это время.
— Батюшки-светы! — взвизгнула бабка, вскочив, — ты жив, отец?
— Не бойся, мать, не попали! Думаешь, из ружья стреляли? Нет, пушку привезли в Сакивару!
Страх передался и мне, я задрожал и заплакал.
— Не плачь, радость моя, в тебя никто не попадёт! — бабушка обняла меня и крепко прижала к себе.
Из другой комнаты примчался встревоженный отец со свечой:
— Что случилось? В чём дело?
— Потуши огонь! — прикрикнула на него бабушка.
— Ой! Лопнули мои пузыри! — воскликнул я.
— Какие ещё пузыри? — открыл рот дед.
Дело в том, что в прошлом году на пасху я видел у Кечошки красный шар. Он привязал его ниткой к пальцу и крутил им над головой. И было это ни что иное, как куриный зоб, очищенный, высушенный и выкрашенный. Поэтому, когда наши резали кур к нынешней пасхе, я, чтобы не отставать от Кечошки, собрал зобы, надул их и сделал себе два таких же шара. Бахвал и забияка Кечо наверняка лопнул бы от злости, увидев невзначай мои шары, и поэтому мне очень хотелось похвастаться ими. Но, заметив, что наша кошка не с добром косится в ту сторону и, опасаясь, как бы она не разорвала их, я подвесил шары на ночь над очагом. А теперь они, превратившись в лохмотья, беспомощно болтались на ниточках. И во всём было виновато тепло: шары нагрелись и… словом, не все выносят большую жару. Шары лопнули, а вот Кечо так и не успел лопнуть от зависти.
Перепуганные дед с бабкой успокоились.
А мне было очень досадно, и я заревел. Правда, горе моё было недолговечным: наглотавшись слёз, я снова заснул, как ни в чём не бывало. Недаром говорят, что детское горе живёт лишь до сна.
Проснулся я поздно.
Бабушка меня принарядила, дала мне в руки корзину, полную красных яиц, и повела с собой в церковь.
Возле церковной ограды собралось людей видимо-невидимо. Бабушка подвела меня к ветхому деревянному кресту, взяла у меня корзину и сложила яйца на бугорке.
Я невольно залюбовался, так красиво заалели яйца в пышно зеленевшей траве.
— Не трогай их, деточка, они ещё не освящены. А потом, пожалуйста, бери сколько хочешь! — предупредила меня бабушка и сама пошла в церковь.
А я остался сидеть на камушке и нетерпеливо ждал, когда появится поп.
«Хоть бы вместо проклятого попа Кирилэ пришла Гульчина, ей-богу, подарю ей три красных яичка!» — подумал я. Но сколько я ни вертел головой, как ни таращил глаза, — её нигде не было видно. Тогда я стал молить бога: пусть хоть поп поскорее придёт и освятит яйца. Но, видимо, Кирилэ не спешил. Однако я был не один: в церковном дворе и крестов достаточно, и красных яиц, а поп все яйца должен освятить. Без его благословения есть пасхальные яйца никак нельзя. Отчего? Кто ж его знает! Словом, так или иначе, но пасхальные яйца заставили меня забыть про жгучий перец, и я снова полюбил красный цвет.
Наконец пришёл Кирилэ. Он начал широко размахивать кадилом, вышагивая меж крестов. Ветер доносил запах ладана и щекотал в носу. Я не любил этот запах, но что было делать, не бросить же яйца на произвол судьбы!
Кроме яиц, на могилах лежала и другая снедь. Когда поп окончил своё бормотанье, он дал знак идущему следом за ним служке, чтобы тот сложил всё в хурджин. Служка собрал разложенную снедь, отгоняя при этом ребят, которые готовы были, словно воробьи на кругу, наброситься на освящённые яички. Подойдя ко мне, Кирилэ услал куда-то своего помощника с полным хурджином, а сам нагнулся, пошептал что-то над моими яйцами и стал их засовывать в карман под рясу.
Сердце моё едва не лопнуло, как те шары, которые я повесил над очагом.
Неужто это черноусое страшилище оставит меня совсем без яиц, отнимет у меня даже мои боевые яйца?
Поп поспешно рассовал всё по карманам и, махая кадилом, пошёл к следующему кресту. А я так и остался стоять с разинутым ртом. Что было делать? Не ждать же следующей пасхи?
Схватив пустую корзину, я подкрался к соседнему кресту и, как только поп перестал шептать, ловко сложил туда все яйца.
Кирилэ задымил мне в лицо кадилом и недобро сверкнул глазами:
— Ты что делаешь, грешник? Бог прогневается!
— А на тебя не прогневается? — выпалил я и загородил корзину, к которой подбиралась его цепкая длинная рука.
— Положь их на место, несчастный! — гаркнул он.
— Отдай мне мои боевые яйца, а я тебе эти отдам, — сердито огрызнулся я.
Поп, испугавшись, как бы народ не услышал перебранки, в сердцах чертыхнулся и вернул мне мои яйца. А я отдал ему те, которые собрал на чужой могиле, и побежал к друзьям состязаться.
С того дня я старался не искать встреч с попом Кирилэ, но теперь уж я его не боялся, а открыто ненавидел. Но… между нами стояла Гульчина, а без неё мне и белый свет был не мил.
Соблазнительная сума и ржавая игла
Наступил май. Меня отправили пасти скотину — решив, что пора мне заняться делом.
В понедельник утром, захватив с собой немного еды, я перекинул через плечо сплетённую из коры вишнёвого дерева сумку и погнал на пастбище нашу корову, вола и телёнка. На всякий случай прихватил я с собой и дворняжку.
Первый день я провёл там очень весело. Облюбовав на опушке леса раскидистый бук, на котором не было муравьёв, ребята-пастушки развесили на нём свои сумки и тотчас же принялись играть во все известные им игры. Наконец, когда все порядком устали, Кечо спросил, не пора ли подкрепиться? Сразу вспомнили, что страшно голодны, и руки потянулись к сумкам. Но… наши сумки, разодранные в клочья, валялись на земле, а вокруг степенно ходили три коровы: одна жевала чей-то пирог, вторая пыталась заглотать мчади, а третья, насытившись, укладывалась на траве, порыгивая от удовольствия. Все три коровы были из соседней деревни Вардисубани. Мы тотчас же накинулись на них и, конечно, прогнали, но что пользы? Не стали бы мы дожёвывать за них наши несчастные сумки! Так мы и остались не солоно хлебавши. И только одна Кечошкина сумка висела нетронутой, потому что он её очень высоко подвесил. Но в ней, кроме куска мчади и нескольких луковиц, ничего не было.
— Вот повезло тебе! — съехидничал я.
— Эх! — вздохнул он. — Даже коровы, и те знают, что ничего путного в моей сумке им не найти! — он произнёс это с такой болью, что сердце у меня захолонуло.
— Ну вот, только и остаётся, что траву жевать, — горько заметил кто-то.
— Давайте всё что есть разделим поровну, — предложил нам Кечо.
Каждый из нас получил по маленькому кусочку мчади и головке лука. И со всей откровенностью должен вам признаться, что ничего вкуснее этого я никогда не ел.
Пополдничав, мы решили поразвлечься и связали хвосты двум вардисубанским собакам.
— Собака собаке хвост не оторвёт! — сказал Архип.
— Но распрямить может, — сказал я.
Несчастные животные до крови искусали друг друга, лай и рык стояли невообразимые, за это время закрученные кренделем хвосты их выпрямились, и я думал, что такими они теперь и останутся.
Вдоволь повеселившись, мы развязали собак, и они, ринувшись друг от друга, снова завиляли круглыми хвостами.
После этого я всегда всем говорю:
— Люди добрые! Скорее гора станет равниной, чем выпрямится собачий хвост. А ведь чем-то жизнь наша похожа на него, если не верите, проверьте сами.
* * *
— Давайте, ребята, научу плавать! — предложил сын духанщика Темира, Сеит. Он был самый взрослый среди маленьких пастушков, плавал, как утка, и подолгу не вылезал из воды.
— Меня! Меня! — закричали сразу все мальчишки.
— Я не хочу! — отказался Кечо. — Потом иди и сторожи твою бешеную корову девять дней!
— Тогда и я не хочу! — заявил я.
— Вот олух, — засмеялся Сеит. — Кто же тебя будет даром учить?
— Если хочешь, — вдруг предложил Сеиту Кечо, — я твою корову девять раз погоню с поля.
— Давай двенадцать!
— Ладно, будь по-твоему.
Сеит нашёл брод и приказал:
— А ну-ка, ребята, лезьте сюда и шевелите руками-ногами. Если будете тонуть — не забудьте поднять руки, иначе я вам не смогу помочь. Я буду внизу сторожить, сразу поймаю вас, если вода унесёт. Ну, живо! Кто первый?
Каждый старался спрятаться за другого.
Бросили жребий — выпало мне.
Не успел я заплыть на глубину, как тотчас же начал тонуть. Я так перепугался, что совсем забыл вскинуть руки. Только крепко закрыл рот, но дыхание у меня перехватило и я наглотался воды… Сеит кое-как выволок меня из воды. Мой дружок Кечо рассказывал мне потом, что я был совсем синий. Ребята схватили меня за ноги, поставили вниз головой, и вся вода, а может, в придачу и ещё кое-что, выплеснулась через нос и рот:
— Пока не научусь плавать — в реку ни ногой! — решительно заявил я.
— А ты как думал, — не знал, что по земле ходить учатся, а в небе летать!
После меня никто уже не осмелился войти в воду.
Так и пришлось Сеиту самому управляться со своей шальной коровой.
А мы с Кечо по-прежнему плескались в воде и грелись на песке.
Однажды, в знойный день, вардисубанские ребята согнали волов в реку и, ухватившись за хвосты, поплыли на другую сторону.
Волы заплыли так далеко, что видны были только их головы.
— Давай и мы попробуем! — лопаясь от зависти, предложил Кечо.
Но плавать в реке, надеясь на один лишь воловий хвост, — дело нешуточное. И хотя я трусил, но отказаться не решился. Очень надо, чтобы потом надо мной надсмехались. Нет, уж лучше и впрямь утонуть. Погнав быка Никору к воде, я схватил дрожащими руками его за хвост и — айда на ту сторону. Лишь ступив ногой на отмель, я разжал стиснутые зубы, которые от страха чуть не сплюснулись.
Забава эта пришлась мне по душе, и вскоре я уже совсем не боялся кататься туда-обратно. Именно тогда я убедился, что легко, оказывается, переплывать реку, когда кто-то другой плывёт, а ты держишься за него.
Не стану грешить против истины: не кто иной, как Кечо надоумил меня держаться за хвост, и велика его заслуга предо мной.
* * *
Когда Царо варила кашу, даже самую обыкновенную, для бедняжки Кечо наступал самый что ни на есть настоящий праздник. Потому что всё, что прилипало к донышку кастрюли, отдавали ему. Он вооружался ножом, соскабливал остатки и с аппетитом съедал. Не приходится говорить о том, что Кечо уж, конечно, вылизывал кастрюлю так, что её и мыть не надо было. Как видите, и бедность порой по-своему хороша бывает!
Оттого, что Кечо, постоянно вытягивая голову, сверлил взглядом все кастрюли и горшки, какие были дома, шейка у него стала длинная и тонкая как у цапли. Но дома у них было на редкость пусто и чисто, и если мать давала ему с собой на пастбище лишь кусок чёрствого мчади да горькую луковку, и за это надо было спасибо сказать. Ну, а в моей сумке чего уж только не было: и круг молодого сыра, и увесистый кусок свинины, пироги, фасоль, заправленная орехами и чесноком, и разная другая снедь. Конечно, всё это я съедал пополам с Кечо.
Как-то раз мы с Кечошкой натравили друг на друга наших собак. Победила моя.
— Сегодня моя не в настроении, — попробовал оправдать её хозяин.
— Жена померла? — ехидно спросил я. — Когда у неё будет настроение, сообщи.
Мы договорились устроить следующий бой в пятницу, и собаки наши схватились, но как! Оскалившись, они кусали друг друга в загривок, прыгали друг другу на спину и, выкатив глазища, яростно рычали. Моя Куруха снова победила.
— Может, твоя и сегодня не в настроении? — насмешливо спросил я. — Не скончалась ли у неё двоюродная сестра?
Кечошка никак не хотел признавать поражения своей собаки Поцхверы, но весь пастуший хор дружно кричал «ура» Курухе. И ему пришлось молча согнуть палец.
В том, что победила моя Куруха, не было ничего удивительного. Странно было лишь то, что шерсть Поцхверы была совсем изодрана. Говорят, что собака — это прирученный волк. А известно, что волк не рвёт волчьей шкуры. Так какого же рожна надо было собаке? Может, ей повредило приручение? Получается, что вышла она из лесу и ещё больше одичала? На что это похоже — родственницу не пощадила. Нет, в самом деле, нельзя всех без разбору выпускать из леса!
До этого мы с Кечо обычно устраивали дома петушиные бои. Кечошкин красный петух оказался настоящим героем — он разодрал хохолок у моего петуха и основательно помял его. Кечо был так счастлив, что готов был прыгать от радости. А я, обозлившись, хватил своего петуха топором, окрасив кровью его опозоренную голову.
Бабушка рассердилась:
— Чем тебе не угодил этот несчастный петух, бессовестный ты мальчишка?
Дед же одобрил мой поступок и поддержал меня:
— Если петух голопятого соседа побеждает моего, то и дырявой копейки не стоит его жизнь! Туда ему и дорога!
На ужин, приготовленный из петуха, я позвал и Кечо. Петух был старый, и мясо его было слишком жёсткое, но Кечошкины зубы отлично справились с ним. Не насытившись мясом, мы принялись за бульон. У бедного изголодавшегося парня живот вздулся, как после нашего пиршества в винограднике Тадеоза.
Когда моя Куруха прославила меня, я гордо поглядывал по сторонам, совсем словно Кечошкин петух, а дружок мой ходил рядом с отвисшими ушами. Однако не таков он был, сын Лукии, чтобы сдаться!
Пришлось наших собак стравить друг с другом и в третий раз.
И снова Куруха так обкусала Кечошкину собаку, что та осталась еле жива.
Правда, теперь и моей здорово досталось: у неё болела задняя лапа, и она стала прихрамывать, но мальчишки уверяли меня, что хромота её не уродует.
После этого, едва завидев Куруху, Поцхвера пятилась назад и старалась куда-нибудь спрятаться. Клянусь вам, если бы можно было, она бы влезла под свой собственный хвост.
Теперь уж я совсем приосанился и задрал нос кверху.
Кечо же нахмурился, как туча в ненастье.
— Кечуня, — начал я елейным голосом. — Помнишь, как я рассчитался со своим петухом?
— Собачье мясо не едят, иначе и я бы не остался в долгу, — ухмыльнулся он.
— А ты возьми её, паршивку, и убей на бабушкиной могиле, — посоветовал я.
На следующий день, смотрю, Кечо снова взял с собой Поцхверу. Завидев мою Куруху, она трусливо спряталась за хозяина.
— Что ты таскаешь за собой эту срамницу? — ещё издали крикнул я ему. — Не мог дома оставить? Хоть кур постерегла бы от сусликов.
— На этот счёт не волнуйся! С сусликами и мой петух справится, — ударил он меня старым хлыстом.
— Правильно! Хороший петух в роли сторожа лучше плохой собаки, — не остался я в долгу. — А такую собаку иметь — всё равно, что не иметь. На твоём месте я б её давно прикончил.
— Так я и сделаю. Только потерпи немного.
Прошла неделя.
Как-то утром я никак не мог дозваться Курухи.
Мне показалось, что ночью я слышал её обеспокоенный лай, но не придал этому значения.
Огляделся я, и вдруг вижу — лежит у амбара. Тронул её ногой — не шевелится, тронул снова — ни звука. Словом, что там много говорить, — Куруха была мертва. Осмотрел я её, но следов удара не нашёл, иначе убийцу долго бы искать мне не пришлось. Итак, погибла моя любимая собака, моя гордость и слава! Я не заплакал, но сердце моё обливалось кровью.
Примерно через неделю я отправился взглянуть на труп собаки. Но до меня ещё издали донёсся такой отвратительный запах, что я не решился подойти поближе. Пролетел месяц, и я снова пошёл туда. Дурной запах уже исчез, да и от собаки остались лишь шерсть да кости. И тут уж я не смог сдержать слёз. Слёзы промыли мне глаза, и я вдруг заметил среди костей что-то чёрное; поковырявшись палкой, я выудил большую ржавую иглу.
— Странно, — подумал я, — как она сюда попала?
И тут меня озарило: я опрометью бросился к дому, схватил Кечо за руку и потащил за собой.
— Куда это ты меня? — недоуменно таращил он глаза.
— Пошли-пошли! — грозно ответил я и ещё крепче сжал его руку. Словом, я почти бегом поволок его за собой.
— Что это? — спросил я его.
— Кости!
— Чьи?
— Собаки!
— Чьей собаки?
— Чьей, твоей! Разве ты её не здесь бросил?
— А это что? — и я палкой показал ему на иглу.
— А я почём знаю? — ответил он, побледнев и слегка попятившись, словно испугался, что игла сейчас подпрыгнет и воткнётся ему в глаз.
— Ах, не знаешь? — свирепо спросил я. — А за день до смерти Курухи разве не у твоей матери пропала игла, и разве это не она перевернула весь дом в поисках её, но так и не нашла? Интересно, кто же это проглотил её? Ты что, онемел, дружочек? Дал собаке проглотить, да? Ах ты, дрянь мерзкая, паршивый попрошайка! Позавидовал, что моя собака лучше твоей? Иглой одолел богатыря! Эх ты, герой!..
Его молчание окончательно убедило меня, что он виновен в смерти Курухи, и я не смог отказать себе в удовольствии влепить ему две здоровые затрещины.
Всю неделю я не разговаривал с ним. Но потом помирился: мне стало скучно одному, без друга…
Собака разлучила моего отца со своим братом, однако между мной и Кечо встать не смогла.
Хрустящие яблочки и экзамен учителю
Пока мы резвились и шалили, промчалось мимо нас лето. Когда созрел виноград и настала пора собирать урожай, бабушка принесла весть, что в соседней деревне открыли школу.
— Ну, что, внучек, — спросил меня дед, — хочешь в школу ходить?
— А что я там должен делать? — удивился я.
— Читать книги тебя научат!
До этого я видел всего лишь одну потрёпанную книгу, которую бабушка иногда держала в руках. Я решил, что в школе будут читать ту самую книгу и обрадовался!
— Книгу «Ефремверди»?
Но дед сказал:
— Таких книг тысячи. Но только, если научишься читать по одной книге, так потом все книги будешь читать. Ну?
— Да не знаю… — колебался я.
— А кто же знает-то? Я, милый мой, учился читать в городе по вывескам, а твой отец по надписям на могильных камнях. Запомни, детка, навсегда: самая лёгкая ноша в жизни — мудрая голова, а самая большая нива мудрости — книга. Если пожнёшь то, что в ней посеяно, никто не сможет обмануть тебя, ясно?
Эти последние слова мне понравились, и я решил, что ученье — совсем неплохое и нетрудное занятие, и согласился ходить в школу. Узнав об этом, Кечо тоже решил:
— И я буду учиться!
Но отец его, Лукия, словно сел на мула:
— Ты что, спятил? Откуда я денег возьму? Мне тут кукурузу не на что покупать, а он… Сиди, не рыпайся! Нашёлся мне книголюб!
А Царо облаяла супруга:
— Хватит с нас одного невежды, теперь ты и из сына хочешь крестьянина сделать? Нет, без школы я ребёнка не оставлю! Всё продам, а учиться он будет!
— Охо-хо! Продай! Что же ты продашь? Пустое место? Ах ты, несчастная!
— Чтоб у тебя язык отсох! Ничего другого бог тебе не дал, только язык ядом смазал! Жалкий ты идиот! И почему это все должны быть лучше тебя? Если Караманика в школу пойдёт, почему Кечули должен отставать от него?
И давай хулить и бранить мужа, говорить ему злые слова, грозить и проклинать его! Наконец Лукия не выдержал и согласился. И вот мы вместе с Кечули пошли в школу. Я — в новых чувяках, а он босиком. Идём и видим: важно шествует поп Кирилэ, а за ним вприпрыжку бежит Гульчина, сердце моё. У меня словно крылья выросли.
Нас ввели в длинную комнату, где стояли какие-то необычные скамейки, похожие на столы.
— Это парты! — сказала Гульчина.
В комнате набилось около двадцати ребят. Мы были не знакомы друг с другом и сели за парты с надутыми лицами. Вскоре в комнату вошёл бородатый мужчина. В руке он держал палку с изогнутым набалдашником, а одежда его напоминала рясу священника. Поздоровавшись с нами, он сказал:
— Ребята, когда я вхожу в класс, вы все должны встать. Меня зовут Эквтимэ Гоциридзе. Отныне я ваш учитель.
Потом Эквтимэ вынул из кармана листочек и прочёл наши фамилии. Все дети оказались на месте.
— Кто умеет читать и писать, пусть поднимет руку! — сказал он.
Руку подняла лишь одна Гульчина. Я посмотрел на эту руку, и она показалась мне хрустальной.
— Так я и думал, — проговорил учитель и снова обратился к нам:
— А кто из вас знает стихи?
Тут уж я опередил всех и поднял руку.
— Как твоя фамилия?
— Кантеладзе.
— Имя?
— Караман.
— Ого! Имя что надо! А ну-ка, скажи, какие стихи ты знаешь?
— Дали мне осла с хвостом… — начал я бодро.
Но учитель прервал меня:
— Мальчик, когда ты что-нибудь рассказываешь, надо встать. В школе такой порядок.
Я вскочил, приосанился и, захлёбываясь, отбарабанил распространённые у нас в деревне стихи про осла.
— Хи-хи, — не сдержавшись, засмеялась Гульчина.
— Что ты смеёшься, девочка? — спросил учитель.
— Разве можно такие стихи говорить в школе? — спросила она.
— В первый день можно, моя хорошая. Не надо больше смеяться. — Учитель ласково погладил её по головке и снова повернулся ко мне. — А ещё что-нибудь знаешь?
Как же мне было не знать, когда я слышал от своего деда и бабки чуть ли не целый бурдюк стихов, но смех Гульчины заставил меня их забыть; я разозлился и отрицательно покачал головой. Тогда учитель обратился к Кечо.
Кечо поднялся, откашлялся, прочистил горло и, запинаясь, начал говорить какие-то очень смешные частушки. Потом он осмелел, вошёл в раж и уже разорался вовсю. Когда он кончил, я еле сдержался, чтобы не рассмеяться, но тотчас же закрыл рот рукой, и учитель ничего не услышал.
За Кечошкой поднялась Гульчина и звонким как колокольчик голоском плавно начала читать стихи из нашей бесценной поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Она так заливалась соловьём, что я вытаращил на неё глаза и, по правде говоря, совсем забылся.
— Вот молодчина, девочка! — похвалил её учитель. — Кто это тебя научил?
— Мама! — тотчас же ответила она.
— Знаешь, кто сочинил эти стихи?
— Знаю. Великий Шота Руставели.
Учитель похвалил Гульчину. Девочка, застыдившись, села и опустила голову.
Не знаю, как другие, но мне сразу стало досадно, что Гульчина в первый же раз опередила меня. В тот день, кроме чтения стихов, в школе больше ничего не делали, и нас отпустили рано. У меня чесались руки, так хотелось дёрнуть по дороге домой Гульчину за косы, но желание своё я исполнить не сумел. У школьной калитки нас встретил поп Кирилэ. Он взял девочку за руку, и они пошли вместе. Мы с Кечошкой топали следом. Гульчина шла и всё время ворковала.
За первым учебным днём последовали другие — то погожие, то ненастные, и чем больше проходило времени, тем больше в моём сердце накапливалось горечи.
Гульчина легко готовила уроки. На все вопросы учителя у неё всегда находился ответ, а я как сом разевал рот и стоял словно истукан. Из-за этого я чувствовал себя в школе не в своей тарелке. Алфавит я кое-как выучил, но в школу ходил, как на казнь: мне было стыдно, что Гульчина во всём была впереди меня.
Придя домой, она вечно сидела уткнувшись носом в книгу, а я бегал по просёлкам.
Однажды вижу — сидит в саду и держит толстую, как бочка, книгу. Тут я уж совсем скис. «Чтоб я такую книгу прочёл! — думаю. — Этак голова у меня распухнет и лопнет, как мои пасхальные пузыри». Но Гульчина ещё подлила масла в огонь, сказав: «Когда станешь учёным, такие книги придётся читать каждый день». Это напугало меня окончательно и отбило всякую охоту заниматься.
Словом, потеряв охоту грызть гранит науки, я с тем большим рвением стал лоботрясничать. С утра я выходил из дому, перекинув через плечо сумку, перебегал дорогу, потом, крадучись, возвращался и отсиживался в сарае до окончания занятий в школе. И я был доволен, что ловко обманывал родителей. Но в жизни, видимо, так получается, если человек лжёт, то в первую очередь лжёт самому себе…
Как-то в сарае я обнаружил припрятанные яблочки. На дворе цвела весна, а в эту пору, как известно, даже самые кислые яблоки кажутся слаще мёда. Я открылся Кечо, и он так обрадовался, что не пошёл в школу, а спрятался со мной в сарае.
Кечо так яростно грыз яблоки, что я забеспокоился:
— Потише ешь… услышит кто-нибудь… и пропали мы тогда! — предупредил я его.
— А я яблочки из-за того и люблю, что хруст от них идёт, — беззаботно ответил он и вонзил зубы в яблоко. — Я этот хруст люблю больше самих яблок. Что это за еда, ежели почавкать нельзя.
Словом, до тех пор пока мы не съели все до единого яблока, Кечо и не вспомнил про школу.
Покончив с яблоками, мы обшарили и перерыли весь сарай, наглотались пыли, но больше ничего там не нашли. Разочаровавшись в ученье, я стал редким гостем в школе, иногда всё же ходил туда, но только для того, чтобы нашалить.
Набрав полный карман желудей, я садился на заднюю парту и…
— Трах! — получал по затылку кто-нибудь из впереди сидящих учеников.
— Кто это? — спрашивал учитель. — Пусть встанет и выйдет из класса!
— Мы приходим сюда учиться, а какой-то лоботряс мешает нам! — лицемерно возмущался я.
Когда мне надоели жёлуди, я стал стрелять из хлопушек разжёванной бумагой. Кечули закрывал меня, и никто не догадывался, что это я. В классе начинался переполох и визг.
Как-то учитель вызвал к доске Кечо. Я был на него сердит и прицелился ему в мочку уха. Учитель заметил моё движение, но, не поняв в чём дело, решил, что я хочу спать.
— Ты что, не выспался? — спросил он.
— Нет, господин учитель, я так… — бодро ответил я, тотчас же вытянув голову, а хлопушку засунул поглубже в парту.
— А ну-ка отгадай, что у него в руке?
Учитель иногда показывал нам картинки с животными и дикими зверьми, а потом рассказывал о них.
Я пригляделся: Кечо держал в руке картинку с каким-то зверюгой, но что на ней было изображено, я разобрать не мог.
— Ну, говори, если знаешь! — торопил меня учитель, но я так и не смог толком разглядеть изображение.
Но раз мне не удалось потешить себя стрельбой, то я решил удовлетвориться тем, что сказал:
— Господин учитель, что у Кечо в руке я не знаю, но зато могу сказать, что у него в желудке.
— Что с тобой, Кантеладзе? — сверкнул глазами учитель.
— Ничего…
— Что ты там болтаешь?
— Утром он стянул у меня из сумки чурчхелу и слопал, — заключил я свою речь.
Учитель засмеялся, ну, а остальные вслед за ним.
За это время я хорошо разглядел, что у Кечошки было в руке, и воскликнул:
— Господин учитель, у Кечо в руке картинка с зайцем.
— Верно, — согласился со мной учитель. — А теперь скажи мне, сколько лет живёт заяц?
Я раскрыл рот как рыба, выброшенная на отмель, но вдруг меня озарила счастливая мысль:
— Это, господин учитель, выяснить невозможно.
— Почему?
— Потому что заяц сам по себе никогда не умирает: то волк его съест, то орёл унесёт. Да и дядя Пиран не даёт ему прохода, как только завидит — тут же бьёт без промаха.
Учитель улыбнулся в усы и спросил меня:
— Твой дядя охотник?
— Всё с ружьём ходит, кем же ему быть ещё?
— Только зайцев бьёт?
— Дед говорит, что чаще всего он убивает время. Иногда вылавливает капканом барсука, как-то и лису принёс. А бабушка всё сердится на него, что он по лесам шатается, праздную жизнь ведёт.
Учитель больше ничего меня не спросил, он посадил Кечо на место и сам стал рассказывать нам, какие звери живут в лесу.
На второй день на уроке арифметики он снова обратился ко мне:
— Допустим, Караман, у тебя десять яблок, пять ты отдал Кечо, сколько же у тебя останется?
— Десять, — не раздумывая выпалил я.
— Почему? Ты же пять отдал Кечо?
— Я ему больше не дам яблок, отчего он мне не дал грушу?
Учитель правильно решил, что я совсем охладел к учёбе и вызвал деда:
— Нико, дорогой, — сказал он ему, — твой внук книгу в руки не берёт. Он совсем на упражняет свой ум, может, ему вообще не стоит ходить в школу?
Тогда дед решил сам проследить за моими уроками. Теперь он отпускал меня во двор лишь после того, как я кончал готовить уроки. Надо сказать, что дед помог мне, и я немного подтянулся, стал более добросовестным учеником, но старика на это дело хватило ненадолго. Ведь у него своих забот было хоть отбавляй: один виноградник чего ему стоил, и вскоре я по-прежнему обленился.
Писал я так, что мои каракули скорее напоминали утиные лапки, а когда я читал стихотворение, клянусь вам истиной, мой язык вязнул в глотке. Не было у меня способностей и к рисованию, я не мог нарисовать даже простую свинью: она получалась у меня как рыба с рожками. Что же касается арифметики, здесь мои несчастные мозги попросту расползались в разные стороны.
Однажды весной учитель предупредил всех своих учеников, чтобы ходили в школу опрятными и, как следует, учили уроки, потому что со дня на день к нам может нагрянуть экзаменатор. Мы сдуру решили, что он нас обманывает, но учитель был прав! Проверять нас пришёл какой-то дядька в рясе, здорово похожий на попа Кирилэ, но только усы у него были короче и словно чуть подпалены.
Кечошка с таинственным видом шепнул мне, что этот дядька послан проверить нашего учителя.
— Разве можно учителя проверять? — удивился я.
— Отец сказал, что можно, а вдруг он не годится в учителя.
— Вот уж этого я никогда не подумал бы!
А когда прозвонил звонок и они вместе с учителем вошли в класс, я ещё больше поразился: ведь если он должен проверить учителя, зачем же он в класс пожаловал?
И вот этот самый дядька стал задавать нам разные вопросы. Мы то хранили каменное молчание, то заливались канарейками. И в зависимости от наших ответов экзаменатор то улыбался нам, то хмурился.
— А ну-ка, ребята, кто из вас знает, кого создал бог на седьмой день? — спросил он под конец.
Мы сразу притихли, словно напуганные цыплята, над которыми кружит коршун. Я поискал глазами Гульчину — может, она — думаю — знает? Но в тот день её в школе не оказалось, — тогда я взглянул на Кечо, — тот сидел с открытым ртом.
Вдруг я заметил, что учитель согнул локоть и дважды приложил к груди большой палец.
Я обрадовался. «Ну, думаю, браток, настало время показать себя», — и растопырив всю пятерню, поднял руку.
— Ну, отвечай! — обратился ко мне экзаменатор.
— На седьмой день бог создал нашего учителя! — радостно выпалил я и гордо взглянул на остальных учеников.
Учитель покраснел и так грозно взглянул на меня, словно готов был рассечь пополам.
А экзаменатор улыбнулся:
— Вы, ребятки, это учили, но просто забыли. На седьмой день бог создал человека.
Все с облегчением вздохнули, а я разозлился: если это так, почему же ему не понравился мой ответ? Я спросил его:
— Выходит, наш учитель не человек?
Тут учитель метнул в меня такой яростный взгляд, что я уверен, будь он один, он бы непременно поколотил меня и прогнал за дверь. Экзаменатор же снова улыбнулся:
— Ваш учитель человек, и очень хороший, но только бог на седьмой день сотворил не его, а другого человека, предка наших отцов Адама.
Вот этот-то день и оказался моим последним днём в школе; после этого ноги моей там не бывало.
— Ты что же, уже закончил гимназию? — спросил меня дед.
— Да ну её. Не хочу больше учиться! — заявил я и опустил голову.
— Чего? Учиться не хочешь? Ума — палата! — раскричался дед. — Не хочешь — не надо, хоть головой об стенку бейся! Расти болван — болваном!
Если брат братом красен, то друг — другом. Не успел я бросить школу, как Кечо немедленно последовал за мной. Его мать Царо была только рада этому: ведь она послала сына в школу назло нашим, а убедившись, что я не хожу, не стала принуждать и его.
Иссохшиеся щёки и наказанные глаза
Похолодало. Небо припорошило землю первым слоем снега, и вершины гор забелели. Потом вдруг выглянуло солнце, и снег, словно устыдясь, быстро стаял. Теперь стояла такая теплынь, что мы уж забеспокоились: не передумала ли зима и не решила ли повернуть обратно. Больше всех радовались солнцу старики. Им хотелось напоследок прогреть свои старые косточки под его тёплыми лучами, в заодно, и посудачить. Стариков можно было увидеть во всех двориках, они сидели примостившись на низеньких скамеечках, сощурив от удовольствия глазки.
Но мой дед не выпускал из рук топора. Он всё что-то тесал и оттачивал, и для меня сделал санки со вздёрнутым передком.
Хватало дел и у бабушки. Она чесала шерсть, лущила кукурузные початки, сушила на зиму яблоки и груши. Однако чаще всего она вязала. Как только клубок соскальзывал с её колен, на него накидывался наш кот и играл, катая его лапами. Бабушка бросалась за котом и больно била его, но он, по-прежнему преданно развалившись у её ног, дремал или сладко потягивался.
Кечо стал ходить с отцом в лес по дрова, а я, оказавшись в одиночестве, был предоставлен самому себе. Как потерянный, бродил по двору, и забавлялся тем, что тыкал палку коту в пасть, заставляя его визжать, как дикого зверя. Бабушка же сердилась и кричала на меня: «Паскудник ты! Перестань сейчас же, иначе я тебя крепко побью, клянусь прахом матери!»
Но я хорошо знал, что бабушка хочет только попугать меня, и продолжал свои забавы.
Рассвирепевший кот отмахивался от палки лапами и выпускал когти, жертвой которых стала бабушка. Он изодрал бабушкины пёстрые цинды и даже расцарапал ей колено.
— Одуреть с тобой можно, негодник ты этакий! — не выдерживала она.
— А ты разве была когда-нибудь умной? — нашептал мне на ухо дедушка, и я повторил его слова.
— Боже праведный! До чего я дожила! Ах ты, гадкий мальчишка, для того я радовалась твоему рождению, чтоб ты меня потом дурой называл? И не стыдно тебе, бессовестный?! — глаза бабушки наполнились слезами.
Но я почему-то думал, что слёзы эти были вызваны не моими грубыми словами, а царапинами кота.
— Ладно, уж будет! — заступился за меня дед. — У него язык злой, а душа-то добрая.
— Ну, как же, защищай его, будто я сама не знаю, что он из себя представляет! Я его маленького, можно сказать, с колен не спускала, а ты будешь мне сказки про него рассказывать! А ну, негодник, подойди, поцелуй меня назло деду.
Я поцеловал её, но тут же насыпал перцу на свежую ещё рану:
— Бабуся, ты под солнцем не засиживайся, а то, вишь, у тебя щёки совсем высохли, как сушёное яблоко.
— Ах ты, обезьянка! Небось мои сушёные яблочки уплетаешь, а высохшие щёки тебе не по вкусу, — обиделась она.
— Ну что ты? Я ж не хотел тебя обижать! — встревожился я и снова поцеловал её. Я бы что угодно стерпел, лишь бы бабушка не осталась на меня в обиде.
Правда, жабу я бы не смог целовать, а вот сушёные яблоки — пожалуйста!
Но тут вдруг печально вздохнул дед:
— Эх, Караманчик, — сказал он, — знаешь, какие это были раньше румяные яблочки? В юности не один я мечтал хоть разок попробовать, а там и смерть не страшна! Но не таков я был, чтобы другому уступить! Схватил за руку, накинул на неё бурку, посадил на коня и… поминай как звали.
Это уже было для меня совершенной новостью. Я вытаращил глаза:
— Похитил?
Тут бабушка оживилась и не дала закончить рассказ деду, сама застрекотала:
— А ты что думал, дурачок! Я тебе не кто-нибудь, а похищенная женщина! — горделиво повела она плечами.
Лицо её расплылось в широкой улыбке, и она совсем стала похожа на девушку, только беззубый рот всё портил.
— Но кому ты была нужна такая старая и беззубая? — воскликнул я, не подумав.
— Глупенький, разве я тогда такой была? Улыбалась — хрустальные зубы сверкали, а глаза — со звёздами в небе заигрывали. Вот живой свидетель, спроси у него.
— Да что толку говорить? Всё равно не верит! Вот вырастет, постареет и сам увидит, что у него от зубов останется! — грустно сказал дед.
Я представил себя на бабушкином месте: беззубый рот, ввалившиеся щёки и вспухшие вены. — Бррр, — по спине побежали мурашки: предстоящая старость меня напугала. Тогда я мало смыслил в жизни. Лишь позже я узнал, что несчастен не тот, кто доживает до старости, а тот, кто преждевременно уходит из этой жизни. Тяжела, ох как тяжела старость, но в два раза горше, если не узнаешь её…
Так или иначе, но беседа эта испортила мне настроение. Я бросил палку, забыл о коте и помрачнел. А дед укорил меня:
— Ты вот всё рыщешь, смотришь, где бы напроказничать. А лучше посидел бы со мной, может, научился бы чему-нибудь!
— Да ну тебя! — отмахнулся я. — Всю неделю корпишь над одним несчастным колесом!
— А ты смотри и учись, или, думаешь, за тебя всегда другие будут делать?
— А ты на что?
— Так я ж не всегда с тобой буду! Видишь, как я сгибаюсь день ото дня. Словно ястребиный клюв. Эх, где она, моя молодость! Будь я молодым, я для тебя всё на свете сделал бы, разве кто-нибудь мне дороже тебя?
— Дедуля, кто был в молодости лучше, ты или Кечошкин дед? — вдруг спросил я его.
Дедушка Нико не был глухим, но почему-то притворился, что не слышит.
Я повторил свой вопрос.
— Устами ребёнка ангел говорит, — вмешалась бабушка, — ответь ему!
— Когда он тебя обидел, ты его негодником назвала, а теперь он вдруг ангелом у тебя стал? — насмешливо спросил дед.
— Ладно уж, не язви! Ребёнок спрашивает, не можешь ему ответить?
— Ну что тебе? — неохотно повернулся ко мне дед.
— Я спрашиваю: кто был лучше в молодости, ты или Кечошкин дед?
— Чем, детка, — удалью, умом или силой?
— Да всем… и умом и силой?
— Не люблю о покойниках вспоминать, но раз ты пристаёшь, ладно уж, отвечу. Силы у него больше было, но зато я был ловчее его, да и разума у меня было побольше. Вот, ежели охота послушать, расскажу тебе одну историю.
Однажды мой отец велел мне отнести нашему господину, которому мы задолжали, жирного гусака. Я предстал перед князем Эристави, восседающим в кресле под ореховым деревом, и говорю, что вот, мол, принёс гуся.
— Одного? — спрашивает он.
— Да, говорю, — ведь мы были должны только одного гуся.
— А нас в семье шестеро, — отвечает князь. — Как же мы твоего гусака делить будем?
Но я не растерялся.
— Это, — говорю, — тебе, как главе семьи. — Оторвал у птицы голову и положил её перед ним. Гузку я преподнёс госпоже, лапки — сыновьям, а крылья барышням; всё равно, мол, улетят, и пусть господь бог благословит их полёт. Остальное я сунул себе под мышку: это, мол, мне за труды.
Князь рассмеялся, похвалил мою смекалку и подарил на прощанье целый мешок зерна.
Узнал об этом Кечошкин дед и решил: «За одного гусака князь его так одарил, а если отнести ему несколько, то он и вовсе озолотит!»
Он схватил пять откормленных птиц и помчался с ними к князю. Князь ему и говорит:
— Нас шестеро, как мы их разделим?
— Ваша воля! — отвечает Кечошкин дед Фидо.
Тогда князь велел позвать меня. Я преподнёс одного супругам, — вас трое, — говорю. Второго отдал братьям, — вас тоже трое. — Третьего отдал сёстрам: — и вас трое. Оставшихся двух я сунул под мышку: — пускай нас тоже будет трое, — решил я.
Князь так развеселился, что подарил мне пять мешков зерна, Фидо же ушёл не солоно хлебавши.
Мне показалось, что эту историю я уже где-то слыхал, но про деда в ней не упоминалось.
— Дедуля, — спросил я с подозрением, — разве эта история с тобой приключилась?
— А что, не понравилось?
— Да понравиться-то понравилось, только раньше не про тебя в ней рассказывали.
— Верно, детка, это и на самом деле не со мной приключилось. Себе её приписал, потому что, думаю, скорее запомнишь. Чем без дела-то сидеть, не лучше ли такие истории слушать? И ум оттачивает, и развлекает…
Вот и повелось у нас с того дня рассказывать всякие были и небылицы; всю осень дед и сам забавлялся и меня развлекал. Когда солнце совсем остыло, он заготовил целый воз дров и, придвинув свою скамеечку поближе к огню, провёл там почти всю зиму. Зимой он грелся у трещавших в огне сучьев, а я весь день катался на санках. И только ночью мы были вместе.
Весной, когда выглянувшее солнышко стало уже пригревать, дед начал свой обычный труд в винограднике. Работы за зиму скопилось много, и я, чем мог, помогал ему. Но я хорошо видел, что дед уже был не тот, что раньше; он чаще обычного присаживался передохнуть, и тяжело и прерывисто дышал. На одежде его было множество карманов, и он всё никак не мог запомнить, в котором из них он держал кальян.
Меня это очень удивляло: он прекрасно помнил всё, что происходило с ним даже в детстве, со всеми подробностями, а теперь не мог запомнить такой простой вещи! Забывал даже то, что случалось вчера! Вдобавок ко всему у него появилась ломота в коленях и мучила бессонница.
Как-то в полночь меня разбудил его голос. Слышу, дед сам с собой разговаривает…
— Не спите, глаза мои? Все мои болячки вам! — злился он, измаявшись от бессонницы. — А ну-ка, убирайтесь отсюда вон, идите пахать!
Дед поднялся с постели, надел свою одежду и, шатаясь, вышел из комнаты. Бабушка крепко спала и ничего не слышала.
Но на этом не кончилось. Бессонница его совсем одолела, и однажды ночью меня снова разбудило бурчанье деда.
— Опять вам не спится, чтоб вас землёй засыпало! Убирайтесь хлев чистить!
И дед снова поплёлся в ночи, едва передвигая ноги. И пошло и пошло! Просыпаюсь утром — где дед? — Ушёл в полночь в виноградник! Просыпается бабушка — его и след простыл! Воспользовавшись лунной ночью, пошёл дрова пилить! Словом, дел у бедняги всё прибавлялось.
Так он наказывал свои глаза, мешавшие ему уснуть. А я уж и не знал, кого больше жалеть: бедного дедушку или его упрямые глаза.
Каменная глыба и воркотня стариков
Вот, оказывается, какова она, старость! Постоянная бессонница деда привела к тому, что у старика начали дрожать руки и ноги. Теперь у него не было сил подниматься высоко в горы, и вскоре, окончательно измучившись, он слёг в постель. Самым большим мучением было для него то, что он и заснуть-то не мог, и с кровати слезть был не в состоянии. Бабушка Гванца ни на минуту не отходила от изголовья больного. А мой отец в это время работал где-то на стороне.
Однажды в воскресное утро мама надела новое платье. Дед заметил и спросил её:
— Куда собралась, невестка?
— В Они.
— Что тебе там надо?
— Может, сыну на ярмарке сандалии куплю.
— Так ведь отец ему недавно прислал, когда ж это он успел их износить?
— Не знаешь разве мальчишек? Бегают как волки. Тут не только сандалии, но и железные каламани не смогли бы выдержать.
— Но ведь он всё время босиком бегает! Когда же он успел их порвать?
— Значит, я выдумываю?
— А ну-ка, взгляни мне в глаза. А! Видишь? Правда, память моя уже слаба стала, но всё же я хорошо помню, что ярмарка в Они бывает только по пятницам. Не ходи! Сколько раз я должен вам твердить: никаких докторов мне не надо. Самое большее, что они сделают — дадут выпить какой-нибудь отравы, от которой тошно сделается. Ты лучше возьми этот кувшинчик, спустись в погреб и зачерпни мне винца из малого чана. Уж лучше этого лекарь наверняка ничего не пропишет.
Мама взяла кувшин и встряхнула его:
— Отец, ты и это ещё не допил…
— Это вы, женщины, допивайте, а мне неси холодненького. Знаешь поговорку: хорошо, когда сердце тёплое, а вино холодное?
После этого мама ещё несколько раз порывалась сходить за врачом, но дед по-прежнему не пускал её.
— Послушай, детка, — сказал он ей однажды, — давай я тебе лучше вот что расскажу: в юности я учился столярному делу у деда Беко. Нередко он отправлялся в Гурию и Мингрелию и брал меня с собой. Бывало, если не находилась работа по душе, то мы не пренебрегали любой другой работёнкой. Помню, как-то гурийцы мотыжили на кукурузном поле. В это время идут двое путников и просят у них воды напиться. Гурийцы подали им кувшин вина Чхавери, а потом и отобедать пригласили. Тогда один из путников спросил их:
— Что это у вас, чан в поле зарыт?
— Нет, — ответил гуриец, — куда бы мы ни шли, мы всегда берём с собой кувшин вина.
Старший путник многозначительно поглядел на младшего и заметил:
— Пойдём обратно, в этом краю нам делать нечего, у них свой лекарь всегда рядом. Так вот, дочка, понятно тебе, к чему я клоню?
— Тут и понимать нечего, — ответила мама и отправилась в погреб.
После этого разговора кувшин с прохладным вином постоянно стоял у изголовья больного. Дед любил повторять, что кусок застрянет у него в горле, если его не смочить вином: он и до болезни не прочь был им побаловаться. А теперь и вовсе решил, что вылечить его сможет только вино. Он считал его лучшим лекарством от всякой хворобы, и, на самом деле, вино ему как будто всегда помогало, и он быстро выздоравливал. Но на этот раз он совсем расхворался. Лишь в самом конце августа ему стало немного легче. Он сильно похудел, ослаб и с трудом держался на ногах, но, опираясь на палку, всё же вышел во двор. Свежий воздух пошёл ему на пользу: у старика появился аппетит, и он вскоре заметно окреп.
— Теперь ты, как кремень, неправда ли? — спросил я его, чтобы несколько приободрить.
— Эх, детка, это уже точно, что старость не радость! Стою на ногах — сесть трудно, сижу — встать не могу. И кому я теперь нужен такой? Казалось бы, лучше совсем не жить, но что поделаешь? Сердцу приятно это благословенное солнце, жаль с ним расстаться!..
Я не помнил случая, чтобы дед жаловался, мне от души стало жаль его, и я, расчувствовавшись, поддержал его под руку.
Однажды вечером наш дед пропал. Мы бросились и туда, и сюда — нет его нигде и всё тут.
— Ой, горе мне, — перепугалась бабушка, — может, болезнь измучила его и он решил утопиться в Риони? Да, да! Так и есть, недаром он давеча мне говорил: если помру, расходов у вас никаких не будет, я сам себя схороню! Ох, горе мне, не иначе, как утопился он, несчастный!
— Бабуля, а арбы-то во дворе нет! — осенило меня внезапно.
Я бросился в стойло — волов там тоже не оказалось.
— Боже милостивый! Наверное, в горы поехал за дровами! Совсем ополоумел! — снова запричитала бабушка.
— Так что же ты плачешь? Ведь он жив? — рассердился я. — Усядется на арбу и приедет обратно. Что же ему делать, бедному, если он соскучился по лесу?
— Ай-я-яй! Ночью его волки загрызут! Ой-ой! Горе мне!
— Не бойся, — утешал я её, — ведь на нём мяса совсем не осталось, не станут они его трогать.
Рассвело, а дед всё не появлялся. Бабушка уже начала сходить с ума. Настал полдень, все тени уже переместились, а деда по-прежнему не было.
— Послушай, Караманчик, — начала она, волнуясь, — скажи, ведь правда, что я тебя никогда ничего не просила?
— Как же? А чурчхелы не воровать не ты просила? И ещё говорила: не трогай, дам вдвое больше?
— Но ты же не исполнил моей просьбы?
— Не исполнил! А что поделаешь, если украденная чурчхела слаще?
— Хорошо! Выполни хоть теперь мою просьбу: сходим вместе в лес, поищем нашего деда. Может, он, бедненький, уже помер там где-нибудь? Тебе не жаль его?
Бабушка так жалостливо говорила, что камень, и тот бы истёк слезами. Я всхлипнул, взял бабушку за руку, и пошли мы с ней в лес на поиски пропавшего деда.
Недалеко от опушки нам встретился столяр Беко: он рубил большущую липу.
— Ты там нигде не встретил моего? — спросила его бабушка.
— Да он же во двор с трудом выходит, — удивился Беко, — как я мог его здесь встретить, ангелы его сюда перенесли, что ли?
Бабушка, махнув рукой, потащила меня дальше, и мы спустились к ручью. Здесь на камне сидел глухой Сепелика и мастерил из дерева разную утварь.
— Ты моего дедушку нигде не видел? — заорал я ему в ухо.
— Миску? — спросил он меня.
Я мотнул головой.
— Ложку?
Я замахал руками, а глухой пожал плечами.
— Чего ж тебе надо? Корзинок нет, я их уже не делаю.
Он опустил голову и продолжил своё дело.
Но я не отстал от него и толкнул его в плечо. Изобразив руками рога у себя на голове, я большим пальцем показал на себя.
— Корову купил? — спросил он.
Словом, как я ни старался, что я ему ни показывал — да и бабушка тоже, ничего не получилось. Глухой твердил своё, мы — своё. Так, ничего не поняв, мы пошли в буковый перелесок, откуда доносился стук топора.
Когда мы поднимались по косогору, над нами пролетел ворон и закаркал. Бабушке это показалось дурным предзнаменованием, и она без сил опустилась на траву.
Я с трудом привёл её в чувство.
Кого только мы не повстречали по дороге, у кого только мы не спрашивали! Куда там! Дедушки и след простыл. Бедная бабушка ослабела, ноги у неё подкашивались. Я с трудом помог ей подняться, и она, опираясь на меня, кое-как дотащилась до дому. Идя домой, она так стонала и причитала, что сердце моё совсем размякло, и мы с ней оросили слезами все тропинки.
Наконец подошли к дому, вошли во двор и…
— Ба! Да вот же дед!
Волы, как ни в чём не бывало, лежали перед стойлом и лениво обмахивались хвостами, а на арбе — громадный плоский камень.
Дед, задумавшись, сидел преспокойно на камне, тянул кальян и поплёвывал.
— Чтоб тебе провалиться! — яростно напустилась на него бабушка. — Где ты был, чёрт проклятый? Чтоб я тебя в гробу видела!
— Вот за тем-то я как раз и ходил, — спокойно ответил ей дед. — Видишь, привёз!
— Что это, мучитель ты мой, что это?
— Как что? Камень, не видишь разве?
— Батюшки мои светы! Совсем рехнулся, старый!
— Ничего, пусть я в девять раз поглупею, всё равно столько ума, сколько у тебя сейчас, всё же останется! — ввернул дед.
— Безмозглый, зачем ты приволок сюда эту бандуру?
— От безмозглой слышу! Знаю я всех вас, пока я жив, хвостами передо мной вертитесь, а как помру, кто его знает, какое у вас настроение будет? Может быть, поленитесь поставить мне на могиле камень, зачем же мне вас тяготить? Вот я и притащил его, и вам будет легче, и у меня на душе спокойнее.
— Дурень ты, — обозлилась бабушка, — ты как помрёшь, я тебе такой камень поставлю, что не сможешь улежать под ним! Нашёл, о чем печалиться! Но только… разве время тебе умирать? Пусть я и дня не проживу после тебя!
Бабушка села рядом с дедом, и оба тихо заплакали. Их прозрачные слёзы послушно падали на распростёртый на арбе камень. Вдоволь наплакавшись, они снова принялись укорять друг друга.
— Не лицедействуй! Скажи начистоту, что ты больше меня не любишь! — пристал к ней вдруг дед.
— Вот сумасшедший! Что же я, твоего соседа люблю? Это ты ко мне остыл, и сам на свой аршин меришь!
Так, по крупинке, помаленьку, они сдобрили слова перцем, затем, забывшись, шумно загалдели, а потом даже замахали друг на друга руками. В конце концов они и вовсе разобиделись друг на друга и надулись, как дети. А я и не догадывался, что старики тоже могли поссориться ни с того ни с сего, совсем, как я, Кечо и Гульчина, но с той только разницей, что мы тут же мирились, а они долго ходили насупленные и задумчивые.
Только ночью оба забывали о нанесённой обиде, и во сне то бабка, выкрикивая, произносила имя деда, то дед звал её к себе. Утром они по-прежнему хмурились и молча делали своё дело.
В те дни я заболел краснухой.
Мама натащила красной материи и завесила ею стены моей комнаты. Правда, красный цвет портил мне настроение, заставляя вспоминать тот самый проклятый перец дяди Пирана, но мне сказали: «так надо, лежи и молчи».
Бабушка всё время была при мне и всё молилась, заклиная кого-то невидимого. Дед тоже старался побыть со мной и говорил мне ласковые слова. И всё было бы хорошо, да только мне не нравилось, что они не разговаривают друг с другом. И тогда я вспомнил, что есть такой обычай: желания ребёнка, заболевшего краснухой, немедленно исполняются. Я вытянул голову из-под одеяла и позвал:
— Деда!
— Что, радость моя, что, лапочка?
— Исполнишь мою просьбу?
— Конечно, жизнь моя, соколик мой, не одну, а тысячу просьб исполню! Проворкуй мне свои желания, проворкуй, счастье моё!
— Ты почему в обиде на бабушку?
— Я?!.. Нет, ласточка моя, нет, золотце! Отчего это мне на неё обижаться?
— Ба! Ты тоже не в обиде на деда?
— Что ты, радость моя! Какие там ещё обиды? Так, пошутили просто! Разве мы когда-нибудь обижались друг на друга?
— Тогда обнимитесь и поцелуйтесь!
Дед и бабушка расцеловались. Потом дед, косо взглянув на меня, спросил:
— Может, ещё её поцеловать?
— А, понравились сушёные персики? — засмеялся я. — Ладно, давай ещё разок.
Дед тотчас же воспользовался моим милостивым разрешением.
— Теперь садитесь рядом! — приказал я.
— Подвинься, мать, немного, — попросил дед бабушку и присел рядом.
— Помещаетесь? — спросил я и, оглядев старичков, рассмеялся.
— Помещаемся, помещаемся! — заквохтала бабушка. — Соколик ты мой! К радости, к добру бог дал нам тебя, чтоб одни розы и фиалки были у тебя под ногами.
— А теперь спойте что-нибудь! — попросил я.
Бабушка затянула колыбельную, дед поддержал её.
Они так трогательно пели, что я и не заметил, когда они кончили. Помню только, что я полетел куда-то высоко, высоко и превратился в райскую птицу.
Никогда в жизни потом я так сладко не спал, и никогда больше не видел таких красивых снов. А приснилось мне, что мы с Гульчиной летаем. У неё на голове венок из фиалок и роз, и одета она в пёстрое платье из горных цветов. На мне же точно такая чоха, какая была на дяде Пиране в день его свадьбы. Весь мир завидовал нашему счастью. Голуби, воркуя, летели вслед за нами, орлы благословляли нас, олени лобызали наши следы на земле, а три прекрасные розовые форели вы бросились на отмель и, радуя взор, плясали «Самайю».
Эх, вот бы ещё разок увидеть во сне такое, клянусь, всю жизнь я бы молился за царя Морфея!
Завещание дедушки и ссора на кладбище
Через некоторое время я встал с постели, но зато снова слёг дед. Бедной моей бабушке, наверное, на роду было написано сидеть у изголовья больных.
Мама по-прежнему приносила деду каждый день кувшин холодного вина, но чувствовалось, что оно уже не доставляет ему прежнего удовольствия.
Старик совсем сдал. У него теперь всё время мёрзли ноги, поэтому под ноги ему клали горячие кеци, завёрнутые в старую рубашку.
Мне, признаться, не приходилось видеть старика в колыбели, но несчастный мой дед так усох, что, клянусь, положи его тогда в колыбель, он бы прекрасно там уместился.
— Ты что такой маленький стал, деда? — спросил я его однажды.
— Смерть приходит, детка. Это она так уменьшает людей.
— Всех?
Дед раскрыл рот, чтобы ответить, но не смог и слова выговорить. Тут бабушка, еле сдерживавшаяся, не вытерпела, и слёзы потоком хлынули из её глаз. Но у деда зрение было ещё хорошее, и он, увидев, что она плачет, рассердился на неё:
— Ты что это, старая, нюни распустила, да ещё у постели больного! Нашла себе занятие! Вместо того чтобы улыбаться, смеяться и утешать, ты настроение портишь? Я ещё денька два так поваляюсь, а потом как встану, и вот посмотришь, проживу ещё столько, сколько жил! Ну, будет, кому я говорю? Или ты не Гванца? Да что с тобой? Что ты меня живого оплакиваешь? Позвала бы лучше сыновей, уж очень я по ним соскучился.
Ровно через неделю прискакали отец с Пираном из Владикавказа. Бедный старик при виде их ослабел окончательно.
— Как ты отец, как? — спросили его дети.
— Чтоб вашим врагам и завистникам было так! Во-он там, за дверью ждёт меня ангел смерти, видите? Миром правят два брата: один делает колыбели, другой гробы, и живут эти два брата всегда вместе, так что спрашивать меня ни о чём не надо. А оставлю я вам по маленькому участку земли и весь белый свет в придачу. Теперь вам нужно лишь постараться, чтобы в этом доме стояла колыбель, ну, а за гробом дело не станет… Утрите слёзы… Вам, наверно, завидно, что я оставляю вас в этом суетливом и несправедливом мире, а сам отправляюсь на отдых в рай?.. У меня все надежды на это, потому что я праведно прожил жизнь, тянул свою лямку и ни разу с чёрным сердцем не прошёл под солнцем. Кого ж ещё пускать в рай, если не меня? Ох, одолел меня этот проклятый кашель… всю мою душу выворотил… не могу больше! — Он так закашлялся, что едва перевёл дух, потом снова обратился к Амброле: — Хорошо, что ты застал меня в живых… а то я уже собрался писать завещание… В сундуке, в платочке, у меня спрятано немного денег. Заработал я их честно, кровью и пóтом и отложил на похороны мои и твоей матери. Ибо стыд и срам тому, кто после себя не оставит доброй памяти, а бремя своих собственных похорон свалит на детей своих и соседей. Деньги пополам подели — половина предназначается твоей матери. Ну, сам знаешь, какие по мне поминки справить. Правда, одному богу известно, будет ли мне от этого легче на том свете, но зато здесь люди будут довольны… вон, сколько голодных бродит по свету… пусть хоть раз досыта поедят… И от деревни тебе почёт и уважение будет, скажут — хороший сын у Нико, вишь, как уважил отца! Ну, конечно, преувеличат маленько, не без того. Люди это любят, сынок… И вот ещё что… я хочу, чтобы на моих поминках тостов было сказано двадцать один, да выпито тройными порциями. Ведь последний бедняк помрёт, и то на его поминках семь стаканов вина пьют. Но скажу без хвастовства — ты-то знаешь, что этого терпеть не могу, — разве я не стою хотя бы троих нищих? Сакиварцы от меня немало добра помнят, пускай и мои поминки им надолго запомнятся. Вина не жалей, бог щедрому ещё больше даст. Дай им вволю напиться…
— Что ты, отец, слыхано ли допьяна напиваться на поминках? Ведь так, чего доброго, и песню запеть можно?.. — прервал деда Пиран, до этого слушавший его внимательно.
— Ничего, сынок, пускай поют! Не обижусь. Только б до драки не дошло, а песни — пускай поют. Я хочу, чтоб у людей обо мне остались приятные, а не грустные воспоминания. Эта песня осветит мне путь на тот свет, поддержит меня, и я свободно пройдусь по волосяному мостику. Только, пожалуйста, обойдитесь без слёз, этот день настигнет всех…
Я слушал и думал про себя: «Хорошо, что бабушка Гванца суетится на кухне. Если бы она слышала всё это, ведь она слезами бы изошла». Впрочем, не мне её судить, я и сам еле держался, чтобы не разрыдаться, и отвернулся, чтоб никто не заметил моих мокрых глаз.
Мама накрыла на стол и накормила изголодавшихся в пути братьев.
— Живи сто лет! — пожелали они отцу и выпили по стакану вина.
Бедный дед, словно только того ждал, чтоб увидеть сыновей. Промучавшись весь день и, посмотрев в последний раз на закат солнца, скончался. Семья тихо плакала, чтоб не разбудить уставшую за день деревню. Ведь, пока дед был жив, он всегда старался чем-то помочь соседям, поэтому мы решили, — пускай он и мёртвый не причинит им никакого беспокойства.
Деревня узнала о смерти деда лишь ранним утром. Как только в окошко проник первый слабый луч света, женщины подняли истошный вопль, я хорошо помню до сих пор, как с черешневого дерева у нас во дворе слетела целая стая вспугнутых птиц.
В полдень я проходил мимо мельницы. Здесь собрались сакиварские старики. Они преспокойно сидели себе на длинной дощатой лавке и весело обсуждали свои стариковские невзгоды. Я удивился, — чего, думаю, они радуются, — и прислушался.
— Разве вам не кажется, ребятки, что бедный Нико рановато нас покинул? — спросил мельник Нестор.
— Что поделаешь, один раньше, другой позже, — ответил Виктор, — но зато лучше той смерти нет, которая вовремя приходит. А то вон — Киракоз шамкает своим провалившимся ртом, — мне, дескать, за сто. Только чем его жизнь на жизнь похожа? Нет. Нико в хорошее время помер, царствие ему небесное!
— Кто-то теперь на очереди? — невесело улыбнулся Егор.
— Что по сторонам смотришь? Как бы сам первый не отправился за ним, — усмехнулся в пожелтевшие от табачного дыма усы Ладуа.
Егор помолчал, потом повертел лежавший рядом с вытянутой ногой костыль и сказал:
— Что же это ты, мил человек, разве не видишь, что я хромой? Ты меня и опередишь!
Все расхохотались. Сам Ладуа так закатился в смехе, что трубка, которую он курил, выпала из его рук.
— Ну, а у тебя как дела, Илико, жена тебе ещё не передавала привета с того света? Небось, скучает там без тебя! — спросил Нестор старого Илико, у которого на затылке торчала громадная бородавка, почти с кулак.
— Скучает, зовёт, — ухмыльнулся Илико, — только мне не к спеху. Я человек мягкий, уступчивый, вперёд себя Виктора пущу.
— А вдруг я заведу там шашни с твоей женой? — оскалился Виктор.
— Если ты ещё способен на что-нибудь — то на здоровье, — подобрел Илико, — но она тебя на этом-то свете терпеть не могла, неужто там полюбит?
— А на том свете всё наоборот!
…Смеются и смеются старички, словно на свадьбу собрались, и развлекаются они шуточками да прибауточками. Подтрунивают они над смертью и над самими собой. Вот они каковы, эти старики! И совсем не боятся ни смерти, ни того света. А может, смерть и на самом деле не страшна? Мне ведь приходилось слышать, что есть отважные юноши: они тоже не боятся смерти, но никогда не смеются над ней. Неужто для них — смерть одно, а для стариков — другое? Всё это заставило меня в тот день крепко призадуматься, но ответа я не нашёл и по сей день…
В общем старики оживлённо и беззлобно переругивались, мельница занималась своим делом — молола и молола, а дома у нас по-прежнему стояли плач да рыдания. В доме и во дворе было полно людей. Дед лежал на топчане, покрытый простынёй. Сердце моё не вытерпело, я приподнял край материи и взглянул на покойного: он лежал с открытым ртом, хотя в жизни я никогда не замечал у него этой привычки.
Соседи ушли поздней ночью, и женщины тотчас же прекратили вопли.
Помнится, в детстве, если у меня чуть-чуть болел палец, я так горько плакал, будто мне отрезали всю руку, но стоило мне остаться одному, как я забывал о боли и не чувствовал её вовсе. Вот и теперь мне почему-то казалось, что с нашими происходит то же самое. В сердце закралось сомнение: неужто они оплакивают деда только для того, чтобы народ видел?
В доме стало так тихо, словно пролетели ангелы тишины.
— Что прикажешь, мать, какой гроб закажем столяру? — прервал молчание отец.
У бабушки глаза уже высохли, и она спокойно ответила:
— Земле-то всё равно, какой будет!
— Земле — да, но…
— И мне всё равно, дети мои, одно вам скажу: при жизни был ваш отец как дуб, и дубовый ему больше подойдёт.
Деда обмыли, вырядили в новую чоху и опоясали его серебристым поясом с кинжалом. Потом его положили в гроб, хотя он стал таким маленьким, что свободно уместился бы и в люльке. И снова начались причитания и плач.
На третий день за гробом деда шла вся Сакивара. Приглядываясь и наблюдая, я понял, что из-за любви к моему дорогому деду люди понурили головы и погрустнели. Конечно, меня это радовало. Но как только вошли мы за кладбищенскую ограду, всех словно вдруг ветром сдуло: люди рассыпались в разные стороны, каждый пошёл к кресту своего ближнего, и всё кладбище огласилось скорбными рыданиями. Я обозлился: «Неужели, — думаю, — надо было помереть моему дорогому деду, чтобы все они вспомнили о том, что следует поплакать над могилами своих близких?»
В это время через кладбище проходил крестьянин из соседней деревни.
— Кого оплакивают? — спросил он у Кечошкиного отца.
— Каждый оплакивает себя и своих мертвецов, — ответил Лукия.
А Бека буркнул:
— Никого не оплакивают, просто слёзы одалживают…
Крестьянин удивился:
— Никогда не слыхал, чтобы слёзы одалживали, — передёрнул он плечами.
А столяр разозлился:
— Чего здесь не понимать? Когда плачем по кому-нибудь — даём слёзы взаймы. Когда сами умрём, нам этот долг вернут. Каждый заранее сам себя оплакивает, а нам кажется, что мы на других слёзы тратим.
Тогда в этой суете я толком ничего не понял из разговора, но слова Бека надолго сохранились в моей памяти.
Пожалуй, впервые я хорошенько рассмотрел кладбище. Дома всегда говорили: «Здесь похоронены те, кто испокон веку жил в Сакиваре». Это меня удивляло: «Как же, думаю, — все эти люди уместились на таком клочке земли? Правда, дед говорил, что смерть уменьшает человека, но неужели настолько? Или жизнь сама по себе большая, а смерть — маленькая? Да, но ведь колыбель-то — меньше гроба? Ничего не понимаю… Ах, всё это не моя забота…»
Словом, мой дед Нико был первым из родичей, которого я проводил в страну, где никогда не восходит солнце. Его смерть заставила моё сердце по-настоящему опечалиться, и в то же время именно тогда я по-настоящему призадумался над многими вещами.
Накануне прошёл сильный дождь, потом выглянуло солнце, но земля не успела просохнуть. Почва на кладбище была глинистой и так прилипала к башмакам, словно мертвецы своими невидимыми руками хватали живых за ноги и хотели затащить их в своё подземное царство. На центральной дорожке стояла группа людей. Адам Киквидзе, чтоб не удлинять свой путь, ступил на чью-то могилу, но споткнулся и чуть было не упал.
— Ты что делаешь, олух? — заорал на него столяр Бека. — Ты что это шляешься по кладбищу, как потерянный телёнок?!
— Съешь теперь меня из-за этого! — ответил кузнец. — Случайно оступился, не свет же перевернул.
— А этого мало? — взревел Бека. — Если ты мертвеца не уважаешь, что уж о живых говорить?
— Да полно тебе! Тоже мне, святой агнец! Могилка-то старая!
— Все могилки стареют, но по ним не гуляют.
— Чего это ты так озверел? Или мёртвому больно сделалось?
— Мне больно, мне, живому!
— Приношу свои извинения, уважаемый!
— Зарой в погребе свои извинения!
— Ну, если тебе этого мало, тогда, пожалуйста, наступи теперь ты на могилу моих близких, и будем квиты.
…Место, где поставили гроб дедушки, обступила толпа. Обо мне забыли, и я одиноко стоял в сторонке. Но я слышал плач бабушки, всхлипывания отца и дяди Пирана, причитания матери и тётки.
— Довольно! — приказал Нестор. — Могилу слезами не закроешь, её надо землёй засыпать.
И мы оставили нашего деда Нико одного в этом царстве вечного упокоения, а сами вернулись в деревню, залитую солнцем, наполненную земным шумом и суетой.
Бабушка моя Гванца любила деда Нико, очень любила, но за ним не торопилась. Перед тем как опустить гроб в могилу, бабушка сняла привязанный к поясу деда кинжал и принесла его обратно домой.
— Папа, — спросил я, недоумевая, — как же бабушка отпустила деда на тот свет без кинжала?
— Так надо, детка. Родные обязательно должны что-то вынуть из гроба и принести домой. Иначе покойник ещё кого-нибудь заберёт с собой, понятно?
Такое неимоверное количество сложных загадок на свете вызвало у меня настоящее головокружение. Пока дед лежал в гробу, бабушка смотрела на него и обещала — скоро, скоро приду к тебе, не оставлю тебя одного! Но не успели его засыпать землёй, как она вдруг опомнилась: как же я, мол, к тебе приду, кто же тебе станет читать молитву за упокой души и кто будет следить за твоей могилой?
Так она и осталась жить, если только существование её можно было назвать жизнью.
После смерти деда бабушка вдруг сразу обрела привычку прикладывать руку к уху.
— Бабуся, — говорю я ей, отец велел не приносить ему обеда в виноградник, сам придёт.
— Что ты говоришь? — спрашивает она. — Черешня? Откуда ей взяться в такую пору.
Я повторяю, она по-прежнему не слышит.
— Ох, совсем я оглохла, старая. Погромче скажи, внучек.
Я ору что есть мочи.
— А-а-а! — доходит до неё наконец. — Хорошо, пускай придёт.
Но всевышнему, видимо, этого было мало, и он лишил её зрения. Вдобавок ко всему, через некоторое время и память у неё ослабла. Нередко случалось, выйдет она во двор и целый день потом бродит одна: ищет дверь в дом — то к стойлу подходит, то к амбару. А однажды зашла в свинарник. Или, бывало, сядет на пенёк и целый день только тем и занимается, что снимает с ног чувяки и снова их надевает.
В конце концов она совсем расхворалась и слегла. Тут уж она и вовсе стала заговариваться.
— Отчего это мой из города не возвращается? Надо встать и нарвать ему яблок, он их любит…
Бедная бабушка так быстро отошла в лучший мир, что не успела подержать в руках ни одного весеннего яблочка.
Узнав о смерти бабушки, Царо распустила волосы и с истошным воплем ворвалась к нам. Она пролила столько слёз, что можно было запросто привести в движение жернова на мельнице Нестора. Задыхаясь от горя, Царо стенала и плакала, называла бабушку Гванцу своей любимой матерью и перечисляла столько всяких достоинств покойной, что я разинул рот от изумления. Ведь надо ж было, всё детство провёл я на коленях у своей родной бабушки и даже не подозревал, какая она у меня хорошая. Тут уж я не смог удержаться, и из моих глаз тоже хлынули потоки слёз. Эх, если б можно было вернуться в прошлое, то клянусь всеми святыми, никогда больше я не сердил бы её, а усадив в мягкое кресло, дал бы ей в руки янтарные чётки, и так бы она у меня прожила всю жизнь… Ветерку не дал бы на неё подуть!
В тот день я впервые узнал, что моя милая бабушка Гванца считалась бабушкой всей нашей Сакивары, потому что добрая половина обитателей родилась у неё на руках…
Говорят, будто если умирает старая хозяйка, непременно исчезает из дому кот. И правда, не успели мы похоронить нашу бабушку, как её любимый кот убежал в лес и одичал, охотясь там на птиц.
К концу недели мать разостлала мне постель на том самом топчане, где испустила дух бабушка. Окончив все свои домашние дела, она потушила светильник и улеглась рядом с отцом. А у меня в голове закружились чёрные мысли, и я словно бы увяз в какой-то зияющей тьме. Сон не шёл ко мне. В полночь в наше узкое окошко заглянул луч света; он беспокойно заметался по стенам, словно прыгало какое-то мохнатое чудовище. От ужаса у меня побежали мурашки по коже. Я закричал, — да что там говорить, не закричал, а просто взвыл.
Мама вскочила с постели.
— Что с тобой, детка? Приснилось страшное?
Я не смог признаться ей, чего я испугался, и сказал:
— Да, страшный сон какой-то видел.
Мама встала и принесла кувшин с водой:
— А ну-ка, радость моя, выпей три глоточка! — велела она.
— А почему три?
— Так надо. Пей.
Я отпил, сколько было положено, и вернул кувшин.
Мама тронула меня за руку:
— Что это ты дрожишь, мой мальчик?
— Мама, — сказал я ей, — по стене ползает что-то страшное.
— Это, сынок, свет из окошка. Наверное, луна ныряет в облаках, а здесь её луч играет, и ничего другого. Спи, жизнь моя, спи!
— Мамочка, можно я с тобой лягу?
— Боишься, родимый? Хочешь, я к тебе перелягу?
— Нет, я на этом топчане не хочу, я к тебе в постель хочу.
— Хорошо, миленький, — и она, ласково погладив меня по голове, подошла к отцу:
— Спишь, Амброла?
— А? Что такое?
— Караманчик во сне чего-то испугался, со мной хочет лечь, а ты переберись на его постель.
Наконец, крепко прижавшись к маме, я сладко заснул.
А вскоре, — недаром же говорится: пришла беда — отворяй ворота — мы проводили в последний путь и бабушку Тапло. Похоронили её рядом с той большой плитой, на которой были нарисованы плуг, рог и топор. Все горько плакали, но горше всех — Кучуника бедненький! Ещё бы! Ведь если по покойному деду поминальную трапезу устраивала бабушка Тапло, то теперь для неё этого делать было уже некому. Мой дядя жил далеко и… Словом, несчастный Кучуника плакал навзрыд. Как знать, приведётся ли ему когда-нибудь наесться досыта!
И, признаюсь, грешен и я! Не успели мы воротиться с кладбища, как меня вдруг тоже словно по голове стукнуло: чурчхелы! Кто теперь будет хранить для меня в сундуке чурчхелы? У кого теперь я стану таскать их парами — и слёзы снова полились у меня в три ручья.
— Не плачь больше, детка, хватит! Нельзя приносить с кладбища домой слёзы! — мама приласкала меня и вытерла мне глаза. — Что поделаешь, родимый, видно так уж заведено: бабушки должны уйти, а внуки остаться!
Видите, как часто слёзы бывают обманчивы? Вот она, жизнь… Приходит и уходит, смеётся и плачет…
Часть вторая Истинна только жизнь
Первая исповедь и сломанный топор
Когда мне исполнилось двенадцать, отец объявил мне, что я отныне уже не телёнок, а бычок, и вступил в пору отрочества. Словом, дал мне понять, что миновало время беспечных забав и пора мне впрягаться в ярмо. А ярмо-то, сами знаете, даже свинье не нравится. Правда, я решил не сдаваться, а твёрдо стоять на своих позициях, но куда там!
Теперь, перво-наперво, должен был я посетить священника и исповедаться ему во всех моих прегрешениях.
Накануне этого события мне следовало не спать всю ночь и зажигать для бога свечи. Так велела мама.
Мы с Кечошкой выбрали ночь потеплей и поспокойней и пошли в церковь. Священника там не застали. Прилепив свечи к парадным дверям, мы зажгли их и, в ожидании, пока они догорят, прилегли под раскидистым дубом.
Немного поболтав, мы задремали. Мне приснилось, что я сижу у очага, полено, окутанное пламенем, потрескивает и греет мне бок, но я не могу отойти от огня и кручусь, как шампур. Полено горит и разбрасывает вокруг себя угольки, словно розы. Где-то сердито звонят колокола. Вдали слышатся тревожные крики: «Помогите! Горит!»
Наверное, это я сам горю, но кругом ни души, я один, так кто же видит моё несчастье?
Внезапно меня словно холодной струёй обдало, я в испуге проснулся, смотрю — возле церкви народ шумит и у всех в руках кувшины, и люди льют воду на горящую дверь.
Я тотчас же толкнул Кечошку. Тот вскочил, протёр глаза, но ничего не понял:
— Что случилось?
— Проклятье на нашу голову! Взгляни-ка туда!
— Ай! Вот теперь нам не миновать беды. Люди закидают нас камнями. Надо что-то придумать…
— Давай убежим!
— Нет, лучше сделаем вид, что мы тоже прибежали тушить пожар.
Мне это понравилось. Мы смешались с толпой и тоже стали кричать:
— Скорее! Все сюда! Чёрт пробрался в церковь!
Во время паники никому не пришло в голову узнать, отчего это вдруг загорелась дверь церкви. А церковь была древняя — времён царицы Тамары, и дверь её была из крепкого дуба. Вверху, на выступающей каменной арке было что-то написано. Когда мы с Кечошкой пришли туда на второй день, мы увидели, что от двери остался лишь каменный порог и арка тоже рухнула наземь.
Рядом с нами стоял учитель из соседней деревни. Он говорил дьяку:
— Эх, какая великолепная надпись испортилась. Знаете, какое историческое значение она имела?
Я не знаю, какое историческое значение имел тот камень, но верно одно: если бы мы с Кечошкой легли возле дверей, то он непременно упал бы нам на голову…
Церковь же, чтобы в неё больше не лазили черти, получила новую крепкую дверь. Сам главный священник прибыл сюда, и церковь заново освятили.
Итак, нам с Кечошкой предстояло исповедаться в заново освящённой церкви!
Однажды в воскресенье мама как следует принарядила меня, причесала, сделав на голове пробор посередине, — так, мол, тебе больше идёт, и сказала мне:
— Ну, сынок, ты сегодня должен исповедаться и принять причастие. Да ты на меня смотри, что ты всё по сторонам, как волк в лес, глядишь! Слушай батюшку внимательно и подробно ему отвечай, честно во всём признавайся. Если соврёшь, в геенне огненной погибнешь, и не утаивай ничего, иначе останется грех на тебе и всю жизнь мучаться будешь. Слыхал о котле с кипящей смолой? Туда угодишь…
Я задрожал…
До нас на исповеди побывала уже двоюродная сестра Кечошки — Ивлита. Поп спросил её, есть ли у неё какой-нибудь грех на душе. Ивлита — кроткая, послушная девочка, в жизни своей, пожалуй, ни разу не набедокурила. Всего один раз рука её потянулась в чужой виноградник и оторвала гроздь винограда. Она вспомнила об этом и сказала попу. Кирилэ засмеялся, — бог помилует! Потом он спросил Ивлиту, не подслушивает ли она порой, когда женщины беседуют. Ивлита призналась и в этом и расплакалась. Поп успокоил девочку и обещал, что и этот грех ей будет отпущен.
Эх, если бы у меня были такие «грехи», то я бы к попу вприпрыжку побежал, но как их все перечислить? Допустим, я открою рот и выболтаю всё, но как признаться в том, что мы с Кечошкой сожгли церковную дверь?
Словом, что тут говорить — я побрёл в церковь с такой тяжестью в ногах, словно меня там взаправду ждал котёл с кипящей смолой.
В церковном дворе я повстречал Кечо.
На нём тоже была чистая рубаха, и он, между прочим, даже умылся.
— Что делать? — озабоченно спросил я друга. — Сказать насчёт свечей или…
— Ты что, спятил? Кто тебе это простит? Кирилэ нас обоих за это!.. — испугался Кечо.
— Но ведь бог всё знает, он простит, давай скажем, чему быть, того не миновать…
— Вот дурак! Сам себя хочешь зарезать? Поп Кирилэ — не бог. А то, что бог видит, он никому не рассказывает… Зачем же ему говорить, раз он всё видит? Он и так простит. Так ведь говорил тот странник, что у родника нам повстречался. С попом же нужно быть поосторожней.
В последнее время мне нравились рассуждения Кечошки. Я во всём с ним согласился и смело пошёл в церковь.
Кирилэ ввёл меня в тёмную келью, положил мне одну руку на голову, а в другую взял крест:
— Сын божий, — начал он, — ничего не скрывай от своего духовного отца, расскажи обо всех грехах своих. Украл что-нибудь?
— Да, отец, украл виноград в Тадеозовом винограднике, так налопался, что надутый живот свой с трудом перенёс через забор, — сказал я простодушно.
— Бог простит! Аминь! Не убивал ли кого?
— Да, отец!
Поп выпучил глаза и, дёрнув головой, уставился на меня.
— Я не виноват, отец. Кот Лукии в этом виноват.
И я вспомнил, как распух тогда язык у бедной Царо от проклятий и брани.
— О, сын мой, — перевёл дух Кирилэ, — убийство кошки — грех немалый, но раз это уже случилось с тобой, то, что поделаешь, бог простит. Аминь!
Поп не убирал с моей головы руку, его ряса колыхалась у моего рта, в нос мне бил запах ладана, свечей и ещё чего-то, напоминавшего мне запах смерти.
Поп снова стал спрашивать меня, но я, конечно, не ответил ему ни слова правды. История с пожаром притаилась где-то в дальнем уголке моего сердца, и я до неё даже мизинцем не дотронулся.
Из церкви я вышел довольный: поп обещал мне отпущение всех моих грехов, чего же было ещё желать?
Я думал, что теперь с грехами будет покончено, но не тут-то было — этот день послужил толчком к свершению новых грехов: ведь бог-то всё равно помилует и простит!
Я так вдохновенно врал попу, что вера моя пошатнулась. Я решил, что все ему врут, а он, в свою очередь, обманывает бога.
Дома отец спросил меня:
— Причастился, сынок?
— А как же!
— Ого! Оттого ты и заважничал, что перестал быть мальчиком?
— Почему я перестал быть мальчиком? — слова отца пронзили меня, как игла.
— Потому, что ты причастился. Отныне пора прекратить беготню с Кечо, понятно?
— Сидеть дома и ждать пока горб вырастет?
— Вовсе нет. Пора, мой милый, за дело приниматься, отцу с матерью помогать! Хватит баклуши бить! Ты у нас уже взрослый человек.
Ну, думаю, беда! Провалился бы этот поп со своим причастием. Значит, теперь я должен гнуть спину? Наплевать бы на такое причастие!
Вчера я валялся в постели до тех пор, пока солнце, как стражник, не поднималось над головой. А теперь — вскакивай спозаранку и беги вслед за отцом на работу! Вот так причастие, нечего сказать!
На следующий день мои дорогие родители заставили меня подняться ни свет ни заря. Я наскоро умылся, наспех пожевал чего-то и с топориком в руке поплёлся за отцом. Дражайший же мой папаша нёс за плечом огромный топорище.
Удивительное дело, ведь отец загодя запасся подпорками для виноградных лоз и уже к исходу зимы установил их в нашем винограднике. Так с какой же стати, недоумевал я, отправились мы в такую рань в лес?
— Зачем мы идём? — спросил я отца.
— За дровами! — коротко бросил он.
Обычно в такую пору, ранней весной, о дровах никто и не помышляет.
— Как же так? — снова удивился я, — ведь у нас во-он сколько дров, до зимы хватит!
— Ничего, — ответил отец. — Весна служанка осени. Мы принесём лес, он высохнет, — и отец вышел за калитку.
Я, приуныв, поплёлся за ним. Заметив моё настроение, он, нахмурившись, сурово сказал мне:
— Ты что это, парень, спотыкаешься, или у тебя ноги ватные? Небось, когда шалишь — тебя и волк не догонит? А ну, давай, пошевеливайся! Путь у нас долгий!
Я с превеликим трудом дотащился до леса. Этот проклятый топорик, на вид не тяжёлый, так измучил меня в пути, словно я нёс на себе кузницу Адама Киквидзе.
Мы свернули на тропинку и вошли в лес. Потянулись грабы. Солнце легко проглядывало сквозь прозрачные листочки. На некоторых деревьях листьев вообще пока ещё не было, но на ветвях вот-вот должны были лопнуть отяжелевшие почки. В горах весна запаздывает.
Повесив сумку на дерево, отец спустился в расщелину и с ожесточением принялся рубить деревья. Я выбрал себе дерево помельче и нехотя замахнулся своим топориком. Пока мне удалось расправиться с одним моим хилым деревцем, отец срубил девять огромных деревьев.
— Эй, ты, лодырь! — крикнул он мне. — Не жульничай! Размахнись посильнее, руки не отвалятся!
Я вдруг почувствовал в себе необычайный подъём и со всех сил стукнул топором по грабу. Внезапно рукоятка топора странно задрожала и эта дрожь отдалась в руке. Топор стал необычайно лёгким, и я свободно поднял руку. Ещё бы, ведь рукоятка отломилась у самого что ни на есть основания, а топор, покатившись вниз в расщелину, стукнулся о камень и высек искры.
— Ты что? — взволнованно крикнул отец, — топор сломал?
— Я-то здесь при чём? Сам сказал — работай, вот он и сломался.
— Ох ты, горе моё! До каких же пор ты будешь таким бездарным?! Невежда, надо же остриём ударять, а ты долбанул тыльной стороной, вот и получилось! А ну-ка, живо вниз, найди его!
Я побежал вдоль расщелины и с трудом нашёл топор в камнях. Не скажу, чтоб от вида его отец почувствовал облегчение. Вздохнув, он махнул рукой.
— Эх, овчинка выделки не стоит, он уже не годится. Пошёл вон отсюда, бездельник!
Я опустил голову и, изобразив на своём лице виноватое выражение, прислонился плечом к дереву. Отец, разозлившись, повысил голос:
— Мне здесь не нужен свидетель. Пошёл отсюда к чёртовой матери, забери этот обломок и отправляйся домой, хоть воды матери натаскаешь!
— Можно взять свою долю сыра и мчади? — несмело спросил я и скользнул алчным взглядом по сумке.
— Нахал! Ещё и корми его тут, дармоеда! Убирайся отсюда!
Вы видели собаку с поджатым хвостом? Вот так и я пошёл по тропинке.
Рога в шерстяных носках и рассвирепевшая курица
Дровосека из меня не получилось, и отец взял меня в горы вспахать пашню. Перезимовавшая земля была сухой и тёплой.
Отец положил топор и сумку под ореховым деревом, стоявшим в самом конце пашни, потом засеял землю отборными семенами кукурузы, и мы начали пахать. Он взялся за плуг, а я повёл волов. Отец был превосходным столяром, каменщиком, хорошо знал кузнечное дело и уж, конечно, умело владел топором, а вот с работой пахаря он справлялся не очень ловко. Особенно трудно приходилось ему на склоне. Отец чертыхался и ругал на чём свет стоит каменистую почву, и то и дело покрикивал на меня:
— Балда, бороздой следуй, прямо иди!
Я не привык к его крику и, обернувшись к нему, огрызнулся.
— Что ты так кричишь? У меня голова лопнет от твоего крика.
Обозлённый отец запустил в меня комом земли, я быстро нагнулся, но он всё же задел меня по спине. Я сделал вид, что терпение моё лопнуло и пришёл в ярость. Схватив топор, подбежал к отцу.
— Эй, ты! — заорал я, решив его припугнуть. — С ума я сошёл! Беги! Спасайся!
Не знаю, крик ли на него подействовал или я в самом деле был похож на сумасшедшего, но отец, испуганно отшатнувшись от меня, побежал по тропинке на просёлочную дорогу босиком, забыв про обувь. Ай-я-яй! Что я натворил! Сам убежал, а работу-то на меня оставил! Убедившись, что он уже не вернётся, повернул обратно к покинутой на произвол судьбы пашне.
Каюсь, я всегда был немного ленивым, однако был находчивым и умелым. И если за что-нибудь брался, то будьте уверены, дело спорилось у меня в руках. Швырнув топор в кусты, я взялся за плуг. Не мог же я бросить только что засеянную землю? Ведь кукурузные зёрна, величиной с орех, немедленно склевали бы птицы.
Сказать, что мне было легко, — вы всё равно не поверите. Да и на самом деле, пот лил с меня в три ручья, но я не отступал, упорно взрыхлял сырую всклокоченную землю и ласково прикрикивал на своих волов:
— Давай, дружок, выручай! Вот так, мой хороший, молодец!
Я пахал ожесточённо, и пока всё не кончил, духа не перевёл. Потрудившись, я проголодался, как волк, и тотчас же съел круг сыра и целую лепёшку мчади.
Поев и передохнув, я положил плуг на арбу, привязав его к ней прутьями. Отцовские каламани повесил на рога одного вола, а его пёстрые цинды на рога другого. Солнце ещё было высоко, когда я двинулся к дому.
Не помню, чтоб я когда-нибудь чувствовал себя таким усталым, однако мне было так весело и хорошо как никогда.
Я ехал и беспечно напевал. В тот день я понял, что труд приносит большое успокоение и дарит человеку великую радость.
Въехав в деревню, я увидел гробовщика Беко и виноградаря Дианоза. Они были увлечены беседой. Но, заметив меня, Беко почему-то вздрогнул и тронул за рукав своего собеседника. Оба что-то сказали друг другу и тотчас же спрятались в кустарнике. До меня донёсся взволнованный голос Беко:
— Да, кацо, клянусь, правду тебе говорю! Несчастный Амброла босиком бежал: Караман, мол, белены объелся, сошёл с ума и бросился за мной, чтобы меня убить!
— Правда?
— А ты сам не видишь?
— Бедный Амброла, был бы у него хоть ещё один ребёнок!
— Да! Уж лучше совсем не иметь, чем иметь ненормального.
— Эх! И какой хороший человек! За что только бог его так обидел?
— Врагу не пожелаю! Так бежал, что задохнулся, лица на нём не было!..
Показалась кузница Адама Киквидзе; хозяин её, стоявший до этого у порога как ни в чём не бывало, увидев меня, вдруг закричал:
— Вправду спятил! — Убежал в кузницу и стал подглядывать за мной из окна.
— Ты чего это испугался, дядя Адам? — крикнул я и пошёл к нему, чтобы сказать, что я вовсе не сумасшедший, но тот, видимо, так перепугался, что и от окна поспешил отойти.
Я завёл волов во двор и снял с них ярмо.
— А где отец, Караман? — спросила меня мать.
У меня словно сердце упало.
— Отец? Как, разве он не возвращался?
— Нет!
— Я не знаю, он пошёл вперёд меня и…
— Чего ты испугался, сынок?
— Нет, так просто…
— Зашёл, наверное, в кузню или в лавку к Темиру, — решила мама и как ни в чём не бывало вошла в дом накрывать к ужину.
Мать, как я убедился, ничего не знала о нашем столкновении, а я вдруг встревожился: «Куда же он делся? или может быть…» — вдруг мелькнула у меня страшная мысль, и я решил отправиться обратно. Не успел я переступить и двух шагов, как отец появился из калитки и, остановившись у порога, уставился на меня.
— Чтоб тебя черти забрали, как же ты меня напугал, сынок! — в его голосе одновременно звучали обида, упрёк и желание помириться.
— Ах ты, гадкий мальчишка! — покачал он головой, — что же ты мне голову морочишь, если умеешь так хорошо пахать?!
— А ты что, вернулся и подглядывал?
— Конечно.
— Ну спасибо, раструбил на весь белый свет, сын, мол, у меня с ума сошёл! — упрекнул его теперь я в свою очередь.
— Да кто же, кроме сумасшедшего, на отца топором замахнётся? Ты в ту минуту и впрямь был похож на такого. Хорошо ещё, что я вернулся и увидел своими глазами в чём дело, иначе пришлось бы тебе самому поглядеть, как твой отец может с ума сойти…
Так или иначе, мы помирились, но это происшествие стоило мне дорого — я сам себя погубил.
Увидев, какой я у него молодчина, отец заставил меня всласть потрудиться и на других пашнях.
Я попробовал было заупрямиться, но он умаслил меня своим сладкоречием.
Впрочем, к труду, как и ко всему на свете, привыкаешь. К тому же меня похвалили, и теперь я с удовольствием гнул спину. Глядя на проведённые мною борозды, я даже любовался ими: прямые, как стрелы, они были похожи на чёрные косы феи. В общем, я вдоволь уже наработался и когда взошла кукуруза, схватился за голову: нужно было её окучивать, а я, к стыду своему, терпеть не мог мотыги. Нечего, думаю, делать: повязывай платком голову, подставляй затылок солнцу и работай, как дурак! Нет уж, увольте!
Между тем, дорогой мой папаша Амброла не пожалел целого мешка лобио, пожертвовал его кузнецу и заказал для меня небольшую мотыгу. Уважил, значит, дитё своё! Мотыга на самом деле получилась такая славная, что будь у неё ноги, ей-богу, не стала бы ждать, когда за неё возьмётся работник, а сама, приплясывая, побежала бы в поле.
Словом, взвалив её на плечо и, спотыкаясь на ровном месте, я побрёл за отцом в горы.
Когда мы пришли на поле, солнце стояло уже высоко и вовсю поливало вокруг своими палящими лучами.
Мы разулись, сложили под яблоньку наши каламани и, закатав полы брюк и повязав головы платками, принялись за работу.
Отец, перед тем как взмахнуть мотыгой, перекрестился.
— Видишь, сынок, — обратился он ко мне, — если два кукурузных ростка так близко выросли, то один, который похуже и пощуплее, надо срезать, чтобы дать другому ростку пышно распуститься, понятно?
Не успел я ещё, как следует, освоиться, а беспощадная жара уже изнурила меня. Я почему-то сразу так устал и разозлился, что не мог даже рукой шевельнуть. «Эх, — думаю, — что было бы, если б эту проклятую кукурузу не приволокли в своё время из Америки! Как назло, всякой пакости понатаскали оттуда!» — Так я злился, а мотыга моя оставалась без дела. Зато мотыга моего папаши резво вгрызалась в землю и переворачивала пласт за пластом. Отец пыхтел, не глядя в мою сторону, лишь изредка бросал на меня косые взгляды.
— Ну что, лодырь, не стыдно тебе стоять? — спрашивал он, а мотыга его по-прежнему рыхлила землю.
Солнце так нещадно опалило мою голову, словно в затылок мне кто-то всадил шило.
— Давай уйдём, отец, — сказал я ему, — солнце кусается, наверное, ливень будет.
— Ты у меня не сахарный, не растаешь. Давай, работай! — рассердился отец. — И знай: кто не кланяется земле, того земля не любит, и не получит он от неё ни вот столечко добра, понятно? Пока не лёг в землю, надо выжать из неё как можно больше. За это она на тебя не обидится, наоборот, долго жить будешь. Но она суровая, пока её мотыгой не взрыхлишь, ничего от неё не получишь.
И я начинаю её долбить и долблю до тех пор, пока у моей мотыги не отваливается рукоятка.
— Ай! — нарочно с испугом кричу я, бегу к яблоне, беру лежащие под ней топор и железный колышек и кое-как приделываю рукоятку.
Потом снова сердито долблю землю, и рукоятка снова отлетает. Теперь я ищу колышек в комьях взрыхлённой земли, с трудом нахожу и вновь приделываю. Мотыга по-прежнему пускается в дело, и вот снова летит к чёрту хилый кукурузный росток, чтобы крепкому было просторнее. Эх, неполноценному лучше не жить на свете, чтобы-то там ни было — кукуруза это или человек!..
Наконец, когда рукоятка стала отваливаться слишком часто, отец не выдержал и сказал:
— Давай её сюда, я сам приделаю, вижу тебя это забавляет, тебе лишь бы дурака валять.
И он так крепко приделал её, словно припаял. Однако ему пришлось прилаживать её и во второй, и в третий раз. Тут уж он не на шутку разозлился.
— Давай-ка поменяемся. Я справлюсь и с твоей мотыгой.
Но зато я не справился с отцовской. Уж больно тяжёлая! Несколько раз я помахал ею, потом бросил в сторону.
— Ты что, и эту испортил? — встревожился отец.
— Не могу больше! Не мо-гу! Хоть убей! — заявил я решительно.
— Да! — опечаленно протянул отец. — Ты, я вижу, совсем не хочешь мне помочь.
— Разве ты не знаешь, что если впрячь вола и телёнка в одно ярмо, телёнок сразу околеет? Или ты решил меня убить? Не умею я окучивать, и всё тут!
— Да что здесь уметь-то? Не хочешь — вот и весь сказ. Ладно, ступай домой! Раз с мужским делом не справляешься, помоги матери. Да чего ты глаза вылупил? Ступай, тебе говорят! Ну? Чего рот разинул?
Я медленно надел каламани, перекинул свою мотыгу через плечо и бегом спустился по тропинке. Рукоятка, как это ни странно, ни разу не отлетела, и я в целости и сохранности донёс мотыгу до дому.
Через неделю отец снова потащил меня с собой. День был пасмурный. А рукоятка намертво была приделана к мотыге.
Поработав, на мой взгляд, достаточное количество времени, я схватился за живот и стал тихонечко постанывать.
— Что с тобой? — удивился отец.
— В животе так режет, словно кто-то там кинжалом ворочает. Ой, мамочка!
— Отчего же это твой живот не болит, когда вы с Кечошкой дурака валяете? — грустно спросил отец.
— Это всё из-за мотыги. Да и в конце концов, — обозлился я, — что это я, как Амиран к скале, привязан что ли к этой проклятой земле? Пойду, займусь каким-нибудь другим делом. Как будто я женился на этой мотыге!..
— Пожалуйста! Только в рот никому не смотри. А так — делай что хочешь! — послушно согласился со мной отец.
Вечером он рассказал о моих проделках матери.
— И в кого только этот телёнок уродился? — заволновалась мама.
— Наверное, в кого-нибудь из твоего рода, — беспечно ответил отец. — У нас таких не было.
— Чтоб ты язык свой проглотил! — огрызнулась мама. — Не успокоишься, пока не укусишь меня! А сам прекрасно знаешь, что это я из тебя человека сделала. Если бы не я, ты был бы таким же, как и он!..
Когда я делал что-то хорошее, то родители, оба в отдельности, хвастались: — На меня, мол, похож. А теперь вдруг запели по-другому!
В то лето Кечошка ходил со своим отцом в горы, помогал ему в работе, и я был совсем один. Я забирался в беседку из виноградных лоз, где в детстве часами просиживал с дедом, и досыта отлёживался на сплетённой бабушкой подстилке. Что ещё оставалось делать? Днём я спать не любил, для этого мне и ночи вполне хватало. Лишь однажды сон незаметно подкрался ко мне, да и то ненадолго. Чёрная наседка Лукии, перейдя в наш двор, подошла ко мне и с ожесточением стала клевать мои ногти. Она, дура, приняла их за кукурузные зёрна. Я вскочил, как ошалелый. Но наседка так озверела, что я с трудом оторвал её от себя, а она чуть не сломала себе клюв о мой ноготь на большом пальце. Знаю, многие не поверят этому, но клянусь богом, что история эта — истинная. Ибо трудно даже представить себе, какие голодные куры водились у Лукии. Хорошо ещё, ночь выручала, когда они спать заваливались, иначе, ей-богу, они могли выклевать глаза своему хозяину.
Словом, избавившись от озверелой от голоду курицы, я снова повалился на подстилку. Солнце уже перекатилось с одной горы на другую, а я всё лежал и лежал. Отец, глядя на меня скорбными глазами, безнадёжно махнул рукой, ничего, мол, из него не выйдет! Мои княжеские замашки замечала и мама, но и она предпочитала молчать. У матери глаза зоркие, как у ястреба, но пороков своего великовозрастного дитяти она не видела. Вот я и жил припеваючи, катался как сыр в масле.
Однажды отец решил поговорить со мной:
— Не пора ли, сынок, за ум приниматься? Ты ведь не тыква, чтобы расти лёжа? Разомни ноги, иначе паук соткёт на тебе паутину. И о чём только ты думаешь!
— О том… за какое ремесло мне взяться, — ответил я. — Разве ты не сам меня учил: семь раз отмерь, один отрежь. Подожди немного, надумаю чего-нибудь, — обещал я ему.
В самом деле, выбрать ремесло — дело сложное.
Я потратил на это около двух лет, однако так ничего и не надумал. Стать сапожником? — Горб вырастет. Кузнецом? — Но для этого нужна большая физическая сила. Парикмахером быть не годится — все над ними надсмехаются. Мясником? — Фу! Руки всё время в крови, да и тяжело нести на себе бремя грехов от убийства скотины. Пойти в ученики к каменщику? — Чтобы всю жизнь таскать тяжёлые камни и раньше времени согнуть молодую спину? Эх, хорошо бы на свирели играть — да таланту нет. Может быть, стать лучше столяром? Стоп! Отец-то мой тоже ведь знаком со столярным делом, а что толку? Лучше всего быть лудильщиком, но в этом ремесле признанные мастера лезгины, не стану же я с ними конкурировать! Так, как же быть? Не заняться же мне на самом деле мелкой торговлей? Словом, ничего достойного себе я не выбрал, а стал преспокойно ждать подарка от судьбы.
Мне помешали размышлять в виноградной беседке, и я вспомнил добрую старую пословицу: лучше бить баклуши стоя, чем сидя. Вот и стал я по-прежнему слоняться по окрестностям. Но и из этого ничего путного не вышло. По всей деревне на земле, кроме навоза и всяких нечистот, ничего другого не было.
Но чем больше я слонялся без дела, тем больше радужных мыслей возникало у меня в голове, и сердце моё переполнялось новыми радостными надеждами.
Хотя я и поп Кирилэ издавна воспылали друг к другу ненавистью, однако оба мы молились одному и тому же идолу — прекрасной Гульчине. Теперь Гульчина красотой своей затмевала солнце и, заигрывая со звёздами, вызывала зависть луны. Она училась в Они и каждую субботу приезжала на лошади в деревню. А я, ожидая её появления, каждую божью субботу как столб вытягивался у моста. Потому, что за один только взгляд её я готов был отдать весь мир. Мне казалось, что Гульчина тоже не совсем ко мне равнодушна. Завидев меня издали, она торопила лошадь. Я же каждый раз делал вид, что встречаюсь с ней совершенно случайно и почтительно здоровался. Гульчина останавливалась возле меня и с любопытством расспрашивала про житьё-бытьё в деревне. Здесь уж я был мастак, и если я терпеть не мог копошиться в земле, то вряд ли кто другой мог так трепаться, как я. Слушая меня, Гульчина так улыбалась, словно вкрадывалась мне в душу. Но так как она торопилась домой, то всегда просила меня, чтобы я встретился с ней на другой день у родника с Кислой водой. Я же с раннего утра жил этой встречей. И не успевало солнце взойти, как я был уже на месте. Пока Гульчины не было, я слушал ласковое журчание родника, а потом, когда она приходила, — серебристый смех моего ангела. Ангел же заставлял меня по нескольку раз пересказывать одно и то же и записывал всё рассказанное мною в толстую тетрадь. Мне так хотелось узнать, что это она там пишет, но я не осмеливался спросить её. При прощании Гульчина так тепло улыбалась мне, что одной этой улыбки мне хватало до следующей субботы.
Я по несколько раз в день щупал у себя под носом: не пробиваются ли усы? Кечо дал мне дельный совет: побрейся, мол, сразу вырастут. Я обрадовался, но не найдя бритвы, схватил тесак и провёл им под носом. Правда, я слегка порезался, но всё же возблагодарил бога и подумал: ведь ничто на свете не обходится хотя бы без капельки крови. А торопился я с усами потому, что наших усатых юношей уже женили. Вот и мне хотелось иметь усы и жену, а женой — солнце Сакивары — Гульчину. Ну и что ж с того, что Гульчина была красавица, образованная и богатая? Разве мало наслышался я в детстве сказок о том, как крестьянский сын женился на царевне? Велика важность, если б моей женой стала поповская дочка! К тому же я, кажется, ещё и нравился Гульчине. Нет, она мне ничего не говорила, я просто сам догадывался об этом. Иначе зачем же ей хотелось бывать со мной? Когда я думал об этом, в глазах у меня рябило и весь мир казался мне наполненным счастьем и любовью. Если бы у меня были крылья, я бы, наверное, взлетел в небо от радости.
А между тем, сакиварцы то и дело твердили отцу:
— Амброла, дружище, куда ты это только смотришь? За твоим парнем нужен зоркий глаз. Ведь у доброго хозяина и собака не остаётся без дела столько времени!
Соседки жалели мою маму:
— Эх, бедная Элисабед! — сокрушённо покачивали они головами, — кто, кроме матери, сможет терпеть такого бездельника!
Однажды мы с Кечо собрали маленьких ребятишек на широкой полянке перед кузницей. Натравив друг на друга двух дурачков, мы стали в сторонку. Малыши дрались, рвали друг на друге рубашки, а мы с Кечо гоготали. Больше всех орал я.
Вдруг, откуда ни возьмись, появился отец. В руке он держал длинную палку. Увидев палку, я испугался.
— Ты что это делаешь, балбес? — спросил он меня, сдвинув брови.
— Да так… ничего…
— Детишек друг на друга напускаешь и забавляешься?
— Они сами подрались, я их разнимаю… не веришь — спроси Кечошку.
— Лиса свой хвост в свидетели приводит! А ну, пошёл домой, там я с тобой поговорю!
Однако отец не стал дожидаться и тут же, в дороге, приступил к разговору.
— Ты видишь эту палку? — спросил он.
Меня прошиб холодный пот, и я со страху онемел.
— Я тебя спрашиваю, видишь?
— Вижу! — буркнул я и на всякий случай отошёл в сторону.
— Вот эта палка приносит больше пользы, чем ты. Она хоть помогает мне во время ходьбы, а ты что делаешь? Как сел ты мне на шею в детстве, так, выходит, больше и не собираешься слезать оттуда? Ребёнком был, с тобой легче было. Ну, а теперь… что мне делать с тобой теперь? Ты посмотри на себя: верзила, косая сажень в плечах, а всё дурак дураком. Довёл до того, что мне стыдно людям в глаза смотреть!
— Ничего я зазорного не делаю.
— Почему же мне тогда люди говорят, что у меня один сын да и того не смог я вырастить человеком! Ты думаешь, деревне нравится твоё поведение? Ты же меня опозорил на весь белый свет! Уж лучше совсем не иметь сына, чем иметь такого осла! Понятно хоть тебе?
— Понятно!
— Вот и сделай так, чтобы и я мог похвастаться при людях, мол, сын у меня тоже человек. Не сделаешь — так и знай, живым не оставлю! А я-то дурак, надеялся, что сын мне золотой дворец выстроит. А ты вместо того, чтобы поддержать огонь в семейном очаге, воду на него льёшь! И отца с матерью совсем не жалеешь. Какой из тебя мужчина выйдет, если ты за какое-нибудь ремесло не возьмёшься!
— Что же, женщина из меня выйдет?
— Дурень ты бестолковый! Ещё и зубоскалишь! Скоро, того гляди, головой в потолок упрёшься, а ума всё не прибавляется. Я всё удивляюсь, как же это бог такого придурка создал?
— Не бог, а ты создал! — не выдержал я.
— И бог ошибся, и я! — рассердился отец и с силой ударил палкой оземь.
— Да что вы меня укоряете? Разве я вас умолял родить меня? Небось сами удовольствие получали, а меня для мучения выволокли на свет! — Нарочно разозлившись, перешёл я в наступление.
— Эх, сынок, у козы хвост не вырос, а у тебя ум. Как об стенку горох! — махнул он рукой и уже до самого дома не открывал рта.
А утром, не успел я открыть глаз, как мама печально произнесла:
— Эх, зачем не сгорел день твоего рождения!
Это подействовало на меня сильнее, чем отцовские упрёки. Я встал, сложил в сумку немного еды, взял топор и пошёл в лес. Там я и дров вдоволь нарубил, да и топор принёс домой в сохранности.
Схороненная мечта и насильно увиденный город
Сбор винограда был уже позади, и все мы облегчённо вздохнули. Настало время, когда бродит мачари: пришла пора свадеб. Нас, мальчишек, никто не звал в дружки, но всё же именно мы были душою и сердцем всех свадеб. Без нашей помощи не обходился ни мясник, ни повар, мы даже столы помогали накрывать, ну и, конечно, были незаменимыми виночерпиями в погребе. Нас с Кечошкой это всегда радовало, и мы заранее точили зубы.
И вот как раз в разгар всех этих дел, там, где дорога из Сакивары круто берёт в гору, нашли мёртвым духанщика Темира. На нём не обнаружили ни следов ран, ни удара. Одни говорили, что ему трудно было поднять в гору своё пузо и сердце у него лопнуло. Другие уверяли, что за духанщиком погнались взбешённые волы с арбой. У Темира выпали деньги, и он нагнулся, чтобы их собрать, и в это время волы налетели на него и растоптали. Алекса и Пация клялись, что своими глазами видели, как по Темиру проехалась арба. Надо же, умному иногда не веришь, а дураку, бывает, сразу поверишь!
— Бедняга, — сокрушался Адам Киквидзе, — стал жертвой денег. Эти проклятые деньги и губят мир!
— На самом деле, — вмешался в разговор Лукия, — чтоб у того руки отсохли, кто эти деньги придумал!
— При чём тот, кто придумал? — обиделся кузнец. — Если ты неумело замахнёшься топором и отрубишь себе ногу, выходит, ты меня должен проклинать?
— Да нет же, я к слову… — оправдывался Лукия. — Но всё же люди жили бы лучше, если бы не было денег.
Словом, так это было или не так, а духанщик Темир приказал долго жить. Отец и Лукия вернулись с поминок вместе. Они допоздна задержались у нашей калитки и долго что-то обсуждали.
После ужина мама погасила свет, и мы улеглись спать. Лежу и слышу, родители о чём-то шепчутся. Известное дело, если кто-то рядом орёт, ты можешь не обращать внимания, но стоит кому-то с кем-то пошептаться, как ты сгораешь от любопытства и желания поскорей узнать, в чём дело. Вот и я так: как только они зашушукались, у меня от любопытства ушки полезли на макушку.
— Да я тебе про Темира говорю, — шепчет отец. — Оказывается, в пашне, там, где у меня с Лукией межа проходит, он зарыл целый кувшин золота.
— Отчего же он его у себя не зарыл? — удивилась мама.
— Решил, что так будет менее подозрительно. А после забыл то место, где зарыл кувшин с золотом, и завещал сыну, чтобы тот выкупил нашу землю и перерыл её. А золота там столько, что, мол, если всю жизнь только пировать, всё равно хватит.
— Ну, и что же ты, собираешься продать ему землю?
— Что я, сдурел, что ли?
— Как же ты поступишь?
— Как поступлю? Вот чудачка! С завтрашнего дня мы с Лукией начнём копать, и всё тут. А если кто из нас найдёт золото, мы поделим его пополам. Понятно?
— На что тебе столько золота? Им ведь надо уметь пользоваться. А ты его и близко-то никогда не видел.
— Ничего, зато Караман мой увидит. Поставлю я ему кресло золочёное под ореховым деревом и пускай себе сидит, наслаждается жизнью. Эх, было бы оно, это золото! А что с ним делать — и дурак сообразит.
— А если сын Темира узнает и будет на вас жаловаться?
— Прямо! Испугались его! Этим золотом мы, милая, девять судей и семь уездных начальников подкупим и ещё столько же у нас останется. Найти золото у себя в земле и отдать другому? Пусть держит карман шире!
— Так как же, скажем Караманике?
— Как же не скажем? Зачем мне всё это, если не для него? Мне уже всё равно, я свои полжизни прожил. Караман, сынок, ты спишь?
До сна ли мне было? Радость так охватила моё сердце, что оно было готово выпрыгнуть из груди. Даже одеяло задрожало от волнения. Наверное, если б я не держал его, оно бы улетело. Но эта счастливая весть сделала меня совсем немым, и я не смог издать даже звука.
Внезапно я погрузился в розовые мечты. За одно мгновение я построил себе роскошный дворец. В пышном саду его раскинул широкие ветви могучий дуб. Под ним, журча, протекал хрустальный ручеёк с такой студёной водой, что зубам было больно. В саду стояли каменный столик и резное кресло. Я развалился в кресле, положил ногу на ногу и задымил из изогнутого кальяна. Слуги поставили рядом с моим второе кресло. Оно для моей прекрасной госпожи. Вот ей подали вязальный крючок из слоновой кости, и длинные её восковые пальцы начали свой непонятный танец. Она сразу связала что-то очень красивое и, нежно улыбаясь, подарила мне. Теперь госпоже Гульчине улыбка ещё больше шла… Нянечка вынесла из дворца люльку — ведь ребёнку необходим свежий воздух. Ребёнок машет ручонками и смотрит в мою сторону. Он очень любит отца. Над ним множество пёстрых погремушек, он играет ими и даже бьёт по лицу изображённого на монете царя. Хотя, если подумать, что ему от него надо? Что царь сделал ему плохого?..
— …Караманчик, ты спишь? — снова спросил меня отец. Этот голос поднял меня из моего кресла и вышвырнул вон из дворца.
Я сразу бухнулся из мечты в свою собственную постель, и ко мне вернулся дар речи:
— Нет, отец, не сплю. Чего тебе?
— Ты слышал наш разговор?
— Я же не глухой!
— Ну, и что теперь нам делать? Если мы не поторопимся, счастье может уплыть от нас.
— Не бойся, отец, день и ночь буду работать. За недельки две я всю эту землю так переворошу, как если бы на ней сражались девятиглавые дэвы.
— Ты вправду мне поможешь или по-прежнему дурака будешь валять?
— Клянусь матерью, помогу. Что я, неблагодарный, что ли? Ты так заботишься обо мне! Сложа руки на животе, сидеть не буду. Совесть и у меня есть.
— Только ты никому не говори об этом!
— Этого ещё не хватало! Да я себе на рот железный замок повешу. Разве мой язык не за моими собственными зубами?
— Вот видишь, мать, какой у тебя сын? Золото, а не парень! Ради такого я не то что клочок — всю землю выпотрошу! Теперь спи, сынок, а завтра чуть свет надо вставать!
Легко сказать — спи! Я понял, что большое счастье чем-то сродни большому горю, тут уж не до сна… Я весь отдался мечтам… И передо мной вновь возник прекрасный белокаменный дворец. Гульчина улыбается мне, и на голове её головной убор грузинских женщин…
До самой полуночи я, не смыкая глаз, вертелся в постели, как шампур. Я успел уже девять раз обойти вокруг земли и повидать все чудеса на свете. Сладкие мечты вконец измучили меня, и, обессилев, я уснул.
Проснувшись, я первым делом поискал глазами отца. Постель его была застлана. Мама суетилась у огня и пекла в кеци мчади.
Грешным делом я подумал вдруг: а не было ли вчерашнее каким-то наваждением…
— Вай ме! А где же отец? — испуганно спросил я у матери.
— Пошёл работать! — спокойно ответила она.
— Куда?
— Как куда? Ты забыл, что он тебе вчера сказал?
— А отчего же он меня с собой не взял?
— Да мы у тебя под ухом, милый мой, разве что из пушек не палили! Ты не хотел просыпаться.
— Вай-вай!
— Не горюй! Давай лучше побыстрей ешь, бери лопату и беги. Отец ведь, вон он, рядом работает!
Когда я пришёл туда, отец успел уже изрядно потрудиться. Он прорыл глубокий ряд и теперь собирался рыть другой рядом. Лукия с Кечошкой перерыли гораздо больше, но их-то было двое! Я сразу же принялся за работу. Мы с отцом так перепахивали землю, что не оставляли нетронутой ни одной её пяди. С непривычки ладони у меня горели, и я то и дело на них поплёвывал.
Первый день не принёс нам радости. Правда, Кечошка нашёл-таки кувшин, но был этот кувшин без дна и покрышки.
На второй день я поднялся пораньше и, вооружившись лопатой и мотыгой, поспешил к заветному месту.
Работал я так, — за правду мне не платят, для чего же мне лгать, — что отец только диву давался:
— Ты что же это, озверел, что ли? Чего ж ты раньше нам свою силу не показывал, раз она у тебя была?
Я молчал, деловито глядя в землю. Мне мерещился только один кувшин, сверху донизу полный золота. Поплёвывая на свои пылавшие ладони, я с ещё большим ожесточением вгрызался в землю.
В полдень лопата издала какой-то странный звук. Да, это был звук обожжённой глины. Сердце подступило к горлу, и руки мои задрожали. Я осторожно нагнулся и… это был обломок кеци. Как уж тут было в сердцах не сплюнуть и не выругаться. Отец тоже что-то нашёл. Оказалось — деревянная трубка, в которой младенцы в люльке справляли свою нужду. Хуже того, трубка оказалась для девочки, поэтому я совсем помрачнел, тьфу, думаю, сглазит проклятая! Недаром ведь говорят, что девчоночья — непременно к беде! Вскоре на ладошках у меня вспухли волдыри. Руки начали болеть, да ещё как! Врагам не пожелаю! Но я не отступал! Копал землю и выворачивал её наизнанку, а сам краешком глаза не забывал поглядывать за соседями, — авось, думаю, найдут и припрячут! Кечошка же в свою очередь следил за нами. У него, несчастного, глаза чуть не скосились, на нас глядючи. Впрочем, страхи были напрасны. Ну, допустим, они бы нашли клад, долго ли они смогли бы прятать его? Разве легко было сразу и просто переварить такое богатство?
Вскоре распухли руки и у отца, и он перевязал их. Я тоже последовал его примеру. Так руки болели меньше, хотя работать стало труднее.
Эх, одной надеждой и жив человек! Ровно девять дней копали мы эту треклятую землю и, кроме дырки в колесе от телеги, ничего не нашли. Но мы все держались молодцами и решили работать до самого конца. Разве можно успокоиться, когда где-то неподалёку, совсем рядом, лежит бесценный клад?
Почти всю половину рождественского месяца меня раздирали эти чувства, и я так похудел, что стал похож на собственную тень.
Выпал первый снег. Но и это не охладило нашего пыла. Работая, я вдруг увидел в земле корень. Поблизости не росло ни одного дерева. Я, конечно, удивился и спросил отца, откуда мог корень здесь взяться. Он повертел его в руках, внимательно посмотрел и сказал:
— Это лоза, сынок!
— Откуда? Я сроду здесь лоз не помню.
— А здесь, видимо, когда-то был виноградник, детка, потом он одичал и погиб.
— А если его снова здесь разбить, он привьётся?
— Отчего же ему не привиться? — ухмыльнулся отец. — Для лозы лучшего места и не найти. Только вначале землю надо освободить от камней…
Первыми рыть перестали соседи. Кечошка оглядел посеревшие склоны, и уши его печально сникли, а рот скривился в жалкой гримасе, — вот-вот заплачет.
Всё это место мы так перерыли, что кругом одна только земля и чернела.
И что мы искали? Потерянное?
Я от боли уже не чувствовал своих рук. Они сплошь были покрыты волдырями и ныли, не переставая.
Какой там к чёрту клад?
Мы с Кечошкой снова глянули на оголившиеся горы и оросили свежевскопанную землю нашими горькими слезами.
— Обманул он нас, этот проклятый Темир, чтоб ему перевернуться в гробу! — бурчал Кечо.
И пока мы, дети, плакали, отцы наши невозмутимо покуривали свои трубки и нисколько не горевали о ненайденном кладе. Мне даже показалось, что они тихонечко посмеивались. А Лукия однажды даже громко рассмеялся. Сердце моё испепелилось от горя. Теперь вся эта вскопанная земля казалась мне громадной зияющей могилой, где были похоронены все мои голубые мечты и надежды. Рухнул мой роскошный чертог, завял столетний дуб! Высох журчащий ручей, разлетелось в щепки резное золочёное кресло. Сгорела детская люлька, а вместе с нею и госпожа Гульчина… И даже пепла от них не осталось… Ну, а я, естественно, тоже заклубился дымом.
Мне хотелось выть, как обречённому на заклание, но что сказали бы люди?
А Амброла и Лукия, наши жестокосердые отцы, ехидно посмеивались в усы. Загадка их смеха была отгадана мною лишь весной, когда они разбили на этом месте виноградник.
Я никогда бы не мог подумать, что мой отец может так провести меня. Отныне я действительно лютой ненавистью возненавидел лопату и мотыгу. Пока не созрел виноград, я даже не посмотрел в сторону этого виноградника. И лишь потом только удалось матери затащить меня туда: она хотела, чтобы я первый попробовал его, так как это считалось добрым знаком.
— Ну что, сынок? — удовлетворённо спросил меня отец. — Неужто у тебя язык повернётся сказать, что я о тебе не забочусь? Разве этот виноградник не золото? Когда меня не будет в живых, он поможет тебе существовать. Понимаешь ты это, дурачок?
Отец-то прав! Ей-богу, мы, дети, поистине неблагодарные существа! Отцы заставляют нас трудиться для нашего же блага, а мы недовольно брюзжим… Уж очень своенравна мельница судьбы, и очень по-своему крутятся её колёса. Один мелет, другой ест. А ведь по-иному она и не заработает, иначе весь мир перевернётся вверх тормашками…
* * *
Я и оглянуться не успел, как пролетели годы, и мне стукнуло семнадцать. Отец стал на меня косо поглядывать, не скрывая раздражения.
В ясный летний день я, принарядившись, собрался со двора. Отец преградил мне путь у калитки.
— Видишь тот ясень? — спрашивает.
— Конечно, я ж не слепой!
— Постой, а гнездо на нём видишь?
— Ну и что?
— В том гнезде ещё недавно жили птенцы.
— Знаю.
— Сегодня их уже нет там.
— А ты решил, что это я их украл?
— Не забегай вперёд, малодушный! Уж ты в своё время птенцов наворовал больше, чем волос на голове у попа Кирилэ. Да только не о старых грехах речь. Не тяни меня за язык, довольно того, что ты последний кусок у меня вытягиваешь и укорачиваешь мне жизнь!
— Вот надоело! — вскипел я. — Вечно об одном и том же! В конце концов разозлюсь, возьму и уйду из дому. Вот и всё! — и решив напугать отца, я сделал движение по направлению к калитке.
— Постой, дружочек! Не скачи, как бобовое зерно. Послушай лучше, что я тебе скажу. Никто этих птенцов не трогал. Пока они были крошечные мать таскала им корм, но теперь, когда у них подросли крылышки, она выпустила их из гнезда и — фррр! Отныне, мол, вы сами себя должны прокормить. Словом, не буду тебе рассказывать басню дальше, а скажу одно: до сегодняшнего дня я тебя, как птенца, поил-кормил. Теперь возьмись за дело сам, хватит без дела толочься!
— Значит, прогоняешь меня из дому? — решил я разжалобить отца.
— Так что же остаётся делать? Ведь и я человек, пожалей меня! Раз для тебя в нашей деревне никаких дел не нашлось, то ступай в город, посмотри, может, судьба смилостивится и подкинет тебе какую-нибудь работёнку. Надо же взяться за какое-нибудь ремесло, иначе жизнь с тобой сурово расправится, смотри! Не всегда же я буду рядом!
Помнится, когда мы в детстве с ребятами пасли скотину, сын духанщика Темира предложил мне однажды:
— Караманчик, хочешь я тебе город покажу?
— Да! — выпалил я радостно.
Мне казалось, что я и вправду город увижу.
Он стал позади меня, сжал мне уши руками, поднял вверх и покружил. Жилы на шее у меня напряглись, уши стали гореть.
— Увидел?
— Что?
— Город.
— Нет!
Тогда он поднял меня ещё выше. У меня чуть шея не оторвалась и совсем потемнело в глазах.
— Увидел?
Мне показалось, что настал час моей смерти.
— Увидел? — снова крикнул мне в ухо сын Темира и закружил меня, словно я был игрушечный.
Я не вытерпел боли и крикнул:
— Вижу, вижу!
— Большой?
— Очень, очень большой.
— Красивый?
— Красивый, красивый! Ой, мамочка!
Он отпустил меня, и я с облегчением вздохнул.
На второй день сын Темира решил показать город и Кечошке. Бедный Кечо совсем осоловел, но всё же сдержался, не заплакал.
Да, милые мои, сколько раз после этого мне приходилось говорить — вижу там, где я ничего не видел, и — нравится, когда мне вовсе и не нравилось. А что оставалось делать?! Не лучше ли было поступить так, чем ждать, когда оторвут голову? Ведь человек не дважды приходит на землю! Я это к тому, что город я впервые увидел именно так. И когда отец объявил мне, что посылает меня туда, мне сразу вспомнился сын Темира; я представил себя высоко в воздухе, и мной овладело неприятное чувство.
Но потом я призадумался, и мысль о городе стала всё навязчивей преследовать меня. «Ладно, думаю, двум смертям не бывать, одной не миновать. Пойду-ка я в город, погляжу на его дива. Будет польза — хорошо, не будет — мне с моими пустыми карманами терять нечего».
— Когда отправляться? — спросил я отца.
— Да когда пожелаешь.
— Схожу, узнаю, может, кто из старых ходоков тоже собирается, пойдём вместе.
— Зачем? Ты уже не ребёнок! Язык, говорят, до Киева доведёт. Ну, а у тебя язык заведомо длиннее, чем нужно. Если б его можно было повесить на спину, то хватило бы и на хвост.
Вечером мы ещё раз обсудили всё хорошенько. В разговоре участвовала и мама, и мы занялись приготовлениями.
Известное дело, на том свет стоит, что один на другого поглядывает. Как только Кечо узнал, что я собираюсь в город, он сразу же решил идти вместе со мной. Упёрся, как бык рогами, и всё тут — не расстанусь, мол, с Караманом.
— В городе и без тебя полно таких бездельников, — сказал я ему.
— От бездельника слышу! Там я тебе покажу, на что я способен! Судьба улыбнётся мне, и тебе придёте прикусить язык, — ответил он, подмигнув.
Решительность друга пришлась мне по сердцу. Я готов был порхать от радости и в самом радужном настроении прибежал домой.
— Слушай, жена, — обратился отец к матери. — Разве не надо благословить парня в дорогу?
Мама накрыла на стол и принесла вина.
Всю жизнь, сколько я себя помнил, отец день и ночь не уставал меня поучать. Теперь же он так завёлся, что его и остановить нельзя было.
— Сынок, ни одна мудрая книга не даст тебе столько, сколько даст жизнь. Вот выйдешь на широкую дорогу, не раз споткнёшься, потом пойдёшь осторожнее, будешь внимательнее. Город — это тебе не Сакивара. Ты должен быть очень осторожен и сдержан. В городе много кривых и тёмных улиц, а на улицах тех разбойники, и они так могут разделаться с простым человеком, что мать родная его не узнает. Запомни: дьявол никогда не дремлет, поэтому обходи стороной глухие места. Не следует и в трактиры заходить, туда всякие люди шастают. Народ-то в городе разный. Одни одеты в лохмотья, а сердце у них золотое, а иные, разнаряженные в атлас и парчу, кроме грязи, ничего в сердце не имеют. Пока близко не узнаешь человека, не доверяйся ему. И если попадётся тебе на пути тот, кто посулит тебе золотые горы, а сам ничего не сделает — беги от него подальше: как от сквозняка бывает насморк, так и от двуликого беды не оберёшься. Понятно тебе?
— Знаю, отец, ты ведь всё это сотни раз повторял.
— Ничего, мельнице большая вода не помешает, а отроку — наставления. Знаешь — хорошо, а теперь ещё лучше запомнишь. Не надо глупости повторять, а вот мудрость от повторения не обветшает. Вот и послушай, отец тебе плохого не пожелает. Если увидишь — глупцы сладкие речи ведут, обходи их стороной и помни, что только спор и беседы мудрецов заканчиваются миром. Не берись за такое дело, которое будет не под силу тебе… Спишь?..
— Да что ты! Я тебя слушаю с закрытыми глазами, так мне больше запомнится.
— Будь счастлив, если ты правду говоришь! На, глотни винца, и сон как рукой снимет!
— За моё путешествие, за благополучное возвращение, и чтоб счастье и радость я застал здесь! Уф! До чего приятное вино, как бальзам на душу…
— Давай, пей до дна! Только в городе вина остерегайся. Городское вино не такое чистое, желудок только себе испортишь. Вот так! Ну-ка, мать, наполни нам стаканы!..
Мама берёт кувшин, и светлые стаканы краснеют. А отец пришивает хвост последним словам:
— Человеческая жизнь, сынок, может уподобиться капле мёда и девяти чанам горького яду. Но жить всё-таки стоит хотя бы ради этой капли, потому что одна эта капля радости может перевесить все девять чанов горестей. Нечего на меня так смотреть, в твоём возрасте и я не верил тому, но потом жизнь научила. Это я к тому, что в пути тебя ждут горечь и разочарования, но не опускай руки! Помни, что где-то впереди для тебя есть капелька мёда, и стоит тебе её лизнуть, как тотчас же забудешь о прежних горестях. И ещё…
В это время я кивнул ему. Сон смежил мне веки, и я задремал. А отец, кажется, и не собирался кончать свои наставления, и пришлось сделать вид, что внимательно слушаю его.
— И как это у тебя язык не устал? — вмешалась вдруг мама. — Сколько можно говорить? Забыл, что парню надо рано вставать?
Эти золотые слова давно вертелись у меня на кончике языка. Но я был благодарен маме за то, что она опередила меня. Иначе мне снова, в последнюю перед расставанием ночь, пришлось бы обидеть отца. А этого мне совсем не хотелось. Не хотелось брать с собой этот грех в путь-дорогу, ибо отяжелевшее сердце давит на ноги.
Я взглядом поблагодарил маму. Как ясно видит мать всё, что делается в сердце у её ребёнка, словно это сердце лежит у неё на ладони…
Отец виновато замолчал.
Мама убрала со стола и навела порядок, — нехорошо отправлять путника из дому, где царит беспорядок.
Не успел я лечь, как сразу заснул. Мне приснилось, что я сижу на пёстром ковре и плаваю в лазури. Я хочу поймать второй ковёр, но мне не удаётся. На том ковре сидит Гульчина и машет мне. Её улыбкой полны земля и небеса.
Так и летал я всю ночь и не слышал, как родители легли и как встали.
Пятак и два бурдюка
Я поднялся раньше, чем взошло солнце, натянул на себя поношенную чоху, обулся в новенькие чувяки, а на голову наспех нахлобучил дедушкину каракулевую шапку.
Мама с вечера наготовила мне в дорогу всякой снеди: лепёшки с начинкой из лобио, куски варёной свинины, творожники, поросёнка, четыре круга моего любимого молодого сыра да испечённый на глиняной сковороде-кеци румяный хлебец. А отец приволок из погреба маленький бурдючок, при виде которого сердце моё сладостно забилось, но скрывая радость, я ехидно спросил:
— Ты что, на пир меня отправляешь?..
Отец нахмурился.
— Вино, сынок, вовсе не тебе предназначается.
Вот так-так! Меня словно холодной водой окатили, но я не подал виду: хитёр я, сызмальства хитёр.
— А-а, знаю, знаю, куму посылаешь! — Хотя отлично знал, что никакого кума у нас в городе не было.
Глаза у отца стали совсем печальными.
— Мальчик мой, ты ведь знаешь, как туго нам пришлось в этом году. Не смог я скопить тебе денег на дорогу, поэтому и решил дать вино. Нельзя же, чтобы ты нищенствовал в этом проклятом городе. Сказывают, в Кутаиси оно в большой цене. Приедешь, снеси его на базар, а на вырученное купи себе билет до Тбилиси, да и на первое время, думаю, пока работу найдёшь, тебе хватит, если, конечно, будешь с умом тратить.
Я с сомнением покачал головой.
— В дороге может случится выпить захочется, так ты держись, не смей бурдюк открывать, потому как в неполном бурдюке вино легко портится. А наше — и подавно, ему вообще вредит долгое путешествие, понял?
— Ну, понял, чего уж тут не понять!
Подумать только, обедать в пути, рядом чтобы вино стояло, а тебе нельзя и стаканчик пропустить! Да эдак и кусок в горло не полезет. Но что поделаешь!..
Отец искоса поглядел на меня:
— Знаю, сынок, трудновато тебе в дороге без вина придётся, — он пошарил в кармане брюк, — на вот пятачок, купишь себе кувшинчик-чареку — горло промочить. А бурдюк не открывай, не то пожалеешь. Обещай мне, что продашь вино.
— Ладно, ладно, папа, не враг же я самому себе. Клянусь, выполню всё, как ты наказал.
Я положил пятак в ковровый кисет и вскинул на плечи хурджин, куда уложил всё моё нехитрое достояние. Отец снова принялся наставлять меня.
— Сынок, — говорил он, — приедешь в город, не разевай рта на всё, что там увидишь. Не то сразу смекнут, что ты без привычки, окрестят тебя хамом-деревенщиной да обдерут как инжир. Смотри, не плошай, держись молодцом! А ежели грошей немного выгадаешь да в люди выбьешься, не забывайся, помни — человек должен прежде всего оставаться человеком, а деньги, дело наживное. Не поддавайся всяким разбойникам и аферистам, много их в городе шатается, да и сам не сделайся сукиным сыном. Ну, а раз едешь ты в город денег заработать, пришей к изнанке штанов карман, да не один — девять пришей, все пригодятся. Не в хурджин же деньги ссыпать.
— Да уж куда там, где такие деньги, чтобы их в хурджин ссыпать, — улыбнулся я. — Хорошо кабы несколько грошей в кармане зазвенело.
— Э-э! Не знаешь ты, в городе всякое случается, можно за один день богачом заделаться. Потому и говорю, попадут тебе в руки деньги, ты уж их в один карман не прячь. Не то неровен час вор тебе его вырежет. Да и пачкой не держи, чем чёрт не шутит, потеряешь ещё пачку-то, что тогда?! Бумажки отдели… Да ты, я вижу, не слушаешь меня!
— Ну что ты, папа, как можно, всё исполню, как велишь.
— Постой, постой, что я вчера хотел тебе сказать?! Ах да, вспомнил! Не таскайся по садам, там всякая дрянь бродит. Не гляди, что царь с виду, и такой облапошить может! Но уж если и случится, какой негодяй-подлец у тебя денег потребует, так ты отдай, не жалей, все карманы выверни. Таким людям что человека убить, что муху — всё одно. Деньги — что, а вот жизнь человеческая — дело другое, второй раз на свет не родишься. Самое истинное богатство на земле — это жизнь. Всё остальное — выдумка. Да, вот ещё что, — как бы мне это тебе сказать: в городе разные женщины гуляют, блазнят они мужчин улыбками да ужимками, кривляньем всяким. Не прикасайся ты к этим исчадиям ада, не то наградят они такою чумою-болестью, что нос у тебя отпадёт и станешь ты уродом, страшилищем, слышь! Ну, всё! Идём уж, провожу тебя до околицы.
Мама тоже собралась идти с нами, она украдкой смахивала набегавшие слезинки и, словно боясь, что её услышат, торопливо нашёптывала мне:
— Храни тебя боженька, архангел, святой Георгий да пречистая богородица, удачи тебе и везения, друзей хороших.
Когда мы вышли за калитку, Кечули уже дожидался меня на дороге. Хурджин его висел за плечами у Лукии, и из него весело высовывал голову такой же, как у меня, маленький бурдючок. Царо стояла рядом с сыном и вытирала глаза уголком косынки. Глядя на неё, я сам чуть было не заплакал, но вовремя сдержался, — не пристало мужчине реветь, как паршивой девчонке. В последний раз оглядел наш двор, трижды перекрестился и пошёл, да вдруг остановился.
— Ты чего?! — испугалась мама.
— Ничего, камень ногою зашиб.
— Которой?
— Левой.
— Слава богу! — она облегчённо вздохнула, — это хорошая примета. Споткнуться на правую — не годится: удачи не будет.
На Кечо были каламани из сыромятной кожи, широкополая войлочная шляпа и поношенная чоха моего отца.
Мы молча пустились в путь. Миновали деревню, распрощались с родителями, отец и тут было принялся за советы, да я не стал его слушать, потому что мама вдруг заплакала, а я старался её утешить.
Был летний день. Солнце так и шныряло в облаках, словно играло с землёю в прятки, а потом вдруг совсем спряталось за тучей. В полдень пошёл дождь. Мы решили укрыться в духане у моста. Хозяином того духана был наш односельчанин Агдгомела. Сначала он встретил нас очень приветливо, но как только узнал, что мы пришли сюда не кутить, вся его приветливость мигом исчезла.
Опустили мы хурджины и устроились перед самым духаном. Крыша над ним была дырявая, и дождь лился сквозь неё словно через решето.
— Ты что это, добрый человек, деньги как песок загребаешь, а крышу починить жалеешь? — заметил духанщику Кечули.
Агдгомела ухмыльнулся:
— А чего? Кому придёт в голову, если он не сумасшедший, в ливень крышу чинить?! Ну а дождь пройдёт, где уж там о крыше-то помнить! Хи, хи, хи!
Как говорит пословица, путник уже в полдень должен позаботиться о ночлеге.
— Переночуйте у меня, — пригласил нас Агдгомела.
Мы вежливо отказались, спешим, мол. Лучше уж было заночевать в лесу, под какой-нибудь ёлкой, там, по крайней мере, никто не спросит с нас платы за приют.
Дождь кончился, солнце умылось. Взвалили мы на плечи хурджины и пошли дальше.
Вы, вероятно, слыхали про Накеральский хребет? Вот тут-то, у его подножия, настигла нас темнота.
— Передохнем, что ли? — Кечо отёр потный лоб рукавом чохи.
— Пройдём ещё немного, самое время, хорошо, прохладно, зато завтра меньше идти придётся, — возразил я.
— Как ты думаешь, Каро, отчего это дядя Ермиле такой хлипкий?
— Он в засуху вырос.
— А вот и нет! Он столько ходил по дорогам, что ноги у него поизносились, оттого и в росте уменьшился. А в молодости Ермиле таким не был, как бы с нами так не случилось. А ты не проголодался ли?
— Уж и не спрашивай, если я сейчас не подставлю брюху своему подпорки, то беспременно упаду.
Мы устроились под большой елью и развели костёр.
Я смотрел в небо. Ночь, казалось, милостиво разбросала вокруг золото звёзд. Там и сям виднелись облака, но они тоже были какими-то добрыми и ясными. А вскоре и молодой месяц высунул свой рог.
Я развязал хурджин, опорожнил одно его отделение и разложил на нём еду. Кечо последовал моему примеру и тут же набросился на мчади с сыром.
В дороге почему-то особенно сильно разыгрывается аппетит. Спутник мой запихивал в рот такие огромные куски, что щёки его раздувались, как шары, почти не разжёвывая, отправлял он пищу прямо в желудок, прищёлкивая при этом крепкими и острыми, как кабаньи клыки, зубами. Вам, вероятно, приходилось слышать про глыбоглота, так вот он и был настоящим глыбоглотом, мой Кечули. Я протянул ему толстый ломоть ветчины, он размолотил его в мгновение ока. Сказать правду, сначала и я не отставал от Кечо, но, проглотив несколько кусков, вдруг остановился, почувствовав, что глотка моя почему-то стала похожа на обезвоженную мельницу.
Я было перепугался, что это со мною стряслось?! Но объясняется всё очень просто: ел всухомятку. Глотал, глотал слюну, да никак не мог смочить ею куска.
— Кечули, парень, что это у тебя в бурдючке? — начинаю я, искоса поглядывая на друга, хотя отлично знаю, что ничего другого, кроме вина, там быть не может. Ну, кто, скажите на милость, нальёт в бурдюк уксус, например, или другую какую кислятину?
— Вино, конечно, чему же ещё там быть? — отвечает он, не останавливая работы челюстей.
— Хорошее?
— Не вино, а святое причастие, мёртвого напоить, и тот воскреснет.
— Ну и чего же ты не пьёшь?
— Выпил бы, да нельзя. Обещался я, клятву дал, так вот и так, продам, мол, вино.
— Чудно как-то! В марани у вас одни лягушки квакают, и откуда вдруг в середине лета выискали вы вино на продажу?! — удивился я.
— Папа попросил у дяди Амбролы несколько грошей взаймы, не мог же он отпустить меня в город с пустым карманом. А отец твой сказал, что нет у него денег и дал это вино: Кечо, мол, парень бойкий, свезёт его в Кутаиси и превратит в деньги.
— А эту чареку для чего ты прихватил, в дорогу, что ли?
— Вот ещё! В дороге воду ладошкой зачерпнёшь да напьёшься. На кой чёрт мне кувшин.
— Неужто в Кутаиси чарека вина стоит дороже пятака? — спросил я испытующе.
— Ну, если продам чареку за пятак, мне больше и не надо, эдак ведь и разбогатеть недолго.
— А коли так, возьми мой пятак и налей мне чареку, — я сунул Кечо деньги.
— Что ты со мной делаешь, Каро? Я должен взять у тебя деньги за вино, да? Неужто в дороге я так изменился, или я не прежний Кечули! Да убери ты свой пятак, безбожник, я и без него тебе налью.
Но тут уже я замахал руками:
— Ты, брат, что из себя корчишь, не заставляй себя просить, не дома мы небось. Везёшь вино на продажу, а я у тебя его даром возьму? Если будешь вот так в дороге развязывать хурджин направо-налево да всё раздавать, много ли заработаешь?
Спорили мы спорили, но я всё-таки убедил его.
Бурдюк был так крепко завязан, что Кечо еле отвязал тесьму. Вино с рокотом полилось в чареку.
Отец мой любил говорить — наше вино в одном похоже на беременную женщину: ему, как и ей, нельзя далеко ездить, уж очень оно от тряски портится, а уж если пришлось с ним попутешествовать, то нужно дать ему немного отдохнуть. Теперь я убедился в истинности этих слов, но всё-таки вино доставило мне большое удовольствие, первые же капли отозвались во всём теле вкусной дрожью. Выпив половину, я протянул чареку Кечо:
— На, пей!
Кечо растянул в улыбке рот до ушей, но пить отказался:
— Посмотрите-ка на него, приглашает меня на моё же вино. Стыда-совести я дома не оставлял!
— Чего это ты, дурень, мотыльки мы, что ли, один только день на свете живём?! Завтра ты меня угостишь, что в этом такого! Блаженная бабка моя Тапло знаешь что говорила: вся жизнь человека — это сплошная расплата за долги — займы и больше ничего! Понял?! Ну Христа ради, пей, не тяни.
Он наконец взял кувшинчик и как приложился к нему, так и не смог оторваться, всё до конца высосал. Впрочем, много выпить ему не пришлось: разика два, не больше, поиграл адамовым яблоком, на этом всё и кончилось. Потом вдруг сразу как-то погрустнел, но это длилось какую-то долю секунды, а затем глаза его подозрительно заблестели:
— Караманчик, а что у тебя в бурдюке?
— Слёзы, — невозмутимо отрезал я.
— Скажешь тоже.
— Ну, а если знаешь, чего спрашиваешь.
— Ты что, тоже на продажу везёшь?
— Угу! Отец девять раз заставил меня поклясться. Если, говорит, не продашь, пусть оно у тебя во рту ядом оборотится.
— Да, уж не говори, умный мужик дядя Амброла. Нельзя быть рабом желудка, он, говорят, делает человека ястребом, а ястреба превращает в свинью. Вот если продашь чареку за пятак, думаю, это совсем неплохо.
— Продам за пятак, больше мне и не нужно, не собираюсь же я разбогатеть на этом вине, — заметил я степенно.
— Сдаётся мне, продашь! Наше вино в Кутаиси хорошо идёт, да вот доставлять его туда трудновато.
— Ну уж как-нибудь довезём!..
Кечо немного помедлил и вдруг протянул мне пятак:
— Налей-ка мне твоего. Чарека за пятак — цена сходная, да и бурдючок легче станет, а впереди ведь путь немалый.
Я не мог ему отказать, молча стал отвязывать тесьму… потянул, вино сначала не пошло, потянул сильнее, ещё… наполнил чареку и протянул её покупателю.
Кечо жадно накинулся, сделал два глотка и вернул кувшин мне.
— На, пей!
— Побойся бога! Видали, моим же вином меня угощает, такого позора я не вынесу!
— Как тебе не стыдно! Гора, говорят, с горой не сходится, а человек с человеком и через девять гор столкнуться могут! Пей! Выпей за счастье в пути! Не люблю я пить тихо. Тихо пьют краденое, а если уж пир, то пусть он пиром и будет. Э-э-эй!! Здравствуй, очаг, — умри, враг! — Кечо забросил свою шляпу на ветку ели. — Давай этой прекрасной чарекой выпьем за удачу! Да здравствует! Да здравствует!.. — звонко крикнул он и вдруг принялся напевать:
Генацвале живой душе! Реро! Если есть у тебя вино в квеври, Реро, реро, реро!— Ну-ка, парень, подтягивай!
— Реро-о-о-о-о!! — пропищал я, вытягивая шею, и поднял кверху указательный палец.
Совсем не пришёл бы в этот мир, Реро, реро, реро, Если бы не была ты мне по сердцу, Реро, реро, реро.— А у тебя получается.
— Подожди ещё, так распоюсь, что луна от удовольствия растает.
После второй чареки мне стало совсем хорошо. Бурдюк-путешественник определённо успел уже отдохнуть и прийти в себя.
Я опустил руку в карман архалука, извлёк оттуда сиротливо лежавший там пятачок и протянул его Кечо:
— Налей-ка ещё одну!
Разгорелась торговля, да какая! Не нужно было ни базара, ни прилавка. Кечо распевал во всю мочь своего горла, а чарека и сирота-пятак переходили из рук в руки.
В лесу зашевелились, зашатались тени, а у костра — мы.
Я всё покупал вино из бурдюка Кечо, а Кечули — из моего.
Всё смешалось — хурджины, прилавки, бурдюки, прибыль, но, несмотря на всю эту круговерть, ничто не изменилось: чарека и пятак переходили из рук в руки. А уж если говорить начистоту, какой во всём этом был толк, непонятно, разве вино в обоих бурдюках было не из одного квеври? Известно ведь вам, дорогие мои, что за столом мешать вина не годится, а одно пей себе на здоровье, пока на ногах стоять можешь, оно не убьёт, не повредит. Вот мы и пили одно вино из двух бурдюков.
— Караманчик, Карамаша, простофиля! Куда мы теперь идём? — спрашивает меня мой попутчик.
— Ты что, испытываешь меня, что ли? Как куда, в город едем, деньги зарабатывать. Заработаем столько, что наполним хурджины червонным золотом и с песнями-плясками домой воротимся.
— Будь здоров, душенька! Дай-ка я тебя поцелую!
Луне тем временем надоело без дела сновать по небу, она улеглась и задремала где-то по ту сторону леса, а звёзды, словно обрадовавшись этому, засияли ещё ярче, некоторые же из них будто только сейчас пробудились и вылезли из-под огромного небесного одеяла.
— Караманчик, милый ты мой, куда это мы идём?
— Говорю же, деньги зарабатывать. Ох! Лопни глаза у наших завистников! В городе мы эти хурджины хорошенько вытрусим да наполним их серебром-золотом до самого верху, покроем их парчой-атласом и снова этой дорогой пройдём. Не так уж это трудно, наполнить каждому по одному хурджину, правда ведь?
— Каждому по одному! Нет уж, надо больше. Купим ещё хурджины.
— Уж лучше сундуки, Кечули. По крайней мере, не порвутся.
— Ты прав, золото ведь тяжёлое. Не голова у тебя, Караманчик, а кладезь ума. За то я тебя, дуралея, и люблю! Дай поцелую!
Звёзды ликовали в небе, а на земле — мы.
Там, под большой елью, мы торговали и пили за здоровье друг друга. И ночь перестала быть для нас ночью.
— А правда, мы послушные сыновья, не преступили слова родительского, — поминутно приставал ко мне мой сотрапезник, наполняя до краёв чареку. — Да-да, и впрямь послушные! Сказали нам, продайте, мы и продали. Ты что же молчишь, заснул, что ли?
— Я?.. Нет, что ты! Конечно, ты прав, Кечули, раз уж объявился покупатель, грех было его отпускать с пустыми руками.
Вошедший во вкус Кечо всё крепче жмёт мою руку и бормочет:
— А знаешь ли ты, что такое вино?
— Конечно, знаю, вино, брат, это и пир, и веселье, и ссора, и песня, и ругань, и проклятие. Так говорил покойный дед мой, а дедушка, да будет тебе известно, лжи до смерти не терпел. Согласен я с ним, да только не ссорюсь и не ругаюсь, а пою и веселюсь.
— Покойный дед твой, конечно, был страсть как умён, а вот тут-то и ошибся, не то сказал, — возразил Кечо, стараясь обойтись как можно почтительней с моим мёртвым предком. — Вино, милый мой, это солнце, солнце! Налей его в стакан и посмотри на свет, истинное солнце! Ну и что ж, что в чареке этого не видно, да ведь и солнце не светит, если оно закрыто тучами. Так почему я должен продать это солнце другому? А сам-то я на что! Ещё неизвестно кому продашь, может, какой-нибудь дряни. Не жаль разве, чтобы это солнце выпил другой, а мы с тобой остались с носом?! Давай-ка этой чарекой восславим солнце!
— Да здравствует, да здравствует! Но уж если ты мне друг, не поминай так часто солнце, — оно мне сразу Гульчину напоминает.
— Каро, парень, ты её правда так сильно любишь?
Я печально кивнул головой.
— Тогда давай, была не была, вернёмся назад, и я похищу её. Ведь не зря говорят, брат брату в чёрный день!
— Ты что, рехнулся, что ли! Куда же мы её денем? Где жить с нею будем, под этой елью, что ли? А кормить чем прикажешь, хвоей?! Вот заработаю в городе много денег, тогда, если не согласится она пойти за меня, непременно украду её, а ты мне в этом поможешь.
Я испугался, как бы Кечо спьяна не поворотил назад и не привёл своих угроз в исполнение, и чтобы отвлечь его внимание, начал громко петь.
А Кечо запел своё. Нам было всё равно, что петь. Мы так кричали, что звёзды на небе навострили уши, что, мол, на земле стряслось? Вероятно, шум, затеянный нами, возмутил покой не одного звериного семейства, и не у одной птицы мы спугнули сон.
— Что за пир без танцев! Бей в ладоши — таши, Караман! — попытался встать на кончики пальцев Кечо, но не смог. Качаясь, вразвалку, он прошёлся вокруг огня как тощий медведь: таши, Каро, таши!
Э-эх, веселись, пируй, Кечулия! Небо и земля пусть слышат! —пел он, пританцовывая.
Я было тоже пустился в пляс. Ноги мои так и поплыли сами собой, и поднялся от этого такой ветер, что огонь в костре разгорелся, дым от огня пробрался меж сучьев и хвоя затрещала.
«Ещё чего доброго лес подожгу», — подумал я. Вино-то я пил, а ума не терял. Танцуя, Кечо упал передо мною, а я навалился на него. Потом мы поднялись и снова предались возлияниям.
— Кто там крадётся, Караман? — уставился в темноту Кечо.
— Где? — спросил я испуганно и полез в карман за перочинным ножом.
— Вон, смотри, там кто-то в чёрной бурке.
— Где, где, тебя спрашиваю?
— Вон.
— Да успокойся, дуралей, пень это, чёрный пень.
— Неужто?
— Мы ведь под ним хворост собрали, забыл?
— Ах, да, конечно, но если кто к нам сунется, пусть только посмеют, я им задам… как шашлык на кинжал нанижу!
— А где у тебя кинжал?
— Как где, дома! Что я не смогу принести его, или у меня к ногам мельничный жёрнов привязан! Налей-ка мне ещё, в горле словно засуха настала.
— Хватит, Кечо, бог с тобой! Спрячь этот грош, он тебе на чёрный день пригодится.
— Пусть чёрный день настанет у моего врага! На что мне чёрный день? Вредный ты человек, Караман, для друга вино пожалел. Скряга, сначала даром поил меня, а теперь и на собственные деньги пить не даёшь!
— Ты чего, пристукнуло тебя, что ли! Не нужно тебе больше, да и мне не нужно. Чувствуешь, голова у тебя на плечах не держится?
— У кого это не держится, у меня-то? Да столько силы во мне за всю жизнь не было. Захочу, землю в пыль превращу да в небо кину, все глаза ему засыплю, совсем ослеплю! А звёзды эти, чего они там, если уж светят, то пусть себе светят, а нет, так и не надо! Ты что же это, сукин сын, вздумал со мною ссориться! Да знаешь ли ты, кто я такой?! Не знаешь, так оставь меня в покое, найди себе ровню, с ним и ссорься. А сейчас я хочу не ссоры, а песни!..
Кошка бродит, кошка бродит! Спасайтесь, мыши! Эй-да, быстреее-и, мыши! —пропел он в темноту. Ветер принёс обратно только два последних слова: «Спасайтесь, мыши!»
Что было потом, не помню. Проснувшись, я почувствовал, что голова моя покоится на пустом бурдючке.
Солнце взобралось на ветки ели и сидело на ней, как чертёнок. Огонь превратился в золу, а трава вокруг него увяла. Кругом валялись остатки пиршества — огрызки ветчины, куски хлеба. Опрокинувшаяся на бок чарека мирно дремала у моих ног. Кечо уже стоял на ногах, и лицо у него было такое, словно вместо свежего лесного воздуха он глотал горький серный дым. Увидел, что я проснулся, и подошёл ко мне.
— Как ты себя чувствуешь, Каро?
— Голова немного болит.
— Немного? Счастливчик ты, Караман. Хотя, конечно, вино из собственного погреба не может тебе повредить.
— Ну разве во всём виновато вино?
— А кто же как не оно, проклятое. Чёрт меня дёрнул продать тебе первую чареку! — в голосе Кечо мешались слёзы и упрёк, — много я от тебя, непутёвого, выгадал.
— Что же, Караман, что ли, по-твоему, выгадал? — возразил я и бодро поднялся. От движения боль в голове усилилась, и мне пришлось снова лечь.
— Кечули, твой бурдюк совсем пуст?
— Всё, что я не продал, пролилось. А у тебя осталось что-нибудь, хоть немного?
— Видно и у меня пролилось, наберётся около пяти чарек. Налить тебе?
— Ни-ни! Смотреть тошно!
— А знаешь ли ты, что вино лучшее лекарство от перепоя?
Я поднялся, медленно передвигаясь, побрёл к роднику, подставил лицо под струю холодной воды, а вернувшись к ели, наполнил чареку и поднёс её ко рту. Сначала мне было неприятно, но постепенно настроение у меня улучшилось, а потом стало и совсем хорошее.
Кечо всё воротил нос, не напоминай мне, мол, про вино. Я насильно влил ему в глотку несколько капель, он поморщился, но проглотил довольно охотно и вскоре тоже развеселился.
— Дай бог тебе счастья! И впрямь это лекарство. На-ка, забирай обратно свой пятак, глаза бы мои на него не глядели!
— Ты что, хочешь, чтобы я тебе снова вина продал? — пошутил я со своим покупателем.
— Ещё и издевается! Забирай! Забирай, говорю, не то выкину в речку, во всём он, проклятый, виноват.
— Вот так всегда! Сам всё натворил, а непременно хочет свалить на другого, — сказал я, пряча пятак в кисет. — Я так думаю, и чареке тут не поздоровится, отдай её лучше мне.
— Ну нет, она-то уж к делу непричастна, пусть остаётся!
Видите, мои хорошие, что произошло? Пятак вертелся-вертелся меж двух бурдюков, оба опустошил и возвратился к хозяину. А мы с Кечо торговали-торговали да так ни с чем и остались, в одном только всё-таки нам привезло: груз легче стал!
— Кечули, а помнишь, ты вчера хотел возвратиться с пути да похитить Гульчину? Ну как, брат, не передумал?! — спросил я нарочно. — Сказать по правде, дела у нас не блестящи. Бурдюки, как и карманы, пусты, что поделаешь, видно и впрямь возвращаться придётся?
— Ты что, спятил, что ли? Как же это мы в деревне покажемся? Отец как узнает, что я до города не дошёл и с пустыми руками домой возвратился — изведёт. Житья мне от него не будет. Идти всё-таки придётся. Руки-ноги у нас, слава богу, целы — не пропадём, не бойся. Поедем мы в этот чудо-город и будь что будет. Эх, пропадай моя головушка!
— Значит, всё-таки идём?! — снова спросил я. — Трудно нам будет, парень, очень трудно. В деревне, там хоть, как телёнок, травкой наешься, а в городе?
— Спасает нас в городе умение торговать, оно и держит, скажешь, нет?
Возразить мне было нечего.
Щедрый хозяин и голодный гусь
До полудня мы проспали в тени, потом поднялись, умылись холодной водой и, вскинув пустые хурджины, побрели дальше месить грязь и пыль, которые, как знаете, не иссякают в дороге. По пути нам встретились двое — сван Созар и уравец Нариман. Созар всё время напевал себе под нос знаменитую сванскую «Бубу Какучелу», а Нариман был тихий и молчаливый, честное слово, поначалу он показался мне немым. Оба они шли в город впервые.
Нас они приняли за бывалых путешественников и потому обо всём с нами советовались.
На заре второго дня пути подошли мы к Кутаиси. У Кечошки аж ноги от радости сами затанцевали.
— Караман, Каро, послушай-ка!
— Чего тебе?
— Слышь, и здесь петухи по-рачински поют!
— Да ну тебя, ты что же думаешь, они здесь по-французски, что ли, должны кукарекать? — отмахнулся я и, как ледяной водою, погасил Кечошкин телячий восторг.
Было уже светло, когда мы подошли к висячему мосту. Навстречу нам из расположенного неподалёку двора вышел молодой парень с лихо закрученными кверху усами.
— Здравствуйте, люди добрые, — приветствовал он нас. — Вы, наверное, издалека?
— А что, разве не заметно? — спросил я.
— Пожалуйте, пожалуйте, дорогие, сюда! Отдохните вот тут во дворе, устали небось. Дорога ведь страсть как утомляет. А я тем временем угощу вас горяченьким и водочки поднесу. Утром это очень даже кстати. Не побрезгуйте хлебом-солью! Пожалуйста, дорогие, пожалуйте! — приглашал нас любезный хозяин.
А я подумал, какой гостеприимный в этом городе народ, зря отец наговаривал мне всякой всячины, встреть его сейчас, я так бы и сказал ему: чего, мол, ты меня пугал, обманывал про воров и убийц всякие там басни рассказывал, а вон какого доброго, обходительного человека мы встретили. Правда, отец считал городом только Тбилиси. Но разве Кутаиси не брат Тбилиси? Тоже ведь большой город. Ну чем, скажите, он на деревню похож?
— Ты не голоден, Кечули? — я посмотрел на друга.
— Ножницы раскрытые проглочу, — прошептал тот, — только то и удерживает меня, что с хозяином мы едва знакомы.
— Что будем делать? — спросил я у Созара.
— Неловко как-то, но уж когда так настойчиво приглашают, негоже отказываться. Зайдём, что ли? Благодать, как говорится, в мире не переводится, — сказал сван.
Нариман беззвучно согласился с нами.
Хозяин провёл нас через двор. Там, в глубине, под большим орехом стояли длинный стол и две дощатые лавки. Свалили мы нашу поклажу у ограды, сверху шапки побросали и устроились за столом.
— Что есть будете? — засуетился улыбающийся хозяин.
— Чего ты нас спрашиваешь? Тебе лучше знать, чем нас угостить, — осклабился Кечо.
— Как величать тебя прикажешь, хозяин дорогой? — спросил сван.
— Коцией, шени чириме.
Дорожка, усеянная гравием, вела прямо в дом. Коция побежал по ней словно пританцовывая, у двери обернулся.
— Водочку будете? Чача у меня такова, что Амирана, если тот с цепи сорвётся, снова приковать к скале может.
— По стаканчику не повредит, хорошо для аппетита, — кивнул я.
На столе появились хлеб, каурма, водка и маленькие стопочки.
— Кушайте, дорогие, кушайте, — угощает хозяин, хотя и незачем нас было уговаривать, — мы все вчетвером набросились на еду, как голодные волки.
— Да благословит бог нашего доброго хозяина, пусть воздастся ему за щедрость его, — поднял бокал Созар, — всю жизнь, если даже триста лет, как ворону, придётся прожить, буду твою хлеб-соль помнить. Ну-ка, друзья, выпьем по одной!
— Может, свиной шашлык вам зажарить? — пританцовывая подошёл к нам Коция.
— Если поставишь ещё кувшинчик водочки, мы и шашлык не прочь будем съесть, — бросил ему Кечо.
Второй стакан мы подняли за Кутаиси. Скоро Коция принёс нанизанный на шампур шашлык.
Я и Нариман съели по маленькому кусочку, остальное мгновенно уничтожили Созар и Кечо.
— В жизни не едал ничего вкуснее! — воскликнул Кечули, он высунул язык и облизнулся.
«Кабы шампур не проглотил», — испугался я.
— А больше он ничего не принесёт? — спросил сван, аппетит у него явно разыгрался не на шутку.
— Пора и честь знать, — я посмотрел на голый шампур.
— Наелись, чириме? — спросил хозяин.
— Да, да, да!!! — хором воскликнули мы трое, а Нариман кивнул.
Мы взвалили на себя наше барахлишко и стали прощаться с хозяином.
— Огромное тебе спасибо, батоно, век твоей доброты не забудем. За нами не пропадёт. Гора, говорят, с горою не встретится, а человек…
До сих пор Коция всё улыбался, но теперь вдруг лицо его омрачилось.
— Как же это вы так уходите и денег не платите?
— Какие ещё деньги? — удивился сван, — ты ведь нас сам пригласил, подолы нам пообрывал просьбами, уговорами, а теперь денег требуешь?!
— Ишь, что придумали, вы что же и вправду решили задарма покушать, потому-то пасти как драконы разевали. Поглядите на них? Это вам, братишечки, не что-нибудь, а духан. Вот если вы ко мне домой придёте, я вас приму-угощу да даром прислужу, пожалуйста. Но если стану я тут народ даром кормить, каков доход мне достанется? Ну чего друг на друга смотрите, выкладывайте денежки, торопитесь!
Легко сказать выкладывайте, а что выложить, если в кармане у тебя завалялся всего-навсего сирота пятак?!
— Вах! Ты что же это, добрый человек, сразу не мог сказать! — забеспокоился Кечо.
Нариман только плечами повёл и застыл в немом удивлении.
— Да что у вас в карманах скорпионы спрятались, пошевеливайте руками, не то… — Коция сверкнул на нас глазами и погрозил шампуром.
— Нет у нас ничего, батоно, чем же платить-то? Подожди денька два, никуда мы не убежим, работать ведь сюда приехали. Заработаем немного денег и расплатимся с тобою, — стал просить его Кечо.
Коция отошёл от нас подальше и заорал:
— Знаю я вас, что вы за фрукты, меня, старого воробья, на мякине не проведёшь, платите сейчас же, не то городового позову!
Тут сван обнажил свой кинжал.
— Ты же ещё нам угрожаешь, прочь с дороги, если жизнь тебе не надоела, не то покажу как людей обманывать!
— Городовой, городовой! — завопил Коция и выскочил за ворота.
Во двор влетел длинноусый и низколобый городовой. Он грозно завращал глазами.
— Что случилось?
Рассказали ему всё по порядку.
— Платите, или всех арестую!
— Ах, как славно мы покутили! — вырвалось у меня вдруг.
— Ладно, пусть посчитает! — сван спрятал в ножны свой длинный кинжал. — Креста на нём нет, откуда мне было знать, что он нас так подло обманывает.
Коция защёлкал чёрными костяшками:
— Всего три рубля.
— Что мы, корову у тебя съели? — заговорил вдруг Нариман.
Я вытащил из хурджина пустой бурдюк и положил на него пятак:
— На, больше у меня ничего нет!
Кечо положил свой бурдюк рядом.
Нариман молча протянул Коции рубль, а Созар отстегнул висевший на поясе кошель, достал два рубля и, швырнув их духанщику, крепко выругался и вышел со двора. Мы с Кечо догнали свана и стали предлагать ему свои бурдюки, он так наорал на нас, что у меня мурашки по спине забегали.
— Довольно и того, что нас так подло обманул этот прохвост. А тут ещё вы меня за дурака принимаете!
Пристыженные, спрятали мы наши бурдюки в хурджины, поблагодарили свана и распрощались с ним. Потом уселись у моста.
— И совсем он не был похож на духан, — недоумевал Кечули, — зачем только мы туда зашли, уж лучше, ей-богу, закусил бы я раскалёнными углями да запил их керосином. Дорого же всё это обошлось!
А Нариман соболезнующе кивал.
Я отнёсся ко всему происшедшему гораздо спокойнее, потому что наперёд знал — не будет в этом путешествии мне удачи, ведь не зря же первый, кого я встретил, отправляясь в дорогу, был Кечо. Нога у него ужас какая несчастливая.
— Помнишь, сын Темира показал мне город? — прищурившись, сказал Кечули.
— Как не помнить. При этом воспоминании уши у меня и посейчас горят.
— Теперь-то ты убедился, что за волчье логово — город.
Нариман извинился перед нами, мол, сегодня же должен отправиться в Тбилиси, и ушёл.
Остались мы с Кечошкой снова одни. Молча уселись рядышком, прислонившись к каменной ограде, и стали глядеть на пустынную улицу. Было с нами два пустых хурджина, два бурдюка и единственный пятак. Страшновато нам стало.
— Куда пойдём? — спросил я у Кечо.
— Откуда мне знать. Может, повезёт и найдём работу, наскребём денег на билеты, никто ведь даром в вагон не посадит. Отец мне говорил, что если нас в поезде безбилетными поймают, непременно в тюрьму упрячут. Напрасно мы с тобою придумали эту поездку в город.
— Перестань, не то разревусь.
— Замолчи! — Подперев рукой подбородок, я уставился в землю и вдруг почувствовал, что рука Кечошки легла мне на плечо.
— Чего тебе?
— Ничего… Просто… Возьми меня за руку, посидим так немного, надёжней как-то.
И правда, в этот миг почувствовал я, что нет для меня ничего на свете дороже тёплой Кечошкиной руки.
Неожиданно из-за угла появился высоченный человек, одетый в какие-то пёстрые лохмотья, в руках у него была разрисованная палка. Он приблизился к нам и остановился, снимая на ходу облезлую баранью шапку.
— Приветствую вас, господа!
— Здравствуйте! — ответили мы оба и отвернулись.
Незнакомец чем-то был похож на бродягу, который появился одно время у нас в Сакиваре, но был он страшней того, с выпученными глазами, уродливо морщил лицо и как-то дико озирался вокруг.
Ему, видимо, не понравилось, что мы отвернулись от него. Он присел и словно собака, готовящаяся прыгнуть на кусок мчади, оглядел нас со всех сторон.
— Отчего это вы меня сторонитесь, юноши? — подбросил он вдруг вверх свою облезлую шапку и поймав на лету, протянул её нам:
— Подайте грошики!
Мы с Кечо, прижавшись друг к другу, отвернулись, давая понять, чтобы он от нас отвязался.
— Вы что не слышите? Подайте грошик, хоть один, маленький, ну совсем малюсенький грошик!
Мы снова сделали вид, что не слышим.
Незнакомец захохотал и надел свою шапку на палку:
— Вы думаете, мне действительно нужны ваши деньги? Я нарочно попросил. Проверяю, что вы за люди. Тра-ля-ля, тра-ля-ля! — запел он.
— Чего тебе от нас нужно? Кто ты такой? — спросил я со страхом.
— Кто я такой? Я всё и ничего, — он сунул палку себе под мышку, нахлобучил шапку и присел, словно готовясь к прыжку. — Значит, вы не знаете, кто я такой, — сказал он, уродливо морща лицо. — Добро, давайте знакомиться. Когда-то и я назывался человеком, а теперь вот зовут меня — Никто. Был священником и духанщиком, обладателем большого состояния, потом стал нищим, был мудрецом и глупцом, сидел некогда в правительственном кресле и в тюрьме клопами был заеден, познал много всякого в жизни и остался невеждой, переменил тысячи разных ремёсел, но нигде ничего не выгадал. Мудрость моя вознесла меня до небес, а глупость к земле пригвоздила. И стал я теперь ничтожеством.
— Оставь нас, добрый человек, нам и своих бед хватает, возвращайся туда, где пил.
Незнакомец облизал языком сухие губы и соскочил с решётки, на которую он взгромоздился:
— Вы думаете, я пьян?! Ничуть, мне суета мирская голову вскружила. Жаждал я учёным стать, и вот, видите, что получилось! До чего докатился. Не пытайтесь быть умными, друзья мои!.. Одни зарабатывают хлеб мудростью, другие — глупостью. Горек хлеб, добытый мудростью, сладок — глупостью. Лишь безумец не ведает того, что к мудрости примешивается больше яда. Глупцы улыбаются друг другу, а мудрецы — убивают один другого. — Незнакомец снова изогнулся, как собака, и стал потирать руки, ёжась словно от холода. — Помните вы стишок «Козлик съел мой виноградник»? — спросил он нас вдруг.
— Конечно, — отмахнулись мы одновременно и, поднявшись, решили уходить.
— Постойте! — преградил нам путь незнакомец.
— Оставь, не до тебя нам.
— Ну-ка, если помните этот стишок? — не отставал он, подбрасывая в воздух свою палку.
— Ненавижу я, батоно, экзамены, поэтому-то и школу раньше времени бросил, — ответил я.
— А я тебе, сукин сын, отметок ставить не собираюсь, просто хочется мне знать, правда ты этот стишок знаешь? Ну, давай, начинай! — в голосе его зазвучала просьба.
— Нашёл время стихи вспоминать! Что мы, маленькие, что ли! — поддержал меня Кечошка.
— Не знаете, не помните. Хи-хи-хи-хи! — вертел перед носом у нас свою палку незнакомец.
— Честное слово, знаем.
— Я человеческим клятвам не верю, если знаете, говорите.
— Ой, мамочки! И чего это он к нам пристал! Давай-ка, Каро, начнём, не то, чувствую, он от нас не отвяжется.
— Как прикажете, батоно, нам в позу становиться, или просто можно начинать? — подмигнул я Кечошке; если, мол, этот негодник собирается над нами потешаться, мы тоже в долгу не останемся.
— Как угодно, друзья, только дайте мне услышать человеческий голос. Сколько времени я тоскую по настоящему человеческому голосу. Ты ведь сын человеческий, — тронул он меня палкой по плечу.
Тут вспомнилось мне детство.
— Ничего подобного, — запротестовал я. — И вовсе я не человеческий сын, отец купил меня на базаре, в Они, а на базар меня ангел с неба сбросил.
— Э, дорогой, все хотят быть детьми ангелов. Но ведь ангелы-то бесплотны. — Он вскинул палку на плечо и обратился к Кечошке. — И тебя на базаре купили?
— Нет, — замотал головой Кечошка. — Н… нет! Отец мой всегда бедняком был. Не было у него денег, чтобы ребёнка купить… и он меня сделал сам…
Незнакомец простёр к небу руки и раскатисто захохотал:
— Это уже интересней!
Кечо, между тем, продолжал: — Дед мой приволок из лесу колоду, из неё-то и вырубил меня отец топором. А это разве по мне не видно, что я…
— Конечно, конечно, благослови тебя господь, а вот если ещё и стишок мне скажешь, совсем молодцом будешь.
Кечошка беспомощно посмотрел на меня, что, мол, делать будем?
— Давай, Кечули, начинай, я помогу.
Дай взгляну на виноградник, Кто-то съел мой виноградник, Козлик съел мой виноградник. —несмело начал он, словно разжёвывая слова:
Дай взгляну на козлика. Кто-то съел и козлика Кто успел съесть козлика? Серый волк съел козлика.Постепенно голос его окреп:
Волк козлёнка, Козлик съел мой виноградник.— Продолжай, Каро, — обратился он ко мне.
Дай взгляну на серого. Кто-то съел и серого. Ружьё съело волка. Ружьё — волка. Волк — козлёнка. А козлёнок — виноградник.— Дальше, Кечо!
Дай взгляну я на ружьё. Ружьё съела ржавчина, Ружьё — волка, Волк — козлёнка, А козлёнок — виноградник. Дай взгляну на ржавчину. Кто-то съел и ржавчину. Кто успел съесть ржавчину? Земля съела ржавчину. Ржавчина — ружьё, Ружьё — волка, Волк — козлёнка, А козлёнок — виноградник.— Продолжай, Каро, — теперь вместо палки взмахнул рукой незнакомец.
Дай взгляну на землю я, Кто-то съесть успел и землю. Кто ж посмел и землю съесть? Это мышка съела землю. Мышка — землю, Земля — ржавчину, Ржавчина — ружьё, Ружьё — волка, Волк — козлёнка, А козлёнок — виноградник.— Вместе, — замахал он руками.
Дай взгляну на мышку я, Кто-то съел малютку-мышь, Это кошка съела мышку, Кошка съела мышку, Мышка съела землю, Земля — ржавчину, Ржавчина — ружьё, Ружьё — волка, Волк — козлёнка, А козлёнок — виноградник.— Опля! — Кувыркнулся в воздухе незнакомец. — Бедняжечки вы мои, это стихотворение должен знать каждый, ведь на нём мир и строится. Знаете ли вы, что все и вся враждуют в этом мире, и в остервенении всё в конце концов поедается землёй и кошкой. Главное в том, чтобы не дать себя съесть другому, а успеть это сделать самому. Поэтому, Кечо, ты должен успеть съесть Каро, пока он тебя не сожрал.
Услышав такое, мы с Кечошкой застыли в немом удивлении и ужасе, уставившись друг на друга.
— Почему это вас так удивило, милые вы мои?! Да, в конце концов, земля и кошка поглощают всё живое. Это вы должны твёрдо усвоить. Потому, пока вы живы и молоды, веселитесь, берите от жизни всё, ибо этот мир дешевле соломы.
— Батоно, ты нам лучше скажи, как в Тбилиси попасть?
— Вы что впервые в город идёте? — взглянул он на нас искоса.
Я кивнул.
Незнакомец на мгновение задумался, потом сказал:
— Что вы в этом Тбилиси потеряли? Пока ходил я по деревенской мягкой земле, чувствовал себя человеком. А тут в городе, ступая по каменной мостовой, за каждый свой шаг боюсь, как бы в преисподнюю не провалиться. Ушла у меня земля из-под ног, и сам я как потерянный брожу. Возвращайтесь-ка, ребятки, назад, не то станете такими, как я. Отравит вас город своим ядом, а потом вы других отравлять станете. Обездоленные, опустошённые, ничего вы любить не будете, ни землю, ни солнце, ни друг друга… Жизнь ваша превратится в сплошное страдание, — ведь в городе всё продаётся, скамейки и лестницы, ковры и люди. Вы тоже станете продаваться.
— Нет, батоно, нам непременно нужно в Тбилиси попасть.
— Идите, идите! Но помните — в городе множество бешеных собак, сторонитесь их, ребятки, чтоб они вас не слопали. Не хотите вы меня послушать, ладно уж, Уйду я! Будьте здоровы!
Незнакомец махнул нам на прощанье, потом, приспособив свою палку так, словно играет на гитаре, пошёл прочь, напевая что-то себе под нос, но вдруг, повернувшись, погрозил нам пальцем.
— Осторожнее, юноши! Помните про козлёнка, съевшего виноградник.
Несколько минут мы стояли как вкопанные.
— Интересно, кто был этот сумасшедший? — спросил у меня Кечо.
— Разве он сумасшедший?! — усомнился я.
— А что, пьяница?
— И на пьяницу-то он не похож. Идём, брат.
— Куда?
— Пошли на базар, может, работа какая подвернётся.
У самых ворот остановил нас человек в красной чохе.
— Рачинцы вы?
— Да.
— Работу ищете?
— Угу.
— Пошли со мною.
Человек в красной чохе строил двухэтажный дом. Целых две недели мы работали у него, не разгибая спины: таскали огромные камни. Зато спать было где, да еды и питья вдоволь. Он бессовестным образом пользовался нашей силой, но заплатил, что правда, то правда, щедро. Даже больше, чем мы запросили, и напоследок угостил нас на славу.
— Говорил же я тебе, не пропадём мы! — твердил Кечо, пряча в карман первые заработанные деньги.
— Давай-ка выпьем по чареке, — подмигнул я Кечо.
— Не поминай при мне чареку, не то я её об твою голову разобью.
На следующее утро мы пришли на вокзал, купили билеты и с пустыми бурдюками уселись в поезд. Зазвонил колокол отправления, поезд тронулся… Нас качало, мне это даже понравилось. Я вообразил, что лежу в колыбели, и сразу захотелось спать. Стемнело. Кечо влез на верхнюю полку, положил под голову пустой бурдюк, укрылся чохой и вскоре захрапел на весь вагон. Бояться нам было нечего, вещей у нас с собой не было, и я последовал примеру своего сметливого дружка: приспособил бурдюк вместо подушки, хурджин тюфяком и погрузился в сладчайший сон.
— Где мы? — спрашивал я на каждой станции, но станций оказалось так много, что запомнить их было просто невозможно.
Пока поезд шёл, спал и я — останавливался, и я просыпался, ну, точно как ребёнок, пока качают колыбель, он спит, а перестают — глаза таращит.
На какой-то станции мы стояли долго. Спать совсем расхотелось, и я с досады разбурчался:
— Что это, поезд или арба? Чего мы стоим столько времени?!
— У паровоза подкова отскочила, не пойдёт пока не подкуют, — сказал кто-то в темноте и захихикал.
— Не верь ему, братишечка, — возразил другой голос, — поезд курицу задавил, теперь его вместе с паровозом арестовать хотят.
— Бедняга! — пожалел третий. — Выпустить его из-под ареста хорошей взятки стоить будет. Одна курица в девять коров обойдётся.
В это время поезд тронулся и побежал так быстро, словно и впрямь удирал из-под ареста.
Вдруг рядом что-то загрохотало. Как ни вглядывался я в темноту, ничего не увидел. Вспомнив, что на верхней полке храпит мой Кечо, я окликнул его:
— Кечо, Кечули!
— Я-а… — вместо голоса он издал какой-то дребезжащий звук.
— Что это, парень, сверху упало?
— Ничего особенного, чоха моя.
— А отчего это она столько шума наделала, чоха твоя?
— Да потому, что я в ней был.
— Ох-хо-хо! Ну что с тобой делать! Ушибся, больно?
— Нет, на счастье бурдюк меня опередил, я на него упал, да простит он мне. Немного голова болит, а так ничего.
— Ну голова пустяки, пройдёт!
В Хашури я окончательно проснулся. Уже рассвело. Собрав свою «постель», забросил её в угол на полку. Какой-то мальчишка внёс в вагон корзину с булками. Я, не торгуясь, купил пять штук и разбудил Кечо. Мы вмиг проглотили четыре чёрствых булки, разумеется, ни разу даже не поперхнувшись.
В Карели в вагон поднялся пассажир с гусем. Гусь всё время вытягивал шею и тихо шипел. У окна сидел монах, заметив гуся, он посоветовал крестьянину, — спрячь, мол, не то ссадят тебя с поезда, птицу ведь возить воспрещается. Человек забеспокоился, беспомощно огляделся вокруг, лихорадочно ища куда упрятать злополучного гуся, но так ничего и не придумав, остановился в нерешительности. На пассажире были широченные брюки, я, не смутившись, посоветовал:
— Дядь, а дядь, посади-ка его в штанину, лучше этого где спрячешь?
— Ой, благослови тебя бог! — обрадовался тот.
— А чтобы он у тебя не задохнулся, высуни ему голову, — ввязался в разговор Кечошка.
— Спасибо, деточки, научили! — обрадовался крестьянин и сунул гуся в штаны, потом, расстегнув пуговицу на ширинке, выпростал из неё гусиный клюв, сам сел, прислонившись спиной к стене, и задремал.
В Гори в купе к нам вошла молоденькая девушка. Она уселась рядом с Кечо, положив прямо перед собой корзинку, полную черешни.
Поезд тронулся.
Гусь, вероятно, был голоден и жаден порядком, заметив черешню, он храбро высунул голову из штанов хозяина, выгнул шею, потянулся к корзинке, схватил ягоду и тотчас же спрятался обратно. Занятие это, видимо, пришлось ему по вкусу, потому что он немедленно повторил свою проделку, много раз подряд вытягивая шею, хватал клювом краснощёкую черешню и прятался с головою в штаны хозяина.
Нас распирало от смеха, но громко смеяться мы боялись, — крестьянин мог проснуться и тогда — прощай удовольствие. Девушка почувствовала что-то неладное, но ничего не поняла, покраснела, как черешня, растерянно вскочила с места и в изумлении громко закричала:
— Господи, что за чудо! Отродясь такого не видывала, ой, ой! — схватила корзину и выскочила в коридор.
Так, в самом весёлом расположении духа незаметно доехали мы до Тбилиси.
— Не смейся так много, — уговаривал я Кечошку, — знаешь ведь, что за большим смехом большие слёзы приходят.
— И-и! Тоже мне! Разве не найдётся у меня слёз, когда нужно будет поплакать? Так почему же мне сейчас не посмеяться?.. — прервал он меня на полуслове.
Загадка мух и человек с хвостом ласточки
Отошли мы от станции, огляделись вокруг, и хорошее наше настроение вмиг как дым развеялось. Куда идём, путь держим, ребята сакиварские, что нам в этом Тбилиси-городе, дядя у нас там, кум, сват ли, сами не знаем, а идти надо!
— Караманчик, а Караманчик! Куда это мы?..
— А я почём знаю, в город, в Тбилиси. Да ты не трусь, подожди, оглядимся, дорога покажется.
Остановились, постояли немного, запихали тощие наши бурдюки в пустые хурджины, посмотрели по сторонам и дальше пошли. Идём, видим — дорога разветвляться начала. И прямо, и вправо, и влево. Много, видимо, в городе дорог, а потому-то и почудилось нам, что горожане — народ бестолковый: снуют как будто без всякой цели мимо нас, словно заблудившись.
— Давай, пойдём сюда, — предложил я и пошёл прямо.
Кечошка уныло поплёлся за мною… Идём, а тут от земли такой пар поднялся, что небо стало совсем бесцветным. Духота ужасная, солнце печёт, а воздух — хоть топором руби, такой тяжёлый. Я совсем ослаб, веки стали слипаться от измора.
— Чего это, — говорю, — скажи на милость, поспешили мы выпустить воздух из бурдюков, в них он всё-таки был куда лучше, чем здесь, на улице.
— И не говори, — соглашается со мной Кечошка, — совсем совесть потеряли, чистый воздух и тот продать норовим.
— Не то что ты да я наторговали. Хи, хи, хи! — не удержался, поддел я дружка.
Первую ночь мы провели в саду на берегу Куры, а ранним утром обыскали базар. Во всю глотку кричали повсюду мацонщики, всё уговаривали нас мацони купить. Но мы старались держаться от них подальше.
— Караманчик, у всех мацонщиков — ослы, мацони у них, наверное, тоже из ослиного молока, не иначе, — сказал Кечо.
Это мне совсем не понравилось.
Солнце, между тем, поднялось выше, и его золотые лучи всё больнее жалили наши затылки.
Пот струился у меня по лбу, и капли его жгли глаза. Но всё-таки я успел заметить, что богачи здесь живут в больших каменных домах, в верхних этажах, а беднота ютится в глинобитных мазанках. И что обитателям каменных домов и верхних этажей лень носить мусор вниз, поэтому они выкидывают его прямо из окон на голову несчастным беднякам. Те бранятся, грозят, проклинают сытых и благополучных богатеев, а эти живут не тужат, наслаждаются своими богатствами и день ото дня становятся всё жирнее и нахальней.
Несмотря на жару, улицы были полны людей.
«Интересно, — подумал я, — все гуляют как на празднике, а кто же всё-таки работает?»
Кечошка словно в душу мне поглядел и говорит:
— Караман, парень, этот Тбилиси не мёдом ли помазан? Что люди как пчёлы к нему стремятся?
Я с сомнением пожал плечами и в ответ тоже спросил:
— Как ты думаешь, что это за запах такой, прямо в нос бьёт. Не мёдом ли пахнет?
— Какой там мёд, от этого запаха так и хочется поскорее нос зажать. Воняет чем-то, а чем, не пойму.
— И я не могу понять, скота вроде здесь никакого не держат, потому и навоза быть не может, гусиного помёта тоже… а воняет, странно очень! Земля, наверно, так пахнет, — я сказал это просто так, первое что на ум взбрело, чтобы прервать затянувшуюся задушевную беседу.
Впоследствии я часто думал: чем же всё-таки пахло в городе?! Люди на улицах роились как мухи, а мухи — как городской люд. Ещё я заметил, что в городе мухи кусались куда больней, чем в деревне, и при том отвратительно жужжали. Из-за них я прямо-таки возненавидел город.
Вам, вероятно, известно, что всякая муха, разумеется, кроме пчелы, обожает вонь, так вот, в городе куда больше вредных и крупных мух, чем в деревне, а вони и грязи, конечно, тоже. «Но чем всё-таки так пахнет?!» — Вот над этим-то я и ломал голову.
Дома и дворы здесь чище и лучше, чем в деревне, народ одевается опрятней и в баню чаще ходит, — непонятно просто.
Набрав горстку земли, я поднёс её к самому носу: пахнет как наша! Ничего не пойму!
— Странный запах! — обратился я к Кечошке.
— Ни дать ни взять, это пахнет невидимая душа города, — заметил тот важно.
— Выходит, воняет у города душа, — сказал я и сам удивился, и от удивления даже рот разинул: — «Может, и впрямь грязная у города душа…»
— Не знаю, не знаю, да откуда мне знать, а знал бы — так не слонялся по этим улицам, — сказал мне Кечо и немного погодя добавил — А разве так не бывает, встретишь красивого человека, всё в нём хорошо, и лицо чистое, и одежда опрятная, а как заговорит, такой у него запах изо рта, — барсука в нору загонит.
Слова Кечо заставили меня сильно призадуматься. То виделся мне в них большой смысл, а то казались они глупостью невероятной.
Думы перенесли меня в Сакивару, вспомнились её студёные, чистые ключи, прозрачный воздух и все знакомые с детства хорошие запахи. Но я твёрдо помнил родительский наказ: — покуда не набьёшь трудовых мозолей, не нюхать тебе родного воздуха.
Да, вот ещё что я заметил в городе: на улицах часто попадались мне жирные, откормленные коты. Двигались они мягко и вкрадчиво, с достоинством неся свои грузные тела. Шли, никуда не торопясь, потому, что в отличие от наших деревенских кошек, которые так и норовят ухватить где что плохо лежит, всегда сыты.
В деревне не человек, а кошка вор, в городе же, подумал я, должно быть наоборот, подумал и уж после этого рук из карманов не вытаскивал.
Мы знакомились с городом и одновременно искали работу. Денег почти не осталось. Прошла неделя, — работы всё нет, прошли ещё девять дней — тоже ничего. Чувяки у меня прохудились, а каламани дружка моего так съёжились, что мочи не было терпеть.
Ходили мы, ходили и остановились у небольшого навеса, где старый чувячник чинил всякие обноски. Я подошёл поближе и сунул ему прямо в нос ногу в изодранном чувяке.
— Зашей-ка мне, дядя.
— Аджан?
— Зашей, говорю, мне чувяк, я подожду.
Чувячник сыто хмыкнул:
— Вах, вах! Поглядите на него! Я что, по-твоему, мертвецов оживлять мастер, или кто такой. Давай, давай отсюда! Иди, новые купи!
Легко сказать, купи! Я страшно обозлился и на чувяки и на проклятый пустой бурдюк, но не ходить же по городу босым. Пришлось-таки продать бурдюк и купить обувь. Кечошка последовал моему примеру, свои старые каламани он бросил в Куру. Потом мы расстались с хурджинами. А что же было делать, ну кто бы, скажите на милость, в этом распроклятом городе кормил нас даром?!
Тем временем и погода испортилась, и ночь надвигалась, нужно было позаботиться о ночлеге. Бродили мы, бродили в поисках пристанища и, наконец, у мельницы на берегу Куры набрели на заброшенную полуразвалившуюся хибарку. Дверей у неё не было, так что вошли мы туда без особых препятствий, там и прохрапели до следующего утра.
Когда мы проели хурджины, я впал в глубокое раздумье. Я уже, кажется, говорил вам, что с таким попутчиком, как Кечо, трудно было надеяться на успех, — очень уж дурная у него была нога. Нужно нам разделиться, размышлял я.
— Давай-ка побродим в одиночку, а вечером здесь встретимся, может, хоть так немного повезёт.
Кечо согласился:
— Мне всё равно.
Утром я пошёл в одну сторону, а он — в другую.
Иду и вижу: трое мужчин волокут огромный чёрный ящик, о четырёх ногах, еле справляются.
Один из них, рыжебородый, завидел меня и зовёт:
— Эй, парень, подсоби нам, мы тебе заплатим!
Колени мои дрожали от слабости, но я не отказался, подумал, может, на кусок хлеба всё-таки заработаю. Призыв рыжебородого я воспринял как милость божью и подставил плечо под ящик. Тяжёл он был, проклятый. Мы внесли ящик в огромный дом и поставили его в комнате с круглым потолком. Комната эта была какая-то странная, вдоль стен её шли длинные и узкие балконы, окон вообще не было. Зато стены были украшены зажжёнными канделябрами, а красивые, обитые бархатом стулья расположились друг за дружкой несколькими рядами. Одна из стен была вырезана, словно огромные ворота, а в середине этих ворот сидели красиво одетые люди. Каждый из них держал в руках какой-нибудь инструмент, перед носом у них лежали белые бумажные листочки.
Особенно удивил меня один человек. Одет он был в очень странное чёрное платье, разрезанное сзади и расходящееся как хвост ласточки. Он стоял на высоком ящике и держал в правой руке небольшую палочку.
Странно, подумал я, если он собирается избивать всех этих людей, почему взял такую короткую палку, ведь дотянуться трудно будет. А ловко же он её, каналья, держит!
Вскоре человек замахал руками, как крыльями, словно собирался взлететь, и тут поднялся такой невообразимый шум, треск и грохот, что я ужасно перепугался. Потом всё стихло, и до слуха моего донеслась приятная песня. Я увидел какого-то человека, который стоял, широко открывая рот, однако долго не мог сообразить — он это поёт или кто другой. Ласточкин хвост вдруг порывисто опустил свою палку, и тут наступила такая тишина — муха пролетит — услышишь.
Рыжебородый тем временем протянул мне несколько монет и сказал:
— Ты свободен.
— Можно я немножечко посмотрю, — попросил я.
— Пожалуйста, если у тебя есть время.
Я долго смотрел и слушал. Опять поднялся гомон, опять что-то пели люди и махал палкой Ласточкин хвост. Всё это мне очень понравилось, и, обернувшись к рыжебородому, я спросил:
— Дядь, а дядь, а для меня здесь не найдётся работы?
— Почему же, если у тебя есть к этому способности, пожалуйста, — бодро бросил мне бородач, — вот скажу начальству, он посмотрит, попробует, понравишься ему — примет тебя. А вообще-то ты играть на чём-нибудь можешь?
— На чонгури немного умею.
— Ну чонгури здесь ни к чему.
Я уже представил себе, как машу в воздухе маленькой палкой, а другие играют и поют. Потом вдруг почему-то засомневался, а платят ли за это. Что-то уж очень лёгкое это занятие.
— Этому человеку, который палкой размахивает, тоже деньги платят? — спросил я у рыжебородого.
— Ещё бы, ему больше всех платят.
Тут я уже не мог сдержать охвативших меня чувств.
— Мне кажется вот это как раз по мне, это дело мне очень даже подойдёт, — я показал на стоявшего на ящике человека.
— Что именно?
— Да вон, махать палкой, как этот Ласточкин хвост по сторонам размахивает. Да я же только для этого и рождён. Подумать только, такая крохотулька и маши ею, сколько вздумается. Я девять лет подряд без устали этим прутиком махать буду — не устану нисколечко. Дядечка, миленький, веди меня к начальнику, скорей, дядечка, родной, только побойся бога, в последний раз скажи, не обманывай, и вправду за это деньги платят?
Рыжебородый вдруг весь затрясся от смеха. Он гоготал так, что даже Ласточкин хвост услышал и грозно сверкнул глазами:
— Ты что, Андрия, забыл где находишься!
Но Андрия не унимался, он подбежал к Ласточкиному хвосту и зашептал ему что-то на ухо, тот схватился за голову. Тут поднялся такой смех, что стены задрожали. Я понял, что произошло что-то непоправимое, и, не помня себя от страха и смущения, пустился наутёк. А вслед мне нёсся оглушительный хохот.
Гроб разбитой мечты и собачья игра
На улице меня остановил большеглазый человек с густыми лохматыми бровями. Одет он был в куладжу, в руках держал длинные янтарные чётки и медленно перебирал их на ходу.
— Ты рачинец? — обратился он вдруг ко мне.
— Да, батоно, — бросил я ему тоже на ходу.
— Работу ищешь?
— Да.
— На свирели играть умеешь?
— Нет!
— А плотничать, камни тесать тоже не умеешь?
— Нет, батоно!
— Какой же ты рачинец?! Рачинец к мастерку и молотку сызмальства, как к своим пяти пальцам, привычен, а о тонэ и кастрюльном деле и говорить нечего. А ты откуда такой взялся, никакому ремеслу не обучен?
Что мне было ответить, я словно к месту прирос, рот разинул.
— Что смотришь, так и будешь стоять с разинутым ртом! Ну иди, иди себе с богом, может, на какой улице и не хватает такого ротозея, а мне ты не нужен, мне каменщика подавай! — и ушёл.
А я так и остался стоять, ни звука не смог произнести. Когда человек в куладже спросил, не ищу ли я работы, в сердце моём зажёгся огонёк надежды. Может, и впрямь, наперекор дурному глазу несчастного Кечошки, ждёт меня удача? Но огонёк этот быстро испепелил мою надежду и так же быстро погас. Печально побрёл я жаркой улицей. Раскалённая мостовая немилосердно жгла подошвы.
Эх, думал я, благословенна родная моя Сакивара, там хоть босым пройтись можно, идёшь себе, мягко так ступаешь, а в городе каменные мостовые измолотили, изодрали мне все ступни. Да, в городе многое из камня. Сердца людей тоже будто каменные, холодные, жестокие. Брожу я, брожу по улицам, ищу себе подходящее дело, что-нибудь полегче, а то камни таскать — увольте! Надоели мне камни да каменные глыбы. Мало того, что в Кутаиси, таская их, сломал себе спину, так нет же, ещё и в Тбилиси таскай, убиться что ли из-за этих проклятых прикажете? Положить себе безвременно на сердце большущий камень! А впрочем, если я здесь и помру, некому даже и за упокой души помолиться. Наверное, и могилы не удостоят. Кому до Карамана дело!
На углу улицы прямо на меня налетела девушка в белом платье. Остановилась. Взглянула, уставилась на меня в изумлении и вдруг заулыбалась. Я тоже улыбнулся в ответ, — за это денег не берут. А девушка не больше, не меньше, бросилась мне на шею, обняла и ну целовать. Улыбка на моём лице так и застыла. Тут девушка снова поглядела на меня и говорит ласково так:
— Когда же это ты, родимый, приехал, почему молчишь. Тётушка ничего мне не передавала?
— Какая ещё тётушка? — вытаращился я на неё.
— Как какая? — видя моё замешательство, девушка тоже смутилась. Потом спрашивает:
— Разве ты не Вануа Тандилашвили?
Я сначала было хотел солгать, да мол, потом подумал, что враньё до хорошего не доведёт, и сказал:
— Нет, генацвале, Караман я, Караман Кантеладзе.
— Ой, глупая моя голова! — Девушка зарделась, как малина, и в смущении бросилась бежать от меня.
Ну, словом, что тут долго рассказывать. Кто-то принял меня за родственника да наградил поцелуем. А жаль, что всё так быстро кончилось! Хороша была девушка, и сладок поцелуй! Щека у меня горела, и я долго провожал её взглядом, пока она совсем не скрылась из виду, и всё думал, может, хоть разок оглянется, но девушка не оглянулась.
Печалью отозвался во мне поцелуй этой девушки. Я повернул назад, в надежде догнать её, пристально вглядываясь в лица всех проходящих в белых платьях. Её нигде не было. Но одна из девушек показалась мне похожей на Гульчину; сердце моё так и упало от того, что она, не обратив на меня никакого внимания, прошла мимо. И тут Гульчина безраздельно завладела моими мыслями. «Ах если бы она действительно оказалась рядом и вот так обняла бы меня, а?» — думал я. Уж тогда, очевидно, в четвёртый раз принял бы я святое крещение и никакая смерть меня не взяла бы, жил бы да поживал многие века, как Мафусаил.
Должен вам признаться, что таких красивых девушек, как Гульчина, в городе много. Вероятно, все они приезжают из деревень.
Гульчина ведь тоже собиралась учиться в городе, — ни за что не поверю, что именно здесь, в городе, рождается такое множество солнцеликих красавиц!
У нас в Сакиваре одна такая красавица — Гульчина, а в городе их — тысячи! Счастливчики живут в этом городе! Если есть у человека хоть малая толика умения и привлекательности, — выбирай себе любую, какую пожелаешь! Это я так, для красного словца говорю, а то ведь мне, кроме Гульчины, никого не надо! Пропади все эти красавицы пропадом!
«Может, Гульчина уже здесь, в городе, и ждёт меня? — от этой мысли в душе моей зацвели розы: — Вот идёт она по улице, освещая всё вокруг улыбкой, на ней красивое шёлковое платье, коса на грудь переброшена. Ребята следуют за нею голубиной стаей, а она, задумчивая, ушедшая в свои мысли, не обращает на них никакого внимания. Меня она ищет, одного меня!
— Ау, Гульчина! — зову я её издали.
Она вертит головой, как оленёнок, узнает мой голос и всё ещё не веря, что я могу оказаться здесь, рядом с нею, недоверчиво вскидывает на меня глаза.
— Гульчина, Гульчина, это я!
— Караманчик, милый ты мой! Каким ветром тебя сюда занесло мне на радость!
Я беру Гульчину под руку, мы идём, а городские парни с завистью смотрят нам вслед. Пусть себе смотрят, если Гульчина будет рядом со мной, мне сам чёрт не страшен.
— Где ты живёшь? — улыбаясь, спрашивает она.
Я не могу скрыть от неё правды и рассказываю ей всё подряд, без утайки.
— Это ничего, главное, не отчаивайся! — обнадёживает Гульчина. — Чтобы познать истинную цену жизни, надо многое выстрадать, если проживёшь жизнь в праздности, в весельи, не почувствуешь настоящего её вкуса.
Мы входим в огромный дворец.
— Всё это твоё, с сегодняшнего дня и твоё, и моё, понимаешь? — говорит она. Я обнимаю рукой её стан, и мы вместе возносимся высоко в небо…»
Вдруг я почувствовал, что споткнулся о камень, с головы моей свалилась шапка, и я больно обо что-то стукнулся, мгновенно слетев с небесных высот на грешную многострадальную землю.
— Дохлая собака, глаз у тебя нет! Что ты тычешься, как слепая курица? — выругался кто-то рядом.
Я открыл глаза, вижу, рядом на земле лежит человек с привязанным к спине гробом. Тут только я и сообразил, что так загромыхало, когда я ударился головою. Мужчина с трудом поднялся, поправил на спине гроб, выругался ещё разок и пошёл своей дорогой.
Взглянул я на него и почувствовал, как тело моё покрылось холодной испариной, — мне показалось, что из огромного красного гроба высунулись человечьи ноги и самостоятельно шагают пустынной улицей.
Я не знал, конечно, кого уложат сегодня в этот гроб, но пока что в нём оказались разбитые мои мечты.
«Хорошо ещё, — подумал я, — что гроб не упал мне на голову, — вот было бы удовольствие!»
Неподалёку купил я хлеб, шёл по улице и уписывал его. Вдруг кто-то меня остановил:
— Ты что это, друг, чёрствый хлеб гложешь? Идём со мной, заработаешь на горяченькое.
Я проглотил довольно большой кусок и сказал:
— Это уж смотря какое дело, батоно.
Человек привёл меня к новеньким тесовым воротам. Зашли во двор.
— Видишь вон те большие камни, снеси-ка их в овраг и те маленькие, что кругом валяются, тоже подбери, заплачу тебе, сколько следует, и обедом угощу.
Я оглядел двор оценивающим взглядом и увидел, что работа тут не по мне:
— Эти камни, батоно, придётся выкорчёвывать, они так вросли в землю, что даже вдвоём их не сдвинуть с места.
— Что, что ты городишь! По-твоему, значит, чтобы очистить этот двор, мне придётся вызвать сюда всё войско русского царя?!
— Ваша воля, батоно!
— Берись-ка за работу, не ленись. Вознагражу тебя достойно.
— Что говорить, батоно, ежели мне весь этот двор подарите, и то один не управлюсь, и всё тут! Вон эти мелкие камни, так их, если желаете, уберу, это пожалуйста, возьму с вас недорого. А те, увольте, нет!
— Мелкие, ха-ха! Нашёл дурака, с мелкими я и без тебя справлюсь, позову соседских мальчишек, они мигом их унесут. А раз так, давай-ка отсюда подобру-поздорову! — и он волосатой рукой указал мне на ворота.
Я ещё раз взглянул на каменные глыбы и убедившись, что хорошего из этого ничего не получится, молча вышел.
В полдень стало невыносимо жарко, кругом всё словно в огне раскалилось, и я свернул к Куре, — у воды всегда небольшой ветерок.
Отмель кишела голыми мальчишками — одни валялись на песке, другие с визгом и хохотом плескались в воде. «Жаль, — подумал я, — нет здесь волов, вцепиться бы какому-нибудь в хвост, и давай! — прямо на середине реки оказаться». Решил, войду по пояс, авось прохлажусь немного. Разулся, положил одежонку под камень, каракуль свой на камень надел и вошёл в реку по колено. Хорошо мне стало, приятно так. Окунусь-ка с головой разочек, подумал я. Окунулся раз, другой, третий, как гусь, вылез на берег, отряхнулся и лёг на песочек. Тут я заметил длинного худого парня, державшего в руках тоненькую палку, рядом с ним стояла такая же тощая, пёстрая собака.
Парень закидывал палку в реку, а собака стремительно кидалась в волны и выносила её на берег, дрожа всем телом и отряхиваясь, подбегала к хозяину и вручала ему палку, которую несла в зубах.
Я долго наблюдал за этой игрой и так увлёкся, что забыл обо всём на свете. Подул ветерок, и мне вдруг стало почему-то холодно. Дрожа всем телом, я повернулся к камню, под которым лежала моя одежда, и замер как громом поражённый, — под камнем было пусто, а на камне сиротливо торчала моя шапка да неподалёку валялись рваные панталоны.
Горе тебе, Караман, до чего ты дожил! Колени мои подкосились, я упал ничком и спрятал лицо в ладони.
— Что с тобой случилось, парень, может, в воде тебя кто укусил? — спросил меня какой-то тонконогий мальчишка.
Беззвучно протянул я руки в сторону своих драных панталон.
— Одежду у тебя украли, — ой, горе-то какое! Что за негодяй это сделал, попадись он мне, я шею ему сверну, — возмутился он.
— Какой-то хромой недавно что-то тащил, он, вероятно, и украл твою одежду, — сказал подошедший одноглазый верзила.
— Где, где?..
— Туда прошёл, к парому.
Я голышом со всех ног пустился к парому.
— Дядя, — спросил я паромщика, — здесь сейчас никто не проходил?
— Нет, сынок, не замечал что-то, а ты что, одежду потерял?
— Да.
— Ты из деревни?
— Да.
— Напрасно ищешь, сынок, всё равно не найдёшь. Здешние жулики всегда так поступают с вашим братом.
Печальный, возвратился я к своей шапке.
— Эй ты, у тебя одежду украли? — спросил меня какой-то мальчик, который успел снять рубашку и уже скидывал штаны.
— Падут на меня все твои беды, не видел ли ты случайно вора? — с надеждой спросил я.
— На тропинке повстречался мне какой-то горбун, под мышкой он что-то нёс.
— Правда?!..
— Чего мне врать.
Надел я панталоны, нахлобучил на голову свой каракуль и побрёл вверх по берегу искать вора в прибрежном лесочке. Мусору там валялось много, а вора нигде не было видно. Стемнело уже.
Не думал я, конечно, что возвращусь из Тбилиси с хурджином полным злата-серебра, но уж, что так вот разденут меня да бросят нагишом на берегу, этого я и представить себе не мог.
Эх, что это было за зрелище! И что им стоило, этим негодяям, оставить мне вместо шапки рубашку или уж брюки на худой конец!
По лесной тропинке прошли мальчик с собакой, собака бежала впереди хозяина, он что-то насвистывал себе под нос, а увидев меня, равнодушно спросил:
— Нашёл?
— Разве найдёшь! — я безнадёжно махнул рукой.
— Далеко живёшь?
— У большой мельницы, через три улицы.
— Есть у меня сосед, он даёт напрокат старьё, хочешь я его сюда пришлю?
— Ну а потом что?
— Ничего, одолжит тебе какое-нибудь барахлишко и до дому проводит, а за это ты ему денег дашь, а старьё тут же вернёшь.
— Откуда у меня деньги, все, какие были, в кармане брюк лежали.
— Одолжи у кого-нибудь, у соседа, например.
— Сосед ещё беднее меня.
— Ну, брат, даром теперь даже кошки не ухаживают.
Вдруг словно бес в меня вселился. Дай, думаю, одолжу одежду у этого мальчишки: затащу в свою хижину, раздену, отберу деньги и убегу. А стоило бы это сделать, потому как он, вероятно, и был сообщником того, кто меня обокрал.
Чего же мне было его жалеть. И тут я решил, что действительно вонючая душа у города; а какова же она у человека, который мог отнять последнее у несчастного деревенского оборвыша? Опротивел мне и город тот поганый, и незнакомый мальчик, которого я собирался задушить, но быстренько я этого беса из своей души изгнал. И как только смел я, несчастный, такое замыслить! Человека убить!!
Может, подумал, у него и пистолет есть, пристрелит он меня ни за что, лучше уж остаться голым, чем лежать мне безвременно в могиле.
Хозяин собаки понял, что от меня толку не будет, махнул рукой и пошёл себе по тропинке. Собака побежала сзади. Я посмотрел ей вслед и позавидовал:
«Счастливая, — думал я, — всегда на ней есть одежда, если уж сдерут с неё шкуру, а так украсть никто не украдёт. И в Куре она одетая купается, входит и выходит спокойно, зимой и летом в одних чохе-архалуке ходит, не жарко ей, не холодно… А я… Видела бы меня сейчас Гульчина!»
И захотелось мне в этот миг умереть. Глупая вещь самоубийство, но на мгновение я вдруг почувствовал себя глупцом; что поделаешь, ведь и я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Но не успел я подумать о самоубийстве, как встал перед глазами моими отец, рассказывающий мне притчу о бочке яда и капле мёда. Я сразу приободрился.
Вы, вероятно, знаете, что когда человек всё потерял и остался, так сказать, в чём мать родила, не очень-то он заботится о том, что скажут окружающие: вот так и я, решился почти голым идти по улице. Подождал пока хорошенько стемнеет, натянул на глаза шапку, поправил панталоны и побежал. Но как только появился я на улице, кто-то истошно закричал:
— Скорей, скорей, на помощь! Из сумасшедшего дома человек сбежал! Держите, держите!
Я побежал быстрей. Народ со смехом за мной:
— Лови, лови!
Кто-то притащил верёвку. Меня поймали и привязали к фонарному столбу.
— Люди добрые, я не сумасшедший! — вопил я изо всех сил.
— Ну конечно! — издевались вокруг.
— А может, ты царь Ираклий, — спрашивал меня тот, кто набросил мне на шею верёвку.
— Какой там сумасшедший… из деревни я!
— Вяжите его, вяжите!
— Ей-богу, я не сумасшедший, обокрали меня! — орал я во всё горло.
Народу всё прибавлялось:
— Человека убили?
— Вора поймали?
— Кто, кто, разбойник, бандит?!
Кто-то ударил меня ногой, кто-то стукнул кулаком, а я, не помня себя от боли и обиды, повторял одно и то же:
— Не сумасшедший я, нет! Обокрали, обокрали!
— Дай ему, как следует, может, в себя придёт!
— Остановитесь, люди, он правду говорит. Сегодня у этого несчастного на Куре украли одежду, я своими глазами видел! — подскочил ко мне высоченный юноша.
— Наверно, потому он и сошёл с ума, — не сдавался мой мучитель.
— Пустите меня, пустите, не сумасшедший я, — твердил я горько.
Верёвка немилосердно натирала мне руки и ноги, так, что терпеть не было сил.
— Ну-ка, люди добрые, не пожалейте, если есть старьё какое, вынесите несчастному, наденьте на него, пусть идёт своей дорогой! — закричал мой защитник и стал развязывать верёвку.
Наконец я почувствовал, что руки и ноги мои свободны.
А народ хлебом не корми — подавай зрелища. Как узнали, что я не сумасшедший, начались расспросы, как да что. Мучитель же мой даже попросил у меня прощенья. Кто-то притащил мне какое-то старьё. Качаясь, совсем обессилев, побрёл я дальше. Теперь за мной увязалась стайка мальчишек.
Пианица, пианица За риумкой тианица! —орали они мне вслед, но я шёл будто не слыша. Колени у меня подгибались, словно ватные, однако если я и был похож на пьяницу, то сам того не замечал. Ребята все шли за мной и кричали, но в ответ я не издал ни звука. Правда, одежда моя пропала, но ума я не потерял, знал, что стоило мне огрызнуться, они б от меня не отстали. С ума бы свели, и снова какой-нибудь сорви голова побежал бы за мной с верёвкой. Да, да, опять приняли бы меня за сумасшедшего, как наших сакиварских Алексу и Пацию.
Кечошку я встретил у самой хижины, он, оказывается, ждал меня с нетерпением.
— Ой-ой-ой! Что это ты нацепил? Совсем стал на главного начальника похож. И где это ты, безбожник, пропадал столько времени?! Ну, что-нибудь выгадал?
— Пусть враги твои и неверные так выгадают! Обворовали меня на Куре.
— И так у тебя ничего не было, а теперь ещё и обворовали тебя, несчастный! А что тебе на Куре понадобилось?
— Жарко стало, освежиться захотелось, а как из воды вышел, сердце прямо-таки упало… эх!
— Эк ты, ничего-то толком делать не умеешь по-нормальному, а туда же лезешь!
— Ну уж, если человек из ворот выйдет и тебя на дороге встретит, в каком, спрашивается, деле у него толк будет!
— Теперь ты все свои беды на меня свалишь. Да разве же я виноват?! Не хорошо так, не к лицу тебе. У каждого человека своя судьба. Недотёпа ты эдакий, когда в Куре плескался, где глаза твои были, в воде что ли их оставил? Чего смотрел-то, чего?
— Не к чему сейчас ерепениться, говорят, когда арба перевернётся, тогда искать дорогу поздно. Смеётся она надо мною, смеётся судьба проклятая, но посмотрим, кто кого одурачит. Еврей знаешь что сказал: — пусть, говорит, господь-бог не даст сыну моему в первый день деньги выиграть. Должен он убыток потерпеть, тогда трезвей будет, и убыток этот потом ему прибылью обернётся. А евреи, знаешь ведь, народ умный, им верить можно.
— Правду говорят, что надежда — хлеб для несчастных!
Я рассказал Кечо обо всём, что со мною приключилось.
— А ты-то что целый день делал?
— Пекарям дров нарубил, они меня за это хорошенько накормили.
— Чудесно! Чего ещё тебе надо! Тебя ведь, мой дорогой, накормить досыта не шутка, живот твой, что пустой горшок, столько времени ты голодный бродил, что буйвол, наверно, в желудке поместится, неужто наелся?
— Наелся и ещё как, неделю могу не обедать. Поздно уже, ляжем, что ли.
— Тебе-то что, ты уже сыт. А мне каково, ослаб я от голода, как зубы у старухи.
— Чего же ты раньше не сказал? Я припас для тебя кусочек мяса да хлеба полушку. Сейчас есть будешь или утром? Говорят ведь, что перед сном наедаться не годится…
— Что ты, если всех слушать, так оглохнешь. Мысли об этом мясе не дадут мне уснуть, а к чему, скажи, сон себе ломать? Давай…
Я поел досыта и уснул.
Утром мы отправились на базар. Пришли. Вдруг Кечошка мой как-то съёжился и поглядывает на меня с жалкой такой улыбочкой.
— Чего это ты? — спрашиваю.
— Эх, опозорился я, несчастный. Такой самолюбивый и гордый человек, как я! О, небо, не снести мне такого унижения!
— Да что случилось, что? Где опозорился, как?
— Здесь, на базаре.
— Я что-то ничего не заметил?!
— А что ты мог заметить, вор ко мне прицепился, решил, что у меня в чохе денег полным-полно, все карманы облазил, ни гроша не нашёл, скривился от отвращения, пробормотал что-то, наверное, выругал, а может, и проклял и ушёл себе!
— А ты что, дуралей, язык проглотил, тебя грабили, а ты молчал?
— А я нарочно, дал ему волю, пусть, думаю, пошарит, я сам ничего не нахожу, может, он что отыщет! Так нет же, осрамил меня, проклятый, на весь свет ославил. Теперь всему народу расскажет, что у меня в кармане вошь на аркане!
— И вправду, теперь ты посрамлён. На людях показываться не следует. Хоть бы у меня гроша два одолжил, да в карман положил. Как же ты отпустил человека с пустыми руками, эдакого почтенного вора? Да будь я на его месте, не только пристрелил бы тебя, надавал бы тебе ещё впридачу хороших тумаков!
Большое зеркало и узелок, полный денег
— Давай-ка пойдём к тому пекарю, который меня вчера накормил, — предложил Кечошка, когда мы вышли с базара. — Нарубим ему дров, авось, даст нам немного хлеба, а то у меня от голода кишки сводит. Проклятый живот, эдакая прорва ненасытная!
На дверях пекарни висела красивая вывеска — торчащие наперекрёст, как сабли, румяные и тонкие хлебы — шоти. А вокруг стоял такой приятный, возбуждающий аппетит аромат, что прямо-таки дух захватывало.
Мне даже показалось, что это хлебы на вывеске так пахли.
Нас встретил коренастый плотный мужчина с толстыми, как у борца, руками. Лицо у него было тоже толстое и круглое, а с длинных пышных усов хорошо, пожалуй, было бы сцеживать мачари.
— Дядя Арчил, хочешь мы тебе дров наколем? — спросил Кечо.
— Нет, сынок. А вы что, хлеба хотите, да я вас и так накормлю.
— Так нам не надо, не дармоеды мы, — солидно проговорил Кечошка.
— Ну, тогда тесто месите.
— Чем по улицам шататься и грязь месить, лучше уж тесто, — тотчас же отозвался я.
— Если сгодитесь, пущу потом вас к тонэ, хорошие деньги заработаете, согласны?
— Согласны, согласны!
— Жильё у вас есть?
— Откуда! Спим в лачуге на берегу Куры.
— Сговоримся — тогда комнату вам достану. Тут неподалёку вдова одна сдаёт. А вообще-то не думайте, что лёгкое это занятие, хлеб печь. Был у меня один подмастерье — не подошёл. Пустил я его к тонэ, а он — раз! Да прямо в огонь угодил.
— Ой, мама! — воскликнул я.
— Чего испугался, — успокоил меня пекарь, — слава богу, я рядом стоял, помог ему, не то несчастный сгорел бы в тонэ. Так я его ловко ухватил, что он только брови спалил да слегка руки обжёг, а в общем — хорошо отделался. Вот сосед, тот не смог своего подмастерья спасти. Упал у него мальчик в тонэ, а он подумал, дай-ка я огонь водой потушу. Огонь он потушил, а бедный парнишка тотчас же от пара задохнулся, и вытащили его мёртвым. Я потому вам это, ребята, рассказываю, что в каждом деле нужна сноровка и умение. Если чувствуешь, что не лежит у тебя душа к этому делу, найди себе занятие, которое больше подходит. Вот вам моё слово… Ну как, надумали?
— Попробуем! — одновременно воскликнули мы.
Вошли в лавку. Полки были полны румяных свежих шоти, на стойке стояли весы, а в углу валялся длинный острый нож. Дверь вела в соседнюю комнату, почти половину которой занимала огромная, толстобрюхая, наполовину врытая в землю глиняная круглая печь — тонэ. У одной стены стояла большая лохань, у второй валялись мешки, полные муки, а рядом в углу приткнулась длинная палка с насаженной на неё большой вилкой.
Я заглянул в тонэ, оттуда полыхало жаром. Нет, решил тут же я, мне ещё моя голова пригодится, а деньги можно и иначе заработать.
— Снимайте-ка вашу одежонку, надевайте передники и — к лохани! — приказал Арчил.
Кечо проворно разделся.
В лохани лежала мука, Арчил сделал в ней лунку, влил из бочки закваску и повернулся к нам:
— Ну теперь дело за вами! Муку разделите пополам, так легче.
Каждый из нас работал самостоятельно. Мешали муку с закваской, размешивали, и постепенно месиво это становилось тестом. Скоро тесто окрепло, и переворачивать его стало трудно.
Кечо справлялся ловчее меня, дышал он глубоко и прерывисто, а пот его мешался с тестом. У меня ничего не получалось, казалось, в лохань опустился кто-то огромный, держит меня и хочет оторвать мне руки. Смертный пот выступил на щеках моих.
Арчил смотрел, смотрел и говорит:
— Эх, сыночек, по лодыжкам твоим чувствую, не выйдет из тебя пекаря. Посмотри, как это делается.
Он разделся по пояс, обнажив волосатую грудь, взял меня за руки и вытащил их из теста, потом сам стал за корыто. Лицо его озарилось какой-то тихой радостью, казалось, он собственную жену обнимает, а мускулы напряглись… Тесто он катал легко и ловко.
— Считать умеешь? — спросил он вдруг меня.
— Ещё бы, меня провести — не фунт изюма!
— Русский знаешь?
— Инчи-бинчи не понимаю! А почему спрашиваешь?
— Подумал, может, за прилавок тебя поставить, хлебом торговать будешь.
— А что, по-твоему, хлеб, что ли, я не продам? — обиделся я.
— Понимаешь, брат, покупатели у меня тут и русские.
— Ну для них-то я два-три слова как-нибудь выучу.
— Ого! Видимо, у него и впрямь голова не пустая, — обратился Арчил к Кечо.
— Да, ваше степенство, — не бросая своего занятия, живо и так, чтобы я слышал, отозвался Кечошка, — голова у него набита сеном, соломой, самшитом да вербой!
Арчил решил привести свои замыслы в исполнение и стал меня дотошно расспрашивать.
А знаю ли я, сколько стоит фунт хлеба?
— Я по три копейки покупал, батоно.
— Что ты, бог с тобой! Разве тот хлеб и этот одно и то же?
— Не знаю, батоно, по цвету этот лучше. А на вкус, как попробую, тогда и скажу.
— И на вкус лучше. Лучше, чем я, никто хлеб в городе не печёт, поэтому у меня и покупателей больше, и продаю я дороже, пятак за фунт.
— И я так продавать буду, батоно. Ведь у меня счастье пятикопеечное, везёт мне на пять копеек…
— А если русский тебя спросит, как ты ему скажешь?
— Гирванка хлэба, шаур! — нашёлся я тотчас же.
— Что это за русский язык! Нужно сказать: господин, пунт хлэба стоить пиат капеек, — ну-ка повтори!
— Господин, пунт хлэба стоит пиат копейка!
— Малладэц! — Арчил тряхнул меня рукой по плечу и, оставив у прилавка, пошёл к тонэ.
Голоден я был страшно, глотал-глотал слюну, но взять хлеб без разрешения Арчила не решался.
А эти бездушные шоти так бесстыдно разлеглись на полках, так и хотелось укусить какой-нибудь из них за румяную, поджаристую щёчку! Но я не смел.
Вошёл какой-то господин во фраке.
— Здравствуйте!
— Господин, пунт стоит пиат копейка! — отбарабанил я тут же.
— Молодой человек, сначала нужно ответить на приветствие! — нахмурился фрак.
— Пунт стоит пиат копейка! — повторил я.
— Ты кто такой? — удивился он.
— Пиат копейка, — снова сказал я.
— Где Арчил?
— Хлэба пиат копейка! — стоял я на своём.
— Заладил тоже! — отмахнулся фрак и хотел уже уходить, но в это время из соседней комнаты вышел Арчил.
— Кто там?
Русский что-то сказал и, не взяв хлеба, вышел из лавки.
— Это наш старый покупатель, вон в том большом доме живёт. Хлеб ему обычно прислуга носит, а сегодня он попросил, чтобы мы сами ему домой доставили. Вот тебе корзина, положи в неё пять шоти и отнеси.
— Хорошо!
— Ну иди, иди!
Я положил в корзину пять хлебов и собрался уходить.
— Да, — остановил меня Арчил, — вон в том красивом доме напротив живёт доктор Татаришвили, зайди к нему да спроси, когда прислать хлеб, сейчас или вечером?
Я пересёк улицу, подошёл к дому напротив и потянул руку к кружочку над входной дверью. Где-то далеко раздался глухой звонок. Дверь мне открыла молодая нарядная женщина, вся она была увешана какими-то блестящими безделушками, протянула мне руку и что-то сказала. Хоть я ничего и не понял, но всё-таки пошёл за нею следом. Прошли мы большую комнату и попали в кухню, там оставил я корзину и вернулся обратно, и тут увидел, что кто-то вышел мне навстречу из точно такой же комнаты, в какой я находился. Этот человек был странно похож на меня. Я кивнул ему — он тоже. Я улыбнулся — он тоже. Я собрался было пожать ему руку, и вдруг — бум! Стукнулся лбом и рукой обо что-то холодное.
Зеркало я, конечно, видел, но чтобы оно было такое огромное, прямо во всю стену, — этого я уж никак не мог себе представить. Хорошо, что никто не узнал о моём позоре. Ославили бы меня на весь город.
Обескураженный вышел я на улицу.
Дверь в квартиру доктора была слегка приоткрыта, я распахнул её и вошёл:
— Можно, батоно?
— Пожалуйста, пожалуйста!
Вижу, в кресле сидит человек в белом халате, держит в руках большую книгу в красной обложке и шепчет что-то про себя.
— Здравствуйте, господин доктор, — говорю робко.
— Здравствуйте, здравствуйте, — не поднимает он от книги глаз.
— Вот, я… пришёл…
— Вижу… Раздевайтесь! — прервал меня доктор.
Я опешил, оглядел себя и смущённо начал:
— Уважаемый доктор, знаете…
— Знаю, знаю, говорю вам, снимите одежду, — перебил меня он, не переставая листать книгу.
Мне подумалось, что этот добрый человек, вероятно, пожалел меня и собрался подарить мне одежду какого-нибудь своего шалопая-слуги, и я, сразу почувствовав к нему огромную благодарность, стал поспешно раздеваться. Доктор закрыл книгу и встал:
— На что жалуетесь, молодой человек?
Вот тебе раз! Что это ещё за вопрос: да на что только я не жалуюсь… на счастье своё, на безденежье, на превратности этого мира и на тысячи всяких неустройств. Чудной он какой-то, какое ему до этого дело?..
— Что у тебя болит, юноша? — спросил доктор уже с раздражением.
— Да ничего не болит, здоров я, как кремень, — сказал я изумлённо.
— А что тебя привело ко мне?
— Меня Арчил послал. Хлеб вам принести сейчас, или вечером?
— Извини, дружок, а я принял тебя за больного. Арчилу же передай, что хлеб мне сегодня не нужен, а завтра утром пусть будет так любезен, пришлёт три хлеба, понял?
Я нехотя натянул свою убогую одежду и вышел еле волоча ноги. Когда я вошёл в лавку, Арчил и Кечо уже завтракали. Напрасно в прошлую ночь Кечошка убеждал меня, что неделю есть ничего не будет, он глотал такие огромные кусищи, будто девять дней во рту и крошки не держал. Я, разумеется, присоединился к завтракавшим. А поев, снова встал за прилавок.
В лавку заглянула какая-то старушонка в чёрном платье. В одной руке она держала палку, в другой — четырёхугольную корзину:
— Хлеб у тебя свежий?
— Только из тонэ, бабуся, сколько фунтов желаете?
— Взвесь три хлеба.
Я положил на весы три шоти.
— На пять пятаков.
— Смотри, чтобы сырые не оказались, не то обратно принесу, да голову тебе ими проломлю.
— Подумаешь, напугала, голову можно проломить хорошо испечённым хлебом, ну а от теста что мне сделается, — засмеялся я.
Старуха покосилась на меня и, ничего не сказав в ответ, вышла за дверь. В это время в лавку вошёл Арчил, он слышал разговор и строго обратился ко мне:
— У тебя, милейший, длинный язык. Эдак ты мне всех покупателей разгонишь.
— Не гожусь — не надо, что свет клином на этом месте сошёлся?! — вспылил я.
— Что-о! — заорал Арчил, — противный рачинец! Тоже мне ещё, разобиделся, уходи, батоно, удерживать за подол не стану, скатертью тебе дорога! Ты из тех, что на одном месте долго не задерживаются. Давай-ка, давай, убирайся подобру-поздорову.
Он замахнулся и напоролся рукой на большой ржавый гвоздь, глубоко вбитый в полку. Выругался в сердцах — так, мол, и так, того, кто тебя сделал, схватил его, потянул и, вытащив легонько, зашвырнул далеко за стойку. Это меня испугало гораздо больше, чем его гнев.
«Ну, — подумал я, — если он с гвоздями так справляется, то ему всё нипочём. Страшно с таким дело иметь, не понравится ему что-нибудь, он кулаком р-раз! — и душу из меня вытрясет. Уберусь-ка я отсюда, пока ноги целы».
— Нет, не по мне ремесло пекаря, попытаю судьбу в другом месте, — поделился я своими переживаниями с Кечошкой!
— Ты что это, дурья башка! Белены что ли объелся. Вздумал тоже! Что касается меня, то я отсюда ни шагу… если только силой не погонит.
И правда, ел-пил он здесь до отвала, да и переспать было где. Так что пришлось мне уходить одному. Снова оказался я на улице, один, без хлеба, без пристанища.
Стемнело, кругом зажглись фонари. А я шёл, сам не знаю куда. Вдруг что-то ударило меня по спине, поглядел, узелок какой-то рядом валяется, поднял его, развязал, вижу денег пачку.
От удивления я даже рот разинул, сон это или явь, не пойму. Ущипнул себя — не сон. Благодаренье богу, такая действительность лучше тысячи красивых снов… Хвала всевышнему, не оставляет он человека в беде! Но тут в душе моей вдруг зашевелился червь сомнения. А не кроется ли здесь какой-нибудь подвох. Шут их разберёт, этих городских. Может, деньги в узелке фальшивые. Увидит кто у меня такие деньги, схватит да пригвоздит на большой площади к позорному столбу. Пропадай тогда моя буйная головушка! Известное дело, деньги с неба не падают. Правда, предку моему Гагнии сбросил когда-то господь-бог бурдюки, так то ж время другое было. А тут ловушка, беспременно ловушка! — Оглядываюсь я вокруг, кошусь туда, сюда, нигде духа человеческого не слышно…
«Чего это ты, Караман, — ругаю я себя, — в небе витаешь, опустись на грешную землю, оглядись вокруг, счастье рядом с тобою, наконец оно тебе привалило, бери его, не робей, чего отмахиваешься!»
Вдруг засветилось одно окно, оказалось, что стою я около большого каменного дома. Окно светится на втором этаже. Узелок определённо выброшен из него. Чёрт знает, счастье ли это или несчастье… Я почти был убеждён, что это подвох. Разве может пойти впрок то, что тебе не предназначено? Так не бывает.
«Осторожней, Караман, осторожней, буйная головушка! Это, определённо, дело рук какого-нибудь негодяя».
Из освещённого окна слышался какой-то шум. И тут я увидел чью-то тень с пистолетом в руке.
«Разбойники! — молнией проносится у меня в голове, — разбойники, никто другой не может быть!»
Не помня себя от страха, вбежал я в подъезд дома и поднялся вверх по тёмной лестнице, в мгновение ока оказавшись на втором этаже. Дверь была приоткрыта, но я всё-таки из приличия спросил:
— Можно?
Тут кто-то, притаившийся за дверью, схватил меня за горло.
— Попался, сукин сын!
«Господи! — обомлел я, — полицейские. Чего им тут надо?»
Полицейский, воспользовавшись моим замешательством, выхватил у меня узелок и надел на меня наручники. Я даже удивиться не успел.
— Кто дал тебе узел? — полицейский так свирепо завращал глазами, что у меня душа в пятки ушла.
— Узелок… узелок… не знаю, батоно, я думал… думал отсюда кто-то выбросил. Упал он мне прямо на спину, случайно, думаю, выпал отсюда, вот я и принёс его вам обратно.
— Каков мошенник! — полицейский хватил меня по шее и втолкнул в комнату. Там я увидел ещё двоих полицейских, один из которых стоял рядом с пожилым человеком в чёрной чохе, спокойно и с достоинством восседавшим в кресле. Другой рылся в пёстром сундуке.
— Не ищите, денег здесь нет, — пробасил мой пленитель.
Сидящий в кресле заскрежетал зубами и уставился на меня так грозно, словно нацелился двумя пистолетами.
— Это ещё что за шутки? — взглянул на меня шаривший в сундуке.
— Напарник разбойника. Узелок принёс, — ответил ему мой пленитель. — Вишь, каким волком смотрит, бандит проклятый!
— Ты часом не бредишь? Я своими глазами видел, как бандит с узелком бежал. Нет, здесь, наверно, какой-то другой трюк. Возьмём-ка их обоих в участок. Там разберёмся.
Человек в чёрной чохе снова грозно взглянул на меня, встал и с достоинством пошёл впереди полицейского. Я уныло поплёлся за ним.
Всю дорогу меня щедро угощали тумаками, зато Чёрная чоха шёл себе преспокойно — его никто не трогал. Я не совсем понимал, что произошло. Полицейским я казался сообщником бандита, это я уразумел. Но меня удивило другое: кому и зачем понадобилось напакостить мне, несчастному? Кому и что я сделал плохого в этом мире? Шёл я и думал:
— Господи, если уж написана мне на роду смерть, освободи меня от этой пытки, положи конец моим страданиям!
В участке меня расспросили обо всём подробно, кто я такой, где живу.
Я рассказал всё, как было, но мне не поверили. Били меня нещадно.
— Кто ты такой, сколько семейств ограбил, давно ли подружился с Дарчо? — приставали ко мне мои мучители.
Лишь в конце недели они поняли, что я не тот, за кого они меня принимали. Начало и конец того дела, в которое я влип, я узнал намного позднее.
Дарчо — человек в чёрной чохе, был известным бандитом. Он грабил семьи и магазины, крал деньги и золото, опустошал казну. Полиция давно преследовала его, но безуспешно. И вот, наконец, Дарчо накрыли в его собственном доме. Он, зная, что не пойман — не вор, решил освободиться от улик и выкинул узелок с деньгами за окно. И на горе узелок тот упал к моим ногам.
— О ты, родившийся в чёрный день, неужели в голове твоей не завалялась хоть крупица ума?! Что ты наделал, несчастный! — сказал мне Дарчо при расставании. — И себя погубил, и семью мою по миру пустил! Взял бы узелок и сидел бы себе преспокойно. Ну, кто, скажи на милость, стал бы у тебя его отнимать? Говорят, блажен вор, укравший у вора! Эх ты, несчастный, и сам не украл, и тем, что тебе в руки приплыло, не воспользовался… Ходи теперь с разинутым ртом да глотай мух на здоровье! Дурак!
Упрёк Дарчо заставил меня призадуматься. И правда, где только у меня были мозги? Нужно было бы удрать, и дело с концом. Но для этого смелость нужна. Не зря говорят, кто смел, тот и съел! А этой самой нечестной смелости мне как раз и не хватало. Так что пришлось-таки похоронить мои красивые мечты о том, что зазвенит, заструится чистый холодный ключ, у ключа этого вырастет раскидистое ореховое дерево, тут же под деревом появится покрытый камчатой скатертью большой стол, рядом красиво украшенное старинной деревянной резьбой кресло, в кресле госпожа Гульчина развалится, а нянюшка рядышком колыбельку начнёт качать, и наследник в ней мирно посапывать. Подумать только как легко умирают и оживают мечты!
«Эх, Гульчина, где ты теперь? Посмотрела бы хоть краешком глаза на своего Карамана непутёвого. Счастье человеку привалило, в ногах у него валялось, а он его пинком отшвырнул далеко-далеко, а потом ему самому пинок дали: счастье, мол, тебе, дураку, дарили, а ты не взял! Один я в своём несчастье виноват, бесталанный! И зачем такому несчастному небо коптить, в пору головой об стенку, да расшибить её, глупому, успокоишься тогда навеки, Караман-бедолага!»
Поглядел я на каменную стену и, зажмурив глаза, двинулся прямо на неё. Но вдруг передо мной появился мой отец… показал он мне кулак и беззвучно, так, чтобы только мне одному слышно было, прошептал:
«Выкинь-ка, сын, эти глупости из головы, знай наперёд — треснутая надвое голова целой не станет, вспомни, что я тебе говорил…»
«Прости, отец! Разве забыть мне твои советы да наставления? Это я так, ничего, дурь какая-то в башку взбрела, прости, родимый, не буду больше», — я поклонился тени отца и свернул на дорогу. Тут же откуда ни возьмись прямо-таки прилетела ко мне спасительная мысль:
«Мир велик: может, счастье снова запутается у меня в ногах, тут уж я ему не дам пинка…»
Не успел я так подумать, как в ногах у меня запуталась собака. Обозлился я и пнул её ногой прямо в бок, а сам отскочил в сторону, чтобы, господи избави, не укусила. Собака взвизгнула, посмотрела на меня, словно чему-то удивилась, и поплелась за мною следом.
Собачья доля и пот, обернувшийся серебром
Затем мы поменялись местами: собака бежала впереди, а я уныло плёлся за нею.
В сердцах хотел было швырнуть в неё камень да пожалел, уж очень она была несчастная — тощая, чёрная с отвислыми от уныния и голода ушами. Я даже пожалел, что пнул её, — ведь она приласкалась ко мне. А разве это по-человечески — бить в ответ на ласку?! У бедной бока ввалились от голода.
Эх, Караман, Караман, сейчас и ты голоден, как эта собака, а если кто-нибудь вместо милостыни даст тебе хорошую затрещину, каково это будет, друг, как это тебе понравится?
— Куци, Куци! — окликнул я собаку, — давай мириться.
Но она не подошла, обиделась, видно. Бредём мы, она впереди, я за ней… С верхнего этажа дома кто-то бросил собаке мясо и кусочек хлеба. Она, разумеется, накинулась на мясо, а я робко потянулся за хлебом, стряхнул с него уличную пыль и мгновенно, почти не жуя, проглотил. Заморили мы червячка и продолжили путь. Из лавок и домов собаке почти всё время что-нибудь бросали. И эту собачью долю мы честно делили пополам. Сначала ей это не очень нравилось и она шумно выражала своё недовольство, но потом наелась, привыкла и уж без меня не прикасалась к еде.
Привыкла собака и ко мне, я с нею тоже подружился. Сладок мне сделался собачий кусок. Вспоминал своего Сеируку, вспоминал, как он взбирался на горку, задирал голову и принимался выть, — меня звал.
Я всегда любил собак, и за любовь эту, видимо, воздалось мне: — отнял у меня бог человеческую судьбу, но зато дал мне собачью долю.
— Эй, ты, бродяга! — крикнул мне с балкона пышноусый мужчина, — ты чего это у собаки кусок отнимаешь? Смотри у меня, вот спущусь, да как надаю тебе!
— Что случилось? Чего ты кричишь, — съёжился я, — тебе куска для собаки не жалко, а я что, по-твоему, хуже её?
Усатый брезгливо посмотрел на меня:
— Говорят тебе, не тронь собачьего куска, не то…
Не знаю, как это случилось, но я вдруг вспомнил своего дядюшку и, гордо выпрямившись, сказал усачу:
— Я у собаки ничего не отнимаю, это она мне долг свой возвращает, понятно тебе… Когда я родился, дядя мой на охоту отправился и убил для меня зайца, так причитающуюся мне долю зайчатины собака съела, тогда я и звука не издал, съела ну и пусть, а теперь вот…
— Замолчи, бездельник, дармоед, шатаешься по улицам, как бездомная собака, а того не разумеешь, что собака имеет право съесть кусок, предназначенный человеку, а человек должен есть хлеб, добытый своим потом. Ступай, ступай отсюда, пока ноги целы, разглагольствует тут!
Что тут возразишь! Правде рта не заткнёшь. Горько мне стало, так горько, что если бы земля разверзлась и поглотила меня живьём, и то бы легче было. Нахлобучил я на самые глаза свой каракуль и свернул на другую улицу.
Тяжко мне было, и отчаяние такое охватило, что ноги подкосились. Никто не хотел меня кормить, да и не собака же я, в самом деле, чтобы меня другие содержали. Оставалось одно: спуститься вниз к реке, взять камень и размозжить себе голову.
И вдруг я почувствовал чьё-то ласковое прикосновение: это собака ткнулась носом в мои ноги, она словно поняла как мне плохо и глядела прямо в глаза с такой преданностью и любовью, что мне вдруг захотелось расцеловать её морду. А она, прочтя в моих глазах ответную любовь, снова прикоснулась ко мне. Ночь мы провели с нею вместе в ветхой лачуге у реки. Она улеглась рядом со мною, и я обнял её, как лучшего друга.
Было холодно, и собака своим теплом грела меня. Я слышал, что собачья кровь горячей человечьей, и это оказалось истинной правдой.
Не чувствуя больше одиночества, я погрузился в сладкий сон; тепло, если даже оно исходит от собаки, поддерживает и ободряет. Даёт надежду!
Так продолжалось целую неделю. Но как-то на рассвете, находясь ещё во власти сна, я почувствовал, что собака вскочила и, отряхнувшись, вышла из хижины: пыль и шерсть полетели мне в глаза.
Заложив руки под голову, я уставился в потолок и задумался. Долго ли мне ещё жить, питаясь собачьими объедками и согреваясь собачьим теплом? Нет, долго это продолжаться не может! Ведь я сын человеческий, и меня начинала уже томить тоска по обыкновенной человеческой жизни.
Думал я думал, пока солнце не взошло, да так ничего и не придумал. Вышел во двор, посмотрел на плывущие по небу облака и вспомнил вдруг о друге своём Кечошке. Как-то он там? Не упал ли вдруг в тонэ? Надо сходить, посмотреть.
На этот раз собака со мною не пошла…
У лавки Арчила собралась огромная толпа. Я испугался, может, действительно Кечо в тонэ угодил? Знаете ведь, люди любят всякие зрелища, свадьба там, смерть, всякое бывает… Что это не свадьба, я хорошо знал. Подошёл ближе — и от удивления рот разинул. Людей здесь собралось великое множество, и все торопились хлеб купить. Кто посмелее — кулаками расчищал себе дорогу, — чтобы вперёд пролезть. Долго я ходил вокруг да около, но пробиться к Кечо было невозможно. Лавка походила на сказочную крепость, без окон, без дверей.
— И чего это народ из-за хлеба так с ума сходит? — спросил я у какого-то мужчины.
— Не хлеб это, а лекарство, — ответил мне тот.
Я ничего не понял и обратился к другому. Этот тоже пробормотал что-то невразумительное и, досадливо отмахнувшись от меня, устремился в толпу.
Такая неопределённость ещё больше разожгла моё любопытство, и я обратился к стоявшему в стороне старикашке на костылях:
— Не скажете, дяденька, что здесь происходит?
— Слух такой, племянничек, прошёл, будто печёт Арчил такие хлеба, что от всех болезней лечат. Не знаю, правда ли. Неужто благословенное грузинское тонэ такую силу имеет? Может, оно действительно станет источником бессмертия?! Не знаю, не знаю, — пожал он плечами.
Я тоже пожал плечами. Вот здорово! Если хлеб из грузинского тонэ станет источником бессмертия, а каждый грузин бессмертен, тогда полмира бессмертным будет. Доброго человека мы нашим хлебом накормим, а злого… зло вообще исчезнет, умрёт оно с голоду!
— Правда, что здесь раздают лекарство бессмертия? — спросил я ещё у одного.
Тот лишь свирепо посмотрел на меня, нашёлся, мол, ещё здесь Фома-неверующий. Ничего не добившись толком, я повернул к базару, а дела Арчиловой лавки так и остались для меня загадкой…
Смешно, конечно, ходить на базар, когда в кармане твоём даже сироты-гроша не завалялось, да что поделаешь, плачет, стонет пустой желудок. Брожу я в надежде встретить кого-нибудь из наших, сакиварских, может, одолжат монетку-две, а колени у меня от голода, как зубы у старухи, подкашиваются… Но никого не встретил.
Около базара заметил что-то похожее на огромный гриб, люди облепили его, как мухи. Наверное, что-нибудь интересное: дай, думаю, подойду, душу отведу… Лодки плывут без воды, скачут в воздухе кони, парят окаменелые, со сложенными крыльями, лебеди. На конях — мальчишки, в лодках — взрослые с детьми на руках…
Это была карусель. Её окружала проволочная ограда с узкой маленькой дверкой. Когда я подошёл, карусель остановилась и поднялся невероятный шум, потому что дети стали соскакивать вниз. Их никто не сгонял, они сами послушно ушли, а их место заняли другие.
И карусель снова завертелась, снова поплыли в воздухе кони, лодки без весел и белокрылые лебеди.
Эх! Если бы у меня в детстве такое было! Влез бы я на коня, и попробуй кто-нибудь меня сбросить! Но откуда у деревенского мальчишки такое счастье?.. Хотя, впрочем, деревянная лошадка не хуже такого вот коняги, она-то на земле всеми четырьмя ногами стоит и так вот всё время на одном месте не кружится в воздухе, а ведь вы не хуже меня знаете, что горе тому, кто оторвался от земли и висит в воздухе.
— Ты чего это, парень, рот разинул? Хочешь разок полетать? Прокачу со свистом, с полным твоим удовольствием, — крикнул мне стоящий внутри ограды мужчина с лихо закрученными усами.
— И-и! — беспечно махнул я рукой, — этот зуб я давненько выдернул!
— Ты что, из деревни, что ль?
— А что, разве не похоже?
— Да по одежде как будто нет, а вот рожа — явно деревенская. На заработки приехал?
— Ремеслу хочу учиться.
— Ну и что же?
— Ещё не выбрал.
— В подёнщики возьму, хочешь?
— А что мне здесь делать? Этих вот каменных коней седлать, что ли?
— Видишь вон того человека? — он указал на крышу карусели.
— А чем этот дяденька занимается?
Как чем, не видишь разве, карусель крутит.
До сих пор мне казалось, что кружилась она сама собою.
С завтрашнего дня он уходит. Так что соглашайся в обиде не останешься, жалованье хорошее положу, да и работа несложная. Ну надумал? А то я на обед спешу, если да, пойдём со мною, там ещё потолкуем, думаю, договоримся.
При упоминании об обеде я уже не мог отказаться. Мы зашли в базарный духан, хозяин спросил горяченького. Поели, распили кувшинчик вина и ударили по рукам. Отобедав, я тут же принялся за работу, залез под самую шапку карусели. Налёг. Прежний крутильщик тут же рядом стоял. Сначала было трудно, я сделал усилие, она заскрипела, затрещала, как немазанная арба, и пошло… Хозяин дал знак, останови, мол, время уже. Я налёг на ось и давай!..
— Нравится? — спросил меня Артём, так звали хозяина.
Главное было, конечно, не в том, нравится ли это или нет. Где я ещё мог найти работу?!
— Девятая часть выручки твоя, согласен?
Я согласился.
Месяц без отдыха крутил карусель и не уставал. Не знаю, платил ли мне Артём действительно девятую часть выручки, я не проверял, но на вырученные деньги купил себе чоху-архалук, крепкие солдатские сапоги, и, простите за откровенность, исподние.
Ел до отвала и не одну чарку вина выпил. И гроши у меня завелись. Правда, с утра до позднего вечера я работал, но работа была выгодная, и я не ленился.
Ночевал в палатке, рядом с каруселью. Артём тоже. Жили мы беспечно, охотников покружиться не переводилось, пот с моего лба стекал серебряными грошами, что сыпались вокруг карусельной оси, а я загребал их горстями и запихивал в карманы новых штанов. Я так привык вертеть карусель, что крутил её даже в дождь, когда детей и в помине не было.
Тоскливо мне становилось, вот и крутил, чтобы развеять печаль.
В жаркий полдень Артём стащил с карусели двух мальчишек:
— Ну-ка марш отсюда! На дармовщинку у меня не покатаешься. Выкладывайте денежки!
Мальчишки принялись шарить в карманах с таким усердием, будто у них и вправду там что-то лежало, а в глазах их я увидел такую печаль, что сердце моё больно сжалось и слёзы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. Но слёзы я спрятал, а им бросил немного мелочи:
— Пусть будет вам даром пешкеш! Я ведь тоже был когда-то ребёнком!
Глаза у них заблестели, они протянули Артёму деньги и весело вскочили на коней. Ох, как они были счастливы! Все махали мне руками и улыбались; а когда я остановил карусель, они предложили заменить меня: ты уж отдохни, мы покрутим.
Я тотчас же согласился.
Но дорого обошлась мне моя доброта и помощь этих ребят. Не забегайте вперёд и не думайте, что мальчишки поломали мне ось карусели. Нет, этого они при всём желании сделать бы не смогли. Карусель, как ты её быстро ни крути, с дороги не свернёт, она ведь не арба, чтобы перевернуться… Правду говорят, не делай добра, чтобы не получилось зла…
Увидел Артём, как легко покатили ребята карусель, и стал потирать себе лоб. После того он весь вечер только и вздыхал:
«Эх, где мои глаза до сих пор были», а наутро позвал меня и говорит:
— Извини меня, браток, что так получилось, но не нужен ты мне больше.
— Это почему, батоно Артём, чем я тебя обидел?
— Да вот так, выходит я тебя зазря держал, не уразумел того раньше, а теперь вот прозрел.
— И это называется зазря? — показал я задубелые ладони.
— Нет, конечно, не совсем зря я тебя держал, однако мог за такое дело совсем денег не платить…
Когда карусель заполнилась ребятами, Артём закричал во весь голос:
— А ну, кто хочет на лошадях без денег прокатиться, пусть поднимается наверх, да покрутит карусель.
Желающих оказалось больше чем достаточно.
Упрекать было некого. Сам я был виноват в своём несчастье, сам наточил нож, который перерезал мне глотку…
Не зря говорят, если б знал, где упасть, там соломы б подстелил.
Я распрощался с Артёмом и с его каруселью и пошёл по улице с такой тяжестью в груди, словно в ней застряла пуля. Да, умный человек не должен забывать, что если конь не упирается ногами в землю, садиться на такого коня не следует.
Разорённая лавка и соблазнительная женская улыбка
Потерял я жирный, лакомый кусочек, а вот надежды, её-то я не терял. Не такой я человек, чтобы легко сдаться, пусть хоть сотни громов на меня обрушатся, не сломят они моего упрямства.
К тому ж все карманы у меня были полны денег.
В городе, вы ведь сами хорошо знаете, коли имеешь деньги, что тебе ещё надо, ты и человек, и шапка на тебе надета. Здесь деньги самый верный друг. У кого в карманах гроши не звенят, того и лёгкий ветерок с ног свалит, а у кого золота много, тому все ураганы и бури нипочём. Денежный человек в середине зимы весну достанет, а у бедняка и в середине лета всё будет по-зимнему.
Вспомнил я вдруг, что мне негде переночевать: одновременно с лёгкой работой я потерял и даровой кров. Что было делать, не оставаться же под открытым небом? Холод меня не страшил, но городовой, бррр… его я боялся больше всего на свете. Если он спросит, где я живу, что мне ответить? Притвориться немым? Потащит в полицию, а там в два счёта заставят заговорить. Вот где страх-то! Я-то ещё не забыл историю с Дарчо.
Шёл я улицей и всех расспрашивал, не сдаёт ли кто комнату. Указали мне адрес одной старухи. Она распахнула передо мной двери крохотной каморки.
— Что это, мамаша, комната или гроб? — невольно сорвалось у меня с языка.
— Зато сдаю дёшево, сыночек… А одному, куда больше?
В комнате стоял топчан с тюфяком. При виде постели я без разговоров уплатил за две недели вперёд, тут же, не мешкая, растянулся на ней, как медведь, и тотчас же уснул. Мне приснилась Сакивара. Сначала я обнял маму, потом бросился на поиски Гульчины… День накормил меня перцем, а ночь — мёдом. Перец был настоящий, а мёд я увидел только во сне…
Утром решил повидать Кечо, уж больно соскучился я по этому паршивцу, и кроме того, тайна Арчиловой лавки нет-нет, а тревожила моё воображение. Как-то там мой Кечошка поживает?
У лавки Арчила суматоха пуще прежней, крики, вопли самого неба достигают.
— Так, мол, и так его и мать его! — кричит один.
— Вот одурачил, так одурачил, — бормочет другой.
— Слышал ли ты, кацо, что-либо подобное? Облапошил нас этот негодяй. Попадись он мне, поплачет мать его! — грохочет третий.
— Слава аллаху, я до него не достану!
— Эх, куда я попал, — разводит руками пятый.
— И что это он придумал, совсем стыд-совесть потерял! — Не грузин этот Арчил вовсе. Ей-богу, грузин такого не сделает, — возмущается стоящий тут же седобородый старец.
— Говорят, он из-за тридевяти земель пришёл и зовут его вовсе не Арчилом.
— Убить его мало!
— Уничтожить!
— Смерть обманщику!
В воздух взвились кулаки, разъярённая толпа принялась осаждать лавку.
До сих пор я стоял, словно язык проглотил, но теперь вдруг неожиданно для самого себя истошно завопил:
— Люди добрые, что случилось, объясните, люди добрые!
Никто не обращал на меня никакого внимания: каждый старался перекричать другого.
— Задушить!
— Задом наперёд на осла посадить!
— В раскалённое тонэ его!
— Убъём, изничтожим!
— Что случилось, что такое?..
Какой-то чернявый бородач схватил камень и швырнул его в лавку. Камень попал прямо в вывеску, туда, где по-русски было написано «Хлеб». Из лавки не доносилось ни звука. Она словно вымерла. Толпа, между тем, неистовствовала, крики становились всё грозней.
— Негодяй!
— Безбожник!
— Лжец! — кричали отовсюду.
К вечеру народ у лавки гудел как лавина…
…Вдруг я увидел Арчила, его выволокли откуда-то изнутри и усадили верхом на осла, задом наперёд. Волосы у почтенного булочника были всклокочены, а широко раскрытые и полные страха глаза блуждали, как у помешанного. Камни, навоз и грязь полетели прямо в голову несчастному. Грязь в Тбилиси иногда и сейчас встречается, а тогда и подавно недостатка в ней не было.
Я втёрся в толпу.
— Что случилось, люди, что вы делаете с уважаемым человеком?! — обратился я к мужчине в долгополой чёрной чохе.
— А-а! Видно, ты его прихвостень! — заорал на меня тот.
— Нет, господин, знать его не знаю, — я опасливо отступил назад, боясь как бы он не влепил мне хорошую оплеуху.
— Ты, что, парень, с луны свалился, весь город про Арчиловы козни гудит, а ты, как сыч, ничего вокруг не видишь и не слышишь.
Осла, на котором сидел Арчил, прогнали через весь город и остановили у Метехского моста. Ссадили несчастного, раздели догола, перевязали руки верёвкой, к ногам привязали большущий камень и бросили в Куру.
— Господи! — вырвалось у меня, но я тут же прикусил язык.
— Так тебе, так, собачье отродье! Думал нас одурачить, не прошло это тебе даром! — приговаривал рослый детина.
— Ну, сейчас его мясо в Куре всё рыбы по кусочку растащат, — злорадно рассмеялся кто-то в толпе.
— Не нужно было его в Куре топить, он, поганец, всех рыб нам перетравит, — прошипел одноглазый старикашка.
Я уже не мог успокоиться, меня волновала судьба злосчастного Кечошки.
— Вы уж простите меня, батоно, за назойливость, но у него, ирода, один рачинский парень работал. Кечо его звали, не слыхали ли, куда он подевался?
— А кто его знает? У Арчила в последнее время много всякого люду работало, было там всякое: одним голову раскроили, другие успели убежать.
— Ой, ты мой Кечука, родименький мой! И для этого я тебя, беднягу, в город привёз! — заголосил я, сам того не ожидая и, не помня себя от горя, ринулся к лавке.
Тут царила такая тишина, словно ангел смерти пролетел. Я осторожно постучал в дверь, но никто не отозвался. Попытка, говорят, половина удачи, постучался ещё раз.
— Кто там? — послышался слабый голос.
Я узнал его, это был голос моего друга, только почему-то дребезжащий и картавый. Но, главное, я услышал его. Я благословил небо и землю за ниспосланное нам обоим счастье.
— Чтоб ты сдох, проклятый, чтобы тебя громом разорвало, не узнал меня, что ли! — закричал я во всё горло.
— Кто ты, человек, имени, что ли, у тебя нету? — донеслось мне в ответ.
— Да Караман я, Караман, дурья твоя башка, забыл, что ли?
— Ты один или как?!
— Нет, со мною полк солдат.
— Как там на улице, никого не видно?
— Камней вокруг много лежит!
Дверь осторожно приоткрылась, я вошёл внутрь, там было темно. Кечошка взял меня за руку и повёл в комнату, где печи. Здесь едва-едва мерцала коптилка, все три тонэ были разбиты и, словно наевшиеся до отвала свиньи, валялись опрокинутые корыта.
У Кечо была выворочена челюсть, и вообще на нём лица не было.
— Чтобы ты сгинул, Кечойя, что это с тобою стряслось, бедняга, лицо, словно кисеёй закрыто? — стал я его расспрашивать так, будто бы ни о чём и не подозревал.
— И не спрашивай! — махнул он в ответ, и глаза его подозрительно заблестели: — Я ещё легко отделался.
— Покажи-ка мне рот.
Он приблизил ко мне своё лицо.
— Что это, камень в тебя попал? — спросил я наивно.
— А ты что думал, — тестом я себе что ли зубы выкрошил.
— Ах, бедняжечка, ах, несчастный, и сколько их у тебя выбито, четыре, кажется, да?
— Мне так помнится, три я выплюнул…
— Четвёртый ты, наверное, проглотил и не заметил как. Эх, дай господь тебе терпенья, больно небось было?
— Рачинец я, по-твоему, или не рачинец, чтобы мне такой вот крохотной боли не вытерпеть.
— Балда ты, вот ты кто, ты чего в Тбилиси приехал, зубы, что ли, сеять?!
— Нашёлся тоже уму-разуму меня учить. Ты скажи, каково тому, кто голову потерял, второй головы себе не приставишь, а зубы что?! Подумаешь, каких-то четыре зуба! Слава богу, осталось ещё двадцать восемь в запасе, — обнадёживал себя бывший главный подручный Арчила.
Горькое это утешение!
Я смолчал, но, как известно, горе или радость долго молчать не любит. Молчание нарушил Кечошка:
— Ужасное с нами стряслось, ужасное. Ты слышал?
— Так, кое-что.
— У этого пройдохи и вправду покупателей было полным-полно. Да, видно, и впрямь ненасытно сердце человеческое, ничто, кроме земли, его не насытит. Прослышал где-то этот грешник Арчил такую историю, будто у одного авлабарского виноторговца вино в запрошлом году скисло, он возьми да и подкупи какого-то врача, а тот и скажи, что, мол, такое вино от девяти разных болезней лечит.
— Правда, а народу много ли надо, шепни ему только в ушко, дескать, пригодится оно, как лекарство, так он тебе уголь как сахар разгрызёт, зеленью как бычок наестся, винные жмыхи как мёд высосет, а собачье мясо что твои оленьи шашлыки съест… Сладка жизнь, сладка, знаю… — говорю я, а у самого чуть-чуть не вырвалось: «это уж точно, и чему ещё, кроме этого, меня в тюрьме научить могли».
— Ну, что вам сказать, вот и Арчил, видимо, решил на подобном плутовстве выстроить себе золотой духан. Жил здесь неподалёку какой-то лекаришка, славы за ним особой не водилось, да вот случайно удалось ему вылечить какого-то большого человека, кажется, городского голову, с тех пор и повелось. Народ к нему валом повалил, стал он известен. Вот к этому-то шарлатану обратился Арчил, отвалил ему солидный куш и стал уговаривать: твоё слово в городе на вес золота, хвали в народе испечённый мною хлеб — золото к тебе рекой польётся. А тому что — открыл себе рот и замолотил, что мельничный жёрнов, благо язык без костей: «Арчил, мол, такой хлеб печёт, съешь кусочек — болезни все как рукой снимет».
А кто-то в народе пустил слух, будто лекарь вылечил городского голову Арчиловым хлебом. Видать и вправду, хлеб этот лучше Христова хлеба, пошутил один, но шутку эту приняли за правду. А Арчил тем временем подкупил ещё одного человека, каждое утро отсылал он ему бесплатно хлеб, а тот в свою очередь шептал всякому, кого встречал: «Вах! Не знаю, хлеб это или бальзам! С тех пор как ем его, ни разу ничем не болел!» Потом прошёл слух, будто в лавке Арчила продаётся эликсир жизни, и тонэ у него не затухала ни днём, ни ночью, построил он три новых тонэ и сманил из соседних лавок пекарей. А за хлеб ему платили теперь золотыми монетами, число же покупателей росло с каждым днём — раз продаёт так дорого, значит, вправду это необыкновенный хлеб, решили люди. Сам Арчил потерял покой и сон, высох, как спичка, и мне житья от него не было. День и ночь я мешал дрожжи и месил тесто, так что руки у меня удлинились вдвое, а до этого был я, знаешь ведь, короткоруким. Истомился, отощал, но деньги ко мне шли. Счастье наше, между тем, длилось недолго. Хозяин соседней хлебной лавки пустил вдруг вредный слушок — плутует Арчил, и вовсе не бальзам у него, а обыкновенный шоти, как у всех других. И представь себе, ему скоро поверили. Такова уж природа человеческая. Сначала, правда, колебались: «Но некоторые больные ведь выздоровели?», — говорил с сомнением кое-кто.
— Это они сами по себе, вовсе тут Арчиловы шоти ни при чём. Ну, выздоровели двое-трое, а тысячи людей всё ещё мучаются от сердца, ревматизма, печени, желудка… так чем же это объяснить.
И вот осадили лавку, в пух и прах всё здесь разнесли, деньги отняли, а самого хозяина вышвырнули отсюда пинком в зад. Одного подручного убили тут же во дворе, другие спаслись бегством.
— А ты-то чего дожидался? — не сдержался я.
— Куда мне было идти? Денег у меня нет, и доверия ко мне тоже… — глаза у Кечошки налились слезами.
— Ах ты, верблюд! Смотрите на него! Распустил нюни из-за этих проклятых денег! Держи-ка, на считай, и вправду настоящий верблюд! — я сунул ему в руки пачку денег, потянул его за рукав и заставил встать.
— Забирай, брат, свои жалкие крохи обратно! Зачем они мне. Что я, по-твоему, приехал в город милостыню просить?!
— Скажешь тоже, жалкие.
— Если ворованные или обманом нажитые, тогда и вовсе! — он так отдёрнул руку, словно её пламенем обожгло.
Деньги упали на скамью, я подобрал их и снова протянул Кечо:
— Неужели ты обо мне такое подумал. Ну могу ли я, скажи на милость, воровать или обманывать? С чего это ты придумал! Там, на базаре, вот этими руками крутил я карусель… И всё это заработано трудом и потом. Так бери же, бери, дурень!
— Сказал, не хочу!
— Ну, брось ломаться, бери, говорю, не то обижусь. Будут у тебя, вернёшь мне.
— Взаймы даёшь? Это можно. А сколько тут?
— Не знаю, сам сосчитай!
Кечо четырежды пересчитал деньги и положил их в карман. Морщинки на его утомлённом и расстроенном лице разгладились.
— Что поделаешь, в жизни всякое случается, — пытался я утешить друга и повёл его на свежий воздух.
Но гулять он оказался не в состоянии, поэтому мы повернули к моей каморке. Я уложил его.
Вскоре он уснул как убитый. Утром проснулись мы поздно. Я по-царски угостил своего гостя — горячий хлеб с люля-кебабом были уничтожены вмиг.
— Хорошо, что в этом распроклятом городе есть у меня ты, что бы я без тебя делал! Спасибо, Караманчик, спасибо, родной! А теперь пойду-ка я своей дорогой! — сказал Кечо и поднялся.
— Куда собрался?!
— Мир велик. Пойду, поброжу, авось, подвернётся честному человеку какая-нибудь там работёнка. На станцию толкнусь, может, кому вещи снести помогу, да и тонэ от меня не убежит, не все же плуты, как Арчил, найдётся порядочный человек, возьмёт меня к себе в подручные. Поживём, увидим…
Снова разошлись наши пути…
…Я предпочёл вместо теста месить грязь на улицах, да и тяжести носить, сказать по правде, у меня не было никакой охоты.
Слоняться по городу без дела мне было тоже не по душе, но всё-таки это занятие было куда лучше, чем пребывание в постоянной праздности.
На улице меня почему-то принимали за покупателя. Чего только мне не предлагали: папаху, чулки, чоху-архалук, конскую уздечку, медный кувшин для воды, ситец, чесучу, кацавейку, — словом всё, что только может пожелать человек. Эх, город, город! Были бы деньги, птичье молоко отыскать не трудно.
На одной из улиц наткнулся я на огромное окно. В окне стояла женщина с обнажённой грудью, изо рта у этой бесстыдницы торчала папироска, а из-под коротенького платья виднелись голые колени и волосы были коротко и красиво пострижены. Она, бессовестная, была так несказанно красива, что Гульчина, моя любимая, моя милая Гульчина представилась мне даже какой-то дурнушкой. Я уже не ребёнком был, усы у меня росли, и вообще я вдруг почувствовал себя мужчиной. Покрутился я около той женщины, осмотрелся, не подглядывает ли кто за мною, и снова к ней подошёл поближе. А она улыбается мне, смотрит эдаким зовущим взглядом, а сама, негодница, молчит, слова вымолвить не хочет, как немая.
Посмотрите вы только на эту сукину дочь, как она себя держит!
Вот штучка — так штучка!
Я проглотил слюну, еле оторвал от неё взгляд и двинулся в сторону.
Вспомнил, как отец перед отъездом мне наказывал на ружейный выстрел не подходить к этим… Нет, не забыл я об отцовских наставлениях, как сейчас слышу его голос:
«В городе всякие женщины бывают, могут улыбкой соблазнить они и обмануть мужчину. Не прикасайся ты к этим исчадиям ада, не то такую болезнь подцепишь, что нос у тебя провалится».
«Да, Караман, — стал я себя уговаривать, — смотри, не ошибись, эта, вероятно, тоже из тех. Не видишь разве, что она всем мужчинам улыбается и приглашает их в дом, заходите, мол, гости дорогие! Видать такой это дом, где женщин наряжают и… сами понимаете. Нет, нет, держись, Караман, держись, друг, не поддавайся».
Долго я боролся с самим собой, потом решил: «Пусть бог мне будет защитой!» Как быть, если мне так хочется снова увидеть эту проклятую, ну что делать, а? Ноги сами собой понесли меня назад, — если не взгляну снова на эту мерзавку, помру, помру, беспременно. А всё лучше, чем смерть!
Я встал прямо перед окошком и уставился на неё, а она на меня.
Я увидел, что она слегка косит, но смотрит не мигая, чтобы не заметили её недостатка, и всё улыбается… Я уж совсем позабыл о Гульчине, как вдруг дверь, что была рядом с окном, открылась, и из неё выскочил низенький пузатый мужчина. В одной руке он держал иглу с ниткой, в другой — намётанное платье.
— И чего ты здесь торчишь? Если заказчик — заходи, а нет, — так иди своей дорогой. Стоит здесь без толку и свет мне заслоняет! — заорал он.
Удивился я, какое отношение хозяин такого дома может иметь к шитью? Потом вдруг злость меня взяла, и я сказал ему грубо:
— Чего ты кричишь, что я тебе, ребёнок? Утихомирься, не то так закричу, что медведь в середине зимы из берлоги выскочит! Подумаешь, не видал я таких раскрашенных, размалёванных, нашёл чем гордиться! Что я, по-твоему, хам, деревенщина, женщину в первый раз вижу?!
— Какая женщина, что ты плетёшь? — удивился толстяк.
— Да вон та, распутная, которую ты в окне поставил, разрази тебя Гавриил-архангел и отец всевышний, тоже ведь скажешь — человек ты, и шапка на тебе надета!
— А кто я, по-твоему, такой?
— Ну кто, кто, везирь царя! Хозяин ты в том духане, где женщинами торгуют, и больше ничего. Нашёл чем хвастать, большое дело!
Я думал, он мне скандал учинит, а он схватился за живот и начал хохотать и трястись как сумасшедший, так, что из глаз у него аж слёзы полились. На шум выглянула пышногрудая женщина:
— Что случилось, Шалом? — удивилась она.
— Ха-ха-ха! Погляди-ка на этого деревенщину. Дуралей решил, что это бордель, а манекен — настоящая женщина. Ха-ха-ха, у-у-у!!!
Тут у Шалома начался безудержный кашель, он замахал руками и забежал обратно.
А женщина в окне снова улыбалась мне раскосыми глазами и снова молча курила, но дыма не пускала…
Я стоял поражённый. Не хотелось верить, что она не живая.
Сердце моё было разбито. Весь день в голове у меня вертелась какая-то чепуха. Вот, что значит молодая кровь! Даже чучело женщины заставляет сердце бешено стучать!
Молодой месяц и шары, улетевшие в небо
Задумчиво брёл я своей дорогой и оказался на тихой садовой тропинке. Кругом была такая тишина, что на миг я даже испугался.
Молодой месяц высунул свой рог из-за туч, словно с высоты хотел подсмотреть, что творится на земле.
А я на него уставился, иду, под ноги себе не гляжу, они сами меня куда-то несут. Вдруг слышу:
— Деньги у тебя есть?!
Я словно оцепенел от страха, втянул голову в плечи, весь съёжился и жду, что будет. Потом с опаской оглянулся на говорящего, ожидая увидеть какого-нибудь детину с револьвером или кинжалом, но вижу стоит передо мною хорошо одетый господин, а в руках у него вместо оружия палка с резным набалдашником. При виде этой палки я почему-то испугался ещё больше. Вспомнилось, как один наш сакиварец привёз из города огромный кнут, нажмёшь пальцем на рукоятку — выскакивает лезвие ножа — острое и блестящее. Вот я и сообразил: если в рукоятке кнута можно было прятать нож, то, представьте, что могло уместиться в такой длинной палке?! Язык у меня прямо-таки отнялся, и я забормотал что-то невнятное.
— Эй, ты, оглох, что ли? Есть у тебя деньги?! — снова спрашивает меня человек с палкой.
Я оглянулся: вокруг никого, и звука шагов даже не слышно.
Опустил руку в карман и вытащил оттуда все, какие у меня были, деньги.
— Вот, дорогой, возьми, всё возьми, только не убивай меня, ведь я один-единственный у родителей!
— Кому нужна твоя жизнь, кретин! И что это вообще за деньги? — рассмеялся он и легонько поиграл палкой.
«Ну всё, настал мой конец, сейчас он вытащит нож или пистолет», — подумал я и согнулся в три погибели.
— Да падут на меня все твои беды, вот тебе чоха-архалук и чувяки — пусть пешкеш будут, если подойдут. Вечер, правда, холодный, но уже как-нибудь обойдусь, ничего, что голым домой приду, я к этому привычный.
Человек слушал меня, слушал, да как выпучит глаза:
— Ах ты, негодник, ах ты, сукин сын! Что ты вообразил? Кто я, по-твоему, такой!
— Да уж угадать не трудно, генацвале, такие как ты всегда хорошо одеты. Смелый ты человек, упорный, страха не знающий… вор… — Я вдруг спохватился, слышал, что настоящего разбойника обижает, если вором его называют. Так обычно говорят о мелких жуликах. А настоящий разбойник стыдится этого. Поэтому и поспешил я загладить свою невольную ошибку. — И как это я оговорился, да прости ты меня, разволновался немного. Кто же тебя не знает. И в газете ты недавно нарисован был, знаю — разбойник ты… большой разбойник, известный во всём мире…
— Нет, вы только на этого балду поглядите! — возмутился человек с палкой и, сплюнув, пошёл от меня прочь.
Я стоял не шевелясь, сжав деньги в потной, дрожащей руке.
«Это действительно большой разбойник, — решил я, — конечно, он не позволил себе взять вот такую мелочь. А если не разбойник, то кто же он?! Неужели я обидел почтенного человека»?
Подумав об этом, я положил деньги в карман и побежал вслед за незнакомцем:
— Простите, кто же вы такой? На шута вы как будто не похожи. Если не хотели отнимать у меня деньги, то зачем же тогда о них спрашивали!..
— Ты что, деревенский?
— Да, а что?
— А то, что всем деревенским мерещатся в городе разбойники.
— Вообще-то, сказать по правде, хорошего человека от разбойника здесь отличить трудно. Ведь большей частью одеты все одинаково…
— Ну ладно, прекратим болтовню! Вот это ты видишь? — Он простёр трость вверх и указал на луну, которая всё бежала от туч…
— А что, в городе запрещается смотреть на луну? — поинтересовался я.
— Ты что, дубина, бредишь? Не видишь разве, что это молодая луна. Я увидел её над твоей головой, потому и спросил о деньгах, понятно тебе, болван? — он отвернулся от меня и пошёл потихоньку дальше, а я опять стоял и раздумывал. Припомнилось мне, как бабка моя говорила: «Если увидишь молодую луну над головой человека, у которого карманы полны денег, будет у тебя целый месяц удача и изобилие, а если кого с пустыми карманами встретишь, — то не жди ничего путного». Жаль мне стало человека с палкой, снова побежал я за ним.
— Погоди, батоно, негоже отпускать тебя с разбитым сердцем. Не так уж беден я; это в кармане у меня один грош завалялся, а все остальные деньги в поясе брюк зашиты. Так что не огорчайся, месяц тебе удачный предстоит.
— Пошёл вон! Тоже привязался! Ну тебя к чёрту!
— Чего, батоно, чего сказать изволите? — не понял я.
— Если бы не жаль мне было этой палки, сломал бы я её о твою голову! — разозлился он и, стукнув ею об землю, ушёл так поспешно, словно боялся, что я снова нагоню его.
— Не хочешь добра, пусть бог тебе его не даст! — обиделся я.
Вдруг откуда ни возьмись передо мною вырос городовой.
— Стой! Что ты отнял у этого человека?!
Вот напасть, так напасть!
— Ничего, сударь, что я мог у него отнять?!
— Постой, — схватил меня за рукав городовой. — Знаю я тебя. Ограбил почтенного человека, а теперь убегаешь! Не удастся! Стой — я должен обыскать тебя.
— Чего тебе от меня надо?! — я вырвался и пустился наутёк.
— Стой, не то! — В руках у городового оказалось оружие. — Поделись со мною и иди своей дорогой.
— Пойдём, догоним того человека, пусть он скажет тебе, что я у него взял, — человек, если он прав, всегда смел. Если бы я был обманщиком, то, вероятно, не перечил бы городовому так бесстрашно.
Теперь мы вдвоём догнали господина с палкой.
— Простите, простите меня великодушно, но я ещё раз должен вас побеспокоить, — обратился я к нему.
— Вах! Что за нахал! Пока я не обломаю палку об его голову, он от меня не отвяжется! — перенёс человек палку в левую руку, а правую сжал в кулак и сердито погрозил мне.
— Не моя это вина! Городовой думает, что я вас обобрал.
— Ты… ты меня? Господи, чего только не услышишь, ха, ха, ха! Не хватало мне ещё по судам бегать. Кого ты можешь ограбить, ха, ха, ха! Вот уж, действительно, посмеялся от души, ха, ха, ха! — кончив смеяться, он повернулся к городовому. — Он правду говорит, этот осёл, или дурачит меня?
— Правду, ваше степенство, издали мне так показалось…
— Да-а, потерял ты лакомый кусочек, — посочувствовал он городовому, потом достал из кармана мелочь и протянул её ему так, словно давал милостыню нищему. — На, пропусти два стаканчика и успокой свою душу!
— Дай вам бог!.. — городовой, не стесняясь, взял деньги, снял шапку и, извиняясь, покинул нас.
— Лучше бы мне и вовсе не видеть сегодня луны, — сказал мне человек с палкой и тоже ушёл.
Я возблагодарил бога за то, что отделался так легко. Если бы городовой вдруг спросил меня, что я делаю в городе, я бы, вероятно, растерялся, и тогда не миновать мне было полицейского участка…
На другое утро я снова пошёл в город, вглядывался в каждого носильщика, думал, может, Кечошку встречу, но тщетно. Не было его и среди дворников. По дороге попадались мне ослики, гружённые дровами, углём, фруктами, мацони и зеленью. Скрипели арбы. Лениво тянулись навьюченные буйволы. Я даже заметил двух верблюдов. В общем, улица была очень пёстрой и интересной.
Из кузницы доносился стук молота и шипение мехов, водоносы орали на всю окрестность, предлагая холодную родниковую воду, а щёголи красовались перед женщинами, и те улыбались им в ответ с ярко освещённых солнцем балконов. Тут и там сновали кинто с подносами, полными фруктов, на голове. По каменной мостовой громыхали фаэтоны и дрожки. Откуда-то неслись оглушительный звон сазандаров, вой зурны и гром дайры, перемежающийся хлопками.
Внезапно, возвещая полдень, загремела пушка, а затем раздался бой часов на башне; они прозвонили 12. Толпа на улицах тоже была пёстрая: у одного мундир, у другого фрак, — третий в куладже, а иной — в обыкновенном штатском костюме. У женщин платья — хабарда, почти во всю улицу шириной. Говорят, подол такого платья занимает почти восемь аршинов земли.
А что вы думаете? Так всё и было!
Разморённая, ослабевшая от жары старуха погоняла облезлого осла. За нею следом тащился увешанный кастрюлями, усталый лудильщик. Уличные мальчишки в поисках развлечений приставали к старухе, кивая ей в знак приветствия:
— Здравствуй, мамаша всех ишаков!
— Здрасьте, дети мои! — не растерялась старуха.
Бездельники были обескуражены её находчивостью.
— Так вам и надо! — радовался лудильщик.
Хождение по городу не очень-то обогатило мои умственные способности, но в одном оно меня всё-таки убедило: деньги придают человеку красоту! Так и со мною: не было денег — ходил хмурый и печальный, а как зазвенело у меня в кармане несколько монеток, сразу и свету в глазах прибавилось, и спина выпрямилась, а из сердца всё песня мравалжамиер лилась.
В те времена очень мне цирк полюбился. Кто по-настоящему хочет развлечься, тот обязательно должен в цирк ходить. Город это вам не деревня. В деревне какие развлечения: смотришь на ссору собак или петухов да в лапту с пастухами играешь, а тут… Тут я впервые увидел, как медведь и лев слушались человека. Подумать только, сколько есть на свете людей, которых ничему научить не могли, а здесь даже животных выучили. Но больше всего в цирке мне понравился человек, которого называли «рыжим», Одет он был в широченные штаны, на ногах башмаки дырявые, нос у него большой и красный, всем этот «рыжий» подражал и смешил до слёз прямо-таки. А у одной беременной женщины живот от смеха лопнул прямо у меня на глазах, — хотите верьте, хотите — нет. Многим «рыжий» не нравился, но ведь знаете, если ко всем прислушиваться, недолго и с ума сойти, сразу станешь на Алексуну похожим!
Как-то поспорили двое. Один из них — чернявый сказал: «Такого фокусника, как рыжий, я нигде не встречал». — Другой, блондин, в ответ: «Что тут может нравиться, смысла в его шутках нет». Брюнет ему отвечает: «Нельзя во всём мудрость и смысл особый выискивать. Меня этот человек от тоски-печали своими шутками избавил, а уж после этого я душевное равновесие обрёл. Что же ещё, по-твоему, нужно»! Я этих людей не знал и поэтому не стал ввязываться в спор. А в душе соглашался с чернявым. Если обо всём глубоко задумываться, так и смеяться, выходит, совсем будет не над чем. А без смеха тяжело человеку жить на свете, поэтому не удивительно, что люди любят смех как жизнь. Конечно, смеяться по каждому поводу одни дураки могут, но если каждую мелочь всерьёз принимать и бить себя кулаком по лбу, — разве это человеку поможет? Вот и я, если бы над каждой своей бедой слёзы проливал — давно не было бы меня на свете. Да что слёзы, — одна вода солёная. Если бы слёзы помогали, не было бы во всей вселенной человека, который больше меня плакал! Проведёшь эдак луком по глазам, или разок сморкнёшься крепко, глянь, а слеза уже повисла у тебя на реснице…
Словом, проводил я в цирке всё свободное время, и забывал обо всех своих печалях и горестях, пока не Растратил все заработанные деньги. Пояс мой совсем опустел, и пришлось мне всерьёз подумать о том, как быть дальше. Да и Кечо совсем из виду пропал.
Была уже середина осени. Как-то свернул я к базару. Дул порывистый ветер. У самых ворот плотный, кряжистый мужчина продавал привязанные к стойке цветные шары. Они красиво трепыхались на ветру — я долго не мог оторвать взгляда от этой красоты. Вспомнилось мне детство, как на пасху мы надували шарики из куриного зоба. Они были маленькие и не такие красивые.
— Дядя, — обратился я, подстёгиваемый любопытством, к продавцу, — из чего эти шарики?
— Из коровы, — ответил тот невозмутимо.
Подошла женщина, одетая в траур, и остановилась в нерешительности, видно, сомневалась: купить — не купить, потом едва слышно прошептала:
— Сколько стоит шарик?
Продавец назвал цену. Женщина стала торговаться. И он немного уступил.
— Корову свою только что продала. Понесу-ка я деткам вместо молока коровьи пузыри, — улыбнулась она печально, вытащила из кармана чёрного платья бережно завязанный узелком платок, извлекла из него мелочь и, заплатив, отобрала три шарика — красный, зелёный и синий, привязала их к уголку платка и печально пошла дальше.
Взмывшие над головой её шары упрямо рвались в небо, словно хотели улететь. Я долгое время провожал их взглядом, но потом мне это надоело, я отвлёкся. И тут услышал страшный, нечеловеческий крик. Обернулся — вижу женщина в трауре бежит, как безумная, с воздетыми к небу руками, а встречные останавливаются и смотрят вверх.
Невольно и я поднял голову. Три цветных шарика: красный, зелёный и синий легко и весело парили в небе. А женщина в трауре кричала, нет, не кричала, а выла, как раненый зверь. Крик её, казалось, достиг самого неба, а шары поднимались всё выше и выше. А между тем улица пришла в движение, всё завертелось, зашумело, откуда-то появлялись какие-то люди, их становилось всё больше и больше. Мне уже не видно стало женщины, не слышно её голоса.
Вокруг раздавалось:
— Что случилось?
— Кого убили?
— Какая женщина?
— Какое несчастье, — говорил человек в чёрной войлочной шляпе. — Бедная вдова продала корову, деньги в платок завернула, платок к шарам привязала, а они — в воздух. И всё тут. Пропала семья!
— Как поднимутся шары ещё выше, обязательно лопнут, и упадёт платок тот на землю, непременно упадёт.
— Может быть, да главное, куда упадёт?
— Чёрт его знает…
— Недаром говорят: что с возу упало, то пропало. Этим деньгам ничто теперь не поможет. К богу шары полетели.
— Пусть не будет добра такому богу, который у вдовы последний кусочек отнял!
— Ну, попробуй, если ты такой храбрец, присуди-ка ему расстрел!
Вдова, между тем, в отчаянии ломала руки:
— Пустите меня, пустите, — кричала она. — Как я покажусь на глаза своим сиротам? Лучше мне умереть, проклятой!
— Несчастная! — женщина, стоявшая передо мной, смахнула слезу уголком платка.
— Куда она бежит? — спросил я у какого-то мужчины.
Тот, в свою очередь, спросил ещё у кого-то:
— Интересно, куда она бежит?
— Держите её, она ведь с горя утопиться может! — закричали в толпе.
Тут её схватили, но она не стала сопротивляться, потому что лишилась последних сил. Она упала на колени и начала бить себя кулаками по голове. Две женщины пытались держать её за руки, тогда она завыла. Это было страшнее смерти. У многих на глазах появились слёзы. Все сочувствовали бедной женщине. Но разве от сочувствия ей было легче?
Вдруг меня осенило. Пошарил я в кармане и обнаружил там один-единственный сиротливо лежащий рубль. Больше у меня ничего не было, да и времени на размышление тоже было мало. Тут же неподалёку я увидел мусорный ящик, вспрыгнув на него, сорвал с себя шапку, бросил в неё свой последний рубль, и громко, что было сил, закричал:
— Эй, люди добрые, горит очаг вдовий, его слезами не погасить, помочь нужно! Кто сколько может, бросайте в шапку! Бог вам за это воздаст, помогите вдове с сиротами!
Люди встрепенулись так, словно над цыплячьим выводком ястреб пролетел. Некоторые отвернулись, но большинство стало шарить у себя в карманах.
— Поможем, люди добрые, вдове с сиротами её?! — поддержал меня длиннобородый монах.
Улица зашумела, завертелась. Целый лес рук потянулся к моей шапке. И, сказать по правде, не видел я ничего в жизни красивей этого леса. Шапка моя наполнилась деньгами, а сердце мёдом.
О, люди, какие вы добрые, какие хорошие!
Шапка уже была полна денег, и высокий юноша протянул мне свою папаху. Она тоже быстро наполнилась. Монах опустил в неё шелестящую красную десятирублёвку, а какая-то женщина пожертвовала маленькую золотую цепочку.
«Какое счастье, когда вокруг добрые люди! Как хорошо, что в мире много людей! Пусть славятся люди!» — воскликнул я и как тамада поднял вверх шапку, полную денег, словно это была заздравная чаша. Деньги сосчитали, получилось, что на них можно было купить две коровы. Я снова вскочил на ящик и закричал народу:
— Спасибо, люди добрые! Воздай вам бог за добро сторицей, и детям вашим и внукам, во веки веков!
— Аминь! — загремел народ.
Мы с хозяином папахи повели вдову в ближайшую лавку, купили ей головной платок, завернули в него все деньги и простились с нею. Бедняжка, даже не поблагодарила нас, так была потрясена всем происшедшим, и только жалко улыбнулась на прощание, но эта улыбка была мне дороже, чем тысячу раз сказанное спасибо.
«А люди в городе не так уж плохи, как мне вначале показалось, — подумал я. — Видимо, по-разному бывает». Эта мысль меня приободрила. «Не бойся, Караман, — сказал я сам себе, — люди, они везде хорошие. Как бы тебе не было трудно, главная твоя опора — это люди, они не дадут тебя в обиду». И вдруг я понял, что полюбил и город, и всех этих людей, я даже позабыл, что остался без гроша в кармане, позабыл, что не ел с самого утра. Я был счастлив, несказанно счастлив. Я парил в облаках, как те цветные шары, что унёс ветер. Я был свободен, свободен и счастлив, и бродяге-ветру нечего было отнять у меня. Домой я вернулся поздно и тут же уснул. Привиделся мне какой-то сладкий сон, но он покинул меня задолго до пробуждения… Что жалеть, сон-то не поймаешь. Потому что сон, как ветер, — ветер, который похищает цветные шары!
Плач желудка и чёрный катафалк
Проснулся я поздно. Солнышко стояло у самого моего изголовья и ласково заглядывало в глаза, словно говорило — вставай, довольно нежиться, дел у тебя — невпроворот! Эх, солнышко, солнышко, хорошо, конечно, встречать тебя на заре, когда на душе покойно и солнечно, но когда желудок и карманы пусты, — тут уж извините.
Никакого сладу нету с этим негодником — желудком, как ты его не увещевай, не уговаривай, а он своего требует — буйствует, неистовствует, покоя не даёт. Хотя и говорят, будто бы мир стоит на трёх китах, семи столбах, на бычьих рогах и ещё утверждают всякую тому подобную чушь, не верьте, враки всё это. Всё держится на желудке, я вам истинную правду говорю.
«Ну, а ты что скажешь, солнышко? Молчишь? Не соглашаешься со мной. Не хочешь отвечать — не надо, ладно уж, всяк мыслит по-своему!»
Ещё некоторое время полежал я не двигаясь, потом лениво откинул одеяло и уселся на постели, в раздумье, свесив голые ноги. Что было делать, куда податься?! Голод снова гнал меня на улицу. Да и где ещё было искать счастья, как не на улице, само-то оно, известное дело, в дверь не постучится. Вот и побрёл я не спеша, торопиться тоже ведь было некуда. Шёл и слюнки глотал, а на глаза, как назло, попадались разные пёстрые вывески — на одних — хлеба румяные, на других — шашлыки!
Заметил я, что церквей в городе великое множество. Интересно, а сколько богов на свете? В деревне, Дело известное — одна церковь, один бог. Бедная деревня! А город даже богами богат. Но какая в том польза, ума не приложу.
Долго я бродил по городу, наконец вышел на узенькую улочку, по обе стороны которой один за другим в ряд расположились лавки и духаны. Повара устроили свои кухни тут же, прямо на мостовой, жарили шашлыки, кебаб, и от всего этого шёл такой запах, что внутренности у меня свело. Я чуть с ума не сошёл. «Эх, оказаться бы сейчас в Сакиваре да залезть по самые лопатки в миску с лобио, вот благодать! — Но тут же сам сердито осадил себя. — Дурак! И помечтать-то по-человечески не умеешь». Потом я дал волю фантазии — отнял у дэвов скатерть-самобранку, расстелил её под большим орехом и чего только на ней не разложил. Зажмурился, предвкушая удовольствие, слюнки так и потекли. Зажмурился ещё крепче, а как открыл глаза, увидел прямо перед собою чёрный гроб, а за гробом толпу. Я сначала было в сторонку отбежал, потом вдруг будто кольнуло меня что-то, сдёрнул с головы шляпу, осмотрелся вокруг и присоединился к процессии. Покойница — это была женщина — оказалась древней старухой. А келех — поминки по старухе, по всей вероятности, отменный будет! В таких житейских премудростях я уже разбирался довольно хорошо.
Келех и вправду был отличный. Налакомился я досыта и, возвратившись домой, уснул, как говорится, без задних ног. А утром всё повторилось сначала. Желудок был неумолим: «Придумай что-нибудь, коли жить тебе хочется», — бурчал он довольно громко. Жить-то мне хотелось, даже очень, да что придумаешь?! Но я придумал. Вспомнил вчерашнее. Не начать ли на келехи ходить? А что! Прекрасная мысль. От меня не убудет! Ведь, если хорошенько призадуматься, то выйдет, что добрая половина человечества в этом мире живёт за счёт покойников. Взять к примеру такое: отец оставил в наследство сыну домишко, живёт себе тот припеваючи, и горя ему мало, или дед посадил виноградник, а достался он внуку, а внучек знай в ус не дует, дедово вино попивает.
Как, по-вашему, это называется, не за счёт покойников, а?!
Ведь если человек покидает этот бренный мир, всё его добро к другому переходит. Одних содержит отцовское имя, других — серебро-золото, дядюшкой добытое. Я ведь не без глаз, всё вижу, да и тюрьма меня многому научила! Ну, словом, что там долго говорить. Так это, истинно так! А я-то, чем я других хуже. Похожу некоторое время по келехам, кто меня за это осудит!
…В полдень направился я на кладбище, притаился за оградой в ожидании. Долго ждать не пришлось, вскоре показался траурный фаэтон, в которых обычно возят покойников, он был запряжён тройкой чёрных лошадей. На голове у каждой красовалась расшитая бисером чадра. На козлах восседал тучный, словно спящий, возница. Поводья были опущены, но несмотря на это, лошади всё-таки шли очень медленно. Катафалк был застлан роскошным ковром, а на ковре стоял маленький гробик, покрытый сверху чёрным бархатным покрывалом. За катафалком, поддерживаемый с обеих сторон двумя солидными мужчинами, шёл высокий старик в чёрном траурном фраке и с бакенбардами, а следом — множество людей.
— Вот невезенье! — сказал я самому себе: — Ребёнка хоронят, какой уж тут келех по безгрешному ангелочку! А если бы и справляли, разве бы я пошёл? Кусок в горло не пойдёт. Нет, не совсем ещё стыд-совесть я потерял, не бывать такому! Снял шапку, прислонился к ограде, так мне жалко стало малютку, что слёзы сами по себе закапали у меня из глаз. Всё завертелось перед глазами, а когда прояснилось, я заметил нечто странное.
Один из провожающих покойника вырвал из венка цветок и, бросив его другому, глупо захихикал. Я чуть не накинулся на него с кулаками, но увидел, что другие тоже развлекаются подобным образом. Люди вели себя так, словно они присутствовали не на похоронах, а на свадьбе. Такое я видел впервые. И страшно удивился. Природная любознательность моя взяла верх и, обратившись к низенькому крепышу, который смеялся громче всех, я спросил:
— Дяденька, чему ты так весело смеёшься?
— А что мне не смеяться, что я, по-твоему, Бобик, что ли, чтобы собаку оплакивать!
— Что? Что ты сказал, какая собака? — уставился я на него. — Не пойму, что ты такое говоришь.
— Какая, какая, да обыкновенная собака, с загнутым хвостом.
— Где собака? — опять не понял я.
— Ты, братец, не с луны ли свалился? — подозрительно посмотрел на меня крепыш. — Как где, не видишь разве? В гробу! — Он протянул руку в сторону катафалка.
— Собаку хоронят столько людей? А что у этой собаки шерсть из золота?
— Придвинься поближе, я тебе на ушко кое-что скажу. — Он потянул меня за рукав. — Хозяин этой собаки большой человек. Видишь вон того старика во фраке? Это он и есть. Всю жизнь бобылём прожил и, кроме этой собаки, у него никого не было. А она, подлая, возьми да помри. Убивается бедняга, волосы на себе рвёт, ну как, скажи на милость, не соболезновать его несчастью?
— Келех будет? — вырвалось вдруг у меня.
Крепыш подмигнул мне:
— Что, голоден, дружок? Пойдём, пойдём со мною, уж я о тебе позабочусь, так накормлю, напою, век меня помнить будешь! Да ты не стесняйся, не стесняйся, я и сам в таком же положении. Если бы не келех, ноги моей здесь бы не было, нужен мне этот покойник, как прошлогодний снег. Чего уставился, я тебе дело говорю. Здесь половина людей пришла из-за келеха, а другая, чтобы засвидетельствовать почтение этому старикашке.
Я пошёл рядом с крепышом.
Двое идущих впереди нас заспорили:
— Отчего ему не хоронить собаку с почётом, — горячился один, — ведь не зря же сказал мудрец: — Чем ближе я узнаю людей, тем больше начинаю собак уважать. Сколько теперь слышишь — брат брату не доверяет, а пёс всегда до смерти остаётся верным своему хозяину.
— И совсем ты не прав, — перебивает его другой, — не хозяину, а тому, кто его кормит.
— А человек разве не так? Сын от отца убегает, если тот его не кормит.
На этом спор прекратился.
— Эх, совсем испортился этот мир, слыхано ли, чтобы в благословенной земле собаку хоронили, — донеслось до меня сзади.
— Эта собака крещённая, — возражает кто-то.
— Может, она перед смертью исповедовалась? — смеются ему в ответ.
— Она была безгрешная, как ангел, а ангелы разве ходят на исповедь?
— Тьфу на вас, тьфу! Пакостники окаянные, до чего договорились — сравнивают поганую тварь с самим господом-богом. До чего я дожил! Какое время настало, — возмущённо крестится высокий худой старик.
— Безгрешная она была, собака эта, поистине безгрешная. Да и чего ей было грешить. Еды у неё не хватало, или питья? Что за грех могла она совершить? — не сдавался тот, кто сравнивал её с ангелом.
Наконец катафалк остановился. Какой-то человек, на ходу расталкивая всех, видимо, боясь, чтобы его не опередили, бросился к гробу, за ним устремились другие. Чуть было не началась потасовка. Я тоже попытался протиснуться вперёд, но кто-то грозно осадил меня.
Семеро наиболее прытких и предприимчивых высоко подняли гроб и внесли его за ограду. Идти в ногу им было трудно, так как гробик был маленький. Они всё время сбивались и наталкивались друг на друга, то и дело подставляя друг другу подножки и едва удерживаясь на ногах. Наконец гробом завладел высокий бородач, он легко, словно пустой кувшин, вскинул его на плечо и понёс к разрытой яме. Откуда-то появился большой в чёрной раме портрет. Я посмотрел, и сердце моё похолодело от страха. С оскаленными зубами и отвисшей челюстью с портрета зло глядела на меня собака. На мгновенье мне показалось, что она вот-вот выскочит из рамы и перекусает всех, кто её оплакивает.
Огляделся я вокруг, посмотрел, как суетятся бедные маленькие людишки, девять шкур с себя сдирают, чтобы воздать почёт глупости большого начальника и получить за это маленькое вознаграждение, и глаза мои наполнились слезами. Неужели ради ничтожной мзды или небольшого повышения по службе возможно такое унижение?! Бедные, бедные люди! Пожалел я и себя, и всех, кто был там и не был. Прямо-таки сжалось у меня сердце от жалости, а слёзы, как горный водопад, залили мне щёки.
Хозяин собаки, увидев мои слёзы, зарыдал пуще прежнего и сказал:
— Не плачь, родной, не нужно, молод ты ещё, глаза свои не порть, пригодятся они тебе. Достаточно и того, что я безутешно оплакиваю эту несчастную.
— Ах, батоно, как же мне не плакать. Не простые это слёзы, из самого сердца они идут. И вас мне жаль, бедненького, вы ведь тоже человек, истинно жаль. У-у-у! — заплакал я в голос.
— Родные и близкие, безутешно скорбящие, — раздался в это время чей-то оглушительный бас. Толпа, шумевшая вокруг, смолкла, и на кладбище воцарилась гробовая тишина.
— Родные и близкие, — повторил бас, принадлежавший человеку, который утверждал, что собака самый верный и лучший друг. Он взобрался на большой камень и начал протяжно и громко, как прорицатель. — Сегодня, — говорил он, — мы навсегда прощаемся с любимейшим существом дорогого Константина Дмитриевича. В лице его мы потеряли самую умную, самую красивую собаку в мире. Нет сил сдержать слёз и рыданий наших. Сердце сжимается от такой потери. Мы все проливаем наши честные, благородные слёзы на этот бархатный гроб. Какая это была собака! Одно только название у неё было — собака. В груди же её билось настоящее человеческое сердце. Ведь если вглядеться в глубь истории и вспомнить, кто был рядом, когда первобытный человек взял в руки топор — собака! Никто другой! Потом эта дружба стала ещё более крепкой, хотя человек впоследствии и проявил неблагодарность и не дал собаке ничего, кроме обглоданной кости. Собака же, несмотря на это, оставалась ему верной. Эта неблагодарность да простится человеку! Наш первейший долг в век прогресса и гуманизма исправить эту историческую ошибку, ошибку, допущенную ещё дедами нашими и отцами. Согласитесь, друзья, что до сей поры мы не воздали собаке должного почёта и поэтому даже не хоронили её на кладбище, а между тем, в Европе и Америке уже давно исправили эту величайшую ошибку. Наш мудрый и добрый начальник, глубокоуважаемый наш Константин Дмитриевич открыл нам глаза, вразумил нас, слепых и неразумных. И я убеждён, что жизнь его станет примером для многих и многих. Отныне все собаки будут похоронены на кладбище в гробу с венками и почестями. Прощай, наш дорогой друг, наш любимый, твоё имя будет жить вечно среди нас… — тут вдруг прорицатель запнулся и закашляйся.
Он кашлял подозрительно долго, видимо, забыл имя усопшей. Потом кто-то тихонько подсказал ему, и он продолжал с прежним воодушевлением.
— Да! Безмерно любимая нами Стелла! Твоё имя вечно будет жить в наших сердцах, как символ любви, верности, дружбы и многого другого! Единственным утешением твоего безмерно скорбящего хозяина остаётся твой детёныш. Мы клянёмся над твоей могилой, что будем лелеять его, как родного сына. Спи спокойно в вечной усыпальнице!
Прорицатель вдруг замолчал, достал из кармана носовой платок и провёл им по сухим глазам, потом медленно отошёл в сторону.
— Ну-с, с завтрашнего дня двойная зарплата ему обеспечена, — с завистью сказал какой-то мужчина.
Место прорицателя занял священник. Он крестился и бормотал что-то невнятное, до меня долетели лишь обрывки фразы: «по-христиански».
Старик в траурном фраке вытащил пригоршню золотых и протянул их священнику.
— Аминь, — снова перекрестился священник и спрятал золотые в карман рясы.
Я и раньше не очень-то верил священникам. А свершившееся ещё больше укрепило меня в неприязни к ним.
— Боже, помоги всем неимущим! — вырвалось у меня, и я тоже стал истово креститься.
Старик снова опустил руку в карман фрака.
— А это тебе, юноша! — На миг блеск золота ослепил меня, и я отпрянул в сторону.
— Бери, бери.
— Я? Зачем… Я ведь так…
— Это награда за твои слёзы. Уж очень люблю я сердечных людей. Выпей за упокой моей Стеллы.
Мне досталось гораздо больше, чем священнику. Вот когда я убедился, что слёзы стоят гораздо дороже молитвы.
Ведь говорят, что богатые не могут быть щедрыми. «Наверно, деньги, которые он мне дал, фальшивые, — решил я, — не успокоюсь, пока не проверю». Я бросил горсть земли на могильный холмик, отошёл подальше, вытащил золотой и стал пробовать его на зуб. Но золото вопреки моим ожиданиям оказалось настоящим.
Не было, как говорится, счастья, да несчастье помогло!
Келех был на славу. Наелся я, что называется, до отвала, да и выпил, сколько в глотку влезло. Потом отыскал потомка блаженной Стеллы и девять раз поцеловал его от избытка чувств. Домой я возвратился в отличнейшем расположении духа, громко распевая. Перед глазами всё время стояла Стелла, такая, какая она была на портрете, с растопыренными лапами.
— На счастье мне ты родилась. На счастье и умерла, благословенная! — шептал я с нежностью…
Золотые зубы и неоплаканный покойник
День сменялся днём, келех келехом, время бежало, и вот уже наступила осень — пора увядания. Не знаю почему, но осенью люди умирают гораздо чаще, чем в другие времена года. Так что бывал я на келехах почти ежедневно. То помогал нести гроб, то венки таскал, но получалось так, что мир этот бренный тащил и меня на себе. В карманах у меня золотишко завелось. Ел, пил я задарма, на трон царский не покушался, не грабил никого и в карман чужой тоже не заглядывал. Ну, а чего ещё больше надо?!
С лёгким сердцем посещал я келехи по старым людям. И не было мне стыдно. Я даже убедился, что если в венок не вплетено твоё горе, то тащить такой венок одно мученье. Так бы и бросил его прямо на улице. Да голод, как говорится, не тётка. Вот и приходилось таскать до одурения, пока не кончится скорбный путь. Чужого покойника тоже тащить тяжело, а особенно богатого: им делают такие тяжёлые гробы, что на другой день качаешься, как гусь с обломанными крыльями.
А знаете, что сказал мне один человек? Легко, говорит, тащить гроб злого человека.
— Это почему? — полюбопытствовал я.
— А потому, что душа радуется, когда злого хоронишь, зато доброго — камнем ложится и на плечи, и на душу.
Я и поверил, и не поверил:
— Покойники все одинаковые, тихие, беззлобные. Добро и зло на этом свете остаётся. Они ведь его не уносят с собой.
— Я сказал, а там как хочешь, — обиделся тот. — Не такой я человек, чтобы тебя в этом убедить: пусть господь каждому по уму воздаст!
Я не стал с ним спорить, однако слова его запали мне в душу.
Келех тем и хорош и вкусен, что он даровой. Но одним келехом ведь не проживёшь? Пришло время платить за квартиру, да обувь у меня поизносилась и одежда тоже, деньги же, подаренные Константином Дмитриевичем, давно уже вышли. Нужно было опять что-нибудь придумывать.
Как-то раз я услышал, как могильщик бормочет себе под нос: «Подумать только, какие деньги даром пропадают. И для чего мёртвому столько венков. Принесут их да выбросят, а всё напрасно. Только деньги зря переводят. Одни только цветочники от всего этого выгоду имеют».
— Что, дяденька, венки разве за деньги делают?
— А ты что же думаешь?
— Откуда мне знать. В нашей деревне их обычно дети плетут, пойдут в поле, наберут цветов да плюща, и готово дело.
— Ты деревню с городом не равняй. Здесь всё продаётся. В городе даже кошка и та даром не пискнет.
«Ага, — подумал я, — если за венки деньги платят, можно их и перепродать, если, конечно, с цветочником договориться».
В тот же вечер направился я в квартал цветочников. Спустился в тёмный, холодный подвал. Карлик-цветочник трудился тут над большим красивым венком, на стене висели уже три готовых.
— Здравствуйте, дядя, — учтиво поздоровался я с хозяином.
— Здравствуй, сынок, что скажешь?
— Да я так, интересно мне, как венки делают… трудно?
— Всегда трудно, если не умеешь, — оборвал он меня на слове и посмотрел на венок. — Хорош, не правда ли?
— Хорош, да вот нельзя ли придумать, чтобы как-нибудь полегче, чтобы они готовыми у вас появлялись?
— С неба, что ль? С неба ничего, кроме града, готовое не падает.
Беседа завязалась. Я открылся ему в своих намерениях: приволоку ночью с кладбища венок, ты его лишь слегка обновишь, и дело пойдёт… вознаграждения я просил небольшого — десятую часть выручки.
Мгновение он хмурился, но потом лоб его разгладился и на губах появилась улыбка.
— Пойдёт!
Когда я собрался уходить, он остановил меня и прошептал:
— Только смотри, осторожней, чтобы сторож тебя не сцапал, не то плохо придётся.
— Какой ещё сторож? — удивился я. — У нас в Сакиваре ничего подобного и в помине нет.
— То-то и видно, что деревенский ты.
— А что?
— В городе на всё есть сторож.
— И для чего? Разве мёртвого украдёт кто?
— Мёртвого, конечно, нет, а вот на шмотки его, на это всегда много охотников найдётся, разрывают могилы и…
— И что потом?.. Грабят мёртвого?!
— Да, в последнее время такое частенько случается. Живых, видно, им мало.
— А что можно украсть у покойника?
— Да что угодно: часы, серьги, булавки, бриллиантовые кольца, пояса серебряные, у некоторых даже зубы золотые вырывают, поэтому я всегда говорю, не следует вставлять золотых зубов, не то как помрёшь, ограбят непременно.
— Ой, мамочки! Что слышат мои уши!
— Некоторые, сказывают, и одежду снимают с покойника…
— Истинно, истинно, поэтому-то, вероятно, перед погребением одежду умершего ножницами изрезают на мелкие кусочки.
— Может быть, так, но ведь обычай резать одежду существовал ещё задолго до того как стали грабить могилы…
— А что с той одеждой делают?
— Мало ли что, на базаре продают.
С ужасом уставился я на свой пиджак, и тут же почудилось мне, будто в нос ударил тяжёлый сладковатый запах. Ледяная дрожь пробежала по всему телу, — пиджак я купил на базаре пару дней назад.
Кое-как очнувшись от полуобморочного состояния, я покинул подвал цветочника, чтобы, не дай бог, не услышать ещё чего-нибудь похуже. Но выйдя на улицу, я не избавился от страха: мысль о пиджаке, снятом с мертвеца и проданном мне, неотвязно сверлила мозги, а от кажущегося ужасного запаха кружилась голова.
Придя домой, я тотчас же скинул пиджак и повесил его на гвоздик рядом, шагнул к тахте, улёгся. В комнате было очень тихо, и мне снова стало страшно. Теперь мне чудилась другая картина — будто пиджак этот надет на человеческий скелет. Ведь правда это страшно? Можете себе представить, как перетрусил я! У меня чуть язык не отнялся от ужаса, потом я взял себя в руки и немного успокоился, схватил проклятый пиджак и вышвырнул его на галерею. В ту ночь я так и не заснул: мне всё чудилось, будто скелет маячит там, на галерее, и всё время молит впустить его в комнату погреться. Стоило сомкнуть глаза, как начинало казаться, что он открывает дверь, заходит в комнату и что-то беззвучно говорит. Наконец я понял: ему холодно, и он требует назад свой пиджак.
Едва дождавшись рассвета, помчался я на базар и продал пиджак за бесценок. В этот день я, конечно, не рискнул выйти на охоту за венками; но на следующую ночь превозмог себя, и улов был богатый — приволок цветочнику целых девять венков.
Вот каков город! В деревне такого не сделаешь. В деревне на кладбище венки телята поедают.
Итак, днём я зарабатывал на келехах, а ночью охотился за венками. Оба мы были с барышом: и я, и цветочник.
И вот тогда-то откуда ни возьмись появился Кечо. На нём была новая красная чоха, на ногах чёрные азиатские сапожки, а на голове — папаха. Ввалился он в комнату, да как закричит:
— Как поживаешь, негодник?
— По-старому…
— Опять лопатой деньги загребаешь?
— Угу.
— Ну и тёплое местечко ты нашёл, ей-богу, опять карусель вертишь?
Я утвердительно кивнул головой, не признаваться же в том, что ворую венки на кладбище.
— А ты?
— Я-то, я грузчиком нанялся.
— Ишь ты, а вырядился, словно князь, кинжала да серебряного пояса только и не хватает.
— Прикажешь в лохмотьях ходить?!
— Как у тебя с зубами?
— Хи, хи, хи, растут, кроме тех, у меня ещё и двух передних недостаёт.
— В драке их тебе выбили?
— Нет, что ты, лекарь вырвал, — он скривил рот наподобие улыбки.
— Ты что же, олух, здоровые зубы вырвал?!
— Мне показалось, что они начали портиться, а ведь говорят, что оставлять во рту гнилые зубы негоже.
— Идиот несчастный, не мог заодно с зубами вырвать свой паршивый язык?
— Пожалей себя-то, братишечка. Если бы я его вырвал, твой тоже бы друга лишился, — не растерялся молодой куртанщик.
В ту ночь, разумеется, на кладбище я не пошёл. Притащил из соседнего духана много всякой еды, и мы с другом кутнули на славу.
Утром, растягивая в улыбке беззубый рот, Кечо сказал мне:
— Знаю, друг, денег у тебя полны карманы, лопатой их загребаешь, сделай милость, одолжи немного, за мною не пропадёт.
— Зачем тебе?
— Нужно. Понимаешь какое дело — чоху эту я в долг взял, да и папаху тоже. И на кое-что другое мне гроши нужны. Я ведь теперь как-никак жених, — Кечошка так осклабился, что сразу стали видны все двадцать шесть оставшихся зубов.
Пожалел я о том, что расхвастался накануне, да поздно было.
— Ты часом не золотые ли зубы вставлять собираешься?
— А что, разве мне не пойдёт? — рассмеялся Кечука.
— Как же, как же, покойный дед твой только золотыми зубами и уминал хрустящие мчади. А ты разве от него отстать можешь?
— Тебе что, парень, денег жалко стало? Ты не бойся, я в срок верну. Ведь не отнимаю, взаймы прошу. Да и тебе от этого одна польза будет, я тебя, транжиру знаю, у тебя они как вода, утекут, а я сохраню в целости… Ну не трясись, не бойся, хочешь вексель выдам?
— Скажешь тоже, вексель!
— Сколько даёшь?
Прихвастнул я, конечно, зря, но известное дело — язык без костей:
— Денег я лопатой не загребал, но кое-что у меня скопилось.
Я достал привезённый из дому кисет и отсчитал Кечошке сто рублей.
В конце недели он снова наведался ко мне. Посмотрел на меня да так рот и разинул, что мне показалось — потроха стали видны, но вместо потрохов я увидел ослепительно сверкающие золотые зубы, даже зажмурился, так они блестели.
— Кечошка, паршивец, что это?
— Как что, не видишь разве, зубы. Говорил же тебе, жених я теперь, как же мне в Сакиваре показаться с поломанными зубами?
Позавидовал я золотым зубам этого негодника: того и гляди всех девок на деревне с ума сведёт. На мою долю ничего не останется. Хотя никого мне и не нужно, кроме Гульчины, но всё-таки…
Потом вдруг вспомнились мне недавние мои страхи: может, зубы эти у какого-нибудь мертвеца вырваны?
Снова задрожал я с головы до ног, но, скрывая страх, накинулся на Кечо:
— Ах ты, бессовестный, на мои деньги ты золотые зубы себе вставил!
— Чего ты горячишься. Деньги я тебе верну, а об остальном волноваться нечего. Какое тебе дело, что я на них сделал, зубы вставил или золотой хвост прицепил.
— Мне, конечно, всё равно, — согласился я, — только тебя, дурака, жалко. Ещё когда были у тебя обыкновенные зубы, поглощал ты всё с волчьим аппетитом, а теперь. Что тебя насытит?
Что это тебя, братец, мой аппетит волнует? Небось не твоё ем, своим трудом-потом заработанное! А теперь пойдём-ка эти зубы обмывать!
— Куда пойдём, верблюд?
— Проглотим чарку-другую.
В духан мы не пошли, а устроились, как и в прошлый раз, у меня. Наклюкались, как следует, полез Кечошка целоваться, да как всадит прямо мне в подбородок свои золотые зубы. Больно стало, и укусил я его тоже, но не зубами, а словом:
— Кечука, верблюд, — говорю я ему, — а знаешь ли ты, что есть такие подлецы, которые у покойников золотые зубы выбивают да продают их зубным врачам, а те, в свою очередь, вставляют их таким дуракам, как ты.
— Что-оо! — встрепенулся Кечо, — что ты мелешь, парень, у меня чужие зубы? Ты что, свихнулся, что ли? Во-первых, у каждого человека зубы имеют определённую форму. Нет, нет, чужие зубы мне не подойдут! Это я уж точно знаю, а впрочем, чёрт его знает!.. Вай ме, вай ме, как же теперь от них избавиться?
— Случай действительно тяжёлый, — посочувствовал я. — Ну как на том свете встретится тебе хозяин зубов и скажет: «Отдай мои зубы обратно!» Что тогда?..
— Не пугай меня, назло тебе не вырву, ни за что не вырву. Еле удостоился сын Лукии золотых зубов, а ты тут всякую ересь плетёшь! Пусть они от мертвеца, я не брезгливый, потерплю как-нибудь. А ты тоже хорош, Каро, налакался, как сапожник, и мелешь всякую чепуху, отсохни у тебя поганый язык!
Опечаленный ушёл от меня Кечошка, а следы от его зубов так и остались синеть у меня на подбородке.
Хозяйка моя на второй день поглядела на меня подозрительно, и старые её глаза хитро заблестели:
— Берегись кусачих женщин, сынок, не то плохо тебе придётся, — наставительно сказала она.
— Что вы, что вы такое говорите!
— Берегись, говорю, кусачих женщин, не то совсем тебя съедят.
Я смотрел на неё с недоумением.
— Видали мы таких невинных младенчиков! Не прикидывайся, шут, клеймо на подбородке кто тебе поставил?
— Ах, вон вы про что! Да это так… пьяный дружок меня поцеловал и…
По насмешливому взгляду старушки я понял, что она не верит мне нисколечко:
— Как знаешь, сынок, но не возись со всякими тварями, а то подцепишь ещё какую-нибудь дрянь.
— Клянусь матерью…
— Пожалей мать, сынок.
Я так и не смог переубедить её. Только-только стали исчезать у меня следы от укусов, как Кечо появился снова и опять попросил у меня взаймы сто рублей:
— Не бойся, отдам как заработаю, ты ведь меня знаешь?
— Как облупленного!
— Вот и хорошо! Тебе же лучше будет.
Ветром принесённое ветер и унесёт, подумал я, отдам-ка я лучше их Кечошке, вернёт — хорошо, а не вернёт, тоже не беда.
Отсчитал я ему деньги и ещё такой совет дал: не скаль, парень, зубы так часто, говорю тебе, у золотых зубов врагов много, не смейся каждому встречному-поперечному, не то привяжется какой-нибудь разбойник, нападёт на тебя ночью на тёмной улице, да по одному их вырвет. В городе на золотые зубы много охотников. Если покойников с золотыми зубами грабят, что с живыми-то сделают, чуешь?!
Кечо весь как-то подобрался, кивнул мне и ушёл.
Я проводил его взглядом.
Денька через два встретил я его на вокзале, гляжу тащит он на себе огромный мешок, завидел меня, прямо ко мне направился, а я улыбаюсь ему:
— Братишечка, Кечули, ты ли это?
Он в ответ:
— Ты, негодяй-подлец, меня ещё братом называешь!
— Помилуй, какая муха тебя укусила, или деньги мои фальшивые оказались?
— Что о деньгах-то говоришь! Ты мне другое скажи, почему ты меня тогда верблюдом назвал? Думаешь, если ты мне друг, так можешь что угодно говорить?! Сам ты верблюд!
— Когда это я тебя верблюдом назвал?
— Ладно уж, будто не помнишь, в первый раз в лавке у Арчила, в ту проклятую ночь, а потом у себя в комнате.
— Ей-богу, не помню. А что это ты задним числом вскипятился? Смешно, право.
— Вчера я в первый раз верблюда увидел. Ничего уродливей в жизни не встречал… слюнявый поганец! Только я подошёл к нему, он как плюнет… И ты, безбожник, вздумал меня с ним сравнивать?!
— Брось, Кечули, стоит из-за этого ссориться, не знал я, что верблюд такое страшилище. Ты же меня тоже верблюдом называл. Будем теперь квиты.
— Благодари бога, что не забыл я добра, что ты для меня сделал, иначе не сносить тебе головы.
Он действительно казался обиженным. Иногда сущий пустяк обижает. Бывает, сделаешь человеку море добра, и он принимает это, как должное, а если западёт к нему в душу капля обиды, добро тотчас же как волной снесёт. Очень нужно быть осторожным!
Теперь у меня появилась новая забота:
«Как бы этот верблюд не потерял моих денег», — весь день вертелось у меня в голове. Но вечером я об этом забыл. Я так осмелел, что прогуливался по ночам на кладбище, как в собственном дворе. Сторожа нигде не было видно. И всё-таки мне было боязно, как бы меня не накрыли за кражей венков. Так мне ведь и ограбление могли бы приписать, и тогда пропадай моя бедная головушка — схоронят тут же без гроба и венков!
Раз как-то набрёл я на могилу Стеллы и остановился в изумлении — на каменной глыбе, высеченной из мрамора, стояла она, точно такая, какой была изображена на портрете, те же выпученные глаза, раздутые ноздри и отвисшая челюсть, передние лапы растопырены, на шее медаль. Я даже подумал было, что собака ожила, но, присмотревшись хорошенько, увидел, что страхи мои напрасны. Сердце моё преисполнилось нежности к бедной покойнице, я даже приласкал холодный камень. Когда же я отошёл от памятника Стелле, встретился мне человек с палкой в руке и спросил:
— Ты, родной, читать умеешь?
— Как же! и читать и писать, а что?
— Тогда сделай одолжение, почитай мне стихи, высеченные на надгробиях.
Я охотно согласился. Прочёл один стих, другой, третий, а он всё просит, почитай ещё… Все покоящиеся здесь сетовали на то, что рано покинули страну солнца и предпочли бы день жизни в этом мире потусторонней вечности. Некоторые надписи были такие печальные, такие безнадёжные, что я не мог сдерживать слёз, поливая ими землю. Хотя, впрочем, земле, убитой осенними заморозками, это мало чем помогло. Бродили мы долго, я устал от ходьбы и чтения.
— Ну как, дяденька, ты ещё не нашёл того, что ищешь?
— Нет ещё.
— И долго собираешься искать? Устал я уже ходить, больше не могу.
— Ты что же думаешь, я тебя даром так вожу, не беспокойся, отблагодарю как следует.
— Отблагодаришь? — удивился я. — Ты что ищешь, потерянную могилу?
— Нет, что ты, я стихотворение ищу.
— Какое такое стихотворение? Разве на этом кладбище и стихи хоронят? Собаку я, правда, видел, — похоронили здесь одну, а вот стихи?!. Такого что-то не встречал.
— Да нет же, что ты такое придумал. Просто у брата моего сын помер. Огородили ему могилу, камень поставили, на камне надпись хотят высечь, стихотворение написать, а какое — никак не придумают. Сказывали, в городе живёт человек, который за три рубля любое стихотворение напишет. У брата моего ноги болят, ходить не может, вот он меня и послал найти того человека. Приехал я в город, пошёл к дому, где стихотворец этот живёт, прихожу, а у него на дверях девятипудовый замок висит, спрашиваю у соседей, где он, а соседи говорят — на кладбище. Пришёл я на кладбище, спрашиваю у сторожа про этого человека, а он мне рукой на свежий могильный холм показывает, здесь, говорит. Очень мне стало обидно! Да, что делать? Не возвращаться же домой с пустыми руками. Вот я и решил выбрать здесь какую-нибудь подходящую надпись и отвезти её брату. Если поможешь мне, я тебе заплачу хорошенько.
Услыхав об этом, я тотчас же нашёл подходящее к случаю стихотворение и переписал его, благо карандаш и бумага у того человека были при себе. Пришлось заменить только имя.
Человек щедро расплатился со мной. С кладбища я возвратился в очень хорошем настроении, потому что день этот оказался и вправду удачным.
«Караман, — подумал я, — а не заменить ли тебе этого безвременно погибшего стихотворца?! Выдавай надгробные стихи за свои, а денежки — в карман. Большого умения на это не надо и ума тоже, — хныканье о суетности этого мира — дело не трудное, вздохнёшь разок, и стихотворение готово. Попробуй вот смешное что-нибудь придумать! А плакать — это что! Плакать все могут!»
Я раздобыл адрес умершего стихотворца, уселся у его дверей и стал поджидать заказчиков. Они не заставили себя долго ждать.
Сначала завлёк я в свои сети троих охотников до кладбищенских стихов. Потом популярность моя так возросла, что люди облепили меня, как мухи. Переписал я все понравившиеся мне на кладбище стихи, затем кое-что в них переделывал и спокойненько сбывал по назначению. С течением времени так наловчился в переписывании, что и сам начал кое-что пописывать.
Одно такое стихотворение помню как сейчас:
Смерть проклятая, подлая разлучница, Чтобы сгинула та, кто тебя породила, Ты зачем призвала к себе милую Этери, Горем горьким жизнь мою отравила.Одним словом, разные я писал стихи, и остались они увековеченными на могильных плитах не только в Тбилиси. Жители окрестных сёл тоже немало их на своих кладбищах приспособили. Поскольку писать покойницкие стихи оказалось делом в высшей степени прибыльным, я не стал тратить времени на хождения по келехам и даже от воровства венков воздерживался. Но длилось это недолго, — не выдержала моя душа. Ночью, когда луна плавала в облаках, снова оказался я на кладбище. Остановился перед большим красивым венком и уже протянул было руку, как кто-то большой и грозный, как Микел-Габриел, схватил меня за шиворот:
— Стой, нехристь, стой, паршивец, наконец-таки я тебя словил! Ишь, что вздумал — венки воровать! Получишь ты у меня, иуда, за это! Шкуру спущу, да нагишом в ад отправлю! — Он поддал мне коленом в зад.
Это был всего-навсего седой, тощий старик, и в другое время я бы мог такого в порошок стереть. Однако, как известно, на воре шапка горит. Ноги мои подкосились от страха, но в голову вдруг пришла спасительная мысль:
— Вай ме! — заорал я. — Вай ме, отчего я здесь в такую пору, что меня, несчастного, сюда привело?!
— Чума тебя, окаянного, принесла, вот что! Потащу тебя в полицию, сразу вспомнишь, что тебя привело! Не притворяйся, негодяй, не обманешь, по коленкам вижу, кто ты есть на самом деле.
— Вай ме, вай ме! — вопил я. — Что мне в полиции нужно, кацо? С ума, что ли, ты сошёл!
— Я тебя сведу с ума, сволочь!
— Дяденька, родненький, да послушай, Христа ради! Слышал ли ты когда-нибудь про лунатика, слышал, скажи?
— Ну, слышал, а что из этого?
— Ну вот я и есть лунатик. Не веришь, миленький? Клянусь богом, правда. Брожу я ночами без путей и дорог, спящий с открытыми глазами, будить меня нельзя, — иначе нервный припадок случится. Что ты со мной сделал? Зачем разбудил? Теперь за это ответ держать будешь! Мне только и осталось с ума сойти…
— Ну тише, тише, сумасшедший ты был до сих пор, а теперь я из тебя умного сделаю. Ты мне брось дурачка валять! Лунатик нашёлся… Лунатики, небось, венков не крадут. Ты домашних своих обманывай, а меня не проведёшь, видал я вас таких! А ну, вставай, вставай, марш в полицию, не то проломлю тебе череп вот этим дубьём, глядишь, ворованный венок кстати придётся.
Сила, говорят, гору вспашет. Махнул я рукой и положился на судьбу, а она в образе старика с палкою вела меня с кладбища прямиком на заклание.
«Что же это ты такое, несчастный, натворил! — стал я сердиться на самого себя. Вот сбреют твои усы да угонят в Сибирь — света божьего не взвидишь! Хорошо, если дело Сибирью кончится, а то, неровен час, голову отрубят! Смилуйся, господи, не дай мне грешному погибнуть во цвете лет!» — воззвал я к всевышнему. И вдруг припомнилась мне одна побасёнка, услышанная как-то на келехе.
— Батоно, — обратился я к своему мучителю, — знаешь, что мне недавно рассказали?
Отвяжись, не путайся у меня под ногами! — запахнулся он на меня дубиной.
А я, будто не слыша, продолжал:
— Умер, оказывается, в некоем царстве царь, везири его стали друг у друга царский трон оспаривать. Тем временем один человек, который побойчей других был, изловчился, украл царский венец и на трон уселся. Все же остальные в пояс ему кланяются, шёлком стелются, хвалят да на царство его благословляют: ты, мол, у нас самый добрый, самый смелый, самый достойный, да сопутствует тебе всевышний во всех твоих делах. Видишь, батоно, как несправедливо этот мир устроен?! Вора, укравшего царский венец, похвалами до небес возвели, а я, несчастный, украл всего-навсего обыкновенный венок из цветов и за это должен своей головой расплачиваться. Ну где, скажи на милость, справедливость! Пожалей меня, бог тебе в помощь!
— Ах ты, непутёвый, если ты такой умный, нужно было попробовать царский венец украсть. Да о чём с тобой, дуралей, говорить, если ты даже такой простой вещи не смыслишь, что венец царский одно, а венок мертвецу — другое. Потому-то и крадут царский венец мудрецы, а кладбищенский венок — такие вот глупцы, как ты.
— А всё-таки несправедливо этот мир устроен, бедного человека все, кому не лень, могут вокруг пальца обвести! — Тут одолел меня гнев и на бога и на кого-то ещё, комом он у меня в горле остановился: — Эх, если бы мог я украсть царский венец…
— Если бы так легко это было украсть царский венец, не один бы он был, — тысячи, не стоил бы он так дорого. Ну иди, иди, сказано тебе не путайся под ногами, — снова подтолкнул меня мой преследователь.
— Видимо, не будет мне спасения! — уныло подумал я и на углу улицы решил сбежать.
Вдруг сторож опередил меня и жестом заставил остановиться.
— Давненько ты этим промышляешь?
Я не знал, что ответить: соврать — он может поймать меня на слове, сказать правду — тоже не сулило мне ничего хорошего. И остановился в раздумье.
— Ты что же, язык проглотил, что ли? — поиграл он дубинкою.
— А тебе не всё равно? — равнодушно процедил я сквозь зубы.
— Конечно, нет.
— Кончай уж разом. Добивай! Виноват я и достоин всяческого наказания. Давненько этим живу, — сказал я ему обречённо и опустил голову.
О, несчастный! Убирайся подобру-поздорову, и чтобы не было этого никогда! Увижу ещё — убью! Иди, иди! И не думай, что я такой добрый: это я себя жалею, отведёшь тебя, дурака, в полицию, а там ко мне прицепятся, как да что, откуда! Скажут, человек столько времени этим занимается, а ты, старый увалень, куда смотрел, где твои глаза были? Из-за какого-то бродяги потерять тёпленькое местечко? Нет уж, увольте! Иди, братец, и кончай житьё за счёт мертвецов, я сам у них на иждивении, у несчастных. А уж если ты такой герой, попробуй укради царский венец — это я тебе разрешаю.
— Спасибо, батоно, век твоей доброты не забуду!
Не знаю уж всегда ли так полезно говорить правду?
Сдаётся мне, что иногда человека спасает и ложь.
На другой день, слоняясь как обычно по улице, заметил я погребальное шествие. Простой чёрный гроб стоял на дребезжащем катафалке, на котором обычно возят бедняков. За гробом шла горстка людей, венков не было вообще.
Беднягу даже оплакивать некому: ни друзей, ни родных. С жалостью подумал о покойнике и от нечего делать присоединился к процессии. О келехе здесь не могло быть и речи. Но вдруг я заметил человека, который произносил надгробную речь на могиле Стеллы. На руках он держал щенка. Я подошёл к нему и тихо спросил:
— Скажите, пожалуйста, не Константин ли Дмитриевич это помер?
Оратор без слов кивнул мне.
— От чего?
— Кто его знает. Нежданно-негаданно отдал богу душу.
— Ну и что же теперь?
— Что? — не понял оратор.
— Ну, как же! Собаку ту, прости господи, столько народу оплакивало, так неужто хозяин хуже неё, неужто одной хоть слезинки он, бедный, недостоин?
— Э-э, милый! У той собаки столько народу собралось в угоду хозяину. Надеялись, что он по достоинству оценит их преданность. А теперь кому угождать? После него ведь никого не осталось, разве что шавка эта паршивая. Понятно тебе?
— Да уж, что тут не понять. Всех, кто без рода, без племени, участь ждёт хуже собачьей.
У Стеллиной могилы оратор опустил щенка на землю, тот подбежал к плите, взобрался на памятник и стал усердно его облизывать, но это быстро ему надоело. Тогда он хотел было затеять драку с пробегавшей мимо кошкой, но та с быстротой молнии взобралась на вершину кипариса. Щенок же, не стесняясь людей, поднял заднюю лапу и оросил материнскую могилу…
— Каин, бессовестный! — закричал на него оратор и в гневе пинком отшвырнул несчастного в сторону. Щенок отчаянно взвизгнул и заплакал словно ребёнок.
— Удостой же блаженного хоть несколькими тёплыми словами, — напомнил я оратору.
— Да иди ты… — досадливо отмахнулся тот. — Кому это нужно, кто их слушать станет: камни безгласные или этот негодник? — Он показал на щенка.
Константина Дмитриевича похоронили рядом со Стеллой. Тихо, без всяких надгробных речей опустили гроб в могилу и засыпали землёй. Я прислушался к грохоту падающих на гроб камней и думал: «Пусть враг мой живёт, надеясь на собачью преданность! Бедный, бедный Константин Дмитриевич! Если бы несчастный знал наперёд свою участь, он удавился бы раньше, чем погибла его собака. Не стала бы его история притчей во языцех. Люди будут говорить про него — собаке поставил памятник, а себе даже могильного камня не припас. Такого они не забудут, потому что народ всегда помнит и плохое, и хорошее. Может быть, с этого начинается бессмертие? Но если спросить меня, то плюнул бы я на такое бессмертие, ей-богу. По мне уж лучше постыдное забвение. Сказывают, чтобы прослыть бессмертным, один человек сжёг святой храм. В огне бы сгореть его бессмертию!»
Когда все разошлись, остался я один у могилы Константина Дмитриевича и произнёс над ним слова, из сердца моего идущие:
— Спи спокойно, дорогой Константин! Много я от тебя хорошего видел, и за это я благодарен тебе, а вот за глупость твою, скажу откровенно, так тебе и надо! Когда воздвиг ты памятник собаке, о чём ты, неразумный человек, думал? Возьми теперь этот собачий памятник да и поставь его себе. Собак я тоже люблю: сколько я слёз пролил в детстве из-за дядиного Сеируки, любил я и ту, что грела меня холодной ночью и делила со мной кусок хлеба, но памятника я ей не поставил, ибо тот, кто ставит памятник собаке, окажется в таком же положении, как ты, отныне и присно и во веки веков. И так ему и надо! Аминь!
Никто, конечно, не слышал моей длинной речи, да мне это вовсе и не нужно было, — главное, душу отвёл и ладно!
Человек, провалившийся в мёд, и немой, обретший дар речи
После этого случая я смертельно возненавидел кладбище: «Пусть меня похоронят между Стеллой с её памятником и её хозяином, покоящимся без памятника, если хоть раз я появлюсь на кладбище!» — дал я себе торжественную клятву. А выйдя за ограду, ни разу не обернулся назад, так мне всё опротивело. Как упрямый мул, пнул я ногою калитку, но она не закрылась, а только как-то противно заскрипела.
Оставив кладбищенские дела и смерть-разлучницу в удел врагам своим, я решил зажить по-новому и первым долгом направился на поиски пропавшего Кечошки, предполагая, что он обязательно болтается где-нибудь около вокзала.
На привокзальной улице меня остановил какой-то странного вида человек, в руках он держал раскрытую бритву с остро наточенным лезвием.
— Дружочек, родной! — радостно закричал он мне.
Я остолбенел от неожиданности. Как ни старался напрячь свою память, никак не мог вспомнить, кто он такой, и решил, что это, вероятно, сумасшедший. Вы ведь знаете, что я никому не делал зла, но разве это помогает порядочным людям, когда город полон сумасшедших?! Чёрт его знает, что взбредёт в голову этому типу? Дело плохо, Караман, бежать надо, — сказал я самому себе. Но ноги мои сковало, словно кто-то невидимыми гвоздями прибил их к земле. Такое чувство испытываешь обычно во сне. Незнакомец подошёл ко мне вплотную.
— Караман, ты это или не ты, кацо? — спросил он меня удивлённо.
Я посмотрел на обнажённое лезвие, не зная, что ответить.
Правда, сказанная кладбищенскому сторожу, мне помогла, но поможет ли на сей раз? Что было делать? — Смущённо и испуганно пролепетал я что-то невнятное и бессмысленно ухмыльнулся.
Человек тоже улыбнулся мне, поняв по моему виду, что я и есть Караман. Вдруг он, словно вспомнив о чём-то, сложил свою бритву, положил её в карман и обнял меня:
— Бедняжечка ты моя, быстро же сломил тебя этот паршивый город, сразу превратил из ребёнка в мужчину. Ей-богу, не будь я цирюльником, без привычки сразу бы не узнал тебя, такого небритого. А держишься ты, всё-таки, ничего, молодцом?
— Да уж стараюсь, ничего не поделаешь, назвался, говорят, груздем — полезай в кузов.
— Ну, а бороду зачем отпустил? Пойдём я тебе её сбрею.
Страх у меня ещё не совсем прошёл, и я стал робко отказываться:
— Спасибо, батоно, она меня не очень беспокоит.
— Ты свободен?
— В общем-то да, но…
— Что но… меня что ли чужим считаешь?
— Нету у меня с собой денег, — признался я.
— Не стыдно тебе так говорить! Нужны мне твои деньги, совесть я ещё в ломбард не закладывал, чтобы на соседях наживаться. Мне с тобой, дурачок, поговорить охота, а ты: «денег нету…». Может, не признал ты меня?
Честно говоря, во всём городе я знал всего одного цирюльника, у которого обычно стригся, а этого как ни старался, никак не мог вспомнить. Он совсем по-домашнему говорил со мной, и я очень скоро почувствовал к нему расположение. Вероятно, мы встречались где-нибудь на келехе.
— Как же, как же, узнал я тебя сразу, земляки мы с тобой, хлеб-соль вместе едали.
— Чего ж ты тогда, милый человек, меня сторонишься? Идём, говорю, со мною, лавка моя тут в двух шагах, постригу тебя, побрею, красавчиком сделаю да ещё и кое о чём порасскажу.
«Пока он будет брить меня, я вспомню, кто он такой», — решил я и пошёл вслед за ним.
Мы вошли в цирюльню, была она такая маленькая, что, как говорится, и мышке не разгуляться. На дворе бушевал студёный зимний ветер, а здесь было тепло.
— Садись сюда. — Цирюльник подставил мне мягкий стул. — Сейчас я за тебя примусь, а заодно и поговорим. Правда, пока у меня ещё тесно, но бог милостив, перебьюсь как-нибудь эту зиму, а потом думаю большую мастерскую открыть. Зимой вообще-то туговато — люди большей частью дома сидят, а поэтому и бреются реже. Да не всегда ж так будет. За зимой, говорят, лето приходит. Эту лавку я всего две недели как открыл, а сколько до этого горя хлебнуть пришлось!.. Город встретил меня как злая собака. Какой-то дурак сказал, что деньги не пахнут! А если это верно, то почему воры так легко узнали, что я из деревни и при мне несколько грошей имеется? Сразу, проклятые, обобрали дочиста. Ума не приложу, как им удалось открыть внутренний карман архалука, я и сам, бывало, с трудом с ним справлялся, а они вмиг так всё выскребли, что не осталось у меня даже на то, чтобы купить кусочек верёвки и повеситься. От злости в тот день я полный кисет махорки выкурил. А ты куришь?
— Балуюсь иногда с тоски.
— Ни к чему это, если можешь, совсем брось, вот я, например, на ружейный выстрел к табаку не подхожу теперь.
— Повредил он тебе, что ли?
— Нет, ты послушай, что со мною приключилось: Я сидел как-то раз на лавочке и с наслаждением дымил. Сел рядом со мною старик с чётками и говорит: «Счастливый ты человек». А я его спрашиваю — отчего это я, по-твоему, такой счастливый? «Как отчего, — говорит он, — табак куришь. В дом к тебе вор никогда не влезет, собака тебя никогда не укусит, ты никогда не постареешь». «Как же это, почему?» — удивляюсь я. Он мне отвечает: «А вот почему: тот, кто курит, всю ночь не спит, кашляет, а вор не станет прокрадываться в дом к бодрствующему, кто много курит, быстро силу теряет и не может уже обходиться без костылей, а человека на костылях собака не кусает. Заядлые курильщики вообще умирают молодыми». — Слова, сказанные стариком, меня так напугали, что после этого табак я в рот не беру и другим советую: не курите. А отчего не посоветовать, слов, что ли, мне жалко? От меня не убудет, а людям добро делаю, правда ведь? Это я к тому говорю, что есть люди, которым для других даже доброго слова жалко! А мне нет — я добрый.
Ну, словом, что долго рассказывать, расстроил меня этот старик своей притчей, встал я и побрёл от него прочь, иду злой, как собака, у которой отняли последнюю кость, и встречаю высоченного такого худущего человека с бакенбардами, он как вытянется вдруг, да как чихнёт, прямо мне в лицо, а я ему:
«Будьте, говорю, здоровы!»
Он снова выпрямляется и снова на меня чихает, а я ему опять:
«Дважды желаю вам удачи».
Остановился тот человек, вытащил из кармана золотую десятирублёвку и подарил её мне. С тех пор я ни одного чихающего не упускал, чтобы ни пожелать ему удачи, правда, одаривали меня не всегда, но нет-нет да что-нибудь перепадало.
Цирюльник провёл остриём бритвы по висевшему на стене ремню, а затем коснулся им моей намыленной щеки:
— Не больно?
— Нет, батоно.
— Говорят, что о характере человека судят по волосам, но это, конечно, не всегда верно. Вот у тебя, например, волосы очень мягкие, а на вид ты таким не кажешься.
— Просто борода у меня ещё молодая, окрепнет потом.
— Конечно, мужчина должен быть сильным, иначе пропадёшь. А вообще-то ты здесь чему-нибудь научился, ремеслу какому-нибудь?
— Пока ещё нет.
— А сколько времени ты здесь?
— Почти год.
— Чего же ты ждёшь? За такое время даже мышь на мельнице ремеслу мельника обучится, а ты что же? Или бог на тебя разгневался? Не хорошо это, Караман, не одобряю я этого, возьмись за ум, пока не поздно.
— А куда торопиться-то? Отец мой так мне повелел: ты, говорит, семь раз отмерь, а один — отрежь… Вот я и присматриваюсь, ищу, чем выгоднее заняться.
— Присматриваться хорошо, но слишком долго не годится. Некоторые не в меру разборчивые мужчины выбирают-выбирают себе жён, никак не выберут, да так навек бобылями и остаются. Смотри, чтоб и с тобою так не случилось. Не все умеют деньги делать, но какое-нибудь ремесло всем знать надо. Ты со мною согласен?
— Конечно, батоно, разумеется.
— Вот и я, работал сначала у хозяина большой лавки. Товаров у него было видимо-невидимо. В один прекрасный день послал он меня в погреб. В темноте я оступился и упал в бочку с мёдом, откуда меня вытащили полумёртвого. Не зря говорят, что даже мёд может задушить человека, если увязнуть в нём с головой. Я еле дышу, а лавочник кричит приказчикам: «Подвесьте его под потолок вверх ногами, да таз под ним поставьте!» Ребята схватили меня за руки-ноги и подвесили вниз головою к дверной притолоке, как пустой мешок. Все мухи, какие водились в городе, налетели на меня и ну кусать! Так и висел я, пока весь мёд не стёк. Уж лучше было в крапиве вываляться, чем попасть в этот мёд. Ей-богу! Слишком было горько. Разумеется, после этого я не стал оставаться у того лавочника и ушёл куда глаза глядят. Неправда ли умно я поступил?
— Конечно, конечно, батоно, — ответил я, попробуй не согласись с человеком, в руках у которого сверкает остриём бритва, мало ли что ему в голову взбредёт… — Очень, очень умно вы поступили.
— Удобно тебе, бритва не беспокоит тебя? — спросил он, — а то у меня и другая бритва есть с коротким лезвием. Хочешь я тебя той побрею.
— Спасибо, и эта хороша, — сказал, а сам думаю: «Лезвие-то у тебя короткое есть, да вот язык больно длинный, ни на минуту ты его не останавливаешь, благословенный».
И опять мучительно силюсь, но не могу вспомнить, откуда я его знаю.
Правда, рука у него лёгкая, складно так бреет, да и язык не горький, но для чего он мне про мёд рассказал?
Противны мне болтливые женщины, а мужчины тем более.
— Я тебя не беспокою? — спросил он снова.
— Нет, что вы, всё в порядке! Не бритва, а целительный бальзам. В жизни так приятно не брился, — убеждаю я цирюльника, а сам думаю: «Бритва меня не беспокоит, но вот язык твой болтливый…»
Цирюльник между тем вошёл во вкус и стал болтать без умолку, точил, точил свой язык, благо, что не нужен был ему для этого точильный камень, а даровой собеседник покорно томился в кресле:
— Одним словом, приискал я себе другую работу — судомойкой в духане. Жалованье, правда, было маленькое, да зато поглощал я задарма довольно большие куски. Но счастье моё длилось недолго: у духанщика была уродливая жена, и на моё место он предпочёл взять красивую девочку. Ну, бог ему судья! Правду сказать, я не очень и огорчился, не мужское это занятие — мытьё посуды. Однако деньги у меня вскорости кончились, и пришлось мне задолжать у одного свойственника. Пошёл я к нему, а у него духан и дом рядом, во дворе бассейн с навесом, беседка обеденная. Уселся я в той беседке и стал глядеть на плавающих в бассейне рыбок.
Прошло довольно много времени, вдруг из дому выходит ребёнок, подходит ко мне и спрашивает:
«Дядь, а дядь, когда ты уйдёшь?»
«Скоро, миленький, а что?»
«Есть ужасно хочется».
«Ну и кушай себе на здоровье, за чем дело стало, есть, что ли, тебе нечего?»
«А мама говорит, пока этот незваный гость не уберётся со двора, на стол не накрывайте. Так что уходи, дяденька, поскорее, очень тебя прошу».
Плюнул я со злости прямо в бассейн, надел шапку и пошёл прочь. Хорошо поступил, правда?
— Конечно, батоно, да только плюнуть нужно было не в бассейн, а в лицо тому человеку, вашему свойственнику. Уж очень он бессовестно с вами поступил.
— И я так сказал, а знаешь, что мне ответили? Совесть теперь не в моде.
— А что, разве совесть тоже подчиняется моде? Эх, пропадай тогда всё пропадом, — в сердцах выпалил я и тут же прикусил язык, не зная, как к этому отнесётся мой собеседник.
— Вот за эти слова я тебя люблю, молодец. Кабы все так думали. А то если и вправду совесть подчинится моде, тогда действительно необходим ещё один всемирный потоп, — человечество ничего уже больше не спасёт! — возмущался цирюльник.
В это время дверь отворилась и на пороге показался хорошо одетый господин, увидев, что кресло занято, он повернулся и с достоинством вышел…
— Кто это? — спросил я.
— Какой-то большой чиновник, но чем он занимается я так и не знаю. Ненавижу таких людей, целыми днями бездельничают, а за них всё другие делают.
— И детей? — вырвалось у меня.
— Этого я не знаю. Детей у него, кажется, вообще нет. Он и недостоин… Да, — продолжал он, — так вот, не нашёл я ничего подходящего и решил заняться цирюльничеством. Считают, что несерьёзное это занятие, лёгкое, да что поделаешь. Тяжёлая, говорят, пуля, а человека убивает. Прежде чем я эту лавку открыл, уступил мне один человек свою, большая она у него была, с галёркой, сам-то он в деревню на виноградный сбор уехал. Сижу я целыми днями один, а клиентов всё нет и нет. Дай, думаю, немножечко посплю, если кто войдёт — дверь заскрипит, я мигом и поднимусь. Уснул. Явился тут один мой дружок, видит, что я сплю, не стал он меня будить, а чтобы воры не влезли, придвинул к двери стол и ушёл. Приходят клиенты, видят приставленный к двери стол; думают, нет внутри никого и обратно уходят. Проснулся я поздно и как увидел, что стол приставлен, решил, что это сосед-цирюльник нарочно сделал, чтобы клиентов у меня отбить; стал я с ним ругаться. Потом извиняться пришлось. Поучительная история, потому я тебе и рассказываю. Иногда кажется, что делаешь человеку добро, а на самом деле наносишь ему непоправимый ущерб, — разбуди меня мой товарищ, не потерял бы я клиентов. И ещё скажу: если не знаешь, вправду ли человек твой враг, не надо с ним ссориться. Не то — придётся извиняться. А самое главное — человек в своей собственной лавке спать не должен, чтобы у него, храни бог, ничего не украли и чтобы не приклеилось к нему прозвище лодыря и сони. Правда ведь?
— Поистине, батоно, вы всю жизнь черпаете из источника мудрости…
Вдруг цирюльник бросил бритву и высунулся в форточку:
— Пармён, Пармён, — заорал он во всю глотку.
В цирюльню вошёл взъерошенный длинноносый человек без папахи. Поздоровался и прислонился к стенке.
— Вот он-то и придвинул стол к двери, — сказал цирюльник и снова обернулся к Пармёну. — Чего это ты без папахи в такой холод?
— Мне посоветовали — волосы у меня лезут.
— Ты, милый человек, уж лучше за головой следи, чем за волосами. Что не в настроении? Вести, что ли, дурные из деревни получил?
— Нет, — отмахнулся тот, — понимаешь, утром у меня пропал большущий сом.
— Нашёл из-за чего печалиться, знаю я твои рыбачьи дела — завтра трёх словишь.
— Да не в этом дело, какой-нибудь невежда найдёт, приготовит неумеючи и съест без вкуса. Ведь варить рыбу по-настоящему не все умеют.
— Тогда, конечно, дело другое.
— А рыбу эту я тебе нёс…
— Жаль, где же ты её всё-таки потерял?
— Ну уж, если бы я видел, где её обронил, будь спокоен, подобрал бы.
— Не побрить ли тебе бороду, Пармён?
— Нет, я завтра зайду, — он попрощался и вышел за дверь.
Теперь цирюльник взялся за ножницы, намереваясь подрезать мне усы, но тут я запротестовал: пусть остаются, так мне больше нравится.
— Да, пожалуй, они тебе к лицу. Я свои тоже не сбриваю. Как случится вино пить, опускаю их прямо в рог, они как хорошее сито, весь осадок на них остаётся… Знаешь ведь, какие здесь мутные вина. А ты-то пьёшь вино?
— Иногда…
— Всё время пить не годится. А иногда стоит, тем более, что вино всё-таки лучше, чем вода из Куры. Плохая здесь вода — тёплая, безвкусная, не то что наша в Урави.
Как только он это произнёс, я как громом поражённый уставился на него: «Неужели, неужели это он. Узнал, наконец, узнал! Так это же Нариман! Тот самый Нариман, который встретился нам с Кечошкой, когда мы шли в город, тот Нариман, которого мы считали немым».
Хвала тебе, всевышний, какое же ты сотворил чудо! Поблагодарив Наримана и распрощавшись с ним, я вышел на улицу. Всю дорогу я неустанно повторял: «Хвала тебе, всевышний, какое ты сотворил чудо!»
Хотя, если говорить правду, при чём тут бог?
Если есть у кого дома немой, не водите его ни к гадалке, ни к лекарю, — всё равно не поможет. Лучше выучите его цирюльному ремеслу, — вот тогда он непременно сам заговорит.
Новый хурджин и голубые бусы
Карманы мои совсем опустели, а на улице между тем свирепствовала зима. В одно из своих гуляний подобрал я какую-то истрёпанную книженцию с полуистлевшими страницами. До книг я, как вы знаете, охотник небольшой, поэтому сначала решил — на что она мне, выброшу, однако полистал-полистал и нашёл заглавие — «Карабадини».
Вспомнилось мне, что слышал я не раз от покойной моей бабушки про «Ефремверди» и книгу лекарей — «Карабадини», которые стоят дороже золота, и тут же подумал: — Пригодится! В книгу я положил пять десятирублёвых и поклялся не трогать их до самого возвращения в Сакивару.
С Кечо мы скоро помирились, и я, недолго думая, завёл разговор о деньгах.
— Чего ты торопишься, — потерпи немного…
Но дни шли, а он и не помышлял возвратить мне долг. Наконец чаша моего терпения переполнилась, и я не выдержал.
— Кечошка, проклятый, — сказал я ему сердито, — брось дурака валять, отдай деньги. Туго мне теперь, раскрутилась моя карусель, и остался я не у дел…
— Попытай счастья где-нибудь в другом месте, хочешь — куртан одолжу?
— Ты что, спятил! Разве это подходящее для меня занятие? У меня спина к этому не приспособлена.
— Не хочешь, сиди себе, мух лови.
— Довольно издеваться, отдай деньги, не помирать же мне с голоду, давай хоть половину долга.
— Разве может человек умереть с голоду, если у него руки-ноги целы? Ты мне очки не втирай!
— Говорю же тебе, в стеснённых я теперь обстоятельствах, так что верни деньги!
— Выходит, они у меня лежат, и я их тебе не даю?! Подожди маленько, соберу, тогда отдам. Если не здесь, то дома уж непременно!
— Дома?! А дома они у вас есть? Может, рядом с очагом у твоего папаши завелась машинка, на которой их печатают? Если так, то чего же ты, милый человек, этот облезлый куртан на себе таскаешь? Не своди, бога ради, меня с ума, не то как разозлюсь, так все твои золотые зубы выбью!
— Сам когда-то говорил, что бандиты у мертвецов золотые зубы вырывают, не у них ли ты этому выучился, и теперь мне грозишься?!
— У них, или не у них, это ты ещё увидишь!
— Что это я увижу, ты чего меня пугаешь?! Если ты у меня зубы выбьешь, то я оторву твою дырявую башку. Без зубов жить ещё можно, а вот без головы попробуй-ка. Посмотрим ещё, кто останется в накладе… Сказать по правде, так твоя голова не стоит и одного моего золотого зуба, но уж хоть душу-то я отведу, — говорит он мне, а сам посмеивается в усы.
— Какая там ещё у тебя душа! Вспыхиваешь, как порох. Совсем ты здесь, в городе, испортился…
— А ты… стал мне теперь поперёк горла, как петушиная кость, и душишь! Повремени ещё немного. На пасху отдам…
И снова топчу я снежные тбилисские улицы, бреюсь и обедаю у Наримана, разумеется, бесплатно. Ко всему привыкаешь. Представьте себе, даже к болтовне его я привык, — она мне даже нравиться стала, не боюсь я теперь и блестящей бритвы, которая бреет так, что щёки мои становятся похожи на зеркало. А когда смотрюсь в зеркало и вижу себя в нём таким красивым, мечтаю, чтоб увидела меня Гульчина. Скучаю я о Гульчине, о деревне своей, о маме, о весне и мечтаю о возвращении домой…
Зима одним хороша: мух не стало. Мороз, правда, тоже здорово кусается, но всё-таки не так, как мухи. Вспомнил я о мухах, и опять пришли мне в голову мысли о городе и о душе его, о том дурном запахе, который здесь стоит, припомнилось и то, как обокрали меня на Куре и об истории со вдовой. Обо всём передуманном поведал я Нариману, а тот мне и говорит:
— Батоно, Караман, ты ведь, кажется, не глупый парень, а такой простой вещи не понял: главные люди в городе — купцы, правительство да царские чиновники, они-то и составляют его душу. И запах этот ужасный от них.
— Мудрец ты, батоно, и впрямь Нариман Мудрый, — я чистосердечно расцеловал его.
Вообще не люблю я с мужчинами целоваться, однако слова, сказанные цирюльником, так мне понравились, что я проделал это с удовольствием. Познакомившись с городом, словно в этом и заключалась цель моего приезда, я потерял интерес, мне вдруг до боли в сердце захотелось домой. Я понял, что соскучился по дому, по тамошней воде, воздуху, словом, по всему, что меня окружало с детства.
— Кечойя, парень, не считаешь ли ты, что нам пора уже домой? — спросил я друга.
— Рано ещё, безбожник, разве ты не знаешь, что едущие в город на заработки обычно возвращаются назад к пасхе. Потерпи ещё немного. Пасха-то ведь на носу… Апчхи, апхчи, — расчихался он, — впрямь правда, значит.
— Правда это или неправда, потом видно будет, ты мне лучше вот что скажи, когда долг вернёшь?!
Сначала он помолчал, втянув голову в плечи, но потом хитро заулыбался, поблёскивая своими золотыми зубами. Это меня совсем разозлило, и что было мочи я заорал:
— Ты меня не дразни, ишь выставил свои сокровища. Ещё раз говорю, отдай деньги, не то, не сносить тебе головы!
— Ну, не ори, не ори, — сказал верну, значит, верну, — ткнул меня кулаком в бок Кечошка. — Приедем в деревню, куплю двух овец, барана да ярочку, расплодятся они, целая отара выведется, как пойдут к забору, станут тереться — шерсть на заборе останется, я ту шерсть соберу, отдам матери, расчешет она её, ссучит, свяжет носки, понесу их на базар, продам и долг тебе верну, да ещё и мне кое-что останется, — смеётся он.
— Бога ради, брось ты издеваться, не томи меня, нехристь окаянный, не то я тебя как эту самую шерсть растреплю, взъерошу да как порванный носок распущу…
— Ну ладно, ладно, не кипятись. Приходи завтра.
Пришёл я на следующий день. Снова обнажил он в улыбке свои золотые зубы.
— Не смейся, чёрт, не то выпадут они у тебя, — говорю ему.
А он мне в ответ:
— Приходи ещё через неделю, непременно отдам. А ты за это время обдумай, какие подарки в деревню повезёшь.
— Кечошка, дружочек, а помнишь ты говорил, что в городе какой-то зловонный дух стоит?
— Ну помню, а что?
— Ничего, вот в последнее время, сдаётся мне, от тебя также попахивает, не передался ли тот дух тебе, а?
— Какой дух, что ты мелешь!
— Вонючий, дух обманщиков и подлецов, который в городе царит и мух порождает.
— А… ты вот про что! Ну раз ты уже до такой мудрости додумался, то тебе, вероятно, известно, что для искоренения его необходима большая потасовка, как-то она там называется, не знаю, кажется, революция, что ли…
— Ну, если потасовка, то без нашего с тобой участия определённо это дело не обойдётся, только вот не знаю, одну Рачу мы взбаламутим или все семь краёв Грузии, как думаешь?
— Ты, Караманчик, смеёшься, что ли?
— А ты что думаешь, серьёзно? Тоже мне революционер выискался. Брось мозги глупостями засорять, лучше денежки возврати.
— Вот привязался, так привязался, сказано верну, значит, верну. На иконе что ли поклясться?
— В общем, слушай, если и теперь ты меня обманешь, клянусь душой моей бабушки, заколю я тебя, как рождественского поросёнка, так и знай.
— Ха, ха, ха! — смеётся он в ответ.
— Я тебе посмеюсь!
— А чего? Что лучше смеха есть? Бывал же ты в театре, там люди, чтобы посмеяться, деньги платят, а ты тут меня даром смешишь. Что в этом плохого?
К концу недели я снова к нему наведался, и опять он осветил меня златозубой улыбкой.
— Что ухмыляешься, несчастный?!
— А что и посмеяться теперь нельзя?
— Как там насчёт обещанного?
— Разве я что-нибудь обещал?
— Хватит дурака валять, времена, когда я на Накерале вином за пятак торговал и на твою, негодяя, удочку поддался, давно прошли, поумнел я теперь.
— Ладно уж, будь по-твоему. А всё-таки, что же ты собираешься купить?
— Себе и отцу — одинаковые чохи с архалуками, да бурку не мешало бы.
— Зачем тебе бурка, ты что, в разбойники собираешься?
— Что, по-твоему, бурка никому, кроме разбойников, не нужна?
— Да нет, это я так просто спросил. А ещё что?
— Хурджин.
— А маме ничего не везёшь?
— Как же, красного шёлку на платье, пёструю косынку, а если к тому ещё прибавить ситца на наволочки да верха на одеяла, я думаю, она не обидится. Женщины любят хорошую постель, ещё кое-какие мелочи…
— Как думаешь, на всё это рублей семьдесят хватит?
— Даже чуточку останется.
— Вот тебе сто рублей. На остальные купи соседским детишкам леденцов. Пересчитай хорошенечко, не ошибись!
Нагрузились мы с Кечошкой покупками, напихали ими новенькие хурджины.
— Сколько за мной ещё осталось, Караманчик?
— Столько же.
— А не обмыть ли нам покупки, — хитро прищурился Кечули.
— Потерпи до Сакивары, там кутнём на славу.
— Знаешь что, Каро, остальное я тебе верну, когда мы отойдём от духана Агдгомелы, у самой Сакивары.
— Тут отдай!
— Будь они у меня сейчас, разве стал бы я их у себя держать? Отдал бы и дело с концом. Сказал дам, как только мы отойдём от духана Агдгомелы, отруби мне голову, если совру.
— Слушай ты, ненормальный, откуда же у тебя они потом появятся, если сейчас нет, что Агдгомела должен тебе, что ли?
— Не твоё это дело, должен он мне или нет. Вот если не отдам, тогда иди жалуйся на меня кому угодно, хоть самому судье-начальнику.
На этом разговор о деньгах закончился.
Ещё разок пообедал и побрился я у Наримана; вскинул на спину новенький хурджин и, не дожидаясь, пока снова разведутся в городе мухи, простился с Тбилиси…
Через три дня мы с Кечуликом шагали по Ткибульской дороге. Хурджины наши были полны, но они не отягощали нас: знали мы, как безмерно обрадуются наши родные, и радость эта делала груз лёгким.
В моём хурджине, кроме всего прочего, лежали голубые бусы. Положил я их туда потихонечку от Кечошки. Правда, он не раз хитро намекал мне о том, что вкусы у людей бывают разные — кому, мол, нравится поп, кому попадья, а кому попова дочь, — но я отмалчивался, предпочитая с ним не откровенничать. На сердце же у меня была она, Гульчина, и бусы эти я купил для неё. А молчал я потому, что, как говорят в народе, любовь надо прятать, как украденного коня.
Едва только рассвело, подошли мы к Накеральскому хребту. Утренний туман овевал гору. Небо хмурилось.
— Как ты думаешь, дождь будет? — спросил я у Кечо.
— Как будто бы нет. Впрочем, посмотри вон туда, — он указал мне на полянку.
Я взглянул и не заметил там ничего особенного, кроме маленького ишачка, который мирно пощипывал травку:
— Ну и что же?
— Как это что, — возмутился он, — говорят ведь, если осёл стоит, уши опустив, непременно быть дождю.
— Тоже мне Соломон Мудрый нашёлся! У ишака-то и в голове не больно много ума, откуда же ему в ушах найтись?!
— А я почём знаю, говорят так… по чём купил, за то и продаю… А вообще-то, видишь вон ветер поднимается.
— Иногда и ветер хорош, когда в спину дует…
— И чего это мы всё препираемся, пойдём дальше, а там видно будет, хотя тебе-то хорошо, у тебя бурка.
— Глупый ты человек, чего заранее плачешься, будет нужда, так мы оба в эту бурку и завернёмся, — обнадёжил я друга.
И мы двинулись дальше.
Дуло пистолета и ужас, пройденный конём
Шли мы извилистой тропкой по только что одевшемуся молодой листвой лесу, меж листьев небо посвечивало, но временами налетал такой порывистый ветер, что трудно было дышать. Постепенно развеялся туман и выглянуло солнышко, защебетали птички, а маленькие ручейки зажурчали наперебой, словно Нариман-цирюльник о чём-то рассказывает.
Крутой подъём истомил нас, как волов в упряжке, но несмотря на усталость мы продолжали путь. Наконец подъём кончился и стал виден перевал через Накералу. Дальше дорога пошла низиной. Ветер между тем крепчал. Кечошка жадно ловил его ртом и весело смеялся:
— Хи, хи, хи! А помнишь, Караманчик, как в городе мы с тобою мечтали подышать воздухом, выпущенным из наших бурдюков, — теперь его так много, глотай сколько влезет!
— Ох, как вкусно, — вторил я ему. — Давай-ка отдохнём под той елью.
— Будь другом, не напоминай мне про ту злосчастную!
— Что ж, выходит, до самого духана мы так и не присядем?
— Ну почему же? Спустимся пониже, так и пообедаем, если хочешь, вздремнём часок, а потом можно и дальше пойти.
Торопиться нам было некуда, ведь теперь мы уже были почти дома.
Дальше снова начался лес. Не успели мы сделать и трёх шагов, как перед нами, словно из-под земли, выросли двое, закутанные в бурки и вооружённые пистолетами, лица у них башлыками были прикрыты. Один — здоровенный детина, косая сажень в плечах, другой — безбородый, тощий и маленький. Глядя на них, невольно на ум приходило: лев с мышью, мол, подружились.
— Руки вверх! — запищал карлик.
Попробуй-ка, не подними, если не хочешь, чтобы тебя не понесли вверх ногами, да не сделали добычей воронья?
— Дядечка, не убивай! Дядечка, хороший, отпусти, всё отдам, что пожелаешь, живыми только оставь! — взмолился Кечо.
Поглядел я на друга и удивился, — сначала посинел он как петушиный желудок, потом пожелтел, а в конце концов стал цвета индюшиного зоба.
Не знаю, какого я был цвета, но испугался до смерти, дрожал весь, себя не помня.
Карлик между тем заставил нас сбросить хурджины и швырнул их в сторону.
— Ну-ка выворачивайте карманы! — приставил он дуло пистолета к моему лбу.
В кармане у меня завалялась какая-то мелочь, и я с готовностью протянул её ему:
— Пусть пойдут они тебе впрок, на счастье тебе, на здоровье! — благословлял я злодея.
— Смотри на него, ещё и издевается, — возмутился тот. — Да за кого ты меня, дурачина эдакая, принимаешь! На кой чёрт мне твои медяшки! — он выхватил у меня деньги и словно придорожную гальку стал швырять их в ручей.
— Прости меня, батоно, нет у меня больше, — стал я извиняться.
— Чего ж это вы такие бедненькие! Экие незадачливые рачинцы. Выходит, зря в городе-то болтались! — засмеялся он и потом обратился к карлику:
— Обыщи хорошенько, чтобы не обманули!
Тот принялся сначала за меня, тщательно вывернул мои карманы, но ничего не нашёл, да и что он мог в них найти, если и вправду были они совсем пустые, потом полез ко мне за пазуху, — может, сюда, мол, что спрятал.
Денег он и там не нашёл и принялся за чоху.
Вдруг заметил я, Кечошка внутренний пояс брюк стал поспешно расстёгивать.
— «Чёрт-те что, — подумалось мне, — от страху что ли с ним конфуз приключился».
Стал я принюхиваться, потянул носом воздух, как ищейка, вроде бы ничем не пахнет, напротив — воздух кругом просто великолепный. Что же с ним случилось понять не могу.
Детина тоже удивился, что, мол, с ним происходит?
— Ты, никак, штаны скидываешь? — спрашивает он у Кечо.
— А что же мне прикажете, батоно, — отвечает тот, — знаю я вас, обыщете, перетрясёте всего и, как не прячь, всё равно найдёте. У меня тут деньги зашиты. Так ежели я пояс не развяжу, не вытащить мне.
Издевается, думаю, парень, над бандюгами этими, и поделом им проклятым. Но предположение моё не оправдалось. Вытащил он пачку красненьких десятирублёвок да и протягивает их разбойникам.
— Нате, только отпустите нас с миром!
— Молодец! Вот это настоящий мужчина, люблю таких. Не то что этот нищий, — глянул на меня с презреньем верзила.
На негодяя я не обиделся, что он меня нищим обозвал, обидно было, что Кечо утаил от меня деньги.
«Как же это, подумал я, имел он столько денег, и не хотел мне долг возвращать?»
Больно, когда друг тебя обманывает.
Положил верзила деньги в карман и стал шептаться с карликом. Слышу, говорит ему:
— Обыщи хорошенько. У него ещё должны быть. Шапку проверь и сапоги тоже!
Засунул Кечо снова руку в брюки, вытаскивает оттуда вторую пачку.
— Получай, — говорит, — Караманчик, должок! — и протягивает мне деньги.
— Какой, спрашиваю, должок, чего ты мелешь?
— Как какой, забыл разве? Или револьвера испугался? Бери, бери, друг! Твои они. Отдельно у меня лежали. Посчитай, как следует, тут без малого сто рублей.
— А-а! Вот ты о чём, негодник. Не возьму я их у тебя, до самой Сакивары не возьму, так ведь договорились?! Не такой я, как ты, бессовестный, чтобы от слова своего отказываться, сказал до дома потерплю, так и будет!
— Чего злишься? Есть у меня теперь деньги, вот и возвращаю тебе долг, не зря ведь говорят: долги платить никогда не поздно. Вот два почтенных разбойника тому свидетели. Возвращаю я тебе, а если не хочешь брать, бог тебе судья.
— Возьми, — приказал мне верзила.
Холодное дуло пистолета снова поцеловало меня в лоб, который вдруг покрылся смертельной испариной.
Истинно говорят, не хочешь потерять друга, не одалживай ему денег! Посмотрел я на Кечо, и противно мне стало. Но отвращение это я похоронил где-то в глубине души, ибо верно, что настоящую любовь не удержать и за девятью замками, а вот отвращение сдержать и не высказать — куда легче. Взял я кончиками пальцев у должника своего деньги и передал их карлику, не считая, потом, горько улыбаясь Кечошке, поклонился:
— Спасибо, дружок, премного благодарен. Вовремя долг отдал, а то чем бы я уважил этих почтенных разбойников. Век я твоей доброты не забуду, отплачу тебе сторицей.
Заулыбался было Кечо, верхняя губа у него совсем куда-то в сторону поползла, да вдруг раздумал почему-то и крепко челюсти сжал.
«А-а! Попался! Сам себя с головой выдал, трясёшься небось, чтобы разбойники золотых твоих зубов не увидели? Так тебе и надо! А помнишь, как в городе просил я у тебя свои деньги, а ты, вместо того, чтобы отдать их мне, зубы себе вставил да дразнил меня ими? Забыл, да? Погоди-ка, братец, шепну вот этим душегубам, от чего это рот у тебя словно на замок закрыт, они люди сердобольные, мигом тебя от такого неудобства избавят. Без клещей по одному зубику вытащат, а противиться будешь, зараз и голову оторвут. Вот и плачь теперь, а я посмеюсь! А не сойдёт ли с ума этот бедняга, если бандиты у него и взаправду зубы вырвут», — подумалось мне.
Кечо, казалось, мысли мои прочёл и тоже без слов просит-умоляет: «Не выдай, братец, не погуби!»
Бандиты же тем временем дело своё продолжают. Верзила сорвал с меня шапку, щупает рубец, теребит подкладку в надежде обнаружить зашитые в подкладку деньги, а карлик засунул свою лапку мне за пояс брюк и тоже щупает, ищет… Бандита провести трудно, он ведь на таком деле собаку съел. С Кечошкой обошлись также. Потом заставили нас сапоги снять да хорошенько их вытряхнуть и опять ничего не нашли.
— Чего это вы, как бараны стали, обувайтесь, весенняя земля небось холодная, простудитесь ещё! — напустился на нас верзила.
Мы обулись. Карлик между тем стал в хурджинах рыться.
Колебался я всё, не отплатить ли Кечошке-паршивцу, не сказать ли про золотые зубы? Наконец взяло верх благоразумие. Лучше уж быть великодушным, решил я, всё равно не съест он этими зубами всего, что я заработаю, чёрт с ним! Пусть уж всё как есть остаётся.
Не согласен я, конечно, с Иисусом Христом, поучающим, что коли ударит тебя кто по щеке, подставь ему вторую, но и то не годится, что если ударишь человека по щеке, у него щека заболит, а у тебя рука. Что мне за радость, если вырвут у этого дуралея зубы? А ну его! Пусть хоть всю Сакивару этими зубами осветит, мне-то что за корысть? Я нет-нет, а при случае и попрекнуть могу: «Так-то, мол, дружок, зубы у тебя по моей милости сохранились».
Занят я был своими мыслями и не заметил, как карлик извлёк из хурджина «Карабадини».
— И чего это ты, дубина, таскаешь в хурджине всякую дрянь, на кой чёрт тебе эта книжка!
— Хочешь тебе её подарю, батоно? — начал было я, да вовремя язык прикусил, вспомнил, что положил туда деньги.
— Видали вы эдакого нахала, — возмутился он, — ещё и издевается. Да, что тебе, несчастный, жить что ли надоело? Зачем разбойнику книга! Посмотрите на него, он же мне ещё и подарки собирается делать! Наглец! Да разве этот хурджин и всё его содержимое и так не моё?! Если хочешь, я тебе эту книгу подарю, на, держи! — «Карабадини» упал прямо у моих ног. Я поспешно наступил на него, боясь как бы образина не передумал:
— Спасибо, батоно, на память от тебя сберегу.
— Тебя, парень, часом не смерть ли укусила! Ишь осмелел, подлец! Смотри, не укоротишь язык, панталоны с тебя спущу! Ты ещё не знаешь, каков я есть! — грозно засверкал он глазами, но я почему-то не испугался.
Припомнился мне вдруг один забавный случай, и начал я хохотать, как сумасшедший.
— Чего скалишься, дурень! — возмутился карлик.
— Батоно, говорят, слезами горю не поможешь, а не то плакать я могу сколько угодно. Представил вдруг я, как встретили бы вы нас, идущих из деревни, да велели бы дружку моему панталоны скидывать. А что, скажите на милость, скинул бы он их, если бы они на нём и вовсе надеты не были? Ха-ха-ха!
Шутка эта даже Кечо заставила улыбнуться, однако он тут же спохватился и ещё крепче рот сжал.
Вытащил карлик из Кечошкиного хурджина большой кусок каменной соли и швырнул его к ногам хозяина:
— А это тебе от меня в подарок, ты, по всему видать, парень домовитый.
Верзила взвалил на плечо мой хурджин, карлик — Кечошкин и, не прощаясь, собрались уходить, тут и я за ними увязался.
— Куда это ты? — удивился верзила и нацелил на меня пистолет.
— Как куда, батоно? Ведь эти хурджины сюда я при волок, так давайте дотащу уж вам их до дому.
— Цыц ты, деревенщина, укороти свой длинный язык, да запомни, с кем дело имеешь! Сказано ведь тебе, разбойник я, человека не сморгнув прикончить могу, так что, ты у меня смотри! Убирайся подобру-поздорову, пока ноги целы.
— Куда же мне идти? Домой вернуться я уже не могу, одно теперь — в разбойники податься…
— Иди, говорю, проваливай! Какой из тебя разбойник. Нашёл тоже чем заниматься! Будь у нас порядочное правительство, стал бы разве я разбойничать? А тебе тем более-то ни к чему, да и силёнки в тебе маловато. Увидел пистолет и дрожишь, как заяц, а ещё туда же лезешь.
— Напал-то ты неожиданно, а таким манером кого хочешь напугать можно, — оправдывался я.
— Отвяжись, — отмахнулся он.
— В хурджине у меня бурка, чем я не разбойник? — не отставал я.
— В последний раз говорю, проваливай!
— Раз так, батоно, в хурджине у меня рядом с буркою верёвка лежит, хоть её мне оставь… повешусь!
Долго я просил, но никакие уговоры не помогли, невозможно было его разжалобить.
Остались мы с Кечо опять одни, и охватило нас глубокое отчаяние. Даже тогда, когда украли у меня на Куре одежду, не так горько было, — ведь были мы почти в двух шагах от дома.
Усевшись на камень, зажмурил я глаза, лицо руками закрыл и окаменел от горя. Сердце кровью обливалось: «О, мои новые чоха-архалук, кто теперь вас наденет! Вай, вай! А красное мамино платье?! А голубые бусы?! Чью шею вы теперь украсите, вай, вай! В какой реке утопиться?!»
— Ты что это, Каро? — шепчет мне Кечо. — Только не молчи, ради бога, скажи хоть что-нибудь. Что делать? Как дальше-то быть?
— Поздно теперь после драки кулаками махать, бороться надо было, вот что! Их двое и нас двое, нужно было хоть хурджины им не уступить.
— Да ведь они нам и вздохнуть не дали. Я ведь даже толком и разозлиться-то не успел, не то…
— А что бы ты сделал?
— Как что, убил бы, душу из них вытряс. До чего же всё-таки бессовестные были разбойники эти.
— Отродясь ничего бессовестней их не видел, — согласился я, — хотя, как сказать, другие бы на их месте и одежду с нас сняли. По-моему, легко мы ещё отделались.
— А не податься ли и нам в разбойники, как ты думаешь, Каро? Я ведь сейчас со злости да с горя даже с сироты рубаху содрать готов.
— Ну это ты, братец, врёшь, уж лучше хорошенько смотри, чтобы с тебя кто чего-нибудь не стащил.
— Что же нам делать, головой об стену что ли биться прикажешь?
— Уж если твоей башкой о скалу биться, то скала сломается, а твоя пустая башка и не треснет! Эх! Встретили бы уж эти негодяи нас хоть немного раньше, ну в Ткибули хотя бы, не пришлось бы тогда взбираться нам с этими хурджинами на гору! Подумай, невезенье-то какое!
— Уж и не говори! И для чего я только спину свою надрывал, поберёг бы её уж лучше для жены и детей будущих, — отшвырнул он с досадой кусок соли, оставленный ему великодушным разбойником.
— Не бросай далеко, пригодится, — посоветовал я, смеясь.
— Довольно, брат, не до смеха мне, ржать всё время тоже ни к чему!
— А что же мне ещё осталось, ведь всё, слава богу, забрали, теперь вот и посмеяться даже нельзя. Да, а правда, что это с тобою, братец, стряслось? В городе ты надо не надо зубы скалил, а тут что случилось, какой на тебя бог разгневался, чего это ты челюсти свои всё сжимал и молчал, как камень, а?
— Молчание — золото, говорят.
— Воздай тебе боженька, если на это золото ты все надежды возлагаешь.
— А почему бы и нет! В несчастье-то я в эту мудрость и поверил, да не проиграл, кажется.
— Что же ты уразумел всё-таки?
— Как что, убедился я, что молчание — действительно золото.
— Да уж по тебе это видно, улыбнись-ка ты, дружочек, при разбойниках, они бы тебе и не то показали.
— Несчастный, неужели ослеп ты так, что не заметил даже, что с помощью этих золотых зубов я жизнь сохранил!
— Вах! Чтоб ты издох, проклятый! Вот этими слепыми глазами я ещё и кое-что другое заметил! В какое время, антихрист, вздумал ты мне долг возвращать?… Лучшего должника и поискать трудно. А помнишь, как в городе я на коленях тебя умолял возвратить мне деньги? А ты что же, на какой их день берёг!
— Послушай меня, Караманчик, пропащая твоя душа, не хотел я тебе худого, матерью своей клянусь. Думаешь правда деньги твои нужны мне были? Нет, дорогой, я их нарочно у тебя брал. Знаю я этого транжиру, думаю, он ведь и выпить-то не дурак, деньги, правда, ты заработать-добыть можешь, а вот цены им не знаешь, всё растренькаешь-разбазаришь, по ветру пустишь, вот и решил я собрать тебе немного, да перед уходом из города давать не хотел, чтобы в дороге не истратились, — у самой Сакивары верну, решил, да вот как дело обернулось. Подумал я тогда, не оставаться же мне дважды в проигрыше. Так-то! Хочешь верь, хочешь нет.
Заметил я повисшую на глазах у Кечо слезу, понял, чистая она и пожалел друга. Перевернула она, слеза эта, всю душу мне. «А-а, к чёрту, — подумал, — денег мне моих вовсе не жалко — принесённое ветром ветер и развеет, говорят у нас. Но почему так несправедлива судьба к этому несчастному работяге?!»
— Караман, братец, ты что это, плачешь никак?
— Что ж, по-твоему, камень у меня в груди вместо сердца, что ли. Я ведь тоже человек…
— Ну-ка вставай! — заорал вдруг Кечо. — Хороши мы с тобою оба, сидим да ревём, как бабы.
— Хорошо, встал я, а дальше что? — сказал, поднимаясь и кладя за пазуху «Карабадини», единственную теперь мою надежду.
— Назад вернёмся, вот что! — твёрдо сказал Кечо.
— Куда назад, в город?
— А что делать? Разве вот так, с пустыми руками, возможно в Сакиваре появиться?
— Виноваты мы что ли, что ограбили нас?
— В Ткибули что ли податься?
— Чего я в этом Ткибули не видел? Угля? Мало я его, поганого, в детстве съел?
— Не кипятись, погоди, походим, осмотримся, может, золото где валяется.
— Как же, так прямо и валяется…
— Ты как хочешь, а я с пустыми руками домой не вернусь.
— А что же ты собираешься делать? Не станешь же ты в этом дремучем лесу бродить, как дикий зверь? Домой пойдём.
— Так вот и пойдём, ни с чем?
— Да брось, не всё же из города нагружёнными возвращаются, что есть, то есть… Я так по дому соскучился, с тоски помереть готов, все время мама снится.
— Ну ладно, как знаешь, только я тебя об одном прошу, если ты мне брат, исполни мою просьбу.
— Постараюсь.
— Подожди меня до завтра у духана Хариствалы. В Ткибули у меня дядька, материнский брат, живёт, одолжу у него немного денег, не стыдно будет хоть на глаза родителям показаться. Жди меня до восхода солнца, а если не дождёшься, то так и передай моим — в городе мол, остался.
— Не беспокойся. Только ни к чему мне в духане оставаться, лучше подожду под той большой елью.
— Ой, просил же я тебя, не напоминай мне про ту ель. Во всём она, проклятая, виновата, она и есть начало наших неудач. Вот если вернусь из Ткибули с победой, непременно спалю её…
Не вздумай ты такую глупость сотворить. Этого нам только не доставало — огонь в лесу! Да знаешь ли ты, что за поджог леса к расстрелу приговаривают. На Накерале для нас все места были словно заколдованные, что же, по-твоему, весь хребет поджечь?.. Ну иди, иди да поосторожней, а я тебя у духана подожду.
Кечошка ушёл, а я спустился к ручью, отёр слёзы и стал искать выброшенную разбойником мелочь.
…Разбойников я больше не боялся.
Духан был закрыт. Я взобрался на балкончик и тут же уснул. Проснулся, когда солнце и Кечошка одновременно встали у моего изголовья. Открыл глаза и вижу прямо перед собой Кечошкину большую лохматую на тонкой длинной шее голову, а над нею — огромное красное солнце, как растопырившая крылья наседка, и оба они, и Кечошка, и солнце смотрят на меня пристально, а голова Кечо кажется даже больше солнца.
— Эй, ты, лентяй, на, получай! — он суёт мне что-то прямо в руки.
Я спросонья сначала не понимаю, что это, потом начинаю соображать — деньги!
— Что это?
— Совиные яйца.
— Откуда у тебя столько денег? Уж не начал ли ты и вправду разбойничать?
— Говорил же я тебе, что у меня дядя в Ткибули живёт, — осклабился Кечули и поспешно повернулся ко мне спиной, но я уже успел заметить, и сердце моё больно сжалось: золотых зубов, предмета его гордости и моей искренней зависти больше не существовало.
— Что ты наделал, несчастный? — только и смог я выдавить из себя.
— Подумаешь, у блаженного деда моего зубов и вовсе не было, а хрустящие мчади он грыз за моё почтение…
— Ты продал зубы?
— Да, получил за каждый по 25 рублей. Три зуба тебе, три мне. Правда, это не покрывает моего долга, но что поделаешь, придётся тебе примириться с небольшим убытком.
Я чувствовал, как горячие слёзы катятся у меня по щекам, но не мог сдержаться.
Кечошка поднёс ладонь к моему лицу.
— Что ты делаешь?
— У нас с тобою одна слеза, разделим её пополам. Так будет легче.
Как же ты покажешься в Сакиваре, Кечо?
— Хватит, не трави душу!
— Как только ты такое выдержал — сразу шесть зубов! Не больно было?
— Вырвали так, что я и не почувствовал. Вставные зубы вырывать не так сложно. Ха-ха-ха! Вероятно поэтому и мертвецы при этом не издают ни звука. Хватит, Каро, довольно переживать, долой грусть! А может, они и вправду были от мертвеца? Сам понимаешь, ни к чему мне мертвецкие зубы. Давай, пока не припекло, двинемся в путь.
— Держи, это твоё! — я протянул другу двадцать пять рублей.
— Ты что, не понял, что ли? Сказано же тебе, твои они, забирай, мне твоего не нужно.
— Это другие деньги. В «Карабадини» я некогда спрятал пять десятирублёвых, а теперь вот хочу с тобою по-братски поделиться, не нужно мне лишнего. Не веришь — на, посмотри! — я раскрыл перед ним книгу. — Отец меня перед отъездом наставлял: все деньги, — говорил, — вместе не прячь, — вот и пригодился его совет. Ну, бери, бери!
— Как бы мне вдруг сразу не разбогатеть! — усмехнулся Кечошка.
— В какое время ты зубы вырвал, бессовестный; пасхального поросёнка я что ль вместо тебя есть буду?!
— Об этом ты, милый, не беспокойся — зубы я, правда, вырвал, а вот дёсны у меня, что надо, с голодухи, будь у тебя немного больше жира, и тебя вмиг бы слопал, не поперхнулся.
Мы прошли долину, отдохнули и зашагали по узкой тропинке.
— А знаешь, без хурджина идти даже лучше, — заметил я.
— И не говори, действительно, какое эти бандюги нам доброе дело сделали, освободили нас от такого тяжёлого груза, — подтвердил Кечо.
— Чему смеёшься, несчастный?
— А что пользы плакать, руки-ноги у нас, слава богу, целы, да и голова в придачу.
— Головы у нас с тобою и вправду что надо.
— Живы мы, парень?
— А что, разве нет?
— Ну, а раз живы, так что тебе ещё нужно. Говорят, это и есть истинное богатство, а остальное всё чепуха — люди придумали.
В душе я восхищался Кечошкой — парень возвращался с заработков с пустыми руками да ещё и без зубов, и смеялся, смеялся так, будто самый счастливый человек на земле.
Рассмеялся и я.
Смехом мы заглушали голод.
Мы шли медленно. Кечо что-то мурлыкал себе под нос, я тоже, сам того не замечая, начал напевать.
Реро, реро, Генацвале, реро!На небе солнышко, тёплое, весеннее, кажется, что оно тоже смеётся.
— Кечули, слышишь?
— Что?
— Солнышко поёт, нам подпевает, вот послушай.
Дели дела, Дели дела-о!— Дурачок, это же твоей песне скалы вторят.
— Ну что ты, скалы умеют только кричать, где это слыхано, чтобы камни пели. Это солнышко, честное слово, солнышко!
— Хорошо, пусть будет по-твоему.
Мы брели извилистой тропкой, солнце сопровождало нас и что-то тихонечко напевало, а я и не знал, что оно умеет петь, да ещё по-нашему. Так дошли мы до Рионского леса. Ничто нас не отягощало — ни хурджины, ни животы. Как только спустились в долину, солнце вдруг спряталось за тучки, небо нахмурилось.
Не знаю, то ли потому, что оно исчезало, или потому, что подходили мы к Сакиваре, но песня вдруг застряла у нас в горле, и стало так грустно и тихо, словно кто-то злой и нехороший выстрелил в нас из ружья тоской-печалью.
Как только подошли мы к мосту, что-то вдруг блеснуло и страшно загрохотало из-за прилипившихся друг к другу скал. Это столкнулись между собою два облака. Большое наскочило на маленькое и, торжествуя победу, радостно загремело, а побеждённое глухо вздохнуло, уронило на землю две прозрачные слезинки, потом, словно испугавшись нового натиска, съёжилось в комок и перестало плакать.
Я посмотрел на небо и подумал, что облака похожи на людей — среди них тоже есть сильные и слабые.
На мосту нам повстречалось пятеро всадников. Впереди — на вороном коне — девушка в белом платье, на голове у неё белое лечаки — фата, на шее голубые бусы, рядом с нею парень в белой чохе, сразу видно — жених и невеста.
— О-о! — вырвалось у меня из груди. Я остановился как громом поражённый, делая отчаянное усилие, чтобы удержаться на ногах.
Жених что-то объяснил невесте, указывая рукой на видневшуюся вдалеке крепость, а она счастливо и радостно внимала ему, и на улыбающемся её лице играли тени.
Кони прошли мост и зацокали подковами по каменистой дороге. Невеста проскакала мимо, так и не заметив меня. А жених и вовсе не взглянул в мою сторону…
— Что это тебя так взволновало, Каро? На тебе лица нет! — Кечо схватил меня за плечи и стал трясти изо всех сил.
Очнувшись, я ещё раз посмотрел вслед удаляющемуся свадебному поезду, и ноги мои снова подкосились.
Что это за мужчина, если он хоть раз в жизни не плакал, если хоть раз не подумал покончить с собою, значит, не было у него сердца и не досталось ему в удел самого великого человеческого чувства — любви!
— Что с тобою стряслось? — тормошит меня Кечо. — Паралич, что ли, тебя хватил, или сердце беспокоит, так я тебе водички из Риони принесу, тут вот, рядом. Что онемел-то? Ну скажи хоть слово. Громом что ли тебя поразило? Хочешь воды, я мигом сбегаю.
— Кечошка, парень, на что мне сейчас твоя вода? Чем она поможет, брось меня лучше в Риони, кончилось всё, ничего теперь моя жизнь не стоит…
— Не пойму, что это на тебя напало. Может, всадники те метнули в тебя невидимое копьё?
— По сердцу прошли, по самому сердцу, раздавили его и ускакали.
— О чём ты говоришь, Караманчик? Никак я в толк не возьму, — удивляется Кечо. — Тебе, парень, очевидно, что-то померещилось…
— Ты видел девушку на лошади?
— Конечно, не слепой же я… Правду сказать, на девушку я внимания не обратил, но жениха в белой чохе узнал — это сын Эристави…
— А девушка… девушка была Гульчина!
— А-а?
— Вероятно, они поженились и едут в город гулять, так ведь у князей заведено.
— Может, ты обознался, Караман?
— Разве мог я спутать Гульчину с кем-нибудь другим? Кечо, парень, как жить мне теперь, ведь во всей вселенной нет человека несчастней меня!
— И… что придумал… Дуралей! Что ты нюни распустил, не знал разве, что священник Кирилэ не для тебя дочь растил, — и Кечошка поднёс ладонь к моим глазам. — Разделим слезу пополам!
— Помнишь, как ты хотел с Накералы вернуться, чтобы Гульчину похитить, помнишь…
— Мало ли что я спьяна болтал… А ты что же, несчастный, всё за чистую монету принял?
— Так ты держишь данное слово?
— Пожалуйста, я к твоим услугам, но что можно сделать голыми руками?
— Ты прав, меня это просто убивает, похитить девушку дело не простое, одного желания недостаточно. Ты из-за меня зубов лишился и деньги мне принёс, уж лучше бы купил на них ружьё. Вот тогда бы мы и разбойникам этим проклятым отомстили, и девушку с другим не отпустили бы.
— Не такие мы с тобою люди, не рождены мы, чтобы человека убить. И всё-таки упрёк твой я принимаю… Ничего, не падай духом, живы ведь мы ещё. Вставай, пошли, не то ночь нас посреди дороги застанет. Пошевеливайся! Посмотрите-ка на него, еле колени разгибает, а ещё разбойником стать собирался…
— Эх, Кечошка, Кечошка, не знаешь ты, какой огонь у меня в груди пылает. Любил я её, и как любил. А разве ты знаешь, что такое любовь?..
— Думаешь, только ты один знаешь? И мне многое нравится, да кто мне даёт? Если хочешь знать, то в Гульчину и я был влюблён, только тебе говорить не хотел. Потому, давай и эту потерю пополам разделим, как и слезу. Возьми себя в руки, не то помрёшь, а я не переживу твоей смерти. Вставай, умойся в Риони, пусть унесёт она твою печаль… Не перевелись ещё женщины на свете… Подумаешь, какая красавица, ничего в ней особенного и нет, обыкновенная девчонка, возьмёт на спину кувшин, так, не дай бог, ещё пополам переломится. Разве такая женщина тебе нужна! Если бы она за тебя и пошла, знаю я твоё дело, быстренько бы богу душу отдала. Да тебе только стоит захотеть, я мигом такую красавицу достану, что князья от зависти лопнут, а Гульчина покажется в сравнении с нею жабой поганой. Пусть меня смерть заберёт, если неправду говорю! Вставай, вставай, милый. Не то ночь нас в лесу застигнет, нападут на нас голодные волки и сожрут так, что червям на завтрак не останется.
— Ах, мне всё равно…
Встал я, утёр глаза, и пошли мы дальше. Идти было трудно, горло что-то сдавило, и мне стало казаться, что я задыхаюсь. Позднее я понял, это было воспоминание о бусах, украшавших шею Гульчины.
Эх, Гульчина, Гульчина, разве бусы Эристави блестели сильнее, чем те, которые я вёз тебе из города?! Разве виноват я в том, что бусы у меня отобрали разбойники, а тебя — княжеский сын?
Часть третья В поисках счастья
Постель, постланная мамой, и завещание отца
Домой, в Сакивару, мы пришли глубокой ночью, крались тихонько, как воры, — не хотелось привлекать внимания соседей.
Дверь нашего дома была слегка приоткрыта. Это теперь каждую дверь на девять замков запирают, а тогда такого не было. Осторожно, чтобы не напугать спящих родителей, я легонько поскрёбся у порога.
— Ц-ц, проклятая, т-с-с! — послышался мамин голос — Эй, мужик, проснись! Амброла, тебе говорю, проснись!
— Ну, чего орёшь, женщина, житья от тебя нет!
— Свинарник хорошо закрыл?
— Да…
— А кто же тогда там в дверь тыркается, спать не даёт?
— Свинья, верно, чужая, или телёнок чей-то приблудился, да спи ты, бога ради, эк пристала…
— Не бойтесь, это я, Караман, — сердце у меня застучало так громко, что самому слышно стало.
— Ой, сыночек, ой, генацвале, воротился, воротился, родимый!
Тусклый огонь лучинки осветил родительскую спальню.
— Проходи, садись, садись, родной. Устал небось с дороги, — мама подставила треногий стул к самому очагу. Я сел.
— Ну рассказывай про своё житьё-бытьё. Что город? — пристроился рядышком отец.
— А что город. Город как город, для одних хорош, для других хуже злой мачехи…
— Слушай, мужик, ты чего расселся, уши развесил, пойди-ка лучше хурджин в дом занеси! — прикрикнула на него мама.
— Ой, правда! Чего это я, дурной! — спохватывается отец, — ты что его у амбара оставил, или?..
— И не спрашивай! Хорошо было бы, если бы до амбара донёс, да не вышло. На Накерале напали на нас с Кечо двое в бурках и говорят: «У вас хурджины тяжёлые, пока домой донесёте, спина надорвётся», — и отняли их, оставили лишь это, — я достал из-за пазухи «Карабадини» и положил его на скамью. — Не ведали разбойники, что цены ему нет, не то…
— Это ещё что такое? — насупил брови отец.
— Как что? Книга лекарей. В ней про лекарства от всех болезней написано.
— Болезни пусть в семье у врага останутся, нам они ни к чему, разве я тебя за этим, парень, в город посылал? Плохо ты что-то шутишь.
— Клянусь матерью, не шучу я, правду говорю.
Тут мама побледнела как полотно и уставилась на меня широко раскрытыми глазами.
— Удивительно, почему всё плохое только с тобой случается. Весь мир этой дорогой ходит, да и я сам не раз ходил, — ничего подобного ни с кем не приключалось, никогда никого не встречали, а тут… — не поверил мне отец.
— Что поделаешь, всё против меня, всем я поперёк горла.
— Не верю я тебе, врёшь ты всё!
— Что ты, папа, у меня свидетель есть.
— Хвост твой, что ли?
— Нет, зубы Кечошкины. Как начали у нас отнимать хурджины, стал он сопротивляться, и тогда выбили ему сразу шесть здоровых зубов, завтра ты это своими глазами увидишь. Кровь изо рта у него, наверное, и посейчас ещё идёт…
Тут мать наконец обрела дар речи и заголосила:
— Ой, лопни мои глаза, ой, сынок, и что Мне сейчас о каком-то паршивом хурджине думать, когда дитятко моё из рук этих нехристей живым-невредимым воротилось! Хорошо ты сделал, сыночек, хорошо, что не противился да всё этим окаянным и отдал. Испугался небось, родимый, кровиночка моя!
— Ещё бы не испугаться, когда сразу два пистолета ко лбу приставили…
— Ничего, сыночек, — стала креститься мама, — сегодня же ночью заговорю твой испуг. Я это умею, всё как рукой снимет…
— Тебе, мамочка, вёз я платье красное, платок ситцевый, аршин полотна; отцу — чоху с архалуком, сапоги и ещё кое-какие мелочи. А ещё в хурджине у меня бурка лежала, тоже ведь в хозяйстве вещь нужная… Да что поделаешь, не повезло, — развёл я руками.
— Давай, давай, рассказывай, сыночек, хоть так сердце моё порадуй, — недоверчиво улыбнулся отец.
— Ладно уж, не томи дитя, чего душу ему травить, — рассердилась мама. — Есть хочешь? — обратилась она ко мне.
— Очень… Два дня во рту куска не держал.
Она тотчас же принесла откуда-то столик и покрыла его скатертью. Отец налил мне и себе по стаканчику. Выпив, он поиграл пустым стаканом и произнёс важно:
— Мир возвращению твоему, да здравствует наша добрая встреча!
Мать снова перекрестилась. Отец обернулся ко мне:
— Чёрт с ним, с хурджином, сынок, ты лучше мне вот что скажи, обучился ли ты хоть ремеслу какому-нибудь?
Я притворился, что не слышу вопроса, а в рот на всякий случай положил огромный кусище, подумал, может, ещё о чём-нибудь другом спросит.
— Ты что, онемел, парень? Выходит, пустой ушёл — пустой пришёл, да? Я тебя ремеслу послал обучаться, а ты, что же, что ты там делал, в городе? Ежели человек ремесло знает — у него ни разбойник, ни сам царь ничего не отнимет, и не трудно ему будет ни денег достать, ни хурджин купить. Говори же, научился ты чему-нибудь или нет?
Тут я перешёл к осаде:
— Конечно, даром времени не терял: научился немного пекарскому делу, немного цирюльничеству, даже венки умею немного делать и так ещё кое-что. — Про стихи я почему-то упомянуть постеснялся.
— Если всему понемногу, значит, толком ничему не научился. А это ещё что за чёрт такой венки?
— Чёрт или не чёрт, а люди этим живут.
От вина меня разобрало и стало клонить ко сну так, что я чуть не стукнулся носом об стол. К счастью, это спасло меня от бесконечных отцовских вопросов, которые ничего хорошего не предвещали, — в конце концов, и это вероятней всего, родитель угостил бы меня затрещиной и, наверное, был бы прав.
Мама постелила мне, и я сразу улёгся, забыв все неприятности. Благословенна постель, постланная матерью! Одеяло её словно из солнечных лучей!
Последнее, что я услышал, была её молитва: Боже, исцели раба твоего Карамана от боязни… — шептала она. Что было дальше, уже не помню, потому что уснул я без задних ног.
Пасху мы встретили с миром, но…
Вскоре после моего возвращения на нашу Сакивару напала страшная иноземная болезнь и отняла у меня маму. Долго листал я свой «Карабадини», однако лекарства от этой болезни в нём так и не нашёл.
Не буду описывать вам, как оплакивала мою маму Царо, как безутешно горевал Кечо. Не хочется мне длинно рассказывать о смерти, не в моей это привычке, да и кому интересно — человеку и своё горе быстро надоедает, а чужие-то причитания и вовсе ни к чему. Лучше давайте уж о жизни потолкуем…
Так вот, не успел я, как говорится, предать земле тело матери, как страшная болезнь свалила в постель и отца.
— Сынок, Караман, плохи мои дела, кажется, и за мною Микел-Габриел пришёл, стучится.
— Полно, папа, что ты придумал, не может бог сразу всех к себе прибрать!
— Может, может, — он замахал руками, — не зови только, родимый, священника, — всё равно не придёт. Забывает он о боге и о душе, когда зовут его к чумному больному… Все за себя боятся, а священник — больше всех… ему-то что, он и ест хорошо, и пьёт, покачивает знай себе кадило и живёт припеваючи. Что ему до такого человека, как я? Не станет он беспокоиться, да и мне исповедь ни к чему. Не крал я, не грабил и человека не убивал, и вообще не верю я ни священнику, ни иконе святой. Что есть икона? Сделана она таким же человеком, как я, и всё тут. Бог он не на дереве каком-то там должен быть нарисован, а в душе человека, понял? Только тогда и станут люди добро творить! Священника же на шаг близко подпускать не следует, чёрт его знает, что у него под рясой кроется.
— Ах, и всыплю я этому подлецу так, что жизнь ему горше лука покажется… — загорячился я.
— Это ты хорошо мне напомнил! Ешь чеснок, парень! Налегай на чеснок, понял? Слышал я, что головка чеснока помогает от сорока разных болезней… Может, минует тогда тебя лихоманка проклятая, пронесёт, не то — потухнет наш очаг… Там в сарае в углу чеснок валяется… Пойди, сюда принесу, здесь у постели моей набросай, у изголовья самого, слышишь? А сам близко ко мне не подходи!
Я повиновался его велению. Он удовлетворённо закивал головой и сказал:
— А теперь садись и слушай. Только, пожалуйста, подальше сядь. Ох, ох, ох! Жарко-то как. Чувствую, приближается мой конец, только прошу тебя, не лей слёз понапрасну, не нужно мне ни причитаний, ни слёз, знаю ведь, частенько падают они прямо в очаг и тушат его… Коли сможешь, положи в изголовье моей могилы камень гладкий, чтобы с чужой не спутать, а не сможешь, тоже не беда, в обиде не буду, лишь бы ты у меня был здоров. Не предавайся горю, правда, тяжело жить без родителей, но и с этим нужно примириться… Богатство я тебе оставляю небольшое, но то, что сейчас скажу, может даже больше богатства пригодится… Хорошее слово иногда дороже золота… Гони тоску и печаль, пока ты молод, успеешь ещё в старости стонать да охать. У-у-у! — холодно! Помни, что самые заветные человеческие желания исполняются редко. Пусть это тебя не разочаровывает в жизни. — Уф уф, уф! Жарко.
— Хватит, папа, тебе вредно разговаривать!
— Зато тебе это полезно, сынок. Сам я знаю, что мне полезно, а что вредно! Вот так-то — тогда говорил и теперь повторяю: какого я богатства хозяин, ты видишь… с собою ничего не беру, всё тебе оставляю, да и то, что в голове у меня, и то с собой уносить мне ни к чему, оно тебе поможет в жизни, больше, чем богатство.
— Довольно, папа, не несмышлёныш же я какой!
— Для меня ты всегда несмышлёныш. Дай-ка мне два слова напоследок сказать, а уж как смерть мне глаза закроет, тогда и замолчу. Так что слушай: старец, говорят, любит двор, а юноша дорогу. Пока молод, ходи, сколько сил хватит, в дороге ума наберёшься, это я тебе, кажется, ещё тогда, когда ты в город уходил, говорил. Не удивляйся в этом мире двум вещам: живой мёртвого всегда хвалит, а живой живого ненавидит. Частенько люди друг другу завидуют. А с мёртвого что взять? Покойнику завидовать нечего. Не знаю, конечно, может, когда-нибудь другое время настанет, но спокон веку так было, понял?
— Конечно, понял, об этом я от тебя и раньше слышал.
— Мудрость, говорят, дороже золота, сколько её ты в руках не верти, не сотрётся она, не полиняет… Сказывают, если червяка разрезать, станет два, и оба живут. Простая, стало быть, у червяка жизнь, а человеческая жизнь — сложная. Никогда не уподобляйся червяку. Не бойся жизни. В молодости все смелы и дерзки, а в старости — предусмотрительны. Однако предусмотрительность и в молодости не помешает. Ух, ух, ух! — жарко как, прямо пожар в груди горит! Всё это я тебе говорил, красного словца ради, а теперь главное скажу.
— Мужайся, Караман, дай тебе бог терпенья, — сказал я самому себе и присел поодаль.
— Устал? — спросил отец.
— Да чего там, мудрое слово говорить трудно, а уж слушать, какая в том трудность?
Мои слова ободрили больного. Он приподнялся на постели и продолжал:
— Так вот что, слушай меня внимательно. Не жить мужчине одному без пары, как быку одинокому не впрячься в ярмо, не покатить арбы и не вспахать плугом поле. Главное для мужчины — женщина, а для женщины — мужчина. Всякое там толкуют о земле, опирается, мол, она на бычьи рога, на спину драконью да ещё на что-то там… не знаю так ли это, но вот что на этих двух столпах, мужчине и женщине, мир стоит, это — я утверждаю — святая истина. Знаешь почему я так быстро смерти подался? Исчез мой второй столп, Елисабед моя ненаглядная. Только тебя мне жалко, один ведь на свете остаёшься, сиротинушка, а смерти я не страшусь, знаю, Елисабед, моя бесценная, и так уж заждалась меня. Ух, ух, ух! А если и случится, что выздоровею, всё равно без Елисабед мне жизни не будет. Словом, женись, сын. Негоже молодцу долго без жены оставаться. Того и гляди порченным тебя посчитают и прославят сумасшедшим, как Алексуну нашего. Так уж заведено, женишься — пожалеешь, не женишься — тоже пожалеешь. А раз так, лучше уж жениться. Лучше привести жену и жалеть. Не встречал я в жизни бобыля, который бы судьбу свою благодарил, а женатых много встречал довольных. Один мужчина, знаешь, что мне сказал? Долго, говорит, я с женщиной быть не могу, но и без женщины тоже не могу долго! А почему, знаешь? Говорят, когда бог сотворил мир, он сначала вдохнул душу в мужчину, а затем уже решил создать женщину, огляделся вокруг да видит, что материал весь израсходован на мужчину. Что ему, бедненькому, оставалось делать? Не растерялся всемогущий. Взял он округлость луны, гибкость лозы, тонкость тростника, бархатистость цветка, лёгкость листка, взор лани, веселье солнышка, непостоянство ветра, трусливость зайца, отвагу льва, тщеславие павлина, голос соловья, мягкость пуха, твёрдость алмаза, сладость мёда, горечь желчи, беспощадность огня, холод льда, карканье вороны и нежность голубя, смешал всё это и создал женщину, предоставив её мужчине. Поэтому так изменчива женщина: сегодня она одна, а назавтра другая, и мужчина не может долго подле и врозь с нею быть, далека она, он всё лучше о ней вспоминает, рядом — все недостатки её в глаза лезут! Характер мужчины в две недели узнать можно, а женщину понять… Не зря ведь говорят, что родилась она на две недели раньше чёрта. А знаешь, почему я тебе эту притчу рассказал? Не опаздывай с женитьбой, но и в выборе не спеши. Пойдёшь невесту смотреть — вина ни капли не пей. С пьяных глаз даже жаба красавицей может показаться. Ошибку, спьяна совершённую, трезвым не исправишь. Эх, сыночек, это я тебе всё так говорю, сам развлекаюсь да о болезни своей забываю. А что о смерти думать! Охами да вздохами тут не поможешь! Слушай меня внимательней! Знаешь, что я тебе скажу: женщина, брат, это и чёрт и ангел. Думаешь, голубь она, а неожиданно вороной закаркает, думаешь, ворона, — а вдруг оказывается — сердце у неё золотое. Женщина, как цветок, один цветок красивый да ядовитый, а другой, смотришь, некрасивый, но медвяный. Не полагайся на внешность. Порасспроси, кто отец с матерью у твоей избранницы, какого она роду-племени, не было ли среди родни её сумасшедших, уродов, иль без костей не родился ли кто из родичей. Да, да, чего удивляешься, у некоторых дети без костей рождаются. Не было ли в роду у них чахотки, падучей или лунатиков? А знаешь ли ты, что это такое?
— Да, слышал. Человек говорят, спит, а сам, как муха, по стене ходит.
— Верно. Ну, в общем, человек всё должен знать, и плохое и хорошее… Узнай, не было ли в роду у неё ведьм, не тяготеет ли над ними, храни бог, проклятие, да переспроси, кого у её матери больше, мальчиков или девочек. Попадёшь на смотрины, станут тебя угощать, избегай гусятины. Гусиное, говорят, мясо мужчину возбуждает, а возбуждённый мужчина, известное дело, даже бревно за женщину принимает. Знай, родители девушек частенько специально гусиной ветчиной потчуют и таким манером молодцов окручивают. Запомни это хорошенько!
— Угу!
— Бывает, что в деревню городские девушки наезжают. Кривляться да глазки строить, это они мастерицы. Не смей ты на них глядеть и о них думать. Раскрашенные они, размалёванные, а смой с них краску — и останется рядом с тобою страшилище. Ни к чему тебе городская женщина! Легкомысленные они, бездельницы и обидчивы к тому ж. Девять раз тебя расстроят, а сделают по-своему. Ни поля вспахать не помогут, ни лозы не посадят, ни лобио не посеют…
— В общем, папа, всем, что есть на свете дурного, господь наградил городскую женщину, понял я!
— А что ты думаешь? Разве сравниться ей с нашей деревенской? Будь она благословенна, плечом к плечу с тобой пройдёт и голая и босая, не попрекнет и не оскорбит тебя недостойным поступком, и детей тебе народит и вырастит их настоящими людьми. Городская же больше двух детей не родит. А тебе, сынок, побольше детей иметь следует. Один сын — не сын, да и двое — не дело, трое это уже кое-что… Но, главное, завещаю я тебе — трудиться, трудиться и трудиться. Это самый важный мой завет, не посрами моего имени, не дай Амбролу Кантеладзе народу на поругание! Не страшись сиротства. Мир велик, не пропадёшь. Если и найдётся у тебя один враг, то друзей вокруг — сотни. А какая цена человеку, если у него врагов нет? У-у-у! — словно в жилы мне ледяной воды налил кто-то, руки-ноги стынут, а голова огнём горит…
— Положу-ка я, папа, к ногам тебе жаровню.
— Ни к чему, сыночек. Больше этой жаровни меня твои слова согрели, полегчало мне даже… Да, вспомнил, плетень у нас в винограднике проломился. Не дай бог, свиньи сквозь него пролезут, всё перепортят. Эх, не успел я огородить. Будет время, сынок, обязательно брешь заделай, не то скажут на деревне — хозяин, мол, у плетня помер. Может, пройдёшься, посмотришь, а?
Я покорно поднялся и вышел во двор.
Поглядел на небо, оно казалось усыпанным белыми розами. Зелено улыбалась земля. Мне же хотелось, чтобы налетел ураган, возмутил царящее вокруг спокойствие и унёс всё с собою. Но в жизни всё происходит не так, как хотелось бы Караману Кантеладзе.
Дома я слушал советы и наставления отца, и мне было спокойно, но когда я вышел во двор, то вдруг почувствовал, что остался один-одинёшенек на всей земле, и я вдруг испугался этого одиночества, и страстно захотелось мне услышать снова отцовский голос.
Я с тоской поглядел вокруг.
Почему всё так спокойно и весело, когда сердце моё разрывается от горя? Навсегда уходит самый близкий, самый родной человек, а я не в силах помочь, помешать ему уйти!
Я повернулся спиной к белым розам неба и зелёной Улыбке гор и рывком открыл дверь.
Отец молчал и теперь уже навеки. Глаза его были закрыты, а рот полуоткрыт, словно он что-то шептал. Я долго не отрывал взгляда от его лица, а в ушах моих всё ещё звучал его дорогой голос.
Смерть отняла у меня отца, но не смогла отнять отцовского голоса. Он и теперь ещё слышится мне.
Ночь мы с отцом провели наедине. Рты у нас обоих были сомкнуты, но несмотря на это, мы всю ночь проговорили. Я поведал ему всё самое сокровенное, что таилось у меня в душе, потому что ночь эта была нашей последней ночью.
А утром горестный крик мой возвестил о постигшем меня несчастье.
Лукия стал бить себя руками по голове, а Царо распустила волосы в знак скорби. Кечо чмокнул меня в щёку и молча встал рядом. В те дни все вокруг пытались поддержать и ободрить меня, клялись в дружбе и братстве. Я и не предполагал, что вся деревня братья мои и сёстры. И слова эти не расходились с делом. Люди заботились обо мне так, словно я и впрямь был им самым родным и близким.
Однако прошло недельки две, и вдруг я услышал такое, отчего сердце моё преисполнилось жесточайшей обиды и гнева:
— Каким человеком был Амброла! Разве могла бы болезнь его убить?! Сын, непутёвый, раньше времени в могилу свёл. Видел он, что прахом идёт от Карамашкиного расточительства всё их добро, да и не смог, бедняга, такого пережить, вот и отдал богу душу, — злословили одни.
— Несчастье иметь такого сына! — вторили им другие.
О том, что я был далеко не таким сыном, каким хотели бы видеть меня родители, я и сам хорошо знал. Но вот то, что я был виновником их смерти, показалось мне невероятным. Неужто я хуже болезни? Подумать только, болезнь не могла бы сломить отца, а я ей помог?! Но болезнь унесла и других людей, а у них-то были хорошие дети. Чем же это объясняется? Ну, а если бы я последовал за отцом-матерью? Интересно, кого бы тогда обвинили в их смерти?!
Честные поле и виноградник и бессовестное небо
Не буду вам, дорогие, докучать рассказом о том, как убивался я по бедным своим родителям, знаю, — поверите и так, как неподдельно было горе сыновнее. Однако соседи всё не унимались, Чесали языки на все лады, честили меня на всех перекрёстках и бездельником называли, и лентяем, непутёвым, и погубителем отца-матери, и какой только напраслины на меня не возвели. Не стало мочи моей терпеть, и бросил я упокоенным моим батюшке и матушке такой упрёк:
— Чего это вы, бессердечные, меня покинули, беззащитным сиротою оставили, закрыли, словно слепые, глаза и потянулись за чумой? Не лучше разве было с сыном жить?! Или я и вправду хуже чумы? Как мне теперь быть, как людям в глаза смотреть, научите, — присоветуйте, родимые?
Припомнились тут мне предсмертные отцовские наставления, и решил я начать жить по-новому, так, чтобы не посрамить его доброго имени.
После похорон отправился я в поле и проработал, не разгибая спины, до позднего вечера. Пахал, сеял, пропалывал. Так продолжалось много дней подряд. Домой я теперь приходил только спать. Кукуруза уродилась на редкость высокая, стройная, по нескольку тугих початков на каждом стебле, усы такие, что любой молодец позавидует. Подумал я даже, ежели усы и вправду свидетельствуют о чести, то такого честного поля, как моё, на всей земле не сыскать. А лоза, как девчонка на выданье, расцвела, соком налилась, отяжелела да завилась.
— И где это ты, парень, раньше был? — спрашивает Адам Киквидзе, увидев меня в винограднике, — отца твоего Амбролу блаженного безделье твоё до времени в могилу свело, а ты, оказывается, вон какой сноровистый, знал бы он это, царствие ему небесное, из гроба бы поднялся.
«Тьфу! — сплёвываю я в сердцах, — лопни глаза твои завидущие, тоже мне ещё, привязался!»
— Не виноградник — чудо чудное! — не унимается он.
— И о чём ты только думаешь, дуралей несчастный! — злится на меня Кечо, — урожай на носу, а тебе вино наливать некуда, есть у тебя кувшин, или нет? Нет? Ну вот что, в следующую пятницу сходим на базар, я туда за чувяками собираюсь, выберем самый большой да вдвоём и притащим.
Вечером в пятницу привезли мы с ним на арбе огромнейший кувшин, бабы как увидели это, ну квохтать, ну причитать:
— Ох, Елисабед, ох, сердешная! Не дождалась ты такого счастливого часа! Встань, погляди на сыночка своего, какой из него, врагам на зависть, хозяин получился.
И правда, работал я, не жалея ни сил, ни пота своего. Но неудачи подстерегали меня и не замедлили посетить одна за другою. Кукуруза пахла так вкусно, что на запах её повадился в поле бессовестный барсук, а вскоре на подмогу ему медведь заявился. Обломали они, проклятые, все початки, объелись кукурузой, как могли, а остальное размолотили да по земле рассеяли.
Когда же окончательно поспел виноград, случилось ещё худшее горе. В одну ночь прокатился страшный гром и полил такой ливень, словно небо разверзлось. Смекнул я, недоброе стряслось. Натянул на голову мешок и побежал к винограднику. Только добежал, град начался, крупный, с голубиное яйцо. Небо словно взбесилось. Целую ночь молния сверкала.
— Освети, освети, окаянная, — злобно ругался я, — не то, он не увидит, где самый лучший виноградник!
Эту страшную ночь я провёл не смыкая глаз. Эх! Лучше бы уж не рассветало. Глянул я, и сердце у меня упало: все лозы были похожи на людей, иссечённых розгами. Проклятый град! Неужели ему обязательно нужно было побить мой виноградник! Ведь рядом был виноградник Кечо. Клянусь вам совестью, град не побил в нём ни кисточки!
От обиды я горько заплакал, но что пользы лить слёзы, разве что наполнить ими привезённый с базара кувшин? Ну, бог с ним, что было, то было!
В виноградник пришёл Кечошка, посмотрел вокруг и обнял меня:
— Не горюй, — сказал он с улыбкой, — прибыль и убыток, говорят, рядом ходят, ты только, брат, сумей вино пить, а уж добро наше мы как-нибудь поделим.
Были у меня, если помните, любящие дядька с тёткой, но к тому времени переехали они из Сакивары на берег моря, там, говорят, земля родит лучше, так что остался я одинёшенек, а дядю с тётей заменили мне Царо и Лукия. Царо готовила обед, подметала дом и двор, стирала и шила мне рубашки, словом была настоящей матерью.
Помнится, ребёнком как-то подбросил я под ноги Кечо лягушку и всё приговаривал: «Кто лягушку раздавит, у того мать помрёт». Хорошо, что не исполнилось моё заклинание. Не то я, несчастный, сейчас бы совсем пропал, кто бы присмотрел за сиротою безутешным?!
Цыплячий писк и гусиная ветчина
Осенью, когда собрали урожай, заявился ко мне Кечошка, смотрит на меня как-то странно и ухмыляется беззубым своим ртом.
— Ты чего, — спрашиваю, — смеёшься, пистолет?
А он в ответ:
— Брат ты мне, Караманчик, или не брат, скажи честно?
— Ну, допустим, брат, а что из этого?
— А коли так, ты должен помочь мне в одном деле — дом свой хочу вверх тормашками перевернуть.
— Не пойму я тебя, чудное ты что-то говоришь. Не томи душу. Скажи толком, что ты задумал?
— Говорю тебе, дом я перевернуть решил вверх тормашками.
— У тебя, я вижу, с каждой новой луной такое случается! Ты… того… не свихнулся ли?
— Хи-хи-хи! — снова смеётся он. — Жениться я решил, вот что, мой хороший, а женитьба, как сказал мудрый Молла Насреддин, всю жизнь человека переворачивает. Понял теперь?
— Понял, уж как не понять. Да только ты с этим не торопись, подумай хорошенько, осмотрись, не маленький ведь, жених поди!
— Известное дело не маленький. Пока, сказывают, рога не вылезли, бык завсегда телёнком кажется. Отец мой в этих годах меня уже имел, вот так-то. Одним словом, должен ты мне помочь невесту найти, и всё.
— Ещё раз тебе говорю, не торопись, погоди…
— Заладил тоже — погоди, погоди! А чего ждать-то? Когда мне будет столько лет, сколько дедушке моему было, на что мне тогда женщина, а?
— Ну, как знаешь, я своё сказал… Держись, раз уж так, степенней, не то, как станешь, к примеру, на смотринах своим беззубым ртом нужно не нужно склабиться, кто за тебя девушку отдаст?..
— И-и… тоже мне придумал! Лошадь я что ли, чтобы в рот мне заглядывали да зубы считали?
— Я своё сказал…
…Вы, дорогие мои, должно быть, помните жену Кечошкиного дядьки тётушку Элпите, ту самую, на свадьбе которой никак не может вспомнить, был он или не был Адам Киквидзе, так вот Элпите добровольно вызвалась быть племяннику своему свахою.
Решили мы не мешкая пуститься на поиски невесты и уговорились встретиться со свахой у моста, ведущего к Квацхути. Как приблизились к крепости Хидикари, зажмурил я невольно глаза, — вспомнился мне тот скорбный день, когда навсегда потерял я мою Гульчину. Хорошо, однако, что в себя пришёл и глаза открыть вовремя догадался, не то мог бы с обрыва слететь да шею себе сломать. И понял я тогда, что мысли о Гульчине не сулят мне ничего хорошего. Недаром Кечошка мне всегда говорил: «Брось, брат, далась тебе эта поповская жаба»!
Остановились мы в одной семье. Тяжёлые тесовые ворота отворила какая-то тоненькая, миловидная девушка. Элпитэ нам глазами показывает, это, мол, и есть невеста! Кечошка тут же ко мне оборотился, во весь рот улыбается, чувствую — нравится ему девушка. Да и мне, чего греха таить, она очень понравилась. Вскорости нас за стол усадили и угощать стали по всем правилам. Поели мы и выпили вино, повеселились, как следует, потом родители со свахою удалились на вторую половину дома. А Элпитэ вскоре вернулась.
— Как дела? — бросился к ней жених. — Парень или девка?
— Не знаю, говорят, жених нам понравился, да спешить некуда, поглядим — присмотримся, а там видно будет.
— Чего там присматриваться? — нахмурился Кечо. — Человек за час не переменится.
— Счастливчик ты, Кечули, некоторые годами невесту себе присматривают, а тебе вот как повезло, — вздыхаю я.
Посоветовались мы и решили в тот же день устроить обручение и обед, тем более, что припасённые для такого случая золотые серёжки были у Кечо с собой.
Сваха снова пошла к родителям невесты, но тут же возвратилась расстроенная.
— Отказали! — неожиданно выпалила она и сердито посмотрела на меня.
Оказывается, и родители, и сама невеста сначала принимали за жениха меня.
— Нет, нет, нет, — замахала руками будущая тёща. — За этого беззубого я дочь свою не отдам!
На этом всё и кончилось.
— Говорил же я тебе, дурачина, смейся поменьше, — сердился я на незадачливого жениха.
Домой мы возвращались унылые и печальные, как после похорон.
— Клянусь честью, не моя в том вина, — оправдывался я всю дорогу. — Просто не чувствовал я себя женихом и держался свободней, это видно им во мне и понравилось. А так-то. Ну чем я лучше тебя? — В глубине души я, конечно, понимал, что это не так, но…
Да и сваха меня в дороге потихоньку от Кечошки хвалила. У неё у самой-то, между прочим, дочь на выданье была, так что она в этих делах толк знала. И вообще… матери взрослых дочерей на все эти вещи другими глазами смотрят.
Главное, что я уяснил себе: ежели хочет жених красивым казаться, должен он себе и дружку и сваху выбрать поуродливей. Не зря ведь говорят — глаз ест, глаз пьёт!
— Ты уж не обижайся, Кечошка, но раз так получилось, не пойду я с тобой больше, — сказал я ему на второе утро. Сваха собиралась в Лихети, а мне, правду сказать, лень было по горам лазить.
— Глупости, сам я во всём виноват. Ничего, в следующий раз умнее буду. А без тебя шагу не сделаю. Так что, собирайся.
Пришлось идти.
До того как попасть в Лихети, должны были мы пройти мимо двух небольших деревушек.
На крутой просёлочной тропинке повстречалась нам Целая ватага ребятишек. Насчитал я их девять штук — пять мальчиков и четыре девочки.
— Куда это вы? — спросила их Элпитэ.
— Каштанов вот насобирали, теперь домой несём, — ответила за всех старшая девочка.
— Ты чья будешь? — осведомилась Элпитэ.
— Петруа Кивиладзе, — ответила девочка.
— Дай бог тебе здоровья! А ты чей? — обратилась она к мальчику.
— Петруа.
— Ты?
— Петруа.
— Ты?
— Петруа.
— Ты…
И так повторилось все девять раз.
— Это всё, или у Петруа ещё есть? — в десятый раз спросила сваха.
— Что ты, батоно, трое на медведя охотятся, одна матери помогает, а двое…
— Ишь ты, расплодились, словно поросята, — присвистнул Кечошка.
— Та, что матери помогает, старшая небось? — полюбопытствовала Элпитэ.
— Да, на выданье она у нас.
— Может, посмотрим? — предложила Кечошке сваха. — Понравится, хорошо, не понравится, насильно никто удерживать не станет.
— Что ты, что ты, тётушка, — замахал руками жених.
— Будет у тебя жена плодиться, плохо что ли?
— Да не лишит господь меня такой милости, чтобы мне без детей остаться, но и столько мне ни к чему. А кроме того, ну как, скажи по совести, накормить столько шуринов да своячениц? Коли в доме у меня полный день гости переводиться не будут, когда же мне в поле, в винограднике работать? Нет уж, нет, уволь, не буду я на такой жениться.
— Ну, как хочешь, дело хозяйское.
Только подошли мы к другой деревушке, как из одних ворот навстречу нам выскочил телёнок. Сам пёстренький, хвост у него наверх колечком закручен. Подбежал к нам, приласкался, можно сказать, с ходу, да как вдруг помчится прямо вверх по горе. Смотрим, а за ним поглядывает из ворот какой-то человек средних лет, хозяин видно. Увидел нас и узнал Элпитэ. Оказалось, родственницей она ему какой-то дальней приходится. Не понял я, каким образом в родстве они состояли. Как говорится, ворона — сойкина тётка, да дело не в этом. Стал он нас к себе в дом приглашать. Заходите, мол, люди добрые, не побрезгуйте моею хлебом-солью. А Элпитэ вовсю отказывается, некогда нам, времени, говорит, у нас в обрез.
Как узнал тот человек, что идём мы невесту искать, стал нас ещё настойчивее уговаривать:
— Заходите, заходите, отдохните маленько, я долго не задержу. Накормлю по-быстрому, чем бог послал, а вот уж на обратном пути зайдёте, тогда угощу на славу.
Пришлось войти в дом. Хозяйка встретила нас приветливо и тотчас же выпорхнула на кухню.
На стол накрывала хозяйкина дочка, совсем ещё ребёнок.
— Твоя, что ль? — спросила сваха.
— А что, не похожа?
— Быстренько она у тебя подросла, в прошлом году совсем крохотулечкой была, а теперь, гляди, девушка уже, на выданье, небось.
— Мать против, а по мне, в жизни всё чем раньше, тем лучше, кроме смерти, конечно…
— Чего далеко-то ходить? — ударила Элпитэ Кечошку по плечу. — Оглянись-ка, парень, вот тебе и невеста. Может, действительно телёночек этот тебя к счастью прямиком и привёл, а?
— И совсем не плохо! Такого цыплёночка прямо с косточками проглотить можно… — прошептал в ответ распалённый женишок.
Девочка уловила перешёптывание жениха со свахою, засмущалась и от волнения принялась отчаянно теребить тоненькую косичку, упавшую на едва обозначившуюся грудь.
— Замуж? Мала ещё, цыплёночек она, из яйца невылупившийся, — запротестовала мать девочки. — Куда ей! Коснётся её мужчина, так все косточки и переломает. Эдак годика через два-три, если подождёте, можно, а сейчас, не поспела ещё!
Кечошка ей в ответ:
— Ястреб сказал бы: вкусное у курочки мясо, а цыплячье мне всё ж милей. Отдай, тётка, сейчас, в моих руках и поспеет, а нет, так потом мне не надо!
— Не торопись, сынок, незрелый плод сорвёшь до времени, так от него ни удовольствия, ни пользы, да и не дозреет он никогда по-настоящему. Одна у меня дочка, не дам я ей жизнь разбить. Спроси у неё, хочет ли она замуж?
Девочка ещё пуще затеребила свою косу, так что чуть не оборвала её совсем, потом часто-часто закивала головой.
— Смотрите-ка! Ах, бесстыдница! Чтобы земля тебя поглотила! Чего головой, как коза, мотаешь, негодная? Да знаешь ли ты, что такое замужество?
— Знаю, — пропищала девочка.
— Что знаешь! Смерть ты знаешь, вот что. Куда тебе замуж! От горшка два вершка, и туда же лезет. Смотри, смотри-ка на неё, отец, и не краснеет, бессовестная.
— Бабку мою в двенадцать лет замуж выдали, а мне уже тринадцать, небось, — стала оправдываться девочка. — Правда ведь, папа?
— Правда, дочка. Матери моей двенадцатый год шёл, когда её в мужнин дом привезли.
— Три года она со свекровью спала, — перебила отца девочка.
— Бедняга свёкр! — вырвалось у меня.
— Вот дурёха, да соображаешь ли ты, что говоришь? — снова рассердилась на неё мать. — Бабка твоя три года со свекровью спала, это верно, но спросила ли ты у этого почтенного человека, храни его господь, есть ли у него мать? А ежели нет, как тогда? Со свёкром, что ли, ты тогда лечь собираешься, а?
… Вышли мы на дорогу не солоно хлебавши. А во дворе оставили пёстрого телёнка и плачущую девочку, которая жестоко вымещала обиду на тоненькой своей косичке.
Перевалили две горы и очутились у дома замужней сестры Адама Киквидзе. Дом был обнесён деревянным частоколом. На кольях ограды жутко белели черепа каких-то страшных зверей с оскаленными зубами и пустыми глазницами.
— Дарико! — позвала от ворот тётушка Элпитэ.
На балкон вышла хозяйка, а, увидев нас, быстренько сбежала по ступенькам и бросилась навстречу.
— Господи, да кого я вижу! — приговаривала она. — Пожалуйте, дорогие, проходите, проходите. Чего ты стоишь, как чужая? А это, если мне не изменяет память, Амбролы покойного сынок, — указала она на меня. Я кивнул ей в ответ. — А вот этого что-то не припомню.
— Это Лукиин Кечошка, забыла, что ли?
— Как же, как же! Он в детстве девчонку мою напугал, ревела так, что по сей день забыть не могу. Сам-то ты, вероятно, не помнишь про этот случай, мал был тогда.
Кечошка покраснел и потупился.
— Откуда ему такое помнить. И-и… когда это было! А теперь он, видишь, какой вымахал. Жених!.. — И тётка ласково потрепала его по щеке, держись, мол, парень, нечего тебе смущаться.
Было холодновато. Позднее осеннее солнце едва грело, а с горы дул холодный ветер.
Не спросив даже о цели нашего прихода, хозяйка снова стала приглашать нас в дом.
— Мужик у меня ни свет ни заря на охоту сбежал и парня с собою прихватил, а мы с дочкой тут по дому крутимся. Ничего, без них управимся… Я мигом, вот только курицу словлю… Очень вы меня своим приходом обрадовали! Ну, а как там в Сакиваре, мир, спокойствие?
— А что Сакиваре сделается, известно, мир! Мачари вот только бродит да и то до времени: свадьбы начнутся, и оно успокоится, — многозначительно ответила Элпитэ.
— Да, мачари да парня женихающегося свадьба только и успокоит, — согласилась хозяйка и посмотрела на нас словно говоря: «Я-то уж понимаю, дорогие, зачем вы сюда пожаловали, меня, старую ворону, на мякине не проведёшь!»
Правду говорят, разве укроется что-нибудь от матери, у которой дочка на выданье?
На балкон между тем вышла девушка. На плече она держала кувшин, и я тотчас же признал в ней ту самую Теону, с которой частенько играл в детстве, когда она гостила у бабушки. Раз как-то я даже окунул её с головой в ручей. Помню, пищала она тогда на всю округу.
В пути аппетит у меня разыгрался не на шутку. Да благословит господь хозяйку, стол действительно был накрыт в минуту. Один за другим появились на столе пушистый прямо из кеци румяный хлебец, выпеченные в золе толстые мчади, окорок, молодой сыр, гусиная ветчина и кислая капуста.
Лоза в Лихети почему-то не прививается, так что своего вина здесь нет. Дарико принесла нам припасённый, очевидно на торжественный случай, кувшинчик вина, и хотя кислило оно изрядно, но от голода и жажды показалось мне даже вкуснее знаменитой хванчкары.
Стол накрыли у самого очага, а в очаге, приплясывая, веселился огонь. Из зарытой в самую глубину его каменной сковородки-кеци Дарико вытащила румяного поджаристого цыплёнка, она подхватила его и положила в миску с остро пахнувшей чесночной подливой и поставила миску на стол. Тут же рядом с курочкой аппетитно розовели зажаренные потрошки.
— Угощайтесь, дорогие! — приговаривала хозяйка. — Это так для начала, червячка заморить, главное ещё впереди! Ты что это, баба, расселась, сложа руки, — обратилась она к Элпитэ. — Давай помогай, рви его на части! Да и вы не стесняйтесь, вот так, вот так!
Руки у неё двигались проворно, в них было столько огня, что казалось, будто весь жар братниной кузни к ней перешёл. Если бы даже очаг не горел — всё бы в этих руках сварилось да поджарилось!
— Кушайте, дорогие, на здоровье! — угощала она. — Теона, дочка, поухаживай за гостями, видишь, стесняются они!
Теона взяла в руки миску и сначала подала её мне. Вы ведь знаете, что гузку я люблю больше всего на свете… Жених потянулся за грудкой, и сваха положила себе в тарелку белого мяса.
Потом Кечо протянул миску Теоне. Та взяла ножку.
— И-и… выбрала бы уж что-нибудь получше, — нашёл повод завязать беседу Кечо.
— Что может быть лучше ноги, если хочешь убежать? — улыбнулась в ответ Теона.
— Ну коли так, то мне следует взять вот это, — он схватил крылышко, — полечу за тобою и обязательно настигну.
Сваха тихо заулыбалась.
Молодец! — подумал я, радуясь смелости друга.
Жених между тем покончил с крылышком и приналёг на гусиную ветчину.
После обеда сваха отозвала хозяйку в сторону и без обиняков рассказала ей о причине нашего прихода; боялась как бы опять какого недоразумения не вышло.
— Вот, дочка моя и парень ваш тут же. Ежели понравятся они друг другу, так что лучше этого! Пусть, как говорится, не оставит господь-бог вино невыпитым, чоху неодёванной, кувшин не сломанным и девку незасватанной, — сказала в ответ Дарико.
«Дай-то бог всем такую славную да бойкую тёщу, повезло же этому паршивцу», — невольно позавидовал я Кечошке.
Кечо между тем не спускал с Теоны глаз и никого, кроме неё, вокруг не видел. А она чувствовала на себе его неотступный взгляд, и ноги у неё заплетались от смущения, чуть было тарелку из рук не выронила, когда со стола убирала. В конце концов девушка рассердилась на парня.
— Да не смотри на меня так, ирод!
— На то и глаза, чтобы смотреть, — бросил он ей.
Обозлилась она и ушла в другую комнату.
— Молодец, Кечули, не узнаю я тебя сегодня, — сказал я другу, когда мы остались одни.
— Чувствую, брат, помутилось у меня в голове. Мне бы только от счастья не свихнуться, а уж на остальное-то жаловаться не приходится. Караманчик, дружочек ты мой, если эта девчонка моей не будет, не переживу я этого, руки на себя наложу, знаешь ведь, я человек слова, сделаю как сказал!
— А ты полегче, дуралей, сейчас тебе даже чурбан красавицей покажется, я уж знаю.
— Ты что это, Караманчик, бредишь, что ли?
— Отец мой покойный говорил, идёшь на смотрины — не ешь там гусятины, будоражит она, проклятая, да разум мутит. Не зря они, парень, эту гусиную ветчину на стол поставили. Не нужно было её тебе есть, она-то с ума и свела. Она, определённо, она! Ну, хочешь на иконе поклянусь. Правду я тебе говорю, истину.
— Да отвяжись ты бога ради, гусь, видите ли, виноват. Ишь что придумал. Ещё до того как я ветчину эту попробовал, запала мне Теона в душу. А ты на гуся бедного всё сваливаешь, думаешь, если у него ума нет, так он и других с толку сбивает, что ли? Сказки всё это бабушкины!
Каюсь, нарочно я Кечошке про гусиное мясо рассказывал, неровен час, думаю, откажет невеста, так хоть будет чем успокоить.
Не знаю, ветчина ли была в том виновата, или что другое, а как стали мы с лестницы спускаться, берёт Кечо мой Теону осторожненько так под руку, дай, говорит, поддержу, чтобы не поскользнулась, не упала, а та как выдернет у него руку — и в сторону.
— Ты чего это, девочка, испугалась, не съем я тебя, разве я волк какой? Хотел тебе помочь. Что в этом плохого?
— Зря беспокоишься, не маленькая, семнадцать лет по этой лестнице каждый день хожу, ни разу ещё не падала.
— Что ж, словно одуванчик, моего прикосновения боишься?
— Интересно, ты опять такой?..
— Какой такой, сударыня?
— А вот такой, как сейчас. Помню, как ты давным-давно повалил меня на отмели да прямо с головой в ручей бултыхнул. Крику тогда было на всю деревню.
— Как же, как же, и я помню, а чего это ты меня всё дразнила: «Кечошка, дурень, — закрой рот».
— Не хотел меня на качели сажать, не помнишь разве?
— Беспокоился я за тебя, чтобы, упаси бог, не слетела да не ушиблась.
— Чтоб тебе быть таким красавцем, какую ты правду говоришь. А тогда у тебя такого ума не было.
— Ладно, ладно, пусть так.
— А помнишь, как оторвал ты кукле моей голову? Плакала я тогда навзрыд.
— И зачем только понадобилась тебе кукла эта дурацкая, ведь люльки у тебя всё равно не было.
— А помнишь, в лесу ты меня однажды одну бросил, ягоды заставил собирать, а сам удрал, помнишь?
— Нет, такого что-то не помню.
— Врёшь! Неужели забыл, а?
— Сейчас, когда ты рядом, я ни о чём другом помнить не могу.
Благословенно гусиное мясо! Как подменили парня! — подумал я с восхищением и перекрестился.
— Ой, мамочки! С ума этот человек меня сведёт! — притворно рассердилась Теона. — И что он себе позволяет при всём честном народе!
— А что я такого сказал? Вот при всём честном народе я у тебя и спрашиваю, — пойдёшь за меня или нет, не то отрежу я тебе косу, да вот на том тутовом дереве повешусь.
— Ой, люди добрые, что он говорит! Разве мне пора замуж!
— Отвечай, пойдёшь или нет?
— Хозяйка я здесь, негоже мне на гостя сердиться, а ты тем пользуешься да всякие глупости говоришь. Ну чего он ко мне пристал, тётушка Элпитэ! Хоть ты ему что-нибудь скажи.
— И правда, чего это ты привязался, не видишь разве, девка она смирная, ровно агнец божий, не понятно разве, что согласна за тебя идти, — рассердилась на него сваха.
— А когда приезжать за вами, сударыня, прикажете? — не отставал распалённый гусятиной женишок.
— Это — когда пожелаешь! — притворилась рассерженной девушка. — Не приезжай только в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье, в какой-нибудь другой день, пожалуйста.
Ну, словом, чего долго тянуть, как стало мачари вином, покрыли крышу в доме Лукии новой дранью, и свадебный пир заходил горою. А тамадой, конечно, уж на этот раз был Адам Киквидзе. От речей его и тостов многие гости так захмелели, что попадали со скамей ничком, словно кузнец молотом по голове их дубасил.
Медовый месяц у Кечошки продлился более девяти недель. Счастлив был молодой муж несказанно. Целый день он вертелся около жены, всё в глаза ей заглядывал, во двор даже не пускал, чтобы ветер холодный, упаси бог, не коснулся его сокровища, леденцами кормил да ласкал. Всё думал, бедненький, чем бы ещё ей угодить, чем порадовать.
— Клянусь душой матери, не узнаю я тебя, Кечули, — говорил я ему. — Совсем ты переменился. Ни о чём ты, кроме Теоны, не помнишь. Неужто так жена сладка, а? Очнись, парень, нехорошо, когда мужчина под каблуком у бабы, из рук вон тогда его дело!
— Да погоди ты, болтун проклятый, дай срок, привыкнет она ко мне, покажу я тогда, кто есть такой Кечо Чаладзе.
Кечули, между прочим, оказался хозяином своего слова.
Как понял он, что накрепко привязалась к нему Теона, так и тон у него даже изменился и, чтобы, упаси бог, не возгордилась она и не возомнила себя необыкновенной красавицей, стал он ей разные выговоры делать да слова обидные говорить.
— Теона, жена моя, — обращался он к ней, — я тебя люблю, но… Но вот что мне не понравилось. Чего это ты вчера со мной на мельницу не пошла, знаешь ведь, что само собою с неба, кроме снега, ничего не падает, а у нас ведь семья теперь. Ежели руками не двигать, так того гляди и огонь потухнет в очаге и кеци остынут…
Прошло ещё два дня.
— А ты, милая, на мать свою не похожа, она как огонь, а тебя почто бог обидел? До сих пор мчади не испекла, не стыдно тебе!
Жена в ответ:
— Не делай мне замечаний понапрасну. Пеку я тебе мчади по-нашему, толстенькое.
— Да забудь ты про своё Лихети, живёшь-то теперь в Сакиваре, здесь и огонь другой, и кеци. И чего оно у тебя такое толстенное, словно мельничный жёрнов, не пропечётся ведь. Не стану его есть, в рот эту гадость не возьму, индюк я что ли, чтобы тесто сырое глотать… Потоньше сделай, так и испечётся быстрее, и я буду благодарен, и ты довольна.
Прошло ещё несколько дней.
— Что это ты, сударыня, сказать изволила? Пропади, мол, пропадом день, когда я за тебя замуж пошла? Да разве я тебя неволил? Подол что ли просьбами пообрывал?!
И разве снесёт женщина мужской упрёк?
Теона тоже спуску не даёт:
— Ежели ты забыл, так вот, добрый человек, у меня свидетель есть, напомнит тебе!
— Чего мне напоминать, слава богу, в здравом я ещё уме да в памяти. Тогда я не понимал, теперь вижу, окрутили вы меня, вот что.
— Ой-ой! Господь с тобою! Это мы-то тебя обманули или… Не ты ли нам с гору всякого наобещал, а теперь…
— Ладно, помолчи лучше, а то ведь я такое тебе скажу…
— Говори, говори, посмотрим, что ты ещё наплетёшь!
— Матушка твоя меня нарочно гусятиной обкормила, приворожила да обманным путём на тебе и женила, а то не видать бы тебе меня, как своих ушей. Какой я по тебе вздыхатель? Вот, почтенный человек у меня в свидетелях. Скажи-ка, Караман, ел я у них за столом гусиную ветчину, или не ел?
— Да как же! Целого гуся слопал, ни крылышка мне не досталось.
— Правильно! Люблю честных людей!
— Только до того, пока ты поднёс этого гуся ко рту, Теона уже тебе в душу влезла… Правду я говорю, истину…
— Эх, Караман, Караман. И это называется друг! Иногда ты просто невыносимым делаешься!
— Посмотрите-ка на него! Минуту назад ты назвал его почтеннейшим человеком, а теперь он невыносимым стал! — снова накинулась на него Теона. — Не сваливай ты на других своей вины, не то, клянусь душой своей бабушки, не стану я такого терпеть, беззащитная я, что ли, или бездомная какая? Повернусь да уйду, ищи тогда, свищи!
— Ха-ха-ха! Не спеши, ради бога. То, что отец твой в приданое за тобой семь подвод, запряжённых волами, десять арб, украшенных коврами, да девять верблюдов, гружённых златом-серебром прислал, забирай-ка обратно и отправляйся, а ежели кто тебя в воротах остановит, пусть его…
— Довольно! Люди и вправду подумают, что ссоримся мы…
— Пойдёшь со мной на мельницу?
— Конечно, мне не впервой — я, как мышка, на мельнице выросла… Мешок этот пополам разделим, что ли, большой уж очень?
Прошло три месяца. Теперь Теона сама уговаривает мужа: возьми меня с собой на мельницу.
Муж не берёт её больше и за водой не посылает, не разрешает поднимать ничего тяжёлого, а через некоторое время отправляет к родителям и каждый день ждёт вестника радости.
Промчалась осень, заскрипели двери марани, загремели в нём кувшины.
— Э-гей-гей! — кричит Кечо прямо в пустой кувшин.
— Э-гей-гей! — отвечает ему кувшин.
Усаживается на треногий стул старый Лукия прямо перед врытым в землю пустым квеври и ну его бить по надутому животу, моет его, а квеври стонет, хрипит, издаёт разные звуки.
Нынешнему урожаю Лукия рад особенно. «Дедом я скоро буду», — поёт он прямо в кувшин, а кувшин вторит ему. Человек на земле радуется, а кувшин под землёй.
Разделся как-то раз Кечо, вымыл тёплой водой ноги и стал в длинную липовую давильню, отогнал насевших на виноград пчёл, и вскоре лодыжки у него покраснели, словно лапы у голубя.
В этот миг прискакал долгожданный вестник.
— Мальчик! Мальчик! — закричал он.
— Э, Караман, — не помня себя от радости, заорал счастливый отец, — сын у меня, слышишь, сынок. Не в службу, а в дружбу обрадуй старика моего, — попросил он, потом выскочил из давильни, расцеловал на радостях морду коню, а вестнику подарил золотой рубль. Но не успел Кечо снова стать в давильню, как появился из Лихети второй гонец.
— Мир дому сему! — крикнул он издалека. — Девочка!
Кечо побледнел, язык у него словно отнялся, и глаза от удивления на лоб вылезли.
— Что ты говоришь, человек! — еле пролепетал он. — Датико Почхидзе тебя опередил, сын, говорит, у тебя родился, а ты…
— Может, подумал иначе не отблагодарят, кто его знает…
— Убью я его! — заорал Кечо. — Если обманул, обязательно убью, а если ты обманываешь, — повернулся он ко второму вестнику, — то не жди от меня ничего хорошего, так и знай!
— Не знаю, милый, проходил я мимо вашего двора, слышу, тёща твоя ласково так приговаривает: «девка, девка». Дай, думаю, обрадую хорошего человека, всё равно туда иду. Что услышал, то тебе и пересказываю, своими глазами не видел, нет. Дай-то бог, пусть будет мальчик!
В это время у ворот Кечошкиного дома осадил разгорячённого коня сам тесть, соскочил с седла, подбежал к зятю да хвать его за ухо, и потянул его вверх.
— Что ты делаешь, кацо! — лицо у зятя перекосилось от боли.
Тесть вдруг взялся за второе ухо и потянул его вниз.
— У-у-ух! — застонал зять.
— Терпи, зятёк! — воскликнул тесть. — Двойня у тебя, двойня.
У зятя оба уха покраснели. Одно оказалось вздёрнутым, другое — опущенным…
…Лукия в честь такого события повалил во дворе корову и в мгновение ока отрубил ей голову. Голова высунула длинный язык.
— Диду! Как только он во рту у неё помещался?
— Чему ты дивишься, парень? Думаешь, у тебя он меньше? — засмеялся отец близнецов.
Быстренько накрыли на стол, тамадой опять выбрали Адама Киквидзе. Два дня кряду продолжалось застолье. Благословляли двойню. Девочке пожелали мудрости и красоты царицы Тамары, а мальчику силу Амирана и ум Руставели.
Я веселился больше всех. Пил за здоровье близнецов и орал мравалжамиер так, что под конец охрип совсем, а больше ещё и потому, что хотел заглушить снедавшую меня тоску по собственному счастью. Взглянул я, словно невзначай, в сторону двора моего, и голос у меня вдруг осел, словно петушиная кость в горле застряла.
— Затосковал ты что-то, Караманчик? — заметил перемену в моём настроении отец близнецов.
— С чего это ты взял, — улыбнулся я принуждённо и потянулся за рогом, наполнил его и молча поднёс ко рту. «Утолю печаль свою в вине», — подумал.
Язык совсем не повиновался мне. Кечо это заметил.
— Что с тобою, сукин сын, не узнаю я тебя?
— А чёрт меня знает.
— А всё-таки?
— Ничего, просто я…
— Ты чего слова жуёшь, есть тебе что ли нечего? Ах, понимаю, понимаю! — он вдруг вскочил и притащил мне надетый на вертел коровий язык. — Лучше лекарства у меня, брат, нету. Если и это тебе не поможет, плохо, значит, твоё дело. Смотри только, сразу не накидывайся, дай ему остыть, не то рот обожжёшь!
Не знаю, шашлык мне этот помог или другое что, но обрёл я дар речи, орал то басом, то дискантом… Все разбрелись, а я ещё остался, не хотелось мне домой идти. Тогда-то я убедился, что одиночество хуже смерти. Присел к очагу и голову повесил. Почувствовала Царо, какая у меня на душе печаль, и говорит:
— Караманчик, сыночек, родной мой, бог свидетель, ничем ты меня не обременяешь, не тяжело мне ни обед готовить, ни убирать за тобой, ни бельё стирать. Буду я по-прежнему за тобой ходить, правда, внуков у меня теперь двое, да не беда! Найдётся и для тебя минутка, пока в руках сила есть, а в глазах зоркость. Но в одном ты меня, родимый, послушай: плохо тебе без женщины будет, не семья там — где женщины нет, а дерево высохшее. Это я потому говорю, что добра тебе желаю. Без женщины в доме ни вкуса, ни достатка, ни благодати, ничего нет, гости даже в такой дом заходить не хотят. До сих пор я тебе этого не говорила, потому как в трауре ты был, — ведь какое горе пережил — в одну неделю отца с матерью в землю положил, шутка ли? А теперь время пришло, жениться тебе необходимо. Жена за тобой и присмотрит, и приголубит, и в доме порядок наведёт… Только, повторяю, не держи ты в душе, что надоело Царо за тобою ходить. Я ведь тебе добра желаю.
— Э… тётушка, кто за меня пойдёт?
— Ты только захоти, родной, любая с закрытыми глазами согласится. Кто тебе откажет, если ума не лишилась. Таких парней не только в Сакиваре, на всём свете раз, два и обчёлся.
Царо говорила, а я всё думал о Гульчине, хотя знал, что думать о ней нельзя, однако забыть её я был не в силах. И поэтому горестно вздохнул.
— Невезучий я, тётушка, на ком бы свой взор не остановил, все замуж повыходили…
— Да ты, парень, ни дать, ни взять лекарство для незамужних девиц! — воскликнула стоящая тут же рядом Элпитэ. — Если уж у тебя правда такой глаз хороший, взгляни-ка на мою Ивлиту, засиделась она что-то… У тебя от этого ничего не убудет, а девицу пристроим.
— Тётушка Элпитэ, что это ты такое говоришь?! Всех ты вековух на земле сбыла замуж, а для своей дочери тебе вдруг моя помощь понадобилась?! Чудно право!
— Эх, милок, врач, говорят, других от болезни лечит, а себя не может. Разве блаженный отец не говорил тебе этого?
Если бы я мог упомнить всё то, что он мне говорил! Для этого и девяти голов не хватило бы!
Пошёл я домой, развёл огонь в очаге, уселся на треногий стул и, глядя на пламя, задумался. Огонь вдруг превратился в огромное зеркало, в котором я почему-то увидел не себя, а отца. Огонь танцевал, а отец спокойно стоял в огне и, словно ничего и не случилось, как обычно, повёл со мною долгую, тихую беседу.
— Сыночек, — говорил он, — Царо правду сказала, жениться тебе нужно обязательно. Послушайся меня, отец плохого не посоветует!
— Знаю, папа, знаю, если бы ты даже мне этого не говорил, душа у меня горит. Оглох я от одиночества… И жену я хочу иметь, и детей, да видно не судьба мне, невезучий я уродился. Такая уж у меня участь — привезу домой невиданную под солнцем красавицу, а она в русалку обратится. Подумаю я взять в жёны женщину — разгневается на неё господь, — пройдёт она под радугой и в мужчину превратится. Вот так-то. Нет у меня счастья, а без женщины мне постель не мила, дом опостылел, даже сладкий сон мне не сладок, — говорил я отцу.
Огонь постепенно догорел и превратился в золу, и отец растворился и исчез, как в тумане. Стало холодно, я скинув с себя одежду, бросил её в изголовье и лёг, зарывшись в одеяло. Постель была холодна, как лёд.
Обманщица луна и двор с большой собакой
Вертелся я, вертелся на своём одиноком ложе, наконец кое-как согрелся. Сон меня стал одолевать, закрыл я было глаза, но навязчивые мысли снова прогнали сон прочь. Вспомнилось мне, как ещё в детстве, когда я даже не представлял себе, что это за фрукт такой — супружество и с чем его едят, мечтал жениться, привести в дом к себе женщину.
Когда поспевала краснощёкая мясистая черешня, лакомились мы до отвращения, а наевшись, начинали кидаться ею, вставляли скользкие косточки меж липких от сладкого сока пальцев и, словно из рогатки, целились друг другу в голову. Раз как-то угодил я Кечошке прямо в глаз. Понял он, что случайно это получилось, и говорит мне:
— Чем косточками этими друг в друга стрелять, давай лучше загадаем на счастье?
— Как это? — не понял я.
— А, очень просто. Узнаем, откуда кто жену приведёт.
— По косточкам?
— Да.
Я знал, что девушки обычно гадали на бобах, ну а как гадают на косточках, — не мог сообразить.
Подбросим косточки вверх, в какую сторону упадут, оттуда и жену приводить, понял? Дядя меня этому научил, он всегда так делает.
С тех пор мы тоже всегда так делали. Подбрасывали скользкие косточки в небо и… Если верить Кечошкиным косточкам, он должен был иметь по крайней мере около девяти жён: так как расшвыривал их повсюду. Мои же находили всегда одну и ту же цель — они почему-то падали в сторону двора священника.
Помню однажды, наполнив черешнями пазухи, мы вышли на дорогу и, как обычно, принялись бросать косточки в небо. В этот день с нами были Гульчина и Ивлита. Они тоже стали испытывать судьбу косточками. Я всё бросал их в сторону Гульчины и частенько в неё попадал, она посмеивалась в ответ своим серебристым смехом, и смех этот вливался в мою душу, как мёд. А косточки, брошенные Ивлитой, всё время попадали в меня, но я этому не радовался. В конце концов, не знаю почему, но она так разобиделась, что напала на Гульчину и оттаскала её за красиво заплетённые косички, растрепала и даже плакать заставила. И вернулась домой Гульчина заплаканная.
Никого эта ссора тогда не взволновала. Дети ведь частенько из-за пустяков ссорятся, а иногда и вовсе без причины. Я тоже не придал значения случившемуся, но теперь, лёжа в постели, сообразил, что причина всё-таки была.
Теперь-то я понял, что Ивлита любила меня, а мне было не до неё. И луна, и солнце, и весь белый свет — всё для меня сошлось тогда на Гульчине.
Лежу я и вспоминаю те давние дни. Может, у Ивлиты и сейчас ещё осталась в душе эта детская любовь, но что делать, если в сердце моём нет на неё ответа?! Хорошая девушка Ивлита, красивая, ловкая, сноровистая, всем она пригожа, но не люблю я её и никогда не полюблю. Насильно, говорят, мил не будешь, сердце ведь силой любить не заставишь, никаким оно приказам не подчиняется, живёт по своей воле и всё! Ни разу, никогда не подумал я о том, чтобы Ивлита моей женой стала. Очевидно где-нибудь в другом месте нужно мне счастье своё искать.
Мир велик. Учёный народ говорит — нет ему ни начала, ни конца, потому-то видать и устроен он так бестолково…
Вспомнил я ещё, лёжа, как Кечошка мне тогда говорил: «Не грусти, Караманчик, ты только захоти, подумай только о женитьбе, я тебе такую красавицу достану, что Гульчина эта, противная, рядом стать не посмеет. Пусть я умру, если не выполню своего обещания».
Не хочет Караман, чтобы Кечо умер, зачем ему это, пусть лучше обещанное выполнит, слово своё сдержит!
Холодно Караману одному, сиротливо. Вот и одеяло у него тёплое, и перина под ним как печь жаркая, а всё равно холодно. Ничто эту одинокую постель не согреет. Жена ему нужна, вот что!..
«Эх, Гульчина, неверная, если не должна была ты моею быть, хотя бы уж попали эти косточки громом тебе на голову!»
Нет, не буду о ней думать, была бы она вправду хорошей, не забыла бы меня, не променяла бы на другого. Ну и я в долгу не останусь, тоже на другую её променяю… найду и я себе, не перевелись ещё хорошие девушки на свете.
Тётушка Царо мне правду сказала: что за семья без женщины! Да и завет отца я не забыл, он ведь мне то же самое говорил.
И как подумаю об этом, сразу мне видится отец мой, стоит он в том углу, у очага, и, довольный, головой кивает. И мать рядом. Вокруг тишина, а в тишине слышится мне их ласковый шёпот, подслушивают они мои мысли и тихонько радуются. А ночь уплывает куда-то в бесконечность и меня с собою влечёт…
— Кечули, — сказал я ему на утро, — а помнишь, ты мне разок кое-что обещал…
— Я обещания свои как просяные зёрна кругом разбрасываю, где уж мне упомнить, что я обещал, будь добр, напомни…
— Не горюй, говорил, женю я тебя на красавице, почище Гульчины…
— Ах вот ты о чём печалишься? Да я за тебя умереть готов, генацвале. Лучшего свата на всём свете не сыщешь, подожди только недельку, управлюсь я тут со своими домашними делами. А ты, между тем, подготовься, оденься поприличней да и невесте будущей кое-что купи.
— Конечно, конечно, уж я постараюсь.
— Я за это время огляжусь, порасспрошу, потому, как говорят, лучше лучшего не переведётся, ведь ежели что не так, так и мне от этого плохо будет. Сам понимаешь, на кой чёрт плохие соседи. Баба злая — она и нас с тобою разведёт, и со всей деревней перессорит. Да и вообще перед миром ославит. Ни к чему такое.
Прошло несколько дней, я встретил друга у ворот, он только что приехал от родителей жены.
— Ну, как я выгляжу?..
— Тебе только недостаёт посадить на плечо сокола и отправиться на охоту. На княжеского сынка стал походить, не зря ведь говорят, ежели пень хорошо одеть, и тот человеком станет, хи-хи-хи! — затрясся в смехе молодой отец.
«Я тот самый пень, которого в Квацхути вместо тебя за жениха приняли», — хотел было возразить ему я, да подумал, что слова эти и вправду обидны будут очень и промолчал.
— Знал бы ты какую я тебе в Квацхути невесту присмотрел!
— Правда?
— Глаз не оторвёшь. Тестя, так же как и крёстного твоего, Ермолозом зовут. Завтра с рассветом в путь пойдём. Затягивать это дело незачем, всему своё время есть. Ты мне разок покричи, я мигом выскочу и айда! В последнее время, с тех пор как сплю я без жены, чуткий у меня сон.
С вечера лёг я пораньше, да никак уснуть не мог, вертелся, вертелся, подмял под себя подушку и кое-как задремал.
— Ку-ка-ре-ку! — послышалось мне во сне, приоткрыл я глаза, огляделся.
Опять слышу: «Ку-ка-ре-ку!» По голосу узнал я нашего старого петуха. Поднялся, посмотрел на небо, оно как молоко белеет. Как это, думаю, рассвело так быстро, удивился даже, во двор выглянул — холодно.
— Ух ты, совсем уже рассвело, — сказал я так громко, словно у дома были уши и он мог меня слышать.
Ещё раз посмотрел на небо — не собирается ли дождь?
Звёзд не увидел, но кругом было спокойно. Я разжёг очаг, кое-как умылся, натянул новенькую чоху, взял свою шапку и вышел за дверь.
Деревня крепко спала.
— Кечо! — позвал я громко.
Никто мне не ответил.
— Кечошка, соня, вставай, слышишь, у-у! — закричал я.
Даровой сват наконец высунул голову из-за двери:
— Ты что ж это, как птичка, на веточке спал? И чего это тебя в такую рань подняло?
— Разве мы не так уговорились? Сам ведь мне говорил про свой чуткий сон!
— Ладно, ладно, я сейчас. Только подкрепимся немного. Нельзя в дорогу с пустым желудком.
— Не хочется мне сейчас. Напрасно ты беспокоишься, голодным тебя никто не отпустит, девушку могут не отдать, это верно, а вот накормить уж обязательно накормят.
— Ишь, заторопился! Если ты так спешишь жениться, где же до сих пор-то был?
Скоро мы оставили Сакивару.
— Почему это негодное солнце не появляется, привязал его кто-то что ли? — забеспокоился Кечо. Но вокруг как назло стало ещё темней.
— Обиделось, видать, на то, что ты назвал его негодным.
— Ладно уж, батоно, пусть только рассветёт, а я могу совсем онеметь, это мне ничего не стоит.
Прошли ещё немного, темнота совсем сгустилась.
— И что это утру вздумалось с нами в прятки играть? — не скрывал теперь неудовольствия я.
— А может, солнце нам подмигивает, не беспокойтесь, мол, всё в порядке будет, — сказал сват и зевнул сладко: — Эх, не выспался я. Рано мы вышли…
— Уж и не знаю, мой петух вовсю кричал.
— Может, ему какой сон приснился? А ты тоже, дурья твоя башка, этому глухарю поверил, у него ведь одна нога в могиле.
— Не знаю… не знаю я. Я ж не только на петуха надеялся и на небо ведь смотрел… — пожал я плечами.
Мы зашагали медленней. А небо между тем сделалось ещё темней.
— Это мне назло, ей-богу, ночь с днём поменялись.
— Почему же назло, всё равно от этого ничего не изменится, так уж мир устроен. Не беспокойся, посветлеет когда-нибудь, — обнадёжил меня сват. — Пусть для нашего врага не посветлеет!
— Сейчас мне рассвет нужен, пока я себе шеи не свернул, а уж после моей смерти… я ничего не узнаю!
Прошли ещё вёрст пять, а утра всё нет!
— Такое уж у меня счастье, видите? Солнце черти съели.
Чувствую, сват мой тоже забеспокоился. Неудобно, говорит, в дом в такую рань заявиться, что хозяин-то скажет?
Идём молча, на дороге ни души. Дошли до Хидикари, завидели издали огонь, обрадовались. Надежда появилась, не волк же огонь зажёг, люди здесь, наверное поблизости.
— Э-эй, кто там? Здравствуйте!
— Здравствуйте! — послышалось в ответ.
То были кутаисские аробщики, везли они товар какому-то духанщику. Распряжённые буйволы похрустывали соломой, а сами аробщики — отдыхали. Старший укрылся буркой, устроился на пучке соломы, молодой сидел у костра.
— Дядя, сколько времени? — обратился я к нему.
— Полночь ещё не кончилась, луна недавно взошла.
— Что-о-о?! Мы когда из дому выходили светало!
— Это, ребятки, луна вас обманула. Бывает так когда облака на небе, луны самой не видно, прячется она за ними, а светом своим равномерно так всё освещает, что кажется будто светает. Я уж знаю. И со мно такое случалось.
— Вот видишь, а ты беспокоился, благодари бога, что всё так обошлось. А то ведь солнце совсем потухнуть могло, а что тогда? Лучше давай-ка к огню подсядем да погреемся.
— Тебе хорошо, ты недопечённый…
— А что делать, пока домой возвратимся, рассветёт, а вообще-то с дороги возвращаться негоже.
— Постелите себе соломки да и отдохните хорошенько, — предложил лежащий.
Пришлось послушаться его совета. Буйволы так мерно похрустывали соломой, что нагнали на нас сон, хоть и душил нас гнев, сердились мы на эту проклятую ночь, хотелось нам её в этом огне спалить, да где было силы взять?
Аробщики поднялись рано, а мы сидели до тех пор, пока не убедились, что окончательно рассвело.
— Хи-хи-хи, ловко же обманул тебя этот противный старикашка, твой петух, — хихикнул Кечошка.
— Проклятье, чтобы кошка у него на могиле сдохла! Хотя, если уж правду говорить, не петух нас обманул, а луна, поплачет у меня её мать!..
— Как это не петух, не крикни он, так и луна бы тебя не разбудила. Не оправдывай его зря, пожалуйста! Был бы я на твоём месте, пополам бы его разорвал!
— Чем бедняга виноват? Говорю тебе, луна его обманула.
— Тогда обоих-то и разорви, хи хи, хи! — опять захихикал даровой сват.
— Хорошо, петуха я беру на себя, а луну тебе оставляю, ты её убей. Не меня ведь одного обманула. Ты-то ведь тоже пострадал!..
Отряхнули мы наши чохи, перекрестились и направились в Квацхути. Подошли к дому Саганелидзе.
— Эй, хозяин!
— Ав-ав-ав! — донеслось нам в ответ.
— Хозяин!
— Ав-ав-ав!
К большому столбу толстой цепью была привязана овчарка, ростом с годовалого бычка.
— Хозяин!
— Ав-ав-ав!..
— Как ты думаешь, если хозяин держит такую большую собаку, какая у него должна быть дочь?! Боится, наверное, чтоб не похитили её. Эх, и привёл же я тебя в хорошее место, тысячу раз мне ещё спасибо скажешь.
— Дуралей ты, Кечошка, ну скажи, пожалуйста, кто это на собачий аршин женщину мерит. Поглядим-посмотрим, какая она из себя, тогда и говори.
— Хозяин!
— Батоно?
На балкон двухэтажной оды вышла полногрудая хозяйка:
— Пожалуйте, пожалуйте, дорогие, чего это вы издали зовёте.
— Ав-ав-ав! — рычит овчарка и всё норовит вырваться из своего плена.
— Да замолчи ты, волчья сыть! Врага от друга не отличает! Пожалуйте, пожалуйте, дорогие!
Я ещё раз посмотрел на собаку. Проклятие хозяйки относилось явно не к ней, какой бы её волк поборол?!
Вскоре появился и отец семейства. Принёс на веранду стулья.
— Сюда садитесь, дорогие. Позавтракали небось, однако в дороге и проголодаться недолго. Я сейчас… Допа, Допа, Допина! Девочка, развлекай гостей, чтобы не соскучились.
На балконе появилась довольно-таки перезрелая некрасивая толстуха, короткие и широкие брови её уродливо распластались над серыми тусклыми глазами, в которых сон ещё не прошёл. Огромный двойной подбородок закрывал шею, переходил в щёки, съедая лицо, а отвислые огромные груди колыхались, как вымя.
Допина слегка кивнула нам и остановилась.
— А ну-ка, девочка, давай, сообрази что-нибудь быстренько, пока я бычка заколю, да скажи-ка матери, чтобы воду для поросёнка на огонь поставила. Прохладновато ещё, согреться не мешает, думаю, пропустим стаканчик-другой…
— Минуточку, батоно, всё будет, — сказала девушка и вошла в дом. Ещё я заметил, что в ушах у неё были дырочки, вероятно, для серёжек, наверное, надеется, что муж ей их повесит, золотые, блестящие…
Девушка замешкалась, тогда хозяин сам ворвался в комнату и прытко вынес оттуда небольшой столик. Затем он принёс бутылку с водкой и поболтал ею:
— Смотрите, какая цепь! Когда мою собаку не удержать железной цепью, я её той водочной цепью к месту привязываю, — засмеялся он.
— Батоно Ермолоз, вы, вероятно, шутить изволите?
— Ну да, шучу, шучу, конечно, давайте-ка по одной выпьем для аппетита, — поднял полный стакан. — Сладкой вам старости!
Я выпил, и дух у меня захватило.
— Не водка, огонь сущий, уф, уф, уф!
Не знаю, сковала ли меня эта водка, как ту овчарку, но аппетит мой определённо с цепи сорвался. Я запихивал в рот всё, что попадало под руки и глотал, не разжёвывая.
Ветчина сама собой скользила в горло, а хлеб я не успевал даже подносить к губам. Сват от меня не отставал.
— Хорошая водка? — спросил хозяин.
Кечо без слов поднял кверху большой палец.
— Допина моя её гнала. Быстрая она у меня, моя девочка, да сопутствует ей крепость этой водки!
— И горечь? — спросил я.
Хозяин очевидно не ожидал такого вопроса и ответил с опозданием.
— Да нет, батоно, зачем ей горечь… Сладкая она у меня, моя девочка, как голубь безобидная. Не потому я её хвалю, что дочка она мне, нет. Правда это, истина. Счастливая будет семья, куда она войдёт, потому-то и не нашлось до сих пор ей достойного, не то уж девять раз могла она замужем быть. Уж очень всем нравится, кое-кто даже похитить хотел, собаку — ведь эту я не зря здесь на цепи держу. Вот как выдам Допину мою замуж, пусть бог меня услышит, зятю её подарю.
— Зятю? — открыл я от удивления рот.
— Да, а чему это ты дивишься, благословенный? Не знаешь разве, что бывают и такие нахалы, что запросто от мужа жену увести могут. Немало я эдаких историй слышал.
— Пху-у! — зажал я рукою рот. — Извини, пожалуйста, поперхнулся невзначай, кусок в горле застрял.
— Выпей-ка ещё, пройдёт! — сунул мне в руки стакан Ермолоз.
Я выпил. В это время вошла Допина. Поглядел я на неё и вдруг совсем аппетит потерял. Она так густо вымазалась белилами, что была похожа на обезьяну, клянусь честью, на белую обезьяну. Уселась рядом со мною, схватила кусок ветчины и, не разжёвывая, проглотила, потом стала утирать толстые сальные губы рукавом пёстрого ситцевого платья. Не знаю, насморк ли у неё был или что другое, но шмыгала носом она очень часто. Вдруг, не стесняясь, занесла руку за спину, видимо, почесаться хотела, да не дотянулась, прислонилась спиной к балконному столбу и ну о него спиной тереться. Почесалась, успокоилась и, довольная, протянула мне кусок хачапури.
— Угощайтесь, батоно, не стесняйтесь, сыр у нас ещё есть.
Когда унесли столик, отвёл я Кечо в сторону:
— Уведи меня отсюда, ничего я больше не хочу. Совести у тебя нет, расхвалил, такая, мол, да сякая!
— Она тебе не по душе?!
— Ты что, спятил что ли! Да если мне её на середину дороги положат, и то мимо пройду, не подберу.
— Напрасно ты так! Язык у неё сладкий, — заступился за девушку сват. — Что может быть лучше этого? В доме всегда мир да благодать будет. Разве это не главное в жизни?
— Идём, довольно, слышать ни о чём не желаю!
Не пришлось Ермолозу бычка забивать, и поросёнок тоже смерти избегнул. А овчарка в ожидании похитителей Ермолозовой дочери так и осталась во дворе на привязи.
Вот сколько я сразу добра сделал!
Дорога, покойником перерезанная, и покойники, женихом оплаканные
Вышли мы из Ермолозовых ворот и всё со страху назад оглядывались, не спустил ли разгневанный хозяин овчарку с цепи нам вслед. Но всё обошлось благополучно. Миновала нас эта напасть — собака и двор собачий.
— Прав ты, Караманчик, уродина она, на человека не похожа. Что всё-таки с ней приключилось, ума не приложу?! — дивился сват, — месяца три назад видел я её, была она женщина как женщина, а теперь страшилище какое-то. Как вошли мы, я это сразу заметил, только тебя расстраивать не хотел. Ну ничего, поищем где-нибудь в другом месте.
— Эх, мой милый, если бы я только знал, что ты умеешь сватать по-настоящему…
— Что значит по-настоящему? — встрепенулся он.
— По-настоящему, это когда женщину мужчине расхваливают, а мужчину женщине, и обоих обманывают, понятно тебе?
— Выходит, я, по-твоему, обманщик? Не дожить мне до завтрашнего утра, если я тебе неправду говорю.
— Если бы бог наказывал всех, кто неправду говорит, на земле бы ни одного человека ненаказанного не осталось. Сват, говорят, ежели не соврёт, мыши его съедят.
— Хочешь правду знать, — эту девушку я тебе нарочно показал, зная, что первая невеста обязательно тебе не понравится. Первый блин, говорят, комом… Теперь я к такой приведу, пальчики оближешь, приданого даже не захочешь. И умная, и красивая, а волосы какие!..
— Что мне волосы? Какой в волосах прок?
— Э, милый, если во всём прок искать, тогда и красота ни к чему. А Нушия, так девушку зовут, чудо как хороша. Всем, чем бог бедную Допину обидел, Нушию одарил. Да что говорить, сам увидишь. Держись только, впрямь, с ума не сойди. Словно луна она.
— Обманщица?
— Нет, кацо, красавица, не лови меня на слове!
— Если ты мне, Кечошка, друг, не вспоминай о луне. Это она — причина всех моих невезений.
— Знаешь, ты и здесь не очень надейся. Я ведь давненько к ним не заглядывал, может, замуж она вышла, может, похитил кто, как знать?
— И её тоже, как Допину?!
— Тут уж наверняка могут!
— Смотри, Кечошка, в каком-нибудь дворе наверняка нас собака задерёт. Не у всех ведь она такой толстой цепью привязана…
Выкрашенные голубой краской ворота дома Барсонидзе были открыты. В глубине двора мы увидели тоненькую стройную девушку, она мела веником двор.
— Это Нушия, — сказал мне Кечо. — Слава богу…
Стали мы в укрытие и принялись рассматривать девушку.
— Смотри хорошенько, если не понравится, не войдём.
Кечо оказался прав, волосы у неё были действительно роскошные, длинные чёрные косы доходили до самых лодыжек.
— Ну как?
— Косы понравились. Но ведь сама-то она к нам спиной стоит. Волосы хороши, а всё остальное, кто его знает…
— Не бойся, она и лицом повернётся, потерпи немного.
Девушка действительно повернулась к нам лицом. И вправду похожа она была на луну, только не на ту, обманщицу, что меня и старого петуха обманула, а на правдивую луну. Нушия была немного бледна, но это очень шло ей.
— Нравится?
— Очень, — признался я.
— Ну, если издали нравится, посмотри теперь вблизи. И кончай уж с этим! Себя не мучай и меня по дворам не таскай. Войдём, что ли?
— Обожди, ещё разок взгляну.
— Ну смотри, смотри.
Нервы мои совсем расшалились, и кровь взбунтовалась. С первого же взгляда влюбился я в Нушию.
— Ты что, к месту прирос? Войдём давай!
— Н-не могу, сначала ты войди… — замялся я.
— Не бойся, не съест она тебя!
— Нет, не могу, ноги подкашиваются.
— Хорошо, я попробую… Хозяин!
— Батоно, — послышался в ответ нежный голосок. — Ах, это ты, Кечо? Заходи, заходи, дорогой, чего издали зовёшь? — Девушка заулыбалась гостю. Улыбка очень шла ей и делала её похожей на ангела.
Я подумал, что можно было бы ни жать, ни сеять, ни руками шевелить, одного было бы достаточно: на неё смотреть.
— Нушия, ты ли это?
— Я, а кто же ещё?
— Не надеялся я тебя незамужней встретить.
— Одних, говорят, счастье у ворот поджидает, а других за девятью горами. Не все ведь под одной звездой рождены, — снова заулыбалась она.
— Как же это до сих пор тебя женихи не похитили, ослепли они, что ли?
— Нашёлся один такой, да на четвереньках, ни с чем ушёл, после него и похитителей как ветром сдуло. Вот ты парень умный, ответь-ка мне на такой вопрос: что это такое — похищение? Если девушка тебе не мила, сердце её тебя не согреет, а если мила и ты ей люб, она и без похищения за тобою пойдёт.
— Правильно говоришь, ей-богу!
— Чего это ты, дочка, на пороге разговор завела, гостя в дом не зовёшь, — появился на террасе высоченный мужчина.
«Да-а! — подумал я, — ежели этому благословенному в лицо посмотреть, шапка с тебя слетит» — и придержал на всякий случай свою папаху.
Из кухни выглянула хозяйка, дочь лицом на неё была похожа.
Я осмелел и тоже вошёл во двор.
Нас пригласили в дом… Горел очаг. Хозяин оказался даже выше, чем я его представлял. Я и сам не низкорослый, но был ему по плечо и рядом с ним казался хилым и щупленьким.
— Садитесь, — пригласил он.
В оде было тепло, но мы почему-то присели к очагу.
— Батоно Георгий, — сразу приступил к делу сват, — как спелый виноград убрать нужно вовремя, так и девушку заневестившуюся — вовремя замуж выдать. Правду я говорю?
Меня вдруг охватила дрожь, и в смущенье я опустил голову.
— Ты, вероятно, тогда в городе был, потому и не знаешь, какое у нас несчастье стряслось, — покачал головой хозяин, — старший мой сынок, Ростом, поскользнулся во время охоты да со скалы свалился, видишь, какое дело.
— Ой, разрази меня господь, что я слышу!
— Два года нам не до этого было. А теперь, пожалуйста, отчего же, если подходящий подвернётся, выдам.
Тут Кечо приступил к делу не мешкая. Хвалил дружка своего до небес, старался. Будущий тесть и жена его разглядывали меня с головы до ног, и я понял, что понравился обоим. Потом порасспросили о семье моей и тоже довольны остались. И Нушия раза два украдкой на меня взглядывала, но встретившись со мной глазами, опускала голову, и щёки у неё зацвели, как гранаты. Я тоже смотрел на неё исподтишка и тоже очень смущался, хотя в душе у меня всё ликовало.
Вот когда родителям действительно следовало бы пса во дворе на привязи держать!
Я так распалился, что забыл отцовские наставления — разузнать какого рода-племени невеста. Да, кстати сказать, в этом-то и необходимости не было. Всё здесь казались здоровыми. Брат, правда, помер, но не от болезни ведь, — на охоте оступился. Ну, а беспокоить других мертвецов в их могилах у меня, признаться, не было никакой охоты. Пусть себе спят спокойно! Нушия улыбалась мне, и этого было достаточно.
Девушка, сославшись на недометённый двор, встала и ушла.
Сват подмигнул мне, и мы вышли с ним на террасу. Хозяйка тем временем вынесла нам стулья, а сама на кухню ушла.
— Дела пока на мази, — заметил Кечо.
— Почему пока? Девушка мне улыбается. Отцу-матери я тоже нравлюсь, кто же ещё может мне поперёк дороги стать? — удивился я.
— Будешь теперь меня обманщиком называть, а?
Нушия снова взялась за веник.
И зачем такой девушке приданое, — подумал я, хотя она вовсе не выглядела бесприданницей.
Я снова посмотрел на неё, и вдруг у меня вырвалось, как песня:
«Не нужна подушка белая, на твоей руке лежащему…»— Э, парень, — поморщился сват, — твои песни мне ещё на Накерале надоели. Ты чего это здесь уселся и, как сова, глазами ворочаешь? Спустись-ка, покрутись рядом с девчонкой, ей-то и напой чего-нибудь. Я ж твои таланты знаю, ты ей покажи. Расселся тут и мурлычет. Встань, к ней иди!
— А про что говорить?
— Да вы только на него посмотрите, про что говорить, не знает?! В другое время язык у тебя, как собачий хвост, болтается, что же вдруг теперь он отсыхать стал! Ой, мамочки, уморил! Меня спрашивает, про что ему говорить. Если все слова забыл, стишки вверни, бабы это дело очень даже любят. Давай, давай, раскачивайся!
— Все мои стихи в Тбилиси на кладбище остались!
— Тогда скажи ей что-нибудь поласковее. Ласку да похвалу все любят.
— Ну, что, что сказать?
— До чего я дожил, видите, он у меня слова стал занимать! Ладно, ты ей вот что скажи: «Ослепительна ты, как солнце, и как луна прекрасна!» — Ну-ка, повтори.
Я повторил.
— Хорошо, — кивнул он мне, — теперь иди…
Спустился я во двор, подошёл к девушке, открыл было рот и вдруг почувствовал, что все слова, каким меня сват учил, я забыл и вместо этого пробормотал еле слышно:
— Какой у тебя, девочка, чудный веник!
Нушия в ответ громко расхохоталась, посмотрела мне прямо в глаза. Это длилось какую-то секунду, и вдруг как помешанная бросилась от меня прямо наверх по лестнице, так, словно смерть за нею гналась.
Я остолбенел. Конечно, пошутил я неуместно, это мне и самому было понятно, но ведь Нушия совсем не обратила внимания на эту шутку. Здесь, видимо, крылось что-то другое, недаром она стала бледна как смерть. Что же всё-таки с нею стряслось?! — недоумевал я. — Может, нечистая сила в неё вселилась? Недаром ведь родители её не держат собаку на привязи? Такая красавица и вдруг до сих пор не замужем, странно как-то. Я тотчас же рассказал обо всём Кечо, он — родителям Нушии. Те пришли в недоумение.
— Что с тобой? — спрашивали они дочь.
— Оставьте меня, — умоляла она, — скажите этому парню, пусть уходит отсюда поскорей!
— Почему, генацвале? Что с тобой, доченька, что тебя так расстроило?! — спрашивали наперебой испуганные родители.
— Скажите ему, пусть уходит, пока чего худого со мной не случилось, — умоляла девушка. — Не выйду я за него ни за что! — обливалась она слезами.
— Что ты, милая, чем он тебе не по нраву? Не урод, не хром.
— Всем хорош, лучшего парня отыскать трудно.
— Может, дурак или простофиля?
— Боже упаси!
— Может, неотёсанный какой, слова сказать толком не умеет?
— Что вы, прирождённый тамада он.
— Что же тебе тогда надо? Без недостатков ведь только бог один.
— Не приставайте ко мне, сказала не выйду, и всё тут! Оставьте меня в покое. — Снова стала она обливаться слезами и бросилась на кухню.
Я всё стоял, опустив голову, и перебирал в памяти, чем мог её обидеть. Но сколько ни старался, никак не мог сообразить, в чём я провинился. Потом задрал голову вверх и посмотрел в глаза Георгию, и шапка у меня упала, я наклонился, поднял её и снова надел.
Поступок Нушии нас всех поразил. Все мы горели одним желанием узнать, что же всё-таки с ней стряслось. Ясно было одно: что-то её мучило, но трудно ей было в том открыться.
Мы устремились за ней в кухню.
— Говори, какая тебя муха укусила? — накинулась на неё мать.
— Не выйду и всё! — упрямо твердила девушка. — Лучше уж в девках мне состариться, чем за него идти…
— Почему, почему? — спрашивал отец. Он грозно сдвинул брови. — В последний раз тебя спрашиваю, почему?
— Не могу!
— Скажи в конце концов, почему не можешь, съест он тебя, что ли?
— Хорошо, только вы выйдите, я маме скажу.
Мы покорно вышли. На пороге я остановился и навострил уши.
— Не могу, мамочка, — услышал я рыдания Нушии, — всем хорош, очень он мне нравится, но не могу. Сестрой ему буду, а женой не могу… Посмотри ты ему в глаза хорошенечко, на покойного Ростома нашего похож он, вылитый его портрет. Извинитесь перед ним, мамочка, плохого чего чтобы не подумал бы… Ох, не могу, нет, не могу!
Слёзы Нушии обожгли мне сердце. Конечно, я всё понял. Не хам ведь я неотёсанный, чтобы такого не понять. Распрощались мы с хозяевами и пошли чисто выметенным двором прочь. И сват мой опечалился, загрустил, молча он за мной поплёлся, потом и говорит:
— Не сердись на меня, Караманчик, ей-богу, нет на мне вины. Страшно всё-таки этот мир устроен.
— Кто ж тебя винит? Помолчи уж лучше…
Всегда почему-то хочется виновника поражения найти. Вот и я так, взял да и на луну всё и свалил. Во всём, говорю, это она, проклятая, виновата, это она наслала на меня колдовские чары.
Сами подумайте, разве виноват я, что на брата Нушии похож? Коли не везёт человеку, то всё у него будет не так, как надо, и мертвец ему изгородь на пути поставит и живой дорогу перебежит. Брат Нушии, Ростом, со скалы слетел, да меня с собою увлёк. Сам погиб и меня погубил, вот так-то, дорогие мои…
* * *
Пришла зима. Накинули на плечи мы чёрные бурки, разумеется, у соседей одолжили, а сын Темира Сеит коней нам одолжил, за деньги, конечно. Хотел было я на месяц коней взять, да запросил он больно дорого, договорились на неделю. Вскочили мы с Кечо в сёдла и айда!
— Куда теперь путь держим? — сам у себя сват спрашивает.
Остановились мы на перекрёстке. Хотел было я ему тогда сказать, давай в Квацхути подадимся к той девочке, которой я вместо тебя понравился, — да не посмел, вдруг, думаю, обидится ещё.
— Вот что я хочу тебе предложить, кацо, не пошёл бы ты в примаки в богатую семью, а?
— Да ты что! Даже не говори мне про это. Остудить свой очаг, чтобы чужой согреть? Не пойду я на такое. Да и единственная их дочка тоже ещё не известно, что за птичка. Нет, уж, уволь.
— Это ты напрасно. Макрине — девушка ласковая, приветливая, всем она улыбается, со всеми смеётся.
— А может, она ненормальная?
— Брось дурака валять. Уж такая она воспитанная да обходительная, слова просто не скажет, всё «батоно» да «батоно», добродетель ходячая.
— Знаешь, что мне в городе имеретин один рассказывал? Содрали, говорит, с лисицы шкуру да на волю её выпустили, а она в поле бежать, завидели её крестьяне и на смех подняли, пуще всех смеётся крестьянин, что в зятьях живёт, а ободранная лиса ему и говорит: «Ты чего надо мной смеёшься? Моя доля всё лучше твоей. С меня один раз шкуру содрали, а с тебя вон каждый день дерут». Рассказал это имеретин, услышал рассказ кахетинец и другую притчу поведал: идёт как-то такой вот зять по дороге, повстречалась ему жаба: «Фу, на что ты похожа!» — говорит ей зять, а она в ответ: «А всё-таки я лучше тебя. У меня-то своя нора есть, и никто меня попрекнуть не может в том, что не своим живу». Вот так-то, милый мой!
— Не слушай ты эти глупые россказни. Разве я тебе плохое присоветую? Дуралей, счастья ведь твоего хочу. Тесть у тебя богатый будет, будешь жить как у бога за пазухой. Подушки у него деньгами набиты.
— А голова от этого не болит?
Сват пропустил моё замечание мимо ушей.
— Добра у него столько, что расстели он скатерть до самого солнца, хлеба-соли целых десять месяцев на ней не переведётся. Такое там богатство, что на двести лет хватит. Пойдём поглядим. Понравится девушка, в ту же ночь дело улажу, а нет — насильно жениться тебя тоже никто не заставит…
— Хозяин!
— Батоно?
Во дворе под большим орехом арба привязана. Двухэтажная ода словно на курьих ножках стоит. На зов вышел хозяин в линялой чохе с газырями. У хозяина — губа заячья.
— Будущий тесть, — прошептал мне Кечо.
Хозяин пригласил нас в дом. Отказывались мы не долго, вошли. В комнате за столом у самого камин сидели три старухи и два старичка и печально глядели на едва тлевший огонь. Нас увидели, оживились, приветливо закивали головами.
— Будущая тёща, — указал мне Кечо на женщину без ресниц и бровей. Я посмотрел и содрогнулся от отвращения. Совершенно лысая, она была похожа на опалённого поросёнка. В старости у некоторых волосы даже из ушей растут, а у этой, как ни странно, они повсюду выпали.
Мы познакомились. Две другие старухи были незамужними сёстрами безбровой. Молодыми, оказывается, они никак не могли женихов себе выбрать, так и просидели всю жизнь в девках, а под старость поселились у замужней сестры, присматривали за племянницей да у зятя на шее сидели.
Старшая была худа как жердь, под тонкой кожей у неё просвечивали синие жилки, а во рту одиноко торчали два гнилых зуба. Видно было недолго на этом свете она задержится. Вторая тоже едва на ногах стояла, а лицо сморщенное, на сушёное яблоко похоже. Один из стариков приходился дядей хозяину дома, всю свою жизнь он бобылём прожил, теперь вот тоже к племяннику на шею уселся. Второй старик был старинным другом первого, уже года два как овдовел и ходил сюда в надежде найти себе жену.
«Куда ему жениться? — подумал я. — Ведь одной ногой в могиле стоит». — И словно отвечая на мои мысли, этот восьмидесятилетний жених вдруг стал жаловаться:
— Эх, милок, нет ничего хуже, чем в моём возрасте жену потерять. Невестка совсем за мной не смотрит. На погреб замок повесила, не пей, мол, вина, водку тоже прячет. А у меня, если в день разочка три не приложусь, во рту пересыхает. Знаю, в душе вы надо мной смеётесь, к чему, мол, теперь Олипанте жена — неправы вы, дорогие, очень даже неправы. Старику жена нужна, чтобы кости старые согреть да кровь заледенелую разбудить. А у молодых, как вы, кровь и без того кипит. Женщина, дорогой, греховный цветок, но в этом греховном цветке столько добра и сладости, что без него нет на земле жизни. Если есть у мужчины хоть крупица ума, ни минуты он без женщины жить не должен. Вот и друг мой в последнее время жалеет, что состарился без жены. А что проку, я тебя спрашиваю, в такой жалости? Солнце-то назад не оглядывается, былого ведь не воротишь…
Хозяин между тем растопил очаг, накрыл длинный стол скатертью и лампу на него поставил. Только зажгли её, и словно на свет появилась из другой комнаты Макрине.
Так уж заведено, что возраст у женщины не спрашивают, а особенно у незамужней. А у неё, как я понял, все сроки были просрочены: давненько видать ей за сорок перевалило. Прошла она к столу, покачивая бёдрами, круглая такая, толстая, как подушка.
— Уф, уф, пампушка какая, — зашептал мне сват, — будущему её хозяину, я думаю, ни печи, ни одеяла тёплого не понадобится. И то сказать, мир полон худых женщин, а такая вот пышечка одна на тысячу попадётся. Давай, парень, действуй!
— На кой чёрт мне жир, я ведь не собираюсь мыло варить!
— Тише, дуралей! Услышит, обидится, — прошипел сват.
Она учтиво поклонилась нам и села за стол напротив.
Я перехватил её взгляд, брошенный украдкой, потом она улыбнулась мне, а во рту у неё звездой блеснул золотой зуб. Но и золотой зуб не украсил её. Уж очень она была некрасива: низколобая, широкоскулая, с кривым носом. Истинный портрет своей матери. Проживи она столько же, подумал я, будет на что посмотреть, и на мгновение представил её своей женой; эдакий безволосый поросёночек, брр…
— Пожалуйста, — хозяин поднёс мне целый хлеб и заставил преломить его.
Ужин был в разгаре. Старики ели медленно, неохотно, зато вино хлестали как воду. Хозяйка, которая была за столом виночерпием, едва успевала наполнять стаканы. Вино было хорошее, сладкое, пилось легко, но я вспомнил совет отца и вином не увлекался. Дабы не сделала эта сладость горькой судьбу мою, а хорошее вино не связало меня с плохой женщиной. Невесту упрашивать не приходилось. Аппетит был у неё завидный. С жадностью набросилась она на всё, что было на столе, запихивая в рот кусок за куском, помогая при этом толстыми, жирными пальцами. И от вина она не отказывалась, пила, как буйвол, а кости грызла, как собака голодная.
Смотрел я на неё и думал, что ежели есть ей будет нечего, она и мужа так обгложет. Сват, между прочим, от неё не отставал, ему даже отсутствие зубов не мешало. Подмигивая хозяйке, он ловко расправлялся со свиной головой, а от вина так развеселился, что даже петь начал.
Совсем не пришёл бы в мир, реро! Если б ты мне не нравилась, реро! Реро, реро, реро.Никто его не поддержал, и он обиженно замолчал.
Покончив со свининой, он принялся за гусиную ветчину.
— Бери, Караманчик, не стесняйся, нет ничего на свете вкуснее этого.
— Спасибо, сам угощайся.
— Ладно, не ломайся, хоть из уважения ко мне возьми кусочек.
— Не приставай, не то миску с ветчиной я тебе на голову насажу! — разозлился я.
К несчастью своему, заметил я блюдо с говядиной. Потянулся, взял кусочек, но прожевать не смог, такой уж жилистый попался, решил я его под стол выкинуть. Проделка моя от тестя не укрылась. Пришлось сделать вид, что коту кусочек пожертвовал: под столом тот сидел в ожидании. Длинноусый со всех ног на моё подношение набросился. Но не тут-то было: кусок и ему не по зубам оказался. Ощетинился кот, зарычал, словно с собакой драку затеял.
Я встал из-за стола, и веселье расстроилось.
Засуетилась тут Макрине, вымыла нам с Кечошкой ноги и постель постелила. Меня она особенно обхаживала, каждую секунду называла «батоно» да зуб золотой в улыбке показывала.
А я, как посмотрю на неё, так мне всё поросёнок палёный мерещится, и холодный пот меня с головы до ног прошибает.
В спальне два ковра лежало, один красивее другого, и зеркало большое в золотой раме. На стене — кинжал с насечкой. Улеглись мы на пуховые перины, одеялами шерстяными укрылись, и тут Кечошка мне говорит:
— Человек в этой жизни или спит или бодрствует. Плохо ли, хорошо ли, а треть своей жизни мы в постели проводим. Поэтому главное иметь хорошую постель, не так ли, Каро?
— Да, хорошую постель и я люблю, сладко в ней спать.
— Вот и хорошо! Чего же ты смотришь, давай шевелись, парень. За Макрине семь тюфяков да семь одеял с подушками в приданое дают, всё из шерсти, из пуха…
— Скажешь тоже. Не стану же я из-за хорошей постели уродливую жену брать. Мужчине и в давильне на соломе сладко спать, если рядом с ним женщина красивая лежать будет. А если противна тебе она, так и пуховая постель опротиветь может. Страшилище настоящее, Макрине твоя! Если ляжет она в постель со мной, в ту же ночь у меня душа вон выскочит.
— Страсть какой, дружок, ты разборчивый! Известно ли тебе, что на свете без недостатка нет ни мужчины, ни женщины? Так что такого страшного ты в Макрине нашёл? Подумаешь, немножечко нос у неё подгулял, большое дело! Зато добра сколько. Как сыр в масле кататься будешь.
В это время у дверей послышались шаги. Сват замолчал. Шаги смолкли, и разговор продолжился.
— Зачем тебе красивая жена? На некрасивой женишься, во всём она тебя ублажать будет, все желания твои выполнять, под ноги стлаться.
— А зачем мне, чтобы Макрине под ноги стлалась? Ты лучше посмотри, сколько в этой семье стариков-то!
— Шесть человек, а что?
— А то, что все они Макрине в глаза смотрят, чтобы куска хлеба на старости их не лишила. Если я в эту семью попаду, все они мне на шею сядут.
— Нашёл, чего бояться! Не видишь разве, недолго им лямку тянуть.
— Так я об этом-то и беспокоюсь. Как подумаю, что своими руками я их всех должен похоронить, страшно мне становится. Гробовщиком что ли заделаться прикажешь, а то ведь на гробы всего их состояния не хватит, придётся ещё и моим пожертвовать. Довольно я чужих мертвецов оплакивал, эти слёзы и сейчас ещё мне поперёк горла стоят, пусть теперь другие поплачут. Не хочу, Кечули. К чему мне это богатство?! Не хочу я на этой старой уродине жениться. Она и так уж наседкой засиделась. А что дальше-то будет? И лет ей немало, может, годика на два-три моложе бабки моей покойной. Так чего же, скажи бога ради, брать мне в жёны бабушку? Детей ведь она не родит…
— Потише ты, услышат, неудобно.
— А чего, разве я неправду говорю? Ребёнка ведь ни одна старуха ещё не родила. Старая, говорят, курица яиц не несёт.
— Ах, мерзавец, без ножа женщину зарезал. Ты хоть говори-то потише. Прямёхонько тебя из тёплой постели на мороз вышвырнут.
Утром, не дождавшись завтрака и не попрощавшись с хозяевами, пошли мы дальше.
Сросшиеся брови и скользкий путь
И снова…
— Хозяин!
— Батоно!
Наконец смилостивилась надо мной судьба. Понравилась мне Ксения, девушка с губами цвета малины. И я ей тоже, видно, по вкусу пришёлся.
— Согласна я, батоно, пора ей, засиделась девка, — сказала свату мать.
— Слава богу! — перекрестился тот. — Дай тебе бог счастья, хорошую ты дочь родила, и богу спасибо!..
— Кечошка, сват, не то ты говоришь, — громко, чтобы слышала будущая тёща, прервал я его, — бог тут ни при чём!..
— А ты меня не учи! Тёщу я хвалить за столом буду, — повысил он голос, — а богу я за то благодарность приношу, что нашлась наконец тебе невеста под стать. Не зря ведь поговорка такая есть — цвет цвету, а благодать господу. Прямо про вас сказано. Чего плечами-то пожимаешь, опять чем-нибудь недоволен?
— Погоди, погоди, какого это ты Амбролы сын, не того ли, что у мельничного ручья жил? — уставилась на меня будущая тёща.
— Его самого, — кивнул я ей и тоже на неё уставился.
— Нет, нет, нет! — замахала вдруг она руками. — Я его сыну дочери своей не отдам. И не думайте — нет, нет, нет!
Я остолбенел от удивления. Интересно, чем это мой отец перед нею провинился? Что он такого сделал, что из-за него девушку за меня не отдают?
— Отчего, тётушка? — удивлённо спросил Кечо.
— А оттого. У Амбролы этого брови сросшиеся были. Не отдам я его сыну свою дочь, ни за что не отдам!
— Побойся бога, тётушка Бабуца, не время сейчас шутки шутить, у парня тут, можно сказать, сердце в пятки ушло, а ты — брови сросшиеся.
— Ты что, разве я шучу? Нет, нет, нет! Не отдам, сказала я, и слова своего не нарушу.
— А что тебе Амбролины сросшиеся брови сделали?
— Не знаю, не знаю, но дочери своей его сыну я не отдам! — сказала и ушла.
— Чего доброго она ещё могилу отца моего проклянёт, а этого я ей не спущу, выругаю хорошенько. Идём лучше, брат, пока не поздно, — сказал я Кечошке, — дочка у неё хорошая, но не приведи господь такую тёщу иметь!
— Ты что, на девушке жениться собрался или на тёще? — спросил меня Кечо.
— Если тёща злая, она и жену с ума свести может. От обеих мне житья не станет, живьём съедят. Идём-ка лучше отсюда поскорей.
— Подожди, не торопись, поспешишь, людей насмешишь. Неужели правда сросшиеся брови отца твоего всему виной?
Не знаю, так ли это было на самом деле, но Бабуца упёрлась на своём, как ослица упрямая, и всё одно и то же твердила:
— Нет, нет, нет! Не отдам я ему дочери, у отца его брови сросшиеся были. Нет, нет, нет!
Уломать эту чудную бабу было невозможно, и сват, рассердившись вконец, сказал ей:
— Ладно уж, раз так, уйдём мы. Только смотри, чтобы дочка твоя в девках не осталась! Идём, Карамаша, отсюда, ну их, не перевёлся ещё женский род на свете!
— Хозяин!
— Батоно!
Еле взгромоздились мы по узеньким ступенькам ещё не отстроенного дома. Крыши у него не было, меж стен ветер гулял, валялись кругом необструганные доски. По всему было видно, что долго ещё дом стоять будет непокрытым. Я собрался уходить так и не посмотрев девушку. Ежели человек столько времени с домом не управился, чего от него путного ждать? В это время появилась девушка. Посмотрел я на неё и в ужас пришёл. Жалкие лохмотья на ней были вместо одежды. Узнав, зачем мы пришли, она совсем растерялась, от смущения не знала куда руки девать, схватила бумажку какую-то и давай ею колченогий стол протирать.
— Ты что, девочка, бумагой стол чистишь, — напустилась на неё мать, — не знаешь разве, что к бедности это, — а потом продолжала шёпотом… — Вот негодница, чтобы руки у тебя отсохли, понадобилось ей стол чистить. Гости ещё бог весть что подумают, а угощаться-то нечем…
Услышал эти слова сват и улыбнулся кисло. Девушка, смутившись, отошла.
Хорошо, что она не дочиста стол вытерла. Не то, вероятно, семья бы совсем по миру пошла.
— Куда это ты меня привёл, парень? — упрекнул я свата.
— Правда, на ней лохмотья, но сама она на ангела похожа. Приодеть её хорошенько, так под стать царице будет. Погляди, настоящий ангел!
— Да, но слишком красивая жена тоже не годится, — поддел я свата.
— Дочь бедных родителей будет хорошей женой, — возразил тот.
— Э, дорогой, одной любовью сыт не будешь!
Шёл я и думал о том, как несправедливо устроен мир. Одним бог дал только красоту, другим только богатство. Поведал я свои мысли Кечо, а он и говорит мне в ответ:
— Теперь, дружок, я тебя к такой девушке сведу, у которой и то и другое имеется. Только ты уж не плошай, в оба смотри. Тётка её вырастила, бездетная, отцова сестра. Такая девочка! Потинэ зовут, куда она не ступит, всюду розы расцветают.
— И зимой?
Смейся, смейся, посмотрим, как ты глаза вылупишь, когда её увидишь. У неё не щёки, а рай земной, и тётушка-вдова не хуже племянницы.
— Хозяин!
— Батоно?
С балкона свесилась девушка. Она и вправду была прекрасна. Высокая грудь трепетала под лёгкой тканью одежды, а нежную кожу, казалось, утюгом выгладили. Атласные щёчки обрамляли пряди чёрных вьющихся волос…
— Нравится?
Я довольный провёл рукой по усам.
— Это мне подойдёт!
— Ещё бы.
— Хороша, слов нет, эдакое яблочко наливное, так и хочется за щёчку укусить.
— Ты только с умом действуй, а уж остальное не твоя забота, помогу я тебе это яблочко укусить, а не сумеешь, как надо, так придётся издали слюнки глотать.
От ворот до самого дома дорожка была посыпана мелкими камешками и обсажена по краям ирисом. Зимнее солнышко озаряло чисто подметённый двор. На пороге дома нас встретила тётка Потинэ Сусанна. Это была маленькая красивая женщина с тонко выщипанными бровями и высокой, словно башня, причёской.
— Пожалуйте, батоно, пожалуйте! — приветствовала она нас так кокетливо и ласково, словно пеклась не о счастье племянницы, а сама замуж собиралась.
От такого обращения и я осмелел. Поздоровался с женщинами за руку, а Потинэ даже несколько приятных слов сказал.
— Девочка, кто тебя вырастил такой красивой?
— Она! — указала Потинэ пальцем на корову, которая мирно грелась во дворе на солнышке. — Правда, правда, с того времени, когда мама меня от груди отняла, я всё только её молоко и пью, — сказала она и звонко рассмеялась, знала, негодница, что смех её очень красит.
Я понял, что у этого ангела жало во рту острое. «Будь осторожней, Караман», — сказал я себе.
— Как поживаешь? — обратилась Сусанна к Кечо как к старому знакомому.
— Поживаю так, как мне и следует… — двусмысленно ответил сват.
— А всё-таки?
— Живу как все, что долго рассказывать.
— Слышала, близнецы у тебя родились, поздравляю.
— Спасибо.
— Ну давай выкладывай, знаю, без дела ты не пришёл бы.
— Друг мой жениться задумал, так вот и пришли мы твой цветочек посмотреть…
— Этот цветочек, Кечо, много пчёл привлекает, мёду только не даёт.
— Ничего, я такую пчёлку привёл, думаю, она не откажется.
— Посмотрим. Дай-то бог! Должна же она в конце концов замуж выйти.
Заметил я, что Потинэ к разговору прислушивается и обратился к ней:
— И чего ты, девочка, притихла, словно перепёлка, скажи что-нибудь, слово вымолви. Нравлюсь я тебе?
Ответа не последовало.
Повеял в это время ветер и раскачал ветки шиповника, растущего у ограды.
— Что же ты, как шиповник, головой качаешь? Да или нет?
Шиповник опять упрямо раскачивается…
Потинэ как-то странно взглянула на меня, губу оттопырила, повернулась к нам спиной и в дом пошла. Мы за нею.
— Что, недотрога, и он тебе не понравился? Парень как картинка, чего ещё надо? — всплеснула руками Сусанна.
Потинэ головой покачала.
— Ну, дорогая, царевич сюда не пожалует, этого ты не жди. Видно и впрямь суждено тебе в девках оставаться.
— Больше б горя у меня не было!
— Может, в монашки постричься решила?
— Лучше богу служить, чем какому-то мужлану с волосатой грудью!
Я тотчас же стал себя поспешно оглядывать, но никакого непорядка не обнаружил, архалук мой был застёгнут наглухо.
— Горькие слова ты говоришь, роза, — сказал я девушке.
— Забыл, что у розы шипы бывают?
— Если розу никто не сорвёт, увянет она и черви её съедят.
— Не твоя это печаль!
— Солнце тучами не скроешь, оно всё равно видно. Полно тебе меня мучиать, не играй со мной, знаешь ведь, что нравишься ты мне.
— Не к чему мне с тобой играть! Не тешь себя надеждой понапрасну, — сказала она и ушла от меня в комнату. Словно гром с неба ясного был для меня её уход.
— Не беспокойся, это она цену себе набивает, — стал меня сват успокаивать. — Женщины это умеют. Сама потом просить будет, — сказал он и послал за окончательным ответом Сусанну.
А когда мы одни остались, Кечо на меня напустился:
— Ты чего это, парень, раскис, выше нос! Первый отказ женщины — не отказ! У всех баб один обычай. Сначала отказом мужчине ответить, если даже душа к нему лежит. Думают, что этим они больше мужчину распаляют, а это и вправду так. Легко завоёванная женщина быстро перестаёт нравиться. Ей-богу, так это!
— Эх, ничего у нас не получится, насильно куска и собака не съест…
— Ежели голодна, ещё как съест! А ты тоже пошевелись, улыбнись, попроси, подсласти слово. Женщины частенько красивый язык красивым глазам предпочитают и красивому сердцу… А у тебя язык, слава богу… Уж я-то женщин знаю, послушай меня, хоть разок по-моему сделай.
— Не толкай меня туда, не могу я.
— Ну тогда сиди. Ты что же думаешь, жареный Цыплёнок сам собою в рот к тебе залетит?
Вышла Сусанна, плечи у неё опущены.
— Что, не хочет?
Сусанна так затрясла головой, что башня из волос её чуть не развалилась.
— Почему же?
— Не скажет она ни за что, почему.
— Не очень ты, видимо, старалась. Мало жених хвалила.
— Хвалила, и ещё как! За это она мне чуть глаза не выцарапала. Если, говорит, тебе он так нравится, сама за него и выходи, — сказав это, Сусанна на меня так посмотрела, словно и впрямь за меня замуж собралась. — Будь я молодой, не забраковала бы тебя. Проклятая старость! Ну да ты не горюй, малыш. Потинэ из тех, что любить не умеет. А уж если в семье любви нет, какая это семья! Быстро она разобьётся. Какой нынче народ пошёл, не то что мы были. Мы и любовь большую знали и ненависть! А теперь что? Какие люди нынче рождаются? Вот к примеру племянница моя. Такого парня забраковала. Эх, где моя молодость…
Очень я понравился Сусанне, но что с того?
Лучше бы мне совсем не видать этой гордячки Потинэ…
* * *
Когда вернули мы Сеиту его коней, Кечо сказал мне:
— Эх, Караманчик, чувствую я, зиму эту холодную ты перезимуешь, а летом, в зной зачем тебе жена? И так ведь жарко?
— Сходим ещё разочек, может, сейчас кто-нибудь подвернётся, а нет, так бросим всё к чёрту!
— Ну ладно, давай, попытаемся в последний раз. По рукам?
— По рукам!
Кечо протянул мне ладонь.
И я так стукнул по ней, что чуть руку ему не оторвал.
— Веришь, значит, мне?
— Верю, верю! — Кечо спрятал на всякий случай руку за спину.
Утро рассвело холодное. Мороз отполировал дороги как зеркало.
— Хозяин!
— Ав, ав, ав!
Из ворот выскочили две огромные собаки.
— Ав, ав, ав! — напала на Кечо рыжая. — Гав, гав, гав! — на меня чёрная. Я дал ей пинка, но она ещё больше рассвирепела и ощерилась, чуть не прокусила мне лодыжку.
Кечо схватился было за камень, но никак не мог оторвать его от земли. Не знаю, чем бы кончилась война с собаками, если бы не подоспел хозяин.
— Кто там?
Собаки, завидя его, напустились на нас с ещё большей яростью.
— Вон, проклятые, друга от врага не отличают. Убирайтесь! — закричал хозяин. Они тотчас же послушно поджали хвосты. Чёрная ушла под лестницу, а рыжая калачиком под крылечком свернулась.
— Доброе утро, Алмасхан!
— И вам, батоно!
— Уж очень у тебя собаки злые.
— Испугались? Это они так, не кусают, лают только. Входите, входите, — пригласил нас Алмасхан.
— Тётка Аграфена дома?
— Что ты, пока существует этот бренный мир, разве иссякнут у неё дела? Ты ведь знаешь, какая она у меня. Ещё утро не занялось, а уже в соседнюю деревню умчалась Сехнику оплакивать.
— А дочка что, тоже с матерью ушла?
— С нею. Разве отстанет хвост материнский?
— Как живёте?
— Спасибо. Живём. Солнце и над нами как-никак светит. А что это за человек с тобою? Не узнаю — я что-то.
— Амбролы это сын, помнишь небось такого?
— Амбролу? Как же, как же, помню. Плотничать к нам приходил. Значит, это Амбролы сынок. Хороший парень! А чего вы на пороге стоите? — спохватился он. — Проходите в дом. Без дела, уж я знаю, не стал бы ты, Кечо, беспокоиться. Женщин вы повидать хотите, или ко мне что-нибудь имеете?
— Да, дельце у нас небольшое… Ну ничего, мы потом наведаемся, спешить некуда.
— Раз уж пришли, не откладывайте. Отложенное дело — для чертей, говорят. А я вас водочкой угощу, хорошая она у меня. Пропустим по стаканчику, а тут, глядишь, и бабы вернутся.
— Спасибо, в другой раз. Торопимся мы очень.
— Ну, как знаете. Хороший был мужик Амброла, сына его я с удовольствием приму.
Дай вам бог удачи, батоно!
Отошли мы от двора Алмасхана и стали спускаться по обледенелой скользкой тропинке. Утро было холодное, мороз, как колючками, жалил.
— Кечошка, — спрашиваю я свата, — о чём вы с Алмасханом разговаривали? Куда это жена его с дочерью в такую рань ушли? Не понял я что-то.
— Не знаешь ты, Караман, какое тебе счастье привалило, тёща твоя будущая на весь мир известная.
— Чем, кацо? — недоумеваю я.
— Плакальщица она знаменитая, другой такой во всей Грузии не сыщешь. В этой деревне ещё ни один человек не отправился в мир иной неоплаканным ею. Уж такая она своего дела мастерица, так покойника оплачет, такое о нём порасскажет, что завидовать ему начнёшь. Отчего это, думаешь, не я умер, а он?
— Конечно, что может быть лучше такой тёщи! Если к тому же она вместо меня иногда плакать будет? Это чудо, так чудо! Хорошо! А теперь куда мы идём?
— Увидишь!
Спустились мы в низину, и Кечо снова на тропинку свернул. Тропинка привела нас к оде, что от всех других особняком стояла. Когда приблизились мы к ней, послышались оттуда причитания. Ну, думаю, показалось мне. Но нет, слышим, и вправду кто-то плачет, убивается.
— Батоно сват, — говорю ему. — Куда это ты меня ведёшь? На невесту смотреть или на покойницу?..
— Конечно, на невесту, дурбалай! Красивая она, сильная, ловкая, ничем бог не обидел.
— Да из оды той плач слышится, причитания. Людей во дворе полно. Какие уж там смотрины?!
— Чему ты удивляешься? Женщину нужно в горе увидеть, а на пиру — все красны. Смех да красивое платье всем к лицу. Идём, идём, посмотрим на твою будущую невесту. Иных даже смех не красит, а ей всё к лицу — и плач, и причитания.
— Тьфу! Пропади она пропадом, пусть у неё в семье вечно плач будет, а мне ни к чему! А ты тоже хорош! Разрази тебя бог. Тебя и посредничество твоё! Ведь знал я, что сват, вознаграждения не ждущий, дела по совести не сделает, а всё-таки надеялся. Думал, заговорит в тебе совесть. Ошибся видно. Что легковерный ты и без царя в голове — это я знал. Свату Соломоном Мудрым быть не надо. А вот, чтобы ты так ополоумел, этого уж я никак представить не мог. Мозги что ли себе отморозил? Побойся бога, что ж это ты панихиду смотрины превратил? Богоотступник проклятый.
Кечо словно кусок льда проглотил. Молчит, звука не издаёт, а я из себя выхожу.
— Морда, — говорю, — ты собачья, и отчего это тебя собаки утром не задрали? Все мои несчастья от тебя негодного! Убить меня мало, за то, что я до сих пор уму-разуму не научился! Хватит! Кончена наша дружба, разбойник! С этого дня ты сам по себе, и я сам по себе. Шабаш!
Повернулся я и пошёл домой. Ни разу не оглянулся. Не знаю, последовал ли за мною сват.
Пришёл я домой один и целую неделю во двор Лукии носа не казал. Сторонился я всего семейства. А на свата своего бывшего мне даже глядеть не хотелось. Шабаш! Кончилась наша старая дружба!
Полёт жареного цыплёнка и счастье человека с двумя макушками
Зима в тот год долгая выдалась, морозная. Снег стаял лишь в марте. Растеклись льдины лужами, сосульки водопадами. Только в душе у меня по-прежнему лёд никак не оттаивал, — почти целую зиму я с Кечо не разговаривал. А без него, знаете ведь, белый свет мне не мил. Соскучился я по болтовне этого негодника, как земля по солнышку весеннему. Но первым мириться не хотел.
А между тем земля разбухала, почки полопались и пригрело солнышко.
Раз как-то, гляжу, в соседском дворе Лукия бродит — бледный такой, расстроенный, руки от отчаяния ломает. Догадался я, что приключилось у них что-то в доме.
Подошёл к забору:
— Дядя Лукия, что у вас стряслось?
— Бондо наш заболел, крутит его всего, наизнанку выворачивает, совсем извёлся малец, конец ему видно, — не сдержал слёз Лукия.
— Может, родимчик хватил?
— Похоже на то.
Тут вспомнилось мне, что в народе говорят, будто один из близнецов не жилец на свете. Шипом эта мысль меня уколола прямо в сердце, понял я, что и Лукия этого боится. Что уж тут было долго думать? Забыл я все обиды и через плетень перемахнул.
Бедная Теона ходила как помешанная, а Кечо молча валялся на голой тахте.
Трижды перечёл я тогда «Карабадини», и получилось, что у малыша действительно родимчик. Кто-то из соседей присоветовал: «У Хванчкары, в низовьях Риони, деревня есть Бугеули, женщина там одна живёт, готовит она снадобье чёрное от младенческой». Одолжил я у духанщика коней, за деньги, разумеется, да прямо в Бугеули и поскакал. Мигом лекарство привёз. Ребёнок тем временем при последнем издыхании был. Однако ничего, помогло, выжил, слава богу.
Теона в те дни только на меня и молилась, а Кечо обнял меня молча, я тоже к нему прижался. Потёрлись мы друг о дружку ласково, как телята. Помирились совсем.
— Жалко мне тебя, парень, золотое у тебя сердце. Грешно такому человеку без жены и детей оставаться, — сказал он мне на второй день. — Не верю я, что на всей земле невесты для тебя не сыщется. Давай походим ещё, поищем.
И мы пошли.
— А вот эта тебе не подойдёт?
— Одноглазая?
— Что с того, что один у неё глаз, зато ничего от неё не скроется.
— Ты что, Кечули, опять за своё принялся? Вздор мелешь…
— Поверь мне, брат, Караману Кантеладзе одноглазая жена очень даже кстати. По крайней мере, дурья твоя голова, непутёвость твою не заметит, да и на другого этот единственный глаз не обратит.
— Ты меня с собой, парень, не путай. Если на то пошло, так найди мне слепую, глухую и немую. Куда уж лучше! Никчёмность она мою не узнает, на другого меня не променяет, проклятиями не осыпет и сплетен домой не принесёт. Дурак ты эдакий! Разве не видишь, что и здоровый глаз у неё портится? Что я с нею тогда делать стану, на поводу что ли её водить. Идём, батоно, и перестань, пожалуйста, так шутить. Услышит ещё, бедняжка, обидится. Жалко ведь человека.
— Видит бог, я тебе, Караманчик, добра хочу. Но что-то долго ты выбираешь. Смотри, чтоб отбросы тебе не достались! Ещё разочек послужу я тебе, а потом шабаш. Пусть у меня ноги отвалятся, если хоть раз пойду.
Но пошёл он со мной и второй раз, и третий, и ноги у него не отвалились, и нигде он не споткнулся.
……………………………………………………
— Хозяин!
— Батоно?
Вошли мы в маленький дворик и сразу же в тени ореха встали. Навстречу нам мальчонка выскочил, весь в слезах. В одной руке у него мчади кусочек, в другой — сыра ломоть.
— Здравствуй, парень, — протянул ему руку Кечо.
Ребёнок со всех ног прочь бросился.
— Мама, мамочка, дядя у меня сыр отнять хотел, — стал он жаловаться матери.
Мать стукнула его по голове: «Замолчи, дурашка, придумаешь тоже!» — Потом стала звать взобравшихся на ткемали трёх голопузых мальчишек.
— Куда вы, негодники, дайте ему поспеть! В почках ободрали, паршивцы эдакие!..
Двое из них послушно спустились, а третий вскарабкался ещё выше и показал ей язык.
— Детей у неё с три воза! — заметил я.
— Да, видать, не обидел бог, — согласился сват.
Тут же под навесом мальчик с девочкой подрались.
— Мамочка, — закричала девочка. — Евтихия мне все волосы выдрал!
— Ты что делаешь, дурень, не соображаешь разве, что девочка она, — набросилась на него мать. — А ты тоже в долгу не оставайся, поддай ему, как следует, — посоветовала она дочке.
Девушки, на которую мы пришли посмотреть, видимо, дома не было, но спрашивать, где она, мы постеснялись. Оставалось ждать.
На террасе стояла колыбель. Подошёл я к лежащему в ней младенцу и палец ему протянул.
— Агу, агу!
Он тотчас же принялся этот палец сосать, да так, что чуть руку мне не откусил. Испугался я, отдёрнул её.
Ребёнок во всё горло заревел.
— Что ты сделал, Каро? В глаз бедняге попал, — упрекнул меня сват.
— Ослеп я, по-твоему, что ли, — отмахнулся я.
Дитя между тем успокоилось, улыбнулось мне дружелюбно. Но, увидев нахмуренного Кечошку, тотчас же снова сморщило носик. Вот и пойми этих младенцев! Разве можно от крошки ума требовать? Кто знает, отчего они плачут. Причину найти трудно: тысячи их. И почему смеются — радуются, тоже понять трудно. Может быть, предчувствуют превратности судьбы? Приласкал я снова ребёнка, но пальца ему не стал протягивать.
— Смейся, радуйся, генацвале, — весь мир тебе принадлежит, — сказал я ему ласково. — Кому как не тебе смеяться, будущему его покорителю.
Думал я, что обрадовал младенца, а он снова накуксился. Смешно даже: все великие мира сего только и мечтают завладеть им, потому и убиваются, а этому несмышлёнышу я мир без борьбы и труда подарил. Он же вместо того, чтобы радоваться, в три ручья ревёт. Не хочу, мол, не надо мне. Видали вы подобную неблагодарность?!
— Ладно, уж, ладно, кацо, замолчи, не хочешь, я насильно не заставляю. Дай бог тебе вырасти, а потом видно будет. Посмотрим, ответишь ли ты снова на такой подарок отказом? Довольно, хватит плакать, не хочешь, я другому подарю! Тысячи ведь желающих…
— Марта! — послышался из кухни мужской голос. — Скорее, убился он.
— Вай ме! Что ты говоришь, кто убился? — побледнела хозяйка.
— Горшок, женщина, горшок, говорю, кипит, убивается!
— Будь ты неладен, напугал до смерти! — помчалась со всех ног на кухню Марта.
— Кажется, на обед здесь лобио? — посмотрел я на свата.
— Может быть, ведь для такой оравы и коровы на шашлык не хватит…
— Давай, Кечо, лучше в другое место пойдём.
— Не торопись, дай срок, осмотримся.
Кечо, наконец, расспросил, куда запропастилась девушка, узнал, что повезла она вчера двух меньших братьев к родителям матери и вернётся в полдень.
Так как час обеда уже наступил, решили мы дождаться девушку да и обеда заодно.
— Не скучайте, дорогие, — сказал нам будущий тесть. Сам он кувшин из-под вина мыл. — Скоро обедать будем. Знаете, — обратился он к нам снова, — стол без вина не стол. В прошлом году виноград у меня плохо уродился, так что вина получилось мало, осенью уже всё поистратилось. Придётся мне к соседу пойти, у него одолжить немного. Да вы не беспокойтесь, я мигом!
— Тухуния, парень, где ты? — позвал он кого-то.
— Здесь я, папа, — выскочил из давильни чернявый мальчуган в ситцевой пёстрой рубашонке и стал, обиженно оттопырив губы.
— Ты кто, Тухуния или Шаликуна? Смотри, если обманешь, как вчера, шкуру с тебя спущу! — погрозил пальцем отец.
— Честное слово, Тухуния я, всегда ты, папа, меня путаешь! — обиделся мальчик.
— А чёрт вас разберёт, штанов ведь ни на одном из вас не надето, — махнул рукой отец, — ну, если ты Тухуния, тогда спой что-нибудь, чтоб гости не заскучали.
— Неужто ты петь умеешь! Что ж до сих пор молчал? — пошутил с ребёнком Кечо.
— Умею. Папаня меня обучил. Голос, говорит, у тебя подходящий.
— Ну давай, пой, да не стесняйся. Забыл, что ли? Начни, а я тебе подпевать стану.
Ребёнок крепко прижал руку к голому бёдрышку и, вытянув шею, запищал тоненьким звонким голосом:
Тёплый дождичек полил Поле чистое смочил!..— Молодец, хорошо поёшь! Тебе в церковном хоре место. Большое ты нам удовольствие доставил, спасибо! — сказал ему Кечо.
Я пошарил у себя в кармане и извлёк оттуда пятак.
— На, купишь себе завтра леденцов, голос у тебя слаще станет.
Ребёнок словно на крыльях улетел. Тут же вмиг набежала орда таких же голопузых, похожих на него, мальчишек.
— Дяденька, дяденька, — наперебой закричали они, — мы тоже петь умеем! Спеть?
— Валяйте!
Начали они кто в лес, а кто по дрова, и такой шум поднялся, что уши у меня заложило.
— Хорошо, конечно! Но если замолчите, лучше будет.
Разделил я между ними всю мелочь, какая у меня была, и они так же мгновенно исчезли, как и появились.
В полдень вынес хозяин на террасу большой стол, поставил на него принесённый от соседа кувшин вина, а хозяйка — дымящийся горшок с лобио. Как приоткрыли крышку, ударил мне в нос запах чеснока и, сказать по правде, на душе стало хорошо и покойно. Разлила хозяйка лобио в небольшие деревянные мисочки, поставила их перед рассевшимися вокруг стола ребятишками, а гостям не предложила. Зато появились перед нами два зажаренных цыплёнка.
Взял я стакан вина, поднёс его ко рту, благословил очаг по всем правилам и только собрался цыплёнком закусить, а цыплят как не бывало. Поразительно!
«Ожили они, что ли, думаю, или улетели, или запропастились куда?» Вот чудо! Посмотрел я на дверь и увидел, что один из мальчишек надул шар из куриного зоба, а щёки у него, как у зурнача: вот-вот лопнут. И у другого такой же шар в руках — он с ним как с мячиком играл. Понял я тогда, что не улетели цыплята. Куда они, скажите на милость, без зобов своих могли деться? Ясное дело, слопали их ребятишки в один присест.
У одного мальчишки заметил я в руках цыплячье крылышко. Это меня окончательно убедило в том, что жареные цыплята не оживали и никуда не улетали.
На столе, кроме вина и кусочка мчади, ничего не осталось, да и тот вскоре исчез. Выпили мы вина на пустой желудок и из-за стола поднялись. Хозяин, конечно, извинился. Но какой прок в его извинениях для пустого желудка? Особенно для Кечошкиного…
— Сколько всего у вас детей? — спросил я у женщины.
— Немного их у меня осталось, двенадцать всего, — печально ответила она.
— А что, разве было больше?
— Как замуж вышла, грудь у меня ещё не отдыхала. Однако смерть проклятая и нашего дома не обошла. Напала на деревню какая-то чужеземная болезнь, троих мальчишек у меня отняла. По сей день сердце кровью обливается. Дети, ведь, что пальцы на руке, какой ни отрежь, одинаково больно, — утёрла она глаза концом косынки.
— Эк плодовитая, детей, что икру мечет, — проворчал сват.
— Знаете вы Петруа Кивиладзе? — спросил я у неё.
— Как же, мужем он сестре моей приходится. Что-нибудь плохое с ним приключилось? — забеспокоилась она.
— Да нет, что ему сделается. Это я просто так… Видать, у вас порода такая…
— Не знаю, дорогой… Третья наша сестра уже девять лет как замужем, а вот до сих пор не дал бог ей ребёночка. У одной-то матери дети разные бывают. Просит она у меня подарить ему какого-нибудь мальчишку, а я не могу. Вот двоих к бабушке в гости отослала, так места себе не нахожу. Неспокойно у меня на душе. Уж очень они шкодливые, не натворили бы чего.
— Мама, — подошла к ней девочка с крынкой. — Корову я привела, если некогда тебе, я подою.
— Как это некогда, доченька, оставь, сама я всё сделаю. Устала ты, небось, отдохни маленько.
— У вас что же и в полдень коров доят? — полюбопытствовал я.
— Нужно нам. Так что поделаешь?
— Ой! — услышали мы через несколько минут.
— Что случилось?
— Корова проклятая лягнула да пролила всё, что надоить удалось, — чуть не плача, говорила женщина.
— Что теперь делать-то! Ребёнок придёт, а есть нечего.
— Ладно тебе плакать, не отпустит её твоя мать голодной. Чем-нибудь обязательно накормит да с собой в дорогу даст ещё.
— Ну что надумал? — спросил меня сват.
— Не семья, а голь перекатная. Одними детьми только и богата. А разве этого достаточно? Ты зятем Кивиладзе быть отказался, а эти чем лучше? Помнишь, как тогда говорил: не приведи меня бог без детей остаться, но и столько…
— Прав ты, Карамаша, — Кечо затянул потуже ремень. — Посмотрим кого-нибудь другого. В Бостана вдова вот Датусани живёт, дочка у неё, как солнышко.
— А она богата? Тоже, наверное, оборванка какая-нибудь…
— Ты о дочери?
— А о ком же, не о вдове, конечно.
— Зря так говоришь. У них дом — полная чаша. Всё есть. Зятя вот только хорошего недостаёт.
Подошли мы к красным воротам, над ними амбар забитый доверху кукурузными початками с небольшим крылечком.
— Отчего это, спрашиваю, амбар она над воротами выстроила? Неужели другого места не нашла, людей, что ли, дразнит, вот, мол, какие богатые, и дочь у меня красавица, и кукурузы полно.
— Да не цепляйся ты ко всему, во всём перво-наперво подвох какой-нибудь ищешь! Во-первых, ничего плохого нет, если путник от дождя под этим навесом укроется. Во-вторых, амбар и ворота одним тестом пригнаны, а в третьих — место, для амбара предназначенное, она по-другому использует, огород разобьёт или виноградник, придумает что-нибудь. У здешних крестьян землицы-то маловато, вот так-то, дружок!
— Умница — женщина, если ею это придумано. Одна она, никто ей не помогает?
— К чему ей чужая помощь! Всё она сама. Я ведь недаром тебе её хвалил, теперь сам убедишься.
В середине ворот заметили мы небольшую калитку, приоткрыли её тихонько.
— Хозяин!
— Батоно?
На террасу трёхкомнатной оды вышла девушка — тоненькая, губы вишенкой, платье в горошек, коса на грудь переброшена.
— Здравствуй, Этери, что матери твоей дома нет?
— Здравствуй, Кечо. Нет её, в винограднике она, ушла лозу окучивать, пожалуйте, сейчас я позову, заходите.
На зов девушки появилась женщина средних лет. Под густыми сросшимися бровями чёрные глаза ласково поблёскивают, сама улыбается. Платье на ней тёмно-синее, на голове ситцевый платок. Скинула она на ходу серый передник и за руку с нами обоими поздоровалась, а Кечошку даже за ус потянула.
— Здравствуй, — говорит, — проказник, как твои близнецы поживают?
— Живут себе, молоко сосут да спят, что им ещё делать?
— Ну, коли сосут, значит, всё в порядке, ничто их не одолеет, потому что лучше материнского молока ничего в мире нет. Первейшее оно лекарство от всех болезней. А это что за парень такой, не узнаю я что-то.
— Сын Амбролы Кантеладзе, сосед мой, двор в двор живём.
— У него, что, тоже близнецы?
— Да нет, не женат он ещё, тётушка Фосинэ, теперь вот приглядывается.
— Молодец! Мужчина всё должен делать вовремя. Твоих я знала. Хорошие у тебя были родители, жаль рано ушли. Ты, детка, что, один теперь живёшь?
— Да, батоно.
— А что у тебя за хозяйство? Поле, небось, виноградник.
— Как же.
— Один управляешься?
— Кое в чём соседи помогают.
— Да-а, не мешало бы тебе хозяйку завести. Где отдыхать будете, на террасе, или под орехом?
— Всё равно, — ответили мы одновременно.
— Этери! — позвала она, — ты чего прячешься? Никто тебя похищать не собирается, вынеси-ка на террасу скамейки.
Сели мы.
— Не люблю я всяких туманных разговоров, вокруг да около, — начала вдова. — Когда в дом, где девушка на выданье, мужчины молодые приходят, понятно ведь сразу, зачем они пожаловали. И вы небось… Так вот я вам что скажу, дорогие. Тут моя дочь, и вы тут же. Оглянитесь друг на дружку, потолкуйте о том о сём, а там видно будет, что да как. Не люблю я спешки, но и волынить тоже ни к чему. Пожаловал раз как-то к соседке моей сват, отказали они, сначала, думали, вернётся, просить станет, — нет, не вышло дело, потом других тоже не оказалось, так и сидит, бедная, в девках по сию пору. Жалеет, конечно, теперь, да поздно уж. Девушка всегда бояться должна, как бы ей, храни бог, дома остаться не пришлось. Уж я-то не боюсь, что дочь моя дома постареет, но всё-таки всему своё время есть. А бывает, что у девушки, которой счастье раз изменило, замуж выходить охота пропадает. Поэтому-то и говорят — всякому овощу своё время.
Этери тут же стоит, за спинку материнского стула от смущения прячется.
— А теперь, — говорит Фосинэ, — погуляйте немножечко, двор осмотрите, в огород, в виноградник пройдитесь. Поглядите друг на дружку хорошенечко, познакомьтесь. Да вы не стесняйтесь, ничего в этом нет стыдного да плохого. Плохи только лень и распущенность. Ну, идите!
Двор, словно ладонь блестит, как зеркало, нигде не пылиночки, прямо хоть языком лижи.
В курятнике петух курицу под себя подмял, испугалась курица, заквохтала. А мы с Этери от смущения до корней волос краской залились и друг на дружку глядеть не смеем. Небо над нами синее-синее, и солнышко на середине его появилось, постояло немножечко, потом жарко ему стало, и в тучки оно белые окунулось. Ветки большого ореха навевали прохладу.
— Очень я орех люблю, — выдавил я из себя кое-как, — хорошую он тень даёт и плоды вкусные.
— Этот орех ещё отец моего деда посадил, — не глядя на меня, проговорила Этери.
Мир праху его, прадеду Этериному, благодаря ему замок у нас с губ у обоих сорвался. Осмелели мы и принялись облака хвалить и виноградник без внимания не оставили, а заодно и ветерок, что с Риони тихонько веял.
Как вернулись во двор, вынесла нам Этери две стопки карточек:
— Посмотрите-ка, пока мы на стол накроем.
Представительный мужчина был отец у неё, высокий, широкоплечий, усы густые.
— А это кто такие? — спросил я, увидев на портрете двух юношей.
— Братья мои, в Кутаиси учатся.
— Ничего на свете лучше учения нет, — вставил слово сват, — хотя немного оно даёт, если сам человек ничего из себя не представляет.
Потом мне попалась карточка девочки, очень похожей на Этери, красивая она была, а главное, на щеке у неё родинка большая, ещё больше её красившая. Я поглядел — Этери, настоящая Этери, только у Этери…
— Ты это?
— А что, разве не похожа?
— На карточке у тебя родинка была, а теперь где, кошка её что ли, пока ты спала, съела?
— И не спрашивай! — махнула рукой девушка. — Как села я сниматься, прилетела на мою беду муха, уселась мне на щёку и ни в какую. Так вот и получилась у меня родинка.
— Очень она тебя красит, родинка эта. Хотя и без неё ты ангела краше, — сказал я ей.
Поняли мы с Этери друг друга без лишних слов. Больше меня Кечо этому обрадовался. Заиграй кто на дайре, он от счастья плясать бы пошёл.
— Пожалуйте к столу, дорогие, — пригласила нас хозяйка.
Увидели мы стол, полный яств, и ноги сами нас к нему понесли.
— Вы уж простите, дорогие, что никого другого я не пригласила. Сегодня мне только с вами повеселиться хочется, — начала Фосинэ. — Садитесь, — пригласила она нас. — Кто, говорят, как мужчина пить да веселиться не умеет, тот и работать по-мужски не сможет. А вы пить умеете?
— Меня-то дед в вине крестил. А вот сват мой не очень это дело уважает, если его рогом из петушиной шпоры напоить, и то опьянеет, — расхрабрился я.
— Скажи уж и о том, что стоит к носу мне вино поднести, как сразу мравалжамиер начинаю. Посмотрим!.. — разозлился сват.
Фосинэ наполнила стаканы.
— Так как сыновей моих нынче дома нет, буду я вместо них и тамадой, и виночерпием. Благословен будь очаг дома этого, чтобы никогда огонь в нём не потух, ибо огонь хорошего очага душу греет. Добро огонь творит. Пожелаем же, чтобы огонь этот согревал сердца многих людей. Да здравствует добрый огонь семьи! — говорила она и сама на огонь ярко пышущий похожа стала.
— Ух ты, какое вино! Покойника к жизни вернёт, — поднял свой стакан Кечо, — от цвета одного опьянеть можно.
Вино и впрямь было отличное. Выпил и я за здравие семьи, и за процветание очага. Мертвецом нужно было быть, чтобы такое вино не выпить. Фосинэ, как мужчина пила, я с нею наравне. С Кечо, не знаю что стряслось, какой на него бог разгневался, разобрало его тотчас же, и стал у него язык заплетаться.
— Что с тобой, проклятый, что это на тебя нашло? — спрашивал я его, увидев, что он пролил вино себе на грудь.
— Ты что думаешь, я и вправду пьян? Нет, дорогой, меня благодать этого дома опьянила. Вижу я, дело слажено, и радость меня разобрала. Ты-то ведь меня знаешь, не раз вместе бражничали! — оправдывался он.
— Коли не может пить, я не неволю, пусть из-за стола встанет, — сказала тамада.
— Могу, ещё как могу! Налей-ка мне ещё! — стал упрямиться сват.
— Ладно, Кечули, хватит! — пытался успокоить я его.
— Налей, тебе говорю! Неужто я стакан вина выпить не в силах, позор тогда моим усам! Не мужчина я, что ли? И не проси, и не уговаривай, — зажмурив глаза, он подносит стакан ко рту: — Да что стакан, рог тащи! Что я баба, по-вашему, что ли?
— Полно, Кечули, что на тебя нашло? Бедняга, тебе следовало из петушиного рога сегодня пить, — сокрушался я.
— Это ты мне хорошо напомнил, мой Караман, — сказала Фосинэ. — Ну-ка, дочка, принеси сюда Алфезов рог да напёрсток не забудь.
Девушка тотчас же принесла малюсенький, величиной с мизинец рог, вырезанный из петушиной шпоры, и маленький напёрсток.
Фосинэ осторожно наполнила и высоко подняла оба сосуда.
— Был у меня дядька, Алфезом звали. Более злого и жадного человека на всей земле не сыщешь. В жизни никому ничего не одолжил, а уж о том, чтобы подарить, и вовсе говорить нечего. Как-то раз, помню, после раздела, поглядел он рано утром на наш двор и ну жене своей жаловаться: смотри, мол, какой у брата моего снег хороший лежит. «Пусть ослепнут у тебя глаза, — напала на него жена, — чего это ты всем завидуешь? Потому-то тебе бог ничего и не даёт! Неужели с неба для тебя один снег падает, а для него другой?» Всякий человек, плохой он или хороший, говорят, для другого зеркало. Поэтому-то и пью я из этого рога за здоровье Алфеза, большего он недостоин. А напёрстком — за здравие супруги его. Тётка моя — женщина неплохая, но раз мужа своего до сих пор человеком сделать не сумела, большего недостойна.
— И всё это мне следует опорожнить? — засмеялся я, когда будущая тёща передала мне сосуды.
Кечо между тем в себя приходить стал, поднял он голову и говорит:
— Тётушка Фосинэ, — можно я тебя кое о чём спрошу, не обидишься?
— Пожалуйста, сынок, за столом всё можно.
— Вдовеешь ты, я знаю, уже много лет, а почему бы тебе не жениться?
— Кечули! — закрываю я ему рот рукой.
— Подожди, Караманчик, — вырывается он, — жандарм ты, что ли, чтобы рот мне затыкать. Этого только не хватает! Не бойся, лишнего не скажу, не так уж я пьян. Так вот я тебя, тётушка, спрашиваю, отчего ты не женишься? Не надоело тебе без жены ходить?
— Какой-такой жены, не пойму я тебя что-то, сват?!
— Какой, да самой обыкновенной. Женщины обыкновенной. Чего удивляться-то? Лучшего мужчины, чем ты, я в жизни не видывал. А что, нет разве? За виноградником ты ухаживаешь лучше мужчины, за семьёй тоже, вино пьёшь почище мужчины, да и тамада из тебя знатный. Ну чем, скажи, не мужчина ты?!
— На это я тебе, дружок, одну притчу расскажу.
— Давай, не всё же нам вино пить!
— Жила-была на свете девушка. Лентяйка она была такая, что пошевельнуться боялась. Даже когда под стулом у неё подметали, и то не вставала. Приехал к ней жених как-то в оленьей упряжке. Братья девушки подумали и решили, что если уж он с оленями сладил, то и лентяйку палкой выучит. Отдали её замуж. Привёз муж жену домой, сам в поле работать ушёл. Села молодайка, сидит не двигается. Свекровь вокруг её стула метёт, а та ни с места. Пришёл муж, спрашивает мать свою: «Что жена моя делала?» — А мать отвечает: «Ничего, мол, не делала». «Тогда не корми её, пусть голодная сидит». На второй день подмела лентяйка только около того места, где сидела. Муж дал ей за это кусочек хлеба. На следующий день поработала она больше, муж ей тоже больше еды дал. Так и пошло — приучил-таки он лентяйку к работе. Приехали братья, сестру проведать. Встречает она их дома одна, а в доме всё прибрано, подметено, блестит. Увидела братьев и усадила их лобио перебирать. Дивятся те, а сестра им и говорит: «Такой уж у меня муж, если не поработаешь, куском не удостоит». Обрадовались тут братья: образумилась-таки наша лентяйка! Женщину слабость и неумение всю жизнь преследует, а вот ежели встретится ей спутник жизни находчивый, он её природу и перестроит.
— Не поверю я, тётушка, чтобы ты когда-нибудь лентяйкой была.
— Постой, не перебивай! Когда меня сюда привезли, не была я, конечно, такой бездельницей, как та молодайка, но и не такой была, какой ты меня описал. Жизнь всему научила. Постепенно я в мужчину и превратилась. И мне теперь жена полагается, да где для меня женщина найдётся? Вот ты начал теперь сватовством заниматься, может, присмотришь и мне кого-нибудь! — рассмеялась она. — Муж-покойник оставил мне троих детей, несколько грошей, да немного надежды. Ну что, скажите на милость, делать с таким богатством? Некоторые мои свойственницы по сей день мне этого превращения простить не могут и враждовать со мною стали. Да это меня, по правде сказать, не тревожит. Врагов и завистников у каждого человека хватает. А знаете почему они на меня злятся? Мужья им меня в пример ставят, не ленитесь, мол, поглядите на Фосинэ, разве вы не женщины? Это-то их и убивает. Одни меня быком называют, другие буйволом, а ты вот теперь мужчиной назвал. А я и не обижаюсь. Разве стыдно быть мужчиной? Противно, когда мужчина обабится, а вот когда женщина мужественной делается, это, по-моему, прекрасно даже. Разве я неправду говорю?
— Твоя правда, тётушка!
Если в квеври есть вино, реро, Венацвале душе твоей, реро. Аба рери, о рерия, реро! —запел в ответ Кечошка. — А ты, Караманчик, почему не поёшь? — спросил он меня и вдруг начал медленно клониться на бок, сон его одолел.
Этери постелила ему, он, не разуваясь, улёгся, пробормотав что-то невнятное, и тут же захрапел.
Думал я, что пиршество на этом прекратится, но тамада снова пригласила меня к столу и наполнила мой стакан вином. Выпили мы ещё тостов около семи и, скажу вам честно, выдержал я испытание, не опьянел, и язык у меня заплетаться не начал.
Вскоре вымыла мне Этери ноги тёплой водой, у нас это дело обычное. Знаете ведь, ежели девушка хоть немного парня уважает, перед сном непременно ему ноги помоет. Помните, и в тот раз Макринэ то же самое сделала. Но тогда я ничего не почувствовал, а руки Этери были так ласковы и нежны, что тепло их я и по сей день забыть не в силах. Погрузился я в сладостные мечты о девушке, представилось мне свадебное шествие, дружки, кони, на конях я и Этери, вокруг всё сияет, братом посаженное, конечно, Кечули, бедняга.
От невесты своей, разумеется, я без ума был, но и тёща меня обворожила. Не было лучше Фосинэ для меня женщины на свете. «Заменит она мне отца с матерью и образумит, человеком сделает», — думалось мне.
Свалился в пуховую постель, и мечты на меня с новой силой нахлынули. Слышится мне шум, револьверная пальба — это дружки стреляют. Вся Сакивара на ногах стоит, Караман, мол, женится, солнцеликую везёт, и свадебные факелы нас с Этери озаряют… Но вдруг, мечты мои прервал какой-то свет, прямо ударивший в глаза, я даже привскочил, выглянул в окно и увидел луну-обманщицу, жёлтым светом в небе мерцающую. Ругань на языке у меня повисла. Повернулся я к этой выскочке спиною и мирно захрапел.
Утром, когда я проснулся, мать с дочерью уже на ногах были. Кечо спал ещё. Я тут же поднялся, а Этери мне умываться помогла.
— Не обижайся на меня, сынок, за вчерашнее, — сказала мне Фосинэ, — пить тебя много заставила, но зарок я дала — не отдам дочку свою, пока не напою будущего зятя. Разные ведь люди бывают, смотришь, умный человек, обходительный, а выпьет, как подменили, и злым становится, и задиристым, некоторые спьяна стаканы грызут, другие незнакомых людей убивают, разное случается. Тот, кого вино с ума сводит, в Жизни путного ничего не сделает, сам замучается и жену и детей измучает, света божьего они от него не взвидят. Так-то умные люди говорят. Так что, мой Караман, вчера ты испытание выдержал. Умеешь ты вино пить и при этом держаться как полагается. И ночь ты хорошо провёл. Да и на ногах у тебя пальцев столько, сколько положено. Не шестипалый, слава богу! Осталось тебе одно испытание, если и это пройдёшь, значит, для тебя я голубицу эту вырастила.
За завтраком кусок мне в горло не шёл. Всё думал я, что мне ещё за испытание предстоит, всё боялся, чтобы не попросила меня Фосинэ ничего такого, чего я выполнить не смогу.
После завтрака поставила она на скамью медный таз, полный воды, и говорит мне:
— Раздевайся, сынок, голову я тебе должна помыть.
— Простите, — говорю, — голову я перед приходом сюда мыл.
А она в ответ:
— Ничего, ещё разок помоешь, я тебе полью. Скидывай-ка чоху-архалук, рубашка, если хочешь, на тебе оставаться может.
Фосинэ принялась голову мне мыть, а Кечо сидел в углу и морщился, словно кто-то ему кислый огурец в рот положил.
Как только вытер я голову да чоху надел, накрыла снова Фосинэ на стол, сели мы, выпили по три стакана, тут она и говорит:
— Теперь, мой Караман, надевай свою папаху, и пусть тебе бог удачи пошлёт. Почтенных ты родителей сын да и сам парень хороший, желаю, чтобы хорошая тебе девушка встретилась.
— Цвет, говорят, цвету, а благодать богу, — вставил своё слово сват.
— Эх, и я так хотела, да видно суждено иначе…
— Что, что случилось? Никак ты меня с пустыми руками отпускать собираешься? — открыл я рот от удивления. Этери тоже сама не своя сделалась.
— Видно господь так рассудил. Девочку свою я не в лесу нашла, не опёнок она, чтобы я её взяла да просто так выбросила, не пущу её раньше себя на тот свет, с трудом ведь вырастила…
— Я, батоно, ещё до сих пор никого не съел, отчего же обязательно вашу дочь съесть должен?! Зверь я что ли какой? И почему это Этери раньше вас умереть должна?! Скажите уж прямо, в чём я перед вами провинился?
— Скажу, сынок, обязательно скажу! Только ты никому об этом ни слова, не то совсем без жены останешься, да и я всё в тайне сохраню, на язык девять замков повешу.
— Господи, да что же это такое! Какой у меня недостаток страшный?
— Сколько, сынок, макушек у человека?
— Одна, кажется…
— Так вот, сколько, говорят, у человека макушек, столько жён у него будет. А ты думал я тебе правда голову мыла? Два у тебя, сынок, счастья будет, две судьбы. Первая жена твоя или умрёт или удерёт от тебя. А потому уходи отсюда да поскорее, не отдам я за тебя мою Этери. Будь здоров, генацвале, храни тебя господь!
Я не мог и слова выговорить, а Этери словно окаменела. Наступила такая тишина, какая обычно перед грозой бывает. Все мы были горем внезапным подавлены. Когда пришёл я в себя, взглянул на Этери. На лице её, казалось, написано было, только бы выдали меня за него, а там будь, что будет. Но вслух она не сказала ни слова.
— Ты что стоишь как каменная? Если не жалко тебе своей головы, выходи, не держу я! — сверкнула на неё глазами мать.
Этери горько покачала головой, залилась слезами и, повернувшись, пошла к винограднику.
— Поплачь, поплачь, доченька, — вслед ей сказала мать, — слёзы иногда бальзам целительный, боль они утоляют. Только немного плачь, лоза слёз не любит. Что же поделаешь, уж лучше пусть моя дочь слезами виноградник оросит, чем мне над её могилой плакать. Ничего, молода она ещё, поплачет, поплачет и успокоится.
Уходя со двора вдовы, я обернулся у ворот и ещё раз посмотрел туда, где была Этери, встретился с ней взглядом, и глаза её, казалось, сказали мне: только возьми меня, а там, сколько проживу, столько и буду счастлива.
Навсегда мне эти глаза запомнились.
Шёл я всю дорогу злой и молчаливый; сват впереди меня, шёл я и поминутно рукой волосы теребил, хотелось мне их все по одному вырвать, чтобы ни одной макушки у меня не осталось. Но разве этим делу поможешь? Думал я эту злосчастную голову о скалу раздолбить, да мужества недостало. И пошёл, опустив её, в Сакивару…
На горе мне, о господи, сотворил ты эту двухмакушечную голову! Некоторым и одного счастья не дано, а мне, к несчастью, сразу два отведены. Хотя бы ты уж одно мне дал, да настоящее, разве ж я упрекнул бы тебя хоть раз. Пропади пропадом справедливость твоя!
Голый сват и собачьи объедки
Кечо, сват мой, словно землянику, проглотил все наши обиды и готов был снова на поиски пуститься. Да и я от него не отставал. Махнул рукой на житейские мелочи: мало ли как в жизни бывает! Только вот история с Этери из головы не выходит: у меня было такое чувство, словно попал я в рай, а потом меня оттуда несправедливо изгнали. Если над головой моей тучки проходили, казались они мне тоской-печалью Этериной; если звёзды на небе мерцали, совсем они меня не радовали, — думал я — слёзы это Этерины, и самому плакать хотелось. Но ведь слезами горю не поможешь. Знал бы, что от слезы этой толк будет, приковал бы её такою цепью, какой Ермолозова собака прикована была. Да разве выдержала бы она мои слёзы?! Словом, тяжело мне было. Спасибо самому верному, самому праведному и доброму лекарю на этом свете — времени. Не знаю, что бы делали люди, если бы не целительный бальзам времени! Девятая часть смертных не ходила бы тогда под солнцем. Не может человек жить одной надеждой на «Карабадини». Время — вот лучший целитель. Хвала ему, всесильному!
В тоске и горести провёл я около трёх месяцев. Потом в себя пришёл, и снова мы со сватом в путь пустились. В старину каждое село своего святого имело и в честь его имени праздник справляло. На одном таком сельском празднике понравилась мне девушка. Сват тут же порасспросил в народе, чья она и откуда?
— Не думаю, чтобы выдал отец её замуж. Жадный очень, зимой у него снега не допросишься, не то что дочери, — сказал нам кто-то.
— Что делать? — спросил я у свата.
— Глаз, говорят, лучший, чем ухо, свидетель, — ответил он мне, — Пойдём, поглядим. Если и вправду он такой жадный, выпью за здоровье его рогом из петушиной шпоры, да назад воротимся. Не посадит же он нас на цепь.
Хозяин наш, Макария, оказался высоким сухопарым человеком в домотканых шароварах. Он был так худ, что на тонконогое привидение походил, в сапоги обутое. Уселись мы под деревом. Кечули мой принялся нас всякими забавными историями ублажать да меня до небес расхваливать. Макария слушал равнодушно, раза два пытался улыбнуться да и то одними глазами, морщинки на лбу у него так и не разгладились.
— Женщина! — закричал он в кухню жене. — Смотри, чтобы поросёнок не сгорел! Тебе говорю, слышишь!
«Ого! — подумал я. — За ужином, верно, будем румяной поросячьей корочкой лакомиться» — и подморгнул Кечошке.
Он тоже мне подмаргивает и улыбается.
— Мёд, — говорит, — твоими бы устами… не мёд, вернее, а поросячье мясо, — прошептал и до времени слюну проглотил.
Обрадовался я, что всё так хорошо складывается. Больше, чем ожидание жареного мяса, меня другое обрадовало. Раз уж поросёнка для нас Макариева жена жарит, значит, не такой он жадный, как о нём говорят, и, главное, дочка у него ангел.
Оказывается, сват тоже об этом размышлял.
— Ах, Караманчик, людям не всегда верить нужно, — сказал он мне тихо. — Ну чем этот Макария на скрягу похож? Видишь, гостям запросто поросёнка изжарить велел. Правильно мы поступили, что не поверили людской молве, а решили своими глазами поглядеть. Скажи, не правда ли был я очень дальновиден?
— Истинно! Если бы жив был Соломон Мудрый, он бы каждый день твоего совета спрашивал. Не будь тебя, что бы я, бедняга, делать стал?
Стол накрыли на террасе.
Налили нам понемножечку жидкого лобио да подали несколько тонко нарезанных ломтиков сыра. В ожидании поросёнка ни я, ни Кечо к лобио даже не притронулись.
А хозяин в своё лобио целую пригоршню соли насыпал.
— Что вы это, батоно Макария, — говорю ему, — солоно ведь будет?
— Ну и что же? Еда должна быть солёной, а как же? От соли пить хочется, а от воды полнеют. В ком хоть немного ума есть, тот много соли потребляет. От этого и воды пьётся больше, и еды меньше уходит, уж я это знаю!
Сват тем временем на сыр накинулся. Сразу по несколько кусков в рот запихивал.
Хозяин тотчас же это заметил и говорит ему, не смущаясь нимало:
— Ты что это, парень, по два куска зараз в рот кладёшь? Не у врага ведь в гостях, небось. У вас двух мертвецов вместе что ли хоронят?
— Ежели бедные они, да тонкие, можно и троих, — осклабился Кечо.
Встали мы из-за стола так, что о поросёнке никто и слова не промолвил.
— Вероятно, на утро спрятали, — не терял надежды сват, — завтра, наверно, гостей позовут, пир горой будет.
— Твоими устами поросячье ребро обгладывать!
— Как там поросёнок, женщина? — спросил в это время Макария.
— Обсох, я его в свинарник пустила, — ответила жена.
— Как так обсох? — не удержался я от вопроса.
— Напали на этого окаянного насекомые, сынок, чуть живьём не слопали. Пришлось нам его выкупать, да у огня обсушивать. Теперь всё в порядке, ожил он, как жеребёнок, резвится.
— Что-о? — выпучил глаза сват.
— Да, сынок, а что было делать, не ждать же пока его свиная вошь заест.
Хозяйка отошла.
— Знал бы, съел хотя бы это паршивое лобио, желудок от голода стонет, — пожаловался я Кечо.
— А я? Придётся пояс потуже затянуть, не то штаны вот-вот упадут, — он подтянул ослабевший ремень. — За этого негодника и вправду петушиным рогом выпить следовало бы. Да что пить? Вина-то нет!!!
Стемнело. Нас провели в дом. Девушка зажгла лампу, улыбаясь обворожительной улыбкой и пожелав нам спокойной ночи, вышла в другую комнату. Явился тут Макария и тотчас же лампу потушил.
— Что это вы, батоно, делать изволите? — спросил Кечо.
— Как что? Беседовать и в темноте можно, чего же зря керосин переводить, правда ведь, Караман?
— Конечно, батоно, — поспешил я с ним согласиться.
Посидели мы в темноте, поговорили о том, о сём.
Почувствовал я, зевота меня одолевает, и говорю:
— Теперь я думаю, батоно Макария, заснуть бы не мешает.
— Конечно, конечно, — соглашается тот.
Зажёг он лампу снова и чуть из рук её не выронил. Я гляжу и глазам своим не верю: сват мой на треногом стуле в чём мать родила сидит и глаза на свет таращит. Я от страха окаменел, а у хозяина лицо вытянулось.
— Кто ты, человек? — спрашивает Макария.
— Как кто? Сват я Караманов, батоно, Кечо Чаладзе. Не узнаёшь разве?
— Сват-то ты сват, а вот одежду почему снял?
— В темноте вы меня всё равно не видите, так, подумал я, к чему её зря-то трепать?
Не хотелось мне у Макарии оставаться, да ночь на дворе глубокая была. Легли мы на террасе. А только заря занялась, вскочили мигом и, не попрощавшись с хозяином, прочь убрались.
У калитки моего дома встретилась нам Ивлита.
Не нужно особенно догадливым быть, чтобы понять, любила меня Ивлита, но я-то не любил её, и это тоже не было ни для кого из нас загадкой. Посмотрела она на меня, а я взял да и отвёл глаза.
— Где ты, парень, ходишь-бродишь? — спросила она у меня ласково. — Неужели здесь, поблизости никого себе найти не можешь? — говорит, а сама смотрит жалостливо, словно тёлка.
Пожалел, сказать по правде, я эту бедняжку, сердце у меня аж заныло, да язык его опередил, и бросил я ей грубо:
— Тот, кто о солнцеликой мечтает, должен её за девятью горами искать, а уродин у нас и своих хватает, на каждом шагу в ногах у человека путаются.
Обиделась бедная Ивлита, но возразить не посмела, проглотила она эту горькую обиду. Недаром ведь двоюродной сестрой свату моему приходилась.
Вечером, когда остался я один, вышел на террасу, свечу в стакане приспособил, зажёг её и уселся «Ефремверди» перелистывать. Найду, думаю, там что-нибудь и о судьбе своей.
Налетели на свет бабочки, закружились вокруг, прямо в огонь лезут. Захлопнул я книгу и стал на них смотреть. Трепещет бабочка, крылышками пламени свечи касается, потом, опалённая, в стакан падает, встрепенётся, поднимется и снова к свече ластится. А та, безжалостная, губит её, сжигает. Сама же свеча тоже тает, растекается. «Такова, очевидно, и мудрость любви, — сказал я самому себе. — Если есть бог на небе, постыдится пусть, безголово он этот мир устроил. Не нашёл для любви ни конца, ни начала. Глупо всё это: кому мы нравимся, те нам не нравятся, кого мы любим, те нас не любят, а кто нас любит, тех мы ни во что не ставим, — сплошной круговорот получается. Разве я неправду говорю? Так ведь и со мною получилось! Ходил я по дворам и счастья своего искал. Браковал одних, другие меня браковали, одни мне в душу запали, другим я понравился, а на иных даже не взглянул. Случалось и так, что-то поперёк дороги становилось, и оставался я с разбитым сердцем. Надоело мне в поисках женщины по свету бродить, но без женщины жить не годится. Так что же делать?»
Снова мы с Кечули в путь собрались.
— Очень уж эти поиски затянулись, — заметил мне как-то сват.
— А что, разве я виноват? Тебе-то хорошо, женил я тебя на красавице. Не женщина — мечта, и близнецов тебе родила. А ты чем меня отблагодарил? Сватаешь всяких обезьян. Совсем совесть потерял.
— Не стыдно тебе, креста на тебе нет! Ноги у меня за это время поизносились, и ростом я меньше стал, а ты мне вот какие слова говоришь! Разве моя в том вина, что ты никому не нравишься и никто тебе не нравится? — вышел из терпения сват. — Горько я твоих мать и отца оплакивал, но сейчас, как подумаю, надо мною надо было слёзы лить. Больше других я сожаления достоин, потому как остался ты у меня на попечении.
— Кечо!
— Что Кечо, Кечо? Меня уже двадцать лет Кечо зовут. Чем с тобой ходить, лучше я стану камни таскать. Пропади всё пропадом!
— Ладно уж, успокойся! Не говори лишнего, не то сам пожалеешь.
— А сколько ты меня дразнил? Не для того я на свет родился, чтобы ты надо мной издевался. Пусть падёт на усы мои позор, если я ещё хоть раз с тобой пойду!
— Да они и так посрамлены.
— Ах вот как! Ну и ходи один, перебивайся. Язык у тебя моего длинней и ноги тоже. Так что — ступай. Посмотрим, какую ты себе жену найдёшь!
Невознаграждённый и несправедливо обиженный сват мой в тот вечер покинул меня на волю божью. Не очень-то я расстроился, что свата потерял, но вот что дружбы Кечошкиной лишился, было обидно.
— Несправедливо со мной, сиротой, обошёлся, — упрекнул я всевышнего и в тот же вечер пустился на поиски настоящего свата.
Можно, конечно, было к услугам тётушки Элпитэ прибегнуть, прекрасная она была сваха, да боялся я, кабы не навязала она мне Ивлиту.
На окраине Сакивары жил человек без роду без племени. Звали его Аретой Мелашвили.
Подбородок у Ареты этого очень маленький был. Непонятно, то ли подбородок, то ли губа нижняя? Так и прозвали его в селе — Подбородком. Настоящего имени его почти никто и не помнил. Он занимался сватовством. Народ про него говорил: у чертей рёбра обломает да рога для питья сделает, у бабы-яги шкуру сдерёт — бурдюк сошьёт.
— А что он в этот бурдюк нальёт? — спросил я у одного.
— Вина.
— Какого?
— То из женихова погреба, то из слёз невестиных, а то из жениховых слёз. Это как дело скраивается.
Все эти разговоры меня не испугали, решился я навестить его:
— Это ты, дорогой, — ответил он на мою просьбу, — как я тебе в этом откажу? Хорошее дело ты затеял, помогу, чем смогу. Хвалить тебя для меня удовольствие одно. До неба вознесу, да на нём и поселю, а как же. Уж это-то я умею! Обувь я тебе не сошью и коня подковать не смогу, а сватать — это моё ремесло! — разошёлся Арета и не дал мне и слова произнести.
— Только знай, — говорит, — станешь свадьбу справлять, корову забьёшь, шкура и голова с ногами мои будут, и, кроме того, за труды мне два десятка положишь. Понимаешь, дорога и всякое там…
— Конечно, конечно, батоно! — закивал я.
— Хочешь дворянскую дочку?
— Хорошо, конечно, взять девушку хорошей фамилии, если и сама она что-то стоит. Недаром ещё великий Руставели говорил: род тысячи стоит, а воспитание — десяти тысяч. К чему высокородность, коли сам человек плох? А великому мудрецу верить надо.
— Само собою разумеется, плохую я тебе не предложу, об этом и говорить нечего, и непорядочную тоже… Ты мне другие достоинства перечисли.
— Тихая чтобы была, умная, воспитанная и красивая тоже…
— Э, голубчик, нечего об этом и говорить. Знаешь, как дворянские дочки-то воспитываются? Всему обучены в девичестве: и петь, и плясать горазды, кроят-шьют, за этим к другим ходить не придётся. Ну как, подойдёт тебе?
— Посмотрим. Глаз, говорят, лучший, чем ухо, советчик.
Свернули мы на просёлочную дорогу, и пошёл я, куда он меня повёл. Историю здешних дворян я, по крайней мере, раз девять слышал.
Заставил как-то, сказывают, имеретинский царь Соломон конников состязаться в беге по отвесному склону — кто быстрее всех в долину спустится. Известное дело, конь по спуску быстро идти не может. Так вот, один рачинский крестьянин, по фамилии Элбакидзе, опередил всех. Однако, как только в долине оказался, случился с ним конфуз — отпустил он поводья, конь в этот миг учуял свободу, быстро пошёл, но поскользнулся и упал. Обрадовались этому соперники и царю тотчас же доложили. А Соломон рассудил мудро: во-первых, сказал он, произошло это уже в долине, во-вторых, конь, значит, у него такой, не натяни он поводья, не прошёл бы так удачно скалы отвесной, молодец, значит. И пожаловал царь тому крестьянину дворянство и двух крепостных ему подарил. Плодовитый тот дворянин оказался, родилось у него впоследствии девять сыновей, все они как подросли, переженились, и образовалось в дальнейшем тридцать новоявленных дворянских семейств. А двум несчастным крепостным не повезло, не разрослась у них семья, не умножилась. Так что на тридцать элбакидзевских домов по-прежнему двое крепостных приходилось. И были они у господ своих нарасхват.
— Хозяин!
— Батоно?
Открылись старенькие ворота, вошли мы в маленький дворик, обнесённый низким плетнём.
Две гончие, выпучив глаза, уставились нам в руки, но, ничего не увидев, затрусили под лестницу. Сват указал мне на девушку: не красавица, но и не дурнушка. Я поглядел внимательнее. Шла она по двору, босая, толстые пальцы ног некрасиво растопырены. Высоко подпоясанное ситцевое крестьянское платье, видимо, ею самой сшито. Заметил я, что один рукав у него был короче другого, и настроение у меня сразу испортилось.
Во дворе под полувысохшим орехом валялась большая каменная плита, которую, очевидно, приспосабливали под стол.
Сели мы.
Будущий тесть притащил откуда-то корзину с грушами.
— Угощайтесь, дорогие, устали, небось, с дороги.
Арета с удовольствием на груши накинулся.
— Какая вкусная, кацо! Этой весной привил я у себя во дворе грушевое дерево, но не принялось оно почему-то. Будущей весной обязательно возьму у тебя веточку. Да, а где у тебя дерево, не вижу что-то!
— Недалеко. Там вон, у виноградника. У крепостных наших эта груша растёт, они нас угостили.
— У вас, что, батоно Енгиоз, до сих пор ещё крепостные есть? Крепостное-то право уж сколько времени как отменено.
— Есть, батоно. Мы люди хорошие, потому-то они от нас и не бегут. Наоборот, всячески нам почёт оказывают. Как угодить, не знают. Живём теперь, правда, по-соседски, а всё-таки считаются они нам крепостными… а когда и присылают разные разности, редиски там, бурдюк вина, фрукты… бывает, на охоту вместе ходим.
— Вы что, батоно, охотой увлекаетесь?
— Конечно, потомственные ведь мы дворяне, сам царь Соломон нам дворянство пожаловал. Ты, парень, на нас так не смотри. Живём мы попросту, а дворяне самые настоящие. Вон в том доме наши крепостные живут.
Я взглянул туда, куда указывал Енгиоз, и увидел большой двухэтажный дом, в котором жили крепостные, господа между тем ютились в подслеповатой, покосившейся избе с крохотным балкончиком.
— Ой, бедные! — вырвалось у меня.
— Отчего же они бедные? — насторожился хозяин, — я ведь их не неволю, живут, как им вздумается, свободные они, как птички небесные. Мы ведь не бездушные какие-нибудь! Знаете, некоторые своих крепостных в ярмо впрягли…
Большое это несчастье — иметь таких нищих господ, подумал я про себя, а вслух сказал:
— Скажите, а молотильная доска, к которой крепостных привязывали, у вас имеется?
— Найдём, если понадобится…
Енгиоз, как истый дворянин, заложил руки за спину и стал медленно расхаживать по двору.
— Извините меня, ради бога, что на ходу я с вами разговариваю. Такая уж у нас в роду привычка. И отец мой так вот умел, и дед покойный. А вы, батоно Караман, чьим внуком будете, Нико Кантеладзе, что ли?
— Да, батоно, вы его знали?
— Как же, хороший был человек.
— Очень, очень! — вмешался сват.
— Великое имя у него было, Нико, Николай!
— Истинно, истинно, — совсем оживился сват. — Наш Караман сын достойных людей!
— А что мне от этого? Какое мне дело до знатного имени моего деда? Какой толк в имени: на себя его не наденешь и сыт им не будешь, — стегнул я невидимым кнутом Енгиоза.
— Ой, не скажи! — забеспокоился тот, — молод ты ещё, многого не понимаешь. Имя это главное. Знаю я, некоторые люди только тем и существуют, что славными именами своих предков… вот доживёшь до моих лет, сам в том убедишься. Поймёшь эту премудрость.
— Здравствуйте, хозяева! — послышалось за воротами, и на просёлке появился худой высокий человек с кожаным мешком за плечами.
— А! Парнаоз, привет! Куда это ты?
— На мельницу иду, сегодня ведь наш черёд.
— А что, много тебе молоть?
— Вот это, — указал он на мешок. — Тебе тоже что-нибудь нужно?
— Кажется, есть кое-что, батманов десять наберётся.
— Ладно уж, сообщу тебе, как закончу! Бывайте здоровы! — стал прощаться Парнаоз.
— Это мой родной брат, детей у него прорва, одолели его, несчастного, ежедневно на мельницу ходить приходится.
— А отчего он, бедняга, худой, словно высохший прут? Не ест, что ли?
— Скажешь тоже! Такого едока, как он, поискать надо. Телёнка в один присест проглотить может, а во второй и кожу от него сожрёт.
— Ух ты! А ежели так, что это его как рыбью кость истончило? Еле на ногах человек стоит, — удивился я.
— Что тут удивительного! Его желудку каждый день телёнок требуется, а где взять? Вот и получается, что сыт Парнаоз всего два раза в год бывает, и то, если где-нибудь на свадьбе или на келехе поживится. Уж как тут, скажи, не исхудать?
«Да-а, — подумал я, — женись я на дочери Енгиоза, не избавиться мне от человека с кожаным мешком».
Пока мы лакомились грушами, хозяйка всех соседей обегала и бывших крепостных тоже не обошла. И не безуспешно, видимо, потому что гончие вдруг забеспокоились, устремились за ней в кухню.
Как увидел Енгиоз жену свою с полными корзинами, совсем заважничал. Растянул он свой рот в улыбке.
Закричала вдруг на кухне курица и затихла, потом я услышал голос хозяйки:
— Элико, дочка, что это ты всё сложа руки сидишь? Подсоби немного. Как вы с отцом друг на дружку похожи. Всё бы вам жар чужими руками загребать.
— Ты, мама, крестьянская дочка, вот и должна нас с отцом, дворян, ублажать, — отвечала ей дочь.
— Ой, господи! До чего я, несчастная, дожила! Что слышат мои бедные уши! Отсохни твой длинный язык, грубиянка. Хотя бы действительно ты чего-нибудь стоила — бездельница! Толчёшься здесь без толку, лучше бы уж к гостям вышла. Посиди, пойди рядом с парнем, посмейся с ним, может, счастье тебе улыбнётся. Даром что ли тебе тётка на пасху чусты подарила, надень, чего прячешь. Ничего сама не смыслишь, глупая, всему её учить нужно. Поиграй пойди на гитаре, развлеки людей, дурёха!
— Гитара с прошлого года сломанная валяется.
— Ну о чём же твоя глупая голова думала, не могла заставить починить, что ли?
Мать с дочерью старались говорить тихо, но разве от ушей моих ускользнёт что-нибудь, тем более, когда и уши, и глаза, и нос — всё у меня на кухню нацелено было.
Через несколько минут вышла Элико в новых красных чустах, вынесла колченогий стул и прямо передо мной уселась. Пыталась, бедная, улыбаться даже, да не шла у неё никак улыбка. Только и смогла промолвить:
— Хорошая сегодня погода.
— Да, ничего…
На этом разговор кончился. На всех нас какое-то умиротворение нашло. Сват даже вздремнул немного, однако вскоре из кухни донёсся вкусный запах жареного, и мы приободрились. Вышла оттуда хозяйка, в руках у неё кувшин был. Видно, дело к обеду приближается, подумал я.
— Ты куда, Пация? — полюбопытствовал Енгиоз.
— Что, разве у тебя кувшины от вина лопаются? Не знаешь разве, куда. Гентор, будь он благословен, взаймы дать обещал.
— Наш бывший крепостной?
— А кто же.
— Ну хорошо, иди!
Вернулась она скоро, поставила перед нами кувшин полный вина, а сама в кухню направилась, только дверь отворила, да вдруг как закричит истошным голосом:
— Ой, мамочка! Ой, родная! Чтоб вам издохнут окаянные, чума вас, проклятых, разрази! Ой, ослепни мои глаза, до чего я, несчастная, дожила. Ой, ой, ой! — и как сумасшедшая вовнутрь влетела, ей навстречу и кухни обе гончие выскочили. У одной хачапури в зубах у другой изо рта половина жареной курицы торчит. Увидев эту картину, вскочили мы, как будто нас во сне холодной водой окатили, и тоже в кухню бросились.
Разорённая кухня, как после вражеского нашествия, была перевёрнута вверх дном. Кругом валялись обкусанные хачапури, огрызки ветчины, сыра, в углу где-то валялся ломоть мчади. Пация сидела на треногом стуле, как помешанная глазами вращала. И время от времён била себя руками по коленям.
— Ой, мамочка, мамочка! — повторяла она бессмысленно. Потом на мужа набросилась. — Говорила я тебе, человек, или не говорила, на кой чёрт ты этих окаянных держишь. На охоту с ними ходить? Да хотя бы ты, несчастный, охотиться умел! В жизни ни одного зайца не подстрелил, простофиля! Ой, мама!
— Замолчи, женщина!
— Отец небесный, чем я, бедная, перед тобой провинилась, что свёл ты меня на погибель мою с лежебокой этим! Ну скажи на милость, дурачина ты эдакий, на кой чёрт дались тебе идолы эти длинномордые, для чего ты их во дворе держишь? Пропади они, проклятые, пропадом! Ой, что нам теперь-то делать, ой, мамочки, мамочки!
— Дура ты несообразительная! Чем же собаки виноваты, если мозги у тебя куриные? Смотреть получше надо было, — напустился на неё муж, — прикрыла бы двери, а уж потом ушла. Поглядите на неё, ишь, осмелела как, мужицкое отродье, деревенщина паршивая. Так мне и нужно! Удостоил такой чести, взял за себя беднячку-нищенку, в дом пустил, вот вам благодарность! Опозорила меня перед честными людьми. Берись-ка за дело, хамка!
Муж-то сердился на неё, но за какое дело должна была взяться несчастная Пация? Не могла же снова по соседям идти. Положила она всё, что от этих жадюг ненасытных осталось, на стол и стала нас угощать. В это-то время на дороге Парнаоз показался.
— Енгиоз! — закричал он, — освободилась мельница, если есть у тебя, что молоть, поспеши, пока кто другой не занял.
Забеспокоился я, — плохо дело: этому человеку зараз телёнка целого мало, так как же он собачьими объедками насытится? Нам тогда придётся уж с пустыми желудками оставаться!
Енгиоз вышел за ворота и о чём-то тихо стал с братом шептаться. А тот, не заходя во двор, повернулся и прочь пошёл. Я даже вздрогнул от облегчения.
Хозяйка всё извинялась перед нами:
— Кушайте, дорогие, не побрезгуйте. То, что я вам на стол положила, собаки не трогали.
Пожалел я бедную женщину и стал искать слова утешения.
— Не расстраивайтесь, — сказал я ей, — собаки ведь всегда за людьми доедают, ну а что, если разок наоборот случилось? Мир от этого не перевернётся. Да вы за нас не беспокойтесь, съедим, ещё как съедим! — и вправду, аппетит у нас был великолепный, на столе ни крошечки не осталось.
Потом попросил я хозяина постелить мне на той самой каменной плите, что нам столом служила, — люблю я летом под открытым небом спать, и улёгся. Заснул поздно, спешить мне, подумал, завтра некуда.
Утром меня мычанье соседской коровы разбудило, да и собаки хозяйские и соседские беспрестанно лаяли.
Сколько в окрестностях собак, говорят, человек обычно ночью узнаёт. Большие и маленькие, лают они беспрестанно на всех, кто по дороге идёт. Хорошо ещё, что кошек не было видно, не то затеяли бы собаки с кошками ссору, а такого и врагу не пожелаешь.
Одна смелая и нахальная курица на балкон вспорхнула да свата моего разбудила. А петух, чванный такой, со шпорами, прогуливался, прогуливался под орехом да как закричит мне прямо в ухо. Какая-то выскочка-курочка снесла спозаранку яйцо и об этом героическом событии на всю округу заквохтала. А в довершение всего поссорились два молодых петушка, один из них как вспорхнёт, да прямо мне на нос и уселся. Не знаю, жёрдочкой, что ли, нос мой петушку показался, не такой уж он длинный-то. Душа у меня от этого в пятки ушла. Слава богу, глаза мне, проклятый, не выколол. По милости этого нахала слепым я остаться мог.
Одним словом, не наелся я в этой семье и не выспался.
— Ни за что тут не останусь, — сказал я свату.
— Почему? Девушка, что ли, тебе не по душе?
Лицом мне Элико нравилась, и с ногами её я примирился, даже то, что бесприданница она, меня волновать перестало. Взял бы я её обязательно замуж, не будь она такой лентяйкой. Об этом я и свату сказал.
— Это только поначалу так бывает. Женщины, брат, всё умеют. Будет у неё своя семья, увидишь, как белка в колесе завертится.
— Не думаю я, чтоб такая лентяйка белкой вертелась. Не пара она мне.
В сердце моё её слова, сказанные матери, шипом вонзились… «я, мол, дворянка, а ты мужичка-деревенщина». Ну как осмелеет она и мне такое скажет! А я не вытерплю, истинное слово, не вытерплю. Нет, дорогие, ничьим рабом отродясь я не был, и никто у меня в рабах тоже. А если уж по справедливости говорить, то женщина сама мужчине служить должна, а как же? Не могу я с этими голодными дворянами породниться, нет и нет! Я об этом и свату сказал. Арета плечами повёл.
— Подожди, милый человек, не торопись.
— Нет уж, дорогой, как сказал, так и будет, — пнул я ногой калитку и оставил двор Енгиоза, не позавтракав.
Хозяин едва кивнул мне на прощанье. А хозяйка и Элико вовсе не показались. Только гончие по двору бродили, принюхивались, чем бы ещё поживиться.
Правда, хозяева на меня озлились, но зато собак я своим появлением в гостях облагодетельствовал. Не всё ж людям удовольствие доставлять, иногда и о собаках вспомнить надо. И им почёт оказать. Ведь их брат мне немало добра сделал, а я человек благодарный, незабывчивый.
Сват, поджав губы, шёл за мною и на меня со злостью поглядывал. Клял он, вероятно, в душе собак, а меня, в сердцах, наверняка сукиным сыном обзывал.
Тёмное утро и мерцающая вдали надежда
— Хозяин!
— Батоно!
— Выгляните-ка на минуточку!
— Да что такое? А-а, пожалуйте, пожалуйте! Милости прошу, почтеннейшие!
Мы в семье Омана Чаладзе. У Марики, хозяйки его, прямо-таки всё горит в руках: ужин она готовит. Кроме нас, тут ещё два гостя: хозяйкин брат Дианоз Берешвили и племянник хозяина Сико.
Осень. Виноград поспевает. Вечерами холодновато. Сидим мы на террасе, а во дворе то и дело мелькают две девушки. У Цицино глаза чёрные, блестящие, круглое лицо, губы, как малина спелая, ресницы на веер похожи, тень от них прямо на щёки падает, талия — спица тонкая, у настоящего мужчины в кулаке уместится, а две блестящие чёрные косы вкруг головы обернуты и кажутся змеями чёрными, частенько она их поправляет.
Меня как будто не замечает, однако то и дело ловлю я на себе её взоры. Нравится мне эта игра в прятки, мёдом она мне в душу вливается.
Скользнёт Цицино по мне исподтишка взглядом, и щёки у неё краснеют, как яблоки, а я мечтаю: хотя бы разочек вкус этих яблочек испробовать, а потом и умереть не грех. Улыбается она редко, но улыбка целой жизни стоит. Был бы я царём, все бы свои сокровища за такую улыбку отдал.
У Пасико, наоборот — длинное лицо с коротким подбородком, иногда в глазах улыбка блеснёт и молнией всё лицо озарит, смягчая грубые черты. Но так же, как и Цицино, улыбается она редко, так что пусть уж враг мой на эту улыбку надеется. Может быть, и не казалась бы Пасико дурнушкой, если б не красавица Цицино.
Обе они на выданье. Я даже определить не мог, кто из них старше. Обе со мною кокетничают, а я всё на Цицино поглядываю; сразу она мне в душу запала.
Поначалу показалось мне, что Цицино и Пасико родные сёстры, и я спросил об этом свата.
— Ох, нет, кацо! Цицино — сирота, а Марика её младенцем к себе взяла, вот и выросли девочки вместе, как сёстры родные.
К ужину небо нахмурилось, и стол пришлось накрывать в комнате, у камина. Поставили на выступ камина две лампы, сразу светло кругом стало.
— Пожалуйста, батоно Дианоз, угощайтесь! — предложил я брату хозяйки горячий хачапури.
А Дианоз как подскочит, чуть стол не перевернул, раскричался вдруг и с бранью опрометью из комнаты выскочил. Обомлел я от страху хачапури в руках у меня остыли.
— Что, — спрашиваю, — случилось? Чем я его обидел?
— Бывает с ним такое, — стала извиняться Марика, — я во всём виновата, не предупредила. Ежели его кто угостить опередит, он завсегда так бранится. Вы уж простите странность ему такую. Раз с ним даже на свадьбе у родственников наших так случилось. Вскочил из-за стола да домой ночью через лес, — чуть его волки там не загрызли. Такая на него блажь иногда находит. Да вы не беспокойтесь, не обращайте внимания, — успокаивала она меня.
Выпили мы по стаканчику. О Дианозе и думать забыли. Цицино и Пасико всё время рядом со мной вертелись. И таким они вниманием меня окружили, что заставили целых три куриных гузки съесть. А я ведь, как знаете, из-за гузки душу готов чёрту заложить.
Красота Цицино меня больше вина опьянила, и почувствовал я эдакое приятное головокружение. Известно вам, как себя в таких случаях влюблённые ведут: нравится им почему-то всё время обиженными прикидываться. Говорят, что приятнее этого чувства нет ничего на свете. Вот и я так. Когда Цицино меня за столом о чём-либо спрашивала, не отвечал я ей нарочно, но зато шумно, чтоб она слышала, вздыхал, давая понять ей, что влюблён я в неё безнадёжно. Вскоре все за столом опьянели. В руках у Цицино оказалась дайра, и стала она на ней отстукивать.
— Э-эй! — закричал Оман. — А ну-ка танцы! — и пригласил Марику. Замахала она на него руками, отвяжись, мол, старый, что затеял, однако всё же поднялась и руки раскинула. Оман коршуном за ней погнался, путь ей преградил. Прошлись они по кругу, и вдруг прекратила она танец и на стул уселась.
— Хватит, кацо, не девочка ведь я! Уфф!
— Таши! — вскричал тут я и пустился в пляс.
Цицино была занята, я кивком головы Пасико пригласил, выделывая всякие коленца, и руку к сердцу приложил. Как горлинка, девушка притихла и убегать от меня стала, а я за нею ястребом гонялся! Хорошо она танцевала, красиво. Но мысли мои не ею были заняты; в танце я преследовал Пасико, а глазами улыбался Цицино. И она в ответ улыбнулась мне однажды так, что остановился я как вкопанный. Но тут же снова ноги сами собою понесли меня в вихре танца.
Танцуя, пропел я в сторону Цицино:
Не отвяжусь от тебя, Как бычок от соли!..— Молодец, Караман! — стал хлопать в ладоши сват.
У Пасико на лице появилось какое-то подобие улыбки, но, заметив, что я отдаю предпочтение Цицино, погасила она свою улыбку.
Всё в комнате ходуном заходило. Не сговариваясь, мы все выбежали на террасу. Где-то далеко сверкнула молния и отчаянно загрохотало, словно по небу немазанная арба прокатилась. С ума это небо сошло, что ли? Прямо-таки взбесилось! И вспомнил я тогда ту ночь, когда град мой виноградник побил. Зашумело всё вокруг, а над крышей снова оглушительный грохот пронёсся, словно на неё орехи попадали. Ветром занесло на террасу большие белые градины.
— О-о! Мой виноградник! — застонал Оман. — Полопается мой виноград…
— Ведун, что ли, Дианоз наш? — сказал я. — Почувствовал беду и ушёл.
Перегнувшись через перила, Сико вытянул ладони, подставляя их дождю.
— Гремит сильней, чем льёт!
— Ты что, может, уходить в такую погоду собрался? — спросил его хозяин.
— Дома ведь не знают, что я здесь. Беспокоиться будут.
— Куда ты в ливень пойдёшь, и не думай, не пущу. Хороший хозяин в такую погоду собаку во двор не выпустит.
— Да, господи, не леденец я, чтоб растаять! В такой ли ливень ходил?
— Ручей у мельницы теперь, вероятно, так разлился, что трудно тебе будет вброд перейти!
— Что же делать?
— Оставайся, постелить что, слава богу, найдётся, проспись до утра, а там видно будет. Не бойся, дорогой, в такой-то дождь никуда твоя жена с детьми не убежит. Оставайся, оставайся!
— Ладно уж, останусь. Только… Наши-то ведь не уснут от беспокойства, — нерешительно протянул Сико и отодвинулся в сторонку.
Я поймал градину и преподнёс её Цицино:
— На, возьми!
Она стыдливо вытянула ладонь. Но градина превратилась в водяную капельку.
— Обманщик противный!
— Да разве я виноват, что она растаяла. У меня руки и сердце, как пожар. Хочешь ещё поймаю? На, вот, скорее!
На этот раз градина была большая, величиной с орех и растаяла уже на руке у Цицино.
— Вот видишь, теперь она у тебя растаяла. Не зря ведь говорят, что у влюблённых и руки и сердце горячие.
— Не знаю, наверное, это правда, но я ещё никогда не была влюблена, — стыдливо прошептала девушка.
Осмелел я, и Цицино со мною смелей сделалась. Пасико же в недоумении переводила взгляд с меня на сестру, но, увидев, что мы не обращаем на неё внимания, пошла в дом. По звуку её шагов понял я, что рассердилась она на нас.
Хозяин всё волновался: побьёт проклятый град виноградник, без свадебного вина останемся! — Меня же это не беспокоило. Я был занят девушкой и благословлял грохочущее небо, швырявшее в меня белые орехи.
— Эх, будь что будет! — сказал Оман. — Небо рукой не заслонишь. Пойдёмте-ка лучше к столу, не то хозяйка обидится.
— Куда же это Сико девался? — удивилась Марика.
— А я почём знаю? Сейчас только тут был. Верно, куда-то свернул, с пьяными это бывает.
Я огляделся по сторонам. Никого не было видно, только лежащая под крыльцом собака зарылась мордой в собственный хвост и лежала с закрытыми глазами. Не боялась она, счастливица, ни дождя этого проклятого, ни того, что град виноградник побьёт.
Все вошли в комнаты, лишь Цицино на балконе задержалась, а я только этого и ждал.
— Придвинься, сахарная, ко мне, чтобы от дождя не растаять.
— А ты разве сам не под дождём стоишь?
— Я-то? А что мне сделается… Я от одного взгляда на тебя растаять могу, а от дождя со мной ничего не будет, — ответил я. Слова мои ей понравились, и она улыбнулась мне.
«Молодец, Караман!» — сказал я сам себе.
Улыбка сошла с её лица, и она вдруг вздохнула печально.
— Чего ты вздыхаешь, девочка? Будешь у меня царицей, всё к твоим услугам будет, — и поле, и виноградник.
— Э-эх!
— Не печалься, не вздыхай, раз богу было угодно, чтобы нашли мы друг дружку, всё у нас будет хорошо, вот увидишь.
— Э-эх!
Я с недоумением посмотрел на неё…
— Простудитесь, детки, в дом идите, — выглянула хозяйка.
Не хотелось мне от Цицино уходить, однако неудобно стало, пришлось к пиршественному столу возвратиться.
Поднял Оман тост за родителей.
— Дети, — сказал он, — плоть и кровь наша… Взгляни ещё разок, куда этот человек запропастился, — обратился он к жене.
— Куда ему деваться. Сам ведь ты сказал, по нужде, вероятно, вышел, разве он не был пьян?
— Пьян, может быть, и не был, а вино повредить ему могло. Выйди-ка во двор, взгляни, не случилось ли чего.
— В такую-то пору?
— Ладно! Сам пойду. Извините, гости дорогие! — поставил Оман стакан и только хотел выйти, как дверь открылась и на пороге мокрый с головы до пят появился Сико. Волосы у него слиплись на лбу, и две водяные струи ручьями стекали по щекам.
— Где это ты пропадал? — закричал на него Оман.
— Да здесь я, недалеко был, наших ходил предупредить, к воротам подошёл и крикнул: ночью, мол, не ждите, у Омана остаюсь.
— Браво! Это ты здорово придумал, умней тебя никто не мог бы поступить, — захохотал хозяин.
— Присаживайся-ка теперь к столу да выдуй один за другим два рога, не то чихать завтра будешь до упаду.
Снова пошёл пир горой. А дождь, между тем, всё лил и лил беспрестанно. Раза два крыша так затрещала и заквохтала, словно тут собрались все наседки, живущие на земле.
Утром сват-Подбородок уединился с Оманом. Долго они совещались, а я всё прислушивался, однако услышать ничего не смог.
— Ну что? — спросил я Арету, когда закончились переговоры.
— По дороге расскажу, — бросил тот неохотно.
Как только перешли мы по жёрдочкам узкого мосточка через вздувшийся от половодья мельничный ручей, я снова спросил у свата:
— Ну и как?
— Да что как? Не отдам, говорит, я ему девушки.
— Чем я ему не по вкусу пришёлся? Лицом что ли не понравился, на мужчину не похож, или?..
— Да уж и не знаю.
— А всё-таки…
— Сирота, говорит, он одинокий, помочь ему некому. Плохо женщине в доме у него придётся, замучается, надорвётся одна. Уж сколько я тебя хвалил! Парень, мол, ловкий и хозяйственный, и с лица хорош, и петь-плясать охотник, а он упёрся на своём: не отдам и всё!
— Интересно! Может, поведение моё ему не понравилось?
— Да нет, кацо, наоборот! Держать ты себя, как надо, умеешь, а уж петь-плясать, так ты просто для этого рождён.
— К чему этот дар, если он мне не помог, — сказал я с горечью. — А девушке я понравился, заметил небось, как улыбалась, а?..
— Я-то заметил, но кто, скажи, когда девушку спрашивает.
— Эх, дорогой мой Арета! Уж если не улыбается человеку счастье, то камень его и на подъёме настигнет. Что делать? Невезучим я родился.
— Нельзя так, душа моя! Умные люди говорят, за счастье бороться надо, а ежели нос повесить, так оно, счастье это, тебя в бараний рог скрутит.
— Что же делать, посоветуй, батоно.
— Да-а, перевелись ныне мужчины, не то что раньше бывало! — с сокрушением протянул сват.
— Ты о чём, батоно Арета?
— Это я так, себе говорю! Вот дед твой, слышал я, бабку-то твою похитил, а?
— Было такое, а что?
— Ничего, это я просто так…
— Не пойму я тебя, батоно Арета. Странно ты как-то выражаешься, загадками говорить изволишь.
— А ты выслушай меня внимательно — всё поймёшь. Знаешь, что с одним моим родственником приключилось? Понравилась ему как-то вдовушка, да никак он её сердце к себе привлечь не мог. И так ходил, и эдак, а вдова всё — нет и нет. Раз как-то пошёл он в лес, поймал корову той вдовы, снял у неё с ошейника колокольчик и ну звонить — трезвонить. Услышала женщина звон, пошла в лес свою корову искать да там лицом к лицу с ним и столкнулась. Испугалась было. Однако, когда рука мужчины груди её коснулась, подчинилась ему тут же. Теперь счастливей их нет на свете! Не устают они корову и колокольчик благословлять. Вот такова жизнь, — улыбнулся в усы Арета.
Удивился я этой улыбке, потому что Арета почти никогда не улыбался.
— Ну и что же, батоно Арета, и мне прикажешь на шею коровий колокольчик повесить и обманом женщиной завладеть?
— Коли нравится мужчина женщине — в лесу он её обманет или за овином, или прямо из дому похитит, — всё равно пойдёт она за ним. Большого труда это не стоит. Много ли нужно для этого? Два человека, два коня, две бурки да тёмная ночка. Мужчина ежели провёл ночь с женщиной, никто потом у него её не отнимет, если только Христос с неба не сойдёт… Да и женщина обратно не свернёт. Защитит она мужа своего: по своей, мол, воле пошла, и всё тут! Так-то, душа моя. Если что надумал, поторапливайся, потому как красивый товар долго не залёживается. Чего онемел!..
— Н-не знаю, — протянул я нерешительно.
— Только одно вот меня смущает, надеюсь ты про это слыхал? Когда похищают девушку, приданого за ней не берут.
— Пустяки это! Такой девушке приданого не нужно. Сама она, как икона святая.
Хотел я произнести её имя, но не смог. Говорят, что имя любимой всегда трудно произносить.
— Ты прав, такой девушке и вправду приданое ни к чему, — вторил мне сват. — Когда, говорят, в руках у тебя слиток золота, ни к чему за серебряной мелочью гоняться.
— Истинно говоришь, батоно!
— Сдаётся мне, мысль эта тебе по душе пришлась, — женщину похитить!
— Хорошо бы, да страшновато однако.
— Чего ты испугался, парень?
— Как чего? А если в погоню за мной пустятся, что тогда?
— И-и! Такой молодец, а погони испугался. Что это за похищение, если погони следом не будет? Обязательно должна быть. Главное тут следы запутать. Не беспокойся, никто тебя не догонит. В этом деле ты на меня положись. У похитителя, говорят, одна дорога, а у преследователей — тысячи. Уж я так их запутаю, что собственную судьбу проклянут… Ты только решайся, а остальное я на себя беру. Ну как, согласен? Я тебя не неволю. Поступай, как ум твой тебе подскажет.
— Эх, будь что будет! Видно, такова моя судьба! Не хочу я без жены стариться.
— Верно. Только уговор — никому ни слова, понял? Иначе всё пропало!
— Да что ты, батоно Арета, не ребёнок я.
— Об этом только трое должны знать: ты да я, да крест святой. Пойду-ка я да с девушкой покалякаю, узнаю у неё, как да что. Если девушка не согласится, тогда нам уже сам бог и тот не поможет. Не верю я, однако, чтобы рыбка золотая на удочку не попалась. Такие дела мне всегда удаются. Надеюсь, ты мне доверяешь?
— Не только доверяю, батоно Арета, прошу тебя, умоляю, помочь мне в этом деле, а уж потом проси чего захочешь, головой соль тебе толочь буду. Правильный ты мужик, батоно Арета.
— Уж очень тебя, как я погляжу, любовь обожгла.
— Не сожжён я ею пока, но опалён порядком.
— Ну, милый, женское прикосновение для твоей опалённой груди бальзамом будет целительным. Уж это я точно знаю.
Через три дня сват прокрался ко мне во двор, словно вор. По лицу его никак я не мог догадаться, как идут наши дела.
— Ну что, парень или девка? — только и спросил я.
Он же, пока мы не вошли в комнату, не проронил ни слова.
— Чего ты испугался, Караман? Побледнел-то как. Успокойся. Девушку я так заговорил, что согласна она. На край света, говорит, за ним пойду.
— Правда?
— Стану я тебя обманывать! Давай-ка лучше подумаем, как дальше быть?
— Я в твоих руках, батоно Арета. Сделаю всё, как скажешь.
— Не беспокойся, дорогой, ты в надёжных руках. Найми-ка ты двух хороших коней, лучше чёрных, ночью незаметней будут. Бурки накинем… Ежели в нас выстрелят из пистолета, пуля бурку не пробьёт.
— А дальше?..
— Ты будешь ждать меня с лошадьми у мельницы, что поблизости от дома Омана. В полночь обойду я Оманов дом и прокрадусь к окошечку, где девушка спит.
— А что, Пасико и Цицино разве не вместе спят?
— Нет.
— Она, твоя голубушка, прыгнет прямо ко мне в лапы. Заверну её в бурку и к тебе притащу. Ты с ней к ручью поскачешь, а я у мельницы подожду. Знаю, погоня тут же начнётся. Как услышу крики, выхвачу оружие да прямо по другой дороге поскачу… Преследователи, конечно, за мной увяжутся, да уж как-нибудь улизну.
— Девушку я должен домой что ли привести?
— Ты что, спятил? Спустись к долине Баракони. Знакомы ли тебе те места?
— Конечно, там мтиульские виноградники разбиты.
— Молодец! Наблюдательный ты.
— Как же, там в виноградниках у некоторых даже марани имеются.
— Ну, да ты лучше меня, оказывается, всё знаешь. Так вот, на берегу Риони шалаш моего двоюродного брата стоит, там и проведите ночь, а утром и я туда прибуду.
— Дай тебе бог счастья!
— Помнишь, что я тебе говорил. Приведёшь туда женщину, поступай с нею, как я тебя учил.
— А чему это вы меня учили? Не припомню я что-то.
— В давильне там сено валяется, опрокинь на него девушку и… И её согрей, и сам согрейся, да не мешкай, чтобы не простыла, ветер-то ведь, знаешь, с Риони холодный дует! А потом уж никто у тебя женщину не отнимет. Плакать начнёт, ты этим слезам не верь; женщины они всегда так умеют… поступай с ней, как мужчина, понял? Не любят они трусливых да нерешительных. Вспомнишь, потом мне спасибо скажешь. Ну как, нравится тебе план?
— Соломон Мудрый умнее бы не придумал!
— Ну, раз так, я пошёл и буду в субботу, а ты всё загодя приготовь, да смотри, чтобы уж точно!
— Не беспокойся, батоно Арета, всё будет сделано, как надо. Куда ты заторопился? Выпили бы по стаканчику.
— Потом, потом, когда у тебя в доме хозяйка появится. Ну, будь здоров!
С нетерпением ждал я субботы. По утрам бесцельно по двору бродил, а ночами в постели вертелся, как на раскалённых углях.
Если человека сон одолевает, ему и камень, как вы сами знаете, пухом кажется, подо мной же перина пуховая, а сна ни в одном глазу. От отца моего ещё слыхал я, что человеку от двух вещей не спится — от радости большой и от горя. Не знал я тогда — радоваться мне или печалиться. И то и другое меня одолевало. Радовался, что такая красавица согласилась моею стать, а печалился оттого, что сомнения меня одолевать начали, вдруг, не приведи господь, откажется она, слово данное нарушит. В душе моей и ад, и рай поселились, и не мог я представить себе, что дальше со мной будет.
— Господи, — взывал я к отцу небесному, — вразуми меня, сделай хоть на миг всеведущим, чтобы мог я догадаться, о чём сейчас бесценная моя думает.
Говорят, настоящая любовь всегда несёт с собою страдания. Истинно, дорогие, так это. Но в то же время я даже бессоннице своей радовался, так как образ Цицино неотступно у меня перед глазами стоял. Бедный тот человек, который никогда в жизни любви не испытывал. От страданий ещё милей мне Цицино стала.
На исходе недели пустились мы в путь. Сторонились большой дороги, всё узенькими тропинками пробирались. К вечеру подъехали к лесной опушке, отсюда село виднелось, как на ладони. Остановились. Расседлали лошадей, ещё в самом начале пути я для смелости вина немного выпил и теперь в такое хорошее расположение духа пришёл, что стал лошадь свою ласкать да миловать, только что морды её не расцеловал. Солнышко напоило мир шербетом, а само закатилось. Деревня, измученная тяжёлым трудовым днём, уснула, как пьяная.
— Есть у тебя кресало? — строго спросил меня сват.
Я почувствовал, что он улыбается в темноте.
— Да, захватил. В последнее время я чего-то к табаку пристрастился.
— Дай сюда! — приказал он мне, и я почувствовал, что улыбка сошла с его лица.
Пошарил я у себя в кармане и протянул ему кисет с кресалом. Он зашвырнул его куда-то далеко в глубь леса.
— От предосторожности, парень, голова не болит. Если ты тут курить начнёшь, лопнет наш план. Свет в лесу издалека видать. Не дай господи, заметят нас, и прости-прощай тогда всё!
— Как же мы в темноте дорогу найдём?
— Пусти коня, он дорогу лучше тебя отыщет. Для него ведь что днём, что ночью — одно и то же, половина ведь ночи лунная.
Блаженный дедушка мой частенько говаривал: «В семье удавленника не упоминают про верёвку». Упоминание о луне, об этой обманщице, вонзилось колючкой в моё сердце.
Вскоре и вправду луна из-за туч высунулась. А звёзды на небе при её появлении прищурились.
— Да, — вспомнил Арета, — ты, пожалуйста, чуть ниже сверни, дорога тебя прямо к реке и приведёт. Там река на девять ручейков разветвляется и теряется в отмели. Смотри, не заблудись. Удачной тебе дороги! Держись молодцом да помни, хорошая девушка с неба не падает.
Ночь притаилась на вершинах гор, а луна, закрытая облаками, едва светила.
Ручей совсем обмелел, так что мышке на мельнице делать было нечего. Действительно, место для осуществления нашего замысла было превосходное. Проехали мы по тропинке, обсаженной ясенем, и чёрных коней к деревьям привязали.
— Ну, я пошёл, — прошептал сват, и чёрная бурка его растаяла в ночной мгле.
Вокруг ни души, только издали шум реки доносился. Делать мне было нечего, сел я и прислушиваться стал. Звук реки казался мне то колыбельной песней, а то стоном или плачем. Словно все голоса жизни взвалила себе на спину река, как мешок, и тащила их в ночи. А луна-обманщица играла с небом и землёю в прятки, украдкой выглядывала из рассыпавшихся по небу облаков. Вдруг луну большое облако похитило, да так быстро, что не успел я и глазом моргнуть, показалось мне, что само небо прищурилось.
Говорят, что луна бывает доброй хранительницей тайн, а иногда и отвратительной предательницей бывает. Сейчас ещё для меня она ни тою, ни другою не была.
Сват задерживался. Чего я только не передумал! Надежды мои на светлячка были похожи, то загорались они, то меркли. А кони мирно травку пощипывали. Минуты мне вечностью стали казаться. Тогда-то я понял, что ничто с ожиданием не сравнится. Кругом было очень тихо, и от этого шум реки слышался ещё сильней. Где-то вдруг закричал выскочка-петух, решив, видно, что возвещает рассвет. Не знал, бедняга, что это луна-обманщица его с толку сбила. В полночь тучка какая-то спеленала эту обманщицу и за гору потащила. Обрадовался я, словно чуму от меня отвело, и благословил появление тучки этой.
Остались мы совсем одни: я, ночь, да шум реки. А сват всё не появлялся. Рассердился я, нашёл большой камень, уселся на нём как на стуле, буркой прикрылся и задремал.
Не знаю, сколько я спал, как вдруг услышал голос свата.
— Эй, Караман, где ты там?
Вскочил я, словно холодной водой облитый, и как закричу.
— А-у!
— Тише, чего орёшь-то, заснул небось? — появился из темноты сват. — Тоже мне похититель, соня ты, вот кто! — сказал он насмешливо.
— Как так соня, кацо! Притаился я просто, — стал я оправдываться. — Один ты, или как?..
— Раскрой глаза получше, парень. На, получай! Этого ангела бог специально для тебя создал. Желаю состариться вместе в любви да сладости и ныне, и во веки веков, аминь!
Вместо того, чтобы забрать у Ареты драгоценную добычу, схватился я вдруг за сердце, чуть было из груди у меня оно не выскочило.
— Скорее, увалень, светает уже.
— Чтоб для наших врагов никогда не рассвело!
Сват подвёл ко мне закутанную в бурку девушку, схватил я её как божий дар и в упоении прижал к груди.
— Э-э, кацо, что это у неё лицо башлыком перевязано? — спросил я в разочаровании.
— Да, лицо я ей башлыком закрыл, а руки концом его перевязал. Так-то надёжней, от предосторожности голова ведь не болит… а вдруг ей закричать захочется, тогда как, а?..
— Это, конечно, правильно, но…
— Что но, не задохнётся, не бойся. Ах ты, разбойник, тебе бы сразу целоваться. Потерпи немного, успеешь ещё. Предупреждаю тебя, не развязывай башлыка, пока на место не придёте, — наставлял меня сват.
В это мгновение драгоценная ноша казалась мне легче пёрышка. Наконец-то смилостивилось надо мной небо, дождался я своего счастья!
Через минуту я уже сидел на коне, а рядом со мною сидела девушка. Для неё я заблаговременно второе седло приспособил, я ведь мужчина сообразительный.
— Скачи, чего ждёшь? — торопил меня сват.
— Батоно Арета, в этой суматохе я шапку потерял, может, найдёшь…
— Кто в такое время про шапку спрашивает, парень? Тут в пору голову потерять. Скорее! Чего мешкаешь? А то ведь и вправду голову потеряешь.
— Позор-то какой без шапки, шапка ведь, знаешь, поди…
— Знаю, знаю, снимешь потом у девушки башлык и закутаешься! Только быстрее уезжай, не тяни! Да помни, женщины смелых любят. Сперва сердиться станет, а уж потом плющом обовьётся. Храни тебя бог! Поезжай с миром.
— А ты разве не с нами?
— А кто же тебя прикрывать будет? Того гляди погоня нагрянет, забыл, что ли?!
Я пришпорил коня и помчался во весь опор. Пересекли мы ручей и в поле выехали. Как только деревню миновали, послышался одинокий выстрел, но был он так слаб, что даже эхом в горах не отозвался.
«Вдруг это в Арету выстрелили?» — подумал я, но тут же успокоился; не так-то легко всадника настичь в темноте выстрелом. Да и бурка защитит…
Крепко держу я девушку, к себе прижимаю, знаю, никто её у меня отнять не сможет, никто меня не одолеет.
Эх! Жив был бы сейчас дед мой блаженный, видел бы он меня, какую женщину я себе добыл!
А девушка молчит, звука не издаёт и вовсе, не потому, видимо, что рот у неё башлыком завязан, нет! Скорее всего от страха молчит.
— Не бойся, генацвале, со мной тебе бояться нечего! Пули нас не настигнут — бурка не позволит, и никто тебя отнять у меня не сможет!
Где-то вдалеке снова выстрел прозвучал. На этот раз горы откликнулись.
«Может, это Арета из пистолета палит, у него ведь он за поясом торчал», — подумал я.
Но стрельбы больше не слышно. Я ещё крепче прижимаю к себе девушку, рукой обхватываю её талию.
Наконец опасность миновала. О как хочется мне увидеть испуганные глаза Цицино, которая мне дороже всего на свете. Но между нами ночь, и она мешает мне, — ночь и башлык!..
Девушка вцепилась в меня. Ну, а я — мужчина же я в конце концов! — терпел, терпел, а потом взыграла во мне кровь, забурлила в жилах, заколотилось в груди сердце, словно дружки на конях в бешеной скачке понеслись со мною рядом на свадьбу.
Наконец мы достигли отмели, на которой река растекалась ручейками. Проскакав отмель, я почувствовал себя, как дома, и совсем успокоился, расслабил поводья и пустил лошадь шагом.
— Всё ещё боишься, ангел мой? — спросил я девушку. Она в ответ издала короткий стон и затрепыхалась, давая мне понять, что пора её освобождать из плена.
Я освободил ей связанные концами башлыка руки, крепче обвил её стан рукой и теснее прижал к груди. Девушка присмирела, как перепёлка. О, боже! Неужто бывает что-нибудь слаще этих мгновений?
«Нет, — думаю, — не солнце, конечно, даёт земле жизнь, а вот это тепло, — сладостное и трепетное, — и кровь моя, несущаяся скаковой лошадью, вскипающая волнами, бьющаяся о пылавшую грудь девушки».
Девушка дрожит.
— Неужели боишься, божество моё?
— Да… — лепечет она и горячо обнимает меня за шею. — Да, да…
Я понял, что она жаждала того же, что и я, — и приподнял с её лица башлык. Мои дрожащие губы встретились с её устами. Найдя их, я уже не отрывался от них и даже чуть было не потерял сознания.
Целую я её, ласкаю, и чудится мне, будто у меня выросли крылья и я вот-вот унесусь в поднебесье.
Девушка тоже крепко прильнула к моей груди, словно её ко мне припаяли. Я пил нектар из её уст: — нет, не девичьи это губы, а нечто раскалённое, как железо, которое Адам Киквидзе достаёт из огня. Но только это железо не жгло меня, а заставляло бурлить мою кровь, и я чувствовал себя, словно в блаженном сне.
«Боже, даже ради одного этого мгновения стоило мне родиться на свет. Оттого, наверное, и называют человеческую жизнь быстротечной, что в ней бывает лишь одно такое мгновение. Так вот, оказывается, каковы они, женские уста! Благодарение тебе, боже, за то чудо, которое ты сотворил!»
Вот теперь-то я окончательно уверовал в бога и почувствовал неодолимое желание бить челом перед его изображением. Когда ещё со мной такое было, чтобы ежеминутно я о нём помнил?! Бывает, наверное, когда бог и сам о себе забывает! А меня, положа руку на сердце, эти ласки довели до такого состояния, что я самому себе казался богом, восседавшим над облаками, или же, по крайней мере, его ближайшим другом и побратимом… Казалось, вот-вот оторвусь я от земли и вознесусь со своим ангелом в поднебесье…
Я теперь удивляюсь, как же мне удалось, в том любовном дурмане удержаться в седле и не грохнуться на землю. Спасибо лошадке, она у меня оказалась на редкость сообразительная. Словно поняв, что происходит со мной, лошадь замерла на месте, не шелохнувшись. А ещё, говорят, у скотины разума нет и сердца!.. Чего бы я только не отдал, чтобы хоть во сне ещё раз пережить то мгновенье! Но сны, видать, не повторяются, как и заветные минуты!
Девушка не издавала ни звука. Её, как и меня, видно, тоже одурманил и закружил ей голову первый поцелуй. И вдруг, не услышав её дыхания, я страшно перепугался: не задохнулась ли она, точно мышь в бочке мёда? И оторвал свои губы от её уст.
Помнится, Пасико мне не понравилась ещё и оттого, что я подумал: «Небось, своими губами она навсегда может заморозить человека». А вот в том, что поцелуи Цицино источают сладость и аромат, я нисколько не сомневался.
— О, прекрасная, душистая, как розовая вода, смотри, не задохнись! — и я погладил её по голове. — Отдохни немного, луч солнца, соперница луны… — Но тут слова застряли у меня на губе, которую я крепко прикусил.
Ах, чёрт! Ведь я только вчера с таким трудом избавился от луны! Как это дьявол меня попутал обмолвиться? Тьфу, сатана!
А помянув про луну, я тотчас же вспомнил и Кечо:
«Балбес ты несчастный, — думаю я, — смылся и решил, что я опущу руки? Небось, завтра же, когда моя Цицино выйдет во двор, что перед самым твоим носом, ты взглянешь на неё своими бестолковыми глазищами и лопнешь от зависти. Ещё бы! Твоя Теона не ровня ей. А впрочем, чёрт с тобой! Хорошо ещё, что вовремя тебя отшил! Не будь дурного твоего глаза, я б давно уже нашёл свою судьбу… Зато теперь, смотри и давись от зависти. Не бойся, на свадьбу позову, чтоб хорошенько тебя позлить. А то ведь найдёшь залежалый товар и в жёны мне прочишь! А почему? Да потому, что не хотел, чтоб мне досталась жена краше твоей. Ан нет, не вышло, миленький! Думал обмануть меня хитростью? А я не так-то прост, меня не проведёшь! Эй, Сакивара! Приготовься! Караман Кантеладзе везёт свою солнцеликую!»
Нечего и говорить, что Сакивара не слышала моего бодрого призыва; во-первых, я был от неё далеко и держал путь совсем в другую сторону, к шатру, что возле бараконской церкви на берегу Риони, а во-вторых, — всё это я кричал в своей душе.
Уж запестрел купол небосвода, когда я остановил коня у шатра. Ловко спрыгнув, я тотчас же поспешил на помощь своей прекрасной царице. Взяла её на руки, чтобы не оскорбить подошвы её ног прикосновением к земле, я внёс её в шатёр и, закутав в бурку, уложил в давильню. Потом вышел к коню, который послушно стоял на месте, привязал его к дереву и, вернувшись в шатёр, запер дверь на засов.
Нет, не бойтесь, я вам не наскучу рассказом о том, что произошло той ночью в шатре. Это вы и сами без труда поймёте.
Я благословлял бога за то, что он сотворил ночь. Продлись, продлись ночь безумного счастья!
— Тебе не холодно теперь, Цицино?
Девушка издала стон и так сильно обхватила мою шею руками, что я чуть не задохнулся.
И вот, наконец, почувствовав себя прошедшим сквозь огонь и воду, я насмешливо подумал: «Ну, теперь можешь пожаловать, господин мой Оман, милости просим! Попробуй отнять у меня похищенную!»
В шатре было единственное узенькое оконце. Прижавшись к нему лбом, я увидел: звёзды постепенно угасали и приближался рассвет. Предутреннюю тишину нарушали тихий шелест листьев да негромкое ворчание реки.
Стало зябко от предрассветной сырости, и я, снова скользнув под бурку к Цицино, согрелся рядом с ней и задремал.
Разбудило меня лошадиное ржанье. Я открыл глаза. Под буркой была беспросветная темень. Высунул я из под неё голову, — всё равно ни зги не видно. Поднялся из давильни, и вот тогда-то свет из окошка резко стеганул по моим глазам, ослепил меня и взор окутало молочно-белой мглой. Я зажмурился и попробовал открывать глаза постепенно. Белая мгла рассеялась.
Я распахнул дверь: конь стоял понурив голову, ночь давно уже сложила крылья, а звёзды с неба куда-то запропастились. Вокруг ни звука. Проснувшееся солнце только-только протирало глаза. Бараконская церковь с задумчивой грустью взирала на окрестные дали.
— Рассвело! Вставай, моё солнышко! — сказал я и тронул бурку.
— Боюсь! — ответило солнышко из давильни.
— Чего, мой ангел? Всё уже позади! Теперь нас с тобой никто не разлучит, если даже сам Христос с неба спустится!
Бурка заколыхалась. В устоявшейся в давильне плотной темноте передо мною возникло сначала очертание головы, и только потом я различил глаза.
Жуткие рыбьи глаза! Пустые и холодные, лишённые всякого смысла. Да, это мне в тот миг так показалось!
Случается счастье, в которое не веришь, но приходит порой и беда, в которую тоже не можешь поверить. Тогда мы тотчас же закрываем на неё глаза и тешим себя мыслью, что всё это сон. Такое вот и стряслось со мной. Крепко зажмурившись, я открыл глаза, снова закрыл, и вновь открыл:
— Женщина, кто ты?
— Всю ночь вздохнуть мне не дал, а теперь не узнаёшь?
Я не поверил не только глазам, но и ушам своим. «Не иначе, как всё это мне чудится, — подумал я, — такое ведь может привидеться лишь во сне, — и это, конечно, сон».
Я ущипнул себя — больно. Нет, думаю, какой же это сон? Горе, трижды горе тебе, Караман! Думал, что прошёл сквозь огонь и воду, а тебя, несчастного, поджидала великая беда.
Я попятился, дикими глазами уставившись на торчавшую из давильни женскую голову. Нет, глаза не обманывали меня: передо мною была вылитая обезьяна с поганой рожей. «Неужто это исчадие ада я ласкал и целовал всю ночь? Почему я не ослеп, если суждено было мне увидеть это уродство?» И недавние поцелуи тут же вызвали во мне тошноту и отвращение. «Ах, лучше бы совсем не рассветало, — с ужасом думал я, — и я бы отправился на тот свет, храня на губах вкус опьяняющих ночных поцелуев. Мне больше уж ничего не надо было от жизни! Ах, Арета, Арета, попадись ты мне сейчас, я ощипал бы тебя, как воробышка! Впрочем, всё это ведь не только твоих рук дело, тут без участия девушки ничего бы не вышло!»
Что ж мне теперь, думаю, делать? Великая беда, как и большое счастье, омрачает рассудок. И я, опять взглянув на торчащую из давильни голову женщины, как безумный, выбежал из шатра.
Есть люди, которые одинаково смеются и на свадьбе, и на кладбище. Что же касается меня, то я, обычно, вовремя умел посмеяться и вовремя поплакать. Однако на этот раз слёзы мои не наполнили Риони и не превратили реку в море. Из глаз моих не пролилась ни одна слезинка. Но если б мои слёзы не текли прямо в душу, их потоки не только бы переполнили Риони, но и затопили бы весь мир.
Окаменей моё сердце, если не хочешь, чтобы беда извела тебя вконец!
Горе испепелило моё сердце, и мне даже показалось, что и Риони стонет, как моё сердце, что горюет мой конь, и что скорбят вместе со мной небеса и земля. Это сочувствие, это понимание непоправимой моей беды пролилось мне на душу бальзамом, и я почувствовал некоторое облегчение.
И вот уже солнце по-иному взглянуло на меня, словно застыдилось от сознания своей вины и, покраснев, стало уверять: «Всё, что произошло минувшей ночью, случилось оттого, что я долго давало храпака».
Совсем недавно я видел сон: меня собиралась укусить лиса, я поймал её, размозжил ей голову большим деревянным молотком, содрал с неё шкуру и… на руках у меня оказалась голая женщина… Живая, конечно. И вот, вспомнив в ту минуту об этом, я подумал: сон в руку. И я поверил тогда в мудрую народную поговорку, гласящую, что женщина родилась на две недели раньше дьявола. Воистину это так! А я-то ещё удивлялся, что-то уж слишком легко покорилась девушка моей воле! Обманули тебя, Караман, ох, как обманули!
Нет, этого я не мог так оставить. Я должен был кого-то убить, задушить!
Вошёл в шатёр. Она уже сидела на скамеечке, зарывшись лицом в ладони. Не знаю, с перепугу, или ей было холодно, но её била сильная дрожь. Это несколько поубавило мой пыл. Но всё же я с отвращением бросил ей:
— Ну что, обманула меня, обезьяна?!
— Своё получил, так уже обезьяной стала?! А ночью, когда обнимался, я красивая была?! — всхлипнула она.
— Молчи, молчи и не поминай про прошлую ночь! Не распаляй мой гнев, страшила!
— Пусть бараконская икона тебя проклянёт! Ночью всё твердил, что я сладка, как мёд, а теперь я, оказывается, страшилище? И впрямь ошиблась, что снизошла до такого недостойного, как ты! Кто тебя просил, если ты меня не хотел, а? Арета убедил меня. «Караман, мол, просит передать, что и дня без тебя прожить не может…»
— Дура ты, разве я тебе просил это передать? Зарежу, как курицу, а потом иди, обманывай рыб в Риони!.. — И я схватился за рукоятку кинжала.
Девушка бухнулась на колени и обняла меня за ноги…
— Клянусь всевышним, не знала я, что в душе у тебя другая… Ты только не убивай меня, а я всю жизнь буду тебе послушной рабой.
— Меня не проведёшь! — грозно рявкнул я.
— Тогда убей! На, убей, чего ждёшь? — крикнула она и подставила мне грудь. — Мне и того достаточно, что я приму смерть от твоих рук. Ну, что же ты тянешь? Обнажи кинжал и рассеки мне пополам сердце! Не бойся, оно, даже рассечённое, всё равно будет верно тебе. Не прокляну, нет! Мою любовь к тебе я унесу на тот свет!.. Если я виновата, то только в том, что полюбила тебя с первого взгляда… Любовь требует жертв… Ну, чего же ты медлишь? Убивай!.. Одно тревожит меня: может быть, вместе со мной ты убьёшь и своего ребёнка…
Кровь застыла у меня в жилах, а рука примёрзла к рукоятке кинжала.
Я долго стоял, не шевелясь.
Затих шатёр. Умолк и шум воды… Вдруг в дверь шатра осторожно постучали.
— Не бойся, Караман, это я, Арета!
— Арета?
Известное дело, человека нередко можно довести до того, что он становится страшней лютого зверя. Кровь снова бросилась мне в голову, и я, рассвирепев, повернулся к дверям.
— Арета, уйди с глаз долой, иначе я насажу тебя на кинжал, как шашлык.
— Да ты что, ошалел, что ли?! — удивился он, — ступай испей холодной водицы из Риони и успокойся!
Одному богу известно, что в тот момент я с большим бы удовольствием выпил тёплой крови своего свата!
— Арета, как мужчина, предупреждаю тебя, уходи! Я чую запах крови!..
— Чьей крови, зятёк? Что за вздор ты там плетёшь?
— Слушай, сват! — подступил я к нему вплотную, — то, что у тебя нет подбородка, это весь свет знает, но теперь я вижу, что у тебя и совести нет. Ты только и годишься на то, чтобы насадить тебя на кинжал, изжарить и бросить твоё поганое мясо бешеным псам!
— А сырое они не съедят? — ехидно спросил он. — Знаешь что, Караман, дорогой, брось-ка ты эти глупые штуки и лучше соберись с умом, пока разгневанный Оман не нашёл тебя и не отнял с таким трудом похищенную девушку.
От невозмутимого спокойствия свата я ещё больше разгорячился. Клянусь, что погрузись я в это мгновение в холодную Риони, река бы закипела. От его откровенной наглости язык мой прилип к гортани, и я не смог вымолвить ни слова.
— Не ерунди, Кантеладзе, — продолжал он, — что, девушка сбежала от тебя в дороге?!
— Арета!.. — я бросил одно это слово, но сколько в нём было пылавшей ярости!
Арета заглянул в шатёр.
— Ба! Да она здесь! Здравствуй, Пасико! — он почтительно склонил перед ней голову и снова повернулся ко мне: — Будет! Не одними же шутками кормиться! Ты теперь женатый человек, и от тебя уже требуется больше степенности и выдержки. Да не ворочай, как бык, глазищами! Такую красотку помог я тебе похитить, подарил тебе радость, достойную царевича, а ты ещё недоволен? Ну, хватит хмуриться, иди, поцелуй меня в лоб!
— Да в твой бесстыжий лоб пулю надо всадить!
— Так, значит, не хочешь отблагодарить меня за труды и теперь ищешь причины поссориться? Теперь вы вместе, жених с невестой, своего добились и решили обдурить меня? Вы так своих детей обманывайте, когда они будут у вас, а я вам не лялька, меня не проведёшь! Я в своём деле собаку съел! Плюнь мне в лицо, если я не получу своего!
— Чтоб до этого в твоём дворе собака не залаяла, петух не пропел да очаг не загорелся, пока тебе Караман даст что-нибудь!
— А вот видишь? Говорил же я! Значит, ты, зять, хочешь плюнуть мне в душу?
— Ты и плевка недостоин! — но огонь ярости потух уже во мне и бешено колотившееся сердце моё чуть успокоилось, и я печально произнёс: — Что же ты со мной сделал? Не стыдно тебе перед богом?
— Что произошло, Караман? Скажешь ли ты мне наконец?
— Чтоб тебя сразил гнев святого Георгия! Ты ещё спрашиваешь? Думаешь, Караман глупее тебя? Как будто ты сам не знаешь, что со мной вытворил! Сначала показал мне в реке прекрасную, как радуга, форель, а потом заставил меня выловить эту жабу!
— Господи-боже, спаси и помилуй! — перекрестился Арета, скосив при этом взгляд в сторону бараконской церкви.
— Разве не ты меня умолял: помоги, мол, похитить девушку, и я, глупец, подставив лоб пуле, преподнёс её тебе на подносе. Что же тебе ещё надо?
— Я тебя солнцеликую просил похитить, а не эту бабу-ягу! Где твоя совесть? Кого ты мне подсунул?
— Бессовестных в Кантеладзевском роду ищи! Не пойму только, чем ты недоволен? Кого же ты хотел похитить, тупоумный?
— Кого… Цицино!
— Поглядите вы на этого плутишку! Знает, что у меня нет свидетеля, бесстыжие твои усы! Разве ты хоть раз упоминал про Цицино?
— Так я ж весь вечер вокруг неё вертелся… Неужто надо было кричать об этом?
— Постой, постой! Когда ты пустился в пляс, вспомни, кого ты пригласил?
— Кого… Пасико.
— А потом вспомни, какие ты ей слова пропел? Не оторвусь, мол, от тебя, как бычок от соли! Если ты забыл об этом, то я хорошо помню.
— Клянусь, эти слова были предназначены другой.
— Да ты и вовсе рехнулся, брат! Танцевать с одной, любить другую… Кто тебе сейчас поверит? Ишь, ты! Ложь-то, она на коротких ногах ходит. Впрочем, если Пасико тебе не нравится, никто не заставляет! Могу сделать одолжение, — вручу обратно отцу! Тем более, жаль ему было отдавать тебе именно её, а не Цицино.
— Сделай ты это добро, а я бессовестным буду, если не дам тебе сто золотых монет.
— А может, ты и сейчас бессовестный? У кого же я потом выпрошу сто золотых? Если девушка нетронутая, я её сейчас же и заберу. Отчего бы и нет? И не надо мне от тебя ничего: ни золота, ни дворцов! Только ответь, возвращаешь её такой, какой она была?
— Откуда же я знал?..
— Что? Что? Не хотел жениться, а сам лёг рядом и ещё болтаешь о совести?
— Ночь была и…
— Ну и что с этого? Хочешь, чтоб её отец меня убил и тебя прикончил? Ведь Оман на весь белый свет славится, как честный человек!
— Арета!..
— Эй, Дианоз! С той стороны обойди, здесь они! Быстрей! Как бы не убежали! — послышался в это время голос Омана.
А вскоре показался и сам он. Соскочив с коня, отец Пасико бросился к шатру и обнажил длинный кинжал, сверкнувший на солнце.
— Караман Кантеладзе! — завопил он. — Ты осрамил, опозорил меня на весь белый свет! Обесчестил мою семью! Раз так, пусть кинжал рассудит нас с тобой!
Я не успел даже дотронуться до рукоятки своего кинжала, как Пасико в мгновение ока закрыла меня своим телом, а потом бросилась перед отцом на колени и стала его молить:
— Меня убей! Я одна во всём виновата! Караман ни при чём. Я полюбила его и… согласилась… я, я виновата!
— Всех истреблю! — орал Оман и вертел в руке кинжал.
Я, остолбенев, смотрел на эту картину, стоял как вкопанный и ждал, что произойдёт. Теперь мне было всё равно.
Когда отец гневно воззрился на свою дочку, её заслонил Арета, бросился на колени перед Оманом. Он чуть не плача, стал его уверять:
— Это я во всём виноват, батоно Оман! Они здесь не при чём, я совершил это неправедное дело, только я! Не думал я, что вы так страшно обидитесь!
Оман слегка остыл:
— Сволочь ты, мерзавец, разве я тебе не говорил, что не отдам дочку за такого лодыря? А ты всё же по-своему решил? Разве после этого у тебя не должны отсохнуть ноги, если ты переступишь порог моего дома? Разве тебе не стоит выжечь глаза, когда ты глядишь на меня. Ну что же мне с тобой делать, негодяй?
— Ваша воля, батоно! Хоть убейте! — испуганно таращил глаза Арета, а сам прикрывал грудь буркой, чтоб она, если Оман замахнётся, послужила ему панцирем…
— Эх, — вздохнул Арета. — Все кругом недовольны! Да, под несчастливой звездой я родился: с одной стороны, зять грозится, с другой, тесть хочет меня зарезать! Так мне и надо! Какого чёрта я связался с этим делом?
— Заговор против меня устроили? — бушевал Оман. — Сначала на весь свет опозорили, а теперь, мало того, — хотите, чтоб я ещё запачкал руки в крови? За всю свою жизнь я муравья не тронул, а теперь вы хотите, чтобы я стал убийцей? Впрочем, что мне с посторонних-то спрашивать, когда вот она — главная виновница. — И ткнул пальцем в дочку. — А ну-ка, длинноволосая и короткомозглая, вон отсюда! Я с тобой дома расправлюсь! Научу тебя уму-разуму, будешь у меня от отца без разрешения убегать. Цепью тебя свяжу, проклятую!
— Не вернусь я больше домой! Не вернусь!
— Насильно заберу!
— Уже нельзя мне домой, грешна я…
— Что? Грешна? Успели? Боже, что это я слышу?! Ославила меня на весь белый свет! К чему мне теперь жить? Кончено всё! Ты больше мне не дочь! Отныне ты больше не переступишь порога калитки Омана Чаладзе! Ты для меня мертва! И никому не говори, что я твой отец! Знаю, горе доконает меня и я скоро умру, так смотри же, не смей плакать по мне, иначе я выпрыгну из гроба и задушу тебя! Отныне и ты, и твой похититель, вы оба мертвы для меня! — и Оман, со злостью всадив кинжал в ножны, вскочил на коня и поскакал по тропинке.
Перед шатром рыдала упавшая на колени невеста.
— Что же мне делать? Утопиться, что ли? — произнёс я, совершенно обалдев от переживаний.
— Не бойся, — вмешался Арета, — отцы всех похищенных девушек всегда вначале ведут себя так! Вот, как дети пойдут, отец ещё сам напросится в гости да и крестины пышные закатит. А то как же! Одному мне только плохо: никто ничего не даст за посредничество…
— Заткнись, Арета, иначе выкупаю тебя в холодной Риони. Ты думаешь — меня только и беспокоит, как с тестем помириться?
— А что же?
— Как мне теперь с этой несчастной быть?
Услышав это, Пасико зарыдала громче. Её лицо, помятое и измученное от бессонницы, совсем обезобразилось. Другой такой уродки я сроду не видывал и старался не смотреть на неё. Но тут у меня мелькнуло: а вдруг в этой женщине уже спит мой малыш!? — И я снова повернул к ней голову.
О, боже великий! Что ты мог сотворить с женщиной в одно мгновенье! Пасико теперь не казалась мне дурнушкой…
— Ну, хватит, помолчи! Потоки твоих слёз утопят меня! Разве это поможет нашему несчастью? — Я совсем растрогался и заставил её подняться.
— Вставай, осенняя земля сыра.
Пасико оперлась на мой локоть и встала.
— Так и надо, милые вы мои! — обрадовался сват.
— Убирайся, Арета, иначе, клянусь духом отца, весь свой гнев на тебе вымещу!
— И это вместо благодарности?!
— Тысячу лет проживу, а не забуду, как ты меня уважил!
— Да, уж я проиграл своё вознаграждение, но… к чёрту мою буйную головушку! Зато ведь благородное дело сделал! Ничего, бог даст, добро не пропадёт!
— Ступай своей дорогой, говорю!
— Срази меня бог на месте, если сердце моё не наполнено любовью к тебе! — и он несколько раз так ударил себя по груди, что чуть не проломил её. Грудь его издала точно такой же звук, как если бы ударили по пустому кувшину.
— Ступай, Арета, ну же! Так лучше будет для нас! Пойди, обрадуй Кечо! Караман, мол, везёт свою любушку, и приготовься встречать его с факелами!
Мы с Пасико остались одни. Она не вымолвила ни слова, и я молчу. Хорошо ещё день выдался тёплый.
Сидим мы врозь перед шатром и внимаем беспрерывному клокотанию реки. Конь пощипывает осеннюю травку, да иногда поглядывает на нас с удивлением.
Я не чувствую ни голода, ни жажды. Жизнь словно забросила меня куда-то, где не едят, не пьют и где ничего не хочется — даже самой жизни.
Пасико притулилась на пенёчке. Она обняла колени сцепленными пальцами и упорно глядела в землю. Я с омерзением поглядывал на неё.
— Ну, чистая обезьяна!
А в душе, словно кто-то твердит: это мать твоего ребёнка! И тут же, как по мановению волшебника, на моих глазах уродка преображалась и становилась прекрасной…
Не знаю, как на том свете, но что рай и ад существуют и на этом свете, я убедился окончательно.
Сижу, поглядываю на притихшую невесту и вспоминаю её поцелуи. И сладка же была эта обезьяна! Какая же пчела насобирала ей столько мёда?
«Ведь это именно она тебя так целовала», — уверяет меня кто-то в душе. «Неправда, — возражаю я, — вчера на лошади со мной была Цицино».
И никто меня не может переубедить, что это не с уст Цицино я пил минувшей ночью нектар, который потом опьянил меня… Вот тогда-то и подменили мне любимую! Подождём, пока Пасико поцелует меня, тогда и посмотрим, опьянею ли я?
«Что же ты теперь собираешься делать? И нынешнюю ночь провести в давильне?» — снова спрашивает меня кто-то в душе.
«Не знаю, ничего не знаю…»
«Караман, ты всегда так легко подчинялся судьбе! А раз она дала тебе Пасико, то ты и теперь должен проявить мужество и примириться со случившимся».
«Да разве в непротивлении истинное мужество? Я слыхал, что самый отважный рыцарь тот, кто борется с превратностями судьбы».
«Мир сложен и непостижим! Да, настоящее мужество в борьбе, но случается иногда, что ты должен повиноваться судьбе… Не забудь, что Пасико у тебя первая, а…».
«Что?»
«А у тебя две макушки, две! Помнишь, что тебе сказала мать Этери, когда вымыла тебе голову?»
«Да, да!»
«Вот видишь, нет худа без добра!»
Две мои макушки тогда заставили меня проклинать себя, теперь же они принесли мне облегчение и заронили искру надежды. И надежда заорала мне в ухо: «Не стареть же тебе с Пасико, ты сильный человек, временно должен примириться с этим. Небольшая беда не должна тебя сломить. Утешься».
Вот какова жизнь! Одно и то же может стать и горем, и счастьем!
…Поздним вечером я привёз домой похищенную женщину.
Я поцеловал её, и она ответила мне, но не почувствовал ни капельки мёда на своих губах. Тогда я окончательно убедился, что это поцелуи Цицино опьянили меня прошлой ночью. Но что поделаешь, сны не повторяются! И я снова примирился с судьбой.
Заснул я поздно и проснулся на следующий день только в полдень. Протёр глаза и смотрю: лежу один. С ума сойти! Меня от страха передёрнуло всего: «Неужели, — думаю, — всё это мне приснилось? А если нет, то куда же делась Пасико? Взяла и сбежала? Да, должно быть так! Ведь как я обошёлся с ней вчера! Конечно же, она почувствовала себя оскорблённой, чаша её терпения переполнилась и…»
Вай ме!
Я ужасно испугался.
— Пасико!
Никто не отозвался.
Вай ме! Я замер, и вдруг в нос мне ударил запах гари. Понятно! Она подожгла дом и убежала. Ведь если женщина решается на месть, то месть её поистине ужасна!
Я закрыл глаза и представил себя горящим в огне: вокруг бушует пламя, горят доски, утварь, а двери и окна заперты снаружи.
Вай ме! Вот где меня настиг адский огонь. Всё вчерашнее по сравнению с этим показалось мне детским лепетом!
— Пасико-о-о! Пасико-о-о! — заорал я, что было мочи. Теперь мне послышался такой треск досок, какой бывает, если горит крыша.
«Ну вот, — думаю, — значит, огонь перекинулся уже на крышу. — Спасите-е-е! Спасите-е-е!» обезумев от ужаса, закричал я и вскочил. Хотел ещё раз закричать, но язык уже не повиновался.
«Нет, пожалуй, не так жарко, как должно быть при пожаре, я ещё не совсем погиб!»
Осторожно приоткрыв глаза, я огляделся и засмеялся точь-в-точь, как Алекса. Хорошо, что никто не видел, иначе подумали бы, что я спятил.
В очаге весело полыхал огонь и трещали сухие дрова. Вокруг всё было убрано и начищено. В окно назойливо лезло солнце. Сверкал начищенный чугунный ушат, висевший на цепи над очагом. На огне был разогрет кеци и спиной к нему стоял пузатый кувшин. Я почувствовал запах мчади и варёной свинины. Наспех оделся, сунул ноги в мягкие чувяки и вышел во двор. В это время калитка открылась и вошла Пасико… На плече она несла мокрый кувшин. Голова её была повязана косынкой. Она шла неторопливо, задумавшись.
— Послушай, — удивился я, — откуда ты знаешь, где у нас родник?
— А здесь и знать нечего! Если даже никого и не встретишь по дороге, всё равно гуси приведут. По утрам они туда только и спешат.
Великолепный ответ! Ей-богу, достойный меня.
Вскоре я вкусно позавтракал.
День был тёплый, дел у меня никаких не было, и я, поставив перед домом во дворе скамеечку, как старик, подставился солнышку. Потом, отогревшись, стал гулять по двору, а сам одним глазом посматриваю на дом Лукии. Интересно, думаю, узнали ли они уже о моих делах и что об этом думают!
Смотрю — оба моих свата идут вместе и о чём-то разговаривают. Я спрятался за амбарным столбом и слышу:
— Ты это про дочь Омана, моего однофамильца, говоришь? Как же не знаю? Ну и что Караман?
— Да то, что понравилась ему Пасико, и он её похитил.
— Похитил Пасико?
— Да!
— Ух ты! Гляди какую девушку отхватил!
— А что, не нравится?
— Как же не нравится! К тому же ещё и однофамильцы мои! Да и девушка сама такая, что на ней не только жениться — молиться на неё надо, как на икону. Да! Осчастливил ты человека!
— Что-то я сомневаюсь, чтобы она тебе очень нравилась!
— Больше чем нравится… Да ведь Караман наш такой сладкоречивый, что он и дьявола может соблазнить, не то что красавицу. Молодец! Но всё же и ты, наверное, подбросил в огонь дровишек, неправда?
— Я ему совсем не нужен был… Твой Караман такой человек, что если его бросить в бурную реку, да ещё тяжёлый камень к ноге привязать, он всё равно поймает золотую рыбку и выплывет.
— Да уж я знаю, как ты бросил его в реку с камнем на ноге и помог выловить золотую рыбку. В своё время меня он не послушался и… Эх! — Кечо махнул рукой, отвернулся от Ареты и зашагал к дому.
— Ты куда, Кечо? Не пойдёшь разве к соседу, не поздравишь его?
— Не время сейчас! Пусть сначала привыкнет! Эх, Арета! Что же ты наделал, безбожник? Что ж с того, что он сир и одинок, как перст, неужто трудно было пощадить его? — упрекнул напоследок спутника Кечо и, шумно распахнув калитку, вошёл к себе во двор, качая головой.
— Караман! Эй, Караман! — услышал я голос Ареты.
— Чего тебе надо, нехристь ты этакий? И здесь меня не оставляешь в покое? — бросил я ему вместо приветствия, выходя из-за своего укрытия.
— Вот она, благодарность! Из-за тебя Оман мне чуть пулю в лоб не всадил, потом кинжалом хотел меня зарезать, а ты…
— Сволочи вы оба, и ты, и твой Оман. Вы же обо всём договорились! А ты-то думаешь, раз я делаю вид, что ничего не понимаю, то я и в самом деле не догадался?
— О чём ты мог догадаться, дурень?
— О том, что когда ты выстрелил в воздух, мол, в преследователей стреляю, сам одним этим выстрелом помог Оману убить трёх зайцев… Помог ему сбыть дочку — один, избавил его от расходов — два, а третий — дал ему сберечь приданое. Не так ли? Иначе как это он вдруг сразу появился в шатре? Неужто сам по себе напал на наш след? Негодяи вы оба и мошенники! И не только вы, но и… — Только я замахнулся кнутом, чтоб хлестнуть Пасико, сердце моё вдруг обмякло и не разрешило этого сделать. И я проглотил, как слюну, повисшее на кончике языка слово. — Уходи отсюда, Арета, подобру-поздорову, уходи, пока цел!
— Так ты не помиришься со мной?
— Нет, если даже отдашь мне столько золота, сколько мы оба весим, да ещё подаришь всё своё имущество. Уходи прочь и не подливай масла в огонь. Теперь я твой кровный враг и… не заставляй меня пойти на тяжкий грех, посторонись!
— Вдобавок и смертью угрожаешь? — засмеялся сват.
— Да! Если даже меня понесут мёртвого, упрусь ногами в землю и раскорячусь над могилой. И до тех пор не лягу в землю, пока первым тебя там не увижу! Знай! Караман сердится один раз в году, но так, что врагу его не пожелаю!
Арета молча ушёл прочь. Солнце уже спустилось вниз по пригорку, а я всё ещё без дела болтался во дворе. Кечо тоже вышел во двор и, взяв в руки топор с длинной рукояткой, стал колоть бревно. Я нарочно остановился на видном месте — пускай, думаю, увидит меня.
Так оно и случилось. Кечо увидел меня, бросил топор и подошёл к забору:
— О, моё почтение и привет Караману! От души сочувствую твоему счастью!..
— Спасибо, дорогой! Я знаю твою заботу!
Наступило неловкое молчание.
— Вот и с этим делом покончено! Теперь ты тоже женатый человек! — нарушил Кечо молчание. — Увидел я спозаранку дым над твоим домом, думаю, не иначе как радость у Карамана. Высоко поднимался дым, очень высоко! Потом я узнал, кто твоя жена и… удивился… Ведь мы с ней однофамильцы… Просто уму непостижимо, как это всё обернулось! Как тебе отдали такую красавицу, сукин ты сын?! Мне сказали, что ты её похитил. Неужто правда на самом деле? — и Кечо, не сдержавшись, расхохотался так, что смеха его хватило б на три арбы.
— Молчи, Кечо, иначе в зубы получишь!
Кечо ещё шире раскрыл свой беззубый рот, смежил один глаз и, повернув голову набок, по своему обыкновению, осклабился:
— Только как же ты коснёшься своим грязным поцелуем её атласной щеки?
— Бессовестный ты, разве это смешно?
— Эх, ладно уж! Ничего без всевышнего на этом свете не делается! Ты лучше скажи, когда свадьба? Надо же подготовиться!
— Какая там свадьба! Зачем Пасико свадьба?
— Ого! Ты, видать, для того и похитил себе жену, чтоб расходов избежать. Не делай больше глупостей. Небось, на моей свадьбе ты себе трижды глотку драл, так и мне теперь хочется на твоей погулять. Народ уже зубы точит, и если ты их не накормишь на свадьбе, то они тебя сами тогда съедят. Ты об этом подумал?
— Хорошо, надо подумать.
— Вот, что мне в тебе нравится, Караман, так это то, что ты ничего не делаешь, не подумав… Что касается меня — то располагай мною, как хочешь! Правда, мы как будто немного обиделись друг на друга, но ведь это всё пустяки, не так ли?
— Ерунда! Давай заходи ко мне, поговорим обо всём за столом! — Сердце моё от его слов размягчилось, как варёная груша.
— Ну что ты! — отступил Кечо. — Я не зайду с пустыми руками… Бывай здоров! И не тужи! Мир прекрасен! — он тотчас же повернулся, словно кто-то хватал его за полы чохи, поднял топор и, тяжело замахнувшись, рассёк пополам бревно.
Мне не хотелось идти в дом, и я тоже принялся за дрова, нарубил их вдоволь и сложил в сушильне.
В сумерки во двор к Лукии вошла Ивлита.
— Слыхала, что Караман девушку похитил? — вместо приветствия сказала ей Царо.
— Как же не слыхать! Я её успела уже увидеть утром. Чтоб ему ослепнуть! И ради такой раскрасавицы он помчался за тридевять земель? Как будто у нас своих было мало! — вздохнула Ивлита. — Да у некоторых наших девок одного только приданого в сундуках столько, сколько вся Пасико Чаладзе не стоит! И зачем было похищать эту черномазую с её лошадиной мордой!
— Глупости какие! — возразила Царо. — Вовсе она и не так дурна, у неё прекрасные зубы и губы, глаза блестят да и, видать, энергичная. К тому же бедному мальчику вовсе не красавица нужна, а вот такая энергичная и умная хозяйка. Не бойся, Караман не дурак, он не просчитался.
Конечно, никто лучше меня не знал, что это за птица была Пасико, и я очень обрадовался заступничеству Царо. Её слова заронили в моём сердце росток надежды: не так уж ты несчастлив, дружок, как это тебе показалось вначале, — облегчённо подумал я. — У Пасико много достоинств и лучше держи её крепко за руку.
Я весь день томился в поисках тоненькой соломинки, чтоб ухватиться за неё, и вот тебе, пожалуйста. — Царо помогла мне её найти. В уголке моего сердца шевельнулся слабый луч надежды, и я уверился, что не погиб. В эту минуту мне стало искренне жаль, что Пасико не понравилась Кечо, который чуть было не рассорился с Аретой из-за того, что тот помог мне похитить её.
Я вошёл в дом. Взгляд Пасико был устремлён на горевшее в очаге полено. Освещённое огнём её печальное лицо не казалось мне таким безобразным. Пламя добралось до сердцевины полена и обволокло его, потом лизнуло висевшую над очагом цепь и запрыгало на ней.
В глазах Пасико блестели слёзы. Я молча сел рядом и уставился на огонь. Сгоревшее полено казалось мне теперь похожим на моё собственное счастье и несчастье. Полено сгорело, обуглилось и рассыпалось в золе большими угольками. Они ещё некоторое время светились малиновым огнём, бесшумным и волшебно прекрасным. Потом очаг затух и погрустнел. Лишь два-три уголька поблёскивали в нём.
Мы с Пасико по-прежнему сидели, как немые.
Вдруг она повернулась ко мне и, дрожа всем телом, прижалась к моей груди, как будто испугавшись чего-то. Я услышал её глухие рыдания. Тронув её за подбородок, я повернул к себе её лицо и заглянул в глаза, полные слёз. Какой отвратительной казалась она мне тогда в шатре, когда плакала, теперь же… Слёзы, освещённые тусклым светом тлевших угольков, так красили её, что я не мог удержаться и поцеловал её в глаза, потом мои губы встретились с её губами и, хотя я не опьянел, как той ночью, но всё же почувствовал вкус мёда.
Да, она предназначена тебе. И перестань, дурак, упрямиться, покорись судьбе, — по-прежнему убеждал моё сердце невидимый советчик. — Вспомни дорогу! Разве тебе не тепло было, когда вы оба были под буркой? Ведь она и там была всё той же, не другой! Покорись, Караман, судьбе, покорись! Упрямство нередко губит человека.
Словом, ночь эта прошла в приятных сновидениях. А рано утром к нам ввалились Пация и Алекса. Пация ударила в дайру, и босой Алекса пустился в пляс. Он попрыгал, подрыгал ногами, потом утомился, и язык у него свесился, как у уставшего на гумне быка. Он запел:
Наш Караман Кантеладзе Похитил с неба луну. Ах, прекрасная невеста. Выгляни в окно.Я был немного огорчён тем, что первыми пришли нас поздравить эти придурки. Но что уж тут поделаешь, самому надо быть дураком, чтоб не встретить их хлебом-солью. Они ведь на всю деревню опозорить могут, распустят сплетни и растопчут твоё честное имя на просёлочной дороге.
Пасико быстренько накрыла на стол и пригласила их. Чего только она не подала: варёной свинины, горячего мчади, молодого сыра, соленья из капусты.
— Дай бог вам вместе состариться и прожить веки вечные! Аминь! — благословил нас дурак Алекса, залпом вылакал чарку красного вина и запихал в рот огромный, величиной с кулак, кусок ветчины. Зажмурившись от удовольствия, он посмотрел на Пасико и сказал:
— Ох и вкусно невеста угощает! Жирное мясо люблю я больше мёда!
— А жирную женщину? — полюбопытствовал я.
— Не плохо бы, да вот говорят, что худая, как шест, ещё лучше.
Брат с сестрой совсем развеселились за столом. Алекса отправлял в рот огромные куски и так шумно двигал челюстью, что я на всякий случай отодвинулся: как бы и меня не проглотил. Я и жене сделал знак, чтоб она немного отодвинулась.
Пация рукой вытирала жирные губы и потом мазала руками платье.
Моя хозяйка, — хотя это было совершенно излишне, — с радушием и гостеприимством время от времени напоминала им:
— Угощайтесь, ешьте, пожалуйста!
— Чтоб вы всю жизнь так насыщались, как я сейчас налопался. Пузо у меня стало что твой надутый бурдюк! — Алекса хлопнул себя по животу. — Очень вкусно готовишь, невестушка! Молодец, Караман, хорошую жену привёл, клянусь духом матери! Дай бог вам остаться вместе на веки вечные! Аминь! — гость влил в себя ещё чарку вина, а потом, поглядев на Пасико, повернулся ко мне:
— Карамаша, ты у нас весь свет исколесил, неужели не можешь найти мне хорошую жену? Бессовестный ты, помоги мне похитить женщину! Разве кому-нибудь от этого хуже сделается? Ведь ты привёл себе жену, и я хочу. Холодно мне, парень, пожалей меня!
— Да разве я тебе отказывал, мой Алекса? Это лёгкая служба. Вот осмотрюсь, порасспрошу… Кто тебе откажет? Ведь одни твои пляски чего только стоят!
— Ангельское у тебя сердце, оттого я тебя и люблю. Иди, поцелую тебя! Ты мне как брат…
— Целоваться — это не мужское дело. Так поговорим! — И я совсем отодвинулся, содрогаясь при одной только мысли, что Алекса может поцеловать меня своими скользкими, жирными губами. — Я и так верю, что мы братья.
— Ты тоже, вроде меня, остался сиротой, но сердце твоё не ожесточилось. Таких добряков, как мы с тобой — по пальцам перечесть на всём белом свете. Не оставляй меня одного зимою. Знай, я на тебя надеюсь.
У меня язык зачесался сказать ему, что надежды на меня не было даже у родного моего отца, но хорошо, что я вовремя прикусил язык.
— Хорошо, Алекса! Я так устрою, что ты ещё сам будешь выбирать себе невесту!
— Раз ты уж взялся сделать одно добро, то присыпь его солью: найди кого-нибудь и для Пации. А то я боюсь: Гошука грозится, похищу, мол. Но как же я отдам ему сестру, он ведь, как дэв, раздавит под собой несчастную.
— Ничего, не раздавит… Зря ты боишься, ничего со мной не станется, — откликнулась Пация с укором в голосе. — А если захочет раздавить, то я от него убегу.
— Ой! Не выходи за Гошуку! — поддержал я его. — Разве он тебя достоин? Подожди немного, объявится какой-нибудь парень покрасивее, вот за него и отдадим тебя.
— Я другого не хочу, люблю Гошуку! — решительно заявила Пация. — Если не отдадите за Гошуку, я вовсе и не выйду замуж!
— А знаешь, так лучше! Если ты выйдешь замуж, ведь Алекса твой не сможет плясать без дайры? Ну кто, скажи, будет ему подыгрывать лучше тебя? — заметил я.
— Ничего, как только я нажрусь, брюхо у меня туго натягивается, как дайра, вот оно мне и будет заменять дайру, — обрадовался Алекса. Он постучал по своему животу, заставив его издать какие-то глухие звуки, потом вскочил и заплясал вокруг стола. — Ну, скажите? — повернулся он к нам. — Разве её дайра лучше?
Даптипитом, диптипитом! Диптипитом, даптипитом! Играй, Алекса! Пляши, Алекса! Даптипитом, диптипитом! Таши!Захмелевшие брат с сестрой с песнями и плясками вышли от нас. Вскоре весть о необыкновенных достоинствах Пасико облетела всю деревню. Не знаю, посеяли ли эти слухи погостившие у нас эти два придурка, или же это было делом рук Ареты, — одним словом, вся деревня стала на ноги. Некоторые нарочно проходили мимо моего дома, чтобы увидеть похищенную женщину, другие же, придумывая всевозможные причины, заглядывали даже во двор. Меня бесконечно поздравляли, наполняя мой дом пожеланиями тысяч благ.
Поистине, никогда не поймёшь людей! Достоинства Пасико ещё более возросли от того, что она была похищена. На голове её разве что венец царицы Тамары не сверкнул, столько её славословили.
— Посмотрите, какие у неё глаза! — говорил один.
— А как она стройна! Улыбается, словно солнце выходит! — спешил добавить другой.
— А тонка!
— Энергична…
— Какая добрая душа!..
Я заметил, что всё это говорилось совершенно искренне, и тогда я всерьёз стал подумывать о свадьбе. Теперь я начал смотреть на собственную жену глазами посторонних людей. А однажды дошло до того, что я даже рассердился на самого себя: «Если, — думаю, — она была так хороша собой, так отчего я не замечал её?»
Адам Киквидзе же, тот прямо выпалил мне в лицо:
— Как же это такого ангела отдали бездельнику?
— Вот потому-то я и похитил её, что не хотели отдавать.
Однако вслед за Адамом многие стали это повторять. И тут уж я не на шутку встревожился: неужто, думаю, я такой невидный и Пасико лучше меня? — Но я погасил эту беспокойную мысль, хотя она продолжала терзать меня некоторое время. Кончилось тем, что я, сохранив невозмутимость, принял как должное, что Пасико пошла именно за меня. И я даже позабыл о своём желании похитить Цицино.
С Аретой я, конечно, помирился: испугался как бы он не разгласил, что я хотел совсем другую девушку. Раз люди внушили мне мысль о достоинствах Пасико, то я уже решил их не разочаровывать. Но всё же моё предположение оказалось верным, и я расскажу вам, что на самом деле произошло той чёрной ночью.
Оман и Арета вместе поужинали и даже, оказывается, выпили за меня: дай бог, мол, ему вернуться домой благополучно. Когда Арета передал мне девушку, Оман стоял за забором. Оман выстрелил из ружья, потом выстрелил Арета, но они стреляли не друг в дружку, а в воздух, — послали туда на радостях по пуле, передохнули, а потом вместе устремились по моим следам, опасаясь, чтобы ничего плохого с нами не случилось в дороге. И так они, оказывается, ехали за нами до самого шатра.
Что? Откуда я знаю? — Выдала тайну жена. Да, Пасико была посвящена во все подробности этого дела. Ну, а после, раз всё благополучно разрешилось, могло ли это не слететь с языка женщины?! — Так она и открылась мне во всём: будь что будет! А что, собственно, должно быть?
Ведь теперь я сам был больше всех заинтересован в том, чтобы эта тайна не стала гласной.
Раз вся деревня поздравляет меня, я стал уже испытывать угрызения совести, да к тому ж и слова Кечо возымели своё действие — и стал готовиться к свадьбе. Один раз в жизни празднует человек свою свадьбу, и уж, конечно, нарушить этот обычай не хотелось. Что могли подумать люди? Нечего и говорить о том, что я был бы опозорен до третьего колена; злые языки не оставили бы в покое и моих благородных родителей. Ведь сколько народу кругом точило зубы. Наедимся, мол, вдоволь на свадьбе! Не мог же я оставить их всех не солоно хлебавши! Да к тому же, можно ли было снести упрёки заправских кутил? Ведь совесть бы меня совсем заела.
Вряд ли найдётся такой человек, который не мечтал бы в глубине души своей стать царём. Таких же, как я, простых смертных, лишь на свадьбах и величают царями, и одна-единственная ночь дана им, чтобы стать обладателями царицы. Так скажите, мог ли я отказаться от этого маленького счастья? В то время у меня было полным полно хлеба и вина. Не испытывал я недостатка и в мясе. Поэтому свадьбу я обставил по всем правилам.
В ту ночь в моём дворе ярко горели факелы. Пасико надела белое платье, голова её была покрыта белой фатой. Я тоже принарядился: надел на себя белую чоху с серебряными газырями. Кечо был у меня посажёным братом.
Будто бы отправляясь в далёкий путь за женой, я вышел во двор, где ждали меня соседские парни. Грянув песню, мы двинулись обратно к дому. Остальные, скрестив клинки, стояли у дверей. Пасико первой переступила правой ногой через порог, а за ней и я. Царо, улыбаясь, встретила нас.
— Чтоб вся ваша жизнь прошла в такой сладости, дети мои! — И расцеловав нас, она сунула нам в рот сахарные леденцы.
Теона же подставила под ноги нам тарелку, и я стукнул её ногой, обутой в мягкий сапожок.
— Куда деть обломки? — спрашивает Кечо.
— В карман свату Арете, немного и себе оставь!
Арета чувствовал себя хозяином.
Кругом галдели весёлые гости.
Во главе стола Лукия посадил Адама Киквидзе. Об этом мы условились заранее: ведь это Адам в своё время пожелал Кечо на свадьбе двойню: его слова сбылись, и я не забыл этого.
Для жениха с невестой приготовили кресло, покрытое ковром.
Мы с Пасико уселись.
Царо вдруг куда-то исчезла, а потом появилась вместе с внуком Бондо и посадила его на колени к невесте:
— Будьте счастливы и умножайтесь, дети мои! Чтоб в вашем доме колыбель никогда не стояла на чердаке и чтоб её не покрыла пыль. Чтоб всё время её качали. Как поднимите оттуда одного ребёночка и пустите во двор, тотчас же кладите туда второго. Дай вам бог девять сыновей и семь дочерей, а то и того больше.
— Столько, сколько у Петре Кивиладзе, чтобы вы не запомнили их имён! — поддержал свою мать Кечо.
— Спасибо, братец! Пусть бог тебе во сто крат больше того даст, что ты хочешь для меня!
— Ну, Карамаша, тебе надо стать более степенным, ты ведь у нас уже женатый человек!
— Этого я не слыхал, чтобы женитьба прибавила человеку ума! Вон у тебя жена и двойня, а ум-то прежний, небось, остался!..
Пожелания матери и сына заставили меня на минуту призадуматься. Я сразу представил себя на месте Петруа Кивиладзе, и наш двор сразу наполнился звонкими голосами малышей, а моё сердце — радостью. Вот видите, кто же стал бы благословлять меня, если бы я не справил свадьбы?!
Грянула песня, но как! Ей-богу, я увидел, что потолок комнаты колыхнулся.
Маленький Бондо некоторое время молча разглядывал людей. Куда это я мол попал? — Потом раскапризничался и заплакал. Он всё время тянулся куда-то, растопырив пальчики на руке.
Кечо дал ему куриную ножку — он её бросил, — дал хачапури — тоже не берёт.
Тут Арета пришёл на помощь:
— Так я ж ему дал леденец, он, наверное, ещё хочет, — вспомнил сват. — А ну-ка, поди ко мне, миленький! — поманил он его.
Кечо поднял ребёнка с невестиных колен и передал Арете. Тот вынул из кармана красный леденец и повертел им перед носом ребёнка. Бондо стал скалить зубы точь-в-точь, как отец. Когда ему приелись леденцы, он вдруг схватил Арету за ус, да так больно дёрнул, что у того на глазах слёзы выступили.
— Ух! Что ты со мной делаешь, пострелёнок?
— Не помогли тебе леденцы, Арета! Взятка может осветить путь в преисподнюю, но ей никогда не смягчить детского сердца. Видишь, ребёнок понял, что ты недостоин усов и хочет лишить тебя их, — съехидничал я.
Мои слова кольнули его куда сильнее, чем дёрганье за ус, однако пришлось ему их проглотить: ведь не стал бы он поднимать шума в самый разгар свадьбы!
— Отхватил себе красавицу, а теперь шутишь? — криво усмехнулся он и, подмигнув Кечо, пропел:
Будь доволен этим тостом: Тебе розу, мне сирень, Охохойя, охохойя, Мравалжамиер!— Давайте пить! — закричал он.
— Чтоб мы собрались здесь в следующем году на крестинах!
— Аминь! Аминь! Аминь! — пела и гуляла свадьба.
Два дня и две ночи мой погреб и тонэ не знали отдыха. Я тоже утомился выслушивать хвалебные речи. Благими пожеланиями я был сыт по горло, а галдёж и выкрики пьяных стали мне уже невмоготу. — «Эх, легко гулять на чужой свадьбе, ничего не приедается».
— Ну, как, хорошо погуляли? — спросил меня Кечо, когда свадьба кончилась. — Мне кажется, никто не остался недовольным?
— Конечно, я вам всем так благодарен…
— Так-то, мой Караман! Теперь остаётся только тебе привязать во дворе доброго пса, чтоб никто у тебя не отнял похищенную красавицу!
— Ты всё шутишь, а на самом деле золотые твои слова! Что за двор, где петух не кричит и пёс не лает?
На другой же день я завёл себе собаку Куруху.
Все кости, что остались после свадьбы, я дал ей выгрызть. Собака, пока сидела на привязи, была очень спесива, всех облаивала, даже меня и мою жену. Стоило же мне спустить её с цепи, притулилась она сразу и сунула нос под хвост.
Впрочем, что уж говорить о собаке! Иной человек тоже всё ворчит и огрызается: свободы, мол, хочу. А дать свободу, сам становится бездельником, а уж если залает, то и свободу облает.
Теперь в моём дворе уже не стало слышно ни застольных песен, ни собачьего лая. На меня этот покой плохо подействовал, и стал я брюзжать.
Раз никто уже мне не нахваливал жену, с лица её слетела красота, и оно снова стало лошадиным. Сердце моё вновь наполнилось смятением, и стал я в тоске метаться по округе. Теперь очаг, который зажигала Пасико, уже не грел меня, а мчади, испечённый ею, казался мне невкусным.
Но пусть ваши враги пребывают без надежд! Нет беды, которая не оставляет человеку хотя бы капельку веры. Потому, что лишь у засыпанного землёй гроба нет выхода. Живой человек всегда его найдёт, всегда за что-то ухватится.
Я не могу сказать, чтоб мой покойный отец был чистейшей воды мудрецом. Но, бесспорно, был он человеком в высшей степени наблюдательным. Вот, что он сказал мне однажды:
— В жизни, сынок, тебе встретится немало трудностей, но не отчаивайся. Радость и горе, скорбь, смех и слёзы всегда вместе, наподобие сварливых супругов, которые бранятся друг с другом и, как запряжённые в одно ярмо быки, тянут в разные стороны, хотя и не могут разойтись.
Разве это не так?
Ведь в одну упряжку впряжены день и ночь, жизнь и смерть, слёзы и смех, женщина и мужчина. Только женившись на Пасико, я понял, что впрягся в ярмо. До этого жизнь моя была пуста и ничего не стоила…
Теперь же, как только тоска тяжёлой пулей вонзается мне в плоть, я тотчас же вспоминаю благословение Кечо. Я представляю себе ребёнка на руках Пасико. Нет, не Бондо, а моего собственного… и сердце радостно трепещет, розовые мысли возникают в моей голове, и я утешаюсь…
В один прекрасный день и в мой двор заглянет солнышко счастья, и у солнца этого будет лик моего малыша. И будет он на меня похож, или на мою мать, или на отца…
Впрочем, главное — мой будет! А там пусть себе походит на кого угодно. Лишь бы забота отцовская появилась у меня, а там…
Беседую я в душе со всем миром.
Как только у меня появится ребёнок, вы меня и не узнаете; переменюсь я и стану совсем молодцом. Починю обветшалый забор, ни капли воды напрасно не потрачу, хозяйственным стану и очень бережливым.
Лишь бы забота отцовская у меня появилась…
А ребёнок это забота, большая, добрая забота, отрезвляющая человека. Никто лучше меня не будет окучивать виноградник. Я раньше всех буду подниматься и бежать на пашню…
Лишь бы забота у меня появилась…
Знаю: только соберусь со двора на работу, как этот сукин сын потянется за мной, попросит, чтоб взял я его с собой.
Что делать? Взять его, что ли?
А что потом? Работать или с этим паскудником возиться?
Нет, пожалуй, я его не возьму с собой! Пусть поплачет, ничего с ним не станется, только лёгкие разовьёт…
А вдруг, если не приучу его сызмальства к труду, он потом обленится и… Человек должен с детских лет привыкать к труду! Попрошу Адама Киквидзе сделать ему маленькую мотыгу, топорик и пусть себе бегает за мной… Правда, отнимет у меня немного времени, но зато и позабавит меня… А после, когда подрастёт, сооружу ему маленькую давильню, и пускай себе выжимает свою долю вина…
Иная женщина — что расцветшее дерево, ослепит красотой, но не даст никаких плодов. Лишь бы ребёнка мне подарила Пасико, а там, совсем меня не станет тревожить её красота. Пусть будет какая уж есть! Лишь бы забота у меня появилась… Если первым будет сын — назову его Амбролой.
Налью лучшего вина в самый большой квеври, покрою его настоящей красной глиной, чтобы и духа оттуда не вышло, ведь стоит туда проникнуть воздуху, как вино киснет и один только цвет остаётся от него. Открою я этот квеври на свадьбе Амбролы и удивлю деревню великолепным вином.
Потом, когда уляжется суета и наступит послесвадебное успокоение, навещу родительские могилы, очищу их от сорняков и колючек, наведу там полный порядок, чтоб ни один замшелый камень не остался, и с корнем повыдергаю папоротники. Потом пройдусь по узенькой кладбищенской тропинке дальше, обойду всех своих близких под землёй, разбужу каждого в отдельности и обрадую их отрадной вестью о себе: Караман, мол, не допустил, чтобы потух дедовский очаг, а теперь мол сына женил!
Эх, хорошо, кабы так всё и было! Не могу я расстаться с этими мыслями и нетерпеливо жду, когда же во дворе моём взойдёт красное солнышко! Оно осветит мою мрачную жизнь, обрадует сердце и дом, прибавит сладости расцветшей лозе и заставит меня крепче полюбить небо, землю и человека!
Эх, воистину сладостно так мечтать! Ведь если б не надежда, жизнь давно бы угасла, потому что человек одной только надеждой и живёт. Вот и я, ублажённый светлой мечтой, жду не дождусь малыша, как самую большую надежду своей жизни, твёрже ступаю по земле и даже во сне напеваю:
Не скрывайся, солнышко, за горою! Войди, солнышко, в мой дом!



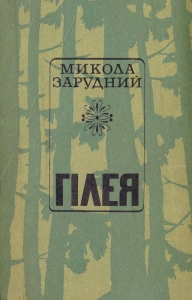


Комментарии к книге «Весёлые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе», Акакий Исмаилович Гецадзе
Всего 0 комментариев