Ядро ореха
КЛАД Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
1951. Лето.
B июньский жаркий месяц нежданная беда стукнулась по-хозяйски в ворота старого дома Кубашей...
Был тихий, напоенный зноем дня, но уже приятный своей угадывающейся прохладою летний вечер; большое солнце, словно нехотя, опускалось за гору Загфыран, окрашивая в прозрачный багряный свет все еще пронзительно-голубое наверху, высокое небо.
Старая Юзликай, прикрывая рукой побаливающие от яркого света глаза, долго вглядывалась в заходящее солнце, в оплеснутую алым закатом густую урему Зая, вдыхала солодовый шорох зреющих хлебов, терпкий аромат луговых трав, — вплетаясь в струи холодеющего воздуха, шли эти запахи широким потоком, бесконечно волновали ее.
Из дальнего, не затоптанного скотиной уголка двора, где негусто и невысоко поднялся кирказон, пахло яблоками, кружил по изгороди неизвестно кем и когда посеянный, лютый до жизни, неприхотливый хмель, и, глядя на эти травы, на закатное багровое солнце, почуяла вдруг старая Юзликай свои неисчислимые лета, и щемяще-грустно сделалось у нее на душе. Она неторопливо опустила руку, перехватила поудобнее кривую можжевеловую палку и побрела к роднику... Встревоженно зашаркали изношенные войлочные боты, но родник — вот он, у подножия холма, совсем недалеко от их сада.
Старая Юзликай опустилась на помятые вальками деревенских баб посеревшие мостки, долго непослушными пальцами заправляла концы платка за уши. Плеснуть бы, как прежде, скоро и беспечно, горсть прохлады на горячее лицо, омыть румяные пылающие щеки... но где оно, то юное время, помните ли вы его, торопливые воды?
Чист и звонок голос древнего родника. Только на памяти старой Юзликай «лечили» его раз девять ли, десять — много... Меняли истлевший желоб, освобождали устье от песка и камней весенних паводков, и с новой надеждой и силою били тогда донные родниковые ключи. Спеша донести вековые воды студеному Заю, струился родник извивчатым, нелегким путем, пробил в теле земли замысловатое русло, а близ него, на страх домашней, ненаходчивой птице, буйно разрослись высокие травы: саблистая осока, стройный камыш, да еще до одурения душистая мята. Придут ли калиматовцы к роднику по воду, заглянут ли в поисках пропавшего теленка — уносят домой огромные охапки мяты, сушат ее, растирают, готовят приправу для постного супа, лечатся ею ото всех болезней, а она все растет необидчиво и щедро, сказочная и древняя, как родник, как старая Юзликай...
Да сколько же ей лет, этой удивительной Юзликай Кубашей? Много разного говорено калиматовцами. Одни клянутся, что ей уже сто три стукнуло — аллах свидетель! «Ну-у, — не верят другие, — ей семидесяти-то нет; глянь, какая она, — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! — крепкая еще да ладная». Что бы там ни выдумывали охочие до разговоров калиматовцы, каждому понятно: удивительный человек эта старая Юзликай. Шутка ли, в таком-то возрасте полчаса стегаться березовым веником в потрескивающей от жара баньке! Нитку в иголку вдеть для нее и вовсе пустячное дело, а затоскует иногда по детям своим, так часами бродит по окрестным лугам и перелескам, будто ищет там утешения... Сыновья и внуки ее, словно оперившиеся птенцы, поразлетались из родного гнезда по разным краям необъятной державы, но она до сих пор хранит в памяти не только облик, но и имена любого из своих потомков. Кажется калиматовцам — вечно, как земля наша, будет жить старая Юзликай. Надо думать, в большой она дружбе с какими-то могучими силами: хворь-болесть стороной обходит ее, да и сама костлявая, видать, побаивается! Но нет таких сказочных сил, есть просто мудрая старая Юзликай, одна из тех женщин, что терпеливо и мужественно несут бремя своей долгой многострадальной судьбы.
Старая Юзликай в последнее время все чаще уходит в мир воспоминаний. Ясен еще и крепок ее ум, но почудятся вдруг умершие близкие, послышатся давно угасшие голоса... будто ангел смерти, взмахивая над нею крылами, путает мысли старой Юзликай, шепчет об иной, далекой-далекой земле... Где-то там ее Губайдулла?..
На деревне Губайдуллу кликали Кубашем. Двадцати семи лет вышла Юзликай за него. Был тогда Кубаш вдовцом, схоронил первую жену. Ах и сумасбродный был человек, шальной, право слово! Силушки и гордости, однако, неимоверной: поедет, бывало, в лес и кряжины огромадные в одиночку на роспуски взваливает, а нарвется на объездчика, так прямо на эдаком тяжеленном возу и удерет через самую что ни на есть глухомань-чащобу, только кусты трещат. Вот и досумасбродился: завалился однажды зимой в рытвину, бревешки-то пораскатились, взыграла в Кубаше лихая ярость — схватил здоровенную дубину да, в сердцах, вытянул лошадь вдоль хребта, так она и упала замертво. А в лесу метель, буран — всю ночь блуждал Кубаш без пути, без дороги и лишь под самое утро ни жив ни мертв добрался до дому. Крепко прохватила Кубаша злая стужа — скрутила! — много месяцев провалялся он в постели недвижной колодой. А все заботы по хозяйству упали на плечи Юзликай — и она выдюжила, ото всех напастей судьбы смогла отстоять и хворого мужа, и семью, и избу. Веснами, как только стаивали снеги с окрестных лугов, взваливала она болезного на закорки и выносила в чистое поле, к светлому солнцу, к вольному воздуху; отпаивая его смородиновой пастилой да березовым соком, отваром молодой, весенней крапивы и еще какими-то травами, соками, настоями, поставила-таки Губайдуллу на ноги — а ведь казалось, не жилец Кубаш, не выправится, нет... И потом, через год рожала ему крепких, горластых детишек, словно заботливая наседка, хлопотала над ними с утра до ночи.
Старший сын ее, Шавали, был уже опорой в семье, когда ушел в лучший мир Губайдулла, неугомонный неистовый Кубаш. Потом померли двое от болезни, да еще троих сгубила проклятая германская война, — осталось у Юзликай шестеро детей, шестеро из одиннадцати.
Шавали стал хозяином, отделился, взял жену. Три дочки повыходили замуж, да все в чужие деревни, будто своих женихов им не хватало. А пятый, Баязит, и вовсе к узбекам подался... правда, говорят, стал там большим человеком, ученым. Перед Отечественной все письма домой слал, уговаривал мать: «приезжай да приезжай!» Сам даже прикатывал — не согласная Юзликай, где там! Ну разве ж уедет она, покинув родной дом, в чужую сторону, где ни зеленых трав, ни студеной воды, только бури ярятся да песок жгучий? У нее ведь младшенький еще есть, Абузар, яблочко ее ненаглядное. Однако не суждено было старой Юзликай долго радоваться на любимого сына: грянула война, и Абузар ушел защищать от злого врага родную землю... потом пришло извещение: пропал без вести. Невестка же, красавица Салима, что за десять лет так и не родила Абузару ни сына, ни дочки, получив страшную весть, собрала подушки свои, приданое девичье, и ушла к родителям, ушла безоглядно.
В опустевшем Кубашевом гнезде — одна старая Юзликай...
Что оставалось ей? Перебраться к старшему сыну, крепкорукому Шавали? Жил он твердо своим домом, перешагнул шестой десяток, но ловок еще был и жилист, наплодил полную избу детей, вырастил их, выкормил. Да вот жена его Магиша, первейшая по всей деревне скареда, вцепилась мужу в бороду и поклялась, что житья ему не даст, пусть только попробует возьмет к себе в дом старуху...
На селе не знали, как и подумать, решили было на общем сходе поставить Юзликай на колхозный «пенсион» и теперь, по-крестьянски неторопливо и трудно, прикидывали что к чему, когда, стуча дверьми, ворвалась в правление старшая дочь Шавали, бойкая Файруза, и с порога закричала:
— Родимую мать миру на руки да после этого мужиком себя величать?! Тьфу, срам какой! Сама пойду к бабке жить, а такому не бывать! Все!
Заседавшие облегченно вздохнули. Если уж Файруза что скажет — считай, так и будет: умрет, а на своем настоит. Вот девка!
А в Файрузе мужиковатая прямота и трогательная душевность слились непостижимо, создали натуру странную и непростую. Бывало, еще до войны, в самый разгар страды могла полеживать Файруза в пряной тени лапаса[1] и сильным голосом певать протяжные песни. Было ей тогда — девятнадцать лет. В коротком платьишке, сверкая голыми икрами, ходила она по людной улице к роднику, лениво ступала босыми ногами, и тугой, налитой груди ее тесно было в нелепом платье: лопались застежки, в распахе ворота розовела теплая плоть. Таращили на Файрузу глаза прохожие; боязливые женщины-татарки, что испокон веков прятали свое тело от греховных мужских взоров, женщины, что и разговоры-то вели, прикрывая рот уголком платка, смотрели так, словно готовы были разорвать ее на части, распять, развеять на ветру. Но задевать опасались, чур, чур! — лихая Файруза девка, палец ей в рот не клади. А она знала: давно миновали те староглупые времена, когда женщина была чем-то вроде домашней скотинки, нет уж, права все теперь на ее стороне. Парни ухлестывали за Файрузой отчаянно и понапрасну, она и глазом на них не повела, видно, не настало еще ее волнительное времечко, не проснулась в девичьей душе любовь...
На третий год войны, когда Файруза уже переселилась к старой бабке, в калиматовских краях объявилась нефтепоисковая партия. Начальник геологической этой разведки Булат Дияров определился на постой к старой Юзликай, к заскучавшей как раз Файрузе. Был он плечист и ловок; широкий, бурый комбинезон сидел на нем как-то уж очень ладно, ступал Булат Дияров по земле крепко и спокойно, а на выходки своевольной Файрузы смотрел даже с восхищением. И сразил-таки он Файрузу, растаял лед сердечный, потянулась душа ее к этому, столь не похожему на всех парней Булату. Первые дни ходила сама не своя, шальная, взбудораженная, а как-то понесла джигиту ужин в поле и вернулась домой лишь на заре, усталая и счастливая.
Пробыв в Калимате чуть более месяца, свернулись геологи да и укатили куда-то дальше по известному им маршруту. По селу же из избы в избу пополз темный слушок, будто вдоволь натешилась дочка Шавали Кубашева с тем ловким джигитом, что искал земляное масло — «нифеть»...
Летом тысяча девятьсот сорок четвертого года, когда прилетали со всех фронтов желанные вести о славных победах, однажды в предрассветную пору, бархатно-тихую, ибо пташки ранние еще не пели пробуждения утра, Файруза заперлась в крохотном чуланчике и, тая боль, искусала в кровь губы. Сын у нее родился, Тансык[2].
Вот так и стала Файруза мамкой, покрикивал сердито у нее на руках мальчуган, первенец ее, золотце...
Трогательные и чистые нашептывала она ему песни, нежно ругала, баюкала, а из бокового оконца подсматривали за ними звезды, слушали наивный лепет, моргали удивленно и добро.
Старая Юзликай, увидев мальчика, будто помолодела даже, махнула рукой на глупые предрассудки, плюнула на пересуды да злые языки и с великой радостью принялась нянчить и выпестовывать маленького Тансыка, правнука неугомонных Кубашей.
Когда же подрос Тансык и, цепляясь за брусья нар, закосолапил по избе, Файруза вышла на колхозные работы: возила она и снопы, и хлеб на станцию, но охотнее всего метала на полях скирды. Качали головами видавшие виды старики, цокали в удивленье языками, глядя, как Файруза вздымает на деревянных вилах огромные, с добрую, пожалуй, крышу, копны шуршливой соломы:
— Эк, бесы-то в ней играют, прости господи! Оглашенная! Вся в Кубаша, земля ему пухом, це-це-це...
Но неуважительные прозвища, будь то «хулюган в юбке», «непутевая» или же «держи-ветер», прилипшие к ней, казалось, на всю жизнь, позабылись, словно повытирались незаметно из памяти калиматовцев. «Вот тебе и «хулюган», — крепко радовались односельчане, — глянь, сына-то как любит, эх! И на работе первая, — молодец, баба! ну, молодец!»
А Тансык незаметно вырос, стал непоседой, с живыми, как ртуть, глазами, с черными лохматыми бровками на смуглом румяном личике. Однако, как и многие, растущие без присмотра озорники, был он сначала косноязычен: до пяти лет так и не научился толком выговаривать слова, шепелявил и коверкал их препотешно. Только деревенские мудрые люди беды в этом не видели, лишь посмеивались между собой над малышом добродушно и ласково.
Под вечер, бывало, прибежит Тансык в поле к мамке, там скирдовщики как раз перекур ладят.
— Ма! — запищит Тансык еще издали. — Мати-кати-тити-ка! — Что на простом человеческом языке должно означать: «Мамка! Дай-ка мне титьку!»
Разворотясь, словно удалой батыр, швырнет Файруза остатнюю копну соломы на вершину скирды, вонзит богатырские тройчатки-вилы в землю и, нимало не смущаясь хохочущих односельчан, чуть нагнется, вытащит тугую и белую свою грудь.
— На уж, соси, шайтаново семя!
Тансык, стоя, ласковым жеребеночком пристроится к мамкиной груди, пососет, кося на смеющихся дяденек темным глазом, да и помчится по своим незатейливым заботам. Однако вскоре, что-то вспомнив, бежит обратно:
— Ма! А толупь поитти толову?
— Боится, сынок, боится. Как же голубю коровы-то не бояться, — улыбнется Файруза и добавит, словно желая доказать смышленость малыша внимательно прислушивающимся колхозникам: — Ты бабушке скажи, пусть творог на решето откинет. Приду — вареники сготовлю.
Тансык бормотнет что-то в ответ и, сверкая голыми пятками, умчится домой, в деревню, к бабушке. Долгим, задумчивым взглядом проводят его скирдовщики и улыбнутся чуть грустно, когда скроется вдали постреленок...
Но более всего старая Юзликай питала слабость к внуку своему Арслангали. Любил очень и этот внук свою бабку, уважал, выше всех ставил, но вот лет эдак пять тому назад, приехав из армии, не угодил чем-то матери своей, горластой вредной Магише. После шумной ссоры и дня не пробыл Арслангали в деревне, укатил в город, да так там и остался. Даже строчки никому в деревню не отписал, будто выкинул из сердца родную деревню, выжег каленым железом. Ну, ладно, родителям не пишет — оно ведь и понятно, обижен на них, стало быть, крепко, но отчего же бабке-то весточку хоть махонькую не пришлет? Забыл, поди, что есть на свете старая Юзликай, бабка его и нянька. Небось не полинял бы, ежели б и заехал хоть раз в году, утешил старуху, ой ли, Арслангали, Арслангали... По деревне люди-то, чай, не слепые, видели, как нянчилась с ним бабка, сколько сказок ему порассказала, сколько песен пропела; и ручьи студеные, и глухие боры, и березовые рощицы — все места заповедные показала она любимому внуку, научила его слушать и голоса трав, и песню ветра, поведала зеленые лесные тайны... Забыл, забыл бабку... Что же это за время такое бессердечное?
Родник все звенит, как звенел в давние времена, в дни юности старой Юзликай. Поправить лоточек, очистить русло от набежавшего с вешними водами мусора — загомонит он еще полнее, еще радостней. Вот так и душа человека — любит она ласку да милую заботу. А прикипит к ней какой осадок, ай-яй, легко ли будет его отчистить?
Вроде как и совсем еще недавно был Арслангали дитятей, — вот на этих самых мостках полощет она, бывало, белье, а он тут кругом вертится, щебечет, будто пташка... Забыл, забыл бабку — ох, Арслангали, неблагодарный, жестокий...
Томит старую Юзликай грусть, путаются мысли, сердце бьется жалко, неровно.
Вон и стадо, кажись, пригнали. Тихо... Только на дальних где-то полях гудет и гудет рокотливая машина. Правду бают, нет ли, будто в земле какое-то чудное масло отыскали. Говорят, нифеть-масло, а может, и киречин[3], не поймешь их теперь-то. Жива будешь, не то еще услышишь... Сказывают, дырок в земле понаделали, — вся земля теперче в дырках, и сосут оттуда это самое чудное масло. На кой оно надобно-то? Не дай бог еще родники наши сгубят, высушат травы, землю-матушку. Не едет Арслангали. Забыл деревню. Может, думает, бабка второй век проживет? Жизнь людская, она ведь что зорька вечерняя, начнет угасать — не остановишь. Лишь бы неугодный день не выпал, господи. Сказано, в четверг и смертные муки легки. Когда саван готовят, велено раздать подаяние... Мужчин принято оборачивать саваном пять раз, женщин... погоди-ка... будто бы семь... Почему... семь?.. Для савана надобно взять иглу... новую, ниток непочатую катушку — для пущей благости. А нонешняя молодежь того не знает, башки машинами позабивали, где уж им... Хлеба-то каравай режут — так прямо надвое, не ведают, что не пойдет он впрок... этакий хлеб... достатка не будет. Бестолковые...
Старой Юзликай вдруг вспомнилось в просветленье, что долго, слишком долго просидела она над прохладными струями, всполошенно подумала старая о Файрузе, которая, конечно, уже вернулась с работы и заругается теперь на бабку, попыталась встать — и не могла. Ноги что-то не слушались. Приподнялась с трудом, задыхаясь, со стоном выпрямилась было — и тяжко рухнула на мостки.
Тем же вечером Файруза, пришедшая к роднику за водой, опустилась на колени у бездыханного тела бабки. Послали калиматовцы, куда конь дойдет — конного, куда конь не доскачет, отбили телеграмму, известили о смерти старой Юзликай многочисленных детей ее и внуков.
2
На какое-то короткое время самолет запутался в тумане и вдруг круто, так что захватило дыхание, поднялся ввысь, пробил облака и поплыл в бесконечье над белым долом.
Обильное солнце изливалось на эту снежную долину, золотило ее затерянные горизонты, будто и не курчавые массивы облаков раскинулись под стальным крылом, но край обетованный — неведомая и прекрасная земля. Белый голубой простор вдохнул свое чистое дыханье и в окаменевшее от горя сердце Арслана Губайдуллина.
Телеграмму о смерти старой Юзликай принесли Арслану прямо на завод. Потерянный, еле передвигая негнущиеся ноги, побрел Губайдуллин к начальнику цеха и лишь по тому, как участливо звучал у того голос, понял: уехать разрешили.
Рейсовый самолет в аэропорту только что взмыл со взлетной полосы, следующий же шел по расписанию часа через четыре, и Арслану пришлось пойти к начальнику воздушных линий. Скоро, в серой дымке мелкого дождика, он садился в почтовый самолет, вылетающий в Бугульму. От Бугульмы до Калимата километров еще семьдесят. Может, и там сыпет?.. Дороги, наверное, раскисли — этак, пока доберешься, и ночь настанет. Дождутся ли его?
Когда колеса самолета с дробным шуршанием утвердились на земле Бугульминского аэродрома, Арслан, схватив свой маленький чемоданчик, поспешил к трапу. А дождем здесь даже и не пахло: скучные торчали деревья в сером налете, на дорогах лежала густая пыль. У здания аэропорта ожидающим рядком выстроились машины — Арслан подбежал и порадовался, тут же найдя попутку до Калимата. Нырнув в тесную кабину, глянул в зеркало на кирпично загорелое лицо водителя, попросил:
— Если можно, быстрее, пожалуйста!
Тот согласно кивнул, плавно вырулил на дорогу, и машина с гулом помчалась к Калимату.
В кабине было невыносимо душно. Арслан опустил стекло и затих: усталую его голову мягко охватили ладони упругого ветра. Вдалеке, над самым горизонтом, белели стада облаков; полевая дорога, сомлевшая от зноя, торопливо вилась вдаль, ныряла в пшеничное море; на желтеющем разливе хлебов переливались длинные тени, и темной тучей гулял над Бугульмой пыльный смерч....
Старинный город Бугульма. Говорят, была она когда-то уездным центром, знавала и купеческий разгул, и ловкие мошеннические сделки. Деревенские же дядьки торговали здесь осиною да липовой корой. В начале века тронула Бугульму ожигающим дыханьем первая мировая, всколыхнула донизу гражданская, и в годы коллективизации немало храбрых комсомольцев пало от кулацкого топора; помнит их Бугульма, свято хранит славные могилы. Теперь Бугульма — крупная узловая станция, десятки поездов грохочут ежедневно на ее путях, десятки груженых составов отправляются по всесоюзным маршрутам. А вот от пыли, вековой, уездной, так и не избавилась Бугульма. Арслан вдруг вспомнил байку, что ходила в народе, когда был он еще босоногим мальчишкой: хочешь узнать, где лежит город Бугульма, — взгляни на небо; увидишь пыльную тучу, вот там, значит, Бугульма и будет.
Когда машина, осторожно минуя колдобины, проезжала мимо красного кирпичного забора бугульминского кладбища, Арслан с острой болью подумал о бедной своей старушке, и защемило, заныло сердце; откинувшись на сиденье, смежил он глаза, представил темное закостеневшее лицо старой Юзликай, сухонькое тело ее, завернутое в саван, и пожалел, что за пять лет так и не удосужился повидать бабушку, написать ей хоть пару ласковых слов.
Мотор тем временем ровно загудел, и машина помчалась плавно и стремительно. Изумленный Арслан открыл глаза — на колеса гладкой лентой накручивалось асфальтовое шоссе, мелькали по сторонам современные коттеджи.
— Где это мы едем?
— По Бугульме.
— Когда же эти дома-то построили?
— Как это когда?
— Да я уезжал — ничего тут не было. Пустырь был...
— А давно уехал?
— Лет пять, пожалуй.
— Ну-у, брат, за пять-то лет не то что дом, город можно отгрохать! — хохотнул водитель, скользнув взглядом по уютным домикам. Были они все одинаковы: веселые, новые, с молодыми деревцами вдоль окон.
«За пять лет и город можно отгрохать». Здорово. А ему-то казалось, что они все такие же, как в детстве, родные калиматовские края. Правда, слышал он — в Шугурове начали добывать нефть, читал в газете, будто и в Бавлах нефтяные фонтаны, но все это казалось нереальным. Верно все-таки, что лучше однажды увидеть, нежели сто раз услышать, вот, пожалуйста.
Машина свернула на калиматовское гудронированное шоссе, и Арслан задумчиво поглядывал на его ровную поверхность, что блистающей черной рекой текла под шипящие колеса. С грохотом проносились встречные грузовики, десятитонные ревущие громадины, груженные стальными трубами, деталями машин, станками и просто ломом. Весь этот металл, подрагивая и звеня, словно кричал на железном своем языке о грандиозных стройках, что разворачивались в глухих когда-то районах. А на радиаторах гигантов вспыхивали сверкающие эмблемы: дикие степные быки и яростные медведи. Казалось, что именно они, эти могучие звери, с небывалой силой и мощью волокут тяжеленные махины; Арслан, словно зачарованный, считал грузовики. Не успели проехать и двадцати километров, а счет уже перевалил за двести, потом Арслан совсем запутался и сбился. Да-а, горячие дача тут завернули, большие. В жизни не было в калиматовских краях такого количества машин, видимо, затеяли что-то действительно грандиозное.
До Калимата оставалось километров, может, пятнадцать, когда Арслан чуть ли не наполовину высунулся из окошка: впереди, в четком переплетенье ажурных перекладин, вонзалась в небо стальная башня. Эта нефтяная вышка показалась ему чудовищно высокой, — взглянешь на ее верхушку, и шапка слетит с запрокинутой головы. Но водитель не дал возможности наглядеться досыта — промчал мимо, разбивая ветер, и вот она уже где-то далеко, стальные перекладины ее превратились в тоненькие черточки.
Вышек более не было видно, зато в открытом поле показались вдалеке какие-то огни. Издали они напоминали костры неведомых странников, а чем ближе подъезжала к ним машина, тем становились они громаднее, тем яростней и ярче пылали. И Арслан понял наконец, что это газовые факелы, и, не в силах совладать с собой, схватил шофера за плечо:
— Товарищ! Только на одну минутку, тормозни, будь другом!
Не успела еще машина остановиться, как Арслан уже выскочил из нее и по развороченному, изборожденному тракторами полю побежал к факельному огню. Водитель вслед за своим пассажиром спрыгнул с подножки и долго и удивленно глядел, как бежит странный человек в развевающейся одежде прямо по распаханному, бежит к какому-то там факелу; засмеялся, сел на обочину и закурил папироску...
Гудело огромное пламя факела, плескалось на ветру красным полотнищем, разворачивалось и свивалось, как в дни сабантуя полощется на вершине самого высокого шеста алый праздничный кумач. Земля вкруг пятиметровой стальной трубы, голая и мертвенная, потрескалась от неимоверного жара. Так вот он, вечный пламень! Идол огнепоклонников, влекущий их через опаленные пустыни и безводные гибельные пески в таинственные края Средней Азии, Хорезма и Сурханов. Что там верующие и невежественные фанатики — образованного и ученого человека, нашего современника, пожалуй, мог бы околдовать этот божественный огонь — вечный, таинственный жар земного сердца.
Долго стоял Арслан у ревущего факела, не мог оторваться; жаркие отблески сияли на его бронзовом лице, застыли в удивлении лохматые черные брови, и большие рабочие руки сжались в крепкие кулаки.
— Ну что, поехали? — неожиданно громко раздался над самым его ухом зычный голос шофера. Видимо устав ждать, подошел он незаметно к Арслану и теперь ухмылялся, наблюдая его искренний восторг.
— Эх, вот где сила-то! Эдакого зверя да колхозничкам бы, зерно сушить — не было б у них никакой заботы, ей-богу! А то знай себе греет небесное царство, ангелочки там небось в трусиках уж летают: во жарко! — и водитель радостно засмеялся, показывая крупные редкие зубы.
Когда же добрались до машины и сели в кабину, он вдруг серьезно спросил:
— А вы вроде как быстрее хотели?
— Простите... — буркнул Арслан и покраснел, поймав себя на том, что забыл о смерти старой Юзликай, — стало стыдно и горько. А когда представил себе лица родителей, свою встречу с ними, расстроился вконец. Насупился. Пять лет тому назад, перед тем как уйти из дому, крикнул он им: «Пока жив — ноги моей в вашем доме не будет!» — с этим и в город уехал...
3
Семья Шавали, старшего сына Кубаша, славилась когда-то по всему Калимату своим крепким хозяйством. Поставил Шавали просторную пятистенную избу — была она, правда, под лубяною крышей, зато из отборной, бревнышко к бревнышку, осины; срубил, благословись, баньку по-белому, добротные дворовые постройки; в приусадебном садике сияли сочными красками голубые и багряные ульи, было их у Шавали поболе десятка. Среди невзрачных избенок Калимата выделялся этот дом своим богатым видом; прочные тесовые ворота, высокий забор, а пуще того сердитые пчелы, что звенели в солнечные дни вокруг дома, не подпуская калиматовских ребятишек, окружали дом Шавали какою-то даже тайной.
Время оставило свой неизгладимый след и на этом крепком хозяйстве. Крыша избы, просевшая прямо посерединке, походила теперь на двойной вспученный верблюжий горб, покосились когда-то стройные столбы русских ворот, баню по-белому прошлой осенью старик самолично разобрал и срубил на ее месте крохотную черную баньку — с этого самого часа он совсем приуныл, ходил пришибленный и жалкий.
А ведь сколько он отдал сил, сколько пролил пота!
Через многие горькие мытарства прошел Шавали, прежде чем сумел свить свое собственное гнездо. Трудные времена были, беспокойные! Воротясь из германского плена, умыкнул он из деревеньки Пичментау, что в верстах тридцати от Калимата, старую деву Магишу, дочь обнищалого мурзы[4]. Приданого у невесты всего-то было, что небольшой узелок, но стоил он поболе всяких там пустяковых перин, подушек да занавесок. Были в нем и жемчуга и кораллы, и чулпы[5] и браслеты — все из золота-серебра, с драгоценными каменьями, хватило б Шавали на всю жизнь, продай он хоть одну этакую красоту.
Но на другой же день пожелала невестка Магиша прибрать к своим рукам все ключи от амбаров, погребов, от сундуков да чуланчиков. Однако старая Юзликай, привыкшая жить своим разуменьем, крепка еще была и сметлива, передать бразды хозяйства невесть откуда взявшейся конопатой и тонконогой девке не торопилась. Пошла между ними ругань, пошли распри, — не миновало и трех месяцев со дня свадьбы, как пришлось Шавали испросить у односельчан участок земли возле степного Зая и вбить первый кол на своей усадьбе.
Мужик Шавали был толковый, знал цену и земле, и своим мозолистым рукам. Осушил болотистую низинку возле Зая, развел там сад-огород, вырыл рядышком колодец, из паршивого жеребенка, что достался ему при разделе отцовского имущества, вырастил горячую быструю кобылицу. Все ладилось у крепкорукого Шавали, мертвой хваткой обладали железные пальцы его, удерживали, словно клещами, нажитое добро. Со временем рассчитывал он пустить в оборот приданое Магишы, рассчитывал стать «дастуйным» человеком, да подрезали ему крылья: подкосила нежданная беда, выбила из налаженной жизненной колеи.
Помнила конопатая Магиша неуступчивость старой Юзликай, таила на нее жгучую злобу, скрежетала по ночам зубами. Вроде бы и хозяйкой стала Магиша, и дом был полной чашей, а вот не давало покоя, грызло желание отомстить ненавистной свекрови. Тайком от мужа сговорилась она с надежным человеком, просила его зарыть узелок со своим приданым на сеновале у старой Юзликай, и когда дело сладилось, пошла голосить по Калимату, что ее обокрали.
Зарыскали по дворам понятые, подняли на ноги всю деревню, побывали и у свекрови, но... ничегошеньки не отыскали. Старая Юзликай, проведав от того же «надежного» человека о гнусной затее невестки, вырыла узелок с богатством, темной ночью кинула его в жаркий, огненный зев печи и даже пепел развеяла по ветру.
Падала Магиша на сеновале, рвала на себе волосы, вопила, задыхаясь в слезах:
— Вот здесь же, на этом вот самом месте и было все спрятано! Здесь же было, вот, вот туточки, а-а-а!
Боже ты мой! Да разве ж слезами воротишь тот клад, что пожрало ненасытное пламя!
Наглухо закрыв двери и окна, всю ночь смертным боем лупил Шавали свою жену, прошляпившую такое богатство, клеветой и напраслиной пытавшуюся засадить в тюрьму нелюбую свекровь. Лупил и за дурость, и за утайку, и за то, что опозорила его передо всей деревней. Но не так-то было просто отмыть позор, павший на голову Шавали, — пришлось ему в поте лица трудиться на пользу общества и до революции, и после нее: в годы коллективизации одним из первых вступил Шавали в колхоз, передал артели и клеть и амбар. Правда, года три пилила его за это ненасытная Магиша, но Шавали терпел, добиваясь прежнего уважения односельчан.
Когда нагрянула Великая Отечественная война, Шавали был уже далеко не молод, лета его давно перевалили за призывной возраст, силушки же, унаследованной от неугомонного Кубаша, еще хватало: работал он сразу и кладовщиком, и бригадиром, вновь стал на селе большим человеком, трудился старательно, не забывая, впрочем, и о своей пользе. Жизнь, казалось, наладилась складная и сытная, но вот подросли дети, и сердце старого Шавали вновь заныло, треснуло, отчаялось. Файруза да Арслангали, старшие, вовсе не ужились в отчем доме, ушли своей дорогой; Марзия, серединочка, как окончила в этом году десятилетку, так одно на языке — город да город. Меньшой, Габдулхай, все на речке болтается, схватит удочку, глядь — и след простыл. Не лежит у них сердце к хозяйству, видать, мохом оно заросло, сердце...
А в последние годы что-то заболела у старика поясница, в спину качало постреливать, и в жесткой черной бороде засверкали серебряные нити. Смотрел дряхлеющий Шавали на детей своих, что один за другим бросали родимый дом, смотрел, как рушится, летит по ветру собственным горбом нажитое хозяйство, мучился смертной мукой, и душу его, словно жук-древоточец, грызла тоскливая забота. Миновало уже то время, когда гремел он на весь Калимат хваткой силой, мог пахать, как вол, с утренней зорьки до вечерних звезд, — горько оттого старому и обидно, а тут проклятые машины — развелось всяких, черт их разберет! — гуденьем растравливают душу. Всю травку на улицах перепоганили, всю землю перерыли — нет на них ни дна ни покрышки. Тьфу! Плюнуть бы вот эдак-то в нонешнюю суету, лечь где-нибудь в тенечек под зелененькое деревце, до-о-о-лго лежать... Но шумели над Калиматом бурливые весны, золотым румянцем светились верхушки окрестных холмов, бились в звонком воздухе сочные запахи подсохшей земли, парного навоза, еще чего-то жгуче-весеннего, и старик не выдерживал. Мерещились ему благоуханные белые срубы, дымные просторы пашен, яростно колотилось у Шавали сердце, яростно зудели громадные, мозолистые ладони. И в этакий-то прекрасный миг подсунется, в глупой своей жадобе, ненасытная Магиша, — затеребит мелкой пустяшной заботой да испортит у старика настроение, отобьет охоту к большому делу.
Так и нынче вышло.
В субботу, вечерком, воротился Шавали-абзый с хлебных полей взбудораженный, с колотящимся сердцем и пересохшим горлом, захотел испить кисленького и, улыбаясь затуманенными глазами, обратился к Магише:
— Гей, старая, поднеси-ка мне ковшик медовухи!
Магиша кряхтела в углу на лавке, соскребала с заброшенных рамок остатки плесневелого воска.
— Какой еще такой медовухи, вишь, приспичило! ни тебе праздник, ни сабантуй...
— Ладно, старуха, языком-то молоть. Что-то в боку покалывает, думаю, не поможет ли.
— Не помо-о-ожет... — передразнила его Магиша и зло швырнула куски гнилой рамки к печи. — Поможет тебе, как же! Цельный день валяешься, как еще тебе в ж... не закололо! А то в боку-у... На ворота дыхнуть боязно, все столбы как есть завалились, навес, того и гляди, вовсе рухнет, почесался бы хоть! Мне, что ли, за тебя жалезяками размахивать? Пошел бы да размялся, лопатку там взял али топор. Глядишь, и ко-лотьба пройдет...
Эх и взвился Шавали-абзый! Видать, переполнилась чаша, переплеснулась — набухли яростные желваки, вздулись на шее синие жилы:
— Тридцать лет кровь мою сосешь, дурья твоя башка! Кто же железками-то размахивал, когда их ставили, ворота эти поганые? Может, отец твой, которого в Сибирь сослали, может, он их возвел, чертова ты курица?!
Магиша, заметив, что глубоко сидящие глазки мужа вылупились и вспыхнули бешеным огнем, заметно струхнула:
— Погоди-ка, отец, чего ты... Потише, говорю, не шуми... вот разошелся...
Но старик уже осатанел: всхрапнув, лягнул он лежащие на полу сотовые рамки и, словно раненый зверь, заметался по избе. Все припомнил Шавали в эту минуту: как ушла из дому Файруза, как удрал в город сын Арслангали, как растут дети никуда не годными балбесами — ах, прорва! Из-за нее же, из-за ейной ненасытной утробы! Тут-то ему и попался на глаза бочонок со злополучной медовухой, что зрела себе потихоньку на печке, лопотала в тепле пьяные свои скороговорки. Яростно сграбастал Шавали-абзый пузатый бочонок, вскинул его высоко и мстительно саданул об пол.
Точно снаряд взорвался в избе, полетели щепки и брызги, но не успела потрясенная тетка Магиша и рта раскрыть, отголоском пушечного залпа ахнула дальше дверь, испуганно зазвенели стекла.
— Сгубил бочонок, окаянный, откуль ты только взялся на мою головушку-у! — завопила, опомнясь, тетка Магиша, из глаз ее вытекли две робкие слезинки, и она, торопливо собирая с полу озерцо ароматной медовухи, тонким голоском запричитала:
— Медовуха-то была на хмелю-у-у... пропала совсем медовуха-а-а... Чем теперь угощать лесника Гарапшу-у-у... где теперь возьмешь четыре дубовых столба-а-а... Да что б ты подох совсем! чтоб чирей у тебя на заднице выскочил! чтоб руки у тебя поотсыхали! чтоб тебе повылезало, ирод!
Потом, притомясь, она замолчала и прислушалась: на улице было тихо; темнело; напоенную запахом меда избу буровила звонкая одинокая пчела.
4
Не шел — летел Шавали-абзый к дому Кубаша, задумав в тот же час забрать к себе древнюю мать.
«Будя! — твердил он. — Назло Магише, хватит потакать ее ненасытию! Да рази же на ее горло напасешься? Ни в жисть! Оно же у ей что рукав у тулупа. Только этот рукав кулаком не заткнешь: пропасть бездонная, ей-богу!»
В темных сенях наткнулся старик на пустое ведро, полетело оно с грохотом куда-то в угол, но Шавали-абзый даже поднимать не стал, сразу толкнул в дверь:
— Есть кто-нибудь?
Из глубины неосвещенной избы с коптящей лампой в руке показалась растрепанная Файруза. Подойдя ближе, подняла она тусклый огонек повыше, потерянно моргая, взглянула на вошедшего:
— Кто ходит?
— Да я это. Что за темень у тебя такая в сенях? Чуть было башку не раздолбал, — все еще сердито проговорил Шавали-абзый, но, заметив полураскрытые груди дочери и ее растрепанные волосы, взъярился пуще прежнего, злобно заорал: — Прикрой сиськи-то, бесстыжая твоя морда! Да что ж это за день такой, прости господи?! Выставилась перед родным отцом, что уличная девка! За кого же ты меня приняла, стерва, харю-то портянкой, что ли, завесила?!
Но до Файрузы его ругань, кажется, не доходила, стояла она все так же молча, глядела на отца широко распахнутыми глазами, и Шавали вдруг насторожился:
— Чего молчишь? Или стряслось что?
— Бабушка... скончалась... — проговорила Файруза серым, осевшим голосом и, словно сама только сейчас поняла суть слов этих, застонала, прикрыла грудь и с высоко поднятым тусклым огоньком в руке удалилась в темень избы.
Шавали застыл на пороге, как убитое молнией дерево. Бессмысленная ссора, гнев на глупую жену, все обиды разом вылетели из опустелой головы, и лишь, постукивая в висках, нарастала звенящая, милосердная боль — возвращение к жизни, — к мучению, к мыслям. Едва передвигая трясущимися ногами, пошел он к матери. Из-под светлого взлетающего платка глянуло на Шавали ее застывшее, мертвенно-белое, но все еще удивительно ласковое лицо. Трудно помолчал Шавали, недолго, но сердце его облилось кровью и заныло в запоздалом раскаянье. Не уберег, не позаботился. Все добро копил, скарб! Многое заглотила Магиша и желала с каждым днем все больше. А мать не воротишь. Плачь не плачь. Нет ее. И не будет. Ушла мать... и ничего ей не надо...
Старик прикрыл платком лицо умершей, хрипя, произнес чужим голосом:
— Родне телеграмму надо бы дать. На саван... есть?
— Откуда? Она же умирать не собиралась...
— Прибери волосы-то. Люди могут зайти. А где Тансык?
— Отправила к соседям.
— Хвойная вода есть?
— Откуда же...
— Одеколон?
— Было что-то в шкафу. Если Тансык не пролил...
— Теплую воду готовь. Иголку новую, нитки. Зеркало не забыла прикрыть? Ну, чего стоишь? Насчет савана сам позабочусь.
На следующее утро старик, проведший бессонную ночь подле покойницы, вскинул на жену красные воспаленные глаза и спросил:
— Бязь у тебя... белая... помнишь? Сколько ее там будет?
— Какая бязь? Это та, из которой я тебе подштанники скроила? Дак она давно кончилась.
— Ты давай дурочку-то не строй. Из тридцати метров одни подштанники — жирно будет.
— Жирно не жирно, а была бязь, да и вышла вся. Ишь ты, про детей-то своих забыл небось? На них, лоботрясов, не токмо что бязи, свиной кожи не напасешься! Сам, сам научил баклуши быть, бездельничать, ворон гонять, а я теперче виновата стала, вон чего выду...
— Ну, хватит, прикуси язык. Где бязь, спрашиваю?
Магиша вдруг замолчала, сводя губы в ниточку, отрезала:
— Не дам!
Старик налился злобой, ка щеках заходили крутые желваки, но сдержался и, выдохнув тяжело, нарочито спокойно попросил:
— Я тебя окончательно спрашиваю, где эта бязь? Ежели жить любишь — подай!
— Не дам! — отчаянно сказала Магиша и взвизгнула в закостенелом упрямстве: — Не дам! С какой стати? Кому-кому, да только не ей, старой карге! Приданое мое в огонь кинула, не пожалела, сожгла! Богатство-то какое было, господи, господи...
И картины тридцатилетней давности ожили у нее перед глазами, обожгли, выступили на глазах жалкие слезы. И этой растреклятой старухе дать на саван свою собственную бязь? Белую, совсем новую?! Накось, выкуси!
Одинокая слезинка отважилась было спуститься по ее жаркой щеке и мгновенно высохла, зрачки зло сузились — даст она на саван, держи карман шире! Пущай теперь померзнет в сырой земле, пущай. Хучь застрелят, хучь прибьют до смерти, а не видать старой ведьме савана. Не то что бязи, лыка гнилого не даст она этой адской головешке. Только через ее труп, не иначе!
И Магиша быстрым ястребом упала на сундук, но еще быстрее оказался тяжкий, словно гиря, кулак Шавали, с одного гулкого удара опрокинул ее навзничь...
...От самых ворот услышал Арслан летящий из избы исступленный крик, мотнул головой, отгоняя наважденье, но крик зазвенел отчаянней, и Арслан бросился к знакомому с детства крылечку. Распахнув двери, вбежал он в избу и увидел на полу вопящую мать и над нею всклокоченного отца. Грудью прикрывала Магиша замок добротного сундука, и великий мужнин кулак летал над нею — примеряясь — в шипе, клокотанье и брызгах слюны, изрыгающихся изо рта Шавали.
Выстояв мгновенье у порога, Арслан шагнул вперед и сказал тихо:
— Что вы делаете?
Шавали-абзый, поведя кровавым глазом, обернулся на голос, остановил нацеленный кулак, остывая, забормотал:
— Ни стыда, ни совести у человека, с покойницей решила посчитаться, экая прорва! Ах, бесстыжие твои глаза... — вдруг, не выдержав, он шмыгнул носом и, стараясь не выдать своей слабости сыну, торопливо отвернулся.
Магиша же, уразумевшая наконец, что кулак перестал-таки мелькать над ее головой, вздохнула и зарыдала сладко и облегченно.
5
В горестной тишине покойницу вынесли из избы.
Шли впереди Арслан и Файруза, плавно и медленно покачивались носилки; сзади шел Баязит — развевались на ветру его седые волосы; Шавали брел, с трудом переставляя ноги, был он в шапке, сгорбленный и старый.
Жена Баязита, начинающая полнеть врач-хирург Тахира-ханум, и три замужние дочери Юзликай остались у ворот; суровый мусульманский обычай повелевал живой женщине на кладбище не входить, дабы не осквернить своим присутствием вечный могильный покой. Древний человек ушел из жизни — к чему нарушать древний обычай? Долгим взглядом проводили они старую Юзликай в последний, ее путь, осушил быстрый ветер печальные слезы, запутался в волосах мальчика Тансыка. Малыша тоже не взяли на погост: увидит он, как закапывают в сырую землю любимую бабку, расстроится, мало ли какой след останется в детском его сердечке. Держался Тансык доверчиво за руку Тахиры-ханум, смотрел грустно и непонимающе на бабушку, что удалялась по улице в высоких, долбленых носилках, качалась на плечах детей своих, белая, таинственная.
— Тетя, а бабушку хоронить, что ли, понесли?
— Хоронить, деточка, хоронить...
Крепче сжимает Тахира-ханум покрытую цыпками ручонку малыша, взмаргивает затуманенными глазами.
— Тетя, а с кем я буду теперь цыплят караулить?
— Цыплят? Не знаю, деточка, не знаю...
Быстрый ветер дует с южной стороны, клонит по своей прихоти покорные травы, а в неоглядной высокой синеве, куда не добраться и быстрому ветру, сбиваются в круглые табунки робкие облака, тихо шепчутся о чем-то...
Кладбищенские ворота открыты. Среди зеленого буйства жимолости и можжевельника чернеет разверстая могила, возле нее носилки тихо опускают на землю. Согбенный Шавали выступает вперед, намереваясь уложить в могилу тело старой Юзликай, но Файруза безмолвно отодвигает его и сама спрыгивает в сырую темную яму. В толпе, что собралась проводить покойницу, на мгновенье зарождается ропот и тут же гаснет: в тяжелые для старухи дни была возле нее Файруза. Она вздрагивает в холодной могиле, стынет сердце, всхлипнув, нагибается Файруза, откидывает доски, которые прикрывают боковую нишу. Баязит и Шавали осторожно подают ей тело матери...
Быстро вырастает на кладбище свежий могильный холмик, с трех сторон его кладут три белых камня, в головах сажают молодой тополь и молча направляются к выходу, идут домой. Грустно шелестит листвою старая береза, тихо шепчет им вслед неясное утешенье: много слез повидала она на своем веку, и могилка эта не первая и не последняя...
Когда кладбище осталось далеко позади, Арслан приостановился и обернулся в ту сторону. Показалось ему вдруг, что там, на кладбище, вместе со столетней Юзликай похоронили они и старый Калимат. А впереди вздымались громады башенных кранов, грудились горы щебня и песка, змеились глубокие траншеи — то расстилался — пугающий и обнадеживающий — новый каменный город.
6
Ночью Арслан проснулся от духоты. Колыхался в избе загустелый спертый воздух, отец в потном бреду храпел жутко и тревожно. Арслан схватил в охапку постель и вышел. Осмотрелся, нашел травное место, расстелил одеяло и с наслаждением лег — было свежо и звездно.
Ластилась к сонным холмам несметноглазая июньская ночь, пылая в синей тьме мерцающей радостью: бродил пока где-то далече загулявший рассвет; издалека, из-за окраин Калимата, от нефтяных разработок доносилось чуть слышно урчанье машины, призрачный этот звук тонул в безбрежном запахе росных трав.
Блеснула на ослепительный миг падучая звезда, сгорела, но долго еще стоял перед глазами Арслана огненный след, начертанный ею на лике неба.
Вскрикнула ночная птица, на соседнем дворе жалобно заскрипели ворота. До звона в ушах ждал Арслан знакомых шагов, стука калитки, робкого оклика — нет, показалось. И вдруг мучительно осознал, что вновь обманывает себя, свое наболевшее сердце, что нет! нет ее в соседнем доме, вышла замуж, переехала в дальний от них конец Калимата, к мужу, к повелителю; отрешенно уставился он в небо... звезды не падали. Изменчивая природа не любит постоянства, так уж она устроена.
Где-то далеко-далеко, на подернутом застывшими тучами небосклоне полыхнула зарница. «Арыш камчылы»[6], — вспомнил Арслан старинное крестьянское поверье, мелькнуло и в памяти, как падучая звезда, мимолетное прекрасное видение, смутный, волнующий образ... Мунэвера! До боли зримо возникла в иссохшей душе прелестная девушка, давняя его любовь, черноокая Мунэвера.
Печальным светом лучились ее огромные глаза: казалось, ветер вздымался вкруг тонкой фигурки, когда вскидывала она долгие стрельчатые ресницы. Однажды летом, по окончании обоими девятого класса, Арслан, зная, что суровые родители ушли на сенокос, зазвал Мунэверу к себе домой, вскрыл подковным гвоздем замок на чуланчике, завел оробелую девушку в прохладную темень и вручил ей большую деревянную ложку. Тихо-тревожно было в полутемном чулане, попискивали по-хозяйски мыши, пахло липовым медом, горькой полынь-травой, еще чем-то влажным, неясным. Деревянные молчаливые кадки стояли вдоль стен, укрытые лопухами, придавленные досками и булыгами, и, выбрав одну из них, Арслан отбросил камни и широкие влажные листья. Переглядываясь, посмеиваясь, до отвалу наелись они приторно-сладкого, чуть с горчинкой меду, а когда запершило в горле, спустились к роднику попить холодной водицы.
— Пошли в лес? — предложил вдруг Арслан.
У Мунэверы на курчавом непокорном завитке серебрятся веселые капельки, раздуваются ноздри тонкого носа — студена родниковая вода, перехватило дыханье, захолонуло сердце.
— За душицей?
— Душицу бабки собирают, дуреха. Беличье гнездо поищем. Видела балку? Не видела?! Она же вот такая пушистая, легкая, такая как... как ты. А чего ты краснеешь, взаправду говорю, красивая. Ну, пошли?
— Мне картошки еще надо начистить. Мама придет — заругается.
Мунэвера, вздохнув, опустила длиннющие ресницы, погрустнели, затуманились лучистые глаза, и не мог Арслан оторвать от нее взгляда, проговорил, словно в забытьи:
— Не заругается. Тетка Майсара, она ж меня знает. Ей небось тоже хочется после работы попить чаю с земляникой. А я такое место в лесу нашел, ягод там, ого-го! Не успеешь крикнуть: раз! — будет полное лукошко. Ну, чего ты трусишь, дуреха, айда, картошку потом сам тебе начищу, посмотришь!
Видно, по душе был девушке соседский парень, что и замок умел открыть обыкновенным гвоздем, и так ласково выговаривал чудное слово «дуреха», — Мунэвера согласилась.
По ягоды забрели далеко в лес, когда же решили воротиться домой, день как-то сразу нахмурился, склонились в затишье перед бурей испуганные цветы, загустел душный воздух. Не успели они добраться и до Лашмановой просеки, задул, клоня деревья, сильный ветер, загрохотало над головами, засверкали беспорядочно молнии, и забушевал по лесу летний грозовой ливень.
Добежав до старого дуба, они укрылись было под его кроною, но тщетно! Дождевые буйные потоки, пробивая листву, хлестали по лицам, текли за шиворот, промокшая насквозь одежда прилипала к телам, просвечивая розовой наготой; а перед ними гремела в диком великолепии неукротимая стихия, плескали по лесу ослепительные молнии, катались сияющими шарами по лесным тропинкам.
В широко распахнутых глазах Мунэверы ужас и восхищение, ягоды рассыпались где-то по дороге, и она прижалась крепко к Арслану; от девичьего теплого тела, блестящих влажных волос ее исходит волнующий аромат, запах этот кружит юноше голову, рождает в его сердце желание потягаться с самой природой, бросить ей безрассудный вызов.
— Хочешь, и я метнусь молнией? — кричит он, не помня себя.
— Ой, Арслан, не надо, боюсь...
— Думаешь, убьет? Смотри! — Гибкое тело юноши мелькает в грозовом сиянье, Мунэвера с детским простодушием испуганно хватает его за руки, а он хохочет, вытягивая девушку под низвергающиеся с небес потоки воды, целует ее мокрые розовые ладони, пляшет безумную джигу и прыгает наконец под сень дерева. Долго, долго еще стоят Арслан и Мунэвера, прижимаясь друг к другу, под старым развесистым дубом, находя общую радость в этой волнующей близости.
После дождя, взявшись за руки, бредут они через лесные поляны, под блистающими радужными мостами, утопая по щиколотку в мокрых дуплистых травах, расплескивая смутные зеркала луж. Идут медленно и молча, стынет в их душах послегрозовая тишина.
Много лет пролетело с тех пор, много желтых осенних дождей пытались смыть эти светлые воспоминания, много зим тщились замести их снежными сугробами — напрасно. Полыхнула над горизонтом пугливая зарница, и воскресли они, поднялись из далеких тайников памяти, такие же свежие и яркие; знать, бессильны перед живыми человеческими чувствами и бураны, и метели, и холодные ливни, и даже безумный жестокий ураган войны, что пронесся над нашей землею...
...Арслан переворачивается лицом вниз, сжимает руками голову, — только бы забыться, выкинуть из памяти глаза Мунэверы, ее голос, ее ресницы. Под навесом старый петух всхлопывает крыльями, толстым хриплым басом довольно лихо запевает утреннюю песнь, но выходит она у старого уже не так заливисто, как в молодые годы: поосел голос, не хватает дыхания, песнь обрывается сипло и противно. Арслан вздрагивает, перед его глазами возникает отец: топорщатся жесткие усы, выкатились бешеные глаза, скрипя зубами, надвигается Шавани на непокорного сына.
Крепко избил его тогда отец за самовольство. Стегал поначалу лыком, потом ремнем, молчал Арслан, пощады просить не собирался, и Шавали озверел, схватил колодку, на которой плел лапти, сплеча начал охаживать упрямого неслуха. Живого места не осталось на Арслане, голова раскалывалась от боли, невыносимо зудела спина, липкая тошнота подкатывала к горлу. Ночью, боясь застонать, сжимал он что было сил кулаки, стискивал зубы и на рассвете, когда грозный родитель захрапел особенно крепко, бесшумно сполз с высоких нар, вышел крадучись из дому.
Темно было на дворе, ни луны, ни звезд, лишь мрачные тучи, словно укрывая беглеца от родительского гнева, спешили куда-то по ночному небу.
И он побрел наугад по росистому лугу, и ноги вынесли его на тревожно чернеющую излучину Зая, где стоял сметанный с вечера высокий стог. Зарывшись в свежее пахучее сено, встретил Арслан утро, а когда первые солнечные лучи проникли в его душистую крепость, услышал чьи-то шаги и вскинулся: отец! Но были шаги чересчур робки, приближались несмело, с оглядкой, и вдруг шепот:
— Арслан, где ты?
Он приподнялся — в сползшем платке, с раскрасневшимся лицом стояла перед ним Мунэвера, переступая исколотыми о стерню ногами. Взметнулись черные ресницы, и беспокойство на ее лице сменилось радостью:
— Искала тебя, искала... Отец твой ругается, поймаю, говорит, убью! Есть хочешь? А я тебе хлеба принесла, поешь, я подожду...
В село возвращались вместе. На улице им встретился дядя Гибау, прижав к груди изуродованную на гражданской войне руку, окликнул Арслана:
— Загляни-ка, братишка, в Совет, дело до тебя есть. — И добавил, строго глянув на Мунэверу: — Мужской разговор, сестренка, — с глазу на глаз, так что ты уж ступай!
В канцелярии Гибау спросил:
— Ты, братишка, сколько классов закончил?
— А чего, дядя Гибау? Девять!
— Стало быть, знаешь, где Донбасс располагается?
— А чего, дядя Гибау? Знаю!
Председатель Гибау говорил с Арсланом, как с разным, потом, опустив ему на плечо свою здоровую руку, серьезно и вдумчиво сказал:
— На сегодняшний день, братишка, стране нашей нужно очень даже много угля. Стало быть, нужны рабочие, нужны шахтеры! А вот ты, к примеру, хотел бы ты стать знаменитым шахтером, скажем, таким, как Стаханов? Вот! И я правильно решил рекомендовать тебя в школу ФЗО, как самого, стало быть, расторопного парня в Калимате.
Арслан чуть не лопнул от гордости: повидать дальние края, приодеться — кто же от этакого откажется? Эх! Приезжаешь однажды к сабантую в новых ботинках... Вот тогда уж отец по-другому заговорит, а то — колодкой! А Мунэвере подарки привезет, плат шелковый, весь в громадных цветах, подружки небось так и ахнут...
Сразу вырос Арслан в глазах своих одноклассников, ну, а как же, поедет он в далекие большие города, повидает столько интересного, счастливый человек! Только отец его, Шавали Губайдуллин, никак не желал отпускать сына в какую-то там шахтерскую школу:
— Не для того я сына ро́стил, чтобы он в угольной яме зачах! Неча! Неча! — огрызался Шавали на председателя Гибау.
Однако, когда Гибау стал упирать на твердые, но не совсем понятные слова: «трудовая мобилизация», «рабочие кадры», Шавали дня три хмуро и растерянно молчал, наконец сдался. За чаем же, в день отъезда, гладил Арслана по голове шершавой, словно рашпиль, ладонью и долго напутствовал, советуя со всякой шушерой не якшаться, вперед батьки в пекло не лезть, деньги расходовать с оглядкой, да мало ли чего мог еще сказать сыну умудренный опытом Шавали Губайдуллин...
Расстарался в тот день председатель дядя Гибау, велел для будущего шахтера заложить в тарантас племенного колхозного рысака. И когда деревенский конюх взял в руки вожжи, Мунэвера, что развешивала возле плетня стираное белье, успела сунуть Арслану в руки сложенный из тетрадного листа сверточек. Достала она его из-за пазухи, от сердца, и маленький сверток хранил еще тепло девичьей груди. Развернуть его тут же Арслан постеснялся, слишком много собралось на дворе провожающих, и лишь на Бугульминском вокзале удалось ему заглянуть в пакетик. Ахнул джигит — лежал там белый батистовый платочек в алых маках, и два слова на нем, вышитые ярко и просто: «Арслан — Мунэвера». Впервые за свои семнадцать лет почувствовал он дотоле неизвестное ему волнение, поплыли перед глазами туманные круги, задрожали сильные руки. Что же стряслось с ним? Неужто пришло оно, то великое чувство, что лишает людей сна, вселяет в них надежду и обрекает на вечную тоску?
В душном вагоне, глядя на убегающие за окном деревеньки, он вдруг вспомнил слова старой песни: «Не садитесь на машину, увезет вас далеко...» Беспросветная грусть заполнила душу, пытался Арслан запамятовать горькие строчки, да она все не забывалась, проклятая песня, все бередила сердце, и он поклялся: проработаю на Донбассе год — ворочусь домой.
Но воротиться не пришлось, рванула над шахтой первая бомба, взметнулись к небу черные дымы пожаров, и далеко остался тихий Калимат, далеко от дремучих лесов, от укромных опушек и неярких костров, у которых грелся молодой боец лесной армии, сын крепкорукого Шавали, партизан Губайдуллин.
Тяжко пришлось Арслану и его сверстникам, лучшие годы своей молодости провели они на жестокой войне, служили затем два года на действительной. Тревожные, страшные эти годы словно бы притупили в их сердцах жаркие мечты необузданной юности, и в Калимат вернулся уже не пылкий, упрямый юноша, но выдержанный солдат, широкоплечий и спокойный, бывший снайпер Арслан.
Тем же вечером, надраив до блеска сапоги, прицепив все боевые награды, пошел солдат в деревенский клуб. Темным низеньким показался он Арслану, ветхие его стены держались лишь на честном слове да на бесчисленных железных скобах, но молодежь веселилась вовсю, ладила вечерние игры. Какие-то юные незнакомые девушки и парни здоровались с ним почтительно, называли Арслан-абы[7]. Потом поставили солдата в круг, спели, ему песню:
Кто тебя будет ласкать, Тонкий обнимет твой стан!Старую эту песню певали не раз в дни его детства, и никогда не задумывался Арслан над бесхитростными ее словами, не волновала она Арслана, не трогала. Но вот сегодня, когда после долгих лет разлуки вернулся он в родные места, растревожила наивная песенка солдатское сердце: Мунэвера была замужем. Сколько девичьих глаз призывно устремлялось на него в тот вечер, — нет, никого не замечал Арслан и домой шагал в тоскливом одиночестве. У соседских ворот постоял с минуту в невеселом раздумье и, не заходя домой, свернул в переулок, пошел вниз к степному Заю. На Мунэверу он не обижался, не считал изменой и ее замужество. Разве клялись они друг другу в верности? Какие там клятвы, когда ни слова любви не было сказано между ними, да знала ли Мунэвера, что он ее любит?.. Ну что ж, вышла замуж, значит, полюбила другого. Была бы счастлива, больше ему ничего и не надо...
Он остановился на крутом берегу Зая, уставившись на мерно и бесконечно текущие воды. Печалью подернулись глаза, ныло сердце, а слез не было, — видно, и не плачется, когда на душе тяжело.
На другой день, за ужином, Магиша расхваливала сына Тимбика-ветрогона старшину Карима. Завалил, мол, родных посылками, а с собой из ярманской земли вот такие сундуки привез, да все битком набитые. Жаль, родители не успели пожить при таком сыне — больно рано померли. А соседская девка-то, Мунэвера, не смотри, что тихоня, вон какого мужа отхватила, всем на зависть! И Магиша тяжело и многозначительно вздыхала.
— Я, мама, не ради тряпок воевал, — отрезал Арслан, недобро взглянув на Магишу.
— Никто тебе не велит на лишнее-то зариться. А ежли б и привез чего, дак не в чужой же карман, дурень ты этакий. Вон у других-то дети помнят небось, что им хозяйство вести, мозгуют, а ты заладил — не ради тряпок, не ради тряпок!
— Цыц! — сверкнув белками, прикрикнул на нее Шавали-абзый.
— А ты, отец, мне рот не затыкай, ишь, расцыцкался! Не о себе забота, о твоем же бестолковом сыне!
— Цыц, говорю, балаболка, не доводи до греха!
Но настырная Магиша все бормотала о каких-то тяжелых днях, о ярманских шелках и бог весть о чем еще, пока не лопнуло у Шавали терпенье, и старик, отбросив стол, ринулся на завопившую жену с кулаками. Этот безобразный скандал решил судьбу Арслана: разругавшись с родителями, махнул он рукой на нескладную свою семью и уехал в город.
...Угасают на небе последние звезды, тускнеет бледная луна.
Оставив на траве скомканную постель, Арслан вышел на улицу и застыл у ворот, вглядываясь в неясные очертанья горы Загфыран. В низинах у ее подножия клубился белесый и вялый туман, реяли на вершине, таяли в утренней голубой дымке призрачные деревья, и столь свежий и живительный проникал в легкие воздух, что хотелось крикнуть во всю молодую силу и вслед за криком своим взлететь над безмолвием рассветного мира.
Арслан, следуя за прохладным ветром, направился в луга, к приречной уреме. Долго бродил он в росных травах, искал заветные места, что дарили его своим утешеньем в тяжелые минуты после возвращения из армии. Где-то здесь еще мальчишкой веснами ставил он верши, иногда попадалась в них крупная рыба. Арслан оглянулся и замер, не веря своим глазам, — черемуховые кусты, искореженные, вывернутые с корнем, жалко и беспомощно торчали в небо, втоптанные, пластались по земле; редкие уцелевшие сучья чернели в жирных потеках мазута, словно головешки с необъятного пожарища.
Тихо стоял Арслан у старой черемухи, которую особенно любили деревенские ребятишки: славно было играть среди ее густых перепутанных ветвей в веселые «прятки». Измазанные нефтью, оторванные легко и безжалостно, унылой кучей лежали вкруг осиротелого засохшего ствола мертвые ветви. Арслан, подобрав одну из них, поспешно шагнул вперед. Но чем дальше углублялся он в заросли, тем большей обидой и горечью переполнялось его сердце; невозможно было поверить, что урема, каждой весной утопавшая в белом пенном цветенье, погублена бесповоротно и лишь запоздало взывает к милосердию, топыря черные раздавленные пальцы.
Может быть, через годы на этом самом месте люди создадут новую красоту — геометрический красочный узор газонов, клумб и аллей с декоративными деревьями. Но как бы там ни было, всегда тяжело терять дорогое и милое нашему сердцу, даже если и твердо знаешь, что на его месте возникнет новое, возможно, более прекрасное...
7
Сняв с плеча коромысло, Мунэвера опустила ведра на прибрежный песок, вздохнула и чуть постояла, вглядываясь в заречную даль. Недвижно торчали вокруг смирные, мясистые лопухи, курчавился конский щавель, в воздухе веяло каким-то сонным томлением; молодая женщина скинула стоптанные чувяки и, приподняв подол, вошла в реку? Теплые, не успевшие остыть за ночь струи приятно щекотали ноги, осыпая встопорщенный золотой пушок множеством вскипающих пузырьков.
Мунэвера обвила спадающие черные косы вкруг головы, наклонилась и плеснула в лицо пригоршню прозрачной, устоявшейся за ночь воды. Омыла лицо, шею, загорелые, тонкие руки, неудовлетворенно выпрямилась и на ощупь расстегнула за спиной тесный, давящий лифчик; потянулась, плеснула на себя еще одну пригоршню воды и вдруг решила раздеться донага, искупаться в утренней безлюдной тишине. Когда еще выпадет этакий случай? Зимой и летом ни секунды свободного времени — школа, огород, картошка, вечерами насупленный подвыпивший муж, которого надо приветить, накормить, успокоить... Не хватило на ее долю счастья. Рано осталась без отца и, покорная судьбе своей, рано вышла замуж. Говорили ей: свыкнешься, мол, слюбишься, а вот пять лет уж живут, и хоть бы одно теплое чувство проснулось у нее в душе. Нет, не любит она мужа, нет у Мунэверы с ним счастья... Одна радость, что дети, да еще воспоминания вот — летние тихие утра на берегу степного Зая.
Стаскивая платье, Мунэвера запуталась пышной косой в какой-то застежке, досадливо вскинула голову и застыла: на том берегу стоял... он.
Словно огнем опалило тело, и, на ходу оправляя платье, Мунэвера кинулась к берегу, расплескивала тихую воду, спотыкалась, закрыв от стыда и страха глаза; бились о спину тяжелые, разлетающиеся косы, зазвенело, покатилось в лопухи пустое ведро.
Далеко от берега, задыхаясь, остановилась, с минуту стояла молча, слушая гулкие удары сердца. До смерти вдруг захотелось увидеть «его», подойти и взглянуть ему в глаза, а может, ей просто померещилось? Но при одной мысли вернуться на берег застучало, заколотилось утихшее было сердце. Постояла еще. И спокойно, размеренно направилась к кинутым ведрам. На берегу, не поднимая головы, отыскала и надела чувяки, зачерпнула полные ведра воды, нацепила их на коромысло; только тогда взглянула на ту сторону, и сердце ожгло острым чувством сожаленья: никого там не было, лишь холодно отражалась в реке изуродованная, жалкая урема...
Придя домой, Мунэвера на огороде долго поливала узорочье кружевных морковных грядок, легко ступала меж ними, оставляя в мягкой земле отпечатки маленьких босых ног, и на душе у нее было как-то особенно хорошо, работалось легко и свободно, так что ей даже хотелось спеть какую-нибудь сильную и красивую песню. А когда были политы все длинные грядки, Мунэвера села на краю большой железной бочки и сидела, опустив грязные ноги в зеленую парную воду, щурилась на летнее солнце, которое тем временем уже добралось до конька высокой крыши. Во дворе на зеленую траву прилетели два диких голубя. Один из них, с переливчатым, сизо-фиолетовым зобом, выпятив грудку и распустив по земле крыло, долго кружил перед возлюбленной, томно ворковал, надувался и поклевывал в траве что-то несуществующее, подскакивал хвастливо, грозно озирался и опять ворковал своей голубке какие-то сладкие слова. Мунэвера невольно вздохнула, и голуби, похлопав крыльями, улетели: видно, не терпит любовь чужого глаза, не нужен ей докучливый третий...
Мунэвера вздохнула и вошла в дом, а там младшая ее дочка, Миляуша, уже проснулась и потягивалась в нарядной кроватке, раскидывала пухлые белые ручонки, улыбалась беззубым ротиком, смешливо поглядывая на маму.
— Ай-яй-яй, доченька-то моя уже проснулась, встала моя большая доченька, открыла глазки! — ласково заговорила мать и, взяв ребенка на руки, принялась подбрасывать, пошлепывать, целовать и тормошить свое ненаглядное дитя. — Встала моя Мурмурочка, проснулась моя беззубочка! Смеется, гляньте, смеется! Только бы нам, скажи, доченька, разговаривать научиться. А когда же это мы разговаривать-то научимся? Весной? Ладно, весной так весной. Тогда нам язычок перелетные птицы принесут. Какая же птичка нам язычок подарит? Ласточка? Нет?! Соловушка? Ладно, пусть будет соловушка, он такой певун, этот соловушка, такой певун! Если б твоя мама умела петь, как этот соловушка. Не умеет. А-то бы все в песне рассказала, поведала. Ах, глупышка, как она все поведала! Гоп! Люленьки, люленьки, кто не вырос — грустненький! Гоп! Гоп! Гоп! Съели каши ложку — выросли немножко! Давай братика разбудим. Пускай не спит, засоня. Он у нас уже большущий вырос, скоро и ты такая будешь. Ну-ка, тяни с братика одеяло, рано вставать всем полезно, и большим, и маленьким. Ну-ка, стянем одеяло, тянем-потянем...
Стянули и... ах! Братик Анвар-то давно уже — тю-тю! Удрал на улицу и даже поесть забыл.
8
Пробираясь в зарослях погибшей черемухи, Арслан остановился и прислушался: кто-то, гремя ведрами, спускался к берегу Зая. «Ранняя пташка, — подумал Арслан, — может, кто знакомый?» — и... узнал Мунэверу. Сердце бешено заколотилось. «Окликнуть или лучше уйти, пока не заметила?» Однако Мунэвера была так близко, так легко, словно кроткая лань, входила в воду, так радостно плескала в лицо сверкающими брызгами, что он невольно застыл на месте и стоял молча, в растерянности и смущенье. Мунэвера, умывшись, потянулась, взялась за платье, но, скидывая его, бросила нечаянный взгляд на Арслана, и вздрогнула, и остолбенела на миг, и внезапно кинулась бежать. Замелькали по желто-изумрудному берегу ее быстрые белые ноги, взметнулась пышная черная коса... — исчезла... словно было это во сне, и лишь расходились по взбаламученной воде, убегали вслед за нею широкие насмешливые круги.
Арслан повернул домой, но шел задумчиво, отрешенно и неожиданно для себя оказался в новом Калимате, скоро и удивительно строящемся городе нефтяников.
Перед ним два старательно гудящих широкостопных катка ходили неспешно взад и вперед; несколько женщин в холщовых передниках, в темных от пота желтых рубашках с засученными по локоть рукавами часто подносили в плоских носилках комковатую, парующую асфальтовую массу и, вывалив ее на масляно-желтый, мягкий с виду щебень, неторопливо шли обратно к большой, черной, горячей куче; другие женщины, тоже в холщовых передниках, но держа в руках совковые, с длинными блестящими ручками лопаты, разравнивали высыпанную горку; наезжали с хлопающим пыхтеньем тяжелые катки, и из-под тускло посвечивающих железных, в мелкой ряби колес выползало уже асфальтовое шоссе, дымящееся и антрацитово-черное.
Арслан остановился, щурясь на вьющийся над дорогой синий угарный дымок, смотрел на весело и скоро работающих женщин, а рядом с ним шептался и вскрикивал целый табун деревенских ребятишек, любопытно и со страхом уставившихся на середину улицы. Там, с трудом выдирая ноги из асфальтовой гущи, пробирался мальчуган — растрепанный, в коротких штанишках, с отчаянными темными глазенками; сделав еще два-три неуверенных шага, он завяз окончательно и, стоя в обжигающем, резко пахнущем месиве, с надеждою, испуганно открыв рот, поглядывал то на асфальтировщиц, то на своих голоногих товарищей. Но женщины, торопящиеся доложить остывающую и еще довольно большую кучу асфальта, попросту не замечали сорванца, а товарищи явно не спешили к нему на помощь, и кое-кто из них даже весело хохотал над жалкими и тщетными потугами неудачливого пешехода.
Арслан, высоко поднимая ноги, дошел до уже сморщившегося в готовности зареветь мальчонки, выдрал его из липкого, смолистого асфальта и, схватив в охапку, вынес на обочину. Поставив малыша на землю, Арслан принялся вытирать извоженные в смоле ботинки, пошаркал ими и по траве, и по сухой земле, но вар не отчищался, наоборот, смешанный с комочками земли и сухими палками слой его становился все более толстым и тяжелым.
— Ну, братец, угораздило же нас с тобой вывозиться, — засмеялся Арслан, взглянув на мальчугана и отбросив щепку, которой пытался отскрести смолу с ботинок. — Что делать-то будем?
Тот стоял, низко опустив голову, чертил в пыли ужасающе грязным пальцем исцарапанной ноги и молчал. Потом поднял лукавые большие черные глаза и покосился на Арслана, словно говоря: «Вот еще! Такой дылда, ты уж сам что-нибудь придумай!»
— Живешь-то далеко?
— Ага, далеко.
— А ты кто?
— Анвал, не знаесь, что ли?
— Теперь знаю. А папка у тебя есть?
— Хы, конесно, есть.
— А он кто?
— Калим Тимбиков, вот кто.
Арслан вздрогнул и быстро спросил:
— А мамка... Мамку как звать?
— Мунэвелла-а... — протянул Анвар и поглядел на Арслана с некоторым удивлением: вроде дядька веселый и сильный, но совсем глупый, ничего не знает.
А дядька, забывшись, жадно рассматривал мальчугана, его черные глаза, похожие на прекрасные глаза Мунэверы, знакомый овал лица, маленький пухлый рот, и только нос у Анвара, крепкий, с чуть намечающейся горбинкой, был отцовским. Арслан вдруг наклонился, обхватил маленького Тимбикова задрожавшими руками, поднял и, широко и стремительно шагая, свернул в ближайший переулок. У своих ворот он опустил лягающегося, ворчливого малыша на травку и стал крепко целовать его в тугие щеки, в родные черные глаза. И растерянный мальчуган наконец поддался доброте и ласке этого большого, сильного человека, весело рассмеялся и обнял его за крепкую, пахнущую одеколоном шею.
...Мунэвера, обеспокоенная долгим отсутствием «братика Анвара», взяв на руки Миляушу, вышла на улицу. Она заглянула в недостроенный желтый сруб, в котором обычно играл сынишка, обошла близлежащие переулки-закоулки, обегала все окрестные дворы — Анвара не было. Порасспрашивала у соседских ребятишек, выходило, что никто с ним сегодня не играл, никто его сегодня даже не видел.
И Мунэвера перепугалась, вспомнив, что в последнее время на улицах стало больше машин, глубоких, всюду нарытых ям; вот и недавно где-то рядом задавило маленького парнишку, а другой, рассказывали, упал в канаву, сломал ногу. В страшной тревоге, совершенно потеряв голову, она бросалась из конца в конец, бегала с зареванной дочкой на руках по деревенским улицам — нет, словно в воду канул мальчишка. Наконец, чувствуя, что уже изнемогает, решила отнести Миляушу к своей матери, а потом пойти в милицию. И все твердила по дороге: только бы ничего не случилось, только бы ничего не случилось...
Пробегая мимо дома Шавали Губайдуллина, Мунэвера мельком заглянула в раскрытые ворота и обомлела, подкосились ноги, едва не упала она, не расшибла дочку Миляушу. Не двигаясь, сглатывая набежавшие слезы, долго смотрела во двор Губайдуллина: там, на крылечке, сын ее Анвар, забыв все на свете, играл с Арсланом в камушки, хохотал, ловко обыгрывая неумелого дяденьку.
Миляуша, увидев Анвара, радостно загулькала, захлопала в ладоши, на ее голос обернулись сразу и братик, и смутившийся Арслан. Анвар, просыпав разноцветные камушки из подола задранной рубашонки, вскочил на ноги и подбежал к бессильно прислонившейся к столбу ворот, улыбающейся и заплаканной матери, крикнул, подпрыгивая и махая руками:
— Мам, мам! Это дяденька Алслан, видис?.. Мы с ним ноги мылом стилали, ух, здолово! А ноги все лавно глязные — а мы их келосином! Мам, я тепель с ним длузить буду, ладно, мам, ты не лугайся!..
Арслан, поднимаясь с крыльца, старательно отряхивал брюки, прятал в траве босые ноги, украдкой спихивал со ступенек горку мелких камушков, бросал на болтливого Анвара укоризненные взоры.
— Здравствуй... Мунэвера...
— Здравствуй, Арслан...
И молчание.
9
Вечером в избе Шавали собирались к столу. На почетном месте восседал глава семейства, крепкорукий хозяин, рядом с ним нахмуренная Файруза, ближе к двери, пряча под столом немытые руки, ерзал по лавке самый младший, озорник Габдулхайка. Время от времени он шмыгал облупленным, нежно-розовым на кончике носом; заметив же сердитый взгляд сестры Марзии, высовывал красный язык — дразнился.
А Марзия с восхищением смотрела на старшего брата. Все ей казалось хорошо в нем: то, как он себя свободно держит, и его нерушимое спокойствие, большие, сильные руки и задумчивое лицо. Она, как и Арслан, подпирала рукою белый, мягкий подбородок и делала на лице задумчивое выражение, устремляя глаза в одну, заранее выбранную точку. Сидеть так ей очень нравилось, только Габдулхайка, черт, не давал покою, показывал язык, строил страшные рожи. Она украдкой погрозила ему кулаком и вновь застыла, положив подбородок на руку и уставясь на коричневый большой сучок, выделяющийся на дощатом, чисто выскобленном столе. Арслан, заметив, как старательно подражавшая ему сестренка исподтишка грозила свинтусу Габдулхайке кулаком, ласково усмехнулся.
Тетка Магиша тем временем поставила на середину стола большую алюминиевую чашку, в которой исходила вкусным паром горячая и густая с большущими кусками мяса домашняя лапша. Поводя перед собой руками, она что-то забормотала, но, поймав косой, выпученный взгляд мужа («эт-та что еще за набожность вдруг?!»), заторопилась и стала разливать лапшу по тарелкам. Сегодня обычно сварливая и непокорная старуха помалкивала, знала: за столом, вокруг которого собралась вся семья, хозяин — старый Шавали, ему и говорить. Так же думал и сам Шавали-абзый, долго ждал он этого вот дня, аж истомился. Пора, давно пора взять семейные вожжи в свои крепкие еще руки, — будя! Погуляли резвые коняшки, пора их стреножить, на то он и хозяин, на то отец им.
— Ягез, житешегез![8] — строго и громко сказал он и покосился на старшего сына: как ему это нравится? Но тот, кажется, и не расслышал, нагнувшись под стол, шебуршал там какою-то бумагой. Шавали-абзый, уязвленный, открыл было рот, желая закатить сыну долгую отповедь, где говорилось бы и о хлебе насущном, и о хозяйственном духе, и, более всего, об уважении к родителю, который его, неслуха, родил, кормил да уму-разуму учил! Но Арслан перебил его на самом вздохе:
— Отец, я тут поллитровочку сообразил, как ты, не против? Давно не виделись... и дни все тяжелые, может полегче станет. Конечно, не было такого у нас в заведенье — со старшими выпивать. Ну, да помаленьку, на донышке, чтоб горе наше забылось. Давай, отец, выпьем.
Шавали-абзый, не раскрывая рта, затерянного в густых сивых зарослях усов и бороды, долго и значительно прочищал горло. Не очень-то ему пришлась по нраву этакая самостоятельность сына. Ишь, сопля зеленая, отцу и слова молвить не дает, сразу бутылью об стол хлопает, куды уже нам до этакой прыти! Но заругаться вслух Шавали-абзый все же не решился, подумалось ему, что крякнул он внушительно и грозно, должон его сын понять и сникнуть. За столом вдруг стало тихо, собралась было прыснуть Марзия, да Габдулхайка под столом крепко щипнул ее за ногу, и она сразу помокревшими глазами жалобно взглянула на старшего брата.
Арслан, почуяв недобрую эту тишину, тотчас разлил водку по стаканам и, подвинув один отцу, второй взял в недрогнувшую руку, одним духом опрокинул его и молча поставил на стол. Могучим мужиком вырос Арслан: не поморщился, не вздохнул, лишь раздул ноздри да вытер светлую капельку, застрявшую в уголке губ. Шавали-абзый изумленно воззрился на своего молодецкого сына, вспомнил свою молодость, сморгнул набежавшую слезу и дальше кобениться не стал, схватил стакан и тем же манером опрокинул его в рот, но закруглиться по-молодому не сумел — подавился, заперхал сухим лающим кашлем, и тетка Магиша, охнув, засуетилась вокруг него, тыча ему в руку жирный кусок мяса.
— Не в то горло пошла, проклятая, — смирно ворчал старик, размазывая по щеке громадным, черным, заскорузлым пальцем теперь уже обильно брызнувшие из глаз слезы.
Он вдруг захмелел и позабыл о пище; от Магиши, все подбиравшейся к нему с куском мяса, отмахивался, словно от надоедливой мухи; во хмелю же неожиданно подобрел и улыбался в густую бороду, произнося какие-то глупые ласковые слова, и даже в избытке чувств погладил застеснявшегося Габдулхайку по взъерошенной голове.
Эх, едрена-корень! На душе у Шавали сегодня праздник. Вот и он сидит на почетном месте, как самый что ни на есть уважаемый родитель. Да рази же скажет кто, глядя на это, будто родные дети его не почитают? Рази ж это не почет и уважение? Старик взглядывал на Арслана и ухмылялся: «Знает, подлец, с какого боку зайти, хитер!..» Но, переведя взгляд на Файрузу, он явственно вздрогнул — ожгли, обдали гневом непримиримые черные глаза. «Эк, уставилась... черт! Не ведает того, что у меня, может, сердце кровью изошло...» Навернулись на глаза сердитые теперь слезы, Шавали закусил губу, засопел и отвернулся, скрывая от детей свою слабость, но они заметили, удивленно переглянулись и замолчали.
Шавали-абзый перевел дыхание, подрожал крыльями вислого носа,.вздохнул еще и заговорил:
— Жизнь-то теперь к молодым переходит, да-а... Ну, от веку оно так положено, и обижаться на это не след. Насчет того, бывало, отец мой, покойник, сказывал: мы, мол, старики, уже повыдохлись, теперь, значит, вы, молодежь, будете клад по жизни искать. И лежит, мол, тот клад под агромаднейшим камнем, а чтобы камень-то откинуть мно-о-го пота пролить требоватся. Ну, сказывал, одним потом его, конечно, не возьмешь, тут, стало быть, особая хитрость своя сидит. Ежели наладишься к ему со сноровкой, да с головой, да с именем всевышнего, то камень тот отринется, и будет под ем бесценный клад. Во как закрутил! Ну, помаялись мы немало. Силушки не жалели, поту черного пролили невесть сколько — тяжел был камень, трудные времена. А клада все ж не сыскали. Оттого, стало быть, что хитрости не разумели, неученые были, темные. Вот ныне-то молодые повыучились, справляются и без аллаха: подымут камушек, а клад под ним не только что лежит, он, едрена-корень, фонтаном бьет! Да-а-а... Молодые теперь — хозяева жизни. Но вот точит меня одна мыслишка, грызет, и никакого от нее спасу. Ты, Арслангали, скажем, человек с образованием, и на заводе немало проработал — проталерият, особ статья. Вот ты скажи мне, деревне, только по чести, от проталериятской души: что же такое, к примеру, он нам дает, этот клад?
Шавали-абзый с превеликим вниманьем, словно решался важнейший жизненный вопрос, поворотился к Арслану и, взглядывая ему в глаза, ждал ответа, а когда Габдулхайка, хихикая, зашептал что-то Марзии, цыкнул на них так грозно, что парнишка чуть не слетел с лавки и побледнела испуганная девка.
Арслан отвечать не торопился, был вопрос этот далеко не простенек, хоть и казался на первый взгляд таковым, поставленный со свойственной крестьянам прямотой. И, понимая, что отец ждет от него ответа, который уяснит ему дальнейший смысл его трудной, запутанной жизни, Арслан взмахнул кулаком:
— Нефть, отец, дает нам очень многое. Был Калимат обычною деревенькой — будет теперь новым городом. Проведут во все стороны гудронированные шоссе...
— Нет, сынок, не то говоришь. Что Калимат наш собираются порушить — это я знаю, тут уж ничего не поделаешь...
— В наших краях, отец, появятся свои кадры — нефтяники Татарстана!
— Фу-ты, ну-ты, нефтяники! И на сегодня немало их ходит, промасленных-то кожанок. Еще что?
Арслан задумался. Еще что... Куда это он клонит, интересно? Может, боится, что сгонят с насиженного места? Во всяком случае, ясно, что его «мыслишка» вертится где-то поблизости, и, не получив на свой вопрос подходящего ответа, старик, понятно, не успокоится.
— Да что тебя гложет-то, отец? Ты уж говори начистоту, тогда и мне легче будет.
— Ладно. Пирикрасно, как говорится. Вот ты скажи, деревне нашей — каюк?
— Конечно, нет.
— Как так?
— Ну, посуди сам, рабочих надо жильем обеспечить? Надо. А пока для всех построят городские квартиры — лет двадцать пройдет, не меньше. И в Калимате семьсот — восемьсот дворов, куда же их понатыкаешь, восемьсот-то семей? А тут у них свои дома, испокон веков в них живут. Да еще многие из них работают на промыслах, зачем же трогать старый Калимат? А вот изменится ли жизнь в деревне — это другой вопрос. Точно, изменится. Будет у вас в избах электричество, газ, водопровод — одним словом, бытовая культура. Ну, само собой, повысятся и духовные запросы...
— Елистричество и вода — это пущай, это даже хорошо, — встряла в разговор тетка Магиша и строго помотала пальцем. — А газ етот ихний ни в коем разе. Он, бают, шибко взрывливый. Дураки мы, что ль, какие, такую-то страшенную существу к себе в избу пускать?
— Эк, суетная баба, — с издевкой и досадою хлопнул себя по ляжкам Шавали-абзый. — И ведь будто смыслит чего, ну чисто затычка, тьфу! Да чтоб такую вредную старуху подорвать — газа этого цельный эшалон требоватся, столько на сегодня и не наготовили еще... Ты, Арслангали, ее не слухай, ответь мне вот на что: огород мой, где я картошку сажаю, отберут его ай нет?
— Да зачем нефтяникам огород-то твой? — поразился Арслан.
— А ежели, к примеру, вышку свою захотят на моем огороде ставить?
— Ну, в таком случае, тебе непременно заплатят. А если захочешь — дадут и землю под огород, только где-нибудь в другом месте.
Старик встрепенулся и подался вперед:
— Ай, правда? Ну, спасибо, сынок, утешил старика, слава аллаху! Я и сам-то рассчитывал, что так оно и должно быть, чай, не при царе Миколашке живем, теперь все по справедливости, по уму. Да вот старуха меня смутила, червоточина, куриная голова! — Он, выкатывая глаза, оглянулся на жену. — Задолдонила: отберут да отберут, останемся без саду-огороду, пиши, мол, Арслану письмишко, пущай по кремлям походит, должно тебе быть послабление. Ну до чего вредная старушонка! А ведь сказывали мне, будто потоптали нефтяники в колхозе «Пахарь» картофельное поле — так отвалили за это денег полный мешок! Председатель, мол, хвастался дюже: ежели б и продали всю картошку, так ни в жисть бы этакого доходу не привалило: вот это по справедливости!
Он с довольным видом усмехнулся и долго сидел, улыбаясь, поглаживая щетинистые усы. Но потом на лбу у старика собрались глубокие морщины, видимо, опять скребла его какая-то неугомонная мыслишка.
— Что, отец, или еще чего-нибудь хочешь спросить? — сказал Арслан, видя томление старика.
— Да... сказать-то оно, конечно, есть чего... Не знаю уж... как к тебе и подойти... — заерзал старик и, внезапно осердясь на свою нерешительность, на Арслана, легко угадывающего его мысли, без обиняков выпалил: — Мой сказ, сынок, вот какой! Нагулялся досыта и в городе пожил вволю, не пора ли домой воротиться, к родному Заю? Устроился бы здесь рабочим — нефтяником, а?
— Мне, отец, вообще-то, и в Казани неплохо.
— Оно, конечно, неплохо. Сказанул тоже! Одна голова не бедна, а и бедна, так, вестимо, одна... А все ж и нам хочется на старости-то лет вместе с детьми пожить...
— Ростишь, ростишь детей — авось, мол, и от них благодарность какую дождесся, — встряла опять тетка Магиша, и Шавали-абзый, надуваясь, рявкнул:
— Куда конь с копытом, туда и рак с клешней, тьфу ты, господи! И что за суетливая баба! Вон самовар закипел, ступай, наладь нам чаю, так-то оно лучше будет! — И когда Магиша скрылась за печью, наклонясь к Арслану, продолжал: — Ты, сынок, не думай, будто мы в тебе какую корысть имеем. Я за-ради тебя и стараюсь, аллах свидетель. А нам что... Разве спросят: чей это сын такой ладный? А это сын Шавали Губайдуллина — нам и приятно, на душе радость. Мы уж долго не заживемся... чего ты зубы скалишь? Думаешь, много нам жить осталось? Ты на бабку-то не гляди, она, земля ей пухом, была из другого теста, покрепче нас. Сам рассуди, должон же кто-то остаться за меня в роду Кубашей? Без старшего и дом не в дом, а постоялый двор, ей-богу. Возьмем, к примеру, соседей наших — Дияровых, что с ними сталось? Звук один и остался, а какие богатырские люди были, на всю волость знаменитые, да-а-а... Выйдут, бывало, на луга, размахнутся косами — любо-дорого поглядеть, за ними шайтану не угнаться, не токмо что человеку. Старшой-то у Дияра, Шаяхмет, на германской сгинул, младший с этой войны не воротился, а середний, Лутфулла, подался куда-то на промыслы, нефть качать, не то в Баку, не то на Урал... Говорят, будто не худо живет... Ну, да мало ли что говорят, а есть теперь Дияровы? То-то и оно, что были Дияровы, да сплыли. Нетути! Высох род Дияровых, так-то. И двор лебедой зарос. Хошь — верь, хошь — не верь, а по бревнышку растаскали добрые люди Диярову избу...
Тетка Магиша пронзительно взглянула на мужа и положила ему на тарелку давешний кусок мяса: испугалась, как бы старик во хмелю-то не наболтал чего лишнего. Была у старухи совесть нечиста: как-то безлунной осенней ночью утащила она из дома Дияровых три гожие еще половицы, спрятала их в хлеву, под свежим навозом.
— Так оно и бывает, когда догляду нет... — вздохнул Шавали-абзый, по-своему поняв свирепые взоры Магиши и словно оправдываясь за «добрых», то есть скорых до чужого добра людишек. — Ну, так что, сынок, воротишься в Калимат?
— Подумаю, отец, подумаю. Тут ведь с бухты-барахты нельзя решать. С директором на заводе потолковать надо, с товарищами...
— Ты потолкуй, это верно. Однако давай, не тяни. Дом-то тебе достанется, кумекай.
— Ну что ты, отец! Что я с твоим домом делать буду? Хватит мне и казенной квартиры.
— Нет, сынок, неверно ты говоришь, молод еще, зелен — соображенья у тебя и не хватает. К примеру говоря, Тимбика помнишь, с дальнего конца деревни? Так этот Тимбик опосля революции в самой Москве жил. Шумел дюже — мы, мол, проталерият, плевали мы на частнособственное добро! Да слюны не хватило плеваться-то, приехал опять-таки в старую отцовскую избу, она тогда уже на подпорках была, развалюха, одним словом. Ну, в ней и жил до смерти. А вот сын его, Карим, поумнее отца оказался: как только с войны воротился, так и принялся ту избу отстраивать. Да так отделал, что и городским на зависть. Взял теперь первую девку на деревне, учителку Мунэверу, и живет себе, в ус не дует. Сам нифетяник, на работе, сказывали, один из первых — начальство не нахвалится. Бают, будто в скорости в мастера выйдет. А чем же, к примеру, ты, этакий ладный парень, хуже сына нищего Тимбика, а?!
Шавали-абзый взял с тарелки давно остывший кусок мяса и вцепился в него зубами, однако не осилил и с досадою бросил его обратно, наклонился к Арслану:
— Не дури ты, ей-богу. Для тебя же, сынок, из кожи лезу, уразумей ты это наконец! Покойникам избы ни к чему. Возьмем еще бабушкину, присоединим к твоей — и пожалста...
Арслан, слушавший его посмеиваясь, вдруг нахмурил брови и раскрыл рот, желая осадить не в меру разошедшегося старика, но Файруза опередила брата. Сидела она за столом молча, смотрела в свою тарелку и, казалось, не слушала разговора мужиков, но как только речь зашла о доме бабушки, вскочила резко, словно ужаленная.
— О-о-о, вот как? На бабушкин дом позарился? Ишь ты, какой умник! То-то, гляжу я, разворковался, старый разбойник. Мягко стелешь, да жестко спать! А чего же ты смотрел, когда бабушка-то одна-одинешенька осталась, об чем же ты думал тогда, любящий сын? — Файруза бросила на плечи неказистую шальку, не поправляя разлетающихся черных волос, яростно зашагала к двери, но с полдороги вернулась и, подойдя к отцу вплотную, сунула ему под нос крепкую «дулю»: — На-ка вот, выкуси, понял? Не уйду из бабкиного дома, хоть ружье к спине приставь, не уйду! Не хочу, чтобы мой Тансык в вашем доме пасынком жил. Не хо-чу!!
Крепко хлопнула дверь.
И так быстро и неожиданно все это произошло, так удивительна была вспышка сестры, что даже Арслан, прекрасно знавший крутой нрав Файрузы и всегда уважавший ее за самостоятельность, был немало поражен и озадачен.
Семейная беседа испорчена была бесповоротно, еда потеряла всякий вкус, и за столом воцарилось неловкое молчание. Наконец пришел в себя ошалевший поначалу Шавали-абзый:
— Ну, страмница, боже ты мой... И родится же этакое от хороших родителей, а?! Мало того, что на всю деревню опозорила, так ведь она что выделывает, а?! Как она, сука, над родным-то отцом куражится?! — и он излил на голову Файрузы все злое свое, все обиды и страхи, накопившиеся в его неспокойной душе.
Наутро Арслан собрался уезжать — подходил к концу срок, на который отпустил его по случаю несчастья начальник заводского цеха. Габдулхая и Марзии не было дома, а мать возилась у печки, заворачивая ему в дорогу гостинчик — фунт сотового меду. Шавали-абзый, подойдя к жене, выхватил у нее из рук сверток, развернул — и зашипел:
— Что ты тут такое заворачиваешь, старая трында! Али меду свежего у тебя на полке нету?! Что же ты сыну такое г... положила? Оно же заплесневело все, выбрось, тебе говорю! Выбери нетронутую рамку, там должна быть такая, на четыре кила. Найди. Слышала? А раз слышала, так живо у меня, и так всех детей отвадила, у, прорва!..
...Когда автобус уже загудел, прогревая мотор, на автовокзал прибежала Марзия, с растрепанными косами, с платком в руке, красная, мокрая, вконец запыхавшаяся.
— Братушка, голубчик, забери и меня с собой, ну, пожалуйста! Не могу я с ними. Вот увидишь, не буду, не буду жить в этом доме!
Арслан заглянул ей в черные глаза: видно, и в тихой сестричке взъярилась неистовая кровь Кубашей, ишь, как пылает! Поправил ей волосы, тепло поцеловал в чистый лоб.
— Не горюй, сестренка. Я скоро приеду.
— Правда?
— Правда.
И долго еще видел Арслан из окна автобуса, как машет она яркой косынкой...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Долгие три столетия тревожила людей беспокойная догадка о богатейших залежах черного «земляного масла» в долинном краю меж Волгой и Уралом. В собственноручно редактируемых Великим Петром «Ведомостях о военных и иных делах» появилось в начале восемнадцатого века краткое сообщение из Казани о найденном в недрах волжских земель преудивительном масле — дотошен был царь Петр, до всего доходил, но и ему та нефть оказалась еще не по плечу.
Долгие три столетия пытливые ученые умы исследовали всеми доступными способами те загадочные недра, изучили, казалось, все особенности тамошних геологических пластов, названных ими Пермской залежью, и оставили своим ученым потомкам горы письменного наследия — бери, пользуйся и качай себе на здоровье.
Пришли времена, когда пополз уже по первой чугунке первый неуклюжий паровоз, пыхтел со смущеньем и бросал в воздух из черной, как у самовара, трубы грязные свертки дыма; и электричество на глазах изумленного люда творило небывалые чудеса: рассказывали в народе, будто с одного удару убивает оно самого сильного племенного жеребца... Но даже и в те времена нефть оставалась всего лишь загадочным кладом. Ибо одной силой разума ничего не достичь, если только не связана она с трудом человеческим, с хитроумными, а главное — настоящими машинами. До тех пор, пока, сотрясая и отбрасывая окостенелые законы, не явился миру жадный до преобразований капитал, пока не настроила буржуазия фабрик и заводов, не начала эксплуатировать нещадно рабочую дешевую силу, — лежало себе «земляное масло» в неведомых глубинах, в тишине и покое.
И вот в шестидесятых годах прошлого столетия бугульминский помещик Малакиенко закладывает в верховьях рек Шешмы и Сока первые ведущие к нефти шурфы. Из колодца глубиною ровно тридцать пять сажен, вырытого неподалеку от деревни Нижняя Кармолка, добывает необычный помещик поболе двух тысяч пудов асфальту и восемьдесят ведер нефти. И все — Малакиенко с треском вылетает в трубу, не оправдав даже затраченных средств.
После несчастливого завершения работ бугульминского помещика проходит лет еще десять, и на землю Татарии из далекой Америки прибывает некто Шандор. Купив у крестьянской общины участок возле деревни Шугурово, он, не считаясь с затратами, бурит нефтяную скважину — велики надежды у капиталиста, — скважина достигает в глубину трехсот пятидесяти метров и уходит вплоть до пластов каменноугольного периода. Но и заокеанскому дельцу не повезло — нефть он так и не нашел.
Ну, а после того как и предприимчивый американец, ухлопав уйму средств и стараний, не достиг искомого результата, охотников добывать волжскую нефть что-то более не находилось — опасения остаться у разбитого корыта пересиливали даже могучий дух наживы. Немногие действующие еще битумные заводы позакрывались; были они совершенно нерентабельными, и владельцам показалось самым лучшим выходом — крест-накрест заколотить ворота и распустить рабочих.
Сорок лет стояла тишина над Волгою и Уралом.
Но когда зареял над землею призрак первой мировой войны, вновь у промышленников разгорелись глаза на пермскую нефть и битум. В 1910—1914 годах крупнейшая и могущественнейшая фирма знаменитого шведа Нобеля, а также английская акционерная компания «Казан ойл филд» посылают поисковые партии в район села Сюкеева и деревни Камышлы, что лежат в верховьях Сока, — усиленно ведут разведку нефтяных залежей. Вслед за ними в этих краях объявляется русский промышленник Демин, но нефть, залегающая глубоко под землею, кажется, не имеет ни малейшей охоты подниматься на поверхность: промышленных запасов ее никому обнаружить не удается.
Самые умные головы приходят в полнейшее недоумение. В чем дело? Быть может, не хватает еще сил и знаний? Или же поиски ведутся в неподходящем месте, где нефтью, возможно, и не пахло? Отчего матушка-земля не желает раскрывать перед людьми свои таинственные кладовые?
И многообразованные ученые умы заявили: если, мол, на глубине трехсот пятидесяти метров обнаружен густой и черный битум, значит, мол, тут-то вот и была когда-то нефть. В другом месте и на другой глубине нечего ее даже искать — все равно не отыщете! Ясно и понятно, что нефтяные залежи уже разрушены, а в земле остались лишь жалкие остатки их, да и те загустели от долгого и никчемного лежания. Факт сей бесспорен и доказательств, мол, никаких не требует! Десятки видных ученых подписались под этим приговором: было признано, что из волжских и уральских земель нефть добыть невозможно, и не лучше ли сыграть этому району похоронный марш и не морочить занятым людям головы...
Существует в нашем подлунном мире одно удивительнейшее свойство человеческого бытия: постигаемое как будто уже постигнуто, достигаемое достигнуто, что требуется проверить — проверено, все! Далее и думать нечего. Нет, отыскивается вдруг откуда-то беспокойная душа и, махнув рукой на ученые авторитеты, мыслит явно вразрез с мнением видных деятелей; спорит, утверждает свое, зарабатывает анафему, но не отступается, а продолжает начатое. И смотришь — доказывает, казалось бы, недоказуемое, убеждает в совершенно, казалось бы, невероятном. Одною из таких, рождающихся раз в сто лет беспокойных душ (которым, кстати, присуща, как правило, еще и гениальность) оказался Иван Губкин. Был Иван, сын Михаилы Губкина, человеком удивительной судьбы. Родился он в приокской деревеньке, где-то возле града Мурома, пас в детстве худое крестьянское стадо. Кудрявый, чуть флегматичный, с пристальным исподлобья взглядом, более всего любил пастушок Ваня внимательно приглядываться к окружающему... Приведет, бывало, к приречному лужку своих коровенок, разбредутся те, хрупают травой, а парнишка скатится по крутому обрыву вниз к спокойной Оке; но не купаться, а любо поглядеть ему на берег, словно срезанный гигантским ножом, где земля лежит слоями и все разного цвета: значит, прайду бают, будто кора земная сложена из разных материалов и в разное время? Ну, интересно!.. А с осени, когда скотину загоняли по дворам, Иван ходил в школу, был он не по годам сообразителен и сметлив, удивлял учителей своим прилежанием и поступил вскоре в учительскую семинарию.
«Ну, Ванятка-то свою дорогу нашел! — рассуждали мужики из его родной деревни. — Будет теперь до старости лет ребятишек грамоте обучать; тама, глядишь, и пенсию какую выпишут». Жалованье в пятнадцать рублей, положенное сельскому учителю, казалось им большим богатством, на которое можно завести доброе мужицкое хозяйство. Но была у сына Михаилы, бывшего пастушка Ивана Губкина, своя заветная думка: эх, заглянуть бы хоть одним глазком в сердце гор да в недра земли; исходить, изъездить бы весь белый свет, чтоб увидеть, где какая страна и на чем стоит; сколь интересно знать строение мира!
Живя впроголодь, каждый месяц откладывал он в потайной кармашек львиную долю своего жалованья, бедствовал, но скопил-таки денег, сколько ему было нужно, и в одно тихое утро, повесив за спину дорожный мешок, отправился прямиком в столичный город Петербург. Сдав там экстерном экзамены за реальное училище, взошел он по мраморным ступеням горного института с дерзкой и страстной мечтою поступить в это блестящее по тем временам заведение.
О! Мыслимое ли дело мужицкому сыну совать свой глупый нос туда, где на одно место по десяти человек поступающих, да все генеральские и чиновничьи дети, подъезжающие к институту в собственных колясках, с гувернерами и лакеями! Но чудо: мужицкий сын поражает всех экзаменаторов глубоким знанием предмета, смелостью мысли и сокрушающей логикой — и поступает, обойдя богатеньких и бесталанных. Испытывая постоянную нужду, по воскресеньям разгружая ради куска хлеба купеческие баржи на Неве, он старательно одолевает курс необходимых наук, и все завершается полным успехом: осенью 1912 года, закончив институт и положив в карман диплом горного инженера первой степени, Иван Михайлович Губкин, полный энергии, умный, сильный и смелый, направляется в далекий Майкоп.
Начинается пора дерзновенных исканий, время великих открытий.
Гениальный ученый — недруги неосмотрительно называли его еще «пастух-академик» — пишет известные всему миру и лучшие, пожалуй, в мире учебники по геологии нефти. После Октябрьской революции Губкин по ленинскому указу ищет в недрах Второго Баку, обширнейшей низменности, протянувшейся от Волги до Урала, залежи нефти. С ним спорят многие ученые, высокие авторитеты, известные всему миру авторы многочисленных трудов и изысканий — нет, крепко стоит на своем «пастух-академик». И побивает всех, оказавшись самым дальновидным: прогнозы его полностью сбываются. Видимо, не зря посвятил он свою жизнь любимому делу, не зря прошли двадцать лет тяжкого труда: в 1932 году, на земле нашей братской республики Башкирии, в Ишимбае, с глубины восьмисот метров ударил в небо нефтяной мощный фонтан, в мгновенье ока разнеся на мелкие щепки деревянную вышку буровиков. Победа! А затем и на земле Татарии — там, где ни Шандоры, ни Малакиенки, ни Нобели не смогли добиться успеха, — в Шугурове, в Бавлах и в Письмянке забили такие же фонтаны, шумно повествуя о нефтяных богатствах, открытых советским людям.
Й тогда начали собираться со всех концов необъятной Родины на землю бесценного клада мастера-нефтяники страны. Среди них были и татары, что уехали когда-то в поисках счастья из родных краев на далекую чужбину.
2
В спальной комнате в беспорядке разбросаны и расставлены мешки, чемоданы, ящики, валяются обрывки газет, темнеют голые без занавесок окна. Ребятишки, еще вчера встречавшие его отчаянным гомоном, утомились и, не дождавшись отца, уснули сегодня вповалку кто где: Салим с Ильдаром прикорнули на незастеленном матрасе; Разия с Райсой, обнявшись, посапывают на ящике с мебелью, а малыш Карам сидит, уронив рыжую головенку, прямо на полу у большого сундука. Намаялась детвора — целый день путались под ногами: «Пап, а пап? Когда поезд-то приедет? Ну, па-а-ап!» Замучили и старшего брата, восьмиклассника Вагапа, пока наконец тот не догадался — дал им большой мешок и велел складывать туда игрушки. А игрушек у них много, вот и спят без задних ног...
Лутфулла-абзый потихоньку, на цыпочках, прошелся по комнате, у кого поправил неудобно подвернутую руку, у кого ногу, улыбаясь, наклонился над Карамом, долго развязывал затянутый насмерть замусоленный шнурок; сняв с малыша ботинки, уложил и его. Вышел в зал. И здесь все вверх дном: зияет пустыми фанерными ящиками распахнутый настежь шифоньер; молчит старенькое с оторванною второпях антенною радио; подоконник, уставленный бальзамином, геранью и бегонией, кажется, уныло зеленеет в преддверии расставанья: цветы остаются в квартире, и на новое место поедут лишь молодые побеги. Да... Много было у него переездов, и на всех покинутых подоконниках оставались заботливо ухоженные, свежие, красивые цветы...
На стене косо висит потускневшее зеркало. Его, видно, сдвинули с места, но, забыв, так и оставили скособоченным на стене. Лутфулла-абзый, собираясь упаковать и уложить среди вещей это засиженное мухами, немало уж поездившее с ними по свету памятное зеркало, потянулся к нему, взялся за дубовую темную раму и... замер. Глядел из зеркала на него утомленный, с глубокими складками на лбу, с рыжими обвислыми усами, немолодой уже мужчина. Он отнял руки, неторопливо снял фуражку и крепко вытер пропахшим дешевым табаком, в синюю линялую клетку носовым платком бритую голову и широкий лоб. Седины в волосах прибавилось, постарел, мда... Ну, впрочем, это он заметил и без зеркала: ляжешь вечерком в постель, и так приятно, но предостерегающе гудят суставы... подергиваются... Что-то жена, Тауфика, разворчалась в последнее время. Все твердит и твердит об одном и том же, точит душу: «надоела, мол, мне эта цыганская жизнь, нет больше моченьки, не желаю, сколько же можно бродить бездомною собакой». Вот ведь какие слова говорит. И правильно, в общем-то, ничего не скажешь. Казалось, здесь-то уж, в Куйбышеве, после долгих скитаний от Урала и до Баку осядут окончательно: город чистый, красивый, да и люди хорошие. Любо посидеть вечером над Волгою, у памятника Чапаю, глядя на упавшие в простор великой реки снопы городского света и проплывающие пароходы, вспомнить свою молодость, прошедшую в горячих боях гражданской. Придешь домой — светло, тепло, уютно, захотел поесть — суп на столе, кушайте, дорогой Лутфулла-абзый, пожалуйста. И квартиру-то как отладил — двери, окна утеплил, полы перестлал, да мало ли чего! И детишкам в школу бежать рядышком, два шага, можно сказать. Так и рассчитывали дожить тут до пенсии, детей отсюда в большую жизнь направить, а вот уезжают...
Калимат, родные края, мда-а... Вроде и позабылись, а сказали, и будто ножом полоснуло по сердцу — Калимат... Ан нелегко и уезжать... квартира остается, остается бригада и, горше всего — остается давний друг, с кем лет тридцать «дырили» вместе землю, — друг душевный, Константин Дорогомилов. Ладно, если оценят на новом месте, не выкинут с буровой, словно старое, с искрошенными поразбитыми зубьями долото...
Калимат... помнится, купил он это зеркало как раз тем летом, когда покинул родные края, в уральском городке Верхняя Чусовая. Возчиком работал. И тогда уже было зеркало стареньким, сам он покрывал резьбою раму, прошелся лачком — обновил. В те времена в зеркале отражался молодой, безусый Лутфи, только что оженившийся силач и беззаботная головушка. А теперь вот — перевалило за пятьдесят, оставил за собой на земле многие буровые вышки седой уж мастер Лутфулла Дияров.
Взглянул в задумчивости на зеркало. Взять, что ли, его с собой? И оставлять вроде бы жалко — что ни говори, полжизни вместе прожито, — а и тащить за собой канительно, вдруг разобьется... А, шут с ним, пусть остается. (Поправил, отошел — взглянул, поправил еще.) До зеркала ли! Подороже оставляет он в этих краях — Волгу, Чапая, Константина Дорогомилова.
Махнув рукою, прошел к дверям. Вернулся. Нет, брат, нельзя, надобно завернуть помягче и уложить. Тауфика обижаться будет — совсем, скажет, с панталыку сбился, ишь разудалый какой, черт! Калимат! Калимат! Думаешь, ждут тебя там не дождутся? Ждут, а как же, держи карман шире! Мда... Карман не карман, ждут не ждут, а все же родная земля, отцова земля, что ни говори. Так что ты уж, старуха, извини, но в этом ты не права. Ей-богу. И потом худо ли, хорошо ли, а работает где-то там сын наш, старший твой Булат. Ну, а насчет зеркала-то не сомневайся, вот сейчас мы его завернем да уложим, все чин по чину. Что ни говори, а тебе тоже нелегко, кому еще труднее-то из нас, это вопрос. Шесть малых детишек, попробуй-ка всех накормить-напоить, обмыть-обстирать да слезы утереть...
Вконец запутался Лутфулла-абзый. Бормотал-бормотал что-то, старушку свою приплел да вдруг, опустивши руки, уселся на какой-то мешок, вздохнул и, будто это и было самой насущнейшей заботой его, зажег крепкую папиросину. Задумался опять, вспомнил былые годы и Костю Дорогомилова, первого на весь Куйбышев бурового мастера Константина Феоныча.
Был Дорогомилов другом Лутфи еще с далекой юности. Познакомились с ним лет эдак с двадцать восемь тому назад на Урале, в Верхней Чусовой. Как-то ехал припозднившийся Лутфи с работы домой, ночь уже стояла, городишко спал мертвым сном, и на улицах ни души, будто вымерло. Тихо, а в тишине колеса арбы грохочут по булыжной мостовой, луна в морозном тумане, забор длинный, черный, и черная от него тень. Однако в тени этой лежит какая-то черная груда, большая и еще более черная. Слез Лутфи, подошел с любопытством, без страха, глядь — человек. Что за оказия? Поднял его с великим трудом — тяжеленек оказался ночной человек, пудов на семь по меньшей мере, взвалил на арбу, гикнул на лошадь. Дома часа полтора оттирал ему снегом огромные руки и ноги, спиртом — необъятную спинищу. Наконец незнакомец застонал, приоткрыл мутные бессмысленные глаза. Потом, ухнув, перевалился на другой бок — аж кровать, скрипнув, просела под ним, — да и проспал без просыпа до следующего вечера. Проснулся — приняли оставшийся спиртишко, познакомились. Оказалось, этот крепкий телом русский дядя по тем временам и специалист-то чрезвычайно редкостный — буровой мастер Костя Дорогомилов. Рассказывал Костя, хрипло похохатывая, что завершили они, буровики, какую-то занудливую скважину, ну, «врезали» по случаю этому весьма доброжелательно, а по дороге домой он чего-то «закосел» и рухнул в снег.
С того и подружились.
Дальше — больше, стали хаживать друг к другу в гости.
И говорит однажды Константин:
— Послушай-ка, друг Лутфи, бросай ты, к чертовой матери, эти дурацкие вожжи, давай ко мне на буровую. Научу я тебя подземные секреты разгадывать.
Ну, а Лутфулла в ту пору в самой силе был, всю землю, кажись, перевернуть мог. Запали ему в душу слова друга. «Взаправду возьмешь?» — Возьму!» А люди тогда на нефтяном деле страсть как нужны были. Недельку походил Лутфулла на схожую с небольшим заводцем буровую, приглядывался к разным хитрым машинам, стальным трубам, арканам да к мудреным приборам, привыкал к лязгу-грохоту, потом» ему и говорят: «А полезай-ка, ты, браток, на вышку, проветрись для начала — поглядим, что из тебя выйти может». И сделали из него верхового. Слыхивал до этого Лутфулла, будто уголек-то каменный добывают на невесть какой глубине, в подземных шахтах, и будто нефть эта самая лежит еще глубже, аж под угольными пластами. Оказалось, однако, опускаться за нефтью глубоко под землю — никакого резону, наоборот, стало быть, можно ее поднимать и стоя на земле, на вольном воздухе! Еще краше того оказалось — надобно лезть в самое гнездо ветров, где летом солнце печет, а зимою метель сечет, вот там и начинается добыча «земляного масла».
Работали они с Костей Дорогомиловым вместе, почитай, поболе четверти века. Бурили скважины на Урале, в Баку, в Ставрополе и в Сызрани, да где только они их не бурили — по всей, можно сказать, советской земле. Особливо в годы войны много понадобилось Родине нефти, немало было трудных недель, безвылазно проведенных на буровых — без сна, без отдыха. Тяжелые были годы, что там говорить. Но всегда они были вместе, и когда было одному плохо, другой подставлял братское плечо — крепче огня и мороза была их дружба, крепче стальных арканов связывала она буровиков на вечные времена. И вот — расстаются. Воспротивились куйбышевские нефтяники: знаменитый мастер Дорогомилов нам, мол, и самим дорог, и уж вы на нас обиду не таите — не отпустим его, самим нужен...
...Запыхавшаяся Тауфика-апа торопливо прошла в комнаты и остолбенела: муж ее, Лутфулла, преспокойно сидел себе на мешках с домашней утварью, покуривал, отгоняя рукой синий дымок, видать, не первую уже папиросу. Скрестила на груди руки Тауфика-апа:
— Отец ты наш, дорогой Лутфулла Диярыч! Что же ты расселся ясным соколом, папироски потягиваешь, а? Вещи до сих пор не уложены, насчет машины ну ничего не слыхать, а он расселся — ручки в брючки и во рту цигарка. Взял бы хоть зеркало — перед тобой же висит, ужли не видишь, — да завернул бы его в тряпочку, да сунул бы в ящичек там или коробочку какую — все мне бы помог, одной и не усмотреть, на самом-то деле...
— Не беспокойся ты, мать... Устроится все, только не беспокойся... — тихо сказал Лутфулла-абзый, продолжая сидеть все на том же полосатом, большом, мягком с виду мешке, продолжая сумрачно покуривать все ту же небольшую, но крепкую и сильно вонючую папироску. Голос его был слаб и хрипловат, во всей склонившейся насупленной фигуре проглядывало что-то такое беспомощное, такое родное. Тауфика-апа, поймав себя на том, что последнее время постоянно пилит своего немолодого уже, пожалуй, и уставшего мужа, почувствовала в горле неприятную сухость и заморгала увлажненными глазами. Родные края, это, конечно, понятно... То-то головушку повесил...
Однако из кухни потянуло горелым, и Тауфика-апа настороженно повела носом. Никак, бэлиш[9] подгорает? Не понимает, шайтан, что напоследок Константину Фиунычу дорогому печется! И Тауфика-апа, скидывая на ходу тоненькую шальку, помчалась на кухню.
Спустя короткое время вновь заскрипели половицы, и на пороге, закрывая грузным телом дверной пролет, возник в черной праздничной паре с орденом Ленина и Золотой Звездой на лацкане пиджака, со свертком в руках Константин Феонович Дорогомилов. Редко надевает он высокие награды, а сегодня вот для дорогого друга надел, не сомневаясь...
Мастера, шагнув друг к другу, по-мужски крепко и с чувством поздоровались, чуть дольше обычного задержав в пожатии сильные трудовые руки.
Недолго, словно испытывая тяжесть расставания, Задумчиво помолчали. Константин Феоныч, должно быть, от быстрой ходьбы побагровел; на широком лбу поблескивали капельки пота, раздувались ноздри плоского, крупного даже дли его лица, утиного носа.
— Чуть было не припоздал, извини уж, браток, — проговорил он наконец, все еще задыхаясь. — Понимаешь, какая оказия, полпути проехали, и вдруг — на тебе, засадил Федька, бестолочь, машину, хоть ты бегом беги! — Посапывая, нагнулся, осторожно положил сверток на мешки. — Серафима тут ребятишкам напекла. Сама-то вроде как в магазин пошла — обещалась скоро прийти...
На голоса выглянула из кухни Тауфика-апа, прикрыв рот платком, сморщилась, не сдержала подступившие слезы:
— Константин Фиуныч, родной ты наш, прощаемся... может, и навсегда, ох ты горе мое...
— Ну, ну, мать, что ты! Не в полымя небось. На родину! Вникни ты: в Калимат едем, на родину, к сыну, к Булату... — крикнул негромко Лутфулла-абзый.
Тауфика-апа все шмыгала носом, и он, подойдя к ней, ласково положил на плечо руку, шепнул:
— Гостя-то угощать ведь надо. Как у тебя там? Бэлиш... поспел... что ли?
Тауфика-апа сразу пришла в себя и, улыбнувшись как ни в чем не бывало «Фиунычу», удалилась на кухню. Через минуту она вернулась обратно, неся на разделочной доске сковороду с бэлишом, поставила ее на стол и ловко, катая в лад во рту слова «бисмиллы»[10], срезала ножом румяную «крышку»-корочку. Была она родом откуда-то из приуральских татарских деревень и до стряпни большая мастерица — под «крышкою» бэлиша открылась аппетитнейшая начинка, повалил вкусный парок, и мужиков прошибла нечаянная слюна.
— Пожалста, Константин Фиуныч, милости просим, кушайте, пока горяченький! Проголодались, верно, вот оно хорошо и будет.
— Может, подождем до Серафимы Ивановны? — сказал Лутфулла-абзый, поглядывая на друга. Дорогомилов смущенно пожал плечами: «ну, женки, тянет их по магазинам в самый неподходящий момент, что ты будешь делать».
— Да вы не думайте, ей-богу, и не беспокойтесь даже: нам с Серафимою свой бэлиш в плите доходит, на жару, — засмеялась Тауфика-апа с ласковым радушием. — Посидите вдвоем, вам без баб-то свободнее будет. Поговорите на свободе, поговорите. А ты, отец, потчуй гостя, не зевай. Соловей, да еще под семь-то пудов, баснями сыт не будет — угощай ты его бэлишом, угощай!
Тауфика-апа ушла на кухню, потому как понимала: хочется друзьям перед долгой разлукою посидеть с глазу на глаз, потолковать, да, наверное, и выпить на прощание — теперь ведь без «горячего» редко собираются. Ни к чему, конечно, все это — ну, да уж посидят напоследок без опасения.
Дорогомилов, проводя Тауфику глазами, обернулся к Лутфулле и, ухарски подмигнув, вытянул из кармана бутылку «старки». Лутфулла-абзый поискал среди вещей, нашел пару пластмассовых кружек — налили. Первую подняли за здоровье полувековой и вечной дружбы. Лутфулла-абзый, выпив, сморщил сухие губы, вздохнул и, выплеснув оставшиеся на донышке капли в цветы за спиною на подоконнике, грустно уставился на серого шустрого котенка, игравшего на полу с блестящей жестяной пробкой. Потом, будто очнувшись, вспомнил слова жены, стал угощать гостя, подвигая ему по усвоенной еще с детства привычке самые лучшие куски. Константин Феоныч все еще млел после «старки», нюхал, помаргивая, хлебную корочку.
— Раньше ты это снадобье легче глотал... а, старый? — серьезно сказал Лутфулла-абзый. — Что-то сдавать начал... ты это брось...
Дорогомилов наконец взял ложку, зацепил кусок мяса, пожевал, поставил осторожно кружку на краешек стола, утерся тыльною стороной ладони и пробасил:
— А раньше и времена другие были. Когда мы с тобой познакомились... да-а ты и вовсе-то пить не мог, не умел, скажем прямо, ох-хо-хо! — он засмеялся низко и приглушенно. — Да еще похвалялся: наш, мол, народ водки не потребляет. Эвон как теперь-то... одно слово, не сглазить бы... А я что ж, я в своей жизни, можно сказать, ни разу пьяным не напивался... единственно — тот случай, когда ты меня подобрал. Но на пользу! Где б я еще нашел такого друга, не упади тогда по пьяному делу рылом в сугроб?
Не очень-то любили они упоминать всуе о своей дружбе, но, видимо, в день разлуки потеплели и растаяли даже сдержанные сердца этих суровых рабочих людей, зазвенели ослабшие душевные струны.
— Ну, тогда не без причины и выпил, — продолжал Дорогомилов. — Наш русский человек, ежели желает выпить, так готовит закуску, чтоб поострее: огурчики, скажем, соленые, селедочку, лучок свежий... Ну, оно на закусь-то приятно, вкус, значит, водки моментально отбивает, а сытности никакой! Отсюда и хмелеешь, конечно. Первый стакашек подняли мы тогда за скважину. Рады были, что закончили! Не поверишь, какая надоедливая попалась, стерва, всех повыматывала... Ну, второй, сам понимаешь, за Родину. Третий — за здоровье стального бабая! Тут уж хочешь не хочешь — пей! Помню, даже «ура» крикнули! И поехало там, да все полными стаканами, а о закуске-то позабыли. Я, конечно, норму свою знал, но перебрал в тот раз, на радостях, значит. А ты меня в другой раз пьяным видел, скажем, когда у тебя выпивали? Правильно, не было такого. У твоей хозяйки, Диярыч, руки золотые — знатную закуску готовит. Ту закуску не то что горькой водке, пожалуй, и чистому спирту не прошибить!
А Лутфулла-абзый, ухватясь за благодатную «хлебную» тему, перевел разговор на свое, желанное. Вспоминая юные годы, проведенные в деревне на берегу Зая, стал нахваливать Дорогомилову красивые обычаи родной стороны, хлебосольство и радушие своих земляков. Таил он мысль простую и ясную: «Если рассказать Феонычу с толком о моей родине, может, и он решит переселиться в Калимат?» — такая по-детски наивная, бесхитростная вера жила в его простой и честной душе.
— Эх, хорошие люди живут в моих краях, Феоныч! Великодушные люди... — начал он свою подспудную агитацию. И умолк на время, словно желая прочувствовать вместе с другом такие значительные слова. Вынул из кармана полинявший от долголетия, вышитый маками кисет, вытряхнул из него серебряный портсигар. Протянул его Феонычу, потом с удовольствием закурил и сам. Глубоко затягиваясь, щурясь и вспоминая, неторопливо продолжил: — Осенью, как только ляжет на поля первый снег, смело заходи, Феоныч, в любой деревенский дом — будешь самым дорогим гостем. Молодые красивые девки в шитых жемчугами калфаках[11], в узорчатых ичигах поднесут тебе на лучшем блюде свежие гусиные оладушки. Не отведаешь — обидишь. В это время, дружище, у нашего народа праздник. Забивают у нас по первому снегу откормленных гусей и ощипывают их сообща, всею деревней. Настоящие гусиные субботники, я тебе скажу. И уж тут от молодух не отвяжешься: хоть сыт до отвала — отпробуй, и все тут. А они и песни тебе споют — ах, хорошие, грустные песни! — но и такое словцо ввернут острое, что враз развеселишься. Красивые праздники есть у нашего народа, ну — отличные праздники!
Слушал его Дорогомилов с восхищением и удовольствием, но давно уже почуял, куда гнет нехитрый Лутфулла-абзый, и любовно и ласково улыбался, глядя на этого большого ребенка. Наконец не вытерпел и спросил:
— А что, Диярыч, и у вас дома собирались на этакие гусиные субботники?
Когда-то Лутфулла-абзый уже рассказывал Дорогомилову о своем отце, который на протяжении долгих десяти лет батрачил на бугульминского помещика, кровососа и мироеда Ялачича, — какие уж тут гуси, какие субботники! — потому смолчал он, будто и не слышал друга, и, поведя рукою, спросил:
— А видел ли ты, Феоныч, взаправдашний сабантуй?
— Видел... в кино.
— Да нет, Феоныч, душа моя, нет же! Да разве ж в кино — это сабантуй! Это же издевательство, карикатура! А настоящий-то сабантуй, Феоныч, он друго-ой... Наперво сабантуй начинается так: идут по деревне молодые джигиты с длинными шестами в руках, и каждая изба нанизывает на эти шесты вышитые полотенца. Вот тут-то и видно: сколько было на деревне свадеб, сколько невесток молодых, да какая из них мастерица — вышивка-то на полотенцах у всех перед глазами: смотри да кумекай. Не-ет, Феоныч, настоящий сабантуй — это, брат, такая, я тебе скажу, замечательная штука! А видел ты когда-нибудь, как готовят коня к скачкам?! Не видел — и не увидишь никогда. Потому — теперь уж настоящих-то сабантуев и не бывает! Понял, Феоныч, нет их теперь, настоящих сабантуев!
Тут Лутфулла-абзый вдруг и сам понял, что, решив поначалу соблазнить душевного друга поехать вместе в родные свои края, заговорился-заколобродил в противоположную степь — и осекся. И замолчал.
— Да ты не печалься понапрасну, слышь, Диярыч? Наверное, много еще хороших обычаев на твоей родине, — прогудел Дорогомилов, прочитав душу друга. — Ты, как прибудешь на место, сразу мне письмо, договорились? И ежели там тяжело, помощь ежели какую нужно, ты уж, давай, не скрывай. Мы с тобой до сих пор, кажись, все по-честному, да что там говорить, сам же знаешь! Бригаду тебе, конешно, дадут новую — это точно. Но ты будь смелее, требуй от них, сукиных детей, беспощадно! Тут тебя и с тихим характером уважали; значит, знали тебя, видели много лет твою бесперебойную работу — труд твой уважали, вот что. А там же все — от скважин и до людей — новое. Я уж знаю, как это бывает: пока на новом месте работу наладят — много наломают дров! Больше даже, чем нужно! А потому и будь на первых-то порах потверже, посуровее, — закончил Дорогомилов, сведя на переносье лохматые черные брови. Но вдруг ласково опять улыбнулся и сказал тихо: — Видишь, старый, сколько я тебе на дорожку умных слов насовал! Ежели с оглядкой будешь расходовать, на целый станкогод[12] хватит, это уж точно...
Негромко засмеялись.
За окном ночной теплый ветер играл в листве молодых лип, шептался с ними хрустко и зелено. Доносились отчетливо уличные шумы. И из глубины этих прозрачных звуков послышалось слитное гудение нескольких тяжелых грузовых машин, оно становилось все громче и вдруг утихло у самого дома Дияровых. Но звонко и чуть печально запели за окном клаксоны, и в сумрак комнаты упали ослепительные снопы света и осветили мешки, ящики и чемоданы, и осветили удивленное лицо Диярова, радостные глаза вскочившего Феоныча.
Он грузно и торопливо прошел к окну, закрывая темной фигурой льющийся свет, выглянул на улицу.
— Приехали! Приехали, Диярыч!
— Кто приехал? Зачем приехал?
— Джигиты приехали. Бригада твоя! — возбужденный Дорогомилов стремительно подошел к Диярову, схватил его за плечи: — Вот, Диярыч, каких ты нам джигитов воспитал! Эх, старый! Ведь орлы! Нет, лучше орлов... Люди!
И первым выбежал навстречу спрыгивающим с машин буровикам.
3
В Калимат прибыли на третьи сутки, уже под вечер. Все пожитки Дияровых уместились на двух мощных грузовиках, сами они ехали на новеньком автобусе. Машин у треста Лутфулла-абзый не просил, не хотелось беспокоить занятых людей; рассчитывал добраться на поезде, поездом же в контейнерах отправить и вещи, но оказалось, что за него похлопотал Дорогомилов. Рассказал Диярову об этом веселый, молодой шофер автобуса, и Лутфулла-абзый, вновь расчувствовавшись, хотел было поделиться своей тоской по верному Косте с женою, но Тауфика-апа и слушать его не стала. Двое суток тряслась она в душной машине, не сомкнула ни на минуту глаз, беспокоясь за своих многочисленных детишек, потерявших из-за красочных дорожных впечатлений всякий аппетит, и в данную минуту к подобного рода разговорам ни малейшего желания не испытывала. Что и дала понять разлетевшемуся было мужу.
Поэтому, когда машины остановились гуськом у длинного, низкого наподобие барака дощатого здания на окраине Калимата, Лутфулла-абзый облегченно вздохнул и побыстрее выскочил из автобуса. Направляясь к крыльцу, он вдруг заметил на крыше здания установленный там большой, металлический, покрашенный черной краской макет буровой вышки и, остановясь и подняв козырьком над глазами обе руки, некоторое время вглядывался в четкий, ясно выделяющийся на фоне темнеющего голубого неба силуэт. Затем решительно поднялся на крыльцо и, прочитав по пути прикрепленные к стене по обе стороны от него серебряные на черном стекле слова «трест «Калиматбурнефть», хотел было уже войти внутрь, как навстречу ему торопливо вышли два человека: один, высокий, со строгим выражением аскетического лица, был мужчина примерно лет пятидесяти, одетый, несмотря на довольно жаркую погоду, в застегнутый на все пуговицы темно-коричневый костюм, в ослепительно белой и, по всей видимости, совершенно свежей рубашке, в тщательно повязанном черном галстуке; темно-коричневый же, со вкусом подобранный плащ висел у него через руку.
Как оказалось, в тресте были уже информированы о приезде Диярова, и высокий, протянув мастеру большую в густых волосах руку, представился:
— Будем знакомы. Управляющий трестом Кожанов.
Пока Лутфулла-абзый коротко рассказывал о себе, в серых чуть прищуренных глазах Кожанова мелькнул живой и теплый лучик, но длилось это мгновение, и Дияров подумал, что он мог, собственно, и ошибиться. И словно в подтверждение, управляющий трестом, поворотясь к своему спутнику, с прежним строго-сухим выражением лица, в тоне приказа произнес:
— Митрофан Апанасович, вверяю товарища Диярова в ваше распоряжение. Знакомьтесь, договаривайтесь, устраивайте. Завтра же специально мне доложите. И, обернувшись вновь к Диярову, чуть заметно поклонился: — Простите, товарищ Дияров, спешу на совещание. Как-нибудь поговорим с вами поподробнее. До свидания! — энергичной, прямой походкой он пошел к фырчащему у конторы треста «газику», не взглянув на крыльцо, сел в машину, захлопнул дверцу. Вездеход, взревев, выпустил тучку синего, воняющего, пронзительно едкого дыма и скрылся в клубах поднятой им густой и белесой пыли.
Лутфулла-абзый, моргая на далекое уже облако пыли, только и успел смешливо подумать: «Суров, батюшка управляющий, крутенек!» Второй человек, на попечение которого и оставили Дияровых, как оказалось, был полная противоположность Кожанову. В отличие от строго официального костюма управляющего, на нем была простенькая украинская вышитая сорочка, перепоясанная шелковым линялым кушачком; казалось, поясок был надет на его маленькую, тучную фигурку на манер бочарного обода, из одного только опасения, что этот полноватый человек может в одночасье лопнуть и рассыпаться. К тому же и на слова он оказался гораздо щедрее сухого Кожанова: не успел Лутфулла-абзый опомниться, как тот, словно мячик, подкатился к мастеру:
— Товарищ Дияров? Мастер? Из Куйбышева? Добре, от це гарно! И главное, шо вовремя! От сичас мы вас устроемо! Як у вас нащет семийных дил, добре? — беспрерывно сыпал он округлыми ласковыми словами, но рука у него оказалась неожиданно твердой и сухой, а пожатие крепким, даже жестким. Подкатившись к автобусу, он распахнул дверцу и, увидев шесть штук разнокалиберных ребятишек, даже чуть отпрыгнул. — И усе они с вами? Да скильки же здесь семей?!
— Все со мной, а как же. Одна семья, — тихо и улыбчиво сказал Лутфулла-абзый. — Устали ребятишки. Намаялись. Нам бы где-то устроиться да отдохнуть, а, товарищ, как мне вас величать-то?
— Я, выходит, дирехтор здешней конторы. Звать меня Митрофаном, по батькови Апанасович и по хвамилии Зозуля. А чтобы вы не запамятовали, кажу: «Зозуля» — по-вкраински «кукушка». Це така гарна птичка, що считает по веснам чоловичьи годки. Слухали? А вот с квартирами у нас еще на сто процентов не урегулировано. Трудновато, я вам кажу. Но вам мы, поутрясав все дела с местным Советом, кое-що приготували, то есть приготовили вам одну небольшую, но пустую хатку. Конечно, комфорту там нема. Ну, малость кое-що доделать — и жить можно. А это мы швыдко схимичим. Тут хаки гарны хлопцы — и зробят, краше некуда! У нас многие на деревне живут. От раньше и в палатках жили — то было хуже. Ну, да вы не беспокойтесь, тоже все поустроится, а заодно и с будущей бригадою познакомитесь, побалакаете по душам...
Слушая его беспрестанно льющуюся, плавную, с непривычным для татарского уха украинским выговором речь, Лутфулла-абзый невольно подумал: «Вот чешет человек языком, и как только не задохнется?»
А слова Митрофана Зозули о старом доме оказались сущею правдой. Изба, долгие годы простоявшая впустую заброшенной, встретила их мрачно и неприветливо. Окна ее были крест-накрест забиты досками, дверь болезненно висела на одной петле, и затхлый гнилостный запах шел от земли, черневшей на месте выдранных половиц. Видимо, «добрые» людишки, усердные к своему собственному добру, порастаскали эти половицы без всякого на то разрешения по своим ладненьким избам.
Тауфика-апа, вступив на порог темного, давно уже не знавшего человеческого тепла пустого дома, невольно остановилась, чуть не задохнувшись в волглом запахе заплесневелого дерева и нечистой земли. После прекрасной, светлой со всеми удобствами трехкомнатной квартиры в Куйбышеве темная и угрюмая изба эта показалась ей пустым сараем, где предстояло ей жить со своими многочисленными чадами... Безмолвно подняла она на мужа глаза — и поразилась, увидев то прикрытые словно от невыносимой боли глаза и сомкнутые дрожащие губы.
А боль Лутфуллы Диярова была вот отчего.
Когда три машины осторожно проезжали вдоль свеженьких под черепицею финских домиков, вдоль длинных, сияющих желтизною струганой доски приземистых бараков по улице, усеянной глубокими, с набросанной по краям сухой красною глиной траншеями и кучами мелкого желтого камня, он смотрел и не узнавал покинутого лет тридцать назад села. Нет, ничего не осталось от прежнего родного Калимата, здесь все новое, свежеиспеченное. И эта новизна не волновала его совершенно: мало ли видел он подобных новостроек по всей стране, когда ездил буровым мастером. Всюду они одинаковы: ямы на каждой улице, ящики с цементом и — куда ни глянь — строительный мусор: кучи щепок и битого кирпича. Все это удивительно напоминает громадный двор только-только отделившегося молодого хозяина, который засучив рукава взялся с нетерпением налаживать свое не очень умелое хозяйство. Тут уж, конечно, не до мусора — хочется поскорее возвести свой дом, где можно будет укрыться и от дождя, и от ледяного ветра! А мусор — чепуха. Разве долго будет сгрести его да выбросить? И действительно, миновав две такие развороченные улицы, машины вышли на широкий асфальтированный проспект. Лутфулла-абзый тут же узнал его: да это же бывшая центральная улица старого Калимата! Смотри-ка ты, как ее здорово украсили. А раньше-то была она вся в кочках да в ямах, какая уж тут красота, а теперь заасфальтировали, ишь ты, ровно струнка — гладкая, прямая.
Не успел Лутфулла-абзый порадоваться простору и чистоте большого проспекта, как замерло его сердце — машины сворачивали на узенькие улицы старого Калимата; вот в этих переулках, на зеленой траве-мураве вдоволь он побегал, повалялся в далеком детстве... А они все такие же. Будто нарочно оставили их, чтобы потом сравнить с городом нефтяников: те же соломенные и лубяные крыши, перекосившиеся высокие заборы... Погоди! Куда же это они сворачивают — уж не в переулок ли Кубашей, где жил когда-то и он? Туда. Точно, туда! Господи, сколько воспоминаний! Погоди, что такое... да где же столетняя ветла, что росла возле дома? А это чья изба? Уж не старшего ли Кубашей, Шавали Губайдуллина?
Машины, проехав дом Шавали, остановились у старого, полуразрушенного дома, и сердце Диярова сжалось от волнения и горечи. Вот... в этой избе и вырос он... А пока не было его, пока мотался он по стране, добывая для Родины нефть, во что превратился дом его предков, страшно глянуть...
Муж и жена стояли, склонив головы, не смея поднять друг на друга глаз, и опять подкатился к ним круглый, как мяч, Митрофан Зозуля:
— Ну, я же сказал, що без текущего ремонту не обойдется: стекла, печку, полы, що еще? Да то пустяковина, наши хлопчики мигом зробят. Ну, не нравится — тогда придется в барак. Но в барак не советую, там теснота и гомон, як на базаре... шукайте сами.
Лутфулла-абзый, не отрывая взгляда от стен, резко ответил:
— Я никуда больше не пойду! — И, тяжело шагая, пошел вкруг избы.
Тауфика-апа, взглянув в яростные мужнины глаза, полезла от греха подальше в автобус, и директор, объяснив шоферу дорогу, отправил ее с детьми в ближайшую столовую. Поехали с ними перекусить и водители грузовиков.
Остановясь посередине заросшего лебедою двора, Лутфулла-абзый молча закурил. Куйбышевские машины пора отправлять обратно. Что ж, всяк сам своей беде хозяин, не сидеть же им у твоего разбитого корыта... пусть едут.
Зозуля, почувствовав вдруг себя неловко, подкатил было к нему и заговорил легко и весело:
— Зараз бригада подойдет. Швыдко зробим. Мое слово верно... — но Лутфулла-абзый прервал его на полуслове:
— Вы сами откуда, товарищ? Родом, говорю, откуда?
— То я? А с Украйны. Жинка у меня да двое хлопчиков... В Киеве остались, на Крещатике, дюже по ним скучаю. А места у нас гарные, все цветочки кругом, богато на Украине цветочков...
— Приехали-то по своему желанию или принудили?
— Да як же принудили... Партия послала. Бо нужно же кому-то татарских хлопцев до нового дела обучать.
— Садитесь, что ж вы стоите?
Зозуля огляделся, словно высматривая местечко почище, вытащил из кармана большой носовой платок и, расстелив его, сел, где стоял, ломая кустики лебеды.
— Да-а-а... — протяжно сказал Лутфулла-абзый, когда Зозуля, оправив брюки, наконец уселся. — Цветов, говорите, богато у вас... А я вот из этой деревни.
— Из Калимата?
— Да. Вот в этом самом доме прошла моя молодость...
Изумленный, Зозуля быстро взглянул на заброшенный дом и, помолчав, участливо спросил:
— Давненько, чую, уехали-то отсюда? Що ж, и не переписався ни с кем?
— Да поболе двадцати пяти лет как уехал. Вот так-то, Митрофан Апанасыч, — четверть века. А не писал лет десять, наверное. Отец вскорости после того, как я уехал, и скончался. Братишка тут оставался двоюродный — погиб на войне, как раз под Киевом ли, а может быть, и под Харьковом. Жил вдали-то от родного дома, вроде как и смерть родных не так тяжела была. А приехал вот — и словно ножом по сердцу, ну, доконало меня это запустенье...
Лутфулла-абзый тяжело вздохнул и умолк. Молчал перед лицом чужого горя и обычно многословный Зозуля... Так и сидели, уйдя каждый в свои думы, с потухшими в пальцах папиросами.
Близился к концу долгий летний день, и черная тень дома Шавали уже лежала, словно широкая и большая рука, на дворе Дияровых, где теплый вечерний ветер шевелил кустики лебеды и постанывал легонько в стенах старого дома.
4
Из столовой первыми возвратились водители грузовиков. Видимо, оттого, что сытно поужинали, были они оживленны, весело переговаривались, хохотали, но, увидев сидящего посреди двора мастера, попритихли. А Лутфулла-абзый еще издали услышал их громкие молодые голоса и не захотел портить людям настроение: встретил их если и не радостно, то все же с приветливым выражением на осунувшемся лице:
— Давайте, ребята, вещички сбросим тут, да и отправляйтесь. Делов тут еще по горло. Только об одном попрошу: увидите Константина Феоныча — большое ему от меня спасибо! Но, ради бога, не рассказывайте ему об этом беспорядке, договорились? Это ж все устроится. А то старый там разволнуется — такой шум поднимет. С него станется и калиматовским хозяевам на правах депутата отписать — горячий старше, вы же знаете! Обещаете не говорить?
И, получив от шоферов утвердительный ответ, он отправил их домой, в Куйбышев. На дворе же, после отъезда грузовиков и автобуса, осталось наваленным в большую, занявшую половину площадки кучу домашнее имущество Дияровых.
Пока Тауфика-апа устраивалась со своими чадами в укромном уголке двора, к покосившимся воротам Дияровых подъехали еще две грузовые машины — на этот раз калиматовские. Они остановились, и оказалось, что на одной из них нагружены необходимые для ремонта стройматериалы, а в другой битком сидели веселые шумные люди.
Митрофан Зозуля, сияя помолодевшими ярко-синими глазами, знакомил мастера Диярова с каждым спрыгивающим с машины.
С мастером здоровались то хрипловатым низким басом, то молодым ломающимся баском, и он крепко пожимал сухие, твердые, огрубелые ладони, ощущая в своей руке их шероховатость и мощную силу. Сыпались фамилии: Сахаров, Габдуллин, Марданов, Ямангулов; сыпались и знакомые слова: верховой, рабочий, вахта, подвахта; и по привычке, выработанной долгою работой на буровой, старый мастер быстро и точно прикидывал, кто из этих людей на что годится. Ему показалось, будто бригада еще не вся, и точно: не хватало трех-четырех человек. Но настроение у Диярова неожиданно поднялось — уж очень порадовало его то, что буровики собрались так быстро и дружно.
Работа пошла на славу. Командовал всем Митрофан Апанасович. Как оказалось, он умел не только складно «балакать», но и с толком распорядиться. Джигиты, подчиняясь его командам, быстро разгрузили кирпич, разобрали и вынесли во двор старую негодную печь. Один из буровиков, Сиразеев, объявился первоклассным печником, тут же приготовили ему раствор, и кирпичи стали цепочкою передавать в избу. Другие — там указания — давал Джамиль Минзакиев, по прозвищу «Джамиль Черный», — принялись настилать полы.
Сам Лутфулла-абзый, не зная поначалу за что и взяться, растерялся и стоял расстроенный и оробелый от распирающего душу чувства. Только что сидел он у разрушенного родного дома, горевал — и вдруг на тебе! Какие ребята, честное слово! Так все и горит в руках! Огонь!
За какой-то час они настлали все полы, поставили опечек и принялись возводить печные стенки. Но быстро и неудержимо темнело, даже вздохнул Лутфулла-абзый: «Эх, если б чуть пораньше начали!» Однако хлопцы вывернулись и тут: Митрофан Зозуля, все еще не оставивший командование, покатился к шоферам, что-то округло посыпалось из его непрерывно шевелящихся губ — и вот, словно по мановению волшебной палочки, засияли фары сразу у обеих машин, двор и изба озарились яркими снопами электрического света.
Лутфулла-абзый вытирал рукавом вспотевший лоб и моргал увлажненными (может, от пота, а может, от яркого свету?) глазами, глядел на хлопотливых, почти незнакомых ему людей; вспомнились ему Куйбышев, приехавшая проводить своего мастера бригада; верный друг Костя Дорогомилов; показалось вдруг, будто те самые лучи света, что упали к ним в куйбышевскую квартиру, сияют и здесь, и в порыве восторженной душа подумал Дияров:
«Ну вот, друг ты мой Феоныч, не поверил ты мне, когда рассказывал я о деревенских субботниках-сабантуях моей земли, не поверил, голубчик! Ого-го! Показал бы я тебе сегодняшние чудеса. Это ли, брат, не настоящий трудовой сабантуй?!»
5
В доме Шавали в эту ночь не спали.
Когда у заброшенной, многие годы не знавшей хозяина избы Дияровых остановилось несколько машин, Шавали-абзый поспешно вскочил с кровати и подался к боковому оконцу.
Как говорится, на воре и шапка горит — перепугался старый Шавали. Нахлобучив продавленную войлочную шляпу, нацепил склеенные из автомобильных шин калоши и зашлепал к хлеву. Долго возился с замком, не попадая дрожащими руками ключом в скважину. В хлеву притрусил соломою торчащие из-под навоза концы половиц и зло и отчаянно обругался на соблазнившуюся чужим добром жену. Вот бестолочь! Говорил же ей, паскудной старухе, не тронь чужое, так нет же, приволокла, не послушалась, прорва!
Тетка Магиша с тусклою лампой в руках все глаза проглядела, поджидая застрявшего в хлеву мужа. Нетерпеливо семенила по избе, то подскакивала к окошку, то выбегала опять в сени и наконец, столкнувшись с входящим Шавали, чуть было не выронила из рук коптящую лампу.
— Ну, добродишься ты у меня, слепая курица! Задуй лампу-то, бестолочь! — заорал на нее старик.
— Да задую, не надрывайся ты, луженая глотка... Тесто поставила, дык чегой-то не подымается. Може, холодком прихватило...
— Сгинь, чесотка, не доводи до греха... Какой еще тебе холодок, в середине-то лета?!
— Ай, да как сказалось впопыхах, так уж и ляпнула... Закопал?
— Экая ты вредная старуха! Закопают тебе, ежели услышат.
Вошли в дом и, занятые каждый собою, на время умолкли. Шавали-абзый, с пыхтеньем стянув с ног толстые шерстяные носки, лег на постель, лежал тихо. Тетка Магиша,, бормоча полузабытые слова молитвы, ходила по избе, прикрывала досками полные ведра. Ее внезапно проснувшаяся набожность вновь разозлила старика, и он, тревожно прислушиваясь к голосам на дворе Дияровых, зашипел:
— Ну, чего ты там все возишься, а? Почто половицы-то не посмотрела? Ай руки б у тебя отсохли, ежели б прикрыла их получше?
— Ладно тебе, не рычи. За все меня виноватишь. Бирюк проклятый. Был бы порядочным отцом — и дети не разбежались бы. Люди вон обратно из дальних-то земель возвращаются, в родной дом тянутся...
— Это кто же возвращается? Никак... Лутфулла воротился?
— Кто еще, как не Лутфулла... Не скитаться же ему по чужбине, когда на родине нифеть отыскалась...
Понемногу утихли, примирились в общем для них беспокойстве; жена легла рядом с мужем, и, жалея друг друга, долго лежали тихо и смирно. Но вот тетка Магиша, вздохнув, разбила набегающий уже сон житейскою заботой:
— Слышь? Заснул ай нет?
— Чего еще припомнила?
— Баили, на тот год стадо уж не будут выгонять...
— Это еще отчего...
— Нифетяники, бают, все поля да луга поиспоганили. Рази ж трава вынесет столько машин...
— Спи! Даст бог день, даст и пищу.
— Даст, как же, ежли рот раззявишь. Кто за коровой-то смотреть будет? Овец опять-таки чем зиму прокормишь? Ты бы, старый, хоть у лесника Гарапши спросил деляночку. Посулил бы улей на развод, авось он и согласится!
— Отодвинься-ка, бога ради! И локоть-то у тебя не локоть — сущее шило: так всего и исколола, баба...
Старик в сердцах отвернулся, лег спиной. Нифетяник Лутфулла — и тот обратно приехал, стало быть, и вправду конец деревне. Грызла оттого душу Шавали досада, не на ком было выместить свою злобу, и он, подскочив, опять разворотился к старухе:
— Глянь-кась на ее! Корову середь ночи припомнила. Смотреть за ей кто станет? А ты и станешь. А нет — будешь без молока куковать. Ты детей-то отвадила! От тебя они поразбегались, от твоей неуемной жадности! Арслан было вернулся уж, да опять в город укатил. Язык бы у тебя отвалился, ежели б и сказала ему какое доброе слово? Что ты ему в дорогу-то сунула? А?! Заплесневелую соту? Как же — будет он с тобой, прорвой, жить, да ему в городе в мильен раз приятней! Сам он себе в городе хозяин! А ты, куриные мозги, ежели б не была адиоткой, так не зажадилась бы матери-старушке бязи на саван. Али думаешь, Арслан того не приметил? Он все приметил. Глаз у его вострый. А ты небось думала: раз молчит, так и не приметил. Он все-о на душу кладет, все-о примечает. Башковитый он, Арслан-то. Умница. А из-за тебя, прорва, домой не едет, из-за тебя и не женился до сих пор.
Шавали-абзый, захлебнувшись от ярости, спустил ноги на пол и, не найдя калош, опять гаркнул на тетку Магишу. Нашел. Выскочил на двор. И долго стоял у забора, вглядываясь в ночь, в суету на дворе у соседей, где при свете направленных на крышу фар уже выводили печную трубу. Потом заметил у изгороди Дияровых две маленькие, чернеющие в темноте фигурки, жадно устремленные к светлому дияровскому шуму. Погоди-ка, да ведь это как будто... Марзия да Габдулхай? Они, что ли? Они. Что там высматривают, пострелята? Захотелось вдруг зло прикрикнуть на детей: «Кнута ждете, неслухи? А ну, ступайте в избу!» — но в последний миг Шавали удержал себя от этого, совсем уже неразумного шага.
...А Марзия и Габдулхай все стояли у изгороди, и когда отец ушел в дом, Марзия, обернувшись, дернула брата за рукав:
— Габдулхайка, знаешь что?!
— Че?
— Давай сделаем одно дело.
— Какое дело?
— Давай вынесем из хлева половицы.
— Половицы? А зачем?
— Так они же не наши.
— Не наши?! Почем ты знаешь?
— Мамка их вон из того дому утащила.
— Иди-и не ври!
— Да, вру, конечно.
— Побожись!
— Вот еще!
— Скажи: честное пионерское!
Марзия разозлилась. Вот болван, еще не верит!
— А не хочешь, я и одна справлюсь! — и она, круто повернувшись, шагнула к своему дому.
— Погоди ты. Че злишься? Пусть хоть люди уйдут... — сдавленным от волнения голосом прошептал Габдулхай.
Тихонько вошли в дом, проверили, улеглись ли родители. Вышли снова и, сидя на корточках у изгороди, ждали, пока не разойдется из соседнего двора весь народ. Часа через два голоса там наконец утихли. Светало.
Быстро отбросили в хлеву навоз с укрытых половиц и, ухватив тяжелые доски за концы, выперли их на двор.
— Ой, падает! Падает, говорю... — пропыхтел Габдулхай и тут же уронил свой конец досок на землю.
— Ну, шляпа, даже поднять не может. Мало каши ел, э-э мелочь пузатая! — задразнилась Марзия.
— Да-а... Тебе хорошо, — выбрала, где легко, конечно, какая хитренькая!
— Легко — фиг с маслом. А ты только болтать мастер. Берись давай.
— Не буду!
— Плакса-вакса, зеленая клякса. Сразу бы сказал, что силенок маловато, а то — давай, давай!
— А я про тебя папке скажу.
— Попробуй только скажи.
— И скажу вот — ох, он тебе зада-а-аст!
— Ябеда противный.
— А, ябеда?! Скажу, обязательно папке скажу...
Тут Марзия, опасаясь, что братец и впрямь расскажет отцу, принялась улещивать капризного мальца, и скоро они, кряхтя от натуги, уже тащили тяжелые, скользкие от навоза половицы во двор к Дияровым. Оттащив, сели на травку отдыхать, и Марзия вдруг приглушенно захохотала, откидываясь на руки:
— Ой, не могу. Завтра, ха-ха-ха... посмотрит папка в хлеву, ха-ха-ха! Ну, забегает... ха-ха-ха... Не боишься, а, Габдулхайка? Не боишься, что папка с тебя шкуру спустит, ха-ха-ха...
И так заразительно и весело, захлебываясь и фыркая, хохотала она, что не вытерпел и струхнувший поначалу Габдулхай — засмеялся вслед за старшей сестрой. Под клетью проснулись от их смеха белые гуси, торопливо и громко переговаривались на своем гогочущем языке, словно бы одобряя первый самостоятельный и добрый поступок детей.
6
Лутфулла Дияров весь следующий день был во власти двух чувств: радости и какого-то счастливого изумления. Возвращение после стольких лет разлуки в родной Калимат, отцов дом, где разместился он со своей большой и шумной семьей, вчерашняя огневая работа буровой бригады, за одну ночь отремонтировавшей его полуразрушенную избу, и то, что командовал всем этим сам директор конторы треста «Калиматбурнефть», — все это будило в душе старого мастера радость, заглушившую и дорожные заботы и горькое разочарование при виде родного дома; но так сказочно быстро все это произошло, что невольно к чувству радости примешивалось и чувство безотчетного удивления.
Утром, открыв глаза, он на мгновение потерял нить событий и, не понимая, где находится, растерянно огляделся. Щедрый, утренний свет, льющийся из свежезастекленных окон, возвышающаяся посредине избы, еще не побеленная и оттого кажущаяся более громоздкой печь, посапывающие на новом некрашеном полу дети и объявшая их сонная тишина вдруг вдохнули в него свое тепло, и он очнулся и вспомнил презанимательнейший сон, увиденный им сегодня ночью. Будто по тихим, заросшим зелеными травами улицам старого Калимата двигалась неспешно колонна тяжелых грузовых машин. На одних — красивый, ярко-красный кирпич, на других было полно народу. Двигались они как на параде — стройными рядами, в торжественном молчании, а впереди на белом длинногривом коне выступал будто бы старый заслуженный генерал, и генерал этот был не кто иной, как сам Лутфулла Дияров, а конь под ним бил копытом, выгибал по-лебединому шею, бесшумные машины озаряли всадника серебряными снопами света...
Выйдя на двор умыться, Лутфулла-абзый долго еще был под впечатлением чудесного сна и задумывался часто, покусывая усы и улыбаясь. Из-за Нурсалинских гор всходило солнце. В его прозрачных и ослепительных лучах гребень леса на горах то просвечивал насквозь, то темнел густо и плотно, сплошною стеной. По единственной там, круто проложенной дороге подымались довольно быстро два легковых автомобиля, но были они так далеки, что рокот их не долетал до дома Диярова, и потому автомобили казались нереальными — как бы продолжением давешнего сна.
Пока Дияров умывался и приводил себя в порядок, вокруг все ожило. Заорал где-то всполошенно проспавший зорьку петух, ему вразнобой ответили еще несколько кочетов-разгильдяев, и послышалось скрипенье ворот, звон ведер и людские голоса.
«Поздно теперь встает деревня. Так ведь нет же полевых работ...» — догадался Дияров.
С утра хотел старый мастер пойти на беседу с начальством и встать на партийный учет, так как был он в этом вопросе щепетилен до чрезвычайности, но, как всегда на новом месте, перед тем как выполнить эти несложные обязанности, в душе он крепко волновался, потому решил немного поуспокоиться и поначалу привести в надлежащий вид свое неухоженное хозяйство.
Первым делом Лутфулла-абзый надумал скосить на запущенном дворе лебеду да вымести вон оставшийся после ремонта мусор, однако ни метлы, ни косы в своем хозяйстве не обнаружил.
Тут Дияров вспомнил кстати, что по соседству с ним жил с незапамятных времен Шавали Губайдуллин, которого на деревне считали крепким и рачительным хозяином, — недолго думая, Лутфулла-абзый направился к нему. Войдя в ворота, он на минуту остановился, окинул внимательным взглядом избу и дворовые постройки, и на него словно пахнуло холодным, ветхим ветром: крыша дома криво осела, скособочилась дверь захудалой клети, и лишь на хлеву ярко и сочно желтели свежие соломенные заплаты.
— Это какая же холера тут нашкодила? — донесся из глубины хлева сиплый голос, и вслед за тем на божий свет выбрался и сам хозяин: широкий в кости, сивый, заросший старик в громадных, грубо сляпанных из автомобильной шины калошах;
— Ты, что ли, Шавали-абзый! — негромко воскликнул Дияров, шагнув ему навстречу.
Старик, увидев идущего с решительным видом прямо к нему незнакомого в кожаной кепке и куртке человека, отпрянул, словно пугливая лошадь от гудящей машины. В следующий же миг он признал Диярова и застыл, холодея от страшной мысли: «Половицы ищет!» Но Дияров, подойдя к нему, дружески протянул раскрытую ладонь и, пожимая большую костистую руку старика, приветливо сказал:
— В народе так сказывают, если семилетний придет издалека, то и семидесятилетний зайдет его проведать. Я уж, Шавали-абзый, не стал дожидаться, пока вы меня навестите, сам к вам заглянул. Не заругаетесь? Как жизнь, Шавали-абзый? Стареем понемножку?
Очень уж польстило старику, что его сосед, объездивший, почитай, всю страну, подошел к нему этак уважительно и ласково; он даже на секунду позабыл о половицах.
— Хо! — крикнул он. — Кому и стареть, как не нам, Лутфулла... Я вот, помню, дом себе уж поставил, оженился, а ты все с ребятами шары гонял. А теперь, глянь! Ну, чисто батыр из сказки супротив меня, я тебе скажу. Усы отпустил, картуз кожаный — ты, Лутфулла, как я погляжу, совсем городской мужик стал. Сколько тебе? Небось под пятьдесят уже?
— Бери выше, Шавали-абзый. Шестой десяток давно разменял.
— Да неужто? Дела-а-а... Вот жисть, а? Шестой, говоришь, разменял? — и, забрав в горсть бороду, старик покачал головой. Желтовато-темное морщинистое лицо его чуть порозовело, зашевелилось, ожили у глубоко провалившихся глаз мелкие морщинки, да и в самих глазах вспыхнула еле заметная искорка.
— Дак что же мы здесь стоим, будто каменные столбы? Давай-ка, Лутфулла, заходи в дом, гостем будешь, счас чаю наладим, — сказал вдруг старик мягким и приветливым голосом.
— Спасибо на добром слове, Шавали-абзый, времени только у меня маловато. Ну, да теперь мы с тобою соседи, увидимся еще и в гости зайдем. Я ведь к тебе по делу. Надо бы мне привести в порядок свое развалившееся хозяйство. Вот, пришел кое-что взять у тебя...
Старый Шавали едва не подскочил от этих слов и, запинаясь, быстро бормотнул:
— Ч... чего такое взять?
— Да на день косу бы да метлу... какие поплоше.
— А-а, вот оно что! Метлу, говоришь, и косу? Это, брат, можно... это можно. Эй, мать! Магиша! Магиша, слышь!
Из дому, спотыкаясь, выскочила простоволосая, в длинном линялом платье баба и, оторопело глянув на Диярова, вскрикнула:
— Анделы небесные! На дворе гости, а он и не скажет!.. — и тут же унеслась обратно.
Выходя с косой и метлой со двора, Дияров еще раз окинул взглядом обветшалые, покосившиеся постройки, стоящего в тени лапаса, со скрещенными на груди костлявыми руками старого Шавали, и долго стояли у него перед глазами это пришедшее в упадок хозяйство и его чудаковатый хозяин. И еще одно обстоятельство необъяснимым образом связалось в его представлении с мрачным домом Шавали. Рядом со своей избой обнаружил он вдруг в траве какие-то три половицы. Поначалу думал Лутфулла-абзый, что остались они после вчерашнего ремонту, но, нагнувшись, сообразил, что ошибся; от старых, отсыревших на росе досок ударил в нос резкий и кислый запах навоза. Сильно удивившись, он постоял над ними, не понимая, какими судьбами попали на его двор эти потемневшие от времени, но пахнущие свежим навозом странные половицы.
А солнце тем временем уже поднялось над Нурсалинскими горами на высоту буровой вышки, и под его теплый золотой свет высыпало во двор многочисленное семейство Дияровых. Рыжие, самого разного возраста ребятишки — кто на велосипедах, двухколесных и трехколесных, кто на игрушечных лошадках, на палочке, а то и просто на своих загорелых и исцарапанных двоих — с ведерками, лопатками, железками и палками в руках, крича и ссорясь, посылая радостные вопли в это июньское солнечное утро, словно привезли они с собою на тихую травяную деревенскую улицу древнего Калимата гомон и суматоху далеких больших городов. А Лутфулла Дияров, взмахивая косой, все время чувствовал на своем дворе любопытные взгляды соседей. То и дело с ним здоровались прохожие, окликали, расспрашивали; возбужденные ребятишки приносили с улицы кучу деревенских новостей. Четырнадцатилетний сын его, Вагап, легко повыдергивал расшатанные колья изгороди и, налив в ямку из старого медного кумгана воды, лихо размахиваясь, вколачивал в землю новые. И Лутфулла-абзый, когда-то научивший сына этой премудрости, наблюдал теперь за ним с большим удовольствием; Диярову было приятно, что Вагап работает энергично и умело, вкладывая даже в такое, не слишком замысловатое занятие всю свою увлеченную душу. Дияров не любил маменькиных сынков, чурающихся физического труда, терпеть он их не мог, считая людьми пустыми, неинтересными, поэтому и огорчался раньше, зная, что в большом городе не так-то просто подобрать мальчишкам подходящую работу. А здесь — эвон какое раздолье! Развести, понимаешь, какой ни на есть огородишко, и пусть себе пацанье в земле копается: так, конечно, для души, а не для выгоды. Потом и фруктовый сад можно будет посадить — земля хорошая, и места вполне достаточно. Тауфика до подобных затей большая охотница, да она, мать честная, такое здесь разведет, что калиматовцы только рты поразевают, со всех концов побегут к ней за рассадою.
Вот и Тауфика-апа, будто за щепками вышла во двор, окинула придирчивым взглядом свое звонкоголосое семейство и осталась довольна. Сегодня она выглядит куда живее, исчезли под глазами синеватые тени, повеселела, — видимо, и ей пришелся по душе вчерашний огневой субботник.
Лутфулла-абзый ближе к полдню почуял, что тяжелое гнетущее чувство, заполонившее его с посещения шавалиевского мрачного двора, понемногу рассосалось, уступая место тихой и спокойной радости; он с удовлетворением пошел обедать, а после сытной и вкусной еды работал до позднего вечера с молодым пьянящим задором, сладко и крепко спал и утром, надев новую пиджачную пару, повязав галстук и наведя блеск на кожаную фуражку, с легким и уверенным настроением пошел в контору.
Управляющий трестом Кожанов встретил мастера вежливо и спокойно, был он, как и при первом знакомстве, в ладном темно-коричневом костюме, белой рубашке с черным строгим галстуком. Встав из-за стола, поздоровался Кожанов с мастером за руку, предложил стул, но, заметив, что Дияров заинтересованно оглядывается, торопить его с разговором не стал. Впрочем, на знакомство с кабинетом управляющего много времени и не требовалось, не было в нем, как и в самом Кожанове, ни одной лишней детали: шкафы, книжный и несгораемый, просторный письменный стол, несколько стульев и сбоку от стола большая, во всю стену, карта. Вглядываясь в крутые, стремительно вздымающиеся изломы линий этой нарисованной от руки цветной карты, в силуэты буровых вышек на ней, Дияров понял, что это карта разработки нефтяных площадей треста, и, кажется, впервые по прибытия в Калимат, почти физически ощутил громадный объем работы, развернувшейся на его земле.
Управляющий трестом, расспросив Диярова об устройстве семьи на новом месте, о прежней работе мастера, осведомился, не нужна ли ему какая помощь от треста, и, получив отрицательный ответ, перешел к предстоящим делам. На слова был он скуп, говорил, не отрывая взгляда от собеседника, словно боясь, как бы тот не упустил хотя бы одно слово. Выражение лица у — него было при этом пасмурное, сухое, брови сумрачно сходились на переносице, и под туго натянутой смуглой кожей напряженно ходили желваки. Был он также скуп на движения, однако чувствовалась в нем огромная, целеустремленная энергия, отчего и казался он упругой, свернутой до поры до времени пружиною. Большие, крупные в кости, густо поросшие черным жестким волосом руки Кожанова, сжатые в кулаки, лежали на столе в неослабном напряжений; лишь перейдя к делам и задачам треста, он внезапно сцепил пальцы, точно замкнул железный обруч, и стиснул их так, что затрещали суставы. Говорил управляющий негромко и тяжело, словно ронял пудовые значительные слова:
— Наша борьба, товарищ Дияров, жесткая и безмолвная. Кто кого! Природа бездушна, и ей нет дела, победим мы ее или будем побеждены. Партия дала нам задание — партия ждет от нас дела. Мы, коммунисты, должны смотреть правде в глаза. Нефтяные районы республики далеко не трамплин к легкому успеху, это нужно понять прежде всего. Жестокие морозы, неимоверная грязь, выматывающая работа без горячих обедов... Слава и ордена, прекрасные города и магистрали будут позже. И мы не должны вводить молодежь в заблуждение, но должны прямо спросить: «Крепки ли у тебя жилы? Под силу ли тебе тяжесть, какую подымали люди, строившие Советскую власть? Если под силу — ты пойдешь с нами!»
Лицо Кожанова сделалось еще более напряженным, сжались тонкие губы, и серые под тяжелыми веками глаза загорелись неистовым пламенем; исподлобья, в упор смотрел он на Диярова, словно проверяя его выдержку, и вдруг неожиданно губы его дрогнули, и лицо Кожанова осветила короткая, но поразительно теплая и душевная улыбка.
— Я верю в вас, товарищ Дияров. Верю, что постараетесь передать молодым весь свой богатый опыт. Без молодых нам не сделать даже малого. К нам приехали мастера со всех концов Союза, люди с золотыми руками. Но республика совершит гигантский шаг вперед, если будут подготовлены свои кадры, национальные кадры нефтяников!
Лутфулла Дияров вышел от Кожанова воодушевленным и глубоко взволнованным. Даже по улице Дияров шагал твердо и энергично, словно уже подчиняясь стальной воле и крепким рукам управляющего. По новому асфальту громыхали мимо него грузовые машины, перед финскими домами, возле бараков шумели листвою молодые деревья, и, торопя товарища, кричал густым, перекрывающим все шумы басом какой-то парень в брезентовой куртке:
— Скорей, брат, скорей!
Немало поколесив по стране, Дияров замечал, что отличительной чертой новорожденных городов становится стремительность в жизни и в темпах, — нечто подобное уже начиналось и в Калимате. Контора треста «Калиматбурнефть» стояла на самом высоком месте, и отсюда как на ладони виден был старый Калимат, озаренный широкой и светлой полосой солнечного света. Полоса медленно перемещалась по направлению к новому Калимату и наконец пошла по нему, высвечивая поочередно, словно подсчитывая, его строительные площадки, горы щебня и камня, высокие, устремленные в небо башни подъемных кранов. Старый Калимат, оставшись в тени, как-то сразу уменьшился в размерах, будто стушевавшись перед гигантской стройкой нового города, и вжался в землю и померк.
За горою Загфыран лопнул ослепительной трещиной край неба. Оттуда, закрывая весь горизонт, надвигалась огромная даже издали синевато-черная туча, в темных провалах которой пропал солнечный свет, и сразу на башенных кранах, разбросанных по строительству, позагорались яркие огни, и Лутфулле Диярову вдруг почудилось, что клинки молний бьют не из грозного массива, а именно из этих повисших на стальных клювах кранов мощных ламп. Он остановился у недостроенного, но уже довольно высоко поднявшегося кирпичного дома, долго смотрел на каменщиков, не обращавших на молнии никакого внимания; потом вспомнил, что на этом месте, когда-то околице старого Калимата, стояла изгородь и отвод[13]; представил, как с хрустом давили наезжавшие трактора ту изгородь, — деревенское детство вспыхнуло в памяти зеленым луговым счастьем, и грустно стало на миг: острое сожаление ожгло грозовой молнией. Но длилось это недолго; несказанно большее, великое, новое, стремительное и обнадеживающее заглушило то первое чувство, и желтые пирамиды камня, башни кранов, сильные сердцем люди на высоких стенах позвали его: «Быстрей, брат, быстрей!» — наполняя душу неуемной тягой к жизни и возрождению.
И он, шагая размашисто и крепко, пошел в райком вставать на партийный учет.
7
Через неделю бригада выезжала на буровую...
На калиматовском автовокзале, чуть в стороне от пассажирских автобусов, стоит несколько «вахтовушек»; вокруг них — столпотворение замызганных брезентовых курток, помятых кепок, гомон, хохот. Мастер Дияров, в кирзовых сапогах и кожаной фуражке, в куртке, отстиранной содой до белесого цвета, с полевой, туго набитой сумкой через плечо, приземист, нетороплив, ходит промеж буровиков, поглядывает, ухмыляется соленым шуткам, угощает ребят табачком и курит сам — одним словом, чрезвычайно доволен, что вернулся наконец в мир единственно простой и естественный, с его верным и крепким, как сталь, словом, со смехом от сердца и сплачивающей всех единой работой. Много ли, впрочем, человеку надо: труд желанный, теплый семейный очаг да широкая душа. Вот — счастье!..
Его бригаде дали автобус. Был этот бедняга с виду удручающе ненадежен: с облупленной краской, с ободранной обшивкой, весь в жирной пыли, саже и мазутной копоти. Стекла его, наполовину выбитые, уныло дребезжали от гула мотора, трепыхались, словно у раненой птицы, крылья капота, и вообще казалось, что чудная машина не пройдет и пяти километров — рухнет загнанной клячей и погребет под своими останками всех буровиков. Ребята, однако, мешкать долго в раздумьях не стали, толкаясь и отпихивая друг друга, набились в автобус — тот, к вящему удивлению, выдержал испытание не дрогнув. Когда же последним влез в него Лутфулла-абзый и хлопнул дверью, автобус этот рванулся вперед, как чистокровный, застоявшийся рысак: нефтяники, не успевшие усесться, дружно и весело попадали.
Диярову оставили место рядом с водителем, он и сел там молча, глядел себе задумчиво в окошко. Не хотелось ему пока встревать непрошенно, не хотелось беспокоить людей могущей показаться ненужною беседой, оттого он мирно молчал. Впредь им работать вместе: значит, будет еще время и брови ломать, как говорится, и губы кусать — на буровой станет все ясно.
Асфальтовое шоссе черно бежит на автобус. На обочинах мелькают плакаты, знаки, надписи вроде: «Тракторист, не заезжай на правую сторону!» Отсвечивают вдали серебром резервуары, торчат в небо промысловые вышки, на зеленых холмах, что выстроились ровной чередою вдоль дороги, пылают газовые факелы. Видно, нефтяники тут поработали уже немало — огни на вершинах встречаются очень часто.
Лутфулла-абзый, оторвавшись от окна, оборачивается на буровиков, незаметно вглядывается в лица, пытаясь прочесть их мысли. Не удается. Душа не рубашка, ее наизнанку не вывернешь, хотя ребята, как поглядеть, совсем простые... Впрочем, сам Лутфулла-абзый тоже не магистр психологии, оттого не осиливает он завесу лиц, и рабочая мудрость его в этом не помощь: там, где слова правдивы, в мыслях чужих разбираться нужды нет. А ребята похожи одним, но крепко: все здоровые, чистые. Им даже вытертые куртки к лицу. Их даже линялые рубашки красят. Молодость — пора хорошая, красивая... Золотая пора. Сейчас тем более жизнь полегче стала, как и должно быть, конечно. Этим вот не пришлось, подобно ему и Дорогомилову, бурить землю по старинке, почти вручную, простаивать в трудные военные годы по две, по три вахты подряд. Где там! Раздирающий уши грохот ротора — и тот миновал их, не достался им его воющий звук, тяжелый звук, правду сказать... Татарстан теперь на турбобуре работу ладит...
Автобус, видно, угодил в какую-то рытвину — подскочил так, что екнуло в моторе. Бориса Любимова, гораздого на веселые шутки, умеющего завлечь в свои прибауточные сети всю бригаду, выкинуло с задней скамейки — чуть он не припечатался лицом к полу. Воротясь на сиденье и накрепко вцепившись в него, Любимов серьезно крикнул:
— Повторите, пожалуйста, я оплачу!
Стали тут над ним смеяться и подтрунивать, что было сил...
— Ты, Борис, видать, не в добрый час родился — все шишки на твою голову, — сказал Ямангулов, сидевший с полевой сумкой через плечо напротив Любимова.
— Да с женой тут повздорили утречком. Сказала она мне пару ласковых слов — вот теперь и сбываются, — с удовольствием хохотнул Борис, и нефтяники, заранее посмеиваясь, подсели к нему поближе. Любимов же, почувствовав внимание, приосанился и, щуря один глаз, весело заговорил: — Ну, братцы, кто желает веселой жизни — поселяйся тот в коммунальную фатеру. Вот где благодать! Живем мы, допустим, в одной фатере — три распрекрасные семьи. Покладем по паре пацанов в семью — итого шестеро шпингалетов. Отсюда будем соображать: выскочит эта братва во двор по малой своей нуждишке по шесть раз на дню — считай, дверь тридцать шесть раз откроется и тридцать шесть раз закроется. Усекли? Теперче наши благоверные... Друг дружке уступить, сами понимаете, для них невозможное дело — слушать друг дружку и то не желают! Поскочут наши благоверные за день на кухню по десять раз, ну, помножай десять разов на три жены — выйдет ни много ни мало шестьдесят дверных хлопков. Да первые тридцать шесть — получается почти круглая сумма: девяносто шесть открываний и закрываний. Во! А ежели все это не в спокойствии душевном, а, скажем, женушки наши переругались? О, братцы, тут уже у них нервы пошаливают, и натянуты они втрое сильнее, ну, само собой, на дверь женки нападают втрое больше. И хлопает она, братцы, на дню... Это будет... будет...
— Двести восемьдесят восемь! — сказал Джамиль Черный, известный тем, что быстрее всех считал деньги.
Буровики громко захохотали, но сам Борис даже не улыбнулся, дрогнул краешком губ и тросто продолжил:
— Но нервы все же пока еще ничего. Терпим. Тридцать лет — самый что ни на есть, доложу я вам, терпеливый возраст! Да пусть она не сто, а тыщу раз хлопает — мне наплевать. Но что взаправду плохо — путаница происходит. Три семьи, и у каждой свои хозяйственные, я бы сказал, предметы, хоть ты лопни. Вот и путаемся. Теперь, думаю, лишь бы в женах путаницы не приключилось, скандалу будет — упаси боже!.. Вот на той неделе прихожу я это с ночной вахты, гляжу вдруг — в доме тишина. Ни шуму тебе, ни шороху, миру — мир, короче. Ага, думаю, на сегодня скандалу не намечается, господи, хорошо-то как! Аж перекрестился от удовольствия. Ладно, думаю, женки, наверное, притомились, цельный день-то дверьми хлопаючи, грех женок беспокоить. Перебьюсь и в темноте: авось мимо рта ложку не пронесу. Сунулся под стол, чувствую — кастрюля. Большая такая, зараза, и тепленькая. Ну, ложкой глубокую разведку произвел — ха-роший кусок там мяса, братцы, с килограммчик, а то и поболе. Эх, думаю, расщедрилась моя супружница нынче или случилось что? Может, вспомнила, как я ей в этом годе на Восьмое марта два флакона «Красной Москвы» принес? Ладно, долго голову ломать не стал, пристроился сбоку к кастрюле и заработал. Ну, умял с устатку весь суп да мяса кусок, чтоб не соврать, с Ямангулову так рукавицу. Отвалился, отдышался малость, пузо погладил да и на боковую. Супружница моя по привычке заныла: «Фу-у, бензином провонял, отодвинься подальше!» Ну, мне и горя мало. А чего: брюхо сытое, настроение, доложу я вам, распрекрасное, как уткнулся головой в подушку, так и захрапел.
Борис, словно сказочник, знающий цену своим словам, выдержал небольшую паузу и хитро взглянул в ожидающие глаза джигитов.
— Ну, братцы, спал я, конечно, как никогда. Никаких тебе дурацких снов, никаких кошмаров — дрых, как убитый, честное слово. В другой раз, опосля неважнецкого ужина, бывало, все мучился во сне, будто на вышке у нас страшенная авария приключилась, а тут никаких аварий, все слава богу. Только проснулся с утра, слышу, женки на кухне об чем-то талдычут, да так серьезно: бур-бур, бур-бур-бур — и ахают поочередке. Выглядываю я одним глазом — мать честная! Столпились все наши бабы посередь кухни, а на столе та самая кастрюля.
На этот раз и Лутфулла-абзый не удержался от смеха:
— Никак, парень, на чужую кастрюлю напал в потемках?
— Вот где самая громадная авария-то была, товарищ мастер! Сожрал-таки чужой суп, черт бы его побрал! А женки на кухне заглядывают попеременке в пустую кастрюлю и костерят почем зря честного кота Тимофея, — я ему ночью-то сам кость бросил, вот он и таскает ее по кухне. «И как он, проклятый, не лопнул, килограмм мяса сожравши?» — удивлялась соседка. «И не говори, милая, как это он ухитрился? — вздыхает моя. — Мясо-то мясом, но как, скажи на милость, угораздило его ведерную кастрюлю супа слопать, да еще крышку за собой закрыть?»
Тут я, конечно, не выдержал, заперхал. Ну и набросились на меня женки. Ну и завопили же они, доложу я вам! Ладно еще подошло время на буровую идти, собрался я кое-как и давай драла! Что съедено, то, как говорится, скушано...
Борис умолк, буровики тоже молчали как-то задумчиво. И Лутфулла-абзый вдруг понял, что развеселый, казалось бы, рассказ Любимова был, в сущности, камешком в его, Диярова, огород. Вот, мол, товарищ мастер, в каких условиях живем, кумекаешь? А сумеешь ли ты, уважаемый товарищ мастер, пробить для своих буровиков новые квартиры? Потянешь ли?
«Квартира — дело серьезное, здесь, пожалуй, шутки в сторону, — думал Лутфулла-абзый. — Надо бы посмотреть, кто из моих как живет. Придется и в партком и в бурком наведаться. О чем там думают? Условия-то действительно туговаты». А в сердце его тем временем зрело и другое чувство, было оно теплым и дружеским, наверное, даже отеческим, чувство душевной близости к парням из своей, да, теперь уж из своей, бригады. Молодцы ребята, где смешно, там хохочут, где трудно — там тоже не сдаются, подбадривают себя острым словом. Молодцы! И Лутфулла-абзый с отцовской гордостью посмотрел на прочно сбитую, кряжистую фигуру Бориса Любимова, на его медное от загара, с крепкими блестящими скулами и синеватым после бритья круглым, раздвоенным подбородком лицо — вот такие парни и должны в будущем стать костяком бригады. Именно такие зажигают людей неистощимым трудовым пылом, рядом с ними молодеет коллектив, не остается в нем места унынию и кислым настроениям.
Старый мастер, однако, приметил среди нефтяников и таких, кому явно не бывать душою бригады. Слева от него, на первом сиденье, смотрит не отрываясь в окно молодой с тонким ястребиным носом и впалыми щеками мужчина. За всю дорогу не перекинулся с товарищами ни одним словом, ни разу не улыбнулся, довольно странно это. О нем, наверное, сказали: состарился, не успев родиться. Сидит, ровно сыч, уткнувшись хищным носом в воротник модной кожаной с обилием замков куртки. Рубашечка тоже чистенькая, модная. Глаза злые. Вроде даже злится на веселье буровиков, вот ненормальный. Ишь, как ушел в свой кожаный панцирь. Погоди, когда дом ремонтировали, на субботнике-то, его ведь тоже не было. Ну да. Фамилия ему, кажись, Тимбиков. Карим Тимбиков. Говорят, однако, отличный бурильщик. Ну, что же, посмотрим. Был когда-то и в Калимате один человек, тоже Тимбиком звали. В годы коллективизации больно уж петушился, фасон держал, но потом, говорили, запил да так и не выправился. Помнится, даже в письме написали. Точно! Братишка и писал: «А у нас в селе большое событие. Помер Тимбик-Ветрогон...»
8
За свои тридцать лет многое повидал Карим Тимбиков, многое и позабыл, но два события запомнились ему навсегда.
...Кариму лет десять. Зима. Буран. Все сидят ужинают. На пороге с берданкой в руках возникает отец; широко расставив ноги, Тимбик прикладывает ружье к плечу... раздается оглушительный выстрел, и шамаиль[14], как кажется Кариму, всегда висевший на стене предмет гордости бабушки, сберегаемый ею словно зеница ока, — этот драгоценный шамаиль разлетается вдребезги.
Вскакивает из-за стола перепуганная семья, маленький Карим в диком страхе забивается куда-то в угол. Когда едкий пороховой дым рассеивается, он видит на полу сгорбленную бабушку. Она бережно собирает осколки стекла, и дрожащие губы ее беззвучно шевелятся:
— Спаси и сохрани нас, господи. Покарай сурово поднявших руку на последователей святого Мухаммеда...
...Кариму лет семнадцать. Лето. Ночь. Шушукаются, шелестят у деревни серебристые тополя, гортанно взборматывают спросонья уснувшие на проезжей дороге гуси. Карим осторожно идет, сначала по дороге, затем прижимаясь к плетню. Дойдя до желанного двора, останавливается, затаив дыхание: кажется, кто-то бежит. Нет, это колотится его сердце. Он ждет... готов ждать хоть всю ночь, лишь бы показалась в лунном сиянье гибкая фигурка его Шамсии, тогда он ей скажет, как сильно любит ее, она, наверное, застесняется и жеманно отвернется. Девки — они ведь такие: когда не приходишь, ждут, страдают, а выйдут на свидание, так будто и смеются над тобой. Кариму чудится милый облик девушки, он дрожит и леденеет, а из-за соломенных крыш выглядывает ущербная луна, и линяет уже, тускнеет небосклон. Светает. Шамсии все нет. Но только услышав скрип ворот у старика конюха Нигматуллы, идущего на конюшню проведать лошадей, расстается Карим с последней надеждой и уходит домой. Идет задами, словно прячась от кого-то, а может, и от себя самого?..
Кажется, нет ничего общего между двумя этими событиями. Но, повзрослев, Карим понял: события эти связаны между собой, как звенья одной цепи. И повинен в них не кто иной, как его собственный отец, Тимбик-Ветрогон — притча во языцех, мужик, известный на всю родную деревню.
Не сразу прицепили к Тимбику его звонкое и пустое прозвище — «Ветрогон». Много громких дел пришлось ему сотворить прежде — был он, что там ни говори, человеком храбрым и решительным. В революцию отличился Тимбик бесстрашием и готовностью умереть за правое дело, правильным человеком был он еще лет десять и после гражданской. Раскулачивал самых злых и опасных, не боялся ни бога, ни черта, ни кулацкого обреза. Напротив, одно имя Тимбика наводило ужас на богатеньких мироедов и всякую другую контру, был с ними Тимбик крут и безжалостен.
Погубила его, по словам односельчан, попавшая в руки власть. А так отличный был человек. Но, поднявшись, сам уверовал в свое величие и застрял, запутался. Был на селе в то время очень уважаемый председатель Салимджан, наделила его природа и умом, и добротою, и душой отзывчивой и широкой. Умел он направить Тимбика по верному пути, обратить его неуемную энергию на доброе дело, любил за горячее сердце и безграничную преданность революции... Умер Салимджан. Шел за плугом, остановилось сердце — упал и умер. Два дня плакал Тимбик горючими слезами, на третий день собрал на улице народ и, вскочив на арбу, потрясая ружьем, долго говорил горячие и взволнованные слова.
Схоронили Салимджана. Народ вернулся к работе...
Тимбик же сел за председательский стол. Взял в руки печать. Бумаги, как на грех, под рукою не оказалось, и, подумав, приложил председатель Тимбик ту печать к лаптю бедняка Ярмухаммеда: «Теперя ты колхозный человек!» С этого дня и пошли у него дела наперекосяк. За какой-то год наколобродил Тимбик столько, что и за всю жизнь не придумать: расстрелял по всей деревне шамаили, выгнал из колхоза всех, кто постился в рамазан, напившись до беспамятства, загубил колхозного племенного жеребца. Прогнали его с председателей. Стал Тимбик колхозником. Месяцами работал не покладая рук, переворачивал горы, а нападало на него — и неделями пил горькую. Протрезвев, не поднимая головы, работал вновь до полного одурения. Деревенские недоумевали: то ли восхищаться им, то ли презирать, как беспробудную пьянь и блаженного. В конце концов прицепилась к нему нелестная кличка — Тимбик-Ветрогон, к слову, он тут же честно ее оправдал: подчистую вырубил на дрова колхозный на полгектара яблоневый сад, конфискованный когда-то им же самим у кулака Шаймардана. Не терпел однообразия Тимбик, сходил с ума в одинаковых буднях. И когда махнули уж на него односельчане рукой, поразил всех новою выходкой, завербовавшись на Сахалин. Ни писем, ни вестей Тимбик оттуда не слал, поговаривали, оттого, будто окочурился он там от легошной болезни — чахотки. Но вдруг оказалось, что вовсе и не от болезни, а, напимшись, кинулся с высокой горки в море. Потом в деревню приехал сам Тимбик. Привез с собою три сундука добра, аккуратный приехал, ровно свечка, в хорошем «диганелевом» пиджаке и таких же штанах, а вечером, хвативши по случаю возвращения крепкого градусу, заплетаясь языком, уяснял:
— Тимбик-Ветрогон еще не помер и впредь тоже не того... не помрет... Дохторы-то мине кричат: у тебя, мол, в грудях не того, следуатильна, водку и табак катигарически в употребленье не пользоваться! Они, следуатильна, для тебя самая что ни на есть вражеская контра и подведут тебя под общий каюк — следуатильна, загнесся. А я мозгой прикинул: водка, она што — она же, чертяка, самый обжигающий предмет, следуатильна, раз у меня в грудях завелись какие-то воши, надо их оттель выжигать. И начал я пить еще больше!
Дом Тимбика без него совсем покосился и держался на одной хитроумной подпорке. Тимбик же, выйдя на улицу, пинал ее ногою и задорно ругался на жену и подросшего сына Карима:
— Как вы того... говорю, живете издесь? Тимбик, то исть я, человек пролетариятского складу, а иде же ваша сознательность? Ить это срам! Следуатильна, как вы не брезговаете проживать на такой дореволюционной, говоря утвердительно, нежилплощади? Ну? Рази ж это изба? Вы мне докладайте по строгому порядку: рази ж это изба? Катигарически отвечаю: это не изба, товарищи. Это не изба, следуатильна, нет никакого полного праву называть ее избой и даже фатерой, а есть такое полное право назвать ее замухристой строеньей, конфисковать и побросать в огонь. Вот это будет правильный курс, и без прениев!
Такой уж был человек Тимбик, кричал на всю улицу, шумел, стучал по груди кулаком, но поставил еще две-три подпорки и прожил в этом доме целых два года. Прожил бы и третий, но однажды, когда деревенские, стар и млад, ушли на сенокос, сам же Тимбик, будучи с глубокого похмелья, «последуатильна» материл на лугу «нерадивого» председателя, скособоченный дом его в последний раз горестно скрипнул и обрушился, вздымая над деревней тучи черной пылищи.
Люди вдруг примолкли. Дядьки с косами в руках, тетки и молодухи, волоча за собой грабли, собрались потихоньку посередь луга и держали совет.
— Ну, чего будем делать-то?
— Оставаться Тимбику без жилья? Неладно, братцы...
И через месяц лучшие плотники Калимата срубили Тимбику избу, лучшие печники сложили в избе отменную печь. На новоселье к Тимбику пришла вся деревня.
В тот день невозможно было без волнения взглянуть на Тимбика: стоял он на своем дворе босой и растрепанный, силился сказать что-то — и не мог. Всю жизнь был он многословен и даже по-своему красноречив — а тут лишь поклонился людям земным поклоном да и пошел вдруг боком, словно взнузданный конь. «Ой, упадет!» — крикнули, но подхватить Тимбика никто не успел. Одряхлевшее, изнуренное безрассудными выходками, искалеченное водкою тело не смогло вынести тяжести переполненного чувствами сердца, и Тимбик, как старый дом его, рухнул вдруг наземь и умер в ногах у своих односельчан...
Многое пережил на своем веку древний Калимат: и похороны, и распри, и даже сгорал до последней избенки, но всякий раз выправлялся, а вот после смерти Тимбика-Ветрогона как-то неожиданно потускнел, увял. Каждый год вспоминали Тимбика и на хлебных полях, и на лугах, в пору сенокоса, скучали без него, рассказывали о Ветрогоне разные небылицы, выдумывали и приукрашивали его безалаберную жизнь, от чего превратился Тимбик в легендарного батыра. Да не стало от этого легче Кариму, был он теперь нищим сиротою, был всего лишь сыном Тимбика-Ветрогона. Ну, а поскольку был он нищ и оборван, деревенские девки не спешили приветить парня, может, даже стыдились дружить с ним, кто знает? Наверное, оттого и Шамсия не вышла к нему на свидание. Ну, конечно. По крайней мере сам Карим так и подумал, так и завязал на памяти крепким и горьким узлом.
Ушел Карим на войну. Был он на фронте наравне со всеми: в такой же гимнастерке, в шинели и в сапогах. Никто не видел в нем сына Тимбика-Ветрогона, никто в армии не знал о его непутевом отце. Был Карим бдителен и ловок, на команды имел особое чутье, да и расторопностью природа его не обделила — быстро выделился он из солдатской массы, и отцы-командиры стали произносить его фамилию с большим одобрением и похвалою. Вернул-таки Карим добрую славу Тимбиковых: к концу войны на широкой груди его позвякивали ордена и медали. В Берлине же Карим задумался о родном Калимате, решил немедля вернуться, но засочилась старая рана, напомнил о себе тот самый горький и крепкий узел. Нет уж, заносчивые рожи, Карим предстанет перед вами далеко не прежним оборванцем! Не придется вам попрекать Карима отцом-ветрогоном! Он сам заслужил себе доброе имя. В Калимат приедет гвардии старшина, геройский воин Карим Тимбиков. То-то! Обмундирование у него не последнего срока, сидит оно куда как ладно, да и боевых наград немало. В армии, брат, человека до последнего винтика разбирают и собирают, вот как! Правда, всю жизнь бравым воякой в старшинской форме не проходишь, не мешало б, конечно, и о гражданской одежде позаботиться. И после демобилизации вез с собою Карим в родную деревню штук шесть чемоданов, да таких здоровенных, что не всякому и поднять. Самому-то старшине те чемоданы были не то чтоб очень дороги, но думал Карим, впрочем, совершенно справедливо, что заставят они односельчан смотреть на него по-другому.
Приехав в Калимат, Карим узнал, что его Шамсия выскочила замуж за какого-то рядового колхозника и успела уже нарожать кучу ребятишек, завязла в бабьих заботах. Потом они случайно встретились, и когда Шамсия, поджав губы и неловко улыбаясь, протянула стройному, дымящему ароматной заграничной сигареткой старшине заскорузлую потрескавшуюся руку, тот вдруг страшно поразился: да как же, черт побери, мог он унижаться перед этой простушкой? Вот дурак!..
А в Калимате, пока его не было, подросли замечательные, надо сказать, красавицы. Вон, дочка Фазлиахмета, Мунэвера, хотя бы. Кем она была? Длинноногой и худенькой девчонкой. А теперь глянь-ка: когда только успела расцвести да налиться? Да и работа у нее видная — учителка. Люди кругом так и ахают: ай, умница, ай, красавица! А почему бы и не всколыхнуть весь Калимат — взять да ожениться на ней? Если кончать С убогим прошлым, так не развязывать же помаленьку: рубанул сплеча, и все узелки долой! Тогда уж никто не ляпнет о сыне Тимбика что-нибудь пренебрежительно-плохое.
Карим повел дело очень хитро, издалека и с оглядкой. Не строил из себя гордого воина, чурался пьянок-гулянок, был спокоен и трезв. К старикам выказывал особое уважение. Был со всеми приветлив, не жалел добрых слов и ласковых улыбок. И через недельку весь Калимат уже говорил о вежливом и непьющем сыне Тимбика, и многим девкам запал в душу статный облик бравого старшины.
Сам Карим думал только о Мунэвере. Встречаясь с нею на улице, мягко здоровался, расспрашивал о жизни, о работе, шутил весело, но держался всегда на расстоянии, виду не показывал и, в отличие от некоторых деревенских увальней, не хамил, и, конечно, рукам воли не давал. Знал прекрасно, что иначе весь его с большим старанием заработанный авторитет рухнет вмиг, как карточный домик.
Нашлась наконец и добрая душа, которая сумела помочь Кариму в таком щекотливом вопросе. Когда он отправился в Калиматовский райком комсомола становиться на учет, первый секретарь райкома Асфандиярова встретила подтянутого, позвякивающего орденами-медалями старшину очень по-свойски:
— О, Тимбиков! Смотри-ка — орел! Настоящий орел! Ну-ка, ну-ка, подойди поближе, дай наглядеться... Насовсем? Очень хорошо. Превосходно. На комсомольский учет? О, мы таким парням только рады... Комсомолу нужны закаленные люди. Вот как нужны, мельчаем, товарищ, мельчаем. Скоро в детский сад превратимся. Каждого приходится водить за ручку, разве дело?
Долго разговаривали они в тот день. Асфандиярова расспросила Карима досконально, выведала все его мечты на будущее, в общем, беседа получилась, как говорится, по душам. Секретарь райкома комсомола рассказала о трудностях работы, просила Карима захаживать почаще, проводила его тепло и дружески.
И Карим зашел еще, потом стал заходить даже часто — подружились, прониклись друг к другу уважением, стали делиться заботами. Карим, заполучив такую поддержку, уже со спокойной душой подыскивал себе работу. Знаний, правда, было у него маловато, до войны закончил он всего семь классов. На фронте же, имея дело с боевой техникой, научился разбираться в машинах и теперь взял да и поступил в МТС механиком по фермам. Дали ему мотоцикл; стал Карим с треском раскатывать по району. Однажды подвозил он Асфандиярову до какого-то колхоза, а та и скажи, будто бы в шутку:
— Ну, Карим, дела у тебя пошли полным ходом, а не сосватать ли тебе красивую девушку, а? Если уговорю самую на селе наилучшую, что подаришь, старшина?
— Если ту, о которой мечтаю, отрез темно-синего бостону на костюм. Ай, хороший бостон, заграничный!
— Ха-ха, веселый ты парень, старшина!
Но Асфандиярова тоже не промах, знает, куда гнет веселый Карим Тимбиков:
— Не пожалеешь, старшина, девушка просто прелесть: взмахнет ресницами — и ветер вздымается, а улыбнется — и засияет над миром новое солнце. И комсомолка отличная! Соображай, старшина...
— Ну что ж, если это Мунэвера, то по рукам!
После этого разговора все, казалось бы, должно свершиться с головокружительной быстротой. Но не раз и не два пришлось зайти Асфандияровой в дом к матушке Мунэверы. И наконец устроили комсомольскую свадьбу, провели ее с большим размахом: молодежные песни звенели в тот день по всему Калимату, стол и наряды удались на славу. Хорошая получилась свадьба!
Казалось, всего достиг Карим, забылась на селе худая отцовская кличка, теперь можно и поослабить пружину, хозяйством заняться да отойти от общественных забот, но комсомольскому секретарю вовсе не понравилось, что веселый старшина отступает с занятых позиций,
— Рановато, орел, крылья-то складываешь. Перед тобой открываются такие горизонты! Хватит тебе в механиках прозябать. Я тебе говорю: перейдешь на нефть.
И, дав Кариму великолепную комсомольскую характеристику, порекомендовала его в школу буровиков, на краткосрочные курсы. Сама через директора следила за его учебой. Радовалась успехам Карима от чистого сердца. А он за два года достиг многого: с земли, от ученика поднялся до верхового, окрепнув там, в гнезде свирепых ветров, закалившись, спустился вновь ка землю, стал отличным бурильщиком. Деньги шли ему немалые, и дома у Карима все было прекрасно. Правда, Мунэвера чего-то ходила с вытянутой физиономией, ну, на это нечего и внимания обращать. Бабы, они все такие, и своей женкой никто еще не похвалялся. Нет, это не беспокоит Карима, это все сущая ерунда. Тревожило другое. Был бы у них мастером какой-нибудь решительный и смелый мужик, чтоб стремительно вывел бригаду вперед, чтоб слава о ней прогремела на весь трест! Нету такого. А Карим ждал в жизни и в работе чего-то необычного, доселе неизведанного; это неопределенное ожидание мучило его и временами доводило Карима до раздражения, — он терзался от неудовлетворенного честолюбия, от слишком уж спокойно и размеренно текущей жизни.
Но в последнее время в его мятущейся душе загорелось пламя надежды. Слышал Карим, будто к ним приезжает новый мастер. Говорили, что человек этот оставил после себя десятки скважин по всей стране, имеет громаднейший опыт, рассказывали даже, что по дребезжанью трубы мог он определить, сквозь какие породы проходит бур, — дотронется, мол, пальцем — и пожалуйста: вот через такие слои. Да еще, если верить слухам, земляк, родом из Калимата. Вот на этого человека и уповал Тимбиков, именно он должен вывести Карима на широкую дорогу. И Тимбиков ждал нового мастера с упоением, он жаждал его, как жаждет в летний зной потрескавшаяся земля благодатного ливня.
Вот и настал этот день. Тот, кого Карим ждал, едет с ним на буровую. Оправдаются ли его надежды? Сумеет ли новый мастер, уроженец Калимата, знаменитый бурильщик Лутфулла Дияров понять его душу, удовлетворить его тягу к настоящей, неистовой работе?
Закопченный, грязный автобус буровиков с ревом выехал на широкую просеку, прорубленную сквозь утратившую первозданную прелесть и дремоту березовую рощу; вслед за ним к буровой один за другим подъехали автомобили управляющего трестом Кожанова и директора конторы бурения Митрофана Зозули. С ним приехали также инженеры из треста и начальники участков: видимо, руководство желало показать им, как начинает работу опытный старый мастер. Дияров поздоровался с начальством сдержанно и даже сухо, сразу завоевав тем расположение Тимбикова.
На пусковой конференции Дияров вел себя превосходно: не суетился, не робел, был спокоен и деловит. Кожанов забросал его вопросами о темпах проходки, о методах и оборудовании. Дияров отвечал коротко, ясно и исчерпывающе. Видимо, еще до конференции он, не дожидаясь чьих-либо указаний, все проверил и подсчитал, теперь же уверенно указал ориентировочные сроки проходки скважины — три месяца — и твердо обосновал это мощностью насосов, качеством глинистого раствора, показателями геолого-технического наряда. Затем добавил, что пока еще не знает, на что способна его бригада, поэтому и не стремится, впадая в пустой пафос, выкрикивать лозунги. Время покажет. Это тоже пришлось Кариму по душе. Со спецами Дияров говорил грамотным, техническим языком, говорил аргументированно, с полным знанием дела и, главное, убедительно и веско.
Наконец настали решающие минуты.
«Кто встанет на первую вахту? Кто?» — думал Карим, чувствуя, как от волнения потеют у него ладони. По составленному раньше графику заступать должен был он, Карим, и черт знает как сильно ему этого хотелось. На мгновение вспыхнула у Тимбикова мысль: выйти вперед, мастер должен заметить, должен! Сейчас или никогда! Но потом обожгло опасение: а если Дияров отвергнет его кандидатуру? Это же позор: выскочить вперед и остаться стоять, как гнилая, ненужная опора. Скорее всего мастер поломал старый график, заменил его новым...
В это время Дияров вытянул из кармана какую-то бумагу и пробежал по ней глазами. Карим, вдруг похолодев, попятился и вознамерился было нырнуть в толпу буровиков, но мастер спокойно и даже как-то вяло сказал:
— Тимбиков.
Карим резко выпрямился и застыл.
— Я, товарищ мастер!
Дияров неторопливо окинул его взглядом, сложив бумагу, засунул ее в карман и лишь потом, еще раз остро взглянув на бурильщика, твердо проговорил:
— По старому графику на вахту заступаешь ты, Тимбиков!
И словно гора свалилась с плеч Карима.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Как весенние теплые ветры пробуждают от зимнего сна природу, так и возвращение в Калимат Лутфуллы Диярова всколыхнуло вдруг однообразную, невеселую жизнь старого Шавали. Каждое утро в одно и то же время, когда мастер Лутфулла в хрустящей жесткой куртке и кирзовых сапогах отправлялся на работу, старик, стоя у изгороди, наблюдал за ним с каким-то странным, но очень похожим на зависть чувством. Невысокого роста, усатый, крепкого сложения Дияров, словно могучая смолистая сосна, излучал спокойную силу, и когда он, твердо ступая, проходил мимо Шавали по самой середине дороги, казалось, будто пробует мастер, прочна ли земля под его ногами.
Старик в эти минуты растерянно переводил взгляд с мастера на избу свою с просевшей крышей, на пятнистые заплаты лапаса, забирал в костлявую горсть бороду, и глаза его печалились, в голове зарождались всякие смутные планы; Шавали, разгорячась, брался за пилу, стучал топором, но хватало его ненадолго, и через какой-нибудь час он, задыхаясь уже, опускал руки, и в душе старика вспыхивали недобрые чувства к такому, шайтан его забери, сильному в своей вере человеку, как мастер Лутфулла.
А уверенная сила проглядывала не только в облике Диярова: был он немногословен, но если говорил, то произносилось это с внутренней убежденностью.
Как-то раз, возвращаясь с работы, мастер остановился перед стариком, отдыхавшим у своих ворот:
— Салям, сосед, отдыхаешь?
— Отдыхаю... — буркнул старик не очень общительно.
— Отлично. После работы отдых необходим, — проговорил мастер спокойно и, отворотясь, пошел своей дорогой. А на следующий день, когда они встретились снова, старик Шавали, глядя на свежее пятно мазута, расплывшееся по куртке Диярова, задал все тот же наболевший вопрос, на который до сих пор не мог получить ясного ответа:
— На спрос суда нет, как сказывают, а людишки говорят, будто вышел такой указ, чтоб, значится, подчистую изымать какие есть огороды. Бают, на этом месте вышки зачнут ставить. Вот ты, Лутфулла, многое повидал, и должность опять-таки у тебя немаленькая, ответь ты мне, неучу: правда то ай нет?
— Болтовня. Вышку в огороде ставить совершенно незачем. Если же нам потребуется добывать нефть из-под твоего огорода, мы, Шавали-абзый, поставим вышку на полкилометра в стороне, а скважину пробурим наискось. И огород твой будет цел, и фонтаны забьют!
И так твердо он все объяснил, что Шавали-абзый чувствовал дня три благодарность лично к мастеру Лутфулле, будто кряжистый человек этот сделал ему что-то очень хорошее, и даже когда Диярову привезли две машины отборных дров, злобиться он не стал, хотя в душе у него и корябнуло.
— Матерьялу-то для тебя не жалеют... бери, не хочу! — говорил старик, не сводя глаз с машин, груженных березовыми плахами.
— Должны давать, — ответил Дияров без улыбки. — Государственное дело делаем!
Где-то в середине сентября приехал к мастеру старший сын, геолог. Повыше и постройнее отца, был он и поступью и характером весь в него: голос у Булата звучал так же спокойно и уверенно, но выражением глаз и чертами лица походил он более на мать. Вместе с отцом за пару дней распилили они все дрова, сложили их в громадную поленницу, заодно поставили новые столбы и привели хозяйство в полный порядок. И вновь забушевала зависть в душе старика, эх, судьба — индейка! Весь свой век живет он на этом месте, а дети его где-то на стороне, на родное гнездо им наплевать! Этот же вернулся без году неделя, однако сын уже тут как тут, и дровишки нарубил, и порядок навел, ай, хваткий парень! Везет же людям!
Шавали совсем изнемогал от этаких мыслей, когда соседи вдруг пригласили его в гости. Диво! Старик премного поразился душевной широте Дияровых, в гости пошел, но, боясь сморозить какую-нибудь глупость, за столом упорно молчал, глядел перед собой, тихо радуясь щедрому угощению.
А стол был действительно хорош. Кроме обычной в татарских деревнях домашней лапши, на тарелках лежали и копченая колбаса, и всевозможные соленья, на второе подали вкусные котлеты, каких старик никогда и не видал, а на сладкое выпил он три стакана вишневого компоту. Придя домой, он долго вспоминал удивительные закуски и ворчал на жену, которая варила всегда одно и то же: молочную или мясную лапшу. Но через несколько дней, услышав от кого-то из деревенских, что сын Лутфуллы Диярова, Булат, и есть тот самый джигит «нифетяник», от которого нагуляла Файруза ребенка, озлобился старик невероятно и на соседа, и на его сына, а пуще всего на своих неудавшихся, по его глубокому убеждению, непутевых детей.
2
С незапамятных времен стоит у окна древний ткацкий станок. Давно уже рассохлись у него и челноки, и ниточки, расшатались корявые стойки, — казалось бы, прямая дорога допотопной развалюхе на чердак ко всякому хламу, но... не подымаются руки, что ты будешь делать. Последние годы своей жизни все возилась с ним бабушка, имела одно заветное желание: выдать Файрузу замуж с приличествующим приданым. И даже за несколько дней до смерти рылась, помнится, в сундуке, достала оттуда крашеные нитки и потом, разложив их на полу, старательно подбирала по цвету.
— Даст бог, доченька, — приговаривала, — сама приготовлю тебе приданое. Скатерку вот из этих ниток сотку, хороши нитки-то, ярконькие. Коврик для намаза тебе, конечно, без надобности, теперче молодежь того не знает. Батюшки, а полог-то из каких ниток выткать? Ну, ничего, уж полотенца да ручники обязательно поспею, будет тебе память о бабушке. Только... сбегала б ты, доченька, к отцу, взяла бы у него новые челноки, старые-то растрескались. Я и сама сходила б, да боюсь греха на душу... Зареклась я давно: ноги моей, говорю, в вашем доме не будет, пока жива невестушка Магиша...
Перебирая разноцветные, пропахшие чем-то старинным, заветным, тронутые уже молью нитки, Файруза задумывается, и тоска сжимает сердце ее железным обручем, туманная пелена застит глаза — грустно и жалко...
При бабушке, оказывается, и забот житейских не замечалось, все само по себе выходило: корма для скотины запасались вовремя, картошка на огороде росла ухоженной, и за бабкой присмотреть успевалось, баньку там истопить раз в неделю или что... Похоронили старушку, и даже Тансык почуял, что дом опустел и поскучнел, — стал все больше пропадать с соседскими мальчишками на улице, отвыкал от матери.
А тоска да одиночество чувствовались оттого еще острее: все тепло души своей отдавала она сынишке, он же подрос и чурался будто материнской ласки, с головой окунулся в уличный шумный омут, было ему лучше носиться со сверстниками в догонялки.
На днях сходили они вместе с Тансыком к бабушке на могилку. Файруза пришла домой взбудораженная, растерянная донельзя — господи, торчишь, как пень, дома и ни черта не видишь. А на свете каждый божий день все меняется: в новом Калимате и гаражей, и автовокзалов, и парков тракторных — чего только не понастроили. За сутки не обойти!
Переходя от котлована к котловану, от недостроенного дома к скопищу громадных машин, Файруза вышла в тот день к знакомому полю, где, удивляя стариков, скирдовала недавно пшеничную солому. А теперь здесь ям, теперь — столбов! Батюшки! И не узнать совсем, перекопано, переворочено все вверх тормашками: канавы какие-то,-провода, мачты ажурные до самого горизонта, будто им места не хватает, глянь, разбежались! Но вид преображенного поля вдруг напомнил Файрузе, что и юность ее так же безвозвратно ушла в прошлое, как тишина когда-то нетронутых лугов. Грустно. И все же эти новые картины были чем-то непостижимо близки ей: тесно сплетались они в сознании Файрузы с ее собственной жизнью... может, оттого, что стоял за ними уже далекий, но бесконечно дорогой образ?
В те времена, когда называли деревенские Файрузу смешным и сердитым прозвищем «Дай раза», она вовсе и не задумывалась, придется ли ей когда-нибудь еще в жизни встретиться с чернобровым Булатом. Была она благодарна ему за проснувшиеся свои чувства, за недолгое девичье счастье — большего она не ждала, о большем Файруза не мечтала. А теперь вот, оставшись вдвоем с Тансыком, вдруг словно очнулась и испытала жгучую обиду на невесть где шляющегося. не подающего о себе никаких вестей отца ребенка. Но иногда думалось: «Наверное, и он тоскует без меня, любил ведь, может, и сейчас еще любит?» — и Файрузе становилось как будто легче от этой наивной мысли.
Жизнь на все имеет свои собственные мерки, и не всегда они совпадают с нашими переживаниями... У Файрузы подрастает сын, которого надо воспитывать, чтоб не чувствовал он себя сиротою.
Должен он поэтому хорошо одеваться, должен учиться, получить непременно лучшее образование. Тансык уже ходит в школу, хлопот теперь будет больше, и надо Файрузе искать работу.
А в селе теперь хлеба не сеют. Хлеб лежит на полках в хлебном магазине, что его самим-то сеять? Поэтому многие устраиваются на городские работы или на нефтяные промыслы, кто как может. Надо и ей куда-нибудь, без работы нельзя. И не затем только, чтобы обеспечить себя и сына, — на людях, в работе и тоска, может, поуймется, поутихнет, позабудется.
И Файрузу зачислили в бригаду землекопов. Молодое, здоровое тело ее истосковалось по тяжелому труду, и неуемная натура, уставшая от переживаний, жаждала встряски — жить и работать так, чтоб руки горели. Да, вот такой работы требовала ее истомленная душа, и в первый день она стала работать как одержимая, не слыша и не видя ничего вокруг. Девки и бабы из бригады, поднаторевшие на земляных работах, откровенно смеялись над нею:
— Копай, копай, душа разлюбезная, а вон, погляди-ка, и горб уже вылезает, ха-ха-ха!..
— Давай, родненькая, не ленись: авось и медальку какую привесят!..
— Привесют кой-куда, нашему брату медалей только за многодетность не жалеют...
— А чего, бабы, гляньте, как она отмахивает: у ей мужик-то, поди, после работы домой без памяти бежит, к этакой шустрой...
Файруза только зубы стискивала. Сказала б она им, сразу бы позатыкались, сороки! Жалкие ведь они, не хотят, поди, в колхозе работать, так перебиваются небось в городской столовке хлебом да чаем, лишь бы сколотить деньжат на крепдешиновые платья и щеголять в них, задравши нос, по всей деревне.
Однако через несколько дней эти девки поглядывали на нее с большим уважением; впрочем, самой Файрузе было не до них, бросив работу, ушла она домой взбешенная и в ярости даже не сказала им на прощанье ни одного доброго слова.
А хорошо тогда начинался день. Воздух был свеж, даже чуть холоден, спешили по улицам на работу люди, из проносящихся мимо «вахтовушек» кричали что-то веселое чистые пока и бодрые нефтяники. Настроение у Файрузы было особенное, пожалуй, даже крылатое, и она за два часа лихо накидала огромную кучу земли. Ее товарки пытались теперь не отставать и работали тоже горячо и старательно — почти догоняли!
Наконец Файруза остановилась и, решив передохнуть, уселась на краю канавы, когда из переулка, лязгая гусеницами и поводя ковшом, показался экскаватор. Землекопы сразу прекратили работу и, опираясь на лопаты, встали молча, поглядывая на приближающуюся машину. Файруза, будучи в бригаде человеком новым, еще не поняла, в чем дело, но девчата были явно обеспокоены: они-то знали, что среди строителей частенько получаются накладки, когда один прораб сводит на нет работу целой бригады. Не успели они перекинуться И взглядом, как экскаватор уже подошел вплотную; в кабине его сидела молодая девчонка. Она остановила экскаватор рядом с Файрузой, двинула рычаги, и громадный зубастый ковш пошел ворочать целые глыбы. Девчонка словно играла послушными рычагами, гулко ухала ковшом о землю, вырывала из нее огромные кусища, а круглые, загорелые руки экскаваторщицы мелькали в кабинке. Пока землекопы, бессильно грозя кулаками, носились вокруг экскаватора, девчонка эта за какую-то минуту разворотила и перекопала все, что сделала Файруза за несколько дней тяжелого труда, и, осыпав глиняным градом разбросанные по земле платки, фуфайки и сумки с едою, неспешно продвинулась дальше.
Файруза сразу сникла. Одна из товарок, пытаясь успокоить ее, заговорила было:
— Не бойся, лапонька, зря не пропадет. Напишем в наряде любую цифру — заплатят, куда денутся... — Но на нее шикнули, и девка замолчала.
А Файруза вскочила и, отшвырнув лежащую рядом лопату, не оглядываясь, пошла прочь.
После ее ухода девчата, не очень-то чутко вникавшие в тонкости жизни, довольно долго хранили тягостное молчание. В эти минуты им открылась неведомая до сих пор, но простая, как день, истина: для того чтобы целыми днями, не поднимая головы, копать землю, мало, видимо, одной сноровки — необходимо знать, что твой труд имеет смысл и ценность. А если всю эту работу, выполненную тобой с молодым пылом, может за одну минуту свести на нет кто-то другой, пусть хоть и растрепанная девчонка на экскаваторе, то грош ей цена, и к чему вкладывать в такую работу и силу, и сердце?!
Файруза завернула в переулок и скрылась.
Но все так же уверенно тянулась вслед за экскаватором глубокая траншея — была она точной, прямой и стремительной.
На другой день Файруза проснулась очень рано. Приподнявшись на локте, она беспокойно и нежно взглянула на тихо посапывающего в деревянной кровати Тансыка — за последнее время он сильно вытянулся, похудел, — потом поднялась с постели и заботливо укутала сынишку одеялом.
В щели меж половиц сквозил ветерок, ласкал голые икры, проникая под ночную рубашку, холодил теплое еще со сна, разомлевшее тело, и по нему пробегала крупная дрожь, оставляя за собой мгновенно разливающуюся «гусиную кожу».
Мягко ступая босыми ногами, Файруза вышла во двор, умылась родниковой водой и, смеясь над прохладным дыханьем близкой осени, докрасна растерлась грубым холщовым полотенцем. Надоила и процедила молоко, выгнала в стадо скотину; подобрала с желтеющей травы рассыпанные по двору щепки, бросила их у поленницы; провожая взглядом выходящее в клубах пыли за деревню стадо, чуть погрустила у ворот, взяла в руки ластившуюся у ног большую пеструю кошку и, поглаживая ее, заговорила нарочито грубо:
— Ты где шатаешься, нерадивая животина? Гулена!.. Котеночек твой всю ночь мяукал, тосковал, куда, говорит, моя мамка задевалась...
Сварила потом картошку, поставила чай и, разбудив Тансыка, накрывала уже на стол, когда вошла в избу младшая сестра Марзия. Чай пить она отказалась, раздражая Файрузу, слонялась с каким-то нетерпеливым видом по комнате, поглядывала на старшую сестру.
— По надобности, что ли? — не выдержала Файруза.
Марзия утвердительно мотнула головой и показала взглядом на Тансыка, мол, уйдет, тогда и доложу. Файруза, напоив сына чаем, отправила его в школу и быстро спросила:
— Ну, что там у тебя? — И, облокотившись о стол, приготовилась слушать.
Марзия обыкновенным И скучным голосом проговорила:
— Булат-абый приехал.
— Какой еще Булат? — переспросила Файруза, но тут же задохнулась, будто перехваченная по горлу волосяным арканом. — К... когда?! Сама видела?! Ох, сердце зашлось! Да говори же ты, говори, не тяни из меня жилы!..
Умоляя и требуя, нетерпеливо расспрашивала она Марзию: что он, как он, изменился ли, женат ли? А узнав, что Булат приехал один и, скорее всего, холост, вскочила и в каком-то неистовом порыве чуть не задушила сестренку в объятиях. Марзия, увидев запылавшие щеки Файрузы, почуяв жар ее разгоряченного тела, вдруг испытала какую-то неловкость, поговорила еще немного о Булате Диярове, погадала, надолго ли он приехал, и, оставив Файрузу в совершенной растерянности, ускакала домой.
Проводив сестренку, Файруза прислонилась к оконному косяку: в ушах у нее звенело, горело лицо, стучало в висках, и в голове беспорядочно и безнадежно путалось. Наконец она подумала о том, что надо бы прибраться в избе, решила первым делом вычистить самовар, принесла крынку катыка, ящик с песком и мочалку, но тут же забыла о них, и опрокинутый самовар, песок и мочалка так и остались валяться на полу. А она уже переворошила в сундуке все наряды, выбрала два выходных платья и, не зная, которое надеть, топталась у старого, но еще чистого и глубокого зеркала. Лицо ее от волнения пошло пятнами, и она, вздохнув, приложила к щекам ладони. Через час Файруза почти успокоилась, лишь дрожали еще коленки, да во всем теле чувствовалась усталость. Не спеша вычистила самовар, вымыла полы, выгладила желтое в белый горошек платье, приготовила сыну покушать, и когда никаких дел уже не осталось, взяв недовязанный шерстяной носок, села к окошку.
А на дворе был ясный день, и на скатах лапаса кружевом лежали солнечные пятна, бродили по траве озабоченные куры, под самым окном на ветках рябины качались беспечно взъерошенные, драчливые воробьи. С изгороди свешивались золотые, легкие сережки хмеля, и казалось, что осень, готовая, как всегда, сжечь траву и листья смертельным багрянцем, вдруг решила, словно заигрывая с готовящейся уже к зимнему сну природой, порадовать ее последними солнечными деньками.
Оглянувшись на скрип отворяемых ворот, Файруза увидела какого-то человека в черном длинном плаще и сапогах, идущего к избе. Охваченная предчувствием, она вскочила, тут же села обратно и низко склонилась над вязанием. Но пальцы уже не слушались, глаза не видели спиц, и она слышала только гулкие учащенные удары своего сердца.
Заскрипели в сенях половицы, тяжелые нетерпеливые шаги близились к горнице, вот затихли на секунду, и тут же отворилась дверь, твердый голос сказал:
— Можно?
Широко расставив ноги в кожаных сапогах, Булат у порога ждал ответа. Файруза видела его черные, выбившиеся из-под кепки кудрявые волосы, знакомый сухой блеск глаз, проговорила спокойно:
— Пожалуйста, входите...
Раскрыв объятья, шагнул к ней Булат:
— Файруза! Или не узнала?
— Узнала. Здравствуйте. Проходите, садитесь.
— А... как у вас дела? Где бабушка?
— Бабушка умерла.
— Не может быть! Какая крепкая была еще старуха.
— Да, крепкая.
Разговор не клеился. Булату показалось, что Файруза охоты к беседе не проявляет; но уйти просто так, не сказав ни слова, было ему неудобно.
Молчали. Мелькали спицы, тикали на стене ходики, отсчитывали время. Булат, наконец решившись, спросил, не трудно ли жить в одиночку, вкладывая, однако, в этот вопрос и потаенный смысл: мол, как живется без бабушки — это само собой, а не скучно ли вот без любезного друга? Файруза, не поднимая головы, отвечала, что времена теперь не военные и прокормиться стало куда легче.
Хлопнула дверь, и в горницу влетел мальчуган. Запустив школьную сумку в угол, он с порога закричал:
— Мам! Дай че-нибудь поесть!
Булат онемел, мальчишка, увидев в доме постороннего человека, тоже замолчал и насупился, — в изумленной тишине первой пришла в себя Файруза. Радостно улыбаясь, она обняла малыша за плечи, сказала негромко:
— Сынок, поздоровайся же с отцом!
Булат подскочил со стула.
— Ты что! Смеешься надо мной?!
А потом на голову Булата посыпались злые, колючие слова:
— Кто тебя сюда звал? Кто?! Может, я тебя умоляла? Какого же черта приперся? Пошел вон, драный кобель! Ты же не мужик, ты трусливая дрянь, если боишься признать своего собственного сына!
Булат, от стыда готовый провалиться сквозь землю, потихоньку продвигался к двери. Наконец Булат спиною нащупал дверь, толкнул ее, но, споткнувшись, вылетел в сени.
Когда за ним с треском захлопнулась дверь, Булат, остановись, вдохнул воздуху и, разогнувшись, бешено захохотал, впрочем, тут же поперхнулся и сокрушенно склонил голову.
Чувствуя к Файрузе невольное уважение, издеваясь над собою, толкнул он ворота и вышел на улицу.
3
Работая на заводе, Арслан старался забыть о своей первой любви, загоняя самое воспоминание о ней в самый глухой уголок памяти, и ему казалось, что он справился-таки с этим упрямым чувством, превозмог и победил его. Бывали, конечно, у Арслана приступы отчаянной тоски и горькие минуты, но всегда умел он смирять свое ноющее сердце: работал до боли в мускулах — выполнял по две и три нормы за смену; играл за цеховую волейбольную команду; запершись в комнатке мастера Спиридоныча, оформлял большие и яркие стенные газеты. Завалив себя работой, он действительно почти забыл о давней сердечной ране, и кто знает, если б не смерть бабушки, если б не грустная поездка в родную деревню, может, она и угасла бы совсем, та любовь, за горячкою трудовых будней?
А теперь вот опять разбередилась душа. Вечерами теперь темно в комнате Спиридоныча, стенная газета не выходит уже более месяца. И волейболисты тоже потеряли Арслана Губайдуллина, игрока уверенного, спокойного и с мощным завершающим ударом. Теперь он по вечерам все больше бродит по улицам: засунув руки в карманы, слоняется среди гуляющих, засматривается на молодые парочки, подолгу рассеянно стоит у театральных афиш, словом, старается выглядеть беспечным, старается заглушить ноющее чувство, но иногда какой-нибудь пустяк сводит на нет все его усилия.
Проходя мимо здания главпочтамта, он смотрит на его сверкающие окна, видит за ними девушек в синих нарукавниках, которые заведенно бьют пресс-печатью по конвертам. «Письмо — счастливое, верно, к любимой идет», — думает Арслан, и спокойствие покидает его бесповоротно, не оставляя от напускного равнодушия ни малейшего следа. Пронзительно вспоминаются дни, проведенные в Калимате, знакомство на горячем асфальте с озорником по имени Анвар, неловкая встреча с Мунэверой, их обоюдное, растерянное молчание, и ему так хочется вновь попасть в Калимат, увидеть хоть издали Мунэверу, любимую...
Желание его вернуться в родную деревню стало особенно сильным после одного события. Была тогда уже середина осени, и на улицах даже в безветренные дни шел непрерывный листопад. Арслан вышел с завода в приподнятом настроении, назавтра наступало воскресение, и он, зайдя в парикмахерскую, с удовольствием побрился, потом купил в кинотеатре билет на какой-то фильм, а в ожидании своего сеанса прохаживался неторопливо по шуршащим, блекло-золотым от опавших листьев улицам. По пути заодно заглянул и в расположенный поблизости магазинчик рабочей одежды: в последнее время он заходил туда довольно часто, подбирая себе спецовку для предстоящей работы на буровой. Оказалось, что там продают кирзовые сапоги. Арслан решил, что надо взять, пока есть, и купил себе одну пару. Перекинув их на манер деревенских дядьков через плечо, с довольной улыбкой на лице он выходил уже из магазина, и вдруг словно что-то оборвалось у него внутри: мимо магазина прошла женщина, до невероятности похожая на Мунэверу. Расталкивая покупателей, Арслан ринулся на улицу. «Ошалелый!» — сердито закричали ему вслед, он и не услышал. Посмотрел в одну сторону — нет, в другую — нет! Помчался вперед, завернул за угол — есть, идет. Догнав, окликнул негромко, женщина не ответила; уже боясь, что обознался, позвал еще, на этот раз она обернулась, и кровь ударила Арслану в голову: всего в нескольких шагах от него, в белом пуховом платке, стояла Мунэвера.
— Батюшки, Арслан, ты, что ли?! Вот уж не думала, что встречусь с тобой на казанской улице... — говорила она, и нежное лицо ее заливалось краской.
— И я... встретить... не думал... Откуда ты? Как в Казань-то попала?
— Экзамены приехала сдавать.
— Да? А что за экзамены?
— В пединститут решила поступать. На заочный. Если получится, конечно.
— Да-а?! Это здорово! Учиться, значит, решила... А... куда ты идешь, если не секрет? Можно тебя проводить?..
Переговариваясь, пересекли улицу и вышли к небольшому садику, расположенному на возвышенности, — отсюда видны были внизу луг и русло не добежавшей до многоводной Волги речки Казанки; вдали, в смутной дымке, растекался синий лес. Остановясь у края холма, они оглядывали этот луг в низине, блистающую речку и темную полосу; им, выросшим в деревне, с молоком матери впитавшим любовь к земле своей, хватило и этой скупой картины, чтобы растрогаться и погрустнеть. Арслан, взглянув в затуманившиеся глаза Мунэверы, сказал тихо:
— Мунэвера... ты не рассердишься... я хочу спросить тебя...
Она молча опустила голову.
— Ты... счастлива? Скажи мне, не скрывая, счастлива?
Давно тревожился Арслан этим вопросом, но, высказав его, он вдруг смутился и оробел.
Мунэвера долго не отвечала. Арслан, уже раскаиваясь, стоял безмолвно и потерянно, когда Мунэвера наконец произнесла:
— Сядем... — и, будто обессилев, опустилась на деревянную, стоявшую поблизости скамейку.
За дальний лес закатывалось большое солнце, и белые облака на горизонте омылись розовым светом; закатный алый луч обрызгал белую шаль Мунэверы, тонкий, удлиненный овал ее лица, и казалось, что вся она светится изнутри мягким и теплым сияньем. Не глядя на Арслана, устремив взор на догорающий небосклон, она рассказала ему историю своего замужества, о жизни своей с Каримом, и Арслан почувствовал, как ей хочется хоть немного облегчить душу, освободиться от тяжелого, давящего груза. Голос Мунэверы звучал ровно и почти бесстрастно, но Арслану слышна была ее затаенная боль, и, переживая все подробности ее рассказа, он вдруг понял, насколько она близка и дорога ему.
По аллейке, скользя меж желтыми листьями, пробежал ветерок.
— Уже десять лет пролетело, — вздохнул Арслан после долгой паузы. — Помнишь — в лес ходили...
Мунэвера кивнула, и помолчали еще.
— А я тут сапоги приобрел, — сказал вдруг он и, смутившись от своей нелепой фразы, негромко засмеялся. Мунэвера тоже улыбнулась, и обоим стало легче — заговорили о пустяках, разглядывая сапоги, вспоминали калиматовские и казанские новости. Они, разумеется, понимали, что говорить следовало совсем не об этом, но, радуясь возникшей легкости, болтали беспечно и глупо, наслаждаясь одним уже звучанием голосов друг друга.
Перед разлукой вновь приуныли.
Арслан, расчувствовавшись, взял руку Мунэверы в свои ладони, поднес к губам. Позднее, в общежитии, уже лежа в постели, все ругал себя за подобную слюнявую сентиментальность, переживал и мучился. Ему казалось, что Мунэвера глянула на него удивленно и осуждающе, и она представлялась ему чистой, простой и возвышенной, он же сам — мелким и ничтожным. И лишь вспомнив, с какой доверчивостью рассказывала она ему о своей судьбе, вспомнив, что она, кажется, не торопилась отнять руки, он немного успокоился, погасил настольную лампу и, улыбаясь на доносящийся со стороны вокзала гудок ночного поезда, крепко заснул.
...Мунэвере этой ночью не спалось. Укрывшись легким белым покрывалом, она лежала, подложив под голову руку, и ей казалось, что от руки пахнет одеколоном и каким-то железом, запах этот почему-то волновал ее.
Поначалу она одну за другой вспоминала подробности сегодняшней встречи. Улыбалась безотчетно. Оглядывала далекие времена и беспечную юность. Но лишь представила себе на миг, что надо возвращаться в Калимат, и резко вздрогнула. Может, это уже измена с ее стороны? Об этом она читала в книгах, слышала от окружающих. По ее представлениям, замужняя женщина, если только она не развелась с мужем, не имела права вступать в связь с другим мужчиной, не имела права даже смотреть на него, напротив, должна была всячески его сторониться. Никто ее этому не учил, никто не вбивал насильно в нее эти понятия, но унаследованные от прабабушек инстинкты покорности и строгого благонравия удерживали ее от малейшего кокетства, поведение ее до сих пор было скромным и сдержанным.
Сегодня она перешагнула запретную черту. Сидела наедине с холостым джигитом в саду и... ведь он любил ее в молодости, тот джигит. О господи, он же поцеловал ей руку, и она это позволила. Ей было даже приятно. Растерялась от непривычной ласки. Ведь до этого не выпадало на ее долю нежности, она не знала внимания со стороны Карима. Но как же это случилось? А если дойдет до мамы? Если узнает муж?
За окном, на улице, шелестели тополя. Где-то вдалеке, будто и не над землею, чуть слышно перекатывался гром. Далекий грохот вновь унес ее в счастливое детство, она попыталась отринуть воспоминания, но перед глазами возникло раскидистое дерево, под которым прятались они когда-то от дождя, мелькнул под молниями Арслан, послышался его ликующий смех, и эти виденья взволновали ее с первоначальной необоримой силой.
Она, откинув покрывало, приподнялась и, в ночной рубашке, босиком, с распущенными волосами, прелестная и испуганная, спрыгнула с высокой кровати. Холодный пол чуть остудил разгоряченное тело. Не зажигая света, она прошла к окну, отворив его, вдохнула освежающую ночную прохладу. Во тьме мерцающими огнями переливалась Казань, и ей вдруг страстно захотелось, чтобы Арслан был сию минуту здесь, рядом, а не где-то в глубине этого бледного моря света. Странным даже показалось то, что его нет... Как же так все получилось... Разве все еще старое время?.. Кто может помешать теперь быть с любимым, выбрать того, кто по сердцу?
...Назавтра Мунэвера проснулась с тяжелой головной болью. Подумала, что скорее всего — от бессонницы, пройдет, не стоит обращать внимания; она старалась не показать виду родным, кажется, это удалось, те и не заметили, что ей нездоровится. За столом тоже попыталась выглядеть веселой и общительной, обжигаясь, выпила стакан крепкого чая, но голова не унималась. Поблагодарив хозяев, оделась, вышла на улицу, постояла немного, вдыхая свежий осенний ветер, полный листьев и сладковатых запахов. На воздухе стало легче, и Мунэвера пошла в институт, узнать, принята ли она на учебу.
Там ее встретили отрадной новостью:
— Возвращайтесь пока домой, готовьтесь к сессии. Вызов вам пошлют.
Значит, ее приняли. Мунэвера, забыв от радости и смущения сказать спасибо, пошла к двери — и шагала словно не по земле, взволнованная открывшимися горизонтами. В первые минуты не знала она, куда деться, стояла у института, растерянно оглядывая улицу. И серое, большое здание его показалось в этот миг уже родным, будто были они с ним знакомы много-много лет. Хотелось с кем-то поделиться своей радостью, и душа забилась в неясном, подавляемом стремлении, взмахнула крылами, пытаясь вырваться из тенет разума. Уезжая из Калимата, она говорила Кариму, что вернется через неделю, не более, но вот прошло уже десять дней, а кажется — только вчера и приехала она в этот город. Почему же не встретились они раньше? Девять дней пропали даром... Как долго они могли быть вместе! Отчего не понимала она, что даже один .вечер, проведенный с ним, может принести ей так много счастья?
Временами, пугаясь, она упрекала себя за вздорные мысли, вспомнив же Анвара и Миляушу, страдала черными муками, считая, что погрязла в измене окончательно. Каясь и любя, зашла она в «Детский мир», выбирая — это Анвару, это Миляуше, красавичке моей, — накупила груду игрушек, но чуть не забыла их там же, на прилавке. Выйдя на улицу, вновь укоряла себя, но мысли против воли возвращались к нему. Вспоминался осенний сад, звучали слова его — в каждом искала она теперь сокровенный смысл, — и разлетались по ветру его черные кудри. Все это было вчера... Вчера. День тому назад. Сегодня они не встретятся. Ей уезжать... А если пойти на завод? Ждать у проходной, когда он выйдет с работы? Как глупо! Они не договорились о встрече. Если написать ему? Куда? Она не спросила его адреса... это хорошо?..
Нет, сегодня же надо уехать. Остаться, значит... Домой, домой, собрать вещи — и на вокзал. Прощай, Казань! Прощай!..
День клонился к вечеру, когда, уже на вокзале, нежданное рассеяло ее решимость: оказалось, что поезд Казань — Уфа совершает маршрут через сутки и ушел как раз вчера, следующий — завтра... Возвращаться к родне отказали ноги, она, зайдя в скверик, посидела, закрыв лицо руками: лицо горело. Потихоньку поднялась, пошла в город и поняла вдруг, что стоит на улице, где встретились вчера с Арсланом; удивляясь и радуясь, глядела на прохожих, на проезжающие машины, стояла молча, в оцепенении. Потом отругала себя за дурость, как глупая девчонка, и все же, не в силах удержать свои чувства, побрела искать запомнившийся сад...
С бьющимся гулко сердцем прислонилась она к заборчику, прислушалась к несуществующим голосам среди деревьев, тогда только осмелилась, вступила на аллею.
Сад был сиротлив.
Ветер, срывая с его деревьев сухие пожухлые листья, носил их по пустым аллеям, бросал на скамейки, вновь поднимал в терпкий воздух и, унося куда-то вниз, под гору, надменно утихал.
Мунэвера отыскала давешнюю скамью, задумчиво села, рядом с нею медленно опустился тонкий и желтый опавший лист. Она осторожно положила этот одинокий лист на ладонь и, разглаживая пальцем его скрученные, словно опаленные жаром края, долго сидела в безлюдной осени сада... Мысли ее блуждали где-то далеко-далеко, и вчерашняя встреча казалась теперь чем-то забытым и нереальным, словно все это было прекрасным сном, увиденным в далеком детстве...
4
Осень пришла в дождях.
В прошлые годы, бывало, томились даже по ним, и когда налетал легкий и быстрый дождичек — становилось свежо и уютно; нынче осели они, вероятно, надолго, лили по целым дням, а то и по неделям.
В Зае воды прибавилось. В ямах и низинах озерцами собирались тучные лужи, раздобревшие на обильных кормах, блистали спесиво в сумеречном свете, когда не пузырились от дождя. Разбухшие от сырости стены и соломенные крыши изб выглядывали темно и уныло, словно насупясь. Старый Калимат стал угрюм. В новом же, поднимающемся из полевого камня, понаехавшие со всех краев тысячным стадом самосвалы, тягачи, широкостопные тракторы и другие всякие громадные и могучие машины — бульдозеры с ножами наперевес, скреперы, обутые в титанические колеса, краны, с летящими стрелами, — наворотили вязкие горы земли. Эта черная плодовитая земля, когда-то выгонявшая шумящие моря пшеницы, раскисла вконец под бездушно неустанными дождями, расползлась вширь клейким блинным месивом.
Город стал почти непроходим. Заседали по пояс в грязи целые собрания автомобилей, пока не вытаскивал их поочередно и скопом какой-нибудь сердобольный трактор; в магазинах полы засыпали полуметровым слоем опилок, отчего и поднялся их уровень... над океаном.
Но крепче всего дождливая осень стукнула по буровикам. «Вахтовушки» с ходу застревали в дорогах, и нефтяники выбивались из сил, прежде чем добирались до своих рабочих мест: поначалу приходилось им толкать вместо мотора засевшую машину, потом же все-таки топать, увязая едва ли не по самые подмышки, через болота лугов и полей на далекие буровые — а как доходили, так сразу сваливались.
Лутфулла-абзый переживал это особенно тяжело. Да и как не переживать: много было на буровых зеленой молодежи, неопытных еще работяг, которые, того и гляди, сломаются от такой страшной слякотности, не вынесут грязного норова осени, охладеют к нефтяному делу — а кадры нужны. Ой, нужны! Правда, пока вроде крепятся, нытиков не слыхать, однако разговорец один, невзначай подслушанный мастером на вахте Карима Тимбикова, бросил его в крутое беспокойство.
На буровую, помнится, пришел в тот раз Лутфулла-абзый уже ночью. Было чертовски темно, глухо; как и днем, шуровал из небесных дырок нуднейший дождь, пробирая до самых печенок, шуршал и хлюпал. От дороги, где асфальт еще допускал машину, до своей буровой шел мастер лесом да болотом километров пять. По пути лопнул у него на ляжке застарелый чирей, ныл остро и неутихающе — самочувствие у Диярова стало отвратительное. Показываться парням в таком расстройстве он не захотел, поэтому решил прежде зайти в культбудку, где отгородили для него что-то вроде кабинетика, переодеться там в сухое и принять вид мастера. Прислушиваясь к доносящемуся с буровой грохоту, тусклому звону железин, снял он быстро мокрые брюки, размотал старую серую повязку, налил на больное место йоду из склянки и с удовольствием поскрипел зубами. Достав из аптечки вату И белую марлю, стал затем накладывать на проклятый чирей смирительную рубашку, но не успел и затянуть покрепче, как в культбудку с шумом ввалились буровики: видно, закончили они подъем инструмента и задумали, как обычно, перед спуском нового долота перекусить малость и обогреться.
Из своего закутка Лутфулла-абзый хорошо различал их голоса, но парни о нем и не подозревали. Кто-то (судя по говору, Борис Любимов) среди общего бормотанья громко сказал:
— А что, Каюм, детей-то у тебя все нету? Или долото затупилось?
— За меня мастер план гонит. У него на сегодня семь штук настругано, на двоих хватит! — отвечал ему со смехом сочный голос, утонувший в общем на этот раз хохоте. Лутфулла-абзый тоже ухмыльнулся в ржаные усищи, однако положение его становилось не из удобных: если выйти теперь к парням, Каюм, бедняга, до смерти сконфузится, на весь день, пожалуй, собьется с дыхания. Здесь оставаться тоже вроде как нехорошо, если кто заглянет, могут дурное подумать... Парни, однако, уходить будто не собирались, наладили печку, колбасу жарить, не иначе — серьезно засели; запах жареного, пробившись сквозь дощатую перегородку, так и ударил в нос старому мастеру.
Какое-то время слышны были лишь вздохи, чавканье, парни рубали. Потом кто-то не вытерпел:
— Где Ашот шляется? Счас все умнем, что жрать будет?
Ему ответил опять же Борис Любимов:
— У него на ляжке чирей вскочил — во! С элеватор, помереть на месте! Так его турбобуром по этому чирьку вдарило — он и лопнул. Чирьяк, конечно, лопнул, а не Ашот. Ашот теперь сидит и раствором дырку в ноге замазывает, а потом, для профилактики, еще нефтью. Ведра четыре уже в ту дыру ушло, сам видал!
— Эк, глупый чирей, нашел тож, где вскакивать. Там же ему ни тепла, ни покою, и дозреть-то потихоньку не дали. Вскакивал бы себе на мягком месте у кожановской секретарши Маруськи — благодать!
— Ну ты, брат, ее и стукнул... как в лужу фукнул!
— Да чтоб ни сесть ей, ни встать!
— Ха-ха-ха!
— Ржете, что жеребцы в конюшне, да как бы вскорости плакать не пришлось. Ну-ка, признайтесь: у кого из вас болячек нету? Заткнулись? Вот то-то и оно! День-деньской в мокрой одежде, на дорогах по колени грязи, Не то что на ляжке, я удивляюсь, как еще на срамном не повыскакивало... И чего в конторе смотрят, распротак их!..
Это уже Джамиль Черный. Он — малый не промах, его на мякине не проведешь, если говорит — лупит прямо в точку. Слова Черного тотчас подхватили:
— Контора конторой, ты скажи, куда мастер смотрит?
— А чего — мастер? Мастер сей момент смотрит, как бы восьмого малая смастерить.
— Мастеру чесаться нечего: дом прогретый, одеялка теплая!
— А ты лазай тут для них по самой грязи, меси ее!
— Как это так — для них? Ты что же — свой заработок Диярову оттаскиваешь?
— Да ты меня заработком-то не стращай, сопляк. Заработок! Тьфу! Такие деньги я везде заработаю, хоть навоз вон грузи!
— Ты, дядя, против ветра не плюй, а то мокрый станешь. Так тебе и отвалили за навоз две тысячи рублей, скажешь тоже! Эти деньги инженер не получает, понял? Ну вот, а то — за навоз. Эх, быстрый какой! Держи карман шире, как говорил Ходжа Насреддин, держи шире!
— Не орите, балбесы. Чего развопились?
— Дайте Джамилю-то досказать... Говори, Черный!
— Говори, Джамиль-абзый.
— Ах и потешные мы людишки, братцы, прямо-таки даже смешно взглянуть. Стоит человеку рот раскрыть да слово молвить — так и норовим наброситься, точно псы лютые, только рык идет да лай, — потек мерный и завораживающий голос Черного.
Лутфулла-абзый чует, что таким неторопливым и бессуетным макаром Джамиль, пожалуй, может и заморочить парням головы, оттого он тревожится не на шутку. Как бы не взбунтовал бригаду, говорун чертов. Умеет этот «мужичок себе на уме» нажать, когда ему надо, на больное место, на такие штучки он мастак. Может, выйти? Если на то пошло, ему, конечно, не трудно глотку заткнуть... только неладно это получится. Парни хитрого положения не поймут, подумают еще, шпионит, мол, мастер, не по делу работает, нет, выходить ни в коем случае невозможно. Теперь лучше всего помалкивать да вытерпеть до конца, стиснув накрепко зубы...
Лутфулла-абзый тихонько приподнялся, пересев поудобнее на топчан, стал слушать Джамиля дальше.
— Ах и потешные мы людишки, братцы, прямо-таки даже смешно взглянуть. И как это у нас все просто получается — ужасть. Тыщу рублей! Инженер того не получает! Да рази же дело в деньгах?! Рази такие уж мы беспонятливые?! Ох! Ох! А как нас учит наша коммунистическа партия, а? Как нам втолковывает наш, значится, партейный секлетарь товарищ Курбанов? Ну-ка припомните. Труд человека — для счастья человека! Вот как учит нас коммунистическа партия, а так же как ейный представитель партейный секлетарь дорогой товарищ Курбанов. Нет, братцы, шиш вы меня горлопанством теперь возьмете, ясно? Приноровились ручками помахивать да словечки трескучие выкрикивать — ура, значится, и все тут. А у меня на всякое такое — свой безмен и свой умишко, чтобы на энтом безмене прикинуть что к чему. Я очень даже прекрасно могу теперь отличить нефть от воды и правду от байки ради красного словца. Я, братцы, как Правдивый Тукай[15], люблю правду-матку прямо в глаза резать, и никто мне в таком не помеха. Вот мне, к примеру, наш управляющий Кожанов и говорит, ты, мол, помбур Минзакиев, в этакую непроглядную ночь, в этакую непогодь, когда добрый хозяин и пса последнего на улицу не выгонит, буровишь трудолюбиво землю. Но за такой хороший твой труд, помбур Минзакиев, будут жить в красивое удовольствие твои, мол, далекие и не очень потомки. Это при коммунизме то бишь. Я, конешно, землю буровлю хорошо. Вообще, конешно, — хорошо, что я землю буровлю. Тут уж против не попрешь, ясно-понятно. А вот ежели только потомки мои станут жить красиво — это уже не больно как здорово.
— Праульна кумекаешь, Джамиль-абзый!
— Нашли отговорку: будущие поколенья!
— А чего тогда кое-кто из начальства уже сегодня в красивую жизнь прет?!
— Да хватит вам. Говори, Джамиль-абзый.
— Это все те талдычут о поколеньях, которые сами ни в жисть не пашут, у которых работка — не бей лежачего, им, конечно, хорошо трепаться!
— Вот то-то и оно. Когда, к примеру, люди за революцию кровь проливали, им, поди, кто-то тоже сказывал: за ваше геройство, мол, за пролитую кровь будут вас благодарить те ваши потомки, которые будут красиво жить при социализме. Это кто же такие, при социализме? Мать честная, да ведь это мы. А рази мне скажет кто-нибудь: живи, мол, хорошо, красиво, так тебе положено, не зря же кровь пролита. Скажет? Ну-ка, вот вы, молодые, говорил вам кто такие слова?
— И сказали бы, если с земли нашей всех буржуев вымести. Гадом буду, сказали б! А пока нельзя: вон из-за океана атомной бомбой размахивают да горло дерут клеветой — где уж тут скажешь!
— Я, тезка, о том побольше тебя наслышан, чего ты мне тут агитацию разводишь? У меня старшой сын по району в лекторах ходит. Ты, мил друг, не думай, не-ет, брат, я понимаю! У них горло, так и у нас горло. Горло, которого буржуйские недобитки пуще всего боятся. Горло, которое на весь мир поет песню нашей партии. Горло, которое судило фашистску нечисть. А раз так — то нечего рабочего человека за дурака считать. Мы пока не об международных делах спорим, тут речь пошла об наших собственных заботах. Вот я вам прямо в глаза задаю вопрос, который сейчас важный: отчего у каждого от щиколотки и до ж... чирьяки повыскочили? Отчего мы хоронимся в том друг от дружки? Рази ж это постыдное дело? Или мы на чужбине где, а не у себя дома? Эх, братцы, аккурат из-за этих самых зажравшихся Кожановых, которые напрочь позабыли о рабочем человеке, и получается все не очень ладно. Рази трудное дело прислать сто штук вездеходных машин? Рази ж не выделили бы нам вездеходов? Беспременно выделили бы. Только никому и заботушки нет об этом. Никто не просит так, чтобы дали. Чтобы так просить, надо вникать в положение рабочего человека, ан не вникают...
В культбудке подымается большой шум. Кто-то обвиняет Джамиля Черного в политической незрелости, в слепоте, в нежелании учитывать трудности послевоенных лет, другой ругательски ругает начальство, третий пытается утихомирить спорщиков, кричит на обоих — взрыв чувств. В это время распахивается дверь, и гремит почти боевая команда:
— По местам!
Сильный голос этот будто слизывает буровиков из помещения, и Лутфулла-абзый облегченно вздыхает. Ему очень по душе, что Карим Тимбиков умеет подчинять вахту своей недюжинной воле, умеет командовать людьми. Не пересолил бы только...
Над буровой вырастает ночной хриповатый гул и, достигнув предела, течет уже ровно и монотонно. Звякают железины. Ухают насосы. Бьет в окно надоевший до смерти дождь...
Старый мастер долго еще сидит неподвижно в темной комнатке — непросто все вокруг тебя, думай, Лутфулла Дияров, шевели мозгами. Сколько непонятного еще в людях, которые рядом, сколько мыслей и чувств в них, но разве они раскроются тебе в любой миг. Между собой — конечно. Верят друг другу и знают себя и товарищей. А тебе, мастеру, прежде чем заслужить их доверие, много еще предстоит поработать и доказать... Эх, как они тут крепенько разговаривали! Но болтовне Джамиля Черного не поддались! И вновь пошли в ночь, в холод, в слякоть бурить землю, даром что все в болячках... Правильные у ребят головы.
Лутфулла-абзый поднимается со скамьи и глубже натягивает свою фуражку. «Найти Кожанова. Добиться у него вездеходов. Не собаки в конце концов — люди!..» — думает он, и мысль эта безостановочно, словно тиканье заведенных часов, звенит у него в голове.
Распахнув дверь культбудки, он ныряет под дождь, и сквозь неумолчное шуршанье капель далеко вокруг разносится хлюпанье его сапог по жиже, когда Лутфулла-абзый напрямую, разбрызгивая грязь, идет к буровой, к своим нефтяникам.
5
Уложив детишек и оставив их на пути к сонному царству, Мунэвера садится за школьные тетрадки, давно уже поджидающие ее на письменном столе. Большой свет в комнате погашен, и только маленькая лампа под зеленым абажуром льет в полутьме свои косые лучи; с этой симпатичной лампой и грудой тетрадок таинствует она до полуночи. Но вот проверены все тетрадки, спрятаны в ящик стола, и дел как будто больше нет, и лампа погашена; она еще не ложится, устремив взгляд на желтые полосы света, падающие через улицу от соседнего дома, с тяжелой скукой ждет возвращения Карима с работы.
Ночной ветер раскачивает обезлистевшие деревья, скрипит, застряв в створке ворот... Заглушая ветер и темные скрипы, взрезывает подъехавшая к дому вахтовая машина — и сразу по всем углам избы, по бревенчатым мшистым ее стенам пробегают, приплясывая, квадраты высвеченных окон, будто проверяют тревожно, все ли на месте.
Пока муж, распространяя внесенную им сырую прохладу осени, запахи бензина, брезента и еще чего-то резкого, переодевается и моет пахучим мылом шею, лицо и руки, Мунэвера собирает ему поесть: режет хлеб, разогревает суп, жарит картошку. Потом торопится в другую комнату, где хнычет проснувшаяся Миляуша, успокаивает ее, целует в заспанные глазки. Усталость такая, что тело, кажется, даже на расстоянии чувствует негу мягкой постели; в мыслях ее путаются заботы и тревоги прошедшего дня, все школьные неурядицы и придирки тают, угасают, плывут куда-то в прошлое и оттого не страшное. Сквозь эту туманную, ватную пелену слышит она, как шумно и жадно хлебает на кухне Карим, как громко он шмыгает носом, разомлев в тепле, и неприязненно думает: «Зачем же так чавкать и сопеть? Разве нельзя потише?» Но мысль эту, неловкую и неприятную, старается она тут же прогнать из сердца, обожженного вдруг стыдом. И вправду, разве можно винить его, уставшего, продрогшего на свирепом ветру за целый день непрерывной работы на буровой, только за то, что он так неряшливо ест свой честно заработанный хлеб — стыдно, стыдно!
Однако с тех самых пор, как повстречалась в Казани с Арсланом, жила она со странным чувством: будто Карим для нее человек посторонний. Будто бы он даже не отец ее детям.
Каждый вечер перед сном Мунэвера переживает тревожные минуты: вот придет сейчас к ней тот, за кого вышла она против воли своей и желания, поддавшись уговорам матери и комсомольского секретаря Асфандияровой, усомнившись в чувстве Арслана, который как уехал из Калимата в Донбасс еще до войны, да так и сгинул на семь долгих лет... Война кончилась, первым вернулся в родной Калимат Карим, но не нашла она с ним своего женского счастья. Не дал он раскрыться вольно чистым девичьим ее чувствам, не дал распуститься душе ее, оттолкнув своей грубой черствостью... Войдет он и, заняв место свое, потребует от нее положенных ласк. Кажется ей, что станет она тогда изменницей, предаст Арслана и несчастливую пусть, но любовь их...
И сейчас она мечется между сном и явью; прислушиваясь с тревогой, как скрипит пружинами кровати Карим, не решаясь коснуться ее, думая, что она уже спит. И лишь когда Мунэвера слышит густой и прерывистый храп его, она засыпает, словно скинув на сегодня с плеч гору.
Наутро ее вновь охватывает душевное смятение; путаются мысли, она страдает, не имея сил разобраться в себе, в своем состоянии и предпринять решительный шаг. Да и есть ли на свете что труднее, чем жить одной жизнью с чужим по сердцу человеком, а в душе тянуться к другому?! И сколько же можно терпеть такую муку?
Когда от тяжелых раздумий стало особенно невыносимо, она, желая поделиться своим горем, что камнем лежало на сердце, пошла к матери. Взяла с собой детишек — с ними было и легче, и спокойнее.
Матери дома не оказалось. Их встретила младшая сестренка Мунэверы, хохотушка Сеида, закончившая недавно фельдшерско-акушерскую школу. Работала она в больнице медсестрой, характером своим была на сестру совершенно непохожа. В душе ее не находилось места для покорной грусти; как ни встретишь ее — всегда она напевала какую-нибудь веселую песню. Косынку повязывала так, что выбивались из-под нее темные шелковые кудри, широко распахнутые глаза светились чуть лукавой радостью, и во всех движениях ее щедро проглядывала цельность натуры и дерзкая решительность.
Увидев сестру с детишками, проходящую через калитку во двор, кинулась она первым делом к окну, влипнув в него с размаху носом, потом, огласив избу счастливым возгласом, бросилась открывать двери. Мунэвера, невольно завидуя молодости ее и свободе, беспечальной жизни ее, которой та была только сама хозяйка, поздоровалась сдержанно и немного грустно. В доме все было по-прежнему: большая, беленная с синькой печь, часы, с подвешенным к гире старым, сломанным замком, сохраняемые нерушимо в угоду древним татарским обычаям саке[16]. Все было в избе на своем месте, как и в том году, когда покинула ее Мунэвера, выйдя замуж за молодого Карима, напоминало лишь остро о былой воле под крылышком заботливой мамы. Но, внимательно оглядевшись, заметила Мунэвера и явные перемены. На той стене, где тикали, пощелкивая, ветхие ходики, висела, пылал красным крестом, небольшая аптечка — дело рук Сеиды. И саке все же потеснились с одного краю, урезанные и отодвинутые изящной невысокой кроватью, — тоже дело рук Сеиды. Впрочем, пожалуй, всюду чувствовалась ее маленькая, крепкая рука: молитвы, писанные серебром по черному стеклу, — святыни, и те были перевешены в дальний угол. Значит, сумела сестра изменить на свой вкус, казалось, навечно, годами устоявшиеся в доме порядки. Да, эта не бросится во всем поддакивать родительскому слову, не побоится поспорить — сама себе голова...
Сеида повела детей в горницу, там разула их, разостлав на полу небольшой палас, дала мигом всяких удивительных штуковин: Миляуше — разноцветных фантиков, кукол, с которыми еще недавно играла сама, резиновый полосатый мячик; Анвару дала книжки с картинками. Пока она возилась с детворой, Мунэвера расправила развешенные в простенках полотенца, вымыла скоренько пол в чулане, полила цветы.
Вот и мама вернулась. В двух платках, цветастом и белом, в темном широком платье. Было ей уже пятьдесят девять лет, однако в ворота она скользнула, как молодая, живо и проворно. Для каждого нашлось у нее тут теплое словцо: Мунэвере — за то, что пол в чулане блестит, как янтарный; Анвару — за то, что вырос, джигитом стал; Миляушу поласкала, потормошила, легко вскидывая малышку на руках, поцеловала звонко в румяную щечку. Не осталась и Сеида в сторонке: ругнула ее мама беззлобно за бестолковость, что не поставила самовар, не угостила дорогих гостей свежим чаем; Сеида, однако, и бровью не повела — подскочила к матери, обняла ее и расцеловала: «А сейчас мы его поставим, мамочка, он у нас быстро вскипит!» Голос у Сеиды что звонкий колокольчик. Ну разве можно ей выговаривать всерьез? Победительница...
Вскипятили чай. Тетушка Майсара, засучив рукава и надев передник, заварила его по-особому, вкусно; то ли от близости к пыхтящему, словно маленький сияющий паровоз, самовару, то ли от близости детей и внуков, раскраснелась она и просветлела лицом — будто даже помолодела вдруг.
За столом, как велось у них в доме всегда, как велит обычай, много не разговаривали. Попив чаю, Мунэвера засобиралась домой; мать вышла проводить их до калитки и в вечернем неуверенном свете тревожно вглядывалась в дочку, даже привстала на цыпочки.
— Не хвораешь ли? Вроде как и похудела...
Мунэвера покачала головой: мол, нет.
Красный раскаленный шар солнца наполовину осел за горы Загфыран. Одинокое облако у горизонта, будто подожженное с одного боку, пылает золотистым пламенем, в середине — матово-алое. На хмуром лице Мунэверы играют тени заката...
Ей так хотелось рассказать матери о нелюбви своей к Кариму, о том, какую ошибку она совершила, выйдя за него замуж, и что живет с ним лишь из-за боязни злых языков да пересудов, из-за нежелания вступать в борьбу с судьбою. Но в который уж раз — побоялась она огорчить мать, побоялась расстроить ее и... промолчала.
Любили они с сестренкой свою мать — за самоотверженность и бескорыстие, за страстную любовь, которой одаривала и она их, ненаглядных своих девочек. Смолоду овдовев, не захотела она выйти замуж, не захотела ради дочерей, ни разу в жизни не попрекнула их ничем. Оттого любили ее дочери еще больше, а тех, кого любишь, — всегда слушаешься... Сегодня Мунэвера пришла к матери открыться, поплакаться, посетовать на неудачную жизнь свою — но увидела ее, и желание пропало. Как может она огорчить маму? Когда та радуется счастью своей старшенькой, уверенная, что, слава аллаху, она за хорошим человеком... Радуется, что не приходится ей на старости лет слышать о дочери худое...
— Или зять куражится? — сказала мать, тронув ее за рукав.
— Нет, Карим хороший...
— Может, в школе что приключилось?
— Нет, нет, мама, ну что ты? Все хорошо...
Разговор запнулся, оборвался, угас. Мунэвера, опасаясь, как бы мать не дозналась все же до истины, поторопилась уйти и по улице почти бежала, низко склонив голову. Анвар волочился сзади, ворчал что-то. Миляушу она несла на руках. Дома ходила совсем расстроенной. Уложив детей, ткнулась лицом в подушку, всплакнула, на душе стало легче, но пусто. Перевернув смоченную слезами подушку, стала ждать Карима с работы...
6
В тот же день с ночного поезда на бугульминский перрон сошел Арслан. Молодой шофер на стареньком грузовике подбросил его до поселка «Комсомольский» и, улыбаясь, отказался от протянутой десятки.
— Денег, дядя, за проезд не берем!
— Брось ты.
— Серьезно, дядя. Да мы еще встретимся, не горюй!
Арслан, стоя на подножке, внимательно оглядел веселого парня. Был он удивительно хорош: крепкая загорелая шея, распирающая стираную тельняшку мощная выпуклая грудь и неожиданно притягательные своей бездонностью большие черные глаза. Бесценные залежи душевного богатства таились в теплой глубине этих глаз, помаргивающих смешливо и добро.
— Кто ты, дружище? — вырвалось невольно у Арслана.
Молодой парень, легко вникнув в смысл вопроса, засмеялся и ответил:
— А просто Атнабай Багитгараев. Я в солнечный день родился — друзья называют меня «солнечным парнем». А разве плохо? Не огорчайся, что я бросил тебя одного на дороге. Вон сколько у тебя маяков! Видишь огни над Калиматом? Возьми их себе в спутники!
Арслан долго смотрел на удаляющиеся красные фонари грузовичка: какие-то хорошие, доселе неведомые чувства всколыхнул в нем этот паренек в тельняшке. «Как, в сущности, легко дарить ближнему счастье или просто доброе настроение, — думал Арслан, — ах, хорош парень, чертяка!»
На первом же перекрестке он, сойдя с шоссе, зашагал по проселочной дороге. До Калимата оставалось совсем немного, и ему захотелось пройти дорогою, немало исхоженной им в далеком детстве. Часто взглядывал он на россыпи огней у подножия гор — там, в мерцающем разливе, угадывались без труда огни буровых, тремя ярусами вписывающихся в черно-синее ночное небо, а факелы пылали, словно утренние зори, и метались от них по далекому небосклону дымные розовые тени, — зрелище это, пожалуй, способно было взволновать даже совсем равнодушного к Прекрасному человека. И Арслан, шагая по хлюпающей под ногами темной дороге, неотрывно любовался сиянием факелов, не зная еще, впрочем, что в каждом из них сгорает за сутки безо всякой нужды и пользы на десятки тысяч рублей природного газа; но чтобы понять это, предстояло ему пролить на буровой сорок, а то и больше потов.
Пройдя километр с небольшим, Арслан наткнулся на застрявшую в грязи «Победу». По всему было видно, что автомобиль буксует уже давненько, — под бешено вращающимися колесами образовались довольно глубокие ямины, и летела коровьими шлепками жидкая глинистая грязь. Из «Победы» вдруг, ругаясь, выскочил небольшого роста человек в старом замасленном пиджаке и, схватив лопату, принялся насыпать под колеса сухую землю и всякий мусор. Чуть поодаль с кривой дымящейся трубкой во рту, в шлеме танкиста стоял другой.
— Засели? — сочувственно спросил Арслан у человечка с лопатой.
Тот, подскочив как ужаленный, злобно оглянулся на Арслана и заорал:
— А ты че суешься?! Давай вали отсюда, любопытный!
Но Арслана, после встречи с Атнабаем Бахитгараевым, мечтателем и «солнечным человеком», не так-то легко было смутить, — засмеявшись, он подошел к машине ближе и спросил:
— Прежде чему повалить отсюда, может, я все-таки помогу вам?
Человек с трубкой во рту приблизился к Арслану, неторопливым приветственным движением поднес руку к потертому шлему, проговорил:
— Что ж, товарищ, если хочешь, то помоги, пожалуйста; может, вместе и осилим эту проклятую яму. Садись, Васька, в кабину, а мы толканем сзади.
Арслан быстро и молча ухватился за машину, качнул ее, прикидывая, хватит ли у него силенок, и, разогнувшись, повел широкими плечами. Примерно с годик тому назад он, поспорив с товарищами, взялся удержать за привязанный сзади трос директорскую «Победу», и легковушка, под хохот собравшихся рабочих, долго и бестолково тужилась тронуться с места, пока не выглянул из нее удивленный шофер. Ребята из цеха часто вспоминали эту веселую и сильную шутку, а директор, вызвав Арслана к себе, часа три пропесочивал его за «подрыв авторитета», хотя и поглядывал с невольным восхищением. И теперь, представив его сердитый и пораженный взгляд, Арслан усмехнулся себе под нос и почувствовал, как в руках шевельнулась тугая силушка неистового деда Кубаша.
— Садитесь и вы! — громко сказал он курильщику трубки, который неловко пытался подталкивать машину сзади. — Быстро!
И когда тот, пожав плечами, забрался в салон, Арслан, пригнувшись и широко расставив руки, взял машину под бампер и, чуть приподняв, двинул вперед, — автомобиль шевельнулся и засел еще глубже. Арслан взялся по-другому: уперся поудобнее каменным плечом и, вздохнув, толкнул что было сил — «Победа» пулей вылетела из грязи, Арслан, пытаясь удержаться на ногах, пробежал за нею шагов пять и шлепнулся-таки на вытянутые руки. Чертыхнувшись, он вскочил и, отряхивая ладони, посмотрел в сторону остановившейся «Победы», откуда, открыв дверцу, таращил глаза маленький шофер Васька, а курильщик, вытряхивая из окошка свою трубку, с невозмутимым видом предложил Арслану доехать с ними куда ему надо. Арслан, молча улыбаясь, мотнул головой. Тогда к курильщику присоединился шофер и, захлебываясь, стал звать Арслана в машину.
— Спасибо, друзья, не теряйте времени, — ответил им Арслан. — Хочется мне пешком пройтись — я в родные края вернулся...
— Вот как! Ну, тогда, конечно, ничего не попишешь... — согласился человек с трубкой.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
К концу тысяча девятьсот пятьдесят первого года основные силы нефтяников треста «Калиматбурнефть» были сконцентрированы в боевое, ударное ядро. Опытные мастера, по зову партии съехавшиеся сюда со всех концов необъятной державы, и присоединившиеся к ним татарские джигиты — всего, тридцать пять полностью укомплектованных бригад — бурили на земле республики нефтеносные недра.
Жизнь в этих краях забила ключом.
Ночами над темными просторами заснеженных полей метались огни железных тракторов; ковши экскаваторов, раскалывая землю полосами траншей, яростно вгрызались в мерзлый грунт; электросварщики, в самых неожиданных позах, цепляясь за прутья арматуры, разбрызгивали мириады блистающих искр, усеивая холодный лик ночного неба новыми звездами. Да, всюду над Калиматом в те годы властвовал огонь: огни на стройках, огни на полях, огонь в сердцах мужественных людей!
Управляющий трестом Николай Кожанов по неделям безвылазно сидел в своем кабинете, решал срочные и большие трестовские дела, корпел над бумагами, набрасывал на перекидном календаре торопливые заметки — и вдруг, в добротном, но пообтершемся уже полушубке, в лохматой, как у полярника, шапке, объявлялся на буровых. С самого рассвета и до поздней ночи носился «газик» управляющего по заснеженным дорогам. Часто заходил Кожанов и в культбудки, присаживался ненадолго у печек-времянок, со вкусом поедал жаренную на огне колбасу, похохатывал, перекидываясь с буровиками соленой шуткой, — словом, из сурового, насупленного начальника превращался в обаятельнейшего и душевного человека. В эти минуты проявлялась его истинная широкая натура, похороненная под грудами официальных бумаг, — это были минуты настоящего, простого и веселого Коли Кожанова.
Прежде чем стать командиром производства в одном из крупнейших трестов страны, Николай Николаевич прошел нелегкий жизненный путь. Был Кожанов не из тех легкокрылых счастливчиков, что шутя перескакивают со школьной скамьи в институт, а из вуза — в мягкие кресла уютного кабинета; вынес он на собственном горбу немало трудностей и лишений, своими руками, сердцем своим строил великую Страну Советов.
Когда-то, лет двадцать тому назад, водил молодой Коля Кожанов красный комбайн на полях небольшого совхоза под Симферополем. И поздравить комбайнера Колю с трудовой победой приехал однажды сам нарком Лобанов. В безоблачный день по жнивью прохрустела длинная и черная, чуть таинственная машина, бесшумно открылась дверца, — из лимузина, щурясь на солнце, вышел человек в высокой синей фуражке, в черных хромовых сапогах, оправил под широким желтым ремнем гимнастерку и, четко, словно под команду, чеканя шаг, подошел к красному комбайну. Легко взбежал он по лесенке на площадку, где стоял в крайнем смущении комбайнер Коля Кожанов — молодой и красивый, с кудрями, запорошенными пшеничной пылью, — тепло пожал ему руку, скупо улыбнулся и вручил золотой значок победителя соцсоревнования.
Крепко врезалась в память Кожанова встреча с наркомом. Вспоминал он об этой встрече и на стройках первых Пятилеток, и на нефтяных промыслах, и, особенно, став большим и знающим свое дело начальником. Высокая синяя фуражка, стягивающий гимнастерку широкий ремень, глянцевые сапоги и скупая улыбка на строгом лице олицетворялись в воображении Николая Николаевича с обликом комиссаров первых лет Советской власти. Их несгибаемая воля, способность подчинять себе одним словом давно уже стали идеалом Кожанова; разумеется, он прекрасно понимал, что настоящему командиру производства мало иметь впечатляющую внешность и строгие манеры, — нужны глубокие знания, светлый ум и немалые заслуги. Поэтому еще на нефтепромыслах, просиживал над учебниками бессонные ночи, Кожанов блестяще окончил институт; постоянно укрепляя полученные знания практикой, приобрел он богатый опыт; и в верхах Николая Николаевича считали специалистом-нефтяником высокого класса. Его поставили во главе одного из крупнейших, даже по всесоюзным масштабам, трестов социалистического производства, доверили исчисляющиеся во многих миллионах рублей материальные ценности, под его началом были тысячи людей, опытнейшие мастера и грандиозная техника. Такое доверие народа и партии возлагало на Кожанова, как на руководителя-коммуниста, огромную ответственность, которую он чувствовал ежедневно и ежеминутно, и понимал, и знал, что должен выполнять свой долг твердо и безупречно.
И все-таки постоянное нервное напряжение утомляло его до предела, настоятельно требовался отдых, и в такие мгновенья перед взором Николая Николаевича мелькали какие-то особняки средь тихого сада или утонувшие в цветочных клумбах дачи; он вспоминал вдруг, что многие его однокашники по институту продвигались по служебной лестнице куда быстрее — жили в Москве, сидели в главках, министерствах, — и испытывал смутное недовольство. Да чем же они лучше его, Николая Кожанова? Забрались, черт бы их побрал, в распрекрасную белокаменную столицу, сидят себе в теплых больших кабинетах, рассуждают о высоких материях... в театры ходят! В накрахмаленных рубашках, в лакированных башмаках! Но где же справедливость: ведь постоянно шлют тебе директивы — это сделай так, это не так, — когда сами в практике не бельмеса. А ты вкалывай тут годами, не зная ни сна, ни отдыха, до театров ли — раз в год и то не выберешься. Нет, надо все бросать к черту и... хватит! Хватит ишачить. Николай Николаевич, томясь душой, решал даже поговорить об этом с женою, но самое большее через час его розовая мечта разлеталась, вдребезги — суровый начальник, управляющий громадным трестом Николай Николаевич Кожанов разносил ледяным и от этого еще более устрашающим тоном какого-нибудь нерадивого инженера, а то и самого директора конторы. Нет, что ни говори, а ни в каких главках ему не усидеть. Душа не вынесет. Именно вот эти живые, конкретные задачи, эти живые, конкретные и прекрасные люди, с которыми он работает, удерживают его от падения в трясину розовой меланхолии, в болото обеспеченного и благополучного существования. Он — производственник!
А тут еще матушка-природа, как назло, ставит подножки — все дело портит. Как задули бураны в начале декабря, так и бесновались чуть ли не полмесяца — завалило снегом и улицы, и дороги, и даже телефонные столбы по низинам. Связь с буровыми прервалась... Вот уж поистине как снег на голову!
Каждое утро на занесенные дороги выползали громадные оскаленные бульдозеры, с ворчаньем разносили глубокий снег, нагромождали по обочинам гигантские горы, и пробиравшаяся меж этих искрящихся, голубых холмов тридцатиместная «вахтовушка» казалась тогда совсем игрушечной.
На развилках дорог возникали замысловатые «пробки» — до сорока машин, сгрудившись у какого, либо поворота, томились, взревывая клаксонами, и не могли разъехаться при всем старании. Шоферы кляли буран, отчаянно орали друг на друга, обкладывали крепчайшим матом бестолковое начальство, но увы! — «пробка» от криков и ругани не рассасывалась, развилка не становилась просторнее. Устав орать, водители собирались под укрытие затиснутого меж «вахтовушек» автобуса, со смаком курили, пока не улегались страсти, и наконец шоферская остроязыкая ассамблея после горячих, с божбой и плеванием в снег, дебатов придумывала-таки, как расправиться с проклятой «пробкой». Все еще похмыкивая и хмурясь, но уже нетерпеливо радостно, с явно крепнущей надеждою разбегались шоферы по своим машинам, и действительно, через какие-нибудь полчаса развилок опустевал и о столпотворении машин напоминал лишь изрытый, исполосованный протекторами и чудовищно грязный на дороге снег.
В последних числах декабря зима затеяла новое злодейство: задул с севера лютый ветер и принес с собою неимоверный мороз. Плюнешь — и на землю со звоном упадет хрупкая ледышка. Температура твердо установилась сорок пять ниже нуля — холода, в тех краях совершенно невиданные. Поисчезали со стен новостроек каменщики, не носились уж по улицам, не скакали по сугробам мальчишки, окрестности вдруг обратились в волшебное зимнее царство. По вечерам над городом стоял темный морозный туман, мутно светились в желтых кругах уличные фонари. Отблески факелов, в теплые ясные ночи озарявшие высокий небосклон, непонятно сузились и, словно странные тревожные прожекторы, вспарывали низкое небо кинжальными лезвиями света.
Труд на открытом воздухе превратился в немыслимое дело — нефтяники на буровых обмораживались, попадали в больницы, но остановить буровые работы было уже невозможно. Николай Николаевич приказал без промедления выдать буровикам все запасы имеющейся на складах теплой одежды, самолично проверил выполнение приказа, — завскладом, задержавшего выдачу спецодежды всего на один день, решительно отдал под суд; и это не преминуло принести положительные результаты: мысль о том, что их не забывают, что о них постоянно заботятся, согревала на трескучем морозе сердца людей, — буровики работали с великим подъемом, и лишь по вине снабженцев темпы проходки не возросли до рекордных результатов. На буровых днем и ночью пылали костры, жаром которых отогревали обледеневшие соединения стальных труб. Попав в то время на буровую, человек становился свидетелем необычайного зрелища: в мятущихся отблесках пламени, подняв над головою багровые факелы, сновали средь заиндевелых конструкций резкие в движениях люди, будто заклиная злые колдовские силы, охраняющие под землей бесценные кладовые природы.
В один из таких студеных дней, когда, спасаясь от лютого холода, все живое попряталось в свои теплые норы, Кожанов собрал ответственное совещание. Были приглашены на него директора контор, начальники участков, буровые мастера и даже свободные от вахты бурильщики.
Попал на это совещание и Карим Тимбиков. Сидел он во втором ряду по соседству с мастером Дияровым и, жадно подавшись вперед, вслушивался в слова каждого выступающего; затем, словно проверяя свои впечатления, взглядывал на сидящего в президиуме Кожанова. Управляющий же сидел нахмурившись, слушал напряженно гладкоречивых ораторов, перекатывая под смуглой кожей каменных скул тугие желваки.
Выступали в основном спецы, и поэтому разговор шел о вещах сугубо технических: о необходимости поднять коммерческую скорость бурения, о методах увеличения этой скорости, о роли бурового мастера в организации труда — проблемы эти были чрезвычайно серьезны, и каждый выступающий указывал прежде всего на безотлагательную важность затронутых вопросов. Но говорили они все как-то туманно, витиевато, пересыпая речь многозначительными оговорками и нескончаемыми ссылками на параграфы, а стоило очередному оратору в пылу выступления задеть кого-либо из находящихся в зале поконкретнее, как тут же с трибуны проливались бесчисленные извинения и галантные расшаркивания.
Тимбикову, привыкшему прямо, по-деловому выкладывать все свои соображения, показалась подобная манера обсуждения неотложных задач невероятно странною, и, выслушав еще с десяток речей, он окончательно запутался и даже перестал понимать, кто же это такой — пресловутый буровой мастер — и с чем его, этого мастера, едят. Перед глазами Карима всплыла весьма непонятная картина. Будто какие-то чистенько и опрятно одетые люди в золотых очках и черных галстуках ходят на цыпочках вкруг грохочущей буровой, говорят сверхумные слова о методах бурения, но подойти к трубам и лебедкам боятся. Упаси боже — ведь там такая грязища! А если костюмчик замараешь?..
— Можно и мне выступить? — нагнулся вдруг Карим к Лутфулле Диярову.
— Конечно! Давай, брат, дерзай — для того и пригласили.
Получив слово, поднялся Карим на трибуну, взглянул на перешептывающийся, поблескивающий стеклами очков зал.
— Ей-богу, всю жизнь завидовал тому, у кого язык здорово подвешен: мечтал, можно сказать, закатывать такие вот длинные речуги! — И зал насторожился, замолк, уставился на Карима. А он всем корпусом развернулся к столу президиума и, поймав взглядом первого попавшегося начальника, отчаянно и жарко спросил: — Вот вы, Иван Ефимович, нам вчера цементу обещали — где ваш цемент? А?
За несколько минут до этого покоривший всех особенно замысловатым слогом и поэтому довольно и рассеянно улыбавшийся Иван Ефимович никак, видимо, не ожидал, что его буквально сразу после столь удачного выступления бесцеремонно ухватят за грудки. Нервной рукою стащил он запотевшие вдруг очки, засопел, водрузил их обратно на мясистый нос и натужно проговорил:
— Видите ли, товарищ... э-э...
— Что «видите ли», Иван Ефимович? Цементу я не вижу. Так будет он или нет, отвечайте же вы толком!!
Точно обухом хватили Ивана Ефимовича — побагровел и раскрыл рот, а в зале кто-то хихикал, кто-то возмущенно зашипел, но Карим, сообразив, что напал на верную жилу, без промедления атаковал очередную «жертву», впрочем, и на ней долго не задерживался, вопросы его были кратки, но вгоняли ответственных работников в краску и холодный пот.
И неожиданно Карима поддержал Кожанов.
Поднявшись из-за стола во весь могучий рост, Николай Николаевич заговорил, неторопливо отсекая строгие скупые слова, и они падали в зал, словно тяжелые стальные трубы в горло разверстой скважины:
— В эти дни, когда мы должны рапортовать о проделанном народу и партии, не время заниматься пустой болтовней. Берите пример с товарища Тимбикова. Представитель «его величества рабочего класса» буровик Карим Тимбиков, не будучи спецом, понимает в организации труда нефтяников куда больше многих из вас. Да! Будем же блистать делами, а не красными словами, Иван Ефимович! Больше и больше пробуренных метров! Необходим ударный фронт бурения. Пора подготовить лучших мастеров к рекордным скоростям. Вот наша задача! И, только выполнив ее, мы сможем назвать себя руководителями производства!
Закончил управляющий в абсолютной тишине. О неимоверной трудности поставленной задачи напоминал беснующийся за окном сорокапятиградусный жестокий мороз, и люди, словно получив боевой приказ, подтянулись: их серьезные, суровые лица выражали упорство и готовность выполнить эту, казалось бы, невыполнимую задачу.
С этих дней и начинается история знаменитой бригады Карима Тимбикова, установившей впоследствии головокружительные рекорды, а также ввергшей руководителей треста в величайшие неприятности.
2
Лес. В воздухе синеватая туманная изморозь. Под голубыми снегами дремлют застывшие деревья, поодаль, на укромной, недоступной даже вездесущим лихим ветрам лесной поляне вздымает к зимнему небу свои сорок два ажурных метра заиндевелая вышка. Над буровой, словно над баней, клубится густой белый пар, но рокот моторов непривычно тих — звуки застывают в морозном воздухе, падают в снег... Видно, как на беззащитном верху стальной вышки медленно вверх-вниз ходит талевый блок[17]: вахта Карима Тимбикова опускает обсадные трубы.
Выскочивший из культбудки Лутфулла Дияров вдруг остановился, приставив к бровям руку в огромной, пошитой из овчины теплой рукавице, — по лесной дороге, вздымая на виражах облака медленно оседающего снежного праха, мчалась кремовая «Победа».
«Кого там еще несет? — успел удивиться Лутфулла-абзый, но в следующую минуту автомобиль подкатил к буровой, плавно затормозил, и из него в желтоватом военного покроя полушубке, в стеганых штанах, заправленных в большие бурые валенки, выкатился собственною персоной Митрофан Апанасович Зозуля. И Лутфулла-абзый облегченно вздохнул. С того самого дня, как встретились они у пустой заброшенной избы Дияровых, зародилась в их душах обоюдная симпатия, уважение и взаимопонимание. Немало самых разных руководителей пришлось перевидать Лутфулле Диярову за двадцать пять лет работы на нефтяном деле, и был он твердо убежден, что все они, невзирая на облик, характер и опыт, относятся к одной из двух категорий, которые сам он и определил. В первую, по его понятию, входили такие, кто заботу о подчиненных ставил себе в обязанность, зная наверняка, что всякая забота в конце концов окупится сторицею. Другие же заботились о людях душевно, безо всякого на то расчета, не думая о дальнейшей выгоде, а лишь только потому, что иначе они не умели: как добрый отец не может оставить без присмотра своих детей, так и они пеклись о работающих с ними, под их началом людях со всей сердечной теплотой и старанием. Таким руководителем с первой их встречи признал Лутфулла-абзый Митрофана Апанасовича Зозулю, и оттого лежало у него к Зозуле сердце, оттого проникся он к нему уважением. И раз уж объявился Зозуля на буровой — стало быть, есть у него на то причина: не из таких он людей, чтобы беспокоить буровиков по пустякам.
— Салямаляйкум, уста-Лутфулла, — проговорил директор конторы спокойным хрипловатым голосом и ухмыльнулся, показывая под заиндевелыми усами крупные белые зубы.
— Здоровеньки булы, Митрофан Апанасович! — отвечал ему Лутфулла-абзый, в свою очередь стараясь правильно выговорить сладкие для Зозулиного слуха украинские слова.
Шагнув друг другу навстречу, крепко пожали они руки, похвалили морозец, пощелками языками и покачали головою. Белый пар, вылетающий изо рта, мгновенно оседал инеем на бровях и густых усах приятелей, и лохматые шапки их скоро стали снежно-голубыми. Директор, взяв мастера под руку, поинтересовался, не случилось ли чего на буровой, ладно ли идут дела, и, незаметно подведя его к своей машине, объявил самым будничным тоном:
— Ты, уста-Лутфулла, сидай-ка в машину и дуй по-скореича до дому. Пошукаешь, якую мы тебе квартиру там приготувалы. Така добра квартира! Ордер я твоей жинке вручил, так она тебя поджидает и клянется, что с места не стронется, пока ты не прискочишь...
Лутфулла-абзый разволновался вдруг до того, что раскрытым ртом хлебнул ледяного воздуха и надсадно закашлял. Надо же, сам Митрофан Апанасович приехал обрадовать его на буровую, в этакий-то мороз, — эх, славный человечище! Но, с другой стороны, на буровой окончание последних работ, и ой как не хочется оставлять ее в такой день без присмотра... А ну, как чего случится? Ведь это же труд нескольких месяцев может полететь к чертовой матери за какой-то час... Но ехать, конечно, надо. Тауфика совсем разобидится, скажет, на буровой, что ли, женился, старый дурак, откуда же столько детишек нашлепал...
— Митрофан Апанасович, родимый, ведь у меня... Погоди-ка, так что же это получается? Неужто нельзя отложить на денек-другой, Митрофан Апанасович, голуба? Буровую заканчиваем — как же я ее оставлю-то? И тампонажников[18] пригласили... тампонажники, говорю, вот-вот подъедут, что же это получится, а? Эх, неладно выходит... — бестолково, и радуясь, и расстраиваясь, забормотал Лутфулла-абзый, но Митрофан Апанасович решительно взмахнул рукой и весело-твердо сказал:
— Знаю, мастер, все знаю. Шо ты мене таку долгу агитационную беседу разводишь? Градус на улице не подходящий, щоб так долго гутарить, сидай в машину и лети до дому, а то квартиру пробалакаешь. Ишь, кака боляща душа!
— Буровую-то на кого кину?
— Хо! А я на що? На то я и приехав, щоб за тебя остаться!
— А дров не наломаешь?
— Как?! Ты меня обижать посмел? Завтра ж снимаю тебя с работы. На пенсию пойдешь, старый волк! Я йому квартиру дав, а он меня обижать вздумал. Сидай у машину, я тебе кажу! Як станешь безработным, так я еще поглядаю на твою горькую личину... — Нанизывая глуховатые кругляшки слов, посмеивающийся Зозуля взял Лутфуллу Диярова за плечи, легонько втолкнул в машину, быстро, словно опасаясь, что неугомонный мастер выскочит обратно, захлопнул дверцу и крикнул водителю:
— Ну, чего ты дывишься, байстрюк, дуй же скореича до городу!
Когда машина исчезла в утреннем морозном тумане, Митрофан Апанасович глубже надвинул лохматую ушанку, натянул плотнее меховые рукавицы и, даже крякнув от удовольствия предстоящей, забытой уже, но по-прежнему любимой работы, двинулся к буровой. Разумеется, он мог поставить за Диярова и какого-нибудь рядового инженера, но была у него на буровой еще одна забота, неизвестная — пока мастеру Лутфулле. Должен был Митрофан Зозуля своими глазами увидеть бурильщика Карима Тимбикова, оценить и почувствовать его работу.
3
За городом, выйдя к обширному полю, они немедля встали на лыжи: здесь кончался асфальт и между Калиматом и промыслом лежало украшенное величавыми сугробами бесконечное царство искрящихся белых снегов, исполинских серебряных чанов и пылающих днем и ночью факелов, похожих на громадные багрово-алые цветы, на тонких и совершенно прямых стальных стеблях. Шамсия, оставляя на выпавшем только вчера пушистом снегу ровную и синеватую лыжню, легко заскользила вперед, и Файрузе пришлось изрядно потрудиться, догоняя подружку, так что она даже взмокла и запыхалась. Толстая ватная телогрейка, надетая поверх нее брезентовая куртка, стеганые брюки и громадные валенки — полный комплект спецовки, выданной ей со склада нефтепромыслов, — стесняли своей непривычностью, сковывали движения, затормаживали, да и на лыжи-то в первый раз она встала всего неделю назад и надеялась больше на свою молодую силу, нежели на необретенную еще сноровку.
Пройдя с километр, Шамсия остановилась и подождала Файрузу:
— Устала?
— Устать-то не устала... вспотела.
— Ну, еще бы! Ты только посмотри, как ты поле-то вспахала, ровно бульдозер, ей-богу!
Файруза, утирая со лба крупные щекочущие капли пота, глянула назад и, увидев оставленные ею две глубокие растерзанные борозды, тихонько улыбнулась
— Ты на палки-то не очень напирай и скользи, скользи, а не вышагивай! — увлеченно говорила ей Шамсия. — Гляди, вот так — раз, раз!
Файруза попробовала — действительно, так получалось гораздо быстрее, а главное, легче. Шамсия, красиво, словно настоящая лыжница, взмахивая руками, умчалась уже вперед, и Файруза на мгновение залюбовалась ловкими движениями ее быстрой фигуры. В душе молодой женщины жила искренняя благодарность к своей веселой и доброй подружке, что помогла ей устроиться оператором и от всего сердца обучала премудростям новой профессии.
А случилось это совсем неожиданно. Выставив за дверь Булата, Файруза, обеспокоенная судьбой своего подрастающего сына, упорно искала работу. Она считала теперь Тансыка сиротой и даже в мыслях не держала, чтобы признать Булата отцом ребенка; вообще Файруза постаралась выбросить его из своей памяти. Горько и досадно было ей вспоминать, как сохла она по Булату, как летом, тоскуя о нем, бродила по изменившимся полям, — разве стоит любить этакого неверного человека? Она уже стала смотреть на жизнь более трезво и серьезно: прошли те времена, когда Файруза была отчаянной и безрассудной девчонкой, — теперь она мать и должна во что бы то ни стало устроить судьбу своего сына. Но работу по душе не так-то легко было подыскать, впрочем, она на это и не надеялась: ни специальности, ни твердых знаний у нее не было. А в конторах, куда она заходила, сидели люди с головами, забитыми стройками, мазутом, новой техникой; и, шагая по изрытым улицам нового города, слоняясь в ожидании начальства по долгим коридорам всевозможных контор, она горько сетовала на развернувшееся в Калимате большое строительство, заполнившее все вокруг непонятными машинами; а какое у нее образование — всего семь классов, да и те она закончила еще до войны и в жизненной сутолоке уже успела накрепко позабыть. Если бы не все эти новшества, разве пришлось бы ломать голову, подыскивая подходящую работу, и горевать о малых знаниях. А теперь — куда ни сунься — везде надо заканчивать какие-то немыслимые курсы, и хорошо еще — удастся туда поступить, а вдруг провалишься, ведь это же срам.
В один из таких беспокойных, невеселых дней и повстречалась ей на улице нового Калимата давняя подружка Шамсия. Файруза поначалу даже не признала в разнаряженной по-городскому дамочке, бросившейся к ней с шумными и радостными восклицаниями, свою старую школьную подругу. На голове у дамочки красовалась затейливая шляпа с разноцветными перьями, в руках поблескивала лакированная сумочка, и, лишь взглянув повнимательнее в блестящие карие глаза под крупными веками, Файруза вспомнила одноклассницу Шамсию, с которой она проучилась вместе вплоть до седьмого класса и от мягких, веснушчатых рук которой почему-то вечно пахло топленым маслом. Она не виделась с Шамсией уже несколько лет и только слышала стороной, что та, выйдя замуж, уехала куда-то из родной деревни. Может, теперь обратно вернулась?
Шамсия же, увидев одноклассницу, шумно обрадовалась и, немного рисуясь в своих модных нарядах, засыпала Файрузу градом вопросов; вспомнила с великой за подругу гордостью, как та атаманила в школе, подчиняя себе самых отчаянных мальчишек, а раз даже отлупила за школою директорского сынка; хохотала при этом так заразительно, и видно было, что, несмотря на яркую и модную одежду, осталась она все той же простосердечной и веселой Шамсией. Потом вы сыпала она целую кучу своих новостей, с искренней и располагающей наивностью похвалилась мужем, хорошим, работящим человеком, рассказала, что подарила ему уже троих сыновей, что двое из них — близнецы, и все вместе они орут так оглушительно, что муж, кажется, уже оглох на правое ухо, а еще у них есть плодовый сад и собственный дом, так что — милости просим, в любое время, будем очень даже рады!
И Файруза, убедившись окончательно, что перед нею нисколько не изменившаяся добрая подружка ее Шамсия, выложила наконец и свою заботу.
— Да что ты? — всплеснула та руками. — Чего же ты молчишь? И-и, душенька, нашла о чем беспокоиться! Хочешь, к себе возьму, в операторы?!
— А ты чего же, или начальством каким стала?
— Это я-то?! Ну, милая, ты, я погляжу, совсем света белого не видишь! Так я же старшим оператором на промыслах. Портрет-то мой с Доски почета не сходит, ужели не замечала ни разу?
Через неделю Файрузу вызвали в нефтепромысловое управление и приняли на работу: с тех пор, под руководством своей школьной подруги Шамсии, она старательно изучала новую специальность...
...Снег в поле лежал широкими и ровными волнами; по этой волнистой равнине, вспарывая лыжней голубые тени больших сугробов, подруги добежали до первой скважины.
— Первым делом смотрим на... что? — спрашивала, посмеиваясь, старший оператор.
— На измерительную рейку мерника... — солидно и важно ответствовала Файруза.
— А отчего?
— А оттого, чтобы видеть, не протекает ли нефть...
— Молодец, девка! Скоро меня с места сгонишь, — хохотала Шамсия, отстегивая лыжи.
Они проверили на трапе приборы, постояли, прислушиваясь к глухому урчанию поднимающейся нефти, у манифольдной линии[19] и побежали в сложенную из гипсовых блоков маленькую, меньше деревенской баньки, скребковую будку.
— Я тебе, дружочек, показывала работу ручных скребков? Вот. А сегодня погляди на электрический, — и Шамсия, загадочно прищурив блестящие глаза, приготовила скребок. — На сколько мы опускали в прошлый раз? На семьсот метров? Ну, а сегодня можно и на восемьсот пятьдесят — за нас будет работать сильный зверь под названием э-лек-тричество!
Простодушной и развеселой Шамсии очень нравилось обучать свою понятливую подружку, и она никак не могла удержаться от некоторой театральной нарочитости; вот и сейчас, подняв руку, она зажмурила один глаз и на цыпочках подошла к пульту, на котором сияла красная кнопка пуска.
— Вот сейчас нажимаем эту красивую кнопочку — трах-тарарах, и скребок уже мчится наверх! А наша родненькая скважина очищается от приставучего парафина, и дышать ей, конечно, сразу легче...
Она торжественно надавила на кнопку, но никакого результата не последовало. Быстро нажала еще раз — мотор безучастно молчал.
— Вот зараза такая! Опять заело! Хвалили красную девицу, а она на свадьбе возьми да и... что?
— Пукни! — толстым голосом сказала Файруза, и обе громко захохотали.
— Сейчас мы его наладим, — сказала Шамсия, насмеявшись, и принялась выворачивать предохранительную пробку. Вывернув, она недоумевающе потрогала накрученную медную проволочку, завернула обратно и вновь нажала на кнопку. Упрямый мотор не издал ни звука.
— Ладно, не расстраивайся. Я и без мотора его вытяну! — проговорила Файруза и, ухватясь за ручку ворота, принялась накручивать, словно вытаскивая из колодца полное ведро.
Когда она одним махом подняла скребок на двести метров, Шамсия, которой никогда не удавалось вытянуть за раз более ста, восхищенно взглянула на подругу:
— И куда только мужики смотрят, ей-богу! Здоровая же ты бабонька, Файруза, как бык, тянешь!
— Приходится тянуть, — серьезно ответила Файруза и замолчала, о чем-то задумавшись...
На другой день Файрузе пришла в голову неожиданная мысль. «А что, если мне сходить к родителям Булата? — подумалось ей вдруг. — Конечно, не на Булата жалиться. Боже упаси! Просто интересно, что у него за родители. Правда, только за этим, ни за чем иным...»
Достала из сундука красивое платье. Выгладила. Накинула пуховую шаль, надела новое пальто и, торопясь успеть до прихода Тансыка, вышла из дому
Под ногами поскрипывал твердый снежок, щипал за щеки крепкий морозец. В душе Файрузы вздымалась буря.
Вот и осмелилась она — повидать деда и бабку своего Тансыка...
Но по дороге Файруза совсем разволновалась: иду незваной снохой! Сноха... Странное слово, чудное. Проснется же в душе, хоть и поздно, такое чувство — незнакомое, неизведанное. Свекровь, свекор... и слова какие-то древние. Однако до чего же они волнуют! Нет, трусить ей не годится. Нельзя! Если что прознают — пиши пропало, ничего-то ей тогда не увидеть, ничего не услышать, и зря она, выходит, надумала пойти к Дияровым...
Проходя мимо дома родителей, приподняла воротник, опустила на лицо шальку, пронеслась чуть ли не бегом: кто его знает, как бы не доглядели!
У ворот Дияровых на минуту остановилась — сердце колотилось гулко и часто, — набравшись смелости, толкнула калитку. Заботливо подметенный двор, аккуратно протоптанные тропки-дорожки, прислоненная у крылечка желтая деревянная лопата, пушистый голик для ног — от всего этого веяло такой свежей чистотой и опрятностью, что Файруза, неожиданно для себя, совершенно успокоилась. Поправив. шаль и опустив воротник, она весело смела с валенок снег и, глубоко вздохнув, — будь что будет! — решительно вошла в сени.
В отворенную дверь ворвались клубы холодного пара, и из-за печки, посмотреть, кто это такой румяный пришел с мороза, выглянула сама хозяйка — пожилая, лет пятидесяти женщина, в белом «домиком» платке, цветастом ситцевом платье и белом же накрахмаленном переднике. За нею мал мала меньше высыпали здоровенькие ребятишки и с любопытством уставились на Файрузу.
— Здравствуйте, Тауфика-апа!.. — проговорила она задорно.
— Здравствуй, голубушка, — по лицу хозяйки пробежала тень недоумения, но тут же светло-голубые глаза залучились добрым и ласковым светом. — Стара, видать, стала: чего-то я тебя не признаю?
— Вашего соседа дочка я. Шавали Губайдуллина знаете? Ну, а я — Файруза, старшая дочь его. Вот проведать вас пришла. Как-никак — односельчане.
— А-а, вон оно что! Ну, спасибо, доченька, вот как расчудесно... да ты проходи, присаживайся! Только уже не обессудь старых за кавардак-то, переезжаем ведь, квартиру нам новую определили, так в избе, конечно, все вверх дном — собираемся...
— А я поэтому и зашла! Слыхала, будто вы переезжаете, может, думаю помочь надо... — первый раз в жизни соврала Файруза и, радуясь, что пришлось это очень кстати, в то же время ужасно смутилась и покраснела: радость тетушки Тауфики оказалась такой большой и искренней.
— Ах, доченька, спасибо.! Ай, спасибо, любонька ты моя! Вот уж правду в народе сказывают: кого с неба ждешь, того земля пошлет. А я все гадала, как мне одной управиться! Лутфулла-то мой совсем завертелся — с вышкой своей разлюбезной никак расстаться не может, как рассвенет — так туда, а вечером заявится и на боковую. Я уже думала, пока жива буду, ни одного больше в такую работу не отдам, ан оглянуться не успела, старшенький-то мой, Булат, так и потопал по отцовской дорожке... Тогда ты, доченька Файруза, доставай-ка из того шкапа одежду да связывай ее в узлы — я тебе на то простынки дам беленькие. А не то воротится Лутфулла, и пойдет все на скору ручку — комом да в кучку...
Файруза, подвязав поданный тетушкой Тауфикой передник, рьяно принялась за работу. В хозяйстве Дияровых имелось все необходимое для большой, многодетной семьи, хотя, впрочем, обстановка в доме была по-деревенски незамысловата. Это пришлось Файрузе по сердцу, и она подумала, что хозяева, несмотря на видимый достаток, люди, кажется, простые и неизбалованные. В то же время посреди комнаты с потолка свешивался большой светло-зеленый абажур, стояла в сторонке широкая никелированная кровать, а в углу выстроились разновеликие деревянные кроватки — это уже было по-городскому, и Файруза с интересом оглядывала убранство избы, невольно оценивая все увиденное. Поставленный же наверху платяного шкафа блестящий самовар был прикрыт тонкою кружевной накидкой — точно так же, как в любой избе ее родной деревни.
Ловко связывает узлы Файруза. Время от времени она поглядывает на тетушку Тауфику, и эта пожилая И, несмотря на деловитость, очень добрая женщина в белом переднике и белом платке нравится ей все больше, Файрузе до смерти хочется, чтобы она снова заговорила о Булате. Но тетушка Тауфика так и не проронила о старшем сыне больше ни одного словечка. Перечислила всех остальных своих детишек, толкуя, у кого какой характер, какие повадки, какие в школе отметки; малышей, путающихся под ногами, ласково выпроваживала в отгороженный за печкою детский уголок. Между делом, к слову, пожаловалась Файрузе на осточертевшую кочевую цыганскую жизнь, сообщила, что здесь уже, на родине мужа, собираются они со стариком осесть до скончания века. Оказалась она ловкою и сильной просто на удивление, Файрузе, хотя та была намного моложе ее, ни в чем не уступала и даже очень легко, без натуги вскинула наверх большой, сложенный в углу кучи пожитков, здоровенный желтый чемодан. Сразу видно было, что всю свою жизнь она провела в неустанном труде и сидеть на шее у мужа не привыкла, да и не имела на это ни малейшего желания. Славная бабушка у Тансыка! Но почему же она совсем не упоминает о старшем сыне? Удивительно...
Так дружно и сноровисто уложили они почти все вещи. Тетушка Тауфика беспрестанно журчала хлопотливым голосом, перемежала расспросы и рассказы благодарными «спасибо» Файрузе.
Потом поинтересовалась вдруг, почему ее родители к ним не заходят: может, предпочитают жить уединенно, знакомства не заводить — тогда, конечно, понятно. Вопрос этот застал Файрузу врасплох: она и понятия не имела об отношениях родителей с новыми соседями, не навещая их уже с полгода; из затруднения же ее вывела сама тетушка Тауфика.
— Да и то сказать, в жизни хлопот не перечесть. Всякому своей заботы хватает, — проговорила она тихо и мягко. Вообще голосу ее присуща была удивительная мягкость и теплота — подобные голоса встречаются чаще всего у любящих матерей. Файруза даже вспомнила с грустью бабушку свою Юзликай — только при ней было так тепло и чисто на душе. «Славная у Тансыка бабушка!» И она работала легко и споро, радуясь, что невеселые мысли, обуревавшие ее поначалу, словно растаяли от этого мягкого и уже родного голоса, и все ждала, не заговорит ли тетушка Тауфика о Булате, — ведь ей так хотелось узнать, где он теперь и что собирается делать... Может, и вспомнила б тетушка Тауфика о сыне, знай она, с какой тоской думает Файруза о нем, может, тогда утешила бы мать Файрузу?..
Приехал с работы Лутфулла-абзый. Отирая с рыжих усов тающий иней, поздоровался с Файрузой, похвалил расторопную хозяйку. Рядом с дородной своей женой казался он приземистым и низкорослым — тетушка Тауфика была чуть ли не на голову выше мужа, а располнев, стала выглядеть внушительнее, Файруза поняла, что и Булат внешним обликом пошел в матушку — рослый, волосом черный, а Лутфулла-абзый был рыжеват. «Ой, какой у Тансыка маленький дедушка», — подумала Файруза, но почему-то вдруг оробела перед этим маленьким дедом, смущенно помолчала и, наскоро попрощавшись, убежала домой.
— Кто такая? — — спросил Лутфулла-абзый, когда за Файрузой захлопнулась дверь.
— А соседа нашего, Шавали, старшая дочка. Помогать пришла, ласточка, — ответила ему жена и ласково взглянула в окно.
— Кажись, о ней говорили, будто с отцом не ужилась?
— Не знаю, я того не слыхала. А в работе — ловка, ничего не скажешь. Ну, прямо огонь... — На секунду задумалась, помолчала и нерешительно, будто про себя, добавила: — Вот бы нашему Булату такую девку...
— Молодые на свой аршин меряют, мы им не указка. Тебе хороша, а ему и не приглянется, — буркнул Лутфулла-абзый. — Давай-ка, мать, лучше чего-нибудь перекусить. А то натощак загнешься с этими узлами...
...Файруза пришла домой взволнованная. Тансык со школы еще не возвращался, и она взялась готовить обед: рассеянно развела под котлом огонь и неожиданно для себя запела — на душе у нее было как-то неопределенно радостно и светло. Стукнув в дверь, вошла девушка-почтальон, Файруза, расписавшись в истрепанной с кожаным переплетом книжке, получила вдруг перевод на пятьсот рублей. Фамилии отправителя на нем не значилось, и оторопелая Файруза принялась допытываться у почтальона, от кого перевод, но та, разумеется, ничего не знала. Она только и смогла сказать определенно, что деньги высланы из Елабуги, — у Файрузы же ни в самом городе, ни в тех краях никого никогда не было...
4
На новую квартиру приехали лишь вечером, когда по городу зажглись уже уличные фонари. Расставлять мебель и разбирать вещи было поздно, поэтому все пожитки снесли в одну комнату и там оставили до утра, только в будущей детской тетушка Тауфика три раза кряду вымыла пол, и они вместе с мужем расставили вдоль стены детские кровати, накормили ребятишек и уложили их спать.
Стало после этого в доме тихо, а на душе у них куда как спокойнее; много раз в своей кочевой жизни переезжали эти немолодые супруги с места на место, но всегда после очередного переезда с легким сердцем забывали они свои дорожные мучения; и теперь тоже прошли в будущий зал-гостиную, постелили там на остро еще пахнущий краскою светло-коричневый в белесых следах пол пару газеток, сели рядышком, вытянули с наслаждением ноги в одинаковых шерстяных домашней вязки белых чулках и легко вздохнули: уф-ф!
— Слушай-ка, отец, чего мы со старой избою-то будем делать, а? — спросила, будто удивляясь, через некоторое время тетушка Тауфика; сказано было это, однако, осторожно и не очень настойчиво, потому как муж сидел возле нее с усталым и озабоченным, явно не домашней заботою, видом.
— На сегодня, мать, всем твоим затруднительным для меня вопросам даю полный и окончательный поворот, — сказал Лутфулла-абзый, зажигая папироску. — Ты теперь с ха-арошей квартирой, потому уймись и радостно молчи, понятно?
После этих слов он торопливо вскочил и подошел к окну. Но на улице было непроглядно темно, не светлее было, впрочем, и на душе у старого мастера, тревожащегося за оставленную им на директора конторы незаконченную буровую.
— Ах и беспокойный же ты человек, Лутфулла! — в сердцах крикнула тетушка Тауфика, но затем с мольбою взглянула в глаза мужу. — Да забудь ты, бога ради, хоть на один-то день эту проклятую буровую!
— Ну, старая, эку ты глупость сболтнула, право слово. Вот ты думаешь: получили, мол, новую квартиру, ай хорошо! Теперь будем, значит, сидеть со стариком да радоваться. А того ты своим женским разуменьем не смыслишь — ведь у меня там скважина недоработанная осталась! Земля, она, брат, такой лукавый человек и такие в своем нутре штуки закручивает, что сам управляющий иногда пальцем в небо трюхает и понять не может, чего там такое делается!
— Ох! Ты мне об этом в сотый раз уже талдычишь...
— А ты вот наберись терпения да послушай и в сто первый. Ежели ты жена бурмастера, так умей же, понимаешь, войти в его положение.
— Эх, Лутфулла, Лутфулла, это я-то не вхожу ли в твое положение... — задрожала губами тетушка Тауфика. — По всей стране мотаюсь за тобой, как нитка за иголкой, и времена-то какие трудные были...
Лутфулла-абзый понял, что хватил лишку, и жена на него может сейчас не на шутку разобидеться, — сдержал готовое вырваться слово, прикусил язык. А и нелегко же молчать в этакие моменты, это, брат, тоже особое умение требуется!
В дверь громко постучались. Тетушка Тауфика кинулась открывать, и, услышав чуть погодя знакомый хрипловатый и округлый голос, старый мастер тоже поспешил в прихожую.
Там с громадным, из синей плотной бумаги свертком в руках стоял, улыбаясь во весь рот, по-праздничному разодетый Митрофан Апанасович Зозуля. Увидев мастера, он заулыбался еще шире, хотя казалось, что это уже положительно невозможно.
— Добрый вечор, уста-Лутфулла! От всего сердца поздравляю с новоселием! Хозяйка! Брось, пожалуйста, в угол от этот сверток, — тяжелый оказался, все руки оттягал. Шо вона такэ? Да бухарский ковер вам на стенку, в подарок, ей-богу! Купив как-то, думав, сгодится, — мабуть, жинка нагрянет, чого же не приобресть? А оно трошки раньше пригодилось, от добре! Ну, як вы туточки поустроились? Места, мабуть, мало? Ого, добре, добре, яки богаты хоромы — я вам кажу, то же взаправдашний стадион... — Митрофан Апанасович, не умолкая ни на секунду, пошел в комнату, за ним зашагали растроганная в смущенье и благодарности тетушка Тауфика и совсем растерявшийся Лутфулла-абзый.
— Ай, спасибо, Митрофан Апанасович, уважили. Да зачем же вы, родненький, в такие траты вошли? А, спасибо огромное, ай, уважили...
Ошеломленный поначалу обилием шумных и горячих восклицаний, Лутфулла-абзый не вытерпел, свирепо мотнув на жену головой, остановился и почти сурово протянул к Зозуле руку:
— Митрофан Апанасович! Со скважиной как?
Однако большой любитель поговорить Митрофан Апанасович на этот раз выкладывать все сразу явно не торопился, умел он быть когда надо и редкостно терпеливым.
— Ты, уста-Лутфулла, поперед батьки в пекло не лезь, як настанет время, мы с тобой и о скважине побалакаем, — сказал он, хитро блеснув глазами и многозначительно подняв толстый палец.
Тетушка Тауфика нажарила им на керосинке картошки, заварила крепкий чай, — мужики расставили в пустой комнате стол и стулья, сели, по случаю новоселья хватили слегка водочки. И Митрофан Апанасович наконец, обстоятельно и неторопливо разгладив пышные усы, повел рассказ о делах на буровой. Лицо при этом оставалось совершенно невозмутимым; от долгого пребывания на морозном воздухе желтоватая кожа щек зарумянилась, у глаз будто даже разгладились мелкие морщинки, но понять по нему, закончились ли работы благополучно или же буровая осталась лежать грудой обломков, было абсолютно невозможно. Он очень долго и подробно описывал ход тампонажных работ, старание и грамотные действия джигитов из вахты Карима Тимбикова, с удовольствием вспоминал, как в открытую хохотали они над тампонажниками, не ожидавшими увидеть на буровой самого директора конторы и ходившими перед ним на задних лапках. И только потом, уставясь на рыжие, подрагивающие от волнения усы старого мастера — тот с огромной тревогой и с огромным же облегчением ловил каждое слово Зозули, — весело и отчетливо сказал:
— Закончили буровую, уста-Лутфулла! Обсадные трубы[20] совершенно герметичны — нет сомнения! Когда поставили на «стоп» — стрелка манометра свечкой застыла на цифре «100». Дня через три вспыхнет первый факел, зажженный тобой на земле Калимата!
Взволнованный столь приятной новостью Дияров оглушительно крякнул и расцвел:
— Гэй, старая! Там у меня в этом, как его... эта... Ну, сама знаешь, э-гм... Так ты давай-ка ее сюда немедля! Сейчас мы ее уговорим тут во вздравие новой скважины, долгие ей, голубушке, лета!
А у Митрофана Апанасовича оказалось к Лутфулле Диярову еще одно «небольшое», по его словам, дельце, но раскрылся он только перед самым уходом, уже одевшись и стоя в прихожей.
— Лутфулла Диярыч, голуба, трошки не запамятовал, послухай-ка... Мы ведь того: порешили взять от тебя твоего профессора бурения. Догадался, о ком я гуторю? Хочем поднять Карима Тимбикова до мастера, я и кажу всем, о! Диярыч не против!
Лутфулла-абзый застыл у двери с шапкою в руках. С самого утра чуял он нюхом: неспроста ходит Зозуля вокруг него и буровой, но не мог и предполагать, конечно, такого серьезного оборота.
— Чего уж тут. Вы — начальники, мы — молчальники, — сказал он, тяжело вздохнув. — Забирайте. И приказом отняли б — так ведь ничего не поделаешь, а когда по-хорошему, вроде даже и посоветоваться пришел, как уж не отдать...
— А если б, Диярыч, уместе с Каримом и вахту его ты отпустив — ах! Добре вышло бы для новой бригады.
Рыжие брови мастера в крайнем удивлении прыгнули вверх:
— Да вы что?! С ума спятили? Ведь это ж грабеж среди бела дня! И как это у вас интересно получается: я, значит, с зелеными должен оставаться, с ученичками?.. Ах, люди — дай им с ноготок, запросят не то что с локоток, штаны последние скинь да подай...
Митрофан Апанасович и глазом не моргнул — выслушал все это с улыбкою, будто так оно и полагается разговаривать с начальством. Да какой же мастер сразу будет согласный лишиться заведомо лучшего бурильщика, да еще вдобавок со всею его вахтою? Нету таких мастеров! Но у Митрофана Апанасовича Зозули и словарного и терпеливого запаса на любого мастера хватало:
— Ты, голубка, не кипятись и не сомневайся: контора твое положение знае. Хиба ж мы тэбэ нэ поможем? Я тэбэ то кажу не як дирехтор, а як такий же буровик. А потом, бачу я, Диярыч, не такой ты чоловик, щоб тэбэ трэба була наша подмога — через пару-другую мисяцев твои зеленые хлопчики всем носы поутирают. Дав тоби бог багату душу — дай тоби бог добре здравие!
— Ну и хитрый же ты хохол, так тебя разэдак! — сощурил глаза, а потом и захохотал Лутфулла-абзый. — Не только меня, слабого, камень и тот разжалобишь, ей-богу!
Впервые за этот вечер захохотал и Зозуля — оглушительно и самозабвенно, и отрадный их хохот прозвучал в этой новой, просторной еще без мебели квартире удивительно свежо и к месту.
5
Остановись у решетчатой железобетонной ограды, Арслан какое-то время колебался в своем решении. Наверное, у каждого бывают такие минуты, когда на крутых жизненных виражах овладевают человеком чувства неизвестности и даже одиночества; вот и Арслан застыл у каменного холодного забора в мгновенном и мучительном раздумье.
Во дворе конторы валялись какие-то железяки, стояли в деревянных неплотных ящиках станки — картина эта напомнила вдруг Арслану родной завод, и он уже решительно прошел в ворота. Шагая же по двору, неосознанно наклонился и, зачерпнув из сугроба пригоршню снега, принялся зачем-то вытирать им руки. В следующую минуту он растерянно стоял и смотрел на свои ладони, вымазанные коричневым, бархатным на ощупь маслом. «Нефть!» — взволновала его радостная и обнадеживающая мысль, и в этом радостном волнении он вошел в кабинет парторга Курбанова.
В кабинете, навалившись всем туловищем на широкий, оклеенный дерматином стол, писал что-то парторг конторы бурения Курбанов. Услышав требовательный голос вошедшего, он поднял голову, секунду помолчав, сказал: «Можно!» и продолжил свое занятие.
Арслан пригладил свалявшиеся под шапкою волосы, огляделся, подойдя к столу, удивленно подумал, где же он видел этого человека.
Парторг тем временем закончил писать, вложил бумагу в конверт, заклеил его и только тогда, выпрямившись, в упор взглянул на Арслана.
— В чем дело, братец?
— Сесть разрешается?
«Ах, шельмец, ловко подметил!» — именно с таким выражением Курбанов ухмыльнулся уголком рта, откинул свесившуюся на лоб с заметной сединою прядку волос и уже серьезно спросил:
— Ну, так какое у вас ко мне дело, товарищ?
Арслан, не отвечая, еще раз пристальнее оглядел Курбанова, заметил вдруг лежащую на краю стола кривую трубку и тут же вспомнил: этот самый курильщик ехал тогда в застрявшей в грязи «Победе». Парторг ждал ответа, свободно откинувшись на спинку кресла, но долго так усидеть не смог: когда под усаживающимся Арсланом пронзительно и жалко заскрипел стул, он резко подался вперед и с нескрываемым интересом спросил:
— Ты, что ли, машину вытолкнул?
— Я.
— Давай тогда, говори.
— Работу мне надо.
— Какую работу?
— Буровиком хочу стать, товарищ парторг.
— Специальность?
— Слесарь.
— А стаж?
— Да с окончания войны.
— И на войне был?
— Партизан, снайпер.
— Ого! — взгляд Курбанова просветлел, и в голосе его засквозило уважение. Он долго расспрашивал, в каких местах приходилось Арслану партизанить, под чьим командованием, затем, вздыхая, вспоминал и свои фронтовые годы, набил трубку табаком, умял его желтым прокуренным пальцем, поджег и, затянувшись, сильно закашлялся.
Внимательно наблюдавший за его движениями Арслан удивленно спросил:
— Что ж вы трубку-то курите? Крепко, горько... Вон и кашляете тоже!
Курбанов некоторое время молчал, лишь отдышавшись и в другой раз в полную силу сделав затяжку, выпустил облако дыма, тепло и задумчиво, словно беседуя с ближайшим другом, ответил:
— Лежал я после ранения с одним русским солдатом, понятно, в госпитале. У него страшная рана была, в живот, разрывной пулей, словом, все внутренности разворочены ужасно. Все просил набить ему трубку. Сам-то, конечно, вставать уже не мог, куда там...
Он опять замолчал. Повернувшись к окну, глядел, как с надрывным воем поднимается по крутому склону напротив конторы груженая машина: вспоминал, видно, тот далекий фронтовой госпиталь...
— Та самая трубка? — тихо спросил его Арслан.
— Та самая... — тоже тихо ответил Курбанов и потер ладонями лицо, будто отгоняя печально нахлынувшие воспоминания. Когда же отнял ладони, вид его неожиданно стал отчужденным, даже официальным; он сухо спросил: — Почему обратились прямо ко мне? Почему не к директору или в отдел кадров?
После, казалось бы, задушевного разговора и дорогих обоим воспоминаний подобный переход к официальному и бездушному тону настолько покоробил Арслана, что он, не скрывая своих чувств и попросту не умея этого, поднялся со стула.
— Мне надо быстро. А в отделе кадров всякая волокита — это надолго.
Лицо Курбанова вновь обрело прежнее, простое и приветливое выражение.
— Кхм. Интересно... — хмыкнул он весело, встал и пружинящими шагами подошел к двери. Открыв ее, кого-то окликнул — из коридора донеслось постукивание высоких каблучков, и в комнату, улыбаясь, вспорхнула стриженная под мальчика девушка лет восемнадцати, весьма модная, в очень узкой, выявляющей всю стройную линию бедер темной юбке.
— Вот что, милая, нужен мне непременно Карим Тимбиков. Он, должно быть, в кабинете главного инженера, так уж ты, будь добра, пригласи его сюда, пожалуйста.
Девушка с интересом взглянула на Арслана, покачивая бедрами и мелко, словно стреноженная лошадь, перебирая ногами, удалилась из кабинета.
А у Арслана при упоминании имени Тимбикова к лицу горячей волною прихлынула кровь. В ожидании встречи он быстро отошел к окну, радуясь, что есть время прийти в себя и укрепить дрогнувшую было душу, перевел дыхание и сосредоточенно посмотрел на Курбанова; стал спокойно ждать Карима.
Дверь резко распахнулась и столь же резко закрылась — в кожаной с замочками куртке, поблескивая великолепно начищенными офицерскими сапогами, в комнате стоял Карим. Четкими звонкими шагами двинулся он к парторгу, ни одним мускулом лица не выдав, что заметил присутствие Арслана.
Курбанов то ли действительно не заметил его парадно-торжественной подтянутости, то ли, заметив, нарочно сделал непонятливый вид, но только, обратись к Тимбикову с самыми обыденными и сугубо штатскими словами, пустил насмарку весь армейский лоск свежеиспеченного мастера.
— Вот тебе, брат Карим, новенький буровик. Как говорится, на ловца и зверь бежит, м-да. Знакомься, пожалуйста. Потолкуй. Проводи к директору,
— Мы знакомы, Назип-абый.
— Односельчане, — поправил его Арслан.
Карим развернулся к молодому Губайдуллину и, словно продолжая свою игру в торжественный парад, не приближаясь к Арслану, командирским жестом протянул было руку, но, заметив у того в прищуренных глазах недобрые огоньки, чуть поувял; ноздри его горбатого ястребиного носа явственно раздулись.
— Здравствуй, Арслан. А ты изменился.
— Здравствуйте. Времени много прошло.
Стиснули друг другу руки, и Арслан заметил, что Карим примерно одного с ним роста, так же широк в плечах, но все же, видимо, гораздо слабее; выдерживая холодное, вполсилы пожатие Арслана, он вздрогнул и побагровел, однако не поддался, на сухощавом со впалыми щеками лице его вздулись и опали мышцы — что ж, испытание силы было еще впереди.
— Пошли к директору! — запальчиво и дружелюбно в одно и то же время проговорил Тимбиков. Арслан, попрощавшись с парторгом, зашагал за ним.
6
— Судьба бригады, хлопец, в твоих руках. За рабочих своих, за их думы, за учебу, за молодецкую жизнь — только ты теперь в ответе. Чуешь? Подымешь ли, не сдрейфишь? — вопрошал Карима директор конторы Митрофан Зозуля.
Карим отвечал не задумываясь, твердо и решительно. Верил он в себя, был далеко не из робкого десятка. Но немало сил ему пришлось отдать, прежде чем сколотил он свою духом молодую и смелую бригаду: подыщет Карим человека — контора его не оформляет; подыщет контора — Кариму тот человек вот как не по душе! А время не ждет, идет своим неумолимым ходом.
Ветер, прилетающий с юга, теперь пахнет оттепелью и солнцем. За степным Заем горы Загфыран пошли пятнами, напоминая спецовки каменщиков, строящих новый город Калимат; по городским улицам к Заю с шумом побежали талые ручейки. В тихие, еще студеные утра собравшиеся на площадь автовокзала в хрустких куртках, но уже без телогреек буровики, наблюдая за белесыми, всплывающими с речных низин клубами тумана, неторопливо беседовали о трудностях бездорожья и, поглядывая на лысые, желтеющие прошлогодней травой верхушки гор, вздыхали и озабоченно, и радостно.
В такую вот обновляющуюся пору, когда небеса, очистясь от зимней серости, вздымались уже высоко и сине, когда живой мир, просыпаясь от зимней спячки, щебетал, звенел, порыкивал предвкушающе и возбужденно, наконец полностью была сформирована бригада Карима Тимбикова.
Девятого апреля в восемь ноль-ноль утра новая бригада приступила к работе. На первую вахту встали самые надежные джигиты — те, кто трудился вместе с Каримом еще у мастера Лутфуллы Диярова. Но теперь каждый из них повышен в должности на одну ступень: бурильщика Карима заменил его помощник Джамиль Черный, Джамиля в свою очередь его собственный помощник, проворный Айбеков. Лишь буррабочий Каюм, уважаемый всеми за сноровку и безотказность, пожелал, согласуясь со своим большим стажем, остаться на прежнем месте. Оптимист и радостно находчивый человек, Борис Любимов, кладезь нескончаемых анекдотов, душа бригады, был поставлен во вторую вахту бурильщиком, чтобы сплотил он вокруг себя зеленых учеников, не дал им закиснуть и охладеть к нефтяному делу. На его место в первую вахту взяли верховым новенького — Арслана Губайдуллина. Конечно, до сих пор все новички свои первоначальные неумелые шаги проходили в должности буррабочего, но у Карима свой взгляд на вещи: во-первых, Арслан со средним образованием, во-вторых — закаленный фронтовик, а в-третьих — односельчанин, может быть, в будущем опора и подмога нового мастера. И он решил испытать Губайдуллина на прочность не на твердой земле, в роли несамостоятельного чернорабочего, но в самом гнезде ветров, где от смелости и выдержки человека зависит очень многое. Решение это было обдуманным риском — но сам Карим в успехе его ни на минуту не сомневался.
«Старички», все поголовно начинавшие свой труд на нефти с учеников, в первый момент, узнав, что верховым у них будет Арслан, даже как-то притихли. И не из опасения за себя, тем более не из зависти, нет! Объяснялось это глубоким волнением за новичка: а не промахнулся ли Карим, не сбежит ли однажды с буровой этот рослый и спокойный с виду парень, покрыв позором и себя, и бригаду? Не оплошает ли там наверху, где от неверного движения может оборваться не только начатое дело, но и жизнь человека? И когда Арслан по крутой лестнице в первый раз полез на вышку, вся вахта затаив дыхание наблюдала за ним снизу.
«Только бы не остановился. Взглянет вниз — обязательно струсит!» — мысль эта взволновала вдруг и твердо уверенного в себе и в Арслане Тимбикова. Но Арслан, не ведая о переживаниях бригады, на третьем пролете остановился и, перегибаясь через шаткие перила, взглянул на оставшихся внизу товарищей... Буровики безмолвно переглянулись, вздохнули. «Сейчас поползет обратно. Эх!» А Губайдуллин чуть помедлил и так же спокойно продолжал подниматься по ступенькам, добравшись до «гнезда» верхового, еще раз с любопытством глянул вниз, заметил там, далеко, словно на дне колодца, угрожающее железо станков и переплетенных труб, вздрогнул невольно и, усмехаясь, помахал рукой.
С земли, отняв приставленные к глазам брезентовые рукавицы, буровики с радостью и облегчением махали ему в ответ: одобряли первые и столь решительные шаги новичка.
Карим, быстро карабкающийся к нему наверх, не удержался и весело заорал: «Молодец!» Обычно люди, впервые поднимаясь на вышку, чувствуют себя очень неуверенно, и то, что Арслан был спокоен и смел, порадовало всех необыкновенно. Карим же, добравшись до него, поразился еще более: новичок выглядел совершенно невозмутимым, на лице его не было ни малейшего волнения, держал он себя свободно и раскованно. Самому же Арслану эта видимая свобода движений стоила, однако, недюжинных усилий воли...
Карим объяснил ему, как следует захватывать свинченные в «свечу» трубы, как передавать их работающим внизу буровикам, сам показал весь этот несложный, не требующий большой сноровки процесс.
— Понял? — спросил он наконец, взглядывая на Арслана.
— Понял, — спокойно ответил Арслан.
— Сумеешь?
— Как будто сумею.
Но когда дошло до дела, Арслан таки не сумел. Никак не удавалось ему зацепить трубу: аркан он швырял то слишком сильно, то чересчур мягко, и труба упорно выскальзывала. Карим показал еще раз — Арслан выслушал, посмотрел и вновь у него не получилось. Тьфу! Потерявший терпение Карим вспылил, обругал его бестолочью и, багровея, принялся объяснять с самого начала. Арслан слушал его внимательно и спокойно, с удивлением даже посматривая на засуетившегося от гнева Карима. И тот вдруг устыдился своего бессильного раздражения, напрасного и как раз бестолкового крика — принялся объяснять доходчиво-разумно, детально прошел с учеником весь цикл движений и работ, после этого предложил попробовать Арслану.
И в третий раз у Губайдуллина не получилось так, как требовал мастер, и вновь Карим поразился его выдержке и упорству. Он не отрываясь глядел в красивое, смуглое, от напряжения покрывшееся капельками пота лицо Губайдуллина и с восхищением думал, что этот невозмутимый парень, пожалуй, и тысячу раз не сумев выполнить требуемое, в тысячу первый вот так же спокойно возьмется за дело и все-таки добьется своего. А ты, коли стал мастером, учи да и сам учись: терпению и хладнокровию, умению обуздать свой неистовый характер — а иначе какой же ты пример для своей бригады...
В какой-то момент Арслан вдруг постиг хитрость нового дела: легко, словно на цирковом представлении, взлетел аркан; труба, покачиваясь, пошла в нужную сторону — и Карим в избытке чувств чуть не расцеловал нового верхового.
...Прошли первые волнующие минуты, и вахта работала уже размеренно и бесперебойно, когда Карим, чувствуя, что бесконечно устал, вышел на мостики и вздохнул наконец облегченно и свободно. По залитой потом спине, оставляя за собою крупную дрожь, скользнул весенний прохладный ветерок; раскачивались под его дуновением голые, но упругие деревья, буровая гудела приглушенно-мощно. Карим еще раз подумал о том, что быть мастером — это, конечно, куда как более хлопотно и нелегко, нежели просто бурильщиком, удивился своей мысли, сплюнул, закрывая ладонями трепетный огонек спички, закурил папиросу...
Вахта в этот день пробурила вдвое меньше обычной нормы. А ведь Карим прекрасно знал, что сверху породы не такие крепкие, и, следовательно, скорость бурения должна быть в первые дни самой высокой. Но пробуренных метров от этого не прибавилось, было их очень мало, меньше даже половины прежней выработки, и увеличить темпы никоим образом не удавалось.
Сдержанно проводив первую вахту, Карим встретил вторую. Усталые буровики уехали по домам — к горячим обедам, к крепчайшему черному с золотом чаю, к женам и мягким постелям... Эх! А он — уставший гораздо более их, переживший за эти часы гораздо более их — остается на буровой; собственно, так и должно быть: ведь он мастер... Остается, чтобы возиться опять с новой вахтой, выправлять их непременные недоделки, трепать до чертиков нервы, работать без сна и отдыха, до изнеможения, до потери сознания!
Когда приехала третья вахта, усталость его уже дошла до предела — он валился с ног, и каждое движение доставалось ему с неимоверными усилиями воли. Пошатываясь, сбросив спецовку, умылся холодной водой и тогда вдруг вспомнил, что за все сутки не перекусил даже хлеба. Это же здорово! Значит, если чего-нибудь поесть, он еще сможет работать! Поспешно отыскал свою сумку, достал оттуда засохший кусок хлеба и полкруга полукопченой колбасы. Съел. И отяжелел окончательно; смертельно захотелось спать, в теле гудело уже тяжелое полузабытье... нет, поддаваться не смей! Нельзя, нельзя. Ты же мастер, тебе доверили судьбы людей... людей... нельзя, ах черт! На веки словно гири навесили... мастер,..
А ведь чуть не заснул, зараза! Ладно, зазвонил телефон — напугал, разбудил; Карим торопливо схватил трубку, поднес к уху, откуда-то, будто очень издалека, донесся голос Митрофана Апанасовича и тут же пропал.
В телефонной трубке переговаривались, взбарматывали чьи-то голоса, позвякивало, попискивало, долетала чуть слышная музыка — эти звуки говорили о том, что мир, в котором живут и они, буровики, существует и вечно бодрствует; эти звуки связывали отстоявшую за сорок километров от города, затерянную в глухом лесу буровую со страной.
— Алло, кто у телефона? — спросил через некоторое время директорский голос, был он теперь отчетлив и громок.
— Я это, Митрофан Апанасович!
— Мастер Тимбиков, ты?
— Я самый!
— Шо, уже успев прибыть?
— Я, Митрофан Апанасович, еще и не уезжал.
— Га? Не уезжав? Да ты що; ты ж, наверное, устав, як черт? Ну, як там у вас дела?
— Отлично, товарищ директор!
— О, то добре! Мабуть, подмога вам потребуется, ты тилько звякни — все будет.
— Спасибо, Митрофан Апанасович. Пока все нормально, сами справляемся. Не нужно помощи!
Положив трубку, Карим выглянул в окно, посмотрел на буровиков, готовых встать на вахту, и улыбнулся. А все-таки он не один, и великое дело знать, что о тебе постоянно беспокоятся! И только что во всеуслышание его назвали мастером. Мастер... Товарищ мастер! А разве не как мастер рапортовал он начальству? Ого-го!
Мысли эти облегчили и окрылили его душу; поборов сон и усталость, вновь вышел Карим на буровую, и вновь очередная вахта услышала его звенящую и радостную команду...
Первую неделю Карим все же не мог еще свыкнуться до конца со своим новым положением. Безвылазно торчал на буровой, дневал там и ночевал — еду ему привозили сменяющиеся вахты, он же черкал Мунэвере коротенькие, из двух-трех слов, записки. За это время почернел, похудел, оброс жесткой густой щетиной. И только в конце недели, крепко поругавшись по этому поводу с Джамилем Черным да получив нагоняй от самого директора конторы, Карим наконец собрался домой. Ехал он в крайнем раздражении и беспокойстве, с одинокой сверлящей мыслью в голове: не дай бог — испортят скважину, не дай бог — случится какая поломка...
Мунэвера, увидев из окошка возвращающегося мужа, выбежала на крыльцо, и Карим при встрече заметил, как задрожали у нее ресницы, как из больших глаз жены плеснулись жалость, испуг — за него, осунувшегося и смертельно усталого. В последнее время Карим почти не вспоминал о ней, и, прочтя в глазах Мунэверы столь сильное и даже неожиданное для него чувство, он вдруг ощутил, как разом потеплело у него на душе и будто отодвинулись, растаяли на миг беспокойство и раздражение, — захотелось обнять милую жену крепко-крепко и ласково прижать— к груди и поцеловать. Но никогда прежде не бывал он с нею особенно нежным; теперь она могла принять его ласку за притворство, и эта мысль удержала его от порыва.
Мунэвера накрыла стол в красном углу, постелила белую праздничную скатерть, и когда Карим, умытый и чисто выбритый, улыбаясь и ласково взглядывая на жену, уселся обедать, перед ним дымился вкуснейший куриный бульон, за который он и принялся с великолепным аппетитом. Мунэвера же не отходила от него ни на минуту, на щеках ее разливался смутный, довольный румянец, во взгляде сквозила еле уловимая грусть, не назойливая материнская забота, а может, и проснувшаяся незаметно любовь...
Карим сразу приметил, что дом убран с особенной тщательностью, будто к большому празднику, и на самой Мунэвере новое платье, яркая, прозрачная косынка, красивые бусы. Ему даже показалось, что жена без него как-то помолодела, стала еще красивее и свежее. Сдерживая нахлынувшее чувство, он спокойно расспрашивал ее о детишках, о свояченице Сеиде, сетовал на неважное здоровье ее матери, но вновь ему почудилось, что Мунэвера небывало ласкова сегодня и привлекательна, — у Карима задрожали ноздри тонкого носа, затуманились глаза, и, резко поднявшись из-за стола, он схватил в свои пропахшие мазутом, шершавые ручищи маленькие, розовые ладони Мунэверы и прижал их к лицу. Потом привлек к себе часто задышавшую жену, легко поднял ее и стал целовать...
Мунэвера со сползшей на плечи косынкою собирала мужу еду и складывала в полевую сумку; растерянно и робко подняв на Карима глаза, спрашивала:
— Приедешь завтра? На сколько дней класть, на один?
— Ну, что ты — раньше чем через неделю никак не вырваться... Разве оставишь их там одних? Зеленые еще, не понимают. Арслан там один, Губайдуллин, — может, знаешь, сын того самого Шавали? — так пока его хоть немного обучил, думал, совсем рехнусь. Не понимает, и все тут! Ну, потом-таки уразумел: парень-то он, что ни говори, толковый...
Пальцы у Мунэверы дрожали, она никак не могла застегнуть сумку — Карим, увидев, отобрал, застегнул сам, внимательно взглянул на жену и молча вышел из дому.
Мунэвера долго, пока муж не скрылся из виду, стояла на крыльце.
Войдя в избу, она прошла к окошку, села и стала смотреть на улицу. Напротив окна холодный ветер раскачивал ветки молодого тополя с набухшими, клейкими почками. «Потеплеет — и непременно откроются, — подумалось ей, — не было пока настоящего тепла, оттого и не распускаются».
Долго сидела она у окна, подставив руки под нежаркие лучи солнца, и душа ее волновалась, и стремилась, и мучилась: приехал Арслан... Но сегодня впервые за шесть лет Карим, муж, приласкал ее нежно и жарко, и сразу же забылись они — шесть лет мучительного ожидания настоящей любви, тоскливые минуты душевного одиночества и томления.
7
И вовсе напрасно горевал старый Шавали о своем отбившемся от рук старшем сыне. У Арслана и домовитости, и старания оказалось — ого, сколько! Не прошло и двух недель после его возвращения в родимую отцовскую избу, а глянь-ка — все какие ни на есть чурбаки на дворе переколол, все сучковатые пни да комелищи; почитай, лет десять они там валялись, не мог с ними справиться старый Шавали. И навес мигом починил, а в избе-то какую хитрую штуку удумал: поставил перегородочку да отгородил себе распрекрасную для своих занятий комнатенку, все больше сидит там читает, конечно, чего-то пишет — ну, ему видней.
Крепко радовался Шавали-абзый, что сын у него, выходит, человек работящий, старательный, а главное, безо всякой непочтительной скандальности в характере. И однажды, проснувшись среди ночи, он ощутил в себе сильный прилив отцовской гордости и, растолкав жену, сказал ей неожиданно грозным голосом:
— Ты, старая, прочисть ухи и заруби себе на носу: Арслангали у меня не обижать! На, понюхай, чтобы крепче запомнилось, — и он поднес к носу тупо помаргивающей со сна старухе большой костлявый кулак. — Едет он, к примеру, на вахту, так ты должна сунуть ему кусок посытнее, чтоб в нем, по-ученому ежели сказать, килориев было достаточно — не менее, к примеру, чем один килорий, а может, и два. А то намедни шел мимо столба, на котором радиво висит, так там сказывали: кушать рабочему надобно с умом, чтобы, значит, было в продукте больше килориев. Эта правильно, только более двух-то все равно не слопать — можно аткровенно и просто получить заворот кишок, это я в другой раз по радиво, же и слышал. Но ты того не запоминай, иначе дорого не возьмешь и голодным его оставлять приноровишься — мне ли тебя не знать! Нету тебе никакого моего доверия. Вяленого гуся — он лежит пока нетронутый в чулане — расходуй только на Арслангали. Единолично, и без прихлебателей. Говорят, кормленая скотина быстрее к дому привыкает...
— Арслан у меня не один, слава богу, детьми бог не обидел, — не выдержала старуха.
— Марзии да Габдулхаю землю не буровить, и ты мне не перечь. Небось не усохнут — хлеба да картошки на них хватит, а Арслангали...
— А то и без тебя не знаю, эк задолдонил! Заботушки у тебя другой нету, как в бабьи дела соваться, нудит и нудит, что днем, что ночью, тьфу!
— Эт-та ты меня еще учить будешь? Гляньте-ка, добрые люди, на эту дурью башку, лежит и мужа уму-разуму учит! Али на язычок востра стала? Так я тебе его быстро своей рукой затуплю! — взъярился Шавали-абзый. — Сказано тебе, так слухай и запоминай. Да делай, как велено, а язычок-то прикуси, брехливая шалаболка!
Страсть как не любила тетка Магиша оставаться в долгу, но язычок таки прикусила — примерещился вдруг в темноте грозный мужнин кулак, мелькавший над ее головою в день похорон старой Юзликай, — и она вздрогнула и смолчала. Однако, чтобы старик не подумал, будто она с ним вполне согласная и покорная жена, отодвинулась и повернулась лицом к стенке.
«Больно ты мне нужна, старая кляча! — подумал ото всего сердца Шавали-абзый. — Без твоих-то костей куда как слаще спать». И, утешаясь этой мыслью, он вскоре, густо всхрапывая, заснул.
Часа не проходило у стариков без ссоры, лаялись даже ночью, перечили друг дружке отчаянно и по-детски бестолково, но все же была у них одна общая, прочно примирявшая их забота. Не давала им ни сна ни покою тревожная мысль: как же распорядится Арслан своим первым заработком? Принесет ли домой, отдаст ли часть старикам, а может, сам, по своему разуменью и истратит всё? И когда приблизился вплотную день получки, они явно приутихли, присмирели и даже друг к другу стали относиться с некоторой уважительностью и почтением.
Все полученные в конторе деньги — довольно приличную, заклеенную крест-накрест пачку — Арслан, не распаковывая, вручил отцу. Лишившийся поначалу дара речи Шавали-абзый решил на благое дело ответить столь же благим: тайком от жены быстренько притащил из магазина поллитровочку и спрятал ее до поры до времени куда-то в свой домашний тайник. Вечером он заставил жену сварить из жирной свежей баранины, добытой им путем каких-то махинаций у одного из соседей, наваристый мясной суп, сам же хлопотал над разными, своего приготовленья закусками, причем делал это столь увлеченно и самозабвенно, что тетку Магишу вдруг прошибло сомненье: уж не тронулся ли умом старый козел, чего это он так носится вкруг стола, чисто ошпаренный?
Когда вся семья наконец уселась за стол, Шавали с подмигиваньями и ухмылками, покачивая головой и поводя руками, полез в свой тайник, радостно, будто поймав жар-птицу, крякнул и выставил на середину заветные пол-литра. На этом, однако, он еще не угомонился и, словно желая продлить счастливые минуты, долго и тщательно разливал водку по стаканам, щурился, поднимал их на уровень глаз и просматривал на свет, щелкал языком, доливал то в один, то в другой по капле — словом, был точно аптекарь из плохой комедии. И только убедившись окончательно, что разлито прямо-таки безупречно, он торжественно пододвинул один стакан сыну и любовно объял широкой ладонью другой.
Арслан пить отказался.
Удивление и обида Шавали-абзый были столь велики, что он на какое-то время задохнулся и молчал, выпучив глаза и пошевеливая взбухшими на морщинистой шее, толстыми, с кнутовище, голубыми узлами. Потом усилием воли взяв себя в руки, он заговорил, принужденно потчуя сына, уговаривал, напоминал, что ему, сыну, оставаться за старшего в доме — стесняться отца давно уже не следует, — мучительно при этом путался и, запутавшись, вконец расстроился. Попытался было грозно взглянуть на сына, но словно мороз пробрал старика по коже: с такой всепонимающей улыбочкою слушал его Арслангали. А ведь знаю, мол, дорогой батюшка, отчего ты эдак соловьем-то разливаешься. Не принеси я домой всех денег, так ли ты бы передо мной расстилался, а?
С того самого дня эта насмешливая улыбка преследовала упавшего духом старика и днем и ночью, лишала его покоя, и, вспоминая ее, унижался он чуть ли не ежечасно. Из кожи лез теперь Шавали-абзый, пытаясь угодить сыну, впрочем, в мелочах, конечно, но Арслан мигом улавливал истинное его намерение и выслушивал терпеливо, лишь улыбался; от улыбки его старик впадал в мрачнейшее настроение и целый день не находил себе покоя.
Где-то через неделю после получки Арслан попросил у отца сто рублей, объяснив это тем, что ему надобно купить много книг. Старику же показалось совершенной глупостью тратить подобные деньги на какие-то никому не нужные книги, и прежде чем раскошелиться, он привел сыну нескончаемое число примеров, как самые уважаемые на нефтяном деле мастера безо всякой книжной чепухи видят землю, можно сказать, насквозь и буровят ее тютелька в тютельку, а уж ежели не терпится почитать, глаза попортить — так ступай, за-ради бога, в библиотеку, там же их огромнейшие кучи, всей деревне на растопку хватит; потом ему вспомнилось, что вот сын Тимбика небось книжек не почитывает, а денежки гребет лопатой, да тьфу ты! Куда же это кошелек-то запропастился? И старик сумрачно рылся в карманах и среди вещей — кошелек таки не находился. Арслан, как обычно, слушал отца с улыбкою, наблюдал за его чрезвычайно толковыми, в обход требуемого, поисками и, не вступая в пререкания, ушел из дому.
Вечером он принес домой целую стопку книг и сказал старику со всей возможной в голосе приветливостью:
— Папа, вот здесь квитанция, так ты уж будь ласков, пошли в книжный магазин Габдулхая либо Марзию. Да не забудь, пожалуйста, дать им денег для уплаты, всего — девяносто два рубля семьдесят четыре копейки. Продавец просил занести как можно скорее, ладно?
У старика Шавали аж слезы на глаза навернулись от такого оборота.
— Да на кой тебе хрен столько книг, господи боже мой. Что ж ты, сукин сын, издеваешься надо мной на старости-то лет?
— А невозможно мне, отец, не читать, — терпеливо объяснился Арслан. — Ты что же, не знаешь? Книга — кладезь знаний!..
В другой раз, поднявшись на чердак, спустился он оттуда в новеньких отцовских сапогах. Увидев на ногах сына эти неношеные, два года уже висевшие на чердаке мужнины сапоги, тетка Магиша чуть не хлопнулась в обморок:
— Бог с тобой, сынок, скинь сейчас же, не бери греха на душу. Ох, ох, ох! Убьет меня старый, ежели увидит. Уж как он их бережет, почитай, кажную неделю деготьком мажет, лазает туда, все проверяет. Ох, убьет!Скинь-ка, пожалей мать-то!
— Не убьет. А будут еще висеть — непременно сгниют, — ответил Арслан и засмеялся. — Разве ж дегтем отстоишь гнилую вещь? Будет ругаться — вали на меня! — И, уже выходя из двери, добавил: — В кармане у меня деньги лежат. В куртке. Так вы их возьмите...
Похоже было, что и на новом месте, на новой работе Арслан отнюдь не изменил своим привычкам. Как и прежде, был он сосредоточен, сдержан, много и со смыслом читал, а скроенные по устарелой мерке претензии отца отвергал решительно и без труда — терпеливо, доводами умными и доходчивыми. Но чувствовал он себя на новой работе не совсем обычно, будто накапливалось в его душе что-то небывало сильное, новое, словно сжималась там невидимая людям тугая и прочная пружина.
Если человек долгое время ночует в закрытом помещении, в душной либо затхлой комнате, а потом перейдет вдруг спать на свежий воздух, сон его непременно расстроится, и уснуть ему не удастся из-за мучительного переизбытка кислорода. Именно подобное состояние испытывал в первые свои дни на буровой немало этим пораженный Арслан. Привыкший ежедневно по восемь часов проводить в заводском цеху, хоть и под стеклянной, но все же крышей, где воздух, откровенно говоря, далеко не свеж, Арслан, попав в верховые, работал теперь под открытым небом, точнее, даже в поднебесье, где воздух почти осязаемо плотен и крепок, как спирт, дышать им, конечно, было непривычно и нелегко. Как гость страдает порою от излишнего хлебосольства хозяев, так и Арслан страдал поначалу от этого пьянящего, почти до физической боли распирающего грудь воздуха. Но длилось это примерно с неделю, потом в теле вдруг появилась необычайная легкость, открылся прямо-таки устрашающий аппетит, и мускулы налились тугой, звенящей силой. Арслан ощущал теперь свою мощь почти как беспредельную, — казалось, смог бы он при желании схватиться и одолеть любое могучее создание природы. Утомлявшая его на первых порах работа сейчас представлялась ему чем-то вроде детской игры — так шутя выполнял он ее. И часто, приняв или передав все «свечи», сбегал он вниз и, не ожидая понуканья, подолгу, безостановочно и яростно, крутил тяжелую в ходу, заедающую глиномешалку — ко времени окончания предварительного бурения на воде глинистый раствор бывал безукоризненно готов. Мастер Тимбиков поглядывал на него с нескрываемым интересом и, пожалуй, явным уважением: заметив иной раз, что справившийся со своей работой буровик Губайдуллин уединялся где-нибудь в сторонке с книгою, никогда не ругался, не насмешничал, словом, был положительно не против.
А зачитывался Арслан как раз сугубо специальной литературой — книгами о девонской нефти, о ее недолгой, но занимательнейшей истории; хохотал над дедовскими, курьезными «методами» добычи «черного золота», с удивлением, впрочем, отмечая, что и теперь приходится еще немало им потеть в изматывающем, тяжелом ручном труде. Непременно в самом ближайшем будущем скорость бурения должна резко подняться — в это он поверил всей душой, ясно понимая, что иначе и невозможно. Подумать только, ведь сколь широко поле деятельности, и как мало кардинально нового внедрено в нефтяное дело! Где же вы, Эдиссоны? Пора, пора выбрасывать ручной труд на буровых на свалку — активизируйтесь, дерзайте!
Однако даже не эта любопытнейшая область занимала Арслана всего более — Эдиссонов по стране было немало, талантливые инженеры и рационализаторы во многих СКБ, НИИ и других подобных учреждениях не первый год ломали головы. Должны выдумать! Ведь каждый день страна требует все больше и больше нефти, и нельзя в таком случае бурить старыми методами, нужны новые, а раз нужны — значит, будут.
Арслан же часто и крепко задумывался о своих земляках, татарах-нефтяниках, разбросанных по всей необъятной стране прекрасных работниках, славных своим трудолюбием и высоким мастерством. Взять, допустим, старого Лутфуллу Диярова — опытнейший специалист, а ведь коренной калиматовец, родившийся и выросший в одной с ним, с Арсланом, татарской деревне, в соседней даже с его отцом Шавали избе Лет двадцать пять тому назад отправился он за счастьем на седой Урал, побывал и в Баку, и в Сызрани, и в Куйбышеве; всю страну, словом, исколесил, а приехал-таки обратно в родной Калимат. Но если вдуматься — была же в этих краях нефть и в то давнее время, и задолго до этого, еще до Великой революции; она, если на то пошло, плескалась в земных глубинах и тысячу, может, и миллионы лет до него, старого нефтяника Диярова. Неведомый и богатейший клад!
И вот из Калимата, как и из других татарских деревень, уезжали люди добывать земляное бесценное масло в черный город Баку, в знойные грозненские края, в поте лица своего обогащали нефтепромышленников с колоссальными и без того состояниями, ютились в тесных и грязных бараках, плодились и умирали целыми толпами, но нужда, как черная борода, всегда и всюду была с ними. Не могли они тогда дознаться, что счастье-то их — совсем рядом, под их же обутыми для дальней дороги лаптями, под захудалыми избами и заброшенными огородами; только взглянуть бы надобно в землю поглубже да сообразить что к чему... Но чтобы узнать о кладах родной земли, надо было освободить страну от нахлебников, вызволить ее из кровавого гнета, открыть глаза миллионам таких, как Лутфулла Дияров, чтобы понял наконец простой народ, где же его неуловимое счастье, чтобы увидел он наконец несметные клады под своими ногами...
Вот когда по-настоящему осмыслил Арслан величие подвига коммунистов и необъятность всего свершенного Коммунистической партией — сердцем и всей душой своей понял он это и принял безоговорочно. По утрам тысячи рабочих грузились в вахтовые машины и мчались по нефтяным магистралям неудержимой и сплоченной армией труда, подчиняясь единой воле и единому стремлению, — и это Арслан понял и принял так же безоговорочно. Труд его стал осмысленным и важным, стала интереснее и желаннее работа — он ощущал себя рядовым великой армии рабочих, и звание рабочего теперь для него было и почетным и ко многому обязывающим. Мелкие житейские претензии отца, нелепые подчас и жалкие его требования казались Арслану настолько никчемными, что он каждый раз не мог удержать насмешливой улыбки по отношению к ним, и безо всякого там издевательства, как казалось Шавали-абзый, а совершенно естественно и искренне.
В жизни у Арслана как будто все ладилось, исполнялись все его желания, ибо были они простыми, здоровыми и по-юношески чистыми. Лишь одна его самая заветная мечта, видимо, так и останется несбыточной — что ж, никто в этом не виноват, и глупо сетовать на жизнь, на судьбу... Впрочем, в глубине души Арслан чувствовал — был он без вины виноват. Уехал в Донбасс, а там война, служба в армии... писал бабушке Юзликай, да, видно, не дошла до нее та весточка. «Кого же ей было ждать?» — в какой уж раз корил себя Арслан. Чувство свое к Мунэвере попытался он запрятать в самый глухой уголок души — не искал с нею встреч. Знает ли любимая о его возвращении в Калимат, знает ли, что он работает в бригаде ее мужа, — Арслан находился в полнейшем мучительном неведенье. Было ему действительно тяжело жить в Калимате второй уже месяц и сознательно удерживать себя от попыток встретиться с нею или даже просто увидеть издали ее тонкую фигурку, ее быструю и несмелую поступь. Но при более близком знакомстве с Каримом понял он, насколько можно быть одержимым в труде и неистово любить свою профессию, забывать обо всем на свете, жить только буровой, — и не мог не почувствовать уважения к этому удивительно старательному и упрямому человеку со столь же удивительно тяжелым характером. Встречаться с Мунэверой казалось ему по отношению к Кариму нечестным и даже бесчеловечным. И Арслан, всей душой любя ее, всей же душой решил не думать более о ней и с этим благим, желанием с головой погрузился в книги. «Если целый год заниматься со старанием, — думалось ему спокойно и твердо, — непременно можно поступить на вечернее в нефтяной институт. И Мунэвера за книгами постепенно забудется». Однако утвердиться в принятом решении было еще далеко не все и куда как труднее оказалось выполнить его; гораздо труднее, чем, скажем, выучить порядок действий при накидывании аркана на «свечу» или историю построения социализма в СССР. Днем, на буровой, поневоле в горячке труда забывались мучительные мысли и чувства, но вечерами, переодевшись после работы в чистое, поужинав и отдохнув, не знал он куда себя девать, метался от тоски по комнатам, пока не хватался за спасительные книги и, сжав руками голову, до поздней ночи сидел за учебниками. А тут еще родители напали в последнее время: твердили с утра до ночи, что настала, мол, пора ему обжениться и завести семью, свить, как все люди, свое гнездо (правда, в родительском доме: ухода сына они единодушно не желали) . Поначалу Арслан отделывался от их яростных наседаний шуткой да ухмылкой, но старики оказались горазды на выдумки и, как в добротной научно-исследовательской организации, расширили свои изыскания — что ни день выматывали у Арслана душу новым хитрым способом.
Тетка Магиша, никогда до того не отличавшаяся святостью, плевавшая, по ее словам, на все эти «леригиозные» глупости с высокого места, теперь же вдруг на глазах превратилась в фанатически набожного человека. Утром ли, когда Арслан собирался на работу, вечером ли, когда приходил домой, доставала она старый, сплетенный из соломы коврик, расстилала его у окошка, глядящего в южную сторону на святую каабу[21], и заходилась в страстной молитве. Арслан понимал, конечно, что это своего рода психическая атака на него, и старался не обращать внимания на смешную, но упорную комедию, разыгрываемую матушкой. Но та, однако, сдаваться не собиралась, с каждым днем напор ее все усиливался, и Арслан, уставший стискивать зубы и помалкивать, да к тому же постоянно отрываемый ею от занятий, как-то не выдержал и с насмешливой улыбкой спросил:
— Мама, до войны, как мне помнится, ты никогда не молилась, верно? С чего же это ты нынче стала такой, или за это что-нибудь дают?
Тетка Магиша нарочито долго складывала молитвенный коврик, уложила его на самое донышко древнего со звоном сундука и тогда только раздражающе-слезливым голосом заговорила:
— Грешно такое даже и молвить, сынок, стыда у тебя, видать, совсем нету. Аллах свидетель — тогда и время-то было страсть какое тяжелое, хлопот не оберешься. Вас, охламонов этаких, растили, из кожи лезли — когда и помолиться нам? Да нету теперь никакой вашей благодарности, никакого почету родителям, одно горькое горе! Вон, старшая, бесстыжи зенки, ребенка невесть от кого прижила, — а гордая, фу-ты, ну-ты! Из дому удрала безо всякого на то спросу; куда-то, говорят, на нефть работать приткнулась, ан опять без родительского совету, все — сама. Теперь вы в большие люди выросли, на родителей вам наплевать, у самих ума палата, возгордились шибко...
«Ах, мамонька, и много же вы на нас потратились, и много же вы заботы имели с нами! Все лето сено таскал да осенью веники вязал — в том и детство прошло. С шестнадцати лет в Донбассе сам себе на жизнь зарабатывал, после войны приехал — так и тут житья не было», — сердито подумал Арслан, но, убоявшись шума со стороны склонной к скандалу матери, промолчал, не стал мелочиться и только примирительно сказал:
— Ну, ладно, мама, все понятно.
— Ан неладно, ты, парень, помолчи-ка! — вдруг раскалилась Магиша. — Какой кусок пожирнее — так вам, какая одежа покрасивее — опять вам, все — вам, вам! Сами с голоду пухли, а вас растили, ровно цветочки драгоценные, берегли да холили. А вы теперь все задом норовите повернуться... Умные шибко!: Чего рот-то раззявил, али не кормили мы вас?
— Кормили, кормили...
— А ежели кормили, чего ты, ирод, кобенишься? — наседала на Арслана тетка Магиша, не замечая иронии сына. — До ких пор мне страдать еще, мучитель? До ких пор холостым» прошляешься, изверг-ты эдакий? Али мне не хотится восчувствовать невесткину ласку, пожить в невесткиной холе? Отвечай, мучитель. Может, думаешь, мне не хотится внучат махоньких понянчить? У свата со свахой погостить... отвечай, мучитель! Аль правов таких у меня нету, чтобы у сына на свадьбе погулять, в красном углу сидеть да похваляться перед дастуйными гостями?
— Мне, мама, еще учиться надо, в институт я собираюсь...
Брызнули из глаз тетки Магишы жгучие слезы, и, размазывая их по щекам заскорузлыми руками, заговорила она каким-то истошным голосом, бросая сыну обидные пуще прежних слова:
— Смерти моей дожидаешься. Боишься, что придется твоей женке за мной на старости-то лет поухаживать. Оттого и остерегаешься. Все знаю. Жить мне, однако, недолго осталось, не печалься. Вон и соседи мне проходу не дают: что, мол, тетка Магиша, али у твоего сына изъянец какой имеется? Чего это он у тебя до сих пор неженатым разгуливает?
Арслан от стыда отчаянно побагровел и буркнул под нос уже почти жалобно:
— Ладно тебе, мама, иди лучше домолись...
— Ты мне этим «ладно» рот не затыкай, мне его старик и кулаком-то заткнуть не справляется. А ежели не оженишься, аллах свидетель, пойду в контору и доложу, так, мол, и так, не желает, изверг... И за такое мучительство родной матери преклонного возрасту небось по головке тебя там не погладят. Потому и женись, не упрямься.
Тетка Магиша вновь шмыгнула носом и, размазав по щеке слезы, уже тише спросила:
— Тяжело тебе жениться-то? Мучитель! Чего ты меня изводишь, чего ты упрямисся? У, дубина стоеросовая, пенек бесчувственный. Али, думаешь, сладко мне напраслину терпеть от людишек? Магиша жадюга, Магиша сына не женит, Магиша такая, Магиша сякая... Тебе-то вот как хорошо: смылся на работу, и горя мало — ни сплетен, ни пересудов не слыхать...
Трудно было Арслану устоять против такого обдуманного, сдобренного жгучими слезами и хитрыми намеками грубого натиска, но обещать жениться не мог он даже и в шутку, потому смолк покорно и смиренно опустил голову, понимая, что иначе от матери не отделаться. И тетка Магиша решила радостно, что упрямый сын ее сдался-таки и мучается теперь в раскаянии, возликовала в душе — пробить такого упрямца, как сын ее Арслангали, ого! Это не фунт изюму! Она покричала еще по инерции, но постепенно успокоилась, а вечером, улегшись в постель рядом с невеселым отчего-то мужем, во всех подробностях, смакуя каждое слово, передала ему весь свой «агитационный» и, по ее мнению, увенчавшийся полным успехом разговор.
— Ну, задала я парню жару, аж до печенок его продрало, — возбужденно закончила она. — Помяни мое слово, быть мне круглой дурой, ежели не в этом месяце, так в следующем не приведет он в дом невестку; помереть на этом месте, ежели не так!
— Не кажи гоп, могешь и навернуться. Шибко глаза у него теперича красные — все книжки ночами читает. А девки на этаких читунов не больно-то зарятся, мужа с книгой делить никто не согласная. Муж, на то он и муж, чтоб ночью жену драил, — отвечал ей скептически настроенный Шавали, разбивая тем самым в пух и прах все надежды своей старухи, чем и привел ее в совершеннейшую ярость.
— Молчал бы уж, старый лапоть! — прошептала она как можно язвительнее и даже приподнялась на локте, взглянув старику в лицо. — Драил! У кого что болит, тот о том и говорит. Пойди-ка лучше сходи на улицу, а то по ночам от тебя чижелый дух идет — задохнуться можно!
Тут меж ними открылась отчаянная перепалка, и аллах ведает, что еще наговорили они друг другу в ту бессонную ночь, забыв и о сыне, и о будущей невестке.
Через несколько дней после разговора с матерью Арслан неожиданно встретил Мунэверу. Ехал он на «вахтовушке» с буровой и заметил рассеянно, что на дороге голосует какая-то женщина в белом пыльнике. Машина остановилась, женщине подали руку, и она, забравшись в кузов, прошла вперед, но Арслан, задумчиво и бесцельно разглядывающий свои сапоги, не увидел ее лица и, впрочем, забыл о ней тут же, но через некоторое время парни, едущие с вахты, громко и разом захохотали — Арслан невольно обернулся. И оцепенел.
Жалкая, с дрожащими губами стояла перед ним Мунэвера: кто-то провел ей по лицу испачканной в мазуте рукой, и от виска наискосок до уха отпечатался черный след всех пяти пальцев. Увидев Арслана, она беззвучно заплакала, и на долгих ресницах ее задрожали крупные капли.
Арслан же, почувствовав, как заколотилось сердце и отяжелели сжатые до боли кулаки, резко встал, но спросил медленно и спокойно:
— Кто испачкал?
Смех враз утих, но отвечать никто, кажется, не торопился.
— Кто испачкал, я спрашиваю?
— Чего молчишь-то, храбрец? — сказал вдруг Джамиль Черный рослому детине, сидящему взразвалочку на скамье с папиросою в зубах. — Кажись, ты измазал, чего же растерялся?
Арслан неторопливо подошел к парню и в душной от напряжения тишине негромко спросил:
— Ты... испачкал?
— Ну, я. А ты чего выступаешь? Я испачкал, сказано же, — тягуче и с нелепой угрозою пробормотал детина и языком передвинул папиросу в угол рта, не меняя, однако, своей небрежной позы.
Арслан неловко нагнулся и почти удивленно глянул в нахальные, сощуренные глаза, но в следующий миг, ухватив одной рукою парня за шиворот, поставил его на ноги:
— Ты испачкал? — Тяжелый и неожиданно хлесткий удар пришелся детине как раз под самый подбородок, мотнув в воздухе ногами, он торчмя головой полетел в угол и с грохотом вонзился куда-то под скамейку, рядом с ним, рассыпая встревоженные искры, приземлился и его окурок, проделав замысловатую в воздухе петлю.
Буровики ошарашенно повскакивали с мест, кто-то бросился поднимать рухнувшего парня, а Мунэвера стояла безмолвная от изумления и растерянности и, кажется, уже не плакала. Обида ее, застрявшая в горле комком слез, унизительный стыд и гневное, бушующее в душе презрение к этому стаду мужиков, потешавшихся над ее беспомощностью, сменились вдруг благодарным волнением, от которого даже вздрогнула она и быстро вздохнула.
Арслан сам вытащил из-под скамейки бесчувственного озорника, посадил, похлопал по щекам, помахал на него кепкою, но когда тот очнулся и бессмысленным еще взором уставился на его сердитое лицо, велел парню просить у Мунэверы прощения. И сразу всем стало стыдно и нехорошо: по сути дела, все оказались виноваты, и, несомненно, извиняться должны были тоже все.
До самого Калимата в машине сохранялось неловкое и растерянное молчание.
8
Карим, сидя на берегу, торопливо стянул сапоги, скинул кожаную куртку; поднявшись, выскочил из брюк и, бросив сверху еще рубашку, затянул узеньким брючным ремешком всю свою одежду в тугой узел, покряхтывая, он решительно вошел в мутную еще после половодья воду Зая — поплыл, подняв над головой сверток и сильно загребая одной рукой. Вода была страшно холодная, обжигала тело, и спирало дыхание в груди, но вахтовая машина на буровую ушла, пока Карим с утра договаривался в конторе с каротажниками[22], и догнать ее было возможно, лишь переплыв Зай и выйдя ей наперерез. Карим, конечно, поплыл!
Он почти добрался до противоположного берега, когда из-за поворота на дорогу резко вывернула давешняя «вахтовушка». Буровики в машине, увидев на реке плывущего к берегу человека, кулаками забарабанили по кабинке.
— Гляньте-ка, ребята, а ведь это наш мастер! Эк, наяривает, шельма! Отчаянный! Не иначе как с женой полаялся, — захохотал, зашумел Борис Любимов. — Нет, братцы-товарищи, с этаким мастером не соскучишься. Однако не сносить ему своей забубенной башки, вот поглядите. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра беспременно от такого усердия шея у него надломится!
Вскарабкавшись на невысокий берег, Карим с ходу натянул брюки и, схватив остальную одежду под мышку, помчался к машине. Его встретили восторженно и шумно: кто помогал застегнуть рубаху, кто, упираясь коленом, с хохотом затягивал ремень, кто для поднятия духа отпускал веселые смачные буровые остроты:
— Ну, командир, в нынешнем году ты первый искупнулся — тебе, надо понимать, и магарыч выставлять!
— Как водичка, мастер, турбобур не отвалился? Отчаянная же ты головушка, Карим, чуть двух детей сиротами не оставил! Ай-яй-яй!
— Чего сиротами: для детей теперь главный папа-государство. Оно об детишках куда боле отцов заботится!
— Эй, да заткнитесь вы, дайте человеку хоть зубами вдоволь пощелкать. Или не видите: почище волка клацает!
Прост и бесхитростен по натуре своей Карим Тимбиков — хохочет вместе со всеми, отвечает крепчайшей шуткою на шутки джигитов: главное для него, что у ребят в день завершения скважины отличное настроение, оттого он не может нарадоваться и забывает на миг обо всем на свете. Молодцы ребята, и как здорово работать с ними, как здорово просто жить! Даешь жизнь, даешь нефть!
Но на буровой, спрыгнув с машины, вновь стал он предельно деловым, не прощающим никаких ошибок мастером; короткой и резкой командой созвал буровиков, сказал, строго отчеканивая звенящий металл слов:
— Сегодня решается наша судьба. Не зевать. Не ждать понуканий. Быстро и точно. Ясно? По местам!
Вахта Бориса Любимова приступила к работе. Завершены последние операции, и ровно в десять ноль-ноль на буровую подкатили две машины каротажников. Из первой вылез начальник каротажной партии Габбасов — мужчина значительно старше среднего возраста, неприветливой наружности и невысокого роста: в тресте его знали как человека крайне въедливого — поздоровался подчеркнуто сухо и, отдав подручным нужные распоряжения, не теряя попусту своего, видно, весьма дорогого времени, нырнул тут же обратно в машину с приборами.
Натужно загудела механическая лебедка. Сам Габбасов более не показывался, а двое деловитых ребят, работающих под его началом, стали опускать в скважину намотанный на барабан лебедки специальный кабель, длиною ровно в два километра, с хитрым каротажным прибором на конце, который был известен среди буровиков под уважительною кличкой «комбайн». Прибор этот неспешно уходил в разверстое горло скважины и должен был записывать всю подноготную различных земных пластов, образованных за многие миллионы лет мирного развития земли и всяких катаклизмов. Кабель разматывался с таким медленным безразличием, что Карим не выдержал — сильно заволновался и стал наседать на каротажников, пытаясь узнать, как идут дела. Габбасов, однако, к себе в машину, где отмечались показания «комбайна», так никого и не впустил.
«Погоди, индюк, будет время, и ты вокруг нас попляшешь!» — сердито подумал Карим и даже плюнул с досады. Оставалось только ждать.
Часа через два с половиною грохот лебедки вдруг умолк, и из машины, с лицом мрачнее тучи, вылез начальник Габбасов.
— Что случилось? — с тревогою спросил подобравшийся Карим.
— Пробурено плохо. На Михайловском горизонте образовалась пробка, прибор застрял, далее не идет. Проработайте. Будет готово — тогда пригласите.
Каротажники уехали.
Карим опомнился далеко не сразу — крепко призадумался, поначалу даже впал в какое-то тяжелое отупение. Легко сказать — проработайте! Это тебе не заусеницы с железки снимать... Часа два, считай, только на то, чтобы опустить в забой «свечи», а ведь их надо еще свинтить — каждая труба длиной по двадцать пять метров, стальная и тяжеленная; вновь бурить место, где застрял этот злополучный «комбайн», приготовить тысячи ведер глинистого раствора и смазать им стенки скважины для сглаживания всяких там выступов и выемок; поднять «свечи» обратно и, наконец, составить их в «подсвечники». Эх, твою мать! Не везет! Но делать, конечно же, было надо; и Карим, чуть ли не с зубовным скрежетом, сдерживая раздражение, объяснил своей бригаде, какая ей предстоит сложная задача.
— Вот уж влипли так влипли! А какой добрый дядя заплатит нам за метры, пробуренные коту под хвост? — захохотал было Борис Любимов, но на этот раз охотников поддержать его почему-то не нашлось. Брови у всех угрюмо насуплены, на лицах серьезность и озабоченность. Удастся ли еще за один-то раз справиться с этой хитрой скважиной? Вот ведь как: кажись, закончили бурение — и радуйся уже, и будь доволен; но приезжают ребята-каротажники — и на тебе: оказывается, все-таки в каком-то месте нагадили! Тьфу, проклятье!
— Борис Любимов! На вахту!
— Слушаюсь.
— Джамиль-абзый! Веди своих ребят на раствор. Я вызываю третью вахту.
— Ну, счас устроим тут сабантуй!
— Советую поменьше трепаться. Время дорого, помните!
Более в пустые разговоры не вдавались — началась мучительная и нудная, полная тысячи всяких забот и беспокойств «проработка» скважины. Не было ни минуты отдыха, никаких перекуров, сам Карим часами не выпускал из рук рычага тормоза — работал за себя и за других с таким остервенением, что примолкли даже грубые, с продубленными на тяжелой работе душами буровики, старались выполнять его приказы молча и верно, делали свое дело с истовым, горячим старанием, будто выполняя боевое задание.
Уже смеркалось, когда Карим по телефону еще раз вызвал на буровую каротажников. Те отвечали, что сегодня уже не приедут. Карим, не помня себя, в ярости возвел целый матерщинный небоскреб, но делу это, конечно, не помогло. По телефону же принялся он разыскивать начальство; но горемыке нищему все ветер в лицо: и в тресте, и в конторе рабочий день был завершен, и люди, разумеется, порасходились по домам. Через несколько коммутаторов, пуская в ход и горькую мольбу, и сладкую лесть, а одну телефонистку даже напугав зловещей угрозою, дозвонился Карим до квартиры Митрофана Апанасовича, но самого директора, как назло, не оказалось; какой-то незнакомый голос сообщил, что Зозуля с утра уехал на аварийную буровую и с тех пор еще ни дома, ни на работе не показывался. Тимбиков решился разыскать управляющего и вновь ринулся в дебри коммутаторов. Примерно после получасовой возни с телефоном взмокший Карим разговаривал-таки с самим Кожановым.
Николай Николаевич был как всегда краток и деловит: через два часа каротажники должны были прибыть на буровую.
И действительно, через пару часов (это время как раз уходило на дорогу) к буровой примчались машины Габбасова.
«Ага, вставило вам начальство пистон?! — злорадно подумал Карим. — Небось как по тревоге собирались!» Габбасов без лишних слов запустил в скважину свою хитрую машину и удалился к приборам. Вид он имел по-прежнему неприветливый, хмуро ломал брови на переносице, и непонятно было — в дурном ли человек настроении или уродился уж таким угрюмым. Черт его знает. Часа три лебедка гудела нормально, но вдруг опять заглохла, и Габбасов, вызвав Карима к себе в машину, сухим, но терпеливым голосом разъяснил ему и показал наглядно на приборах:
— Видите, товарищ мастер, можете жаловаться куда хотите, хоть самому начальнику объединения «Татнефть», ваше дело; но если вы не смогли пробурить так, как требуют того геофизики, ничего не получится. И предупреждаю: негодную скважину никто у вас не примет. Вот, пожалуйста, на глубине тысяча семьсот тринадцать метров прибор опять застрял, проработку выполнили плохо и будьте добры ее завершить. На вахту встали джигиты Джамиля Черного. Вновь скрепили между собой «свечи», опустили их в забой и в глиномешалке вновь приготовили тысячи ведер глинистого раствора; приехал на буровую инженер, взял раствор на анализ и распорядился добавить туда соды и некоторых других компонентов, чтобы был он мягким и однородным, как сметана. Сделали. Вновь смазали этим новым, мягким, как сметана, раствором стенки упрямой скважины. И опять неудача. Три дня и три ночи (часы шли за часами) сменялись вахты, сменялись каротажные партии, и бессменно работал лишь один человек — Карим Тимбиков. Не мог, не имел права он уходить со скважины, пока не выдаст она нефть, пока не перестанет упрямиться и мучить людей.
А им уже вконец осточертело десятки раз переделывать одно и то же, сутками маяться на законченной, по сути дела, буровой; в глазах мелькало глухое отчаяние, и словно с укором смотрели уже буровики на своего мастера: да будет ли конец этой проклятой работе?
И более тянуть становилось невозможно — промедление явно грозило катастрофой. Арслан, заметив, что мастер как будто решился повторить все сначала, подошел к нему и, чуть волнуясь, проговорил:
— Карим, слушай, а ведь люди-то совершенно измотаны. Они уже надежду потеряли. Может, все-таки пригласить кого-нибудь поопытней?
— Кого?!
— Лутфуллу Диярова, скажем.
Глаза у Карима вдруг заблестели.
— А точно?! Как я не подумал?!
Дияров не заставил себя долго упрашивать — сразу прибыл на место. Неторопливо вошел он на буровую, задумчиво проверил показания приборов, заглянул в насосную и даже в культбудку, дотошно, но быстро расспросил Карима, интересовался каждой мелочью. Затем приступил к начальнику каротажной партии угрюмому Габбасову, рассмотрел с ним все диаграммы и после этого, собрав всех на короткую оперативку, посоветовал тотчас, не теряя ни минуты, провести каротаж через «голый конец»[23] и как можно быстрее начинать спуск обсадных труб (забой был уже в угрожающем состоянии и мог обвалиться буквально через день!).
В конторе с ним согласились, и все пошло без задержек — это был единственный правильный выход; каротаж, к слову, дал прекрасные результаты. В тот же день опустили и обсадные трубы.
Затем на буровую пришла огромная, страшная на вид машина тампонажников, похожая на гигантский железнодорожный вагон с массою всевозможных вентилей, барашков и даже целых агрегатов, — за сорок пять минут накачали из этой машины в скважину девяносто тонн цемента.
И первая скважина новой бригады была завершена. Событие это вопреки ожиданиям отметили весьма торжественно: на буровую приехал сам управляющий трестом Николай Кожанов. Перед строем возбужденных буровиков он пожал Кариму Тимбикову руку и от имени треста за досрочное (на тринадцать дней!) окончание скважины объявил бригаде благодарность.
Нестройно, но все равно очень громко захлопали в ладоши; люди подтянулись, выпрямили спины, гордо вскинули головы — сразу забылись мучения и тревоги прошедших дней.
Когда же начальство, выполнив свои торжественные обязанности, уехало, Карим собрал ребят и объявил уже со своей стороны:
— В честь окончания первой скважины сегодня вечером, в девятнадцать ноль-ноль, объявляю общий сбор у меня дома. С опоздавших буду в строгом порядке взимать штраф! А теперь можно загружаться в «вахтовушку»...
Но бригада, не желающая так быстро расставаться с первой пробуренной собственными руками нефтяной скважиной, долго еще шумела, оглашая поляну радостными криками и веселым хохотом довольных людей.
9
До семи вечера была еще уйма времени — целых восемь часов, и Арслан крепко озадачился, не зная, как провести этот день. Поначалу он решил было и вовсе не идти к Тимбикову, но затем надумал все-таки сходить, резонно рассудив, что, если соберется вся бригада и не будет лишь его одного, это явно бросится в глаза и, возможно, пойдут всякие кривотолки.
«А шут с ним, пойду. Буду сидеть там потихоньку где-нибудь в уголке — авось и забудут про меня, — подумал он и решил, что это и в самом деле лучший вариант. — Может, еще удастся улизнуть побыстрее — было бы совсем хорошо!» Но когда настало время собираться, он вдруг всполошился от наползающего волнения и заметался по дому в поисках приличествующей к такому случаю одежды. Долго не мог подобрать галстук — примерил штук семь, все ему не нравились. Наконец плюнул и повязал самый большой и яркий, в зеленую и фиолетовую полоску, хотя костюм на нем был темно-синий. Заметившая его возню у зеркала тетка Магиша блеснула обрадованными глазами, ухмыльнулась и на цыпочках побежала к мужу.
— Слышь, старый, да ты только погляди на нашего-то; взглянь-ка, говорю, быстрее на Арслангали! Битый, час перед зеркалом куражится. И этак повернется, и так, да все галстуки на шею повязывает — ну, чисто жених! Помереть на месте, закрутила какая-то краля нашего молодого, не зря он перышки-то оглаживает. Господи, на все твоя воля, но ты, старый, уж мне поверь — не сегодня, так завтра быть нам с невесткою!
— Без тебя вижу, чего ты раскудахталась? Ходила курица по двору да кудахтала — тут ей голову и отсекли за беспокойство, ясно тебе? А раз ясно, то нишкни: пока невестка в дом не заявилась да все ключи у тебя не оттягала — лучше и не кудахтай!
— Отдам я ей ключи, как же!
— То-то и оно. А то разошлась, — невестка, невестка! Да к тебе ни одна девка в невестки по своей охоте не пойдет. Ясно тебе? А раз ясно, говорю еще раз: рот на крючок да прикуси язычок, вот так-то.
— Да будет тебе, — скривила рот сраженная последним доводом Магиша и осеклась: молча проводили старики грустными взглядами выходившего из дому Арслана.
...Войдя к Тимбиковым, Арслан увидел, что дом их уже полон народу; на столах, расставленных в большой комнате, томились в окружении обильной закуски стройные ряды бутылок, сам же Карим быстро и ловко открывал пробки. Арслан, не желавший привлекать к себе внимания, хотел было потихоньку шмыгнуть в угол, но тут его приметил развеселый Борис Любимов и устроил великий на весь дом переполох.
На шум из глубины комнаты вышла Мунэвера. Была она этим вечером особенно красива, в белом, кокетливо повязанном платочке и кружевном, как у официанток из столичного ресторана, малюсеньком передничке. Глубокие, до краев налитые нежной сияющей влагой глаза ее потеплели, и дрогнули стрельчатые долгие ресницы; словно плеснули они на Арслана обрадованным светом, огладили незаметно его смущенное лицо; и Мунэвера, скрывая волнение, ушла торопливо в комнату, скрылась за перегородкой; но тут же среди джигитов-буровиков появилась юная девушка. На голове у нее полыхала яркая оранжевая косынка, небрежным и щедрым потоком струились из-под нее шелковистые густые волосы; не взглядывая на окружающих, очень свободно и изящно, пронесла она высоко поднятый узорчатый и большой поднос к столу, расставила с аккуратной легкостью все тарелки и удалилась, нет, скорее даже упорхнула из комнаты все с тою же воздушной грацией.
Потом она показывалась еще не раз, неизменно притягивая к себе все взоры, и джигиты умолкали при ней, потрясенные, — были движения ее необычайно плавны, легки и женственны; несомненно, цвела в душе этой прелестной девушки та счастливая пора, когда весь мир кажется бесконечно гармоничным и светлым, все краски и звуки, все звоны и мелодии умещаются в раскрытом счастью сердце и юное тело, послушное его порывам, дышит удивительной и цельной симфонией жизни.
— Младшая сестра Мунэверы... Сеида... — жарко шепнул Арслану на ухо его сосед Каюм.
Арслан, более внимательно и испытующе взглянув на девушку, с удовольствием отметил разительное сходство сестер, но в то же время не мог не признаться себе в явном превосходстве младшей. Была она много ярче Мунэверы и выглядела гораздо живее и, может быть, даже красивее: те же огромные глаза, но полные не грустной неги, а влекущего и безудержного огня, те же губы, но не чуть окрашенные, а залитые будто неразведенной пунцовой краскою, так что кажутся еще белее зубы и теплее горячий румянец. Блеклые и несмелые тона старшей сестры ощутимо терялись перед сияющей юностью Сеиды, утрачивая в невольной тени свою мечтательную и таинственную прелесть.
Арслан словно и не заметил, как потекло шумное застолье, как произносились поначалу в своем роде торжественные, а потом просто веселые и радостные тосты: все мысли его были заняты Мунэверой и... Сеидой, столь похожей и непохожей на свою старшую сестру.
А водку, как и пристало мужественным буровикам, пили стаканами. Первый стакан Арслан опрокинул без уговоров. На Мунэверу, в белом передничке разносящую гостям суповые тарелки, и, более того, на ее красивую сестричку поглядывал он уже смелее, желая, чтобы сестры почаще появлялись у стола.
Мунэвера сама принесла ему суп, а когда, задев Арслана плечом, ставила перед ним тарелку, он громко, слышно для всех поблагодарил ее, тут же, впрочем, смутившись своего звучного голоса. Мунэвера взмахнула длинными ресницами и торопливо, почти испуганно скрылась на кухню. Арслан, кажется, пьянел.
Гостей разом осенила одна мысль, выпить за хозяйку. За хозяйку! За отличную семью! Просим! Несомневающийся Карим, запрокинув голову, одним духом принял полный стакан, утерся и победно со стуком поставил его на стол; пригубила из рюмки и красивая Сеида, мило подула сквозь сжатые губки и улыбнулась; Мунэвера же не выпила ни капли — может быть, оттого, что до этих пор ни разу еще не пробовала водки?.. А гости, разумеется, подобные соображения в расчет не принимали и с таким поведением ее были бурно несогласны; принялись со всех сторон уговаривать, упрашивать, даже обижаться и стучать стаканами. Мунэвера, внимая уговорам, покраснела, но пить все же отказалась и, кажется, окончательно порушила веселье буровиков: люди откровенные и по-ребячьи непосредственные, они вдруг помрачнели и заговорили обидчивые, подогретые водкою слова, забормотали упреки, засопели. Тогда Арслан, видя, как набухли, задвигались у Карима на скулах желваки, решился и вскочил:
— Можно мне сказать пару слов?
Когда ропот поутих и все успокоились, он неторопливо заговорил:
— Вы, други, на хозяйку-то слишком не напирайте. И обижаться тут тоже не на что! Ну, не хочет человек, не может — и нечего приневоливать; это, братцы, нехорошо. А уж если мы хотим уважить хозяйку, давайте-ка сами поднимем да выпьем за ее здоровье. За Мунэверу, за ее счастье! — Тут Арслан поднял свой стакан и решительно выпил его до самого дна.
Его слова были встречены шумным одобрением, повеселевшие буровики внимательно следили за опорожняющимся стаканом Арслана и затем, с радостными восклицаниями, выпили сами. Мир был восстановлен, праздник по случаю окончания первой скважины удался все ж на славу — и вечеринка в дружном веселье продолжалась своим чередом.
А столь неожиданное заступничество Арслана произвело самое сильное впечатление — что в общем-то и понятно — на... Сеиду.
— Это что за парень? Ну, защитник твой? — спросила она Мунэверу, когда вышли они на кухню.
— Арслан-то? Сын Шавали-абзый, из нашей деревни...
— Правда?! А чего ж я его раньше не замечала?
— Он в Казани жил...
— А теперь?
— Теперь у Карима работает, на буровой.
— Женатый?
— Нет.
— Познакомишь меня с ним?
Мунэвера глубоко вздохнула:
— Нет, сестричка, я не смогу... — и отвернулась.
— Ну и ладно. Я сама с ним познакомлюсь!
Ничего не ответила Мунэвера, лишь взглянула грустно на бойкую сестру и пошла угощать гостей чаем. Ах, если б счастье давалось так легко: сведут с человеком, вот и счастье твое на всю жизнь... А ведь и сегодня вступился он за нее. Как хорошо все же, когда он рядом, как легко и просторно жить, как... как хорошо, боже! Хмелеешь и без вина...
В комнате хохотали и шумели гости, но среди нестройных выкриков и смеха слышала они изредка и его спокойный, низкий голос — на душе становилось тогда светло и печально.
В дальнем углу Карим лихо играл двухпудовыми гирями — метал их в воздух, ловил, закидывал за спину. «Поел бы хоть, нескладный, — с горечью подумала Мунэвера. — Ишь, разошелся. Опьянеет ведь: пьет много, а не закусывает». Гости с рьяным восхищением наблюдали за Каримом, но вскоре интерес к нему ослабел: буровики, изрядно подвыпившие, были уже в том задушевном состоянии, когда каждому хочется высказать столь же любезному соседу все самое сокровенное, чистосердечное и хорошее, придя, быть может, в заключение к известному, но тем не менее до чрезвычайности важному для собеседников вопросу: «Т-ты меня уважаешь?»
С одной стороны стола Джамиль Черный, вытянув шею и доверительно ударяя кулаком по колену вздрагивающего тезки, Джамиля Сиразеева, рассказывал что-то настолько увлеченно — приятно было посмотреть, и даже Арслан заслушался.
— Жил это у нас в деревне один Аубакир. Ничего себе человек был этот Аубакир, подходящий. Выдумал он (ну, голова был!) за людей, значит, в Мекку ходить — хадж называется, паломничество. Кто, значит, желает заделаться хаджи — святым паломником, — гони Аубакиру тыщу рублей: он в Мекку сходит и — пожалуйста: имеешь полное право носить священное название. Может, конечно, он и добирался дотуда, аллах его знает, но только заявлялся он обратно в деревню чин чинарем, шкалик у него в кармане со святой водицей — из колодца Земзем, а под мышкою пестрый молитвенный коврик. Шутишь, брат, та-акой был человек! Много богатеев у нас в деревне-то купили этаким манером звания хаджи, а сам Аубакир знай усы поглаживает да гуляет на шальные денежки. И говаривал этот сильно хитрый Аубакир: без таких, мол, как я, правоверному мусульманину с толстым карманом жить тяжко...
На другом конце бурильщик Хаким-заде с поразительною логикой вел спор с Айбековым, у которого под носом смешно топорщились маленькие черные усики:
— Когда я увидел вас впервые, — доказывал Айбеков, — вы были в лейтенантских погонах, точно помню.
— Нет, парень, — не соглашался Хаким-заде, — был я тогда капитаном. Да ты в чинах-то хоть разбираешься?
Подливали в жаркий спор масло собравшиеся вокруг буровики — было им любопытно, знай подначивали.
— Вы были в капитанских погонах, что ж, у меня глаз, что ли, нету? — удивлялся Айбеков.
Но Хаким-заде сдаваться не собирался:
— Экий ты, парень, упрямый! Говорю, в майорских — значит, в майорских. Два просвета и большая звезда — кумекать надо!
«Ну, — улыбается про себя Арслан, — отчего ж сразу не в генеральских?»
Водка к тому времени уже перестает действовать на него, но он только рад — ну ее к шутам совсем, водку эту...
Кто-то, наверное, собираясь оживить застолье, а может, просто по привычке включил приемник, и в общий разговор влился голос Левитана, рассказывающий о совещании в Организации Объединенных Наций, о том, что в маленькую азиатскую страну, где недавно обнаружены богатейшие запасы нефти, слетаются дипломаты империалистических держав. Джамиль Черный, услышав слово «дипломат», мгновенно оборвал свой рассказ об Аубакире, дернул головой и, вскочив с места, крикнул:
— Не желаю признавать этих буржуйских дипломатов — давай их к едреной матери! — и так резко взмахнул рукою, что чуть не упал под стол.
— За что, дядя Джамиль? — под общий хохот спросил Любимов,
— Все они, буржуйские дипломаты, в собачьем сговоре: тень на плетень наводить, а тем временем содеять какую-нибудь подлость, к примеру, стащить с нищего самую последнюю рубаху, понятно тебе?
Сиразеев, подмигнув остальным, лукаво запротестовал:
— Ты, Джамиль-абзый, международных вопросов под пьяную лавочку лучше не касайся. Этак можно и дипломатические отношения попортить — будет тебе потом грех на душу.
— Не-ет, вы меня с этой вшивой дипломатией не проведете! У меня на все свой безмен. И своя тыква на плечах, чтоб на этом безмене прикинуть что к чему...
Каюм, видя, что Джамиль многое собирается прикидывать на своем пресловутом безмене, быстро открыл крышку радиолы и завел пластинку. Бурная, вихревая мелодия заполнила вдруг комнату, словно раздвинулись стены и пахнуло ветром; люди, охваченные буйством звуков, забыли о своих заурядных разговорах; оживились, очистились будто души. Пришла музыка.
В комнате стихийно образовался круг, и в середину его с долгим гортанным криком впрыгнул Хаким-заде — в зубах его блистал мстительным кинжалом кухонный нож, — раскинув руки, он пошел по кругу в огневой пляске горцев. Движенья его были резки и стремительны, летали, как у яростного скакуна, легкие ноги — асса! И только отбрасывал сердито Бориса Любимова, когда тот в своем неудержимом веселье путался у него под ногами, прибегая с кухни вырядившись то стилягою, то знойной и вихлявозадой щеголихой.
Неожиданно на середину вытолкнули и блаженно взирающего на такое диво, остолбенелого Арслана.
Поначалу он вовсе растерялся и попытался было улизнуть — куда там! Встали на его пути Борис Любимов и верховой из вахты Бориса, желтоволосый Саливанов, не давая ему выйти из круга: нет, дружище, общего веселья ты не ломай, должен праздник наш до самого конца быть радостным и красивым. Разве ж от Любимова отвяжешься?
Арслан пришел в себя, чуть подумал и нарочито развязно, лениво, с комической для его роста кокетливой грацией, пощелкивая каблуками, прошелся по кругу. Буровики засмеялись, захлопали в ладоши и запели плясовую:
Попляши-ка, Гайфулла! Будешь баем — вот дела! У тебя на сеновале Лошадь телку родила! Бей в ладоши так и сяк! Наш плясун попал впросак — У него на сеновале Ожеребился гусак!Арслан ударился вприсядку, все быстрее и быстрее выкидывая замысловатые, лихие коленца; видывал он среди товарищей-партизан отчаянных плясунов, перенял от них многое, потому и пляска его была не похожей ни на одну другую — совершенно удивительная, вольная импровизация. Но, несмотря на одобрительные выкрики и общий восторг, чувствовал он: чего-то явно не хватало, будто плясал он понарошку, а не вправду, и сердце его не лежало к танцу, не загорелось, а лишь мерцало спокойно и ожидающе... Не то!
В круг вызвали Мунэверу. Она вдруг пошла. И мимоходом, словно бы и случайно проплывая рядом с Арсланом, вскинула на него непонятные, бездонные свои глаза и загородила их тотчас завесью долгих ресниц... и пропали они... далеко... Но вот вновь позвали сияюще, и поднялись нежно лебединые ее руки... Нет, скорее как жаворонок она, легкий и трепетный, неяркий, но звонкий!.. Словно одурманенный ее прелестной доверчивостью, застыл Арслан и видел перед собой женщину, единственную, самую милую на свете, и был сражен на миг почти до беспамятства, летел за нею, не двигаясь с места, спешил, но не по земле ступала она стройными, шелком струящимися ножками — по сердцу его покорному...
Очнувшись, Арслан раскинул руки, и в дом бурового мастера из села Калимат, в чистосердечный праздник рабочих людей словно ворвался пыл знойного юга, и шум белорусского леса, и ропот северного моря — в тяжелых боях пронесенная сквозь смерть и огонь молодая отвага джигитов страны, насмерть стоявших за свою Родину. В счастливые эти минуты все увиденное и пережитое вспыхнуло вдруг в душе Арслана, и запылало теперь сердце, в жаре его сплавилось былое и настоящее, мечты и боль, и близкое счастье, Оттого движенья его казались законченными и единственно верными, правдивыми, как сама жизнь, — внимание всех было теперь приковано к этой великолепной, плывущей в вихре чувств танцующей паре. Потрясенно следили за ними люди, удивляясь свободе и легкости, высокому артистизму танца. Но никто не понял, завороженно глядя на них, что в этом узорочье нежных и бурных движений — разговор двух влюбленных и томящихся сердец.
Разошлись уже под утро. Первым поднялся Арслан, за ним потянулись и остальные.
Осоловелый Карим цепко ухватил Мунэверу.
— Ну, жена, отлично ты поплясала... Верно, а? А хорошо все было, верно? Здорово, а?.. Карим, говорят, сын Тимбика!. Эх-ха! Пр-равильно, жена?! Мы каз-занскими слывем, хоть в Казани не живем!.. Эх-ха!..
— Карим, погоди-ка, успокойся, слышишь? Да, да — очень хорошо все было, верно. Ну, не шуми, слышишь, детей ведь разбудишь... Спи, ради бога, да ложись ты, спи. Тебе же спать хочется, отпусти-ка руку, слышишь? Отпусти, говорю, руку. Синяк же вскочит. Карим! Да, да. Вот сейчас постелю. Не шуми только, слышишь...
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
Холмы края нашего — младшие братья Уральских гор: видно, природа сотворила их в едином грозном порыве. Тянутся они вдаль на сотни километров, столь похожие один на другой, в зеленых лесных шапках, с желтыми пятнами прогалин — невысокие, плавные, такие близкие нашему сердцу... С давних времен ставили люди у их подножий свои деревни, и на поймах степного Зая, что опоясывает холмы синею лентой, сверкали в летнюю пору быстрые крестьянские косы; думы же свои о далеком счастье, мечты об иной, светлой и беспечальной доле выразил наш народ в поэтических названиях, и не пропали те мечты без следа и памяти. Вслушайтесь... Чияле тау — гора Вишневая, Загфыран — Шафрановая, Нурсала — Лучистая, Кояш кёзе — Солнечное око, Жолы чокыр — Теплая лощинка... А иначе откуда и взяться бы таким ласковым именам?
Сравните же с ними названья деревень, что лежат окрест, — какое несогласие! Мактама (Не хвали), Бикасаз (Бабья трясина), Тайсуган (Убоинка), Бакалык (Лягушатник), наконец! А разве неясно, отчего они так насмешливы, даже злы, быть может? Оттого, что строились эти деревни в великих трудах, с надрывом и надеждою обрести хоть здесь-свое мужицкое счастье — да не оказалось его и тут, пропади оно пропадом... Что ж, так и жить теперь обманутыми?! И смеялись люди сами над собой, и называли деревни обидными прозвищами, в желании хоть чуточку отомстить этакому проклятому невезенью...
С Теплой лощинки, словно оправдывая прелесть названия, прилетает ласковый, медленный ветерок и, запутавшись на миг в дыму маленького костерка на берегу степного Зая, разносит кисловатый и сладкий запах его по застывшей полуденной округе.
Арслан, погруженный в раздумье, лежит ничком на бархатной траве, но, почуяв запах дыма, переворачивается и смотрит в сторону костра. Рядом с ним сидит на корточках широкоскулый парень в красной футболке и белых брюках, подкладывает в незаметный на солнечном ослепительном свету огонь палочки сушняка.
— Атнабай, а Атнабай... — говорит Арслан задумчиво, — скажи, но почему ты решил покинуть свои родные края и перебраться к нам... отчего?
Со смуглого, будто нарочно прокопченного в дыму и потому коричневого поблескивающего лица Атнабая вспорхнула чуть грустная улыбка:
— Та история долгая, Арслан-абый...
Они умолкают, занятые каждый своими мыслями. Арслан смотрит на белые груды облаков в синем небе, на плавное их движение: думает о том, что Атнабай сейчас, наверное, достанет из кармана курай[24] — что-то он чересчур беспокойно шурует угли в костре, видно, взволновался вопросом. По радио слышал Арслан, как играют башкиры на курае, а вот своими глазами видеть не приходилось, и впервые встретился он с этим чудным инструментом только в нынешнем году. И немало поразился: оказалось, что удивительно нежные, светлые звуки извлекаются из обычной сухой тростинки с пятью овальными отверстиями, но как они чисты! А как преображается Атнабай, когда играет на своем заветном курае: подрагивают и непрестанно двигаются, словно в страстной молитве, его губы, смеживаются, закрывая отуманенные глаза, темные веки, лицо его, замкнувшееся и таинственное, плывет безудержно в страну далеких, рожденных кураем звуков, и у Арслана даже становится как-то тревожно и безотчетно грустно на душе.
Пожалуй, курай и был причиною их сближения, быстро и крепко завязавшейся дружбы. Атнабай довез в тот день Арслана на своем грузовичке от Бугульмы до Калимата и, помнится, крикнул весело: «Не горюй! Мы еще встретимся!» Но месяца два-три он не показывался, да Арслан, не придавая этому особенного значения, и сам вспоминал его очень редко: разве мало хороших людей на свете, и у каждого своя судьба и свои дороги. Наверное, и «солнечный парень», шофер Атнабай Бахитгараев, мчится своим путем по нефтяным магистралям, и друзей у него, должно быть, много, так что напрочь забыл он, по всей вероятности, о случайном знакомце своем, по имени Арслан Губайдуллин.
Нет, оказалось, не забыл. Как-то раз сам разыскал он Арслана, пригласил его на излучину реки, развел там костер и долго играл на курае. Арслан узнал, что он в общем-то и не шофер вовсе, а верховой из бригады Нуретдинова, и водить машину научился по своей охоте, считая, что джигиту и семидесяти ремесел мало, — должен джигит знать и уметь все на свете. Обоим очень нравилась их основная профессия, но много говорить об этом они не стали лишь почувствовали друг к другу крепнущую симпатию.
Делились же они все больше мыслями, имеющими непосредственно к работе очень неблизкое отношение. И тот и другой влюблены были в родную природу, оттого выходные дни проводили вместе, где-нибудь на берегу степной реки, в лесу, на холмах или среди широкого луга. Очень скоро стали они неразлучными друзьями.
Вот и сегодня приятели отдыхали у костра, горящего над рекою медленно и неярко. Арслан видел, что неспроста долго возится Атнабай с сухими ветками — в душе его, видно, накапливается, переполняя ее, светлая и легкая грусть, столь привычная для степных наших просторов, — Арслан не докучал расспросами, лежал тихо и ожидающе. Атнабай вскоре притих и сам. Над излучиною Зая к недалеким холмам поплыли в солнечной выси ясного неба мелодии башкирского курая. В глубине они впитывались в белые туманы облаков и создавали свой особый и высокий мир; Арслан видел его ясно и... вспоминал о Мунэвере. В облачной, рожденной музыкою стране плыла она в праздничном танце, под белым платочком сияли ее глаза, и сам Арслан, протяжно крикнув сердцем, выходил напротив...
Долго лежал он неподвижно, внимая кураю, прислушиваясь к своей душе, и только перед тем как вылиться последней, уже запредельной ноте, приподнял голову и взглянул на Атнабая: музыкант играл с закрытыми глазами, губы его страстно двигались, заклинали, внушая почти суеверную истому, обретали в мертвой давно тростинке, в живо позванивающем вокруг мире бесконечной, как утренняя, размытая по горизонту степь, печальный, как шепот сухой травы на могильном кургане, голос мелодии. Вот он вздохнул, и голос угас... Атнабай вытер рукою влажный конец курая, дунул в него, завернул в чистую тряпочку и превратился вновь в простого, задушевнейшего парня с веселой, белозубой улыбкою на смуглом лице. И невозможно было поверить, что только мгновение тому назад был он вдохновенным властителем бездонной и колдовской страны, страны чарующих звуков...
— Атнабай, а Атнабай... Кто научил тебя так грустно, так здорово играть на курае?
Атнабай положил свою тростинку в карман, добавил в костер веточек и только тогда, с улегшимся уже волнением, ответил:
— Может, ты думаешь, я ношу его в кармане из гордости? Мол, я — башкир, вот и курай всегда со мною? Нет, Арслан-абый, кроме тебя, я его никому и не показывал.
Арслан, серьезно взглянув на друга, заметил, как тот мечтательно смотрит куда-то вдаль; далеким стало и лицо его — так же отрешенно играл он и на курае, — теперь же, наверное, вернулся домой, вспоминал Уфу. Молчали. Слышно было потрескиванье угольков в костре, звонко пели в высоких травах зеленые кузнецы, порывисто поднимался к солнцу жаворонок.
Атнабай, вернувшийся к неторопливым, негромко текущим водам Зая, словно дали той, где только что побывал незримо, послал протяжный, от сердца зов:
— Эхе-хе-хе-хееееййй!
Голос его, ударяясь о холмы, улетел и вернулся, но был глубок, шел волнами, потом поднялся куда-то ввысь и исчез в облаках.
— Слышал? — таинственно шепнул Атнабай.
— Да. Твой голос вернулся обратно?
— Это эхо... Так разговаривает одна природа.
— И что же она говорит?
— Вы, говорит, люди, добрались до моего клада, который я миллионы лет хранила у себя в груди, а что вы, говорит, люди, дадите мне взамен?
— Это она всерьез или просто шутит?
— Нет, Арслан-абый, природа — человек серьезный, она шутить не умеет.
— А что же ей надо? Я ведь тоже сын земли. И могу отдарить ее только одним: своей честно прожитой жизнью.
— Ну, Арслан-абый, этого — мало. Честно — само собой, но еще и так, чтобы стала земля цветущим садом. И человек чтобы, глядя на дело рук своих, радовался, становился щедрым, чтобы душа его не высыхала от жизни, все равно как река от зноя. Чтобы все в нем было чисто и хорошо. Вот как в природе...
Он вздохнул и, улыбаясь, поглядел на прозрачные струйки, кинул в них сухую ветку — может, думал: вдруг оживет? И улыбка эта была настолько по-детски простодушной, что Арслан нисколько не усомнился в искренности его слов, поверил им и даже почему-то растрогался и сказал с простодушною тоже ласкою:
— Ты, дружок, с каждым днем все более открываешься... Как цветок под солнцем — доверчиво. Мама твоя, случайно, не цветы ли выращивала?
Атнабай не отвечал. Положив руки под голову, он лег в зеленую траву и затих, однако тут же сел и, словно боясь этого разговора, с затаенной тоской быстро произнес:
— Маму я только на сцене видел. Она, помню, всегда играла мать, потерявшую сына...
— Разве она не с вами?
— Нет. Оставила меня отцу, вышла замуж, уехала...
— Почему так?
— Не знаю. Отца я не расспрашивал, сам не говорит. Наверное, не захотела жить с нефтяником. Может, надоело стирать его грязную одежду, мало ли...
— Отец у тебя тоже нефтяник?
— О, даже знаменитый. Мастер Бахитгараев, не слышал? Депутат.
— Ах, вот оно в чем дело! Ты, выходит, по стопам отца решил?
Арслан сказал это очень тепло, безо всякой иронии, наоборот — полностью одобряя выбор друга, но тот все же смутился и неловко запротестовал:
— Да нет, какой там по стопам... Мне и в голову-то не приходило, что стану нефтяником, не веришь? Я в театральное, поступал. И заявление уже подал, все вроде бы нормально, думал — пройду. Отец тогда пошел прямо к директору и попросил: на экзаменах обязательно завалите, не желаю, мол, чтобы он артистом вырос. Вот такие пироги...
— Надо же, какой суровый!
Покусывая травинку и морщась от ее горького сока, Атнабай некоторое время помолчал, потом резко привстал и бросил в костер сухие стебли полыни. Они занялись с шорохом, и пламя мигом поднялось высоко и желто; просветлело и лицо Атнабая, будто в высоком огне сгорала вместе со степной пахучей травою и память о той обидной неудаче; уже не ожидая дальнейших расспросов, он весело и легко досказал:
— Ну, на экзаменах, конечно, дали мне прочихаться — до сих пор помню. Подходит ко мне один заслуженный артист — он у них там главным был — и говорит певучим таким голосом, словно стихи читает: «Вы, говорит, молодой человек, Атнабай Мухаметгараевич Бахитгараев, как я понимаю, собираетесь стать актером. Но верите ли вы, что сумеете донести до народа великие чувства, передать со сцены великие мысли, или же пришли сюда из простого отроческого любопытства?» Нет, отвечаю, не из любопытства, верю. «Ну что ж, прекрасно. Тогда представьте себе на минуту такое дело: вы, скажем, не безусый юноша, но опытный буровой мастер. И даже прогремели успешным трудом на всю Башкирию, ваше имя окружено славою и почетом. Но вот в один прекрасный день люди, работающие с вами, перестали вас уважать — почему? Потому — что вы зазнались, от больших похвал у вас закружилась голова, и вы возомнили себя единоличным героем. Вам понятно?» Понятно, говорю, чего же тут непонятно. «Ну, если понятно, то подготовьтесь, пожалуйста, и будьте добры показать нам этого мастера».
— Эх ты, как он ловко тебя подцепил! — воскликнул Арслан, заинтересованный рассказом друга. — Под самые жабры! Ну-ну, и что же ты?
— А я, Арслан-абый, от досады чуть не лопнул — вот невезуха! Хоть бы раз до того побывал у отца на буровой, нет, неохота все, и на тебе: попался по своей же дурости. Как эти буровики выглядят, как они себя держат — ну ни в зуб ногой, понятия не имею. Отца своего изобразить — так ведь я только дома и видел: не толстый, не пьяница, депутат, ну и что? Головы он от успехов не терял, делами не хвастал, тут от него никакого толку. А ведь, думаю, заслуженный нарочно дал такую тему: знал, что у меня отец буровик, что поэтому наверняка желает и сына в буровики определить, а я видишь ли, в театральное подался. Эх, думаю, ну что мне стоило на буровую съездить, поглядеть, где отец работает, вот теперь и поплатился... Все по театрам пропадал, жил там, можно сказать, во сне себя каждый день видел: артист! — Атнабай фыркнул и горестно прижмурился. — Мне бы, конечно, готовиться по-настоящему, а не мечтать... Но, вижу, и время-то мое уже близко. Комиссия пока над каким-то парнем хохочет, обыкновенный такой парень, тощий, веснушчатый, а досталось ему ловить курицу, благодать! Вот он и носится по комнате, руки расставил, падает то и дело, на карачках бегает — комиссия за животы держится. Ну, думаю, попалось бы мне это — они у меня и вовсе бы поумирали; помню, на районной олимпиаде как-то выступал: и курицей квохтал, и петухом пел, а быком взревел — так самому страшно стало. Первое место взял! Повезло, думаю, рыжему, такая хорошая тема попалась, недаром у него рот-то до ушей разлезся. Так и отхватил ведь пятерку, курощуп недоделанный!
А заслуженный уже просит меня на середину. Голос у него такой благообразный, такой благолюбезный, что аж подташнивает меня с него. Ну, выхожу. Комиссионные эти на меня, значит, теперь вылупились, ждут. «Прошу вас», — говорит заслуженный. «Давай!» — говорю я себе. Давай так давай. Сложил я с правой руки аккуратную, вкусную такую дулю и — раз ее! — под нос заслуженному. С левой руки кукиш похуже получился, не такой аппетитный, но все равно: раз его! — под нос комиссии. Это молчком, ни гугу. Гляжу: челюсти у них отвалились, брови по лбу прыгают — обалдели... Тут я скорчил страшенную рожу, какой в детстве соседскую девчонку пугал, подскочил к столу да как рявкну, заслуженный чуть со стула не спорхнул: «Что?! Кого?! Меня?! Чего ждете? От меня ждете? Ну и ждите! Не намерен! Не дождетесь, и точка!»
Заслуженный отдышался, подзывает меня поближе. Голос — ну, черт его знает, касторовый какой-то: жирный, мягкий. «Вас, говорит, молодой человек, природа способностями не обделила. Но поймите, говорит, ведь у нас давно уже перевелись такие глупые мастера, такие махровые петухи, какого вы нам показали. Запомните это, голубчик, и намотайте себе на непробившийся еще ус. Вот вы нам тут темпераментно устраивали из рук известные фигуры, — возможно, при большом старании, из вас и мог бы получиться драматический актер. Но ведь мало иметь темперамент, необходимо еще знать, где и как его употребить, чувствовать меру и стиль, то есть играть прежде всего осмысленно. Тогда зритель примет вас, поймет и полюбит; только тогда вы заслужите его уважение...» Полчаса говорил и не задохнулся. Так у него все гладко да авторитетно получалось, что у меня всякий интерес пропал, нет, думаю, ну его куда подальше. Уж если теперь, думаю, он с такой силою меня оседлать норовит, то учиться начнешь — и бубенцы еще привесит. С малых лет не выношу, когда кто-нибудь из себя бога строит: надо по-человечески к людям относиться, и нечего по полчаса долбить им прописные истины — голова от этого пухнет. Нет, Арслан-абый, что ни говори, а не люблю я умников и пустоболтов, аж в груди у меня от них переворачивается. Короче — умотался я из театрального, только вот сказал ли заслуженному спасибо — не помню. А надо бы! Поступил в Ишимбаевский нефтяной техникум. Директор там очень хороший мужик оказался, и работа нефтяника мне очень понравилась, в общем, учился с удовольствием. А как закончил — приехал вот в ваши края.
— А отчего там же не остался?
— Отец говорит: если будешь работать в Башкирии, станут к тебе относиться как к сыну депутата Бахитгараева. Местечко теплое подыщут. Так и будешь ты всю жизнь «сыном». Поезжай-ка, говорит, лучше в Татарию, поработай плечом к плечу с татарскими джигитами — вот и создашь сам свою биографию. А что: правильно — я и поехал.
— Эх, какой ты, однако, Атнабай, человек!..
— Чего?
— Пошли искупаемся! — Арслан, ухватив друга за руку, легко, как пушинку, вскинул его в воздух, засмеялся и осторожно бросил вперед. Атнабай, потешно дергая ногами, приземлился шагах в пяти, подпрыгнул еще и, на ходу скидывая брюки, поковылял к реке. Скоро они рядышком, словно два дружных тюленя, плыли к противоположному песчаному берегу, фыркали и колотили по воде, вздымая тучи серебряных брызг.
Когда они, вдоволь накупавшись, выбрались наконец из воды, солнце уже близилось к закату. Выбрав из кучи остывающей золы испекшуюся картошку, приятели раскрыли свои полевые сумки, с которыми обычно ходили на буровую, и достали оттуда разную снедь: хлеб, колбасу, лук, яйца..,
— Эх, водочки бы еще трахнуть, грамм по сто! — восхитился Атнабай, отколупывая кожуру с рассыпчатой дымящейся картофелины.
— А я чего-то поостыл к ней. Когда с войны только пришел, от расстройства было крепко закладывал, да почувствовал, что дурею. С тех пор редко. Ум отшибает, чертовка...
От долгого купанья они порядком замерзли, и обжигающая с дымком картошка подействовала на них не хуже спиртного. Ели с такой неугасающей охотой, что только за ушами трещало, поглядывали беззаботно на реку, на удлинившиеся, пятнистые по траве тени. Откуда-то донесся, явно нарастая, низкий рокот мотоцикла, оба одновременно оглянулись на звук: в пол километре от них, по дороге, уползающей за гору Загфыран, бешено мчался одинокий мотоциклист. Скорость его была так велика, что казалось даже, будто он не едет, а летит над землею, лишь изредка касаясь колесами кочек и бугров; это сходство с полетом усиливали еще и бьющие по ветру, словно крылья молодого беркута, полы кожаной, блистающей в лучах заходящего солнца куртки водителя.
— Смотри, смотри, как шпарит! — вскричал с искренним восхищением Атнабай, провожая глазами быстро уменьшающуюся фигурку мотоциклиста.
— Мастер ваш! Карим Тимбиков... На буровую поехал. Ух ты, вот дает так дает — гляди, как подымается!
— Подымается... — повторил Арслан, задумчиво взглядывая в ту сторону. — Как шар в небо.
2
Дела у Карима шли успешно — полным ходом, и все увереннее в себе, все неугомоннее и настырней становился он в работе. С первой же премии купил мастер себе мощный мотоцикл и теперь за сутки успевал объездить все места, где находил нужным побывать: конечно, прежде всего контору бурения, трест и отделы снабжения. Руководители и снабженцы были готовы выполнить его требования, лишь бы отделаться от назойливого, способного выбить из самого прижимистого начальника самый дефицитный материал и оттого даже опасного мастера — давали Кариму все, что просил он, беспрекословно. Потому и на буровой у него никогда ни в чем нужды не испытывалось; прибывали вовремя и буры, и цемент, и обсадные трубы, но уж если задержится что — Карим недорого возьмет и к управляющему слетает, благо мотоцикл теперь всегда был под рукою. А Кожанов гордился успехами молодого мастера и крепко верил, что именно он выведет трест на большую дорогу, принесет всесоюзную славу, поэтому всегда шел Кариму навстречу.
В начале сентября бригада завершила свою вторую скважину. Работали во всю мочь, с неистовым азартом — экономии времени на этот раз вышло полных двадцать семь дней. Это была уже большая победа; победа такая, что заставила руководителей со всей пристальностью вглядеться в бригаду и увериться в появлении нового рекордиста. Николай Николаевич, казалось, полностью убедился в своей правоте — а ведь с этим талантливым парнем целый коллектив может прогреметь на весь Советский Союз! Создать ему все условия, пробудить веру в свои силы — вот что теперь нужно. И тогда мы еще посмотрим!
Но только было собрался Кожанов серьезно поговорить о многообещающем Тимбикове с директором конторы Митрофаном Зозулей, как ему сообщили о внезапной болезни Карима. Не было, что говорится, печали — черти накачали: в тот самый день, когда закончили скважину, Тимбиков с некоторыми молодцами из своей бригады пошел в какую-то на окраине Калимата закусочную и так отметился там, что ночью, возвращаясь домой, свалился в канаву. По ночному времени ни зги не было видно, канава глубокая, и, оглушенный водкою и падением, Карим долго и с трудом выкарабкивался из ямы, потерял с одной ноги резиновый сапог, а скорее, даже сам втоптал его в грязь — так, в одном сапоге, вымазанный с ног до головы глинистой жижею, и заявился домой под самое утро.
От такого стыда и сраму два дня беспробудно, в одиночку пил он, на третий жестоко заболел и только на пятый день, все еще с глубокого похмелья, сумел к концу первой смены выйти на работу. Буровики скрыли сей факт от начальства — на подобные штучки привыкли они смотреть сквозь пальцы; к тому же полюбился им..Карим за беспокойную душу свою, за большую заботу о бригаде, и они посчитали это за временное помутнение в его удалой голове: сам, мол, сломался, сам и починится. И вправду, Карим уже через неделю поправился, стал прежним боевым мастером — подтянутым, с аскетическим при впалых твердых щеках лицом, с пронизывающим строгим взглядом; трудолюбив он был необычайно. Короче, все решили, что выходка его прошла незамеченною и начальство, слава аллаху, ничего не узнало. Но однажды к буровой подкатила-таки личная машина Николая Кожанова, и шофер управляющего решительно увез мастера к своему шефу, хотя и отговаривался Тимбиков поначалу всякими неотложно-срочными делами. Дорогою Карим, встревоженный столь неожиданным вызовом, попытался было узнать у водителя, что же такое произошло в верхах, но тот отделался осторожною фразой: «Мне не докладались».
А за день до того на имя Кожанова пришло почтою некое анонимное письмо. В письме этом, совсем непохожем на обычные кляузы, с глубокой и искреннею тревогой сообщались о молодом и талантливом мастере Тимбикове нелицеприятные известия: будто пристрастился он крепко к спиртным напиткам и, если не принять теперь же строгих мер, очень даже быстро может свихнуться и стать пропащим человеком. Управляющий долго раздумывал над письмом, наконец решил, что оно от чистого сердца, и приказал немедленно доставить мастера к нему в трест, но не впускать сразу, а потомить в приемной часа так полтора.
Комната, где сидела секретарь-машинистка управляющего Маруся, была большая, просторная. В ней постоянно толпились посетители, спрашивали Николая Николаевича, и одних Маруся сразу же допускала к Кожанову в кабинет, другим отвечала: «Нельзя — он занят». Потом к ней подсела какая-то расфуфыренная девица с лаковыми губами, стреляя в Карима густо накрашенным глазом и подергивая плечиком, вывалила за несколько минут целую кучу свежих сплетен: потрясающие платья, сшитые одной знакомой, Любовь Орлова, которая постарела и сделала массу пластических операций, но все равно уже сошла, конечно, со сцены, какой-то красивый мужчина и даже поступившие в продажу замечательные удобные лифчики. Вслед за нею из планового отдела явилась средних лет женщина в зеленой кофте и, упорно насев на Марусю, выискивала невесть куда затерявшуюся ведомость, повторяя равнодушно-раздраженным голосом: «Такая, знаете, простым карандашом написана. И куда могла задеваться? Простым карандашом, помню, написана...»
Карим, вызванный с пожарной спешкою и потому надеявшийся тотчас же, без всякой очереди попасть к Кожанову, через час примерно ожидания в этой глупейшей приемной от злости изошел черной желчью. Понаблюдав с час-другой работу администрации, почувствовал он вдруг отвращение к ней на всю жизнь. Несколько раз кидался он к секретарю-машинистке, надеясь все же пробиться к управляющему, но та была настолько привычна к нетерпению посетителей, что, вероятно, потребовалось бы по крайней мере садануть в нее из бурового шланга глинистым под давлением не менее ста атмосфер раствором, чтобы хоть чуточку сдвинуть с места. В ответ на яростные наскоки побагровевшего от раздражения Карима секретарша вытащила из сумочки маленькое зеркальце, помаду и принялась тщательно и со вкусом украшать невозмутимое свое личико.
Кариму до смерти захотелось выскочить на улицу и глотнуть свежего воздуха.
— Да скажите хоть, для чего вызывали-то? — взмолился он почти уже жалобно.
— Понятия не имею, — ужасающе беспечным голосом отвечала та.
Единственным человеком, вошедшим в его положение, оказался мастер Сомов, приехавший с буровой по какому-то срочному делу. Наклоняясь к Кариму длинным и костлявым туловищем, он участливо спросил:
— Кого ждешь, коллега?
— А черт его знает! Вызвали, сижу битых два часа — сгнил уже напрочь! — нервно проговорил Карим и дернул головою.
— Ого! Ну, это не к добру. Такая метода редко к кому применяется, честное слово. Вот, помню, в прошлом году, как жена от меня ушла, часа три, пожалуй, томили в приемной, а потом — бац! Ты аморальный тип, и пошло и поехало! С тех пор только метров на двадцать к тресту подойду — с души воротит, честное слово!
Посочувствовав Кариму от всего сердца, Сомов отправился по своим делам, а Карим опять погрузился в мрачное ожидание. Маруся тем временем, услышав звонок Кожанова, вошла к нему и потом пронесла в кабинет стакан чаю с лимоном, бутерброд и большое зеленое яблоко.
Когда же Карим вспомнил все свои на протяжении не очень еще долгой жизни прегрешения и даже малые грешки, когда устал он уже волноваться и паниковать, когда дошел до такого состояния, что мог на все плюнуть и умотаться домой, его наконец вызвали в кабинет.
Войдя, Карим увидел за столом Николая Николаевича, успевшего выпить чай, съесть бутерброд и только что надкусившего зеленое яблоко.
Карим, глядя на Кожанова, почувствовал вдруг невыносимый голод. «Ах, дьявольщина, если сглотнуть, так ведь заметит!» — мелькнуло у него в голове, и сразу он страшно разозлился на себя, на Кожанова и особенно на пустые его расспросы. Стоило для того, чтоб узнать марки насосов, вытаскивать его с буровой! Надо же! Ни в грош не ставят время рабочего человека. Мало того, заставляют еще часами в приемных толкаться, на смех всяким наштукатуренным Маруськам. Начальничек, язви его в душу! Выволочь бы вас всех из кабинетов да поставить у глиномешалки, чтоб крутили ее, пока не лопнут подтяжки. Вот тогда небось узнали б цену рабочему времени, паразиты этакие!
Кожанов доел яблоко и стал вытирать рот большим в крупную фиолетовую клетку носовым платком. Карим, в свою очередь, вытянул из кармана громадные серебряные часы — военный еще трофей — и глянул на них с явным намеком: ждать, мол, товарищ начальник, времени больше нету. И в тот же миг увидел, как изменился в лице управляющий: губы сжались в злую нитку, раздулись ноздри крупного носа, и глаза сверкнули серой сталью; повернувшись круто к Кариму, бросил он, срываясь на крик:
— Пьянствуешь, подлец?! — и выругался затем отчаянно и заковыристо. Карим наконец уразумел, в чем тут дело, но в отместку за долгое томление под дверью ответил улыбчиво и даже нахально:
— Закладываю малость. Куда ж такие деньги-то девать, если и не выпить для души!
Кожанов медленно поднялся с места, осторожно, словно крадучись, обогнул стол и, выйдя к Тимбикову, с размаху вдруг треснул по столешнице волосатым кулачищем:
— Как ты разговариваешь, а?! Такую должность тебе доверили! От-вет-ственную! Добра государственного — на миллионы, жизни людские — двадцать судеб, а ты... ты... смеешь пьянствовать... По канавам валяешься.
И пошел, и пошел орать. Сыпались на голову Карима слова одно злее другого, одно грознее другого. Он и сам уж не рад был, что полез в пререкания, стоял поэтому тихо и смирно, но в душе его закипала горькая обида. Что, в самом-то деле, работаешь, работаешь день и ночь, и тебя же потом ругают. Словно пацана сопливого! Врезать бы ему разок вот этим вот испачканным в мазуте кулаком, и пусть потом таскают по парткомам. Ну, погодите, вы еще узнаете, кто такой Карим Тимбиков, увидите, только бы выбраться из этого кабинета... Кожанов наконец устал кричать и, вытирая клетчатым платком вспотевшее, красное, как из бани, лицо, выдохшимся, хриплым голосом произнес:
— Иди, работай! Но смотри: если узнаю, что еще хоть раз валялся на улице, — забудь тогда и дорогу на буровую.
В ту же минуту Карим выскочил из кабинета. Был он страшно обижен, чувствовал крайнее унижение, и даже ко всему равнодушная секретарша, взглянув на его белое в багровых пятнах лицо и подрагивающие судорожно крылья горбатого носа, скрестила в изумлении руки и тихо ахнула.
Происшествие это стало уже понемногу забываться, обида Карима несколько поутихла, когда — недели через две после взбучки в тресте — на буровую заявился неожиданно сам Кожанов. Нахмуренные брови его и сжатые губы не обещали ничего хорошего; холодно поздоровавшись, он прошел в культбудку и долго копался в журнале, затем часа два не покидал буровую, наблюдал работу вахты Любимова. И только перед самым отъездом, отозвав Карима в сторону, с треском разодрал обертку на коробке с дорогими папиросами «Герцеговина Флор» и предложил мастеру закурить, впервые за все это время скупо, но открыто улыбнувшись. Карим предложенную папиросу курить не стал — был этот табачок чересчур слаб для привыкших к сердитой махорке буровиков, но этого, хоть и позднего, а все же такого приятного внимания со стороны Кожанова хватило, чтобы растопить лед холодной обиды, казалось, крепко осевшей на душе Тимбикова.
«Справедливый мужик, что там ни говори, — подумалось ему облегченно. — Не по делу ругаться не станет. Сам я виноват...» И эти мысли наполнили его почему-то твердой в себе уверенностью — как на сегодня, так и на будущее.
А Николай Николаевич по приезде в трест вызвал к себе директора конторы Митрофана Зозулю.
— Вот что, Митрофан Апанасович, был я сегодня на буровой Карима Тимбикова. Способнейший человек! Надо его поддержать. Пора, знаете ли, прививать буровикам вкус к рекордным скоростям. Без этого нам никогда не достигнуть всесоюзных масштабов!
Не отрывая глаз, наблюдал Кожанов, как воспримет Митрофан Апанасович его слова. О случае же с пьянством Карима и о том, что вызывал он мастера к себе, ругал его за это последними словами, не проронил на этот раз ни слова.
3
С совещания выходили вместе.
Чрезвычайно взволнованный Лутфулла-абзый в сердцах повторял одно и то же:
— Нельзя, нельзя так, товарищ секретарь. Один он, что ли, работает? Нет, нельзя, нельзя так, поймите же...
Назип Курбанов, набивая табаком свою старую из орехового дерева, отполированную частыми прикосновениями, матово поблескивающую трубку, осторожно возразил:
— Ты, друг Лутфулла, видно, забыл свою собственную молодость. Молодость, брат, это ж такая пора! Вспомни-ка себя лет эдак тридцать назад, а? Вспоминай, вспоминай! Каким ты был? Не стригунком ли необъезженным? А когда впрягся в работу, сколько оглобель переломал, немало, поди? Вот то-то и оно, под старость-то все мы становимся чересчур благоразумными...
— Постой, товарищ секретарь, что ты мне тут об оглоблях рассказываешь? Может, я как раз ни единой не сломал!
— Ох, врешь, друг Лутфулла, мне ли не знать — сам я был в точности таким же; недаром отец грозился оттягать меня кленовым вальком, да не один к тому же раз. В молодые годы, брат, спокойно не сидится: когда мне восемнадцать стукнуло, я тайком от отца в комсомолию записался да и махнул добровольцем против Колчака! А теперь на старости лет остепенились, вон какие осторожные стали! И это не так, и то не по-нашему... Ладно, скажем, сегодня Тимбиков выскочил, похорохорился лишнего, к опытным мастерам без должного уважения отнесся, пусть. Но сам ты в его годы разве ж обдумывал все свои поступки? Ему пока все нипочем! Однако что ты расстраиваешься? Наступит и для него день, когда не будет он мчаться, закусив удила, а пойдет согласно в ту сторону, какую вожжу потянут, ну в точь, как старая крестьянская лошадь... Засеребрятся и у него усы... А пока зачем его трогать? Будем великодушны, друг Лутфулла...
Из дверей конторы гурьбою повалила молодежь, и тотчас, словно в подтверждение слов Курбанова, двор наполнился гомоном звонких и юношеских страстных голосов. Среди них, кажется, был и Карим Тимбиков, имя его звучало особенно часто, и то там, то здесь раздавались одобрительные восклицания: «Правильно говорил, мастер!», «Молодец, Карим!», «Ну, задал ты им жару!», «Не испугался начальства, здорово!» Лутфулла-абзый, жалея, что не успел досказать свою мысль в спокойной тишине, позвал парторга за собой, и, когда они, обогнув контору, вышли на другую ее сторону, куда не доносился поднятый молодежью гам, он тихо, настойчиво продолжил прерванный спор:
— Нет, товарищ Курбанов, ты меня неправильно понял. Что ж получается: я тебе про Фому, а ты мне про Ерему! По-твоему, выходит, будто я молодых зажимаю, завидую, что ли, им, — а ведь обидно это слышать, не понял ты меня. Я молодым поперек дороги не становлюсь. Только что я хочу сказать: зазнается Карим, непременно нос задерет. Можешь ты это понять? Скромности-то в нем и не осталось уже... А кое-кто пытается слабые его стороны выдать за сильные; похвальбу, к примеру, за принципиальность и еще там... Балуют его, ей-богу! Вот чего я опасаюсь...
В общем-то, парторг Назип Курбанов и сам понимал, что вокруг Карима Тимбикова поднялась в последнее время чересчур уж большая шумиха. Но полагал он это не столь уж страшным; любое новое дело всегда несет в себе много неожиданностей и, кстати, чаще всего бывает даже несколько от задора раздутым, так как те, кто в нем уверен, всегда излишне кричат по его поводу. То же самое, ему казалось, получается и теперь. Неужели он что-то недопонял и упустил из виду?
Долгие годы партийной работы приучили Назипа Курбанова вглядываться в людей и в события с пристальным вниманием, не спешить, не торопиться с выводами. Жизнь Курбанова пришлась полностью на двадцатый век, и все бурные события его не миновали Назипа: на самых крутых поворотах истории был он с народом, полно участвуя в грандиозной борьбе за светлое будущее. Советскую власть встречал Курбанов семнадцатилетним пареньком, а совершеннолетие свое отметил уже на фронте гражданской, с трехлинейной винтовкою в руках... О сверстниках Назипа, павших в боях с контрреволюцией, пели хорошие, душевные песни — пели как о красных героях, о молодых батырах.
Судьба уберегла Курбанова; видно, не суждено было ему погибнуть ни от белогвардейской пули, ни от бандитской шашки. Другая великая революция — коллективизация сельского разобщенного хозяйства застала его тридцатилетним мужем, крепким, жилистым, успевшим набрать и силу, и жизненный опыт. Многие друзья-товарищи Курбанова погибли в ту суровую пору от кулацкого топора, но вновь пощадила судьба Назипа, сохранила коммуниста-двадцатипятитысячника для будущих больших дел. Уцелел коммунист Назип Курбанов, хотя не раз подстерегала его неминучая смерть, — был он в самом водовороте борьбы: в Калиматовской, Нурсалинской, Азнакаевской волостях хорошо знали смелого партийца — и бедняки, и кулаки-богатеи. Лежать бы ему в сырой земле, когда бы не природная смекалка Назипа да отчаянная его находчивость... Скажем, однажды ехал он зимним вечером из Азнакаева, где раскулачивал местного кровососа, дремал в телеге, закутавшись в теплую доху, как вдруг услышал позади гиканье, крики и ярый перестук копыт. Оглянулся — погоня! Близко уже летит, всхрапывая, запряженный в кошевку могучий жеребец, перегибаясь, вглядываются в зимний сумерек пьяные детины, догонят — убьют! Поглядел Назип по сторонам и увидел, что едет как раз мимо кладбища, поднял воротник повыше, сложил смиренно руки да затянул слезливым голосом молитву по усопшим. Приняли его тогда, видно, за муллу и, вздымая ветер, промчалась погоня мимо, так и пронесло.
Но опасность висела над ним постоянно, потому пришлось даже сменить имя и фамилию, долго еще называли его вымышленным прозвищем Зайсу. И только в политотделе МТС, куда он был послан на работу партией, получил Курбанов новый паспорт — на свое настоящее, от отца и деда данное имя. Началась Отечественная война, Курбанов к этому времени стал грамотным, хорошо знающим технику и людей, опытным партийным работником. Науки за среднюю школу одолел он самостоятельно, изучить технику помогла работа в МТС — к началу войны любой трактор и любой комбайн знал Курбанов как свои пять пальцев. На войне попал он в танковые войска, чем очень гордился и даже домой прислал как-то фотокарточку, на которой стоял, улыбаясь, возле запыленного боевого танка. В военную часть назначили Курбанова политруком, политической закалки у него было достаточно, и чуткости, душевности хватало — людей Курбанов знал и понимал.
Возвратившись после победы в родные края, Курбанов, не сомневаясь, пошел работать к нефтяникам. Прежнего здоровья и силы уже не было, сказывались полученные на фронте ранения и контузия, частенько скручивало его, и старые раны мучительно ныли — в такие дни Курбанову приходилось трудно. Стискивая зубы, превозмогал он боль, но порой, не выдержав, расстраивался, усталые нервы сдавали, и жене его, многие годы проработавшей в библиотеке, удивительно терпеливой и тихой женщине, приходилось выслушивать немало неуместных слов, выброшенных вперемешку с дымом старой, оставшейся Курбанову от фронтового друга трубки.
Вот и сейчас он по старой привычке плотно набил ее и глубоко затянулся крепким, горьковатым дымом. Слова мастера встревожили его основательно. От табака вдруг закружилась голова, затошнило — Курбанов вспомнил, что с самого утра не брал в рот ни крошки; захотелось чего-нибудь горяченького, супу, скажем, или еще чего; тогда и настроение поднимется, и проще будет докончить нелегкий разговор. Но как-то неудобно было обрывать на полуслове старого мастера, который всей душой болеет за общее дело, а оттого, понятно, и волнуется больше всех в тресте. Выждав, когда Лутфулла-абзый замолчит, Курбанов мягко и ненастойчиво, стараясь не обидеть мастера, предложил:
— Слушай, друг Лутфулла, а не зайти ли нам перекусить в столовку? Потом и поговорили б уже обстоятельно.
— А чего, конечно, можно. Но пойдем-ка лучше к старухе моей Тауфике, домашнюю лапшу кушать будем.
— Ну, брат, это неловко. Заявимся ни с того ни с сего — она, может, на гостей и не рассчитывала...
— Ерунду говоришь, товарищ секретарь. Моя старуха в жизни не готовит так, чтобы на половинки мерить. Сам же знаешь, сколько у меня ребятишек растет, — там без запасу не прожить.
— Знаю, знаю, — ухмыльнулся Курбанов. — На детишек ты, брат, мастак. А как старший-то твой? Не думает возвращаться? Где он у тебя нынче, в разведке?
— В разведке. Где-то под Елабугой. Хорошо бы, конечно, если вдруг вернется; стали б из одного котла есть. Только... не тянет его что-то в наши края, не знаю уж, отчего...
— Да... Дети наши теперь самостоятельные, сами с усами. Мой вот в Норильске остался, не поеду, говорит, и баста. Что с ним будешь делать? Страна у нас, конечно, огромная. Где бы ни жил — все дом родной.
Неторопливо, изредка переговариваясь, шагала они по выложенному плитками тротуару совсем новой улицы. По обеим сторонам посажены молодые клены, в новых однотипных домах светились окна, бросая на асфальт теплые желтые пятна, на углу стоял забытый строителями ящик из-под цемента, у палисадников толковали о чем-то пожилые люди.
За столом разговор вновь вернулся в прежнее русло. Поглядывая на серебрящиеся ранним инеем виски Курбанова, Лутфулла-абзый решительно гнул свою линию:
— Карим — парень дельный, за что возьмется, сделает на совесть, в том спору нет. Да он в моей бригаде работал — уж я-то его знаю. Такой парень, будто нарочно сделан буровиком. Прирожденный нефтяник, ей-богу! Но неустойчив, и дела на нынешний день у парня плохи. Говорю это не из пустой зависти, поверь. Судьба его, товарищ секретарь, на чаше весов, и если другие того не понимают, ты-то уж должен понять! А весы врут! Почему? Да потому, что фальшивые они, гири. Стоит Карим один-одинешенек, но враз те гири перетягивает, а потому и кажется этаким удальцом из сказки. А разве это верно? Слышал, как Кожанов на совещании разорялся: Тимбиков — талант, Тимбиков — будущая знаменитость, Тимбиков побьет все рекорды. Можно подумать, что во всей Татарии, кроме Карима, и мастеров-то больше нету.
Назип Курбанов отставил поднесенную было ко рту полную ложку и с интересом уставился на Диярова.
— А с самим Кожановым ты не говорил на эту тему?
— Говорил, конечно.
— Ну, и как он смотрит?
— Как, как, и он тоже сыплет твоими словами. Нам, мол, не следует заботиться только о себе, товарищ Дияров, но следует учитывать интересы коллектива и думать о подготовке достойной смены. Во как! Аж зло забирает. Будто я только и делаю, что о своей славе пекусь. Мне теперь эта слава, товарищ секретарь, как собаке палка...
Курбанов захохотал на всю комнату, и у серых глаз его, сузившихся в щелочки, бесчисленно разбежались лучистые морщинки.
— Так, так, и что же ты Кожанову ответил?
— Я ему говорю, ты, мол, товарищ управляющий, меня такими громкими словами с толку не собьешь. Не от сердца они, твои слова! И, как коммунист, я не имею никакого права закрывать глаза на подобные неправильные решения, а если закрою, так не пришлось бы нам всем позже локти кусать! И что же он мне отвечает? Ты, говорит, товарищ Дияров, совсем от жизни отстал, а еще, говорит, десятки лет землю бурил. Чуешь, какие он слова-то находит, знает, проклятый, мое слабое место; нам, говорит, в добыче нефти давно пора достигать высоких скоростей, чтобы догнать, мол, и перегнать всякие там империалистические державы, и делает это он мне небольшую речь про Америку. А заканчивает так: до подобных, мол, высочайших скоростей, говорит, если и доберется кто — то уж, конечно, не ты, и не я, а такой бесстрашный джигит, как Карим Тимбиков.
— А ведь он правильно говорит, друг Лутфулла.
— Чего правильно?
— Чего? А вот чего! Мы, брат, теперь такие опытные стали, что всего боимся. И все-то нам известно: на каком километре у нас дыхание оборвется, на каком участке с ног слетим — это мы знаем заранее. И в такой далекий путь нас не уговорить ни за какие деньги. А у молодежи такого опыта и нету, так что она и знать не знает, какие ее ждут в дороге ямы да кочки, где она себе нос расквасит, а где шею свернет. Оттого и несется в путь сломя голову. А если встретится ей глубокий ров, долго раздумывать не станет — гейкнет — и, глядишь, яма-то непроходимая позади осталась.
Лутфулла-абзый, словно представляя себе, как это можно, гейкнуть и перескочить непроходимую яму, помолчал. Конечно, он хорошо знал, что проходка скважины — не лихая скачка и криком там не возьмешь. Но после слов Курбанова в душе у него все же шевельнулось горькое сомнение. Может, и вправду стареет он, чем черт не шутит, может, отстал от жизни...
Лутфулла-абзый вздохнул, крякнул про себя и посмотрел в сторону кухни. Тетушка Тауфика заваривала там чай и вскоре, в больших цветастых чашках, внесла его в залу и со словами — а вот угощу-ка я вас душистым да крепким чайком! — подала первую чашку гостю. Не успел тот допить, как она с ласковым радушием предложила ему вторую — Курбанов не отказался. Горло пересохло, да и чай был хорош — отчего не попить, если так угощают? С довольным оханьем испили по второй, затем по третьей; Лутфулла-абзый попросил еще, не желая отставать, поддержал его и Курбанов. Лутфулла-абзый, выпив, тут же снова протянул жене чашку: не сумев убедить парторга в своей правоте, хотел, кажется, хоть здесь выйти победителем. Но Курбанов оказался крепким орешком — опорожнил полных семь чашек; только тогда отвалился и, промокая узорчатым полотенцем с лица и шеи градом льющийся пот, похвалил хозяйку и славный ее чай.
Сумрачно наблюдавший за ним Лутфулла-абзый не вытерпел и, отведя взгляд от тающего Курбанова, от намокшего полотенца в его руках, снова заговорил негромко и обеспокоенно:
— Смутил ты меня, конечно, товарищ секретарь, но останусь я твердо при своем. А отчего ты думаешь? Вот я тебе сейчас объясню... Ты говоришь — Кожанов мне правильно ответил. А я тебе говорю — неправильно! Неправильно, потому что болеет он только за себя, а не за Карима. А раз так — значит, его слова не могут быть правдою, заведомо не могут. В газетах пишут, нефть — это «черное золото». Так, золото. Одним словом — клад. Но разве ж нефть одна — клад? А люди? Вот где настоящий клад, товарищ секретарь. Что это «черное золото» без людей? Тьфу! Как лежало оно в земле, так и лежало бы во веки веков. Не было б от него никакой пользы, кабы не люди наши. Впрочем, все это известно.
Но кто добывает эту нефть? Карим. Н впредь ее будет добывать тоже Карим. Если... не сломит себе шею, конечно. Я знаю, Николаю Николаевичу нужен рекорд, нужна слава! Чтоб трест под его чутким руководством прогремел на весь Союз! А что станется с Каримом — ему дела нет, до чего парень дойдет в таких-то условиях, куда покатится... Ему все равно! А если Карим не выдюжит, сломается раньше времени, ему; Тимбикову то есть, тоже скажут: будь ласков, браток, освободи-ка свое место! Отстал от жизни, так уступи, пожалуйста, теперь другим, которые и помоложе, и посмелее тебя будут. Это же слепому видно, что так оно и получится, — Карим пока еще того не чует, голова у него от похвал кругом, вот он и не понимает, что рекорды-то непродуманные нужны для тех, кто хочет упрочить свое служебное положение. Я тоже умные слова знаю, не думай! У него пока все получается, не прижало его, оттого и хорохорится. Придет еще срок, будет новая техника, новые методы — и к чертовой матери полетит тогда Карим из жизненной арбы. Учиться ему надо... Он же — талантливейший парень! Если откровенно. Но загубим мы этот клад, когда так будет продолжаться и дальше. Потому надо бы нам крепко задуматься, браток Назип, — в первый раз назвав парторга по имени, закончил Лутфулла-абзый.
Курбанов помолчал и, сунув в рот свою ореховую прокопченную трубку, стал долго и старательно разжигать ее, совсем, видно, забыв, что нет там уж ни малой щепотки табаку...
4
С самого утра на лесную поляну привезли две большие бочки пива и несколько ящиков водки. Длинный из поструганных досок стол, сколоченный буровиками там же, в лесу, покрыли зеленой скатертью и расставили немудрящую, но обильную закуску. Когда же осеннее скупое солнце, блеснув последний раз на железках буровой, скрылось за низкими серыми облаками и от горы Загфыран подул резкий холодный ветер, на поляну стали съезжаться руководители треста, директора контор, инженеры, корреспонденты республиканских газет, представители объединения «Татнефть» и многие другие гости.
Праздник готовился невиданный, какого не было еще в этих краях за всю историю калиматовской нефти. Предусматривалось, естественно, что будет он иметь примером героев дня и остальные буровики и мастера примутся штурмовать новые высоты, свершая новые трудовые подвиги; предусматривалось кроме этого еще кое-что, и поэтому сам Николай Николаевич Кожанов еще накануне принял все меры, чтобы праздник прошел как можно более торжественно.
Однако справедливости ради должно заметить, что меры эти были приняты задолго до рождения самого рекорда. Недели две управляющий с поразительным терпением следил за ходом работ в бригаде Тимбикова — и остался в высшей степени довольным. На буровой молодого мастера за все время не произошло ни единой аварии, темпы проходки постоянно выдерживались очень высокие, гораздо выше известных, а если бригада сумела бы сохранить их до самого конца, без сомнения, был бы установлен рекорд восточных районов по скоростному бурению глубоких скважин, и это явилось бы для треста началом столь долгожданного крутого подъема.
Но судьба предстоящего рекорда зависела также и от самих руководителей треста, от директоров контор, снабженцев: не прибудет вовремя оборудование, опоздают каротажники — да мало ли подобных причин, из-за которых порою по неделям простаивают буровые, — и так хорошо начатое дело пойдет насмарку. Очень устраивало Николая Николаевича и то, что будущий рекордист был из национальных кадров, — буровые мастера, приехавшие из других республик, имели обыкновение сразу же после становления дел рваться обратно домой... Прикинув все и решившись, Николай Николаевич позвонил в Бугульму, в объединение «Татнефть», просил у высокого начальства разрешения на подготовку рекорда и, получив благословение, в тот же день вызвал к себе директора конторы Митрофана Зозулю. В кабинете управляющего они были вдвоем, с глазу на глаз; Кожанов плотно прикрыл дверь и, подавшись вперед, всем своим мощным телом, произнес твердым и повелевающим голосом:
— Митрофан Апанасович, помните: для Тимбикова не жалеть абсолютно ничего. Оборудование, цемент, каротажники — все в первую очередь ему. Непременно ему. О темпах проходки докладывать лично мне. Еже-днев-но! Вам все понятно?
Разумеется, было не очень понятно; экий категорический тон — с чего бы вдруг? Но спорить Митрофану Апанасовичу как-то не хотелось, и он промолчал.
В конце концов, никто не спорит, рекорд — дело, можно сказать, святое. Или же, по крайней мере, со святой целью. Это и раскрытие новых, неиспользованных еще возможностей, дремлющих в неведении сил, и прекрасный пример для подражания, для достижения еще более высоких, в данном случае, скоростей. Безусловно, хорошее дело. Но стоит ли пороть горячку? Может, лучше бы основательнее подготовиться, и тогда уж?.. Не толкают ли они парня на неверный путь? Рекорд-то, по сути дела, искусственный, тепличный... А парень хороший, со временем мог бы и без особых условий достичь самых высоких скоростей. А теперь поймет ли он, что это не его личная заслуга, но дело рук всей бригады, конторы, треста, наконец? Или, может, действительно, как сказал Курбанов, стали мы уже пугаться решительных шагов?..
Такие вот сомнения мучили директора конторы и не давали ему покоя. Были под его началом к тому же бригады, которые месяцами в ожидании новых скважин сидели без работы. Мастера тех бригад каждый день обивали пороги в конторе, возмущались, обвиняли Митрофана Апанасовича в несправедливости, орали, что это безобразие — заводить на промысле любимчиков, поминая при этом Карима Тимбикова нехорошим словом. Митрофан Апанасович, боясь, что действительно могут возникнуть неприятности, доложил Кожанову, однако тот и слушать не захотел.
— Каждое большое начинание — событие, оно всегда порождает массу пересудов и сплетен, запомните это. Мир наш еще далек от совершенства, много пока завистников и пустых людей. Да! Но надо смотреть на жизнь трезво и не придавать значения досадным мелочам; выше голову, Митрофан Апанасович! Если наше дело поручено нам партией, если ведет оно к умножению богатств нашей Родины — надо работать со спокойной совестью. Появится рекорд, и мигом забудется вся эта чепуха, сбросится со счетов глупое карканье, лишь рекорд останется стоять, как гигантский факел, а рядом с ним — его создатели, его вдохновители!
По мере того как приближался день установления рекорда, управляющий беспокоился о нем все более и неоднократно сам выезжал на буровую Тимбикова; от такого щедрого внимания тот вдруг даже в поведении переменился: ходил он теперь с большой важностью, голову держал высоко, слова цедил сквозь зубы, не утруждая себя, впрочем, иногда и подобной малостью. Митрофан Апанасович, тотчас заметивший эти перемены, был крепко расстроен поведением молодого мастера, так как посчитал его некрасивым и уж никак не подходящим для рабочего человека. По его мнению, выходило, что как мастер, как наставник своих буровиков Карим «перестал расти явно и бесповоротно».
Когда же директор конторы уразумел стремление Кожанова превратить день рекорда в торжественный праздник, когда понял наконец, как тот честолюбиво рвется через газеты и радио поднять шум на весь Союз, настроение у Митрофана Апанасовича испортилось подчистую, и ехал-то он на буровую не столько радоваться успеху родного треста, сколько увидеть, чем же все это закончится и как выдержит Карим Тимбиков столь серьезное испытание славой. На душе у Зозули было муторно и тревожно.
В холодном сумраке полоненного низкими тучами осеннего дня шумит под ветром облетающий суровый лес. Слышно, как гудят и шаркают ногами у стола и пивных бочек застывшие уже люди, — голосов много, слова самые разные, но суть, если напрячь слух, одна: новый рекорд.
Карим сегодня в белоснежной рубашке, поверх нее — модная куртка из мягкой кожи. На чисто выбритом аскетическом лице его играет скупая, как осеннее солнце, улыбка. Он по-настоящему, по-мужски красив. Вокруг него толпятся журналисты, ловят каждый его жест, идут следом, куда бы он ни направился, словом, он — в центре внимания. Кажется, в этой новой роли чувствует себя Карим не очень уверенно; слова его чересчур многозначительны, иногда даже по-ребячьи легки, и, несмотря на тщательную скромность, нет-нет да и пробьется из глубины гордость: «Да уж, постарались!», «Спросите вон у ребят», «Извиняюсь, товарищ, некогда», «Знали ли заранее, что выдадим три тысячи метров? Факт, знали. А по-другому и стараться не стоило!»
В три часа народ дружно начинает волноваться. Вместе с представителем объединения «Татнефть» прибывает наконец на трестовском вездеходе Николай Кожанов, как всегда строгий, деловитый, ладный. Подойдя к Митрофану Апанасовичу, поздравляет его с производственной победой, жмет и довольно долго не выпускает руку, в стальных, приглушенных набрякшими мешками глазах его на мгновение вспыхивают теплые, добрые огоньки, но затем мелькает в них, как кажется Митрофану Апанасовичу, и триумфальное высокомерие: «Ты, помнится, был против, товарищ Зозуля?»
Ровно в четыре баянисты рвут туш. Во главе стола во весь высокий рост утверждается Николай Николаевич и от имени руководства поздравляет Карима Тимбикова с замечательным рекордом — славной страницей, вписанной в летопись трудовых подвигов нефтяников Татарстана. Приказом по тресту членам бригады объявляется благодарность. Бурные аплодисменты. Кожанов привлекает к себе Карима, обнимает и троекратно целует. Баянисты играют туш.
От конторы бурения бригаду поздравляет парторг Назип Курбанов. Ветер треплет его жесткие черные волосы, вырывает из рук бумаги, бросает в лицо сухие листья, но Курбанов спокоен; говорит он неторопливо и ясно. Хорошо говорит Курбанов, слова его полны смыслом и силою. Ему и хлопают дольше и гораздо громче, чем Кожанову. Карим же чувствует устремленные на него взгляды, чувствует, как уходит земля из-под ослабевших от волнения ног, и, задыхаясь от наплыва чувств, рвет на горле рубашку.
Представитель «Татнефти» произносит всего лишь несколько приветственных слов, но люди, кажется, совсем ошалели — хлопают ему так, что гудит, отзываясь на аплодисменты, удивленный лес.
Карим, оглохший от волнения, не может понять, в чем дело, и Джамиль Черный шепчет ему на ухо: «Победа, слышал, победа!» Какая победа? Так ведь уже говорили о победе? Нет, нет, автомобиль. Автомобиль «Победа». Объединение награждает его «Победой». Вот она, слава...
Поздравления, чтение телеграмм, принятие новых обязательств — на все это уходит часа полтора. Тимбикова приветствует обком профсоюзов, редакции газет, Академия наук, еще какие-то организации, но люди уже приустали, прежнего пыла нет, и всем хочется поскорее сесть за стол, перейти от слов к «делу».
А немного погодя над поляною вновь подымается неимоверный шум — согревшиеся чаркою люди, вмиг оттаяв и обретя пронзительную тонкость чувств, кричат и поздравляют друг друга — теперь уже со стаканами в руках, — громче даже и радостней, чем прежде. Джамиль Черный и Каюм пытаются расцеловаться. Джамиля наградили мотоциклом, и Джамиль прямо-таки обалдел от радости, но пуще того радуется он за своего дружка Каюма, которому подарили хороший радиоприемник, и все поглаживает заскорузлой рукой по ящику, нахваливает, не забывая, однако, между делом сбегать и к своей чудесной, блистающей в сторонке лаковыми боками машине.
Карим чокается с журналистами, пьет и кричит взгромоздившемуся на пивную бочку Михаилу Шапкину:
— Эй, верховой, не забывай о своих обязанностях, даешь свечи! — подразумевая, конечно же, пиво. Пьет он очень много, пьет до дна и требует того же от журналистов. Раз уж он с ними чокается — какого рожна: пей, и все тут! Но один из корреспондентов, — кажется, из областной газеты, — человек высокий, худощавый и бледный, как проросший в подполе картофельный росток, проводит рукою поперек горла и решительно отказывается. Карим испытывает вдруг к нему неосознанную злобу: он давно заметил, что этот землистолицый корреспондентишка держится особняком, ни грамма не пьет и вообще, видно, считает себя самым умным. Карим быстро и до краев наполняет водкою два стакана, поднимает их и, расплескивая прозрачную жидкость, шагает к корреспонденту; голос Карима угрожающе ласков:
— Ну-ка, братец, выпьем мы с тобой по стакашке!
Тот, сморщившись, отрицательно поводит головой, и Карим, по-прежнему ласково, но тяжелее уже произносит:
— Что так, братец, или наш рекорд тебе не по сердцу?
Воцаряется напряженная тишина. Корреспондент опасливо оглядывается по сторонам, в глазах его — недоумение и тревога. Буровики явно на стороне Карима, нервы у всех натянуты, они пока еще молчат... Но стоит сказать незадачливому трезвеннику хоть слово — сомнут, они же сегодня победители, а победителей, как известно, не судят.
Вовремя подоспел испуганный Кожанов, уладил неприятность, увел совсем побелевшего журналиста с собой...
Когда окончательно уже темнеет и в очистившемся к ночи небе загораются неяркие звезды, все грузятся в поданные автобусы и трогается в обратную дорогу. По пути поют почти стройно веселые песни, и оттого автобусы в темноте кажутся странными, поставленными для чего-то на колеса, исполинскими радиоприемниками. В городе наконец парами и кучками разбредаются по домам.
Арслану домой еще не хочется. В голове его крепко шумит после праздника, и весь мир видится как-то нереально; звуки зыбко качаются; краски то смутны, то пронзительны. С самого начала застольной части праздника Арслан уловил в себе шальное желание напиться, забыть хоть раз все и вся и далее уже бездумно пил полными стаканами — теперь этот жуткий ерш, видно, перебрался в голову, да и шагает он, кажется, не совсем твердо... Ишь, как шарахнулась в сторону встречная гражданочка... Эх, пьяный зюзя...
Арслан опускается на попавшуюся по дороге скамейку, сил идти дальше очень мало... Да и нехорошо, брат Арслан, заявиться домой в этаком виде! Премия вообще-то в кармане — отец слова не скажет... Нет, нехорошо. А ночь, однако, холодная. Да. Прохладная ночка...
Оказалось, пока сидел, незаметно задремал, и разбудила его донесшаяся откуда-то издалека песня: Арслан замерз отчаянно и, не попадая зуб на зуб, резво и похмельно вскочил со скамейки. Песня же придвигалась все ближе, Арслан, подняв воротник пиджака и завернувшись в него поплотнее, стал зачем-то поджидать неизвестного певца.
Тот наконец появился из-за поворота, но шел очень медленно и потешно, словно исполняя какой-то сложный цирковой номер: то выбрасывал руки вперед, то раскидывал их в стороны, потом, кренясь, резко приседал и вдруг пускался в дикий «негрский» перепляс, ни на секунду, однако, не переставая петь:
Мы каз-занские ребята, Хоть в Каз-зани не живем... —выводил он, притопывая ногой и протягивая руки вперед, сильным и приятным, правда, охрипшим уже голосом. Когда странный певец приседал или сильно подавался в сторону, песня с трудом проталкивалась через его спотыкающееся дыхание, но, выпрямляясь, он вел мелодию так же верно и очень азартно:
Безо всяких там дипломов Инженерам нос утрем...Арслан, забыв и о холоде, и о налетающем порывами сне, с громадным интересом наблюдал за подошедшим тем временем близко певцом, а разглядев, что тот по пояс голый — без рубашки и без майки, — поразился совершенно: на улице было страшно холодно даже в пиджаке; ночью, видно, подморозило, и в лужах под ногами хрупал тонкий ледок; только теперь да Арслана дошел смысл всех этих таинственных гимнастических упражнений ночного, по всей видимости, крепко пьяного певца.
Подгулявший прохожий, не доходя чуть до Арслана, остановился и принялся столь же азартно, как и пел, чихать, откидывая при этом голову и сотрясаясь всем телом. Арслан, признав в нем Тимбикова, вдруг растерялся и резко шагнул вперед.
— Что с тобой, Карим?.. Эх ты, ну и накачался! С чего это такое выдумал? Вот безобразник! Пошли, пошли, простудишься же, пошли, говорю. Дам закурить, обязательно дам, только накинь вот мой пиджак. Не хочешь? Ладно, ладно, не хочешь — не надо. Не буду, говорю, черт с тобой! Пошли!
Арслан обхватил Карима за пояс и, стараясь обходить большие улицы, закоулками и дворами поволок к себе домой. У самых ворот Карим будто немного отрезвел и заходить к Арслану не захотел ни в какую; стал он, напротив, упрямо вырываться и требовать немедля жену свою Мунэверу. Арслан, в миг опомнившись, ощутил в сердце болезненную, глухую резь и, сердито уже схватив сопротивляющегося, красного и совсем закоченевшего мастера в охапку, потащил к дому Тимбиковых, не обращая никакого внимания на его угрюмое и недовольное мычание.
На крыльцо, видимо,услышав топот и стук волочащихся по лестнице ног, с фонарем в руках выскочила Мунэвера. В желтом неярком свете Арслан все же отчетливо разглядел большие глаза ее, полные испуга и горечи; вдвоем они быстро втащили Карима в дом. В тепле Карима тут же развезло, и на ногах он не держался совершенно — стоило его отпустить, и Тимбиков, как развалившийся сноп, осел на пол.
Его подняли и уложили на кровать. То ли почуяв под собой мягкую постель, то ли от яркого света, он вдруг забурчал и кого-то крепко и бессвязно выругал, икнул раза два, потом затих — кажется, уснул.
— Где же он так напился?.. — проговорила Мунэвера.
Вопрос этот, впрочем, был бесцельным и безнадежным. Где напился, как напился — не все ли равно в конце-то концов! Пьян, противен, завтра весь день будет ходить с головной болью, мучиться содеянным и в глубоком расстройстве выспрашивать, не накуролесил ли, не натворил ли чего такого... В последнее время стало это уже привычкою, повторялось чуть ли не каждый месяц — всякий раз, как заканчивал он скважину. Раньше хоть на своих приходил; люди вроде ничего не замечали. Но сегодня и вовсе плохо — приволокли, как бесчувственное полено, и ведь кто привел-то: Арслан! Другой если кто, может, и не было б так горько и неудобно.
Мунэвере вдруг сделалось обидно за мужа и захотелось очень, чтобы не думал Арслан о нем плохо: разве такой уж Карим пьяница и гуляка?.. Выпил лишнего... Арслан, кажется, почувствовал ее мысли и, чтобы не оставить вопрос без ответа, а более того, невольно успокаивая Мунэверу, негромко ответил:
— Карим сегодня установил замечательный рекорд...
Безмолвно постояли над Каримом, вздохнули одновременно и глубоко. Потом Арслан распрощался и вышел.
Мунэвера, закрыв за ним дверь, подошла к спящему мужу, взяла его руку, нащупала пульс. Был он еле заметен, бился вяло и далеко, так что Мунэвере даже показалось, что у Карима не хватит сил дожить до утра — замрет пульс, а значит, перестанет биться и его сердце.
Эта мысль напугала ее до слабости в ногах. Не в силах поднять опустившиеся руки, представила она своих обездоленных такой бедою детишек, глаза их, полные сиротливой тоски, и сделалось ей страшно и нехорошо, — ахнув, склонилась она торопливо к мужу, услышала его дыхание и, чуть успокоясь, принялась стаскивать с него сапоги. Потом устроила поудобнее постель, поправила подушку и, сев рядом, в который раз уже обиделась, что так черств он к ней и к детям.
Надо же так пить — не зная меры, до потери чувств, безрассудно и жестоко! В тот же миг ожгла ее душу обида и на Арслана. Все они хороши: сами-то небось трезвые, а этого как напоили — глянуть жутко! Он же что ребенок малый, сам себя забывает. А потом еще домой приводят — нате, мол, да скажите нам спасибо. Если ты товарищ ему, так лучше удержи вначале, не давай напиваться. Мунэвере в эту минуту захотелось вдруг положить голову на грудь мужу, прижаться к нему и спросить тихо, серьезно и ласково: что же делать, родной ты мой, как нам с тобой из этой беды выпутаться... Но муж ее, Карим, лежал перед нею в состоянии полного отупения, не видел, и не слышал, и тем более ничего не чувствовал, лишь захрапел неожиданно на весь дом тяжело, по-бычьи, и заскрипел зубами...
Проснулся под утро, на рассвете, спотыкаясь и покачиваясь еще, прошел на кухню. С желтой новой лавки схватил ведро и, припав к нему, долго пил студеную, льющуюся по шее и со всплеском на пол родниковую воду; напившись, минуты две оглушенно постоял и, шагая тверже, но все еще трудно, воротился в комнату, упал на скрипнувшую пружиной кровать и проспал, не шелохнувшись, до полудня.
Когда он поднялся, Мунэверы уже дома не было, обед, однако, ждал его на столе, прикрытый полотенцем, чай был заварен — сама она, видимо, ушла на работу.
Карим, стиснув тяжелую голову руками, очень долго сидел на желтой лавке, пытаясь вспомнить вчерашние приключения. Но хмельной сон все подчистую вышиб из памяти, голова раскалывалась, тошнило, и во рту было так, будто там нагадила весенняя стая кошек.
Сквозь целый рой крайне смутных и оборванных образов пробились шумные речи праздника... рекорд... дареный автомобиль «Победа». Погоди, где же он ее оставил? Ах, да — у Кожанова.
Из щели под дверью потянуло свежим ветерком, и Карим, почувствовав поднимающуюся по телу от ног и выше щекочущую прохладу, зябко вздрогнул, поежился и вслед за тем быстро и ярко вспомнил, как шел вчера ночью по холоду осенней улицы раздетым до пояса. Бр-р! Но где потерял он куртку и рубашку, как добрался до дому и как приняла его жена, Карим не мог вспомнить, сколько ни тужился. Эта проклятая неизвестность и угнетала более всего; встревоженный, вскочил он с места и, теряя уже надежду, вышел во двор. Подойдя к стоявшей на расстоянии шагов семи от крыльца громадной с дождевой влагою бочке, Карим с размаху сунулся туда головой, зафыркал, разогнулся, глотнул воздуху и сунулся еще раз. Потом воротился в избу, выпил там три стакана подряд крепчайшего черного, как деготь, чаю и, почувствовав наконец некоторое облегчение, решил поехать пригнать «Победу»: в душе его вспыхнуло искреннее желание обрадовать жену, приготовить ей сюрприз и к тому же заставить тем самым забыть о вчерашних «пустячках».
Он надел старый плащ и взялся уже за дверную скобу, когда от удивления застыл как истукан: из соседней комнаты, натирая кулачками заспанные глаза, преспокойно выходил сынишка Анвар.
— Ты, брат, как дома-то оказался? Разве тебя не отвели в садик, а? Или там сегодня выходной? Так, что у нас сейчас... ага, пятница! А чего же ты дома? Ну, брат, это что-то удивительно! — приговаривая таким образом, он поднял сына на руки и, шлепая звонко ладонью по круглой его попке, ласково и гордо улыбнулся — мальчишка морщился, но реву задавать, кажется, совсем не собирался. Молодец, джигит, не плакса. И вдруг его неприятно осенило: — Погоди-ка, сынок, а не в дураках ли нас оставили? Как-то все это непонятно, может, бросила нас с тобою мамка?..
Торопливо он оглядел дом, поискал, не пропало ли чего из одежды Мунэверы, — нет, все было на месте, только тогда, с облегчением вздохнув, принялся Карим умывать и одевать сынишку.
Потом посадил он Анвара кушать и, облокотись о краешек стола, улыбчиво наблюдал, как деловито и вкусно уплетает маленький человечек свою большую румяную котлету. Был он очень мил сердцу Карима, этот мальчуган с круглым, словно мячик, лицом, черными, вьющимися, как у матери, волосиками, с ясным из-под длинных загнутых ресниц взглядом больших серо-голубых глаз и явно уже сейчас отцовским носом — тонким, с красивой горбинкою.
«Ах, красив парень, вырастет — сердцеедом станет», — подумал Карим с ощущением необыкновенно теплым и счастливым...
Анвар, точно вдруг пчелой ужаленный, сбрызнул со стула:
— Пап, хочу какать!
— Ну, джигит, ты и даешь! — уважительно сказал отец и, засмеявшись, забегал по комнате, разыскивая куда-то запропастившийся горшок...
Общими усилиями они справились с хлопотливою нуждой, оделись потом не спеша и вышли на улицу. Анвару не часто выпадало такое — идти по улице с большим и храбрым, наверное, папкой, — потому он болтал, как будто про запас: без умолку.
— Пап, гляди-ка, солнце мне моргает, ха-ха! Я вот так глаз прижмуриваю, а солнце ко мне хочет все равно залезть и сует свои ресницы... Хитрое! Пап, ты мне лыжи купишь, ладно? А то у Вовки в детском саду хорошие такие лыжи, а у меня никаких лыжов нету. Вовка — жадина-говядина, не дает. Купишь?! Знаешь, я как покачусь сразу на всех ногах, он тогда... лопнет. Пап, а мы куда идем?
— Вот возьмем из яслей сестричку Миляушу и пойдем кататься на моем коне.
— Пап, а какой у тебя конь?
— Ну, брат, ты, оказывается, ничего не знаешь. Мне вчера скакуна подарили — хороший скакун! Зовут его «Победа», эх, он и бегает! Как ветер! Я вас сегодня досыта накатаю. Вы же дети Карима Тимбикова, а у счастливых людей — и дети всегда счастливые!
5
Каким противоречивым оказалось ее чувство, ей-богу. Она и подумать не могла, что, выставив Булата за дверь, будет потом сама же и раскаиваться — чудно! Тогда она, помнится, даже обрадовалась, что наконец-то вырвалась из-под его власти, избавилась от тоски, годами грызшей ей сердце, словом, была уверена, что все — к лучшему. Краше уж Тансыку и вовсе без отца, нежели с таким, мол, человеком; на худой конец, чем при живом-то отце сиротою ходить — ну его совсем к дьяволу! И сыну со временем всю правду расскажет, что и отчего... долго скрывала, теперь хватит! Все эти мысли ярились в ней в ту пору, когда была она еще рассержена на Булата и, кажется, даже ненавидела его страстно. Но время шло, посыпало мягкой стружкою прошедших дней острые обиды, и сердце ее потихоньку оттаяло; отошло, стало теперь ей горько, что мальчуган все же растет сиротою, ах, тяжело... Даже в хлопотах дня на операторской работе — не могла она забыться; скользя на лыжах от скважины к скважине, чувствовала, как по-прежнему остро сжимает ей сердце печаль-кручинушка. «Он искал здесь нефть», «Вон тою дорогой шла его поисковая партия», и от этих мыслей страдала она еще сильнее, чем прежде.
Вот ведь как забавно получается. Думала она — остался лихой Булат за дверью на холодной улице, а он, оказалось, в самое сердце ей прокрался и уходить из тепла его совсем не собирается. Экий настырный, бессовестный, милый!..
Однажды Файруза рассказала обо всем своей подружке, развеселой Шамсии. Раскрылась она совсем не от желания посетовать на горькую судьбу и облегчить тем хоть немного снедающую ее печаль, а просто, как бы для интересу, посмеялась слегка над собою: до чего же, мол, глупо устроено человеческое сердце!
Но Шамсия, против ожидания, отнеслась к этому очень серьезно.
— Вот дура-девка! — сказала она, дослушав внимательно подругу. — Что же ты от меня раньше-то скрывалась? Брось! Мы его, голубчика, живо к стенке припрем!
— Как это — припрем?
— А вот так. Где он работает? Прямо сегодня — трах! Письмо туда, в парторганизацию. Сыну десять лет уже, а он, подлец, и не чешется, денежки не платит, да еще оскорблять вздумал! Ну, ничего, у нас таких обормотов, слава богу, умеют прижать. Закон теперь весь на бабской стороне.
— Да ты что болтаешь?! — сказала Файруза, вдруг сильно побледнев.
— Ах, ты его любишь еще? Так бы и говорила сразу, а то — притворяешься тоже: хи-хи, ха-ха! Ну, если так, тогда не зевай. Ему напиши... Все, как есть, что пережила, что чувствуешь, и дальше там...
Файруза, испугавшись пуще прежнего, махнула в унынии рукой:
— Умру скорее. А кланяться не буду.
— Да ты ручкой-то не маши, друг любезный. Петушиться тебе совсем не след. Может, и он там мучится, куда себя деть не придумает. А ты сразу: фыр-рр! Нашел же он тебя после стольких-то лет разлуки... Или, думаешь, девок на его долю не хватит? Руки-ноги у него на месте, голова на плечах, работа тоже хорошая — да за него, милая моя, любая барышня с песнями выскочит. Поедет в Казань да отхватит себе какую-нибудь птицу, с высшим образованием да с крашеными ноготками. А ты так и останешься у разбитого корыта.
Дома, за столом, Файруза с жалостью все поглядывала на тоненькую, вылезающую из купленной навырост курточки шею Тансыка, на его исцарапанные, в цыпках, с темными полосками ногтей руки, вспоминала резкие слова Шамсии. Вот она обиделась, конечно, на Булата... Но разве только он виноват в том, что происходит? Нет, не так все просто... А сама она: ведь никогда же не говорила Булату прежде о ребенке, может... И она его тем обидела, обделила в отцовских чувствах? Подумав так, Файруза и впрямь расстроилась, стало ей вдруг трудно дышать, и в чистой душе своей она пожалела Булата: показалось ей, будто даже, напротив, это она уязвила его, слепая в неразумном материнском эгоизме.
Всю ночь выл за окнами ветер, стучал в ставень и просился в избу; на крыше соседнего дома неясно, наводя тревожное уныние, погрохатывал оторванный наполовину железный лист. Файруза, пытаясь пересилить невыносимую, наполнившую все ее существо тоску, долго ходила в пустом и одиноком доме от окошка к окошку, прислушиваясь изредка к сонному бормотанью сына... Потом, не зная, за какое дело взяться, села за вязанье, а мысли ее упорно возвращались к Булату, но странное дело: чем больше она думала о нем, тем на душе становилось теплее и спокойнее, будто согрели ее давние и вспыхнувшие вновь надежды.
Расправила почти довязанный шерстяной носок, показался он ей великоватым, и Файруза быстро подумала: «На мужика получился, распустить, что ли? Ладно, может, еще Арслану подарю», — но тут же, почуяв, что обманывает невольно себя же, тяжело вздохнула и улыбнулась. Спать ей совсем еще не хотелось, но она все же потушила свет и легла, поправив перед тем сползшее с сына одеяло.
В будничной суете небольших забот летело время, перелистнуло за собою следующий месяц календаря. Шамсия каждый день спрашивала ее: «Ну как, написала Булату?» — получив отрицательный ответ, принималась отчитывать с упоением, но беззлобно, и Файруза даже заметила, что в смешливых глазах подруги искрится какая-то непонятная тайна, которая, кажется, вот-вот выплеснется наружу.
В субботу Файруза почему-то не смогла усидеть дома и отправилась на работу гораздо раньше обычного — черт его знает, скука, что ли, одолела? У автовокзала, за которым начиналось поле, ока встала на лыжи и побежала к ближней скважине, однако не успела пройти и полкилометра, как ее нагнала Шамсия. Она казалась очень взволнованной, может, просто запыхалась от быстрого бега, но, отдышавшись, все равно как-то загадочно поглядывала на Файрузу и время от времени улыбалась, а ближе к скважине наконец не утерпела, чуть не упав, обняла Файрузу и чмокнула ее в щеку.
— Знаешь, что я тебе приготовила?
— Аварию, наверное?
— Иди ты! Вечно выдумываешь... Знаешь что? Не знаешь? Это хорошо. Ты зайди пока в будку, я сейчас, там и поговорим...
Файруза, что-то почуяв, тоже заволновалась и в волнении, быстро скинув лыжи, вошла в культбудку.
Там у окна на маленькой скамейке один-одинешенек сидел Булат. Новое пальто его серебрилось голубоватым каракулем, такая же шапка сидела на голове чопорно и красиво, смуглое лицо, видно, посек ветер — было оно красным, как кумач, — и поблескивали теплые, родные глаза. Увидев Файрузу, он торопливо вскочил с места, тяжело ступая по земляному полу, пошел к ней навстречу, а она застыла у порога, растерянная, преисполненная нежности, любви и недоумения, стесняясь ужасно своей неуклюжей спецовки и оттого не зная, что делать.
— Откуда ты? — только и смогла произнести запекшимися вдруг губами.
— Здравствуй же, — сказал ей Булат, улыбаясь и дрогнув густыми черными бровями. — Не думала, что встретишь меня здесь? Я ненадолго... так, по пути. Хотел вот... вас повидать... — тут и он запнулся и потерянно затоптался на месте.
Сияя, словно начищенная медная пуговица, в будку влетела Шамсия. Файруза глянула на нее словно бы укоризненно: твоя работка, ну, я тебе и задам! Задашь так задашь! только теперь уж не плошай! — ответила ей взглядом же Шамсия и по привычке своей, чуть рисуясь, очень серьезно и очень лукаво проговорила:
— Файруза, как самый главный оператор, даю тебе на целый день отгул. Входя в положение. Скважины я проверю сама. Ступай, покажи Булату все новости нашего города!
Файруза вновь посмотрела на нее с упреком: а хорошо ли все это кончится? А если опять какой-нибудь неприятностью обернется...
— Может, ей и не хочется со мной идти? — сказал Булат, как-то сразу сникнув и упал духом.
— Экие вы все сложные! — захохотала Шамсия и схватила в руки скребок для парафина. — Ну, хватит прикидываться! Валяйте отсюдова, пока я вам по шее не надавала!
Колебаться далее было уже совсем глупо, и Файруза, поняв теперь, отчего подружка целый месяц ходила с такою хитренькой улыбочкой, шагнула к выходу, но все-таки не утерпела и от двери сказала:
— Ну, шустрая ты, Шамсия, как веник...
Та вновь засмеялась и лишь с шутливой угрозою взмахнула скребком. Булату Шамсия дала свои лыжи, а когда они с Файрузой заскользили по снегу, крикнула, сощурившись:
— Удачи вам! — и ушла в культбудку.
Булат предложил сходить в зимний лес — Файруза взмахом ресниц выразила согласие, они покатились. Дорогой молчали, да и в лесу тоже хранили согласно скованность, боясь отчего-то нарушить ее... А может... Это было что-то другое? Дремали на ветках дерев подушками белые снеги, обратись в пышное, пуховое одеяло, укрывали меж берез тепло земли и звали к тишине — разве обязательны слова, ведь чувствам без них куда просторней в чистом, в тихом воздухе...
Файруза споткнулась о спящий под снегами корень и, неловко взмахивая руками, упала... Булат, нагибаясь, поднял Файрузу из сугроба и услышал прерывистое ее дыханье; жаркое, оно коснулось его лица, обожгло и ввергло в смятение; он привлек ее к себе, отыскал губы... Файруза, словно в забытьи, прильнула к нему, пахло табаком от губ Булата... Как крепко он обнимает...
До вечера бродили они по лесу, ни разу более не встретившись даже руками, но удивительно: каждый из них знал, как бьется рядом любимое, переполненное счастьем сердце, и свое счастье от этого казалось глубоким, словно небо. Оно пьянило, кружило голову, уносило незаметно время... в чистом воздухе лесной зимы лежало молчанье, такое понятное и просторное.
Когда на лесных полянах стал оседать вечерний сумерек и белые снега окутались таинственной прозрачной синевою, они, скинув разом лыжи, присели под деревом.
— Файруза... — сказал Булат со вздохом, идущим из самой глубины души. — Простишь ли ты меня, Файруза?
Она долго молчала. Вечерний сумерек лег на лицо Булата, и оно стало печальным.
— Я ничего не жду от тебя, слышишь, Булат?
Он взял ее руку в свои ладони. Согрел дыханьем, шепнул:
— Ты чудная. Удивительная... Будешь моей женой?
— Я тебя не понимаю, Булат, — сказала Файруза, закусив губу, хотела улыбнуться, но не смогла, из-под ресниц ее, жгучие, потекли слезы.
Помолчали.
— Согласна? — сказал Булат.
— Не пожалеешь?
— Уже жалею. Столько лет жили врозь — если б ты знала, как я теперь о том жалею!
Файруза вдруг уткнулась лицом в грудь ему, заплакала.
Булат не стал утешать, дал ей наплакаться вволю, выплакать враз всю горечь тоскливых, одиноко прожитых лет...
6
С той самой поры как сын его приехал из Казани в родную избу и устроился здесь же в Калимате буровиком в бригаде Тимбикова, старый Шавали совсем было уж успокоился и даже здоровье к нему как будто вернулось прежнее. О ломоте в костях он напрочь забыл и целыми днями возился на дворе: перекладывал заново обвалившиеся поленницы, строгал для лопат, грабель и других подобных инструментов удобные черенки, оттачивал пилы и топоры, словом, дни его теперь были наполнены работою, а значит, и смыслом — скучать не приходилось. Оттого появился у него вдруг вовсе не стариковский аппетит, а главное, и съеденное-то не превращалось в пустоту — в мышцах ощущалась былая упругость, силенок тоже явно прибавилось, и все это радовало Шавали-абзый до желания вскочить на крыльцо и счастливо гикнуть на всю округу: настроение у старика было преотличное.
И тут, словно снег на голову, свалилось на Шавали неожиданное событие, отбившее у него всякую охоту к хозяйству и причинившее ему сильнейшую досаду. Откуда-то из-под Елабуги нагрянул старший сын Лутфуллы Диярова толстомордый Булат и вселился на готовенькое в избу Кубашей, будто в свою собственную, да так крепко сел, что и не выкорчевать. Скажешь, сам, своими руками он ту избу возводил, так и вкорячился туда хозяйчиком, дубина стоеросовая. А Шавали в свое время столько сил отдал, чтобы поднять ее, — подрубал, и перекладывал, и крышу перекрыл заново, — а сколько обид претерпел он за этот дом от отца своего, неистового Кубаша, — несть им числа!
Выросши уже, мужиком став, и даже теперь, жизнь почти прожив, все плавал Шавали в сладких мечтаньях — как соединит он две хорошие избы и будет у него просторный, на всю деревню наилучший дом. И вот на тебе: заявился откуда-то чужак, который, может — эх! страм — и топора-то в руках не держал за всю свою сопливую жизнь, и все задумки летят в тартарары, а он преспокойненько залезает в твое родовое гнездо на вечное проживательство. Обида, ей-богу, да такая, что хочется не гикать, где уж там, а вскочить куда повыше и заорать на все село: ограбили, мол, ратуйте...
Тетка Магиша, изводившая до этого мужа упрямством своим да ненасытной к житейскому добру жадностью, увидев старика в этаком огорчении, даже диву далась и, от сердца сочувствуя ему, попыталась было успокоить, чтоб, не дай бог, чего не стряслось, — уж больно взлохмачен был он душою, ажио смотреть на него жалостно:
— Ладно, старый, почто дурить-то вздумал? Что с возу упало, то пропало, али не знаешь? Да и дом плохонький, гнилой, старый — не жалко. Не грызи себя, слышь... А ведь, если прикинуть, и Булат тот нам не чужой — твоей дочери муж, твоему внуку отец. И сами они в том же доме живут...
— Цыть, проклятая! Цыть! Цыть! — троекратно провопил от раздражения впавший в буйство старик. — Учить меня вздумала! Понимала б чего, трында паршивая! Говорю же, не лежит у меня душа к этой потаскухе, не лежит! Была бы у ней голова на плечах и сердце — должно было ей прийти к отцу совету испросить да благословенья. А то выдумала, ни дна ей, ни покрышки, зятьев мне без спросу заводить.
— Гляньте-ка на этого умника! Да на кой хрен ей твой совет, когда столько лет ты и за человека-то ее не считал, не токмо что за родную дочь. Спросит она тебя, как же, скорее в рожу плюнет. Ты бы уж, старый, молчал да радовался, что у дочки нашей жизнь, слава богу, вроде как устроилась... И зять-то какой хороший — анжинер, специальный!
Нет, не может радоваться Шавали, и все тут. Досадно ему до слез, что не уважила его родная дочка, бешеным стал Шавали от злости, ночами, словно здоровенный костлявый слепень, нападает на тетку Магишу, днем же, вконец обалдев, все считает что-то по пальцам. Тьфу, бестолковые, и свадьбу-то не смогли по-человечески сыграть — чин по чину, чтоб родителей в красный угол, куда там! Остались родители несолоно хлебавши, это с сивой уже бородой, стыдоба-то какая! Отца родного побоку, мать родимую побоку, да что им, куска хлеба жалко стало, или как же это понимать? Может, в городе каком этакой деликатности обучают, зять-то, паршивец, говорят, много где побывал... Тьфу на них обоих!
Заодно обругал с ног до головы и сына Арслангали; тоже непутевый, до полуночи по библиотекам торчит, шибко грамотный стал, как же! Дождется, наверное, что отсохнет у него... и года-то ведь уж не вьюношеские... будто и не мужик он, а так... пистон стреляный. Может, боится, что зазнобушку его в этом доме работать впрягут? До ких пор будет сам с собой в постелю-то ложиться? Вымахал с телеграфный столб, а балбес, одно слово... Вот Шавали в его годы первый мужик был на всю деревню, батыр! В двадцать пять с германской воротился, в двадцать шесть обжениться успел, а через один еще год и хозяйство уже имел, да не из последних: коровка была племенная, барашков штук двадцать, ульи в садике — выйдешь, бывало, летом: гудят! Ни спички не потерял из того, что отец ему выделил, ни единой щепочки даже. Приумножил все — это точно, постройки у него были добротные, скотина плодилась, мед поспевал, эх!.. А этому балбесу к осени тридцать стукнет, но где уж ему хозяйство поставить: дом-то бабкин прямо в руки плыл — упустил, бестолочь! Ну, ладно, скажем, на тот он и не заглядывал, пущай, ан и про этот тоже не думает! Ему ведь останется, можно сказать, силком вручают! Люди вон шифер соображают на крышу, жесть откуда-то достают, этот себе бабу-то достать не умеет... Нет, стоит только Шавали умереть — и конец дому, рассыплется без присмотру, без догляду. Ни в жисть ему не жениться и дом не отстроить, так и будет до старости с книжкою лобызаться, ежели умом не тронется...
Рядом с ним, посвистывая носом, спала тетка Магиша. Не имеющий уже сил остановиться, старик за компанию разозлился и на нее. Эк, дрыхнет, окаянная! И откудова это у нее так свистит? Не иначе как от темноты ейной тот звук происходит да еще от полной нерадивости... Тюкнуть бы ей в бок кулаком, чтоб подскочила: чего, мол, свиристишь? Эх, нету теперь прежней молодой силушки, чтоб работать день и ночь и спать, не помня себя... кто думал, что под старость вот этак прокисать придется?
Еще в годы войны каким молодцом был, вспомнить дорого! И тебе бригадир, и кладовщик, любая работа в руках спорилась, даже две сразу, и то только подавай. А уважение к нему какое было, подчинялись все прямо беспрекословно. Попробуй ослушайся, в бараний рог согнул бы тогда Шавали ослушника. Как это у него с сыном Магидуллы-то получилось, с сопляком Саубаном? Ага, велел он ему выезжать на пахоту. В плуг, мол, запряги игреневого жеребца да в пару к нему кобылку молодую, Пискуниху. Ладно, идет он это в поле — нет парнишки. Пришел обратно, глянь — а лошади-то из конюшни даже не выведены. Саубан, сопляк, сидит в каморке у конюха Мингаты, «козью ножку» смолит да лясы точит. Шавали-абзый только глазом повел — у того и самокрутка изо рта вывалилась, побледнел, аж затрясся. Потом оклемался малость, я, говорит, Шавали-абзый, к Пискунихе в стойло зайти никак не решаюсь, потому как она, сволочь, ногой бьет и непременно пытается откусить с меня кусок моего тела. Ладно. Ступай, мол, малец, за мной, сей минут мы все это уладим. Заходят в стойло, а Пискуниха и впрямь злонамеренно вертит задом и примеряется вдарить куда попало. Эх, как рявкнет на нее Шавали-абзый, кобыленка бедная со страху в угол забилась, глядит оттуда одним глазом и, кажись, в толк не возьмет: крыша, что ли, рушится али из пушки бахнули?..
Да, были у Шавали могучие времена, крикнет, скажем, у себя на дворе, а голос его за пять верст в соседней деревеньке слыхать. Ну, и грудь была соответственно, чтоб, значит, такой гудок уместить. А теперь вот только и остается, что вспоминать да скучищу свою тем рассеивать... Собственные дети в счет не ставят, какой-то чужанин им дороже отца родного.
Шавали-абзый, покряхтывая, повернулся на другой бок, но заснуть не мог еще долго, все лежал, прислушиваясь к далекому, изредка, урчанию машин и исходил к себе щемящей стариковской жалостью.
И на другое утро настроение у него было опять паршивое. Но летний день тем и славен, что долог: может вполне поспеть к людям и горькое горе, и сладкая радость. Так вот суббота, начавшаяся для старика с сильного расстройства, к вечеру поворотилась совсем противоположной стороною. И перемены эти были столь велики и нежданны, что Шавали-абзый, будто стукнутый громом с ясного неба, целую неделю ходил с беспамятным и, прямо говоря, глуповатым видом.
Если по порядку, то получилось так. Ближе к вечеру, когда солнце катилось уже за гору Загфыран, к старому дому Лутфуллы Диярова с легким гудом подкатил автомобиль. Увидев это, обеспокоенный чем-то Шавали-абзый кинулся на улицу и, приставив к бровям корявую ладонь, воззрился в сторону соседей. Беспокойство же его приключилось оттого, что возымел он с некоторых пор горячее желание купить по возможности дешевле этот самый «восставший из праха» дом Дияровых, если говорить начистоту, не совсем уж из праха, но из старой, заброшенной развалюхи; а поскольку сам мастер Лутфулла жил теперь в хорошей казенной квартире, изба эта была ему, по мнению старика, без надобности, и он — когда нажать — очень даже просто мог и продать ее. Три года назад ремонт, за одну ночь проведенный в полуразрушенном доме, сильно уязвил старого Шавали, но сейчас он был только рад тому субботнику и каждый день, заложив руки за спину, прогуливался вкруг дияровской избы, то есть присматривал за нею, будто уже за собственной.
Деньги, которые приносил домой Арслан, откладывал он, не тратя попусту ни копейки, в отдельный кошелек и набрал уже почти достаточно: оставить сыну добротную в наследство избу было заветным желанием старика, выполнив которое мог он и умереть со спокойной душой. Поэтому подозрительный автомобиль, подкативший с ветерком к воротам Дияровых, напугал старого Шавали до слабости в коленках; от мысли, что приехали, наверное, в нем покупатели, Шавали даже похолодел и, холодея все крепче, выбежал на улицу. Однако не успел он пройти и десятка шагов, как другая легковушка резко затормозила прямо перед его носом, распахнулись дверцы, и из машины вылезли... кто бы вы думали? Булат и Файруза. Между ними, держа отца и мать за руки, шел к деду, щеголяя новым, с иголочки костюмчиком, внук его Тансык.
Старика чуть кондрашка не хватила. Булат и Файруза — потом, глядя на родителей, и Тансык — бурно и радостно поздоровались с ним и объявили, что приехали приглашать в гости, прямо сейчас же и недалеко: как раз в тот самый дом Дияровых. Старик был потрясен окончательно, а в избе тем временем всполошенная Магиша перетряхивала уже сундуки, вытаскивая на божий свет провонявшие нафталином древние платья и казакины.
Через полчаса Шавали-абзый со своей старухой сидели локоть к локтю в горнице светлой, просторной избы, которую столь страстно мечтали купить, и изо всех сил старались сохранить полагающееся сватьям достоинство, для чего держались так прямо, будто проглотили на двоих одну пару оглобель.
Праздник раскупорил Лутфулла-абзый.
— Дорогие наши родня, сват Шавали, сваха Магиша, — сказал он, обращаясь сразу к обоим старикам. — Я предлагаю поднять эти полные стаканы за здоровье молодых. Они связали две наши семьи, породнили нас, и к тому же получилась тут такая небывалая, ни на одну другую не похожая женитьба. Поэтому решили мы отпраздновать ее не у вас, не у нас и даже не у Файрузы, а именно вот в этом доме, родовом, так сказать, гнезде, которое многие годы пустовало и разрушалось. Пусть, значит, воскреснет в этом доме жизнь, пусть шумит и радуется. А вам, дорогой сват, дорогая сваха, тысячу раз спасибо за то, что вырастили такую умную, душевную и также бойкую дочку!
Правда сказать, был Шавали-абзый настроен очень сурово и, согласившись пойти в гости, имел намерение все же держаться там круто и неприступно, по причине крайней своей обиды на непокорную дочку. Но вот произнес сват Лутфулла о Файрузе такие слова, что проняли они старого Шавали до глубины души, и сердце отцовское вмиг оттаяло... И улетели из него неведомо куда все большие и малые обиды, и навалилось на старика большое и редкое счастье. Он заморгал взмокшими веками, но тут же ткнул локтем свою старуху, которая уже пустила обильную слезу: не порть, мол, праздника, перестань ныть, старая...
Сидели до поздней ночи, толковали о всякой всячине, смеялись, хохотали, угощали друг друга, потом слегка закосевший Шавали-абзый захотел спеть песню. Тетка Магиша, испугавшись, принялась дергать его за рукав и отговаривать, но он только отмахнулся от нее, посидел, поправляя тюбетейку и приосаниваясь, посидел задумчиво, склонив голову чуть набок и смежив красные веки, да вдруг и запел:
Эх, да как крикнет, как вскрикнет джигит удалой, да молодо-о-ййй... Эх, да попрячутся, спрячутся утки в камыш да над водо-о-ййй...Голос его поначалу был старчески некрепок, дребезжал, словно арба по каменистой дороге, но с каждой нотой все выравнивался, богател и, мощно уже вызванивая на переливах, увлек за собою и слушателей.
Несколько позже за столом пели все, стар и млад, мужчины и женщины. И долго еще слышалась в ту ночь широкая песня в ожившем дияровском доме, на земле древнего Калимата.
7
Второе, не менее значительное, событие случилось поутру, когда Дияров собрался на буровую. В спецодежде и с лицом, не в пример вчерашнему, серьезно-деловым Лутфулла-абзый вошел в дом старого Шавали: тот, примостившись у печки, натягивал на рамки новую проволоку. Увидев свата, старик торопливо вскочил с места и бросился ему навстречу с каким-то поистине необычным для него радушием. Ухватив Диярова за руку, стал он настоятельно уговаривать его пройти и сесть за стол, а поймав другой рукою пробегавшую мимо тетку Магишу, велел мигом — одна нога здесь, другая там — слетать в магазин и принести чего сама знает. Думал он, по всей вероятности, что у дорогого свата после давешнего пира побаливает голова и зашел сват к ним в дом с намерением опохмелиться. Но Лутфулла-абзый тут же рассеял его убеждение несколькими словами.
— — Только не беспокойтесь, ради бога, не хлопочите, я сейчас ухожу, — сказал он, сжимая в руках кожаную фуражку. Оглянулся потом вокруг, заметил щелистые старые бревна, покосившиеся рамы окон. — Дом-то у тебя сгнил уже, сват...
— А-а... дом-то, оно, конечно, обветшал, — сконфузился старик, но, пытаясь все же не ударить в грязь лицом, быстро добавил: — Новый надо бы брать, и деньжонки прикоплены, да вот сын чего-то артачится...
— Я к вам, вообще-то, по этому делу и заглянул, — сказал Лутфулла-абзый.
У старика по лицу даже разбежались лучистые морщинки, рот его наполовину приоткрылся, обнажив осколки зубов.
— Не шутишь? Насчет дома, стало быть, зашел?
— Ну да. Бери-ка ты, сват, мою избу.
— И сколько ты, к примеру, запросить намерен?
— Как это сколько?
— Спрашиваю опять-таки, какая твоя цена будет. Сколько, скажем, тысяч?
— Да нет, ты меня не понял. Я говорю: бери дом.
— Даром?
— Конечно. Мне этот дом ни к чему. Булату с Файрузой тоже есть где жить. Вот мы со старухой и надумали тебе его отдать.
Радоваться бы старику, экое везение! А он и умолк совсем, будто опасаясь чего-то, согнулся и съежился. В эту минуту и впрямь показалось Шавали, что закатил ему мастер Лутфулла своей крепкой со стойким запахом мазута рабочей рукой здоровенную оплеуху. И вспомнилось старику жалко занывшим сердцем все содеянное: как вырывал он темной осенней ночью в пустом и жутком доме скрипящие половицы (Магиша, черт!), как прятал их в вонючем навозе, как завидовал Дияровым после приезда их и как проклинал нефтяного удачливого мастера, может, и ненавидел его даже... Принять теперь этот дом, который мастер Лутфулла дарит ему от всей широкой души, значило признать грязь и нечистоту своей собственной души, и было это ох как нелегко, и не хотелось с этим соглашаться, да старик и не сумел согласиться, не хватило его на такое героическое движение; и Шавали, словно малое дитя, заупрямился и забился в своем вязком нутре; издав странный, похожий на стон возглас, упал он на стул и, поводя бестолково руками, забормотал:
— Нет, нет, Лутфулла, не надо, не надо...
Из-за печки мигом выметнулась тетка Магиша.
— Да ты с ума спятил, старый дурень. Ты что же такое бормочешь, а? Тут тебя ото всей души уговаривают дом принять — да дом-то какой хороший! — а ты вместо спасибо фордыбачиться вздумал. Ты эти бычьи повадки брось... А ежели совестно тебе, так надобно было самому выстроить!
— Уйди, уйди с глаз, старуха, что ты болтаешь, кто сказал, что совестно...
— А чего болтаешь? Встань лучше да поблагодарствуй свата. Бутылочку там какую отыщи, спрысните подарочек-то. Ты, сватушка, те слова его даже и не слушай. В энтой избенке и зиму не перезимовать, вся как есть развалюха! Решето, а не изба, аллах свидетель, рази ж ее протопишь?
Старик, не зная, что и сказать, заорал на старуху:
— Тихо ты, зануда, сгинь отсюдова, кому говорю! Черепушка у тебя, как решето, а не изба, не твоего это ума дело! — и даже, не вставая с места, пнул норовисто, как молодой жеребчик, ногой по полу.
Тетка Магиша перечить не стала, посчитав, что с ее стороны все (единственно разумное) уже сказано, ушла вновь за печку, принялась торопливо ставить самовар.
Сваты долго еще молчали. Собравшись уходить, Дияров наконец поднялся и сказал неожиданно тепло и по-родственному.
— Я к тебе, Шавали-абзый, пришел с чистым сердцем. Ну, если невзначай обидел, тогда, конечно, прости.
Старик зачем-то заметался.
— Ты это... Лутфулла... того... погоди-ка! Больно уж это... сразу как-то, точно серпом по кочкам, погоди, этак и концы отдать недолго... Аж сердце зашлось! Уф! А мы того... подумаем, потолкуем...
На целую неделю замкнулся Шавали в себе, ни с кем не разговаривал, ел даже с отвращением и неохотно. Как-то поник и сгорбился, лихорадочно мерцал глубоко запавшими глазами. Думал. Шайтан в нем сидел крепко, сдаваться не хотел, хотел подзудить старика на какую-нибудь пакость. Но потом Шавали пересилил-таки себя, усмирил ползучего гада и с облегчением уже решился взять дияровскую избу. С тем прибавилось сразу много забот: надо было, по его задумке, перенести ее к старому дому, объединить их и отстроить, однако Арслан, собиравшийся на днях уезжать в Уфу на курсы буровиков, был решительно против.
Старик от такого упрямства пришел в сильнейшее негодование и вновь решил, что сын у него неисправимый охламон и толку с него нет и никогда не будет. От такого количества враз приляпанных к Арслану «не» Шавали сам же еще больше распалился и в отместку тотчас перебрался в дияровскую избу, а на старом дворе, чтобы виднее было, как разрушается родной дом его, вдвоем с младшим, Габдулхайкой, разобрал спешно навес и амбары.
Арслана провожали неприветливо. Шавали был совершенно убежден, что те люди, которые — люди, работают себе без всякой учебы и загребают хорошие деньги, а уезжать куда-то читать книжки, да еще в такую горячую пору, как возведение совсем нового хозяйства, это уже охламонство и вообще заскоки.
— Очень ты это неладно удумал, сынок, очень даже неладно, — сказал он, прощаясь с Арсланом и оглаживая сердито сивую бороду.
Арслан же, не желая выслушивать долгие и однообразные упреки, вышел из дома часа на два раньше, шел он на автовокзал очень неторопливо, но ждать все равно пришлось долго.
Провожать Арслана пришел друг его Атнабай. Был он на этот раз как-то невесел и малословен, по дороге из Калимата в Бугульму сидел в автобусе молчком, замкнуто, погруженный в свои далекие мысли, и только дойдя с Арсланом до уфимского поезда, заговорил поспешно, будто боясь не успеть:
— В Уфу ты попадешь часам к четырем. Как выйдешь с вокзала, садись сразу на третий автобус. На нем доедешь до остановки «Салават». Запомнил? А дальше идти по улице Мира. У нашего крыльца висит довольно большой такой синий почтовый ящик. И заходи прямо к нам, отцу передашь мое письмо. У нас там и жить будешь. Только знай, не остановишься у нас — обижусь, — последнюю фразу он повторил несколько раз.
— Ну и занятный ты парень, дружок. С тобой не соскучишься, честное слово. Это же получается как в рассказе, где один умник два месяца разыскивал дом, возле, которого должен был стоять рыжий теленок. А если этот твой почтовый ящик — довольно большой, довольно железный, такой синий, такой деревянный — взяла да и унесла вместе с письмами какая-нибудь красивая почтальонша, что же мне тогда делать? — улыбнулся Арслан.
Атнабай захохотал, стукнул себя по голове и принялся быстро писать на конверте свой адрес. Когда состав тронулся, он долго бежал рядом с медленно идущими вагонами и что-то кричал. В стуке колес Арслан не мог разобрать его слов, но знал, наверное, что слова его по-настоящему дружеские. Расставаться с «солнечным человеком» было трудно ему — теперь он понял это очень ясно — даже на самый короткий срок.
8
А тетка Магиша на новом месте видела необыкновенный сон. Будто бы пришла к ней сама покойная старуха Юзликай и требует злата-серебра. И надето на Юзликай длинное черное платье, такое длинное, что волочится прямо по земле. Землю метет. А в руке у старухи будто бы можжевеловая палица на манер кистеня. Но, может, и не кистеня, а чего-нибудь другого. Только взмахивает Юзликай этим можжевеловым посохом и надвигается на тетку Магишу, да так грозно, и требует отдать ей заветный, пуще глаза сберегаемый Магишею узелочек с драгоценным богатством. Ох! Тетка Магиша крепко-накрепко цепляется за узелочек свой, жмет его к сердцу, но он будто бы сам собою выскальзывает из ее рук и уплывает. Хочет крикнуть тетка Магиша, только не может она крикнуть, голос из нее не выходит, еще глубже забирается вовнутрь, хочет бежать в страхе, только не может она уж и бежать, ноги ее не слушаются, прилипают к земле. А узелок ее заветный — вот-вот! — вплывает в руки старой Юзликай, смеется старуха во весь рот и уносит куда-то ее богатство...
Проснулась тетка Магиша от испуга в холодном поту, глаз у нее подергивался и кололо в затылке. Оказалось, старик бросил ей на грудь свою костлявую, но тяжелую руку; тетка Магиша убрала ее и, радуясь, что этакие страсти, слава аллаху, обернулись неправдою, полежала еще, собираясь с духом и слушая гулкие удары сердца. Однако страх что-то не унимался, и тогда она разбудила Шавали и рассказала ему свой сон.
Старику до смерти хотелось спать.
— Курице завсегда пшано мерещится, — буркнул он сердито, — эк, как тебя пробирает с этим проклятым узелком! До конца дней, видать, мучиться станешь... — и, перевернувшись на другой бок, тут же захрапел.
Тетка Магиша, не умея объяснить, зачем вдруг приснилась ей в новом доме старая Юзликай, долго тревожилась и прикидывала так и сяк; под самое же утро, устав пугаться, она незаметно заснула. А заснув, опять увидела сон, да, пожалуй, удивительней прежнего. На этот раз Юзликай показалась ей в длинном и белоснежном платье, реяла она где-то над полями по вершине холма, легко так, чуть задевая о земли можжевеловой палочкой, и от земель поднимался чистый серебряный звон, а с неба падали к ним сияющие лучи солнца; белое платье старухи в том лучистом сиянье переливалось и искрилось так, что даже было больно на нее и глядеть.
Но вот на том месте, где земли коснулась палочка Юзликай, возник дом и стал расти и превратился в сверкающую вышку. Коснулась в другой раз — и появилось зеленое дерево, и раскинулось в стороны, и обратилось в шумящий листвою пышный сад. А за садом уже показались белокаменные палаты большого города, старая Юзликай плыла все выше по небесной лучистой реке, и за нею рождались все новые сады, дома и прекрасные, белые в голубом просторе, города. Поначалу тетке Магише и во сне почудилось недоверчиво, что это будто бы сон, и она яростно спорила с собою, но потом пришло к ней твердое убеждение, будто бы и не сон это вовсе, а явь, да такая хорошая явь, что, даже и проснувшись, она, не желая расставаться с увиденной красотою, полежала немного с закрытыми глазами (если взглянуть на окошко, сон, говорят, мигом позабудется). В толковании этого сна сомнений уже быть не могло — не иначе как к богатству, к достатку, к будущей хорошей жизни! И тетке Магише стало очень радостно оттого, что старая Юзликай, хоть и не сразу, а все же приснилась так счастливо и удачно; она, забыв все прошлые обиды, причислила ее благодарно к лику святых и подумала, что наверняка спустилась Юзликай в сон ее прямо из рая.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
1
В начале ноября на землю Татарии пришел из Москвы высокий правительственный указ.
Растущий рядом со старинным татарским селом на берегу степного Зая новый город нефтяников именовать впредь городом Калимат и обозначить его на всех географических картах страны.
В официальном порядке утверждаемое через газеты, вписанное в деловые бумаги и документы слово «город» как-то особенно легко и радостно вошло в обиход жителей его; в бараках, коттеджах и недавно построенных больших каменных домах кипела уж новая городская жизнь, сплетались радость и слезы, молчали обиды, смеялось счастье, и со звоном сдвигались чарки в честь славных трудовых побед, — дай бог, далеко не последних, на радость себе и дружному, вечному народу Советской страны; в родильных же домах врачи записывали в свои журналы имена первых потомственных горожан, и счастливые ошалелые отцы разносили по дорогам буровых неизведанное волнующее событие — дочь Калимата, сын Калимата!
Голубые, чистые окна домов нового города согревались теплотой человеческих душ, обрамлялись белоснежной каймой занавесок, вспыхивали ало-красными цветами роз, герани и бальзамина; словом, вечное и великое действо жизни продолжалось, шло своим чередом.
То, что заставило старого мастера Лутфуллу Диярова забить тревогу, кажется, медленно, но неумолимо сбывалось, правда, заглушенное звуками фанфар и грохотом аплодисментов... После установления замечательного рекорда имя Тимбикова появилось во всех газетах. Карим теперь ездил на большие и значительные совещания, где собирались многие известные люди страны, говорил от имени нефтяников Татарстана прекрасные, написанные кем-то слова, давал корреспондентам короткие и, откровенно говоря, весьма натужные интервью, то есть и сам тоже становился довольно знаменитым человеком. Вот тут и обнаружилась одна, весьма непривлекательная черта его характера, определившая во многом и саму судьбу Карима. На поверку оказалось, что отличался он таким узким кругозором, что едва ли разбирался в сложных современных проблемах технического производства. Да и не стремился к тому. И природные ростки внутренней культуры и те постепенно в нем высыхали от ослепляющего жара нежданной славы, от неумеренных похвал.
Умные люди в таких случаях не впадают в самообольщение, стараются избавиться от своих недостатков, стремятся к знаниям, к культуре. Людей, подобных Кариму, даже если на их долю и не приходится столь головокружительный успех, но которые, хоть и застенчиво, сами убеждают себя в том, что они всего достигли, ожидают в жизни серьезные потрясения, ибо в самоослеплении своем перестают они расти духовно, теряют даже те прекрасные качества, какими наделила их природа, — мельчают и опустошаются сердцем и, не желая смириться с этим, начинают искать утешения в других ценностях и привязанностях, заполняя духовную пустоту чем и как придется...
В конторе, где работал Карим, служил некто Абдульманов, знающий инженер, человек вполне интеллигентный, чересчур даже утонченный, эстет до мозга костей. Жил он уединенно и даже отчужденно, на мир глядел через пожелтевшие страницы редких книг, сквозь стекла затуманенных мечтаньями очков, к тому же совершенно не выносил грубости рабочих-нефтяников, а их замысловатая ругань приводила его в ужас — оттого и на буровые выезжал он только в случае крайней необходимости, а дело от этого страдало.
Однажды пришлось ему все-таки сказать: место твое, товарищ Абдульманов, видимо, не здесь, среди огрубевших в нелегком труде людей в брезентовых, пропахших мазутом куртках; быть бы тебе воспитателем в пансионе благородных девиц, а поскольку таковых теперь не имеется, читать бы тебе лекции о правилах хорошего тона всяким там прелестным балеринкам. Голос у тебя тихий, обращение деликатное, вообще ты человек очень деликатный, — одним словом, дали ему деликатно понять, что в услугах его более не нуждаются. И вот этот самый инженер Садриман Абдульманов, покидая теперь уже навсегда нефтяной Калимат, решил перед отъездом пригласить к себе на чашку кофе и рюмку коньяку знаменитого мастера Карима Тимбикова, чтобы и в расстроенных своих чувствах порядок обрести, и поговорить о том, что томило его всегда, и оставить на прощание о себе добрую память, — словом, как сказали бы нефтяники, потрепаться и душу отвести. Держа в длинных белых с отполированными ногтями пальцах пузатенькую розового стекла рюмку с золотистым «Камю», он говорил Кариму тихо и проникновенно, вглядываясь в какой-то ему одному известный, далекий мир:
— Знаете, дорогой мой, что поражает меня более всего в наших нефтяниках? Грубость. Да, да — уму непостижимая, бессмысленная, даже скотская грубость. Отчего они такие? Неужели же, извлекая из-под земли неоценимые богатства — принося государству неоценимую пользу! — необходимо еще беспрестанно поминать недобрым словом родную мать, произносить совершенно дикие, отвратительные слова? Как хотите — я этого не понимаю. Отказываюсь понимать и не могу согласиться, что подобная грубость является обязательной. Глупо! Вероятно, я что-то не понимаю — в этом моя беда, оттого меня и не любят, я везде и всюду чужак... обидно, дорогой Карим, невыносимо обидно! Родись я лет на пятьдесят позже, наверное, все могло бы быть по-другому — увы и ах... А вот вы, дорогой мой, явились на свет как раз вовремя. Природа наделила вас уверенной силой, организаторским талантом, и, что важнее всего, вы далеко не интеллигентная слякоть! Да, это — ваше время, время вашего величия и славы — постарайтесь же не упустить его. Я говорю вам от чистого сердца, ибо, если вы начнете вдаваться в тонкости человеческих отношений и почувствуете хоть на мгновенье их прелесть — вы погибли...
Абдульманов провел рукой по мягким, поредевшим уже над высоким лбом светлым волосам и задумчиво сощурился: вспоминал, наверное, свою бесполезно прожитую жизнь — было ему под пятьдесят, работал он на нефтяном деле с вузовской скамьи, переменил за это время десятки должностей и нигде не пришелся к месту, — а может, задумался о чем-нибудь другом: не всегда по лицу угадаешь, что у человека лежит на душе. По крайней мере, хоть и говорят, что лицо — зеркало души, Кариму в его отраженье было не разобраться: чуткости, конечно, не хватало, да, надо сказать, и желания; в своей собственной даже копаться он не любил, поступал обычно по наитию, как вздумается в текущий момент. Но, почуяв все ж печаль инженера, ото всей души пожалел Карим бедного «лишнего» человека и старался по возможности не обидеть Абдульманова неловким словом, не прервать доверчивых излияний его какой-нибудь грубой бестактностью.
Абдульманов же, напротив, легко угадал мысли Карима и в знак благодарности сделал ответную любезность: принес большой стакан и, наполнив его доверху ароматным коньяком, поставил перед мастером:
— Выпьем, дорогой Карим, за ваше блестящее будущее! — И первый поднес рюмку ко рту. Карим с удивлением понаблюдал, как инженер, смакуя, мелкими глотками цедит напиток, как прикрываются у него от удовольствия глаза и, выпив, осторожно подхватывает он серебряной вилочкой ломтик лимона, — вздохнул, опрокинул одним глотком весь стакан и, смачно захрустев яблоком, пожалел, что нету на столе соленых огурцов.
Через некоторое время Абдульманов поднялся из-за стола, жестом пригласил Карима следовать за собой, сказал каким-то таинственным, дрогнувшим голосом:
— Я вам, собственно, приготовил небольшой сюрприз...
Подойдя к огромному книжному шкафу, он вынул из кармана крокодиловой кожи бумажник, раскрыл его, достал из-под одной из многочисленных складок хрустящий пакетик, развернул — там лежал маленький ключ. Инженер нагнулся, отворил им нижнее отдаление шкафа, чуть отступил и показал рукою на довольно громоздкий ящик внутри:
— Возьмите, пожалуйста, вот это.
Карим подхватил ящик и с трудом разогнулся — оказался он таким тяжелым, словно был набит увесистыми булыжниками.
— А что тут, не горные ли породы из скважин? — сказал, пыхтя, заинтересовавшийся Тимбиков.
— Увольте, дорогой Карим, я уже давно не вижу в коллекциях минералов былой романтики. Откройте, пожалуйста.
Карим поставил ящик на стол, откинул крышку: под нею лежала в несколько слоев та самая хрустящая бумага, в которую был завернут ключик из бумажника.
Абдульманов театральным жестом взял бумагу за уголок и медленно приподнял ее.
— Здесь их около четырех сотен. Я собирал ее всю свою жизнь...
Карим, недоуменно глядя на граммофонные пластинки, тремя аккуратными рядами стоящие в специальных пазах, изумился:
— Всю жизнь?! Как — всю жизнь? В магазине же их полным-полно?..
— Нет, дорогой мой, в магазине таких не бывает. В магазине — ширпотреб, выпускающийся миллионами экземпляров. Теперь искусство грамзаписи — блеф, это уже не искусство, поймите. В наше время записаться может любой, кто только пожелает, будь у него хоть небольшие вокальные данные или большие знакомства. А здесь... голоса самых великих солистов мира... уникальные студии, уникальные образцы...
Инженер выхватил одну из пластинок, любовно протер ее куском мягкого бархата и поставил на тяжелый диск громадного странного вида проигрывателя. Автор и исполнитель — знаменитый итальянский артист Доменико Модуньо! Карим и не знал, что есть на свете такой певец, но голос — чистый, высокий, удивительно красивый — тронул его до глубины души.
— И что вы собираетесь с ними делать? — спросил Карим, очнувшись, когда игла со щелчком подпрыгнула вверх.
На бледном лице инженера вдруг проступил пятнистый румянец, изрезанная мелкими морщинами, дряблая шея жалко втянулась в плечи.
— Я... я не решаюсь более возить их с собой. Боюсь, что могут побиться, покоробиться... Это было бы ужасно! И потом... Мне стыдно перед ними за себя, прошу вас... Отдам за чисто символическую, свою цену. Мне будет легко и радостно, что они у вас, у знаменитого мастера Тимбикова, у рабочего...
— Да что мне с ними делать, товарищ инженер? У меня ведь пластинка одна — буровая.
Абдульманов взглянул на Карима удивленно, даже с укоризною:
— Вы, дорогой Карим, никому не говорите подобных слов. Не вздумайте ляпнуть такое на людях, предупреждаю вас от чистого сердца. Если бы я предложил эту коллекцию какому-нибудь ценителю, знатоку — он бы оторвал ее у меня с руками, да что там! С ума сошел бы от счастья, уж поверьте. В свое время я платил за них безумные деньги: да, да, платил, и с радостью! Как горький пьяница все до копейки спускает на водку, так и я тратил все на эти пластинки... Я хмелел от них! И, отыскивая редкостный голос, испытывал ни с чем не сравнимое блаженство — это было для меня великим счастьем. Я упрашивал военных, служащих за границей, писал посланникам, умолял туристов, клянчил, перекупал, бегал по толкучкам, попадал в тысячу неприятностей, но коллекция моя действительно уникальна. И теперь отдать ее знатокам? Чтобы, заплатив какую-то, неважно какую, сумму, стали они хозяевами смысла всей моей жизни, так просто? Чтобы хвастались ею — они, не шевельнувшие пальцем, чтобы ее создать? О, нет, я умру от ревности! У каждого — своя профессиональная гордость, которая определяет его поступки... Возьмите ее, прошу вас! Вы — хозяин времени! У знаменитого человека всегда должны быть свои странности, чудинка, что ли... К примеру, какой-то писатель творил только за кружкой пива, другой — опустив ноги в теплую воду. Четыре тысячи рублей — для вас небольшие деньги, не жалейте их. Ваша премия за один лишь месяц составит сумму вдвое больше этой, но зато обладателем какого клада вы станете, бесценного клада...
Последние слова инженер произнес с трудом, подавляя боль и поблескивая покрасневшими глазами. Видимо, от опасения, что до Карима не доходит смысл всего сказанного, что он может представить себе это как обычную, деньги — товар, сделку, на белом и гладком лице Абдульманова выступили обильно капельки пота, и он, промокая их изящным носовым платочком, заговорил поспешно и сбивчиво, торопясь поведать Кариму о жизни и творчестве знаменитых людей. От торопливости, желания высказать все свои мысли инженер путался и захлебывался воздухом, впрочем, Кариму, привыкшему видеть его инертным, медлительным и бесцветным, такая горячность даже понравилась. Подумав, что действительно не нашел вот человек своего пути в жизни, не нашел своего места, а иначе, пожалуй, большую мог бы принести пользу, Карим принялся слушать его с уважительным вниманием...
— Польский композитор Фредерик Шопен написал знаменитый военный марш, будучи семилетним ребенком. Уже тогда его исполняли на улицах Варшавы во время военных парадов, представляете? А Пушкин, возьмите великого Пушкина! Александр Сергеевич в девять лет полностью прочитал всю библиотеку своего отца — и ведь это на французском языке. Аркадий Гайдар, знаменитый детский писатель, в шестнадцать лет командовал полком. Тукай, Такташ, Муса Джалиль, — взятые все вместе, они оказались бы младше одного современного пожилого писателя...
Рассказывая, инженер беспрерывно жестикулировал, вскакивал с места, вновь валился на стул, наконец утомился и замолк. Бледное лицо его побледнело еще более, он совсем уже задохнулся и, слабой рукой сжимая носовой платок, все прикладывал его ко лбу, промокая давно высохший пот.
Когда же Карим с ящиком под мышкою выходил от Абдульманова, он заметил в глазах инженера потрясающее чувство утраты, словно тот прощался навечно с самым близким ему человеком; поэтому на следующий день Тимбиков принес деньги, добавив к ним сверх уговора еще одну тысячу, но инженер выразил безмолвно такое негодование, что мастер, не пускаясь в уговоры, поспешил засунуть лишние купюры в карман. И потом, на буровой, в самый неожиданный момент всплывало вдруг перед ним печальное лицо Абдульманова, и душа Карима терзалась каким-то непонятным, но решительным чувствам вины.
Тянулось это, однако, не слишком долго. В пылу работы, а более того в шумихе, поднятой вокруг него, Карим напрочь забыл и об инженере и о своей не совсем обычной покупке; зато один из журналистской братии, пронюхав откуда-то о ней, написал обширный, восторженный очерк о молодом и столь развитом мастере, который мало того — любит музыку, но еще и собрал замечательнейшую коллекцию музыкальных пластинок. С его легкой руки легенду подхватили другие корреспонденты и... пошла писать губерния, пошли печататься небывалые фотографии!
Вот Карим склонился над любимой пластинкой. Вот он с томиком любимого поэта в руках. «Тимбиков — ценитель поэзии, но его хобби — музыка!» «Тимбиков думает заняться живописью!» «Я очень люблю искусство!» — говорит Карим Тимбиков, знаменитый нефтяник и рекордист». Слава о грандиозном Тимбикове катилась теперь, как снежный ком с высокой горы, обрастая — что ни день — удивительными новостями. От первой подобной заметки у Карима дыбом поднялись волосы, вторую он встретил уже значительно спокойней, потом привык ко всему и сам стал выдумывать о себе несуществующие, но интересные подробности, научился даже выдавать приводящие журналистов в состояние крайнего восторга блестящие «перлы»...
2
Создавая для работающих под открытым небом нефтяников новые невероятные трудности, пришла снежная зима. Задули по неделям буранные ветры, завьюжили метели и стало заносить непроездно дороги, лопались на страшном холоде водяные трубы, словно картонные, ломались на сгибах задубевшие спецовки буровиков.
Обычно в эту лютую пору скорость бурения неизбежно падала — так получилось и нынче. Впрочем, для обычных, свыкшихся со злобою зимы, не имеющих привычки ради рекордов шутить с нею рядовых бригад метели, стужа и низкая скорость были давно не в диковинку. Надо только затянуться потуже да стиснуть покрепче зубы — вот и вся наука, с которой не страшна любая непогода.
Но для Карима Тимбикова зима эта обернулась совсем по-другому. Когда он ставил свои замечательные рекорды, стояло чуткое лето, гуляли потихоньку над буровой прохладные ветры, теперь же... воет по степи, вороша ее, яростная вьюга, и даже теплый пар над манифольдной линией вмиг оседает на трубах сверкающим ледяным панцирем.
Первый месяц года начался для прославленной бригады полосою неудач. Поначалу мучились нещадно по причине бесконечного «ухода»[25]: попалась огромнейшая пустота — о циркуляции не могло быть и речи, — и пока набили цементом бездонное, словно у сказочного обжоры, брюхо земли, пролетела целая рабочая неделя. Потом два раза упускали в забое шарошки долот[26]. Органически не выносящий простоев Карим, от раздражения совершенно одурев, не счел нужным сообщать об этом в контору и сунулся в скважину с третьим долотом — оставшиеся в глубине обломки шарошек не преминули накрепко заклинить инструмент. Приехал мастер сложных работ, спасая буровую от прихвата, протомил всех еще одну неделю.
Карима, разумеется, вызвали в контору и крепко взгрели там за самоуправство, но это ничуть не послужило для него уроком, напротив, распалило его еще более. Безоглядно с какою-то слепой яростью кинулся он в работу. О нем еще писали в газетах, но скорее уже по инерции, имя его все еще фигурировало в докладах Кожанова, однако это не окрыляло, как ранее, бригаду, пожалуй, даже наоборот: вселяло в нее глухое досадливое недовольство.
Да и в самой бригаде было явно неладно: между вахтами из-за пробуренных метров и распределения по ним зарплаты разгорались почти злобные споры; на требования техники безопасности никто не обращал ни малейшего внимания; на плакате с предупреждением не брать голыми руками стальной аркан кто-то начертал загустевшей нефтью «сакраментальное» слово; весь пол в культбудке засыпан был окурками и всякой дрянью, вокруг буровой валялись где попало разные железки и бросовый хлам.
Впредь так продолжаться не могло, и Карим решил установить суровую дисциплину. Первою жертвой излишнего усердия мастера стал буррабочий Каюм Марданов. За пятнадцатиминутное опоздание к вахтовому автобусу Карим обвинил его во всех смертных грехах и прогнал с буровой; причем на этом не успокоился и добился через трест увольнения его с работы. Буровики переживали случившееся очень тяжело, так как Каюм в Калимате не остался, получив расчет, уехал в Башкирию, но там, по слухам, запил и за пьяный дебош угодил в тюрьму. Каждый в бригаде как-то вдруг замкнулся, установились в ней нелюдимые скупые отношения, и в предгрозовой тишине все ожидали, тревожась, но помалкивая, приближения новой, надо полагать, более серьезной беды.
В начале февраля приехал наконец закончивший учебу Арслан. Пройдя практику у знаменитого башкирского мастера Мухаммета Бахитгараева, он усвоил немало полезного и вернулся не верховым уже, но знающим дело бурильщиком. Перемены, происшедшие в бригаде за какие-то полгода (перемены явно неутешительные), и несчастливо сложившаяся судьба Каюма неприятно удивили и расстроили его. Арслан видел, что недавнюю славную сплоченность бригада уже утеряла полностью и для того, чтобы восстановить ее, чтобы вернуть товарищеские, братские взаимоотношения, потребуется немало сил и времени. В первую очередь должен, конечно, заботиться об этом мастер, но... проработав несколько дней, Арслан остро почувствовал, что от прежнего прямодушного и простого Карима не осталось и следа — был он совершенно неузнаваем. Тонкая, стремительная линия его ястребиного носа как-то притупилась, страстные, по-хорошему беспокойные глаза сузились в презрительные серые щели, в которых плясали теперь часто раздраженные огни; разговаривая, если можно так назвать отрывистое, сквозь зубы, выплевывание слов, Карим ни на грош не считался с собеседником, возражений не терпел до потери самообладания и чуть что срывался на яростный, исступленный крик.
Работать с ним в одной бригаде, бок о бок, становилось с каждым днем все труднее; вскоре между ними произошло столкновение, положившее начало их глубокой вражде.
Случилось это сразу после завершения начатой в январе скважины, когда бригаде уже определили новую буровую. Первые метры должна была проходить вахта Арслана, но, проверяя готовность буровой, он заметил, что есть неисправности: над цепью ротора[27] не был установлен предохранительный щит, исчез куда-то индикатор[28].
— Нет, так бурить не будем, — сказал он заменившему Каюма Михаилу Шапкину. — Я думаю, ты не очень-то торопишься на тот свет, а тут — прямая дорога...
В распахнутой кожаной куртке, с полуметровым гаечным ключом под мышкой вышел из насосной, вытирая замасленные руки, сердитый Карим.
— Что там еще? Арслан, кого ждешь?
— Буровая к пуску не готова, товарищ мастер.
— Ты о щите, что ли?
— Ну да. И индикатора тоже нет.
— Пустяки. Не теряй времени, давай, пора начинать.
— Не могу, мастер. Не имею права, — выговорил Арслан с твердым убеждением в своей правоте, как всегда очень спокойно, не собираясь идти ни на малейшие уступки.
На виске у Карима яростно забилась синяя жилка, вздулись желваками крепкие скулы; он метнул взгляд на тревожно подобравшегося Сиразеева, оглянулся на Михаила Шапкина, стоявшего с невозмутимо-ироническим видом, резко отбросил промасленную тряпку и, схватив ключ в правую руку, шагнул вперед.
— Не хочешь работать? Отвык, может?
— Не отвык. Просто не могу против правил. Да ты и сам это прекрасно знаешь, не новичок на буровой.
Левая бровь Карима нервно подпрыгнула вверх и задергалась в мелком тике; спокойствие этого щенка, посмевшего поучать его, мастера Тимбикова, взбесило вдруг до такой степени, что он, не помня себя, откачнулся назад и с силою опустил тяжелый ключ на голову Арслана. Но тот, при всей его кажущейся неповоротливости, оказался на редкость проворным и мгновеньем раньше успел ухватить Карима за руку и стиснул ее, будто клещами. Лицо мастера от боли и неожиданности перекосилось, огромный железный ключ выпал из ослабевшей руки и с тяжким грохотом ударился о пол буровой.
3
В широкие высокие окна вливается щедрый дневной свет, серебрится в жестких, с густой проседью волосах директора школы, вспыхивает, сталкиваясь с крохотным своим отражением, в стеклах директорских очков.
— Так вы говорите, товарищ Тимбикова, у вас в семье все нормально, нет ничего... э-э,.. такого... а?
— Да, все хорошо... — отвечает Мунэвера чуть слышно, но, встретив директорский пронзительный и словно бы недоверчивый взгляд, теряется, опускает низко голову.
Директор поднимается из-за стола, проходит медленно к окну; стоит там молча, наблюдая за мальчишками во дворе школы, азартно играющими в снежки, — затем резко оборачивается к Мунэвере.
— Не ошиблись ли мы, товарищ Тимбикова, доверив вам воспитание детей? Как же так получилось? Сорван урок рисования! Вы — классный руководитель. Учитель рапорт написал, грозится уйти, а вы детей направить не можете! Совершенно бесхарактерный вы человек... — умолкает вновь, будто обидевшись даже. Потом добавляет: — Ну, ладно, идите, у меня все...
...Мунэвера шла домой узкой длинной улицей, застроенной еще в первые недели возникновения нового города типовыми финскими домиками. Дома были похожи друг на друга, как деревья в сосновой роще, — Мунэвере вдруг показалось, что она заблудилась в незнакомом лесу. Однообразие всегда угнетает... Серое монотонное течение жизни, невеселое и неяркое, прибило ее к сегодняшнему берегу, вынесло к сегодняшнему дню; было грустно и тяжело. Она говорила себе: семья, дети, — боялась людских пересудов, боялась сплетен, как жить безмужней женой?.. Боялась огорчить мать, обидеть ее своевольным шагом — даже мыслей о том боялась... И старалась быть терпеливой, и терпела во имя детей, хотя в последнее время стало совсем невмоготу. Институт, куда с таким трудом поступила, пришлось бросить: времени на себя, сил на учебу не оставалось. А сегодня ее же и попрекнули этим терпением — «бесхарактерная»...
Укорили... Обругали почти. Ах, и странно устроена жизнь: каждый волен учить тебя, каждый считает своим долгом ткнуть тебя побольнее носом... Учитель этот, по рисованию, груб с детьми, нетерпим... Она говорила не раз об этом на педсовете: не любят его ученики... Ведь сами же стараемся воспитать их честными, прямыми... Конечно, она не слишком решительная, не умеет рубить сплеча, но разве ж это дает права директору говорить так круто... Как он может?
На углу Девонской улицы стояла группа парней в брезентовых робах; прислонясь к заборчику, они курили, спорили о чем-то. Когда Мунэвера проходила мимо, парни громко захохотали — скорее о чем-то своем, видно, после тяжелой работы они просто отводили душу шутками, — ей же показалось, что парни смеются над ней, над ее безволием... Вздрогнув, она пошла быстрее, и мысли ее неожиданно потекли вспять — в голову лезло теперь совсем другое.
Решила она вдруг, что директор прав, да прав, и даже разозлилась: почему же он не говорил ей этого раньше? Разве жила она до сих пор так, как считала правильным, поступала так, как хотелось? Пыталась ли она стать мужу другом, советчиком? Старалась ли пробудить в нем теплоту и сердечность? Никогда не делился Карим своими мыслями, не замечал в ней человека... Хотя бы для души. Но ведь она мать его детей, и так хочется иной раз услышать теплое слово, разве она не заслужила его. Она родила ему детей, растила их, мучилась, тревожилась — где же признание всего? К тому же она еще и работает в школе, а после стирает дома, готовит, ухаживает за семьей... Никто и не спросит, когда же ты спишь, бедная, когда отдыхаешь... Кариму что: у него на две руки одна работа, голову ломать нужды нет, а устанет — может и душу отвести, загулять, и никто его в том не упрекнет, слова никто не скажет... Почему же о человеке судят только по тому, каков он на работе, почему? И настанет ли когда-нибудь жизнь, одинаковая для всех — мужчин и женщин, — жизнь полная, интересная, для всех до конца равная?..
Домой она пришла в совершенном расстройстве, стучала в висках взбудораженная кровь, звала на решительные поступки. Надо было идти в детский садик, забирать Миляушу и Анвара, но идти в таком состоянии она не могла; взглянув на себя в зеркало, она поразилась: лицо побледнело, из темных провалов лучились сердитым светом глаза, покрасневшие, колючие... Еще детей испугаешь. Нет, надо отойти, успокоиться — с такими мыслями она прошла на кухню, поделала там что-то, лишь бы отвлечься, но волнение не утихало, мятущееся сердце колотилось так же неровно. За что бы ни бралась Мунэвера, все говорило ей о тоскливо прожитых годах — на положении няньки, стряпки, домработницы... И это все Карим, он довел ее до такого состояния !
В душе ее бушевал ураган возмущения, протеста. Душа горела, стонала, переполненная пылающей болью. Но нельзя же так, надо взять себя в руки, не терять головы. А если ей посоветоваться с «ним»... Если спросить Арслана? Ладно ли? Не подумает он, что хочет она навязаться ему?..
Мунэвера невольно покачала головой, отвергая последнюю мысль. Не подумает. У Арслана — доброе сердце, широкая душа. У Мунэверы же никого нет ближе его... Завтра она все-все ему расскажет, откроет наболевшее сердце свое, спросит, как быть ей...
В этих мыслях, приносящих утешение, она приготовила ужин. Сходила в детский садик за детьми, накормила их, обласкав и утешив в немудреных просьбах, уложила спать. Поглядывая на странные, звездно-сказочные тени зимней ночи, посидела у расшторенного окна. Представляла себе завтрашний день, встречу свою с «ним», и сердце билось гулко и неровно... Иногда, по привычке уже, беспокоилась, что долго не возвращается Карим, думала разное о том, где он может быть, тревожилась не мучительно, но все же сильно...
Не раздеваясь, прикорнула наконец на разобранной постели, вздремнула даже; на недолгое время охватил ее зыбкий полусон. Приснились вдруг какие-то кошмары, в испуге она проснулась, села, вскинулась озираясь. Поняла быстро, что сон не явь, но долго еще не могла успокоиться.
Перевалило за полночь — Карим не возвращался.
Донн!!!
Пробили в углу старые часы — рассеялись брызнувшими осколками слов думы Мунэверы.
Она сидела тихо, ждала еще ударов. Больше не пробило. Час или, может быть, половина? Какого: второго? Напряженно думала она, стараясь понять: час или же половина. Словно всех и забот у нее было, что только это...
4
Вечером, когда Арслан возвращался с работы, его окликнули по имени; Арслан шел задумавшись, вздрогнул и непонимающе оглянулся.
Девушка — в желтой косынке, из-под которой выбивались крупные темные завитки, с раскрасневшимся милым лицом — стояла перед ним, чуть смущенно улыбаясь, и на щеках ее сияли ликующие ямочки.
— Испугала?
Арслан узнал ее тотчас. Это она была в тот день на вечеринке у Карима — сестра Мунэверы, красивая Сеида.
— Испугала, конечно, — сказал Арслан и тоже улыбнулся. — Откуда ты? Или с неба спорхнула?
Сеида засмеялась, и голос ее рассыпался звонко в морозном воздухе.
— Разве я похожа на ангела?
— Точь-в-точь! Только крылышки еще приставить.
— А может, они у меня есть, вы же не знаете?..
— Даже так?!
— Вот именно! — Сеида лукаво встряхнула головой, но вдруг посерьезнела и протянула Арслану белый конверт.
— От кого это? — удивился Арслан, но письмо взял.
— Прочитайте... тогда узнаете. Ну, я пошла.
— Счастливо!
Арслан долго еще смотрел ей вслед, и письмо забыто белело у него в руке — удивительная девушка Сеида, жизнерадостная, как сама юность! — но вот она повернула за угол, и Арслан, вздохнув, прислонился к заборчику палисадника, надорвал конверт.
Пробежав глазами, вернулся, перечитал еще, стараясь вникнуть в смысл его, спокойно уже, вдумчиво прочитал и в третий раз.
«Арслан, если можешь, спустись завтра утром, часов в девять, к Заю (знаешь, где загончик для телят, так сразу за ним). Буду тебя ждать. М.».
Арслан задумался, не зная, как воспринять прочитанное. Они не виделись с Мунэверой ни разу с тех самых пор, как вернулся Арслан в Калимат с курсов, не условливались о встрече, если и встречались, то лишь случайно, мельком.
Назавтра, за полчаса до назначенного срока, он пришел на излучину Зая и с тревогою, поднимавшейся, кажется, из самой глубины души, стал ждать Мунэверу.
День начинался хмуро. Солнце изредка и мутно проглядывало в прорехи низких зимних облаков, по Заю, словно желая заровнять бесчисленные, узорчатые следы машин, рваные колеи тракторов, носилась суетливая поземка. Нагие, стылые ивы гнулись к холодной земле, скрипели жалобно, а ветер взъерошивал их, забрасывал мелким снегом и вновь распластывал по завьюженной поверхности.
С той стороны, где обнаженные ивы гнулись под ветром, но сопротивлялись упорно в согревающем желании жить, укутанная в пуховую шаль, наклонясь против ветра, появилась Мунэвера.
Арслан пошел ей навстречу. Поздоровались. Мунэвера, пряча руки в теплую свою доху, молчала. Арслан заметил, что Мунэвера за то время, когда он был на курсах, похудела, осунулась, даже будто постарела, и две резкие складки появились у мягких губ, — видно, пришлось ей нелегко, и она устала.
— Ты не обиделся, Арслан?
— На что?
— Да вот... отнимаю у тебя время. Надоедаю. — Усмехнулась неловко и жалко. — Не могла я не прийти к тебе. Давай присядем.
Уселись, где стояли, на некрутом берегу Зая.
— Нет сил больше терпеть, Арслан. Что делать мне, посоветуй?
— Бьет, что ли?
— Да нет, не бьет, а... хуже. Душа болит, худо мне. Кажется, с ума схожу, так худо; нервы подводят, ни спать не могу, ни отдохнуть, все как по лезвию... Соседи удивляются: чего ты, мол, ходишь точно погорелец какой? Одежды у тебя носить не износить, и деньги водятся, муж, как барыню, на машине катает, и что еще человеку надо? Уж не знаю, что и сказать им, отговариваюсь, нездорова, мол, оттого и настроения нету. Странные люди, все на деньги да на тряпки переводят— стыдно! Будто в старое время живем, не понимаю я их... — Она тяжело вздохнула. — Ну скажи мне, Арслан, что делать? Надоело все, устала, глаза бы мои его не видели, честное слово. Слышать его не могу и развестись не смею, боюсь — дети без отца пропадут.
Арслан почувствовал, как сильное, горячее чувство ожгло захолонувшее сердце, было то чувство и горьким и обнадеживающим сразу... Вот и пришел решающий миг. Все теперь в его руках, только сожми их покрепче и увлеки за собою долгожданное счастье! Но пришел миг следующий, холодный, отрезвляющий. Решится ли сама Мунэвера на смелый поступок? Признают ли тебя дети, подумай, Арслан, не горячись! Что там ни говори, а родной отец ближе чужого дяди. Очнись, Арслан. Подумай. Тонкое и щекотливое это дело — семья, семейные отношения. Имеешь ли ты право входить в чужую дверь, не постучавшись?
Арслан, подняв голову, взглянул на Мунэверу: она пристально смотрела ему в глаза, ждала ответа.
— В таких случаях советы не нужны, слышишь, Мунэвера? Как велит тебе сердце, так и поступай.
Она вздрогнула, и лицо ее от обиды пошло красными пятнами. Разве эти слова надеялась она услышать, для того ли пришла сюда, поборов гордость свою и стыд? Лопнула взлелеянная тоскливыми ночами надежда, рассыпалась. А так верилось в нее! Уж лучше б одернул ее Арслан, лучше б сказал жестко: «Не ной, не плачься, будь смелее — так-то лучше выйдет!»
— Я ведь, Арслан, оттого лишь... не. могу сама решиться, ой, не понимаешь ты. Мать очень против развода. Сеида еще молодая советы давать. Может, думаешь... я навязываюсь тебе, с детишками, мол, на шею сяду?!
Арслан резко вскочил, покраснел густо и, глотнув раскрытым ртом морозного воздуха, крикнул е безнадежным отчаянием:
— Я до сих пор холостым брожу, а ведь мне тридцать уже, почему, а? Кого жду и чего? Или девок мало на свете? Не видишь ты? «Не понимаю?!» А ты понимаешь?! Как я тебе могу советы давать, как?.. Мы с Каримом — враги на всю жизнь, кровные. Он убил бы меня, если б смог, с железом пошел, вот как... И если я скажу тебе: разводись! — честно ли это будет? А если скажу: не разводись! — это честно? Видя, как ты страдаешь, — честно? Или, думаешь, у меня в груди камень вместо сердца? — Задохнулся, взмахнул бессильно руками, продолжил уже медленнее, тяжело, выговаривая слова: — Ты еще молода, красива, у тебя вся жизнь впереди. Можешь учиться, работать, растить детей, воспитывать их настоящими людьми — кто тебе помешает? Не нравится мне твоя покорность всем и всему, годы идут, ты все жалуешься, но ничего не можешь... Счастье твое у тебя в руках, и ты сама его хозяйка — тебе решать, понимаешь, только тебе и никому другому...
Он вдруг умолк. Опустился на берег, сидел молча, прикрыв глаза, и горько ему было, и стыдно за свою несдержанность.
Стирая все следы и тропинки, носилась по закованному в лед Заю суетливая, мелкая поземка...
5
В открытую дверь ворвались с улицы армады холодного воздуха, взвихрились, столкнувшись с густым, устоявшимся теплом избы, обратились в клубы туманного пара, и Арслан, шагнувший через порог, на первое мгновенье затерялся в облаке этой бесшумной, морозно-горячей битвы, не различая перед собой никого и ничего.
— Мамочки! Булат, да ты только посмотри, кто к нам пришел! — Вытирая руки фартуком, по-родственному встречала его Файруза. — Ах, братик ты мой, братуша... Я уже было и отчаялась, что заглянешь к нам по своей охоте, приглашать собиралась...
От стола поднялся Булат, пошел, улыбаясь, Арслану навстречу; ноги его в меховых унтах ступали по полу неслышно, и было даже несколько странно видеть, как прогибаются под этими неслышными шагами широкие половицы.
Подойдя, он крепко пожал гостю руку, хлопнул по плечу и, продолжая улыбаться, дружелюбно забросал его вопросами:
— Ну, как — жив, здоров? Давно приехал? Что учеба? Наверное, профессором стал по бурению, а? Давай, шуряк, проходи... вешай вон пальто, шапку снимай... Я и сам только-только с работы...
Арслан еще возился у вешалки, когда с радостным воплем налетел Тансык, вскарабкался на него и повис, обхватив дядю обеими руками. Дядя хлопнул его по заднице, подкинул вверх, поймав, легонько провел большим пальцем от затылка до носа по его стриженой голове — показал, как «цыган в гору едет», — и поставил на пол.
— Не больно! Не больно! — запрыгал Тансык на одной ножке, но на всякий случай отскочил от дяди подальше, куда не достанет его рука.
Файруза наблюдала за ними, прислонившись к печке, и Арслану показалось, что именно от нее, а не от нагретой печи пышет ласковым семейным теплом; он с каким-то, впрочем свойственным ему в иные минуты, умилением оглядел полнеющую фигуру сестры, заметил желтоватые пятна, выступившие у нее на лбу и вокруг носа, подумал с невольной завистью неприкаянного холостяка: «Да, парень, это тебе не Мунэвера. Никогда и ни от кого не зависела наша Файруза, но то, что ей полагалось, вырвала у судьбы с мясом — теперь уж не отдаст. А ведь когда-то смеялись над нею, клички всякие цепляли. Попробуй прицепи сейчас! С Булатом больно-то не пошутишь, хороший мужик, правильный, однако за себя постоять сумеет. В сестре он души не чает, понял наконец, какое в ней сердце сокрыто чудесное, любит. Тансык-то как вырос. Шустрый стал, конечно, с отцом хорошо. Скоро, надо полагать, с братишкой будет, может, с сестренкой».
— Слушай, мать, надо бы как-то насчет «самоварчика» сообразить, а? — бодро и низко прогудел Булат, заметив, что Арслан о чем-то задумался и поскучнел. — Посидим-ка мы сегодня, потолкуем вволю!
— Нет, нет! — вскинулся Арслан. — Я скоро пойду, по пути забежал... — но слова его повисли в воздухе; Файруза уже накидывала новое пальто с высоким воротником, повязалась серой шалью из козьего пуха и, не обращая внимания на оханье брата, помчалась в магазин — через пять — десять минут на столе прозрачно зеленела бутылка.
Чаевничали шумно и весело, разговор легко прыгал с темы на тему; между делом пропустили и по рюмочке, но водкой никто не увлекся — особого желания к ней не ощутилось, — наверное, поэтому было даже незаметно, что выпили, — лишь поразмялись немного, да еще проще стало вести беседу. Речь, то ли в шутку, то ли всерьез, зашла и о семейных делах, о женитьбе, — Булат по этому поводу, как обычно, крепко пожалел, что столь долго прожили они с Файрузой врозь, притянул ее к себе, хотел было поцеловать — Файруза, не привыкшая к нежностям, встопорщилась, словно кошка, ласкаться при людях не пожелала. Посмеялись. Арслан вновь, который уж раз за этот вечер, расчувствовался, в горле у него запершило, и он, радуясь счастью сестры, — усилием воли удержал готовые выступить на глаза светлые, восторженные слезы.
Когда миновали волнующие минуты и разговор опять потек в обычном для рабочих людей простом и чуть грубоватом русле, Файруза не сдержалась, словно бы даже укоризненно, выговорила Арслану:
— Пора бы и тебе, братушка, подумать о своей семье — потом поздно будет. Перезревшее яблоко гнить начинает, знаешь?
— Спасибо, сестрица, за великий совет. Завтра же начну выполнять, — отшутился Арслан и обернулся к Булату: — Я ведь к вам по делу пришел, Булат-абый (величать его зятем Арслан не мог, казалось ему, что слово чересчур отчужденно). Это... ну, да... с мастером-то Тимбиковым что-то у нас не совсем ладно... короче — не уживемся, чувствую.
— Почему?
— Испортился парень. Плюет на всех с высокого места, гордый стал — ужас.
— Давит, что ли, горлом берет?
— Вот-вот, не горлом даже — дубиной!
— Слышал я, вообще-то, такие разговоры. Буровики в последнее время все о нем толковали, стало быть, правда?
— Еще бы! Пойди он в землекопы, так золотой бригадир был бы, стахановец! С турбобуром-то шутки плохи, а он с ним как с лопатой... Вот я и хотел спросить... не возьмешь в свою бригаду?
Булат словно увидел шурина впервые, взглянул на него внимательно и чуть недоуменно:
— В конторе-то как на это смотрят?
— До конторы не дошло пока. Если бы ты согласился, Митрофана Апанасовича уломать недолго: он мужик толковый, догонит, что к чему.
Булат задумался, водя пальцем по столу, чертил какие-то фигурки, вопросы, потом открыто посмотрел Арслану в глаза;
— Мне это сделать не трудно. Ты, конечно, джигит хоть куда — и характером и силищей, — тебя, в принципе, любой мастер возьмет с большой охотою. Только... знаешь что?
— Ну?
— Честно ли будет бросить бригаду? Я серьезно, без фраз... Ребята ведь все в трудном положении, пожалуй, даже на грани... Да что я тебе объясняю, сам прекрасно понимаешь: уйдет бурильщик, и вахте — конец, а для бригады сейчас, это — нож вострый. Развалится. Может, я думаю, за Карима надо бы взяться, а? Поставить его на место, что он, в конце-то концов, не человек, что ли? Есть же в нем сердце! Если всем вместе поднажать: наверное, выправится?!
— Нет, Булат-абый, не выйдет. Опоздали чуток, джинн из бутылки выпущен, — раздулся — прямо до небес. А его еще все подначивают!
— Кто подначивает?
— Начальники, умные головы! Карим, например, на контору теперь чихать хотел, подчиняется только лично Кожанову...
— Но-о? Тогда дела, конечно, хуже. И все-таки, Арслан, я бы на твоем месте попытался. Это — труднее, чем бурить землю, а?
— Знаешь, Булат-абый, я Карима не боюсь. Если бы мы были один на один — и думать не стал бы, обломал, и все! Между нами третий есть, вот в чем дело...
— Как третий?
Арслан покосился на старшую сестру, потом отчаянно махнул рукой и ляпнул:
— Мунэвера.
— Какая Мунэвера? — враз обернулась к ним вроде бы и не слушавшая Файруза.
— У меня Мунэвера только одна, чего уж спрашивать...
— Так... жена Карима?!
— Да.
Эта новость со стороны Арслана оказалась для сестры столь ошеломительной, что Файруза, всплеснув руками, застыла с раскрытым ртом — читать нотации, так ведь и своя-то судьба сложилась не как у всех, ребенка без мужа растила... И она только вздохнула тяжело да сказала грустно:
— Ах ты, братуша...
Обняв забравшегося к нему на колени Тансыка, призадумался и Булат. Раз так, нечего больше спорить о бригадах, тут уж ни черта не выспоришь. Только все ли парень обдумал, все ли до конца уяснил в непростых этих обстоятельствах?
— Ты что же... жениться на ней собираешься? — спросил он наконец, нарушив тягостное молчание.
— Если начистоту — Мунэвера моя первая любовь. До сих пор. Согласится она начать новую жизнь, осмелится бросить мужа и пойти за мной — раздумывать не стану. Но... уж очень она нерешительная, безвольная — беда, честное слово. И для меня это очень тяжело, хоть криком кричи... Поступок, конечно, рискованный, но ради счастья... нет, не сможет она, где там! А с мужем живет плохо. Посудите, разве легко мне, зная это, работать бок о бок с Каримом? Схлестнулись уж разок, ладно, все обошлось. Но как бы дальше чего похуже не вышло.
Булат осторожно опустил сына на пол, полез в карман за папироской, молча закурил. Да, действительно тяжело парню... и все равно уйдет он из этой бригады, только обиду затаит, если не помочь, — хорош, мол, родственник. Значит, точно: надо хлопотать, чтобы перевели.
— Сколько у вас метров пройдено? — спросил он, придя к окончательному решению.
— Вчера что-то около тысячи семисот было...
— Тогда ты давай так: заканчивайте пока начатую скважину, а потом сразу перейдешь ко мне. Я еще с отцом посоветуюсь, как лучше, заодно и с Митрофаном Апанасовичем переговорю. Думаю, мы это утрясем.
Довольный исходом дела и глубоко благодарный зятю Арслан прямо от сестры, даже не переодеваясь, пошел на автовокзал, к вахтовой машине.
6
Смеркалось, и снега на обочине дороги окутывались в синие, затаенно-опасливые тени, туманились в страхе: в открытом поле распоясывался понемногу свирепый буран. Ветер, задувавший со стороны буровой, доносил до людей, сошедших с машины и шагающих к ней напрямую пешком, знакомый, невнятный от расстояния гул; сквозь порывистый вой метели слышались тяжелые фуркающие вздохи насосов, в косой снежной пелене показался наконец где-то высоко и оторванно талевый блок, который, словно измеряя неизмеримую высоту вышки, устало и обреченно поднимался, чтобы тут же вновь поехать, покатиться вниз.
Охлопывая рукавицы, утирая с красного лица большой темной ручищей капельки пота, из ворот буровой выскочил Борис Любимов, уставясь на Арслана, который первым подымался по мосткам в чистой, выходной как будто, одежде, остановился в двух от него шагах и прижмурился, точно от яркого солнца. Потом склонил набок голову и, мгновенно сняв с усталого от восьмичасового непрерывного стояния у тормоза, вялого лица всякие признаки утомленности, заорал, сверкнув ярко-белыми, будто фарфоровыми зубами:
— О, коллега, какой пассаж! Ужли прямиком от теплой бабы, а, счастливчик? — последнее слово он выкрикнул совсем захлебываясь уже и, с трудом закончив его, разразился смехом, засиял, как медная, старательно начищенная каска пожарника.
— Почти угадал, — коротко и сухо отвечал Арслан. — Буровая в порядке? Где мастер?
Почуяв, что «коллега» не располагает для шуток ни временем, ни желанием, Любимов мигом умело повернул разговор в другую сторону и затем вместе с Арсланом скучно и деловито прошагал обратно на буровую — сдавать сменщику вахту.
Оказалось, мастер Тимбиков буквально только-только был здесь, но, что-то внезапно надумав, укатил в Калимат, зачем — этого никто не знал, но заметили, что был он весьма взбудоражен и даже, пожалуй, растерян... Далее Арслан допытываться не стал, расписался, пройдя в культбудку, в вахтовом журнале и занял свое рабочее место.
С час примерно работали молча, настраиваясь на предстоящий темп.
Забытая кем-то в культбудке и всю зиму так и провисевшая там брезентовая куртка с чужого невеликого плеча жала Арслану под мышками, сковывала движения до физической боли. И без того стесненной и вздрагивающей душе его словно стало еще труднее и неудобнее: мысли о Мунэвере не отпускали его ни на минуту. «Что же она надумала, что? Поняла ли мой отказ посоветовать ей что-нибудь определенно, может, обиделась насмерть?..» Он пытался не показать Сиразееву и Хаким-заде, трудившимся рядом, своего смятения, но — разве ж утаишь шило в мешке? Движения у Арслана против обыкновения резкие и беспокойные, трубы ударяются друг о друга сильнее обычного и звенят с надрывом; снимались с «подсвечника» неровно, рывками, порой даже опасно — в какой-то раз с перекладины буровой от тяжелого толчка сорвалась огромная «сосулька» и с грохотом разлетелась на мостках. После этого Арслан постарался взять себя в руки, работать как можно осторожнее и тщательнее, но через малое время уже вновь забылся, обуреваемый противоречивыми чувствами.
Закончив пускать инструмент в забой, парни побежали греться в культбудку. Арслан остался у тормоза, один на гудящей тревожно буровой, и лишь жутко посвистывал в щелях обшивки, досадовал на упрямых людей необузданный ветер, нападал на лампочку, висящую под широким колпаком прямо над головою, бешено раскачивая ее, и по стенам плясали безостановочно возбужденные, пульсирующие тени.
«Неужели буран не уймется? Если не приедут на смену, продержимся ли до утра?» — думал Арслан в сильном беспокойстве.
А выехавший из Калимата вахтовый автобус в это время как раз утопал в сугробах. Люди, вылезая наружу, в буран и пургу, толкали его, вытаскивали из заносов, но снегу на дороге было необъятно, и так, крепко задувал ветер, насыпая все новые снежные горы, что нефтяники не успевали их разбрасывать, и продвигать автобус становилось все труднее. К тому же давно пала зимняя ночь, сквозь снежную мятущуюся муть невозможно было разглядеть ни зги, и неяркий желтый свет фар пробивался метров лишь на пять, не более, да и то в тусклых сдвоенных лучах высвечивалась не дорога, но озверелый, безумно крутящийся в волнах снега буран.
Километрах в двадцати от города, съехав с дороги, машина по самые фары нырнула в бездонный снег. Сколько ни упирались буровики, откопать ее, кажется, было уже невозможно, хотя двадцать восемь выпрыгнувших из нее здоровенных молодцев по очереди, кому хватало, брались за лопаты и разгребали с остервенением под скатами, пока не перехватывало дыхание; но тщетно — машина уходила все глубже, и в конце концов перестали даже вращаться колеса — их занесло полностью.
В поле, открытом и беззащитном перед происками разбушевавшегося бурана, оставаться снаружи было теперь еще более безумно: снег почти плотной стеною бил в лицо, глаза инстинктивно зажмуривались и даже при желании не открывались, в рукава и за шиворот набивало так, что натягивалась одежда.
— Нет, ребята, шабаш! — выкрикнул кто-то, задыхаясь, — Мы дороги расчищать не нанимались! Так и подохнешь тут, давай в машину!
Другой в ответ крепко выругался, и буровики, поняв бесполезность своих усилий, полезли быстренько в автобус.
Карим, жуя потухающую папироску и время от времени зажигая ее ломкими спичками, ходил взад-вперед по машине, поглядывал на толстую, красную, выпирающую из промасленного ворота шею шофера и злобно прикидывал: «Треснуть бы по загривку, кулаком, так знал бы, как застревать посреди дороги... Шею-то отожрал, глядеть страшно... Сиди вот раскорякою, пока трактором не вытянут...»
...Было ясно, как день, что новую вахту теперь ждать не имеет смысла. Буран, усиливаясь с каждой минутой, бушевал вокруг буровой, взбираясь на перекладины вышки, выл оттуда безобразными голосами, вползал, срываясь, под крышу навеса, ударял ветром в качающуюся лампочку и гонял по стенам кривляющиеся от испуга, уродливые тени. В этом столпотворении природы, в сумятице и землетрясительном ее буране, оторванные от города и конторы, — а значит, и от всего мира, — люди, чувствующие, однако, в фырканье пара под оболочкою труб, в электрическом токе, вливающемся в турбобур и лебедки, неразрывную связь с далеким пока миром собратьев, маленькая команда всего из четырех человек, словно отважные моряки среди штормового моря, продолжала спокойно нести свою вахту...
По неписаному, необговоренному ни в каких соглашениях, но столь важному закону человеческих сердец они работают дружно, плечом к плечу, сменяя друг друга на самых трудных участках. Люлька верхового пропала в снежном водовороте, выстоять там в такой буран всего лишь час — все равно что прожить тяжелую жизнь — непередаваемо трудно. Вагап Сиразеев, высокий, худой, согнулся чуть ли не пополам, словно сломавшись от жестокого ветра, лезет по лесенкам вышки вверх, закрываясь одной рукой, второй цепляясь за ступеньки. Верховой Михаил Шапкин — джигит спокойный, как безоблачное небо, не унывающий ни от чего на свете — оборачивается к Сиразееву всем туловищем и, узнав, что тот прилез ему на смену, не спеша покидает площадку, неторопливо, горстями срывая с лица налетающий снег, спускается вниз.
Буран свирепствует. Обжигает, бьет, брезентовые штаны на коленях уже промокли насквозь, обледенели, стучат и натирают ноги. Арслан видит в воротах буровой пробирающегося боком Хаким-заде, смотрит на его красное, словно ошпаренное лицо, залепленную сплошь снегом куртку, думает с неостывною в душе теплотой: «Ну, кто его пригнал сюда? Надо же, елки-моталки... Это из Азербайджана-то... У самих ведь нефти полно! Как бы не обморозился, умрет же, горячий человек...»
После восьми часов такой работы уходят на перерыв в культбудку. Посредине, на полу, светится электрическая печь — когда-то сами соорудили из обрезков трубы, — садятся вокруг нее, ставят кипятить чайник. Жарко. Хорошо. Словно и не стояли восемь часов под бураном... Открываются полевые сумки, достаются последние продукты: куски хлеба, холодное мясо, кружки колбасы...
Арслан чувствует зверский голод, во рту у него скапливается слюна — сплевывает, шевелит разомлевшими от жара печи ногами.
— Послушайте, други, давайте-ка разделим все запасы пополам: так оно будет лучше.
Оборачиваются к нему. В сдвинутых на переносице бровях — немой вопрос: для чего?
— До утра еще далеко. Без еды не дотянем: загнемся.
Согласны. Хаким-заде, собрав всю пищу рядом с собой, делит ее надвое. Одну половину заворачивает обратно, вторую раскладывает на четыре примерно равные кучки и просит Шапкина отвернуться:
— Кому?
— Сиразееву.
— А это?
— Арслану!
— А это?
— Хаким-заде!
— А вот это?
— Михаиле Шапкину!
Откусывая понемногу хлеба с колбасой, запивают обильно горячим, пустоватым чаем. От чая, разливающегося жарко по жилам, от уютного ничегонеделания вокруг сияющей печи клонит ко сну, смыкаются глаза — хорошо бы вздремнуть малость, положив голову хоть на круглый булыжник, все равно бы мягко... Нельзя. Висят на буровой трубы-«свечи», ждут. Нельзя. Первое испытание. Эх, растянуться бы, подрыхнуть...
Арслан подымается, натягивает, морщась, не просохшую еще, тесную куртку. Встают, выходят. Сразу за дверью — буран. Кидается, завывает, скручивает холодом тела, бросает в лицо колючим снегом — невольно втягиваются в воротники застывшие шеи, слетает с губ проклятие. Гуськом, цепляясь— друг за друга, проходят через мостки. Над буровой ночь. Буран. Лампа под колпаком все мечет тревожные тени.
Ровно четыре часа ушло на то, чтобы поднять с глубины тысячи семисот метров инструмент, заменить истершееся долото, вновь опустить «свечи» в забой и приступить к бурению.
Ребята выдохлись окончательно, сказать, что устали, как собаки, — значит, ничего не сказать. Под ногами хлябало, чавкало, булькало: глинистый раствор, вытекающий из труб, смешался с мокрым, бесконечно утомительным снегом; работать в такой жиже становилось все труднее. Чуть не рассчитаешь очередной шаг — и будь здоров, бултыхаешься по колено в грязи, выбираться из которой сплошное мучение.
Арслан, измотанный не меньше других, понимает, что парни уже на грани срыва и держатся, лишь стиснув накрепко зубы, оттого не так быстро свинчиваются соединения труб и не так рьяно берутся буровики за ключ Орлова[29], болтающийся над ними на веревке, кажемся, не менее устало. Верховой уже не справляется споро с поданными «свечами», и ребята частенько застывают оторопело, сбиваются с привычного ритма. Это уже становится довольно опасным, что значит — чуть зазевался, и выпавшая труба может ушибить кого-нибудь, а то и прихлопнуть насмерть. Арслан очень собран, он работает обдуманно и точно. Помогает ли ему чувство ответственности за товарищей или просто он оказался самым выносливым — силы в нем пока не на исходе, и, кажется, можно выстоять еще до утра, только бы перебороть сон... Но, взглянув на предельно изнуренные лица ребят, заметив, как покачиваются они на ходу, он начинает сомневаться в этом: нет, пожалуй, не выстоять, вот-вот повалятся они со слабеющих ног. А надо бы выдержать, выдержать испытание настоящее, будничное и тяжкое, чтобы знать: бригада может работать, бригада должна работать — впредь ей ничего не страшно. Выдержать!.. Помнится, в партизанском отряде по трое суток без сна, без малейшего отдыха — и все-таки не ныли, не сдавались. Идешь, бывало, по лесу, день, другой, а чащобе зимней ни конца, ни края; бесконечно идешь, идешь... Вокруг тихо, страшно, темно, давит нелегкое снаряжение, ноги увязают в снегу, одну вытащишь — другая, но только склонишься... Тр-ррак! Арслан, вздрогнув, открыл глаза, оказывается, выскочил из рук и пронзительно крякнул рычаг тормоза. По спине пробежали горячей струйкою мурашки, и, поняв, что чуть не уснул, он вздрогнул еще сильнее, оглядел быстро буровиков: не заметили? Нет, у них самих дела круто заварены, хорошо хоть за собой уследить, по сторонам глядеть некогда..
Арслан с силою нажал на рычаг, инструмент, прогибаясь, увлек звенящую трубу и нырнул в забой; воздух, зажатый в недрах лебедки, ухнул, словно выкрикнув: «У-уф! Готово!», и с шипеньем вырвался наружу...
...Вновь собрались в культбудке, чтобы перекусить остатками еды и хоть немного отдохнуть. В тепле моментально разморило, клонило неудержимо ко сну, слипались глаза, и к ногам как будто привешены были пудовые гири, так тяжело их стало подымать. Вагап Сиразеев сидел на скамейке, смолил папиросину да так и задремал — окурок, выпав изо рта, пустил на мокрой куртке последнюю бьющую струйку дыма, угас; Хаким-заде, пытаясь противиться сну, натирал кулаками красные веки, двигал яро кожею лица, и только один среди них, Михаил Шапкин, поглядывал почти свежо — ему наплевать, холодно ли, тепло ли, — не пронимали его ни мороз, ни усталость. Этот вообще какой-то железный: выпьет иной раз препорядочно, однако ни в одном глазу, будто и капли не брал. Нервов, короче, у Михаила Шапкина — ровный нуль; и он измотан не меньше, но невозмутим. Пока вскипала в старом, громадном чайнике вода, Сиразеев и Хаким-заде уснули и вовсе непробудным сном, Арслан с трудом выдерживал наскоки дремливого забытья, оттого пошел к телефону и, сосредоточиваясь, стал названивать по всем вспомнившимся номерам. Он подолгу ожидал ответных гудков, но телефон не работал, видно, связь была еще не восстановлена, и в трубке на всех линиях и по всем номерам ответ был удручающе однообразен: пустая, ватная тишина.
Когда забурлил кипяток, они с Шапкиным на скорую руку заварили чай и принялись тормошить, расталкивать своих грузно спящих на скамейках товарищей. Те просыпались от толчков и встряхиваний на краткий миг, неосмысленно хлопали глазами и тут же отключались — бесполезно было говорить им что-либо, поэтому, догадавшись, Арслан принес полное ведро снегу, и «несознательным» буровикам докрасна натерли лица: после этого сон у них на время пропал. Поднялись, выпили до дна изошедший паром чайник и вновь отправились на буровую.
Светало уже. Буран, кажется, терял хватку — ветер определенно утих, снег падал реже и мягче. Даже столь коротенький отдых влил в джигитов новые силы, они веселее работали, пошевеливались, шутили насчет такого полного «выруба», то есть мгновенного своего засыпания, через некоторое время и в самом деле разошлись, стали поворачиваться на полную катушку. А утренний бодрящий свет разгорался все ярче, поднимал упоительно настроение, и забывались, как обычно, ночные трудности, тогда казавшиеся просто жестокими.
В каждом росло гордое и радостное чувство: победили, выстояли, сделали-таки почти невозможное! Об этом звенели, ударяясь друг о дружку, уходящие в глубь земли трубы, об этом шептал выфыркивающийся из лебедки сжатый воздух, об этом пели в вышине стальные тросы — победа!
И люди слились с этой неуклонно поднимающейся волной успеха, труда, выполненного долга всею душой своей и предвкушали уже сделать многое еще до приезда смены... как вдруг обломилась «собачка» элеватора.
Хаким-заде и Сиразеев одновременно свистнули с протяжным разочарованием, махнули Арслану: «Стоп, приехали!» Тот подошел, взял в руки упавшую оземь «собачку», повертел в руках, объявил усталым, потускневшим голосом:
— Идите, друзья, отдыхайте, на сегодня все.
Парни, разумеется, упрашивать себя не заставили, мигом забежали в культбудку и через минуту самое большее спали кто где в самых немыслимых позах.
Арслан же заснуть не мог долго. То, что работа вахты оборвалась вдруг в самый надежный, казалось бы, момент, когда позади были и бесноватый буран, и оглушающая ночь, огорчало его так сильно, что становилось плохо, тошно глядеть на буровую... Зло берет, ей-богу! И надо было ей именно сегодня сломаться, этой проклятой «собачке»!..
Он кусал от досады губы и, с сожалением посматривая на сквозящие через окно блики утра, думал об этом с глухой, невольной обидою, потом наконец задремал; с полчаса примерно путался в похожих и на сон, и на явь вычурно-нелепых виденьях, хотел было уже подняться, выйти на воздух, но незаметно уснул по-настоящему. И тут же резко проснулся: бил ему в лицо из раскрытой двери холодный ветер, летело от порога хрипящее дыхание загнанного человека, и в первое мгновенье Арслану показалось, что это очередная сумбурная картинка полусна.
В проеме, чуть пригнувшись, стоял в лыжном легком костюме и лыжных же ботинках мастер Тимбиков. Из-под шапки его мокрыми кольцами вились по лбу спутанные черные волосы, белесый пар валил от разгоряченного лица, дыханье со всхлипами прорывалось сквозь спекшиеся губы.
— Что... что случилось? — выдавил он трудно и глядел в культбудку со злобным уже удивлением.
— Спят, как видишь, — совершенно вдруг спокойно сказал Арслан и даже нарочито добродушно моргнул, отвечая Кариму не столько словами, сколько взглядом.
— Вижу, что спят. Почему спят, я спрашиваю?
— Буровая не работает.
— Почему?
— Сломалась.
Карим, безумно выкатив глаза, двинулся к Арслану:
— Сломал, гад?! Сломал?! Думал, не доберусь я до буровой, обрадовался?!
— Обрадовался, конечно. Без тебя спокойней. Сижу вот, буран утихающий слушаю. А ты тоже не шуми, пусть спят, заслужили...
Карим забился, как зверь в клетке, метнулся вдоль скамеек, прыгнул:
— Ах ты, гад! Не шуми! Я те дам — не шуми! Я те голову отверну! Зубы выбью, сволочь! Всю ночь дурака валял, гад, бездельник! — И, ухватив Арслана за грудки, мигом оторвал у его куртки ворот, занес руку.
При таком несправедливом обороте дела Арслан не вытерпел, не замахиваясь, коротко и резко ударил мастера по перекошенному лицу — тот отлетел к двери, стукнулся об нее спиной и, кувыркаясь, выкатился на улицу.
Спящие в комнате буровики зашевелились, но Арслан, мотнув головой проснувшемуся первым Шапкину, чтобы не вставали, вынесся тяжело и стремительно из культбудки, плотно, с треском прикрыв за собою распахнутую Каримом дверь.
Тимбиков стоял на ногах, вытирая снегом обильно струящуюся из носа кровь, плевался и бормотал что-то невразумительное.
— Вот и поговорим сейчас по душам! — буркнул Арслан, подходя к нему вплотную. — Ну, чего тебе от меня надо?
— Ты... ты разве человек?! — Глаза у Карима чуть не вылезли из орбит. — На авторитет бригады замахнулся! Гад!
— Понятнее, пожалуйста. На кого я замахнулся?
Карим, не считая нужным пояснить свое выражение, отвернул в сторону полное ненависти разбитое лицо и захохотал неестественно, с вымученной издевкой:
— Отомстить решил? Тимбикову отомстить? Ха-ха-ха! Бригаду без работы продержал? Да кто ты такой, чтобы очернить имя Тимбикова? Козявка! Червяк дерьмовый! Раздувшийся от зависти гад!
Он, прикладывая к кровоточащему носу платок, выкрикивал все более обидные и злые слова, безостановочно поливал Арслана самыми грязными ругательствами, чуть ли не плевал ему в лицо, источал пронзительнейшую ненависть.
У Арслана наконец лопнуло терпение.
Он сжал каменный кулак, но, взглянув с холодной и беспамятной злостью на бледное с красными потеками крови лицо Карима, на его заостренный, на глазах опухающий нос, черные, мокрые еще от бешеного бега на лыжах по буранным полям кольца волос, поймал бессильно-оскорбительный помутившийся взор его и... опомнился. В тот же миг он почувствовал, как угасла в нем последняя искра уважения к мастеру, и, круто повернувшись, зашагал к культбудке. Уходить, немедленно уходить отсюда! Если на всей этой мучительной ночной работе одним махом, не разузнав, не проверив, ставят оголтелый крест — для чего же тратить себя?! Хватит!! Всему бывает конец!
7
Через пять дней бригада перешла на новое место. На восточном склоне горы Загфыран, что своей вершиною встречает все ветры, задувающие с Урала, на открытой и слегка вспученной площадке, с которой как на ладони виден весь город Калимат, появилась некоторое время тому назад стройная буровая вышка. В земле рядом с нею зияли готовые для выбранного из скважины шлама ямы-амбары, подведена была вода, подключен ток; трубы, цемент, наборы долот — все доставлялось сюда с большим запасом.
Карим и сам выглядит свежо и ярко, настроение у него приподнятое, ждущее свершений: желтая из мягкой, матово блистающей кожи красивая куртка, тяжелые сапоги с белыми металлическими замками, синие, ладно сидящие брюки; с чисто выбритого длинно-худощавого лица так и льется деловитая напряженность, усвоенная серьезно и твердо; надо полагать трест готовит его к новому рекорду.
Первые метры скважины прошел Борис Любимов, сменять его была очередь вахты Арслана Губайдуллина. Но вспыхнувшая между ним и Каримом неожиданно и для обоих ослепляюще третья уже по счету стычка разрушила всю налаженную было работу бригады, и конец ее и для Карима, и для Арслана особенно оказался крайне печальным.
Заявление Губайдуллина, с просьбою перевести его в бригаду Булата Диярова, трест решительно отклонил.
Кожанов якобы сказал так:
— Куда смотрит парторганизация? Где Курбанов, о чем он думает? Это же развал бригады! Я не допущу подобных настроений! Разъяснить, убедить, не отпускать из бригады ни одного человека!
Арслан же не мог себе и представить, как сможет он работать дальше с Каримом бок о бок под одной крышею, и то, что такая несложная просьба встретила странное непонимание, огорчило и обидело его донельзя, в расстроенных чувствах он прибыл на буровую.
Днем, где-то около трех, сменились вахты.
Когда было пройдено метров двадцать, понадобилось спускать обсадные трубы; хотя такое встречалось на скважинах очень редко, но в этот раз пришлось — обваливались сверх меры стенки, и без направления[30] было не обойтись.
— Обсадную трубу, быстро! — командовал Карим. — Восемнадцать дюймов, быстрее, черт побери!
Нужные трубы лежали рядом же, на мостках, однако для того, чтобы опустить их в забой, требовалось специальное приспособление, о котором впопыхах запамятовали, и Арслан, посмотрев в ту сторону, сухо сказал-
— Элеватора-то нет. Хомута тоже. Как опускать, научи?
— Возьми катушкой-легостью!
— Никак нет, товарищ мастер, катушкой не потянет, сорвется.
— Да брось ты! По две тонны цепляли, и ничего. А как ты начинаешь — так «не потянет»! Кончай на нервах играть, давай, не сепети!
— Ни на нервах, ни на чем другом я не играю. Но еще раз человеческим языком говорю, пластинки в катушке изъедены, не выдержат. Или будем ждать, когда подвезут элеватор, или же надо заменить пластинки.
— Ну ты и нудист же на мою голову! — вскричал Карим, всерьез уже раздражаясь. — Глупости тут молотишь! Это же самое малое пять часов впустую потерять!
Буровики, зная, что Арслана криком пронять невозможно и на компромисс он никогда не пойдет, насторожились, притихли.
— Делай, что хочешь, Карим. Но я так работать не буду.
Карим побагровел, на шее у него вздулись синие жилы, и он заорал, мешая русские и татарские ругательства, желая привлечь на свою сторону и всех парней:
— Давно надо было сказать, что трус паршивый! Жалкий куркак[31], беспринципная сволочь! Тухляк! Да разве ты буровик? Арыш быламыгы![32]
Арслан вдруг утерял свое спокойствие, почувствовал, как жарко прихлынула кровь к лицу, слово «трус» вонзилось в самое сердце, укололо больнее острого ножа. Этот герой думает, конечно, что он перепугался, что дрожит Арслан за свою шкуру, ну ладно! Поглядим. Посмотрим! Как бы герою потом плакать не пришлось!
— Идем! — бросил он Кариму, утопив свой взгляд в глубине серых бешеных глаз его. — Но пусть ребята покинут буровую. За последствия отвечаешь ты. Согласен?
Два сильных человека, могучие телом и духом, но по желанию слепой судьбы непримиримые соперники в жизни, встали молча на свои рабочие места.
Пошел ток.
Карим, показывая с ожесточением, что можно справиться и безо всяких хомутов, накинул стальную петлю троса на черную толщиной со здоровенное бревно трубу-направление, лежащую на мостках, поднял руку
— Вира!
Арслан надавил мощно рычаг катушки, и труба, нехотя приподняв над землею заарканенный конец, лениво стала вздыматься, дыбиться, но вдруг остановилась на полпути и криво-угрожающе нависла над головами
— Вира! Вира! — командовал Карим
— Не идет, говорю — не идет, катушка буксует!
— Пойдет, не пойдет, так побежит! — отвечал Карим и громче прежнего крикнул: — Вира!
Арслан вновь нажал на рычаг и тут же понял, успел понять, что сделал невероятную глупость, согласившись в пылу спора на эту работу.
Труба резко выпрямилась, но катушка не удержала ее вертикально, и черная махина, покачиваясь, по инерции стала падать на Арслана.
— Ай! — уже в растерянности крикнул Карим. — Сматывайся, сматывайся!
Арслан, пытаясь уклониться от стремительно надвигающейся трубы, выпятил неловко рычаг катушки и в тот же миг почувствовал, как страшная тяжесть сдавила ногу, услышал, как с хрустом сломалась кость, и больше уже ничего не услышал — раскинув руки, провалился куда-то... труба с грохотом покатилась по мосткам...
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
1
Четыре человека, четыре занимающих ответственные посты товарища собрались в кабинете управляющего трестом «Калиматбурнефть» Николая Кожанова на чрезвычайное совещание.
Назип Курбанов, парторг конторы бурения, с неразлучною трубкой в руке устроился у окна, ближе к свету; Лутфулла Дияров, буровой мастер, сложив свои крупные, сухие и темные от долгой нефтяной работы руки на коленях, сидит прямо напротив секретаря; Андрей Горностаев, представитель татарского обкома профсоюзов, худой, почти прозрачный, ростом от силы полтора метра старичок, сутулится у самой двери на громадном для него стуле, вид у него невозмутимо-нейтральный, и если бы не блеск смородиновых, живо заинтересованных глазок из-под старомодного на малюсеньком носу пенсне, можно бы решить, что человек этот не имеет к совещанию никакого отношения; и наконец, Митрофан Зозуля, директор конторы: он стоит, опираясь руками на кожановский стол и взглядывая временами не очень ласково на самого управляющего, который насупленно меряет шагами личный кабинет, говорит быстро и убежденно, четко и чисто произнося русские слова:
— Мы знаем, что и сколько сделал Тимбиков. Мы не забыли его рекордов, мы помним их, Николай Николаевич. За эти рекорды мы возносили Тимбикова до небес, шумели о нем по всему Союзу. Это все — правильно. Но верно и то, что Тимбиков искалечил работающего под его началом бурильщика Арслана Губайдуллина, это — тоже правда, и никуда от нее не денешься. За свои славные дела Тимбиков получил достаточно наград, теперь же, провинившись, должен ответить и за свой, мягко говоря, проступок. Я думаю, Тимбиков не побоится понести наказания, он не трус и не подлец, это лишь послужит ему уроком.
— И какого же наказания он, по-вашему, заслуживает? — резко перебил директора Кожанов.
— Я считаю так: снять Карима Тимбикова с мастеров и оставить его в конторе рядовым бурильщиком. Других мнений у меня нет.
— Товарищ Курбанов, как оценивает происшедшее партийная организация?
— Налицо злоупотребление служебным положением, что же еще? Тимбиков, как буровой мастер, принудил бурильщика Губайдуллина к работе запрещенными техникой безопасности методами — вот так.
— Кто может это подтвердить?
— Буровики из вахты Губайдуллина, конечно... В один голос утверждают. Впрочем, и до этого происшествия было известно, что Тимбиков явно злоупотребляет властью, например, возьмите случай с Каюмом Мардановым. На пятнадцать минут опоздал человек к автобусу, а мастер взял и выгнал его с буровой, мало того, добился еще через трест полного увольнения Марданова. И трест санкционировал подобное самоуправство! Ведь он ни с коллективом не советовался, да и вообще не удосужился поинтересоваться даже, отчего тот опоздал, мда... Все знают, чем это кончилось: в тюрьму угодил Марданов. По-моему, у ЧП, которое мы разбираем сегодня, есть и своя подоплека, свои объективные причины, вам это не кажется? А вот давайте посмотрим... Во-первых, захвалили мы его изрядно, или, как говорит Митрофан Апанасович, до небес вознесли, кто не согласен? Точно! Ходил он всегда этаким героем, а того, что рекорды не только его рук дело, но еще и всего коллектива, что над проблемами скоростной выработки бьются десятки институтов, сотни ученых... короче, чувствовал он себя частицею всеобщей и великой армии труда? Куда там! А мы ему помогли это почувствовать? Куда там! Парень-то простой, даже простоватый, знаний у него всего-то семь классов, далеко ли он мог видеть? А тут и газеты тебе, и журналы, и радио — да все о нем: Тимбиков — талант, Тимбиков — чуть ли не гений! И вы тоже, Николай Николаевич. Понятно, закружилась у парня голова, возомнил себя бог весть кем, простота, как говорится, в иной раз хуже воровства. И не рос, естественно, учиться не хотел, а нам нужно было раскрывать возможности скоростного бурения, не до его учебы — давай! Гони! Теперь вот, когда споткнулся он, и рты вроде бы пораскрывали... Как же, мол, так? Как он до такой жизни-то умудрился доехать, ай-яй-яй! А может, мол, это просто случайно вышло, он же не хотел, он — хороший, а там — несчастный случай, вот он и влип. Пройдет, мол, раз на раз не приходится. Нет уж, товарищи, давайте-ка мы сегодня со всей серьезностью подумаем над проблемой Карима Тимбикова, нашего славного рекордсмена, чуть не погубившего в погоне за рекордом жизнь человека. Конкретный пример: иногда заработок Карима в месяц достигал пятнадцати тысяч, может инженер получать такие деньги? Нет. После пятнадцати лет учебы — не может. Ночи напролет просиживая над книгами — не может. Решая сложнейшие задачи, производя грандиозные расчеты — не может. Вот то-то и оно. А раз так, само собой, Карим и думает: «Я все могу. Инженер? Тьфу! Я вот вдвое меньше учился — а получаю вдесятеро больше! Выходит, я — главнее!» Разве это не первый и основной повод к тому, чтобы пробудились в нем ростки этакой чванливой гордости, зазнайства?
Во-вторых, как я уже говорил, все рекорды приписывались ему одному, о коллективе не упоминали, если и упоминали, то только после него. Но когда вдуматься, ведь не он же все это совершил — для того чтобы открыть нефтяные районы, названные Вторым Баку, чтобы исследовать земли от волжских низин до Уральских гор, чтобы добраться до уникальных залежей нефти, академику Ивану Михайловичу Губкину пришлось потратить всю свою жизнь; когда инженеры-геологи составляли геологическую карту Ромашкинского месторождения, Карим еще и знать не знал, что такое нефть. А возьмите буровое оборудование? Это же все гигантский кропотливый труд многих ученых, конструкторов, заводов, рабочих, всей нашей страны! Или тампонаж, каротаж — тоже очень тонкая работа, требующая специальных аппаратов, специальных знаний. Что вообще может Тимбиков без специалистов? Вся буровая от малейшего винтика до мудреного турбобура — плод их усилий, их ума! Но мы это забываем. Забываем и человека, который обучил нашего славного рекордсмена мастерству буровика, — вот сидит перед нами Лутфулла-абзый Дияров, а ведь для того, чтобы самому научиться мастерски бурить землю, пришлось Диярову тридцать лет работать вдали от родных краев, объездить вдоль и поперек всю страну, шутка ли? А уж если мы забываем, будет ли об этом помнить Карим Тимбиков? Вот и вырос на наших глазах и при нашем попустительстве Иван, не помнящий родства, единоличный герой, плюющий сверху на все законы рабочего коллектива. Но ведь работают с ним люди — буровики Джамиль Минзакиев, Борис Любимов, Хаким-заде, — восемнадцать человек, и это благодаря их тяжелому физическому труду устанавливаются все рекорды! Разве говорили мы о том с Каримом? Казалось, сам должен понимать, но вот, видимо, не понял... В результате — член нашего коллектива, только что окончивший школу буровиков, стремящийся к дальнейшему росту, могучий, здоровый, попал теперь на больничную койку, может, еще и инвалидом останется...
Курбанов умолк, некоторое время сидел молча, остальные тоже молчали. Вскоре он глуше и еще значительнее продолжил:
— Мы все виноваты, Николай Николаевич. С полгода назад Лутфулла-абзый говорил мне, упорно говорил, прямо-таки хватал за шиворот... Погубим, мол, хорошего парня, испортим, надо сейчас же принимать меры! Тут, кажется, посторонних нет, скажу откровенно — не хватило у нас принципиальности. Что бы мы ни предлагали, трест все время был против, брал Карима под свое крылышко. И мы сдались. Я, Николай Николаевич, говорю это вам честно, в глаза... Раз уж собрались, заседаем тут, забыв о работе, с самого утра, так давайте говорить начистоту, без экивоков и взаимолюбезностей.
— Я и сейчас категорически против! — выступил наконец Кожанов неожиданно и громко. — Да, против. Свои мысли же не скрывал и скрывать впредь не собираюсь. Я против того, чтобы снимать Тимбикова! — На тугом, коричневатом лице Кожанова взыграли яростно желваки. Словно желая вознаградить себя за долгое терпение, он заговорил вдруг горячо и запальчиво, обрушив на присутствующих буйный водопад слов: — Тимбиков — мастер! И должен быть мастером! ибо настоящий талант. Такие не падают с неба, это мы его нашли, и мы его вырастили, слава Тимбикова — слава треста, какой мы имеем полное право гордиться. И все это одним махом к чертовой матери?! Товарищ Курбанов заявил тут, что Карим зазнался, и в доказательство вытащил на божий свет всю историю нефти чуть ли не до седьмого колена. Но если идти подобным путем, то моя способность мыслить восходит к первой обезьяне, взявшей в руку обломанную палку, и я каждую секунду должен был бы вспоминать и благодарить моих изначальных обезьяньих предков — смешно! Нет, дорогие товарищи, пора перестать заниматься демагогией и назвать вещи своими именами. Сколько скважин пробурил Тимбиков? Сколько тысяч тонн нефти дали эти скважины? Сколько самолетов поднялось на этой нефти в воздух и сколько из нее получено лекарств, чтобы вылечить больных, таких, как Арслан Губайдуллин? Вот что значит — мыслить по-государственному. Тимбиков ошибся, и ошибка его серьезная, но я категорически против того, чтобы снять его с должности, он должен исправить свой промах еще более выдающимся трудом!
Кожанов вытер лицо большим клетчатым платком и зажег папиросу.
После него слова попросил Лутфулла-абзый. Встав неторопливо с места, он откашлялся и заговорил негромко и не спеша:
— Как-то все это получается странно, товарищи. Николай Николаевич грудью тут бросился за Карима Тимбикова, будто мы его, не ровен час, утопить собираемся или мстим ему за что-то... В чем дело: разве кто говорит, что Карим — не мастер? Кто может сказать, что Карим не работал больше всех? Кто говорит, что он впредь так не будет работать? Что касается работы, Карим за нее душу отдаст, любит он свою работу, это — хорошо. Но если мы все хотим, чтоб он и дальше трудился не хуже, чтоб этот случай запомнился ему на всю жизнь и стал крепким уроком, чего же мы в жмурки здесь ходим, в «слепых козлов»[33] играем, а? Собрались-то в беспокойстве же за судьбу нашего товарища, близкого и дорогого нам, а все чего-то грозимся друг другу, пугаем — категорически там или еще... Вот сидит здесь товарищ из профсоюзов, он там дотошно все проверил, что произошло на буровой Тимбикова, написал, как есть. Пусть прочтет, тогда и решим: оставлять Карима мастером или же это будет неправильно.
— Ну как, товарищи, читать? — спросил Горностаев.
— Читайте, — Кожанов вновь был подчеркнуто сух и холоден.
Представитель облсовпрофа поднялся со стула и, маленький, где-то до пояса Кожанову, стал читать неожиданно звучным, с металлическими позванивающими нотками голосом:
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТАТОБЛСОВПРОФА:
8 марта 1955 года, г. Калимат. По поводу несчастного случая с бурильщиком 2-й конторы бурения треста «Калиматбурнефть» товарищем Губайдуллиным А. Ш., происшедшего 5 марта 1955 года на буровой 1455.
I. Обстоятельства, при которых произошел несчастный случай.
5 марта 1955 года в три часа дня на буровой 1455 второй конторы бурения треста «КБН» на вахту заступил бурильщик Арслан Шавалиевич Губайдуллин. В процессе подготовительных работ понадобилось опустить в забой 18-дюймовую обсадную трубу. Ввиду того, что на буровой не имелось необходимого оборудования — элеватора, хомута, — бурильщик тов. Губайдуллин А. Ш. отказался опускать направление. После этого буровой мастер Тимбиков К. Т. обругал бурильщика и принудил его к выполнению вышеназванной операции запрещенными методами, то есть не используя элеватор или хомут.
Бурильщик тов. Губайдуллин А. Ш. был вынужден проводить опускание направления с помощью КЛ-3. В ходе поднятия обсадной трубы в вертикальное положение 18-дюймовая труба вследствие инерции начала падать в сторону пульта управления, у которого находился бурильщик, и, так как КЛ-3 не удержала ее от падения, рухнула неожиданно вниз, сломав при ударе о землю левую ногу бурильщика тов. Губайдуллина А. Ш. Пострадавший был незамедлительно отправлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь и заключили сломанную ногу в гипс. В данный момент утверждать, что пострадавший вылечится, невозможно: есть опасность, что ногу придется ампутировать.
Необходимо отметить также, что в акте расследования, проведенного специальной комиссией треста «Калиматбурнефть» по данному несчастному случаю, содержится необоснованное обвинение бурильщика тов. Губайдуллина А. Ш. в том, что он якобы сам виновен в происшедшем несчастном случае, в результате которого была травмирована его левая нога. Одновременно прямой виновник, мастер Тимбиков К. Т., указан как второстепенный. Комиссия в заключении ограничилась требованием к администрации треста «КБН» объявить мастеру выговор. Поэтому представитель горнотехнической инспекции Госгортехнадзора СССР тов. Дозоров в замечании к акту комиссии треста «КБН» указал на предлагаемые меры взыскания как на чересчур легкие и потребовал снять мастера Тимбикова К. Т. с занимаемой должности сроком не менее чем 6 месяцев. Несмотря на это, руководство треста приказом за 73 (от в марта 1955 года) объявило тов. Тимбикову только выговор.
II. Причины несчастного случая.
1. Отсутствие на буровой № 1455 необходимого оборудования (элеватора, хомута).
2. Грубое нарушение на буровой 1455 §§ 44, 88, 91, 131, 138, 186, 201, 205, 244 «Правил техники безопасности для нефтяной промышленности».
3. Злоупотребление служебным положением мастера 2-й конторы бурения треста «КБН» тов. Тимбиковым К. Т., выраженное в принуждении к работе запрещенными методами.
III. Заключение.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. В несчастном случае, происшедшем с бурильщиком тов. Губайдуллиным А. Ш., виновен полностью мастер Тимбиков К. Т.
2. Контора бурения должна выплачивать бурильщику тов. Губайдуллину А. Ш. заработную плату в размере 100% вплоть до окончательного его выздоровления (на основании ст. 410 КЗоТ РСФСР из этой суммы вычитаются деньги, полагающиеся по больничному листу).
3. Так как прямым виновником данного несчастного случая является буровой мастер тов. Тимбиков К. Т., на основании ст. 83, 9, 10 КЗоТ РСФСР возложить на него материальную ответственность за происшедшее.
4. Сумму, выплаченную по больничным листам, перевести на счет Государственного социального страхования (69107, ст. 413 ГК РСФСР).
Технический инспектор Татоблпрофа — А. ГОРНОСТАЕВ».Представитель профсоюза дочитал свои бумаги и, не взглянув ни на кого, с прежним невозмутимым видом опустился на широчайший под ним стул.
В кабинете воцарилась тишина.
Потом Кожанов обвел взглядом всех и каждого, кивнул в никуда:
— Какими будут мнения?
— Что уж тут мнения... Все ясно-понятно. Ставь на голосование, — сказал утомленно Лутфулла-абзый.
За снятие Тимбикова с должности проголосовали трое, и лишь Кожанов упрямо стоял на своем...
2
Арслан почувствовал сквозь сон, как кто-то склонился над ним, тронул его руку... вслушивается... тяжело всплыв, открыл вдруг глаза и будто ослеп: плыла в резковатом воздухе комнаты желтая косынка, из-под которой щедро выбивались темные шелковые волосы, струились приятным водопадом, сияли тонко и прохладно. Сеида. Откуда? Но косынка белая, почему же пылает так ярко? Наверное, это круги перед глазами... На самом деле, Сеида. Арслан наконец уловил течение реального вкруг себя и поплыл в нем-согласно и слабо, улыбаясь благодарно красивой девушке, что склонилась над его койкой в больничной палате.
— Ну... как вы? — спросила почему-то шепотом Сеида.
— Голова немного побаливает.
— Пить хотите?
— Чайку бы выпил.
— Хорошо. Сейчас принесу.
Она легко оказалась у неслышно распахнувшейся двери, вспыхнула желтым огнем косынки и исчезла вслед за мятущимися пятнами глубоких и туманных цветов. Постепенно в глазах у Арслана просветлело, и он, уставясь в невозмутимо уже белую высоту потолка, отдался своим мыслям.
Посреди однотонного безмолвия, наверху, под матовым плафоном, лепное алебастровое кружево — цветы, листья, розеточки... Нелепая история, брат Арслан, глупейшая. Долго, интересно, промаринуют здесь? А если нога не срастется... ампутируют? Он невольно застонал и тут же смущенно оглянулся, но, кажется, соседи по палате не обратили внимания — деловито спали. Было их двое; один укрылся с головой, сопел глубоко и ровно, простыня над ним мерно колыхалась; второй опустил почти до пола темную руку, а ус у него светлый и розоватое, наголо бритое темя. Наверно, давно лежат, свыклись уже, спят спокойно.
Только что был он здоров, но как-то об этом не думалось: встретился с Мунэверой, ходил к сестре, две вахты подряд, в ночь, в буран, вкалывал на буровой... Кто же мог подумать, что через день буквально будет валяться на больничной койке, в палате, где пахнет лекарствами, — любому оттого станет тревожно и боязно...
Вспомнилось, как, надуваясь, орал Карим и в холодной ярости, оскорбленный его руганью, пошел он на буровую; жуткий миг, когда труба раздавливала ему ногу, — Арслан передернулся, будто от неожиданной капли, упавшей за шиворот. Если бы не обложил его «герой» столь мастерски и несправедливо, разве поддался бы он минутному порыву, разве взялся б за работу, заведомо чреватую аварией?
В город его доставили первой встреченной на дороге машиною, кажется, порожним грузовиком. Нога была сломана чуть выше щиколотки, болталась вместе с ботинком, как тряпка, отчего глядеть на нее было очень странно и, несмотря на неимоверную боль, как-то чуждо. Когда он приходил в сознание, то тупо радовался, что не успел переобуться в сапоги, — снять их, по его представлению, было бы невозможно, и все-таки он пытался зачем-то придумать, как это сделали бы в больнице, но при одной мысли об этом падал в черную беспамятную пропасть...
Поначалу ему наложили просто шину. Потом провезли на тележке в какую-то комнату, куда несколько погодя вошли пятеро здоровенных мужчин, в одинаковых белых халатах, белых шапочках, длиннопалые, узкогубые — врачи-хирурги; впрочем, может, таким был только один из них, но Арслану тогда показалось, что все. Хирурги скоро, как на оперативной летучке, посовещались, потом положили его на широкий стол рядом с замысловатым аппаратом, выключили свет и включили прибор, оказавшийся скромно и не страшно рентгеном.
При потушенном свете вошла осторожно медицинская сестра. Встав у изголовья, она застыла в тихом напряжении — ждала, видимо, указаний хирургов.
Двое взялись за сломанную ногу у колена, двое — за ступню, пятый возился с аппаратом, сестра в это время шепнула:
— Руки... вытяните руки. — Голос ее показался Арслану знакомым, отвлекаясь от боли, он пытался вспомнить его, тогда этот знакомый голос настойчиво повторил: — Арслан-абый, вытяните руки! — И еще: — Обе, обе! Вот, держитесь за мои. Крепче!
В тот же миг он понял, что это — Сеида. Было ему оттого и хорошо, и неловко. Он все же послушно протянул руки и ощутил прикосновение маленьких, теплых ладошек, а вслед за тем и дружеское пожатие их.
Хирурги, поглядывая на сине светящийся экран, принялись за сломанную ногу, стараясь совместить обломки кости, тянули и крутили ее почем зря истово и убежденно. Арслан, стиснув зубы, скрипел ими и цеплялся за руки Сеиды, безостановочно заползал будто куда-то в гору, деревенел и мотался, но среди всплесков доходящих до самого сердца приступов безумной боли каким-то чудом оставалось постоянно, жило, свежей травинкой сквозь асфальт страданий, пробившееся в нем нежное чувство к Сеиде, чувство глубокой благодарности.
Минут через пять хирурги выбились из сил, остановились, решили передохнуть.
— Нервы очень крепкие. Выдергивает — и все, — сказал один с искренним сожалением.
— Да, парень — здоровяк каких мало, — согласился, утираясь салфеткой, другой, тот, что держал у колена.
— Ну ладно, начали.
И хирурги накинулись на распухшую, казалось, вобравшую в себя все ощущения мира ногу с какой-то свирепой беспощадностью, дергали и вертели, вслушиваясь в бурчание направляющего у тусклого экрана в голубоватой вспыхивающей темноте.
— Держитесь, Арслан-абый, крепче, я не отпущу, — сказала ему на ухо Сеида.
В одно время кость где-то в кровавой глубине задела о кость, и ток, посильнее электрического, ударил Арслана, облившегося холодным потом; он удержался от звериного стона лишь потому, что руки его лежали в ладонях Сеиды.
Хирурги вконец измучились, но надежды не теряли, приученные к такому своей профессией. Передохнули еще раз, установили экран поудобнее и взялись все впятером. Примерились, кто засопел, кто затаил дыхание, и дернули — тут же одной грудью эхнув, будто скинули с плеч немалую гору. Во тьме перестали носиться звуки и вздохи, кажется, обломки соединились. Да, скорее всего так оно и вышло: Сеида отпустила его руки и замечательно холодным, влажным полотенцем принялась вытирать горящее лицо Арслана.
Тот хирург, который ранее возился с рентгеном, пробасил что-то второй медсестре и стал быстро накладывать на ногу Арслана гипсовую повязку; словно в знойный полдень дуновенье прохладного ветра, подействовало на больного это мокрое и ледяное, что обволакивало постепенно его горящую огнем ногу, боль в которой прыгала и металась, разрывая будто ткани, корежа суставы. Арслан почуял, как силы покидают его, немощно свесились к полу руки, деревенело тело, казалось, нога с каждым ударом сердца все разрасталась и тяжелела. Он впал в беспамятство...
Очнулся Арслан в больничной палате на три койки — лилось сквозь окна щедрое солнце, лились из-под косынки Сеиды мягкие шелковые волосы, сама она, наклоняясь к нему, спрашивала о чем-то... Может, сон был? Свет стал тусклым, — наверное, солнце зашло за тучи, Сеиды нет... Только на потолке расползается лепной узор да спят рядом незнакомые еще соседи...
Он силился разобраться в снах и в яви, когда открылась дверь и Сеида с большим китайским термосом в руках подошла к его койке, налила ему стакан золотистого чая. Подождав молча, пока он допьет, она спросила:
— Мунэвера-апа пришла. Хочет видеть вас. Пустить?
— Нет! — резко, не думая, воскликнул Арслан.
Сеида, не выказав удивления, лишь вздрогнув, вышла, и он сам поразился, с какой силой было сказано его «нет», но признаться в истинной причине отказа долго еще не решался даже самому себе.
Силы небесные, неужто же из-за Карима он не захотел видеть и жену его, Мунэверу?..
3
После совещания Николай Николаевич вышел с твердой решимостью: не уступать. Нет! Снять Тимбикова — значило втоптать в грязь собственный авторитет, поступиться собственными убеждениями, в правильности которых Кожанов не сомневался ни минуты.
Дома он закрылся в своем кабинете, сел за письменный стол и, выбирая слова лаконичные, но значимые, стал писать письмо в Бугульму, в объединение «Татнефть». Объяснил в нем высокому начальству, что — как специалист и как руководитель — не имеет права устраивать чехарду с кадрами нефтяников, губить талантливую молодежь; поэтому, в связи с нежелательными настроениями в коллективе, вынужден, подчиняясь долгу и совести коммуниста, доложить о сложившейся обстановке и просит учесть ее, пока не поздно. Сожалел, что отнял у начальства драгоценное время, но указал твердо на могущие возникнуть последствия: спад темпов, развал организации труда и т. д. и т. п. Писал долго, часто задумывался, но убежден был глубоко.
Садился Николай Николаевич за свое послание — словно камень стыл у него в груди, но мысли о будущем Тимбикова, казалось, несколько смягчили его холод; чувства проснулись, ожили в глубине души тепло и неспокойно.
Отложив письмо, посидел он, барабаня пальцами по столу, уставясь озабоченно куда-то в пространство, в точку, видимую им одним. «Надо завтра выкроить время, зайти в больницу к тому парню. Как бы пострадавший не испортил все дело, черт знает куда он может сунуться...»
В тот час, когда Кожанов, удерживая на плечах короткий и тесный халат, шагал по больничному коридору, Арслан только-только проводил друга своего, Атнабая Бахитгараева. Принес ему «солнечный парень» полную сетку компотов, консервов, папирос и яблок, а еще — охапку городских новостей, высыпанных шумно и весело безо всяких хитрых расспросов о больной ноге. До него все навещавшие Арслана, особенно отец и матушка, начинали разговор именно с «болезной» этой ноги и до самого прощанья не выпускали несчастную из виду, охая и ахая, причитая и гадая, чем раздражали самого Арслана до головных болей; Атнабай же словно и не понимал, что находится в хирургической палате: крепко бил Арслана по плечу, хохотал и даже, вытащив из кармана спички, предложил развести на полу небольшой костерок, после чего пожилая медсестра, менявшая рядом белье на койках, сделала страшные глаза и закричала басом: «Эй, милый, ты у меня брось! А то я над тобой сейчас процедуру совершу!» И оттого, что друг оказался столь удивительно чутким, Арслан просветлел лицом, будто весеннее солнце лучами пронизало саму душу его.
Поэтому, увидев в дверях палаты Николая Николаевича Кожанова, в смешном халатике, но выглядевшего тем не менее величественно и гордо, он в первый момент просто удивился, может, почти обрадовался; потом, опомнясь, он все же помрачнел. Конечно, в его воле было принять неожиданного посетителя или повернуть его восвояси, однако то, что управляющий трестом собственной персоною заявился в больницу, несомненно имея что-то сказать ему, пострадавшему, удержало Арслана от хмурого сопротивления, заинтриговало и заставило молча ждать развития событий.
— Можно? — без тени замешательства промолвил управляющий.
— Входите.
Николай Николаевич, словно желая скрыть что-то нежелательное, одернул куцые полы, прошагал жестко к койке Арслана и, поздоровавшись наклоном красивой головы, сел на окрашенную белым, низенькую табуретку.
Поначалу слова вылепливались с трудом, вязались в скупые фразы о больничном житье-бытье, тяжело падали в воздух, и от них, словно круги по воде, расходились значительные и выжидающие паузы.
Так прошло с полчаса: Арслан все не мог уяснить причину, побудившую управляющего прийти сюда, в больницу, оттого наконец не вытерпел и сам начал расспрашивать Кожанова о делах на буровой.
Управляющий был далеко не глуп, сразу понял, что Арслана прежде всего интересует положение Карима Тимбикова. Понял он также и то, что мастер, изувечивший своего бурильщика, не удосужился навестить его в больнице; был Кожанов этим не только страшно раздосадован, но и дал себе слово вызвать Тимбикова и устроить ему головомойку: «Нашкодил, так умей же, дурак, и очиститься!»
Николай Николаевич признал, впрочем, чистосердечно и вслух, свою вину тоже: дай он тогда Губайдуллину разрешение перейти в другую бригаду, — конечно, беды б не произошло бы... О том, что несчастье могло случиться с любым другим нефтяником, он не думал, и хотя извиняться перед человеком, стоящим ниже его по положению, приходилось ему впервые — лицо Кожанова осталось невозмутимо прежним, сухим, без проблеска раскаянья в глазах.
Арслан, неотрывно глядя в лицо управляющего, чувствовал, как по спине пробежала холодная дрожь: в голосе Кожанова выразилась черствая душа его, от которой становилось даже темно и страшно... Но в этот миг, досказав свои в меру самокритичные слова, Николай Николаевич секунду глядел в глаза собеседника и улыбнулся так хорошо, мило и человечно — что все страхи Арслана относительно твердокаменности сердца Кожанова растаяли тут же без следа в жаркой искренности его улыбки.
— Товарищ Губайдуллин, — после недолгой паузы заговорил управляющий, превращаясь снова в гранитную глыбу, — хочу вам задать открыто один вопрос. Как вы смотрите, — простите, но это очень важно, — на то, чтобы Тимбиков был оставлен на должности мастера?
— Какое значение для вас могут иметь мои слова?
— Самое решающее. В ваших руках его судьба: погубить выдающегося нефтяника или же сохранить его для будущих дел. Вопрос этот, повторяю, очень важный и никакой двусмысленности не допускает. Оставшись мастером, он сумеет искупить свою вину, работать, достигнуть новых успехов в труде. Если же прогнать его...
Арслан без прежнего содрогания смотрел на тонкие, сведенные в удар лезвия губы, в ледяные глаза Кожанова, угрюмо молчал, но улыбка, которая только что мелькнула на этой застывшей маске мимолетным лучом зарытого в тучи солнца, согревала все еще его душу.
— Я сам виноват, — сказал Арслан с внезапной вялостью.
Кожанов подался вперед:
— Как?!
— Должен был до конца оставаться принципиальным. Сорвался...
— Ах, вот вы о чем. Нет, вины это с него не снимает!
— Все равно. Я на него зла не таю. Ну к дьяволу, пусть делает, что хочет.
Кожанов вновь осветился удивительной улыбкой.
— Претензии к тресту у вас есть? Чем мы можем помочь?
— Да ничего мне не надо...
— Ну, это вы по молодости. Я сам посмотрю. Что-нибудь, скажем, из месткома или кассы взаимопомощи, затем путевку в дом отдыха...
Арслан утомился.
— Говорю же — не надо. Одна просьба, чтоб из треста больше не наведывались.
Кожанов простился, легко неся себя, вышел в дверь. На улице ноздреватый мокрый снег разбрызгивался под его шагами, тянулся рядом решетчатый больничный забор, текли свободно и плоско мысли. Ах, хорошо, что сходил в больницу. Иначе беспокойно было как-то, неуверенно. Кто знает, какие у Губайдуллина планы, какие конечные цели, парень он гордый и неустойчивый. Видно, цену себе знает. Таких людей ценил и Кожанов, привык ценить, но особенно был он обрадован тем, что бурильщик, кажется, действительно ни на кого зла не держал.
На другой день в тресте чувствовал себя Николай Николаевич увереннее, голову держал высоко и в приказах проявлял прежний размах: мечты, обуревавшие его всю жизнь, возродились ярко, как никогда.
Ближе к полудню, когда солнце встало в небе, он распахнул окно и, подставив лицо ворвавшемуся в кабинет свежему ветру, долго глядел на пятнистые склоны горы Загфыран, на единственную дорогу, круто поднимавшуюся к вершине..
Но успокоился он зря.
Через неделю его вызвали в горком партии и попросили дать объяснение несчастному случаю, происшедшему на буровой мастера Тимбикова.
Николай Николаевич с присущей руководителю крупного предприятия сдержанностью, но в то же время и обстоятельно, по большому счету, рассказал всю правду о мастере-рекордисте. Его слушали внимательно, не прерывали, и никаких обвинений ему предъявлено не было; казалось, то, о чем он говорил, принято хорошо и поводов для тревоги нет; однако после этой беседы Николай Николаевич вдруг утратил душевный покой, засомневался в правильной организации им соцсоревнования среди буровиков и мучился тем сомнением сильно; расшатанные нервы не выдержали — к вечеру на руках его вздулись белые мелкие пузыри крапивницы.
Попросив дома налить в большой таз холодной воды, Николай Николаевич поочередно опускал в нее горящие руки, сидел так всю ночь, думая невеселую думу.
4
Через двадцать дней Арслана выписали из больницы, доставили на «скорой помощи» домой, и приехавшая вместе с ним Сеида, своими руками постелив боль ному, сказала серьезно и строго:
— Арслан-абый... выполняйте, пожалуйста, все, что я вам говорила, хорошо? В стационаре вы пробыли очень мало, ногу придется оставить в гипсе еще месяца на два. Это — обязательно. Я буду навещать вас, скажем... каждый понедельник... да, по понедельникам. А сейчас — до свиданья!
Арслан, прощаясь, наклонил голову, и Сеида торопливо взяла свою сумку, вышла к ожидающей ее машине — не оглядываясь, не говоря более ни слова.
— Это кто же такая? — с любопытством спросила тетка Магиша, когда за окном взревел и укатил обратно в больницу «медицинский автомобиль».
— Это, мама, сестра милосердия. За мной ухаживает...
— Правда? Уж такая славненькая, прямо голубка.. Может...
Арслан уловил молящий, со вспыхнувшей вдруг надеждою взгляд матери, смутился неожиданно и, уйдя глазами к новеньким, стоящим рядом с кроватью костылям, вздохнул: дела-а...
Те дни, что пролежал он в хирургической палате, сблизили его с Сеидой. Нет — они не говорили друг другу значительных и нежных слов, напротив, была с ним Сеида неукоснительно сурова в отношении предписаний хирургов, что колдовали над его ногой, и жестоко требовательная, словом, воспитывала из него самого примерного больного за всю историю человеческих болезней, настоящих или кажущихся. На первых порах подобная строгость не доставляла Арслану большого удовольствия, но с течением пропахшего лекарствами времени понял он, что строгость ее — долг, а не основная черта характера милой медсестры, и даже более того, вызвана она тщательной заботой о нем, «болезном» пока Арслане Губайдуллине. Осознание этой глубокой заботливости принесло ему радость, и тогда он стал подчиняться ее требованиям, ее теплым, нежным рукам с великой охотою, однако в душе все же посмеивался над собой, мол, этакий верзила-бурильщик да под командою девчушки, ростом всего-то «с локоточек». Но оказалось, быть под ее командою хорошо, приятно, спокойно, будто в белые, впрочем, оттого даже более серые будни палаты вплетался сказочный, яркий и волнующий сон.
Он не знал, конечно, что творится на душе у Сеиды, какие чувства распускаются в ней свежими по весне почками, и поэтому думал каждый миг по-разному, а в те дни, когда она бывала особенно придирчивой, мрачнел и, пугаясь своих догадок, убеждался будто бы в полнейшем ее равнодушии к себе. Для него же она была самой, несмотря на все его домыслы, отзывчивой, доброй и славной; он чувствовал, как в его собственной душе звонко, подобно журавлиным кликам, рождается новое и всепобеждающее чувство, расцвеченное надеждами и счастьем. Потом он вспоминал вдруг, что Мунэвера тоже отзывчива, добра и душевна, и поражался себе, ясно ощущая, что Сеида уже заслонила для него тот, ставший далеким образ, который хранился в его сердце многие-многие годы. Отчего так получилось? Как смогла эта маленькая, «с локоточек», девушка заполонить все его мысли, изгнать ставшее от давности нерушимой святынею чувство первой несчастливой любви?
Как-то, еще в больнице, Арслан вроде бы даже набрел на ответ, показавшийся ему внезапным и облегчающим озарением.
Койка его стояла у самого окна, и в те часы, когда Сеиды еще не было, а читать более уже не хотелось, любил он смотреть с высоты пятого этажа на расстилающийся перед ним Калимат, озирая его стройки бездумно и увлеченно. Над городом поднимался корабельный лес башенных кранов, за ночь чудесным образом меняющий его облик, и дома росли, как грибы, так что можно было заметить изменения в очертаниях города за одни лишь сутки. До больницы, когда Арслан каждый день уезжал на буровую, которая обычно располагалась указующим перстом где-либо в лесах (и только в последний раз — на горе, в виду всего Калимата), а возвращался домой в сумерках или вовсе непроницаемой ночью, отвык он, оказывается, замечать мир вокруг себя, замкнулся и многое угрюмо упустил. Взгляни же теперь, брат Арслан, как быстро, как захватывающе стремительно растет твой родной город!
И прямо напротив окна его строители готовились заложить новое здание. Вырыв котлован под фундамент, навезли камня, кирпича, бетонных балок, стали варить смолу в громадном черном котле. Этот прокопченный необъятных размеров котел, а особенно белый парок, вздымающийся над ним в любую погоду, напоминали Арслану давнишний старозаветный Калимат — большую, сплошь поросшую травкой деревню — в пору сенокоса, когда под выцветшим голубоватым небом стоит неумолчное шуршанье от рассыпанных по всему полю кузнечиков и молодицы, в лучших своих нарядах, сойдя к реке на заливные луга сгребать сено, поют песни под тягучий звон бруска по долгому и сверкающему солнцем лезвию косы...
По-над рекою, поймою и тугаями выходит, чуть склонив голову, Мунэвера и смотрит, как привычно многим деревенским бабам, с простою и тихой ласкою; она ловко управляется с граблями, и коромысло лежит на ее плечах и легко, и ладно; учит она чужих детишек и ро́стит своих, но жизнь новая, бурная, с мгновенными переливами из крайностей в верное русло, сбивает ее с толку, и не может она думать о своем месте в ней ясно и решительно. Нет у нее сил плыть против течения... может, оттого, что сильна она стерпеть любую обиду и перенести любое горе?.. Но уже другая идет вдоль излучины, и яркая косынка ее реет смело, и свободно льются из-под той косынки вольные волосы — Сеида. Она не любит терпеть и страдать втихомолку, не любит «судьбы», не считается с ее деспотическим нравом и способна сама пробить себе дорогу в счастливое завтра. Оттого жизнь Сеиды только в собственных нежных и ласковых, крепких и храбрых руках ее...
В глубине еще теплого пепла, в угасающем очаге вспыхивает жаркая искра, и Арслан знает, что, подуй теперь мощный и свежий ветер — тотчас превратится та искра в большое и глубокое пламя; согреет оно не только двоих, но всех, кто близко прильнет к нему, — щедрое, радостное, счастливое.
Счастье... Говорят, иногда несчастье лишь предвестник его, правда ли? Может, и эта грустная беда... вынесет Арслана к желанному берегу?
В эти весенние освежающие мечты иногда тонкой и ненужной крепкой паутинкою последнего бабьего лета вплетается клейкая тревога: заживет ли нога? Что там, в сердцевине устрашающе мертвого гипса? И хотя не беспокоят его уже ноющие боли, но кто его знает, как она выглядит под белым панцирем, нога, переломанная и склеенная заново...
Подобные мысли часто мучили его в больнице, где было немало калек, мотающихся на одной, а то и вовсе на деревянных, — дома все же как-то позабылись, повытирались из памяти страшные те картины. Теперь беспокоило другое: сколько еще до прихода Сеиды? Сегодня четверг, она говорила — по понедельникам, значит, три дня: пятница, суббота и воскресенье. Ждать три дня и три ночи долго. Трудно ждать! К тому же матушка беспрестанно донимает: «Поисть не хочешь?», «Чайку, может, дак я — счас!» Казалось бы, если надо — в состоянии и сам попросить, не ребенок. Но смутное раздражение сменилось в нем тут же пробудившимся нечаянно и горячо сыновним чувством; что ни говори, а всякой матери дороги ее дети, и всегда печется она об их здоровье более, чем о своем. Видно, не спит ночами, беспокоится, как бы не остаться сыну хроменьким, потому и глаза у нее часто бывают на мокром месте, и взгляд их скорбит, уныло останавливаясь на каменно-белой ноге Арслана. Ничего, мама, все обойдется, не печалься так, старенькая, слышишь?..
И Арслан даже сам крепче уверовал в свое скорое выздоровление и задумал о будущей жизни, когда нога его освободится от гипса, одно только хорошее — улыбнулся, согрелся лучами солнца, льющимися из окна; чуть позже, не тяготясь больше беспокойными мыслями, мирно задремал.
Сквозь сон до него невнятно доходило, как потихоньку разговаривают на кухне мать и суровый отец — голос старика, как всегда, был сух и сердит. Мамин — грустный... Вот еще кто-то к ним присоединился, кажется, молодой, позвончее гораздо, но кто? Так и не разобрал — уснул крепко и спокойно.
5
Прибежал, по обыкновению, негаданно майский теплый ливень, в плаще, подбитом синей ватою грозовых, но совсем не грозных туч, хохотнул далеко наверху громом, но совсем даже и не громко; должно быть, торопился куда-то, остался всего минут на десять, но успел много чего — потекли по всем улицам всполошенные ручейки, булькали промеж себя о степном Зае и, встречаясь, соединяли клокочущие стремнинки: «туда, к большой воде, к кулу-бель-буль... к колыбели!» И воздух в одно мгновение стал свежи прекрасен, наполнился запахом орошенных трав, влажной гвоздики и мокрого, утратившего свою броневитость асфальта...
Уже стащил майский теплый ливень с Нурсалинских гор свои синие полы, и проглянуло там голубое небо; в спешке выронил ливень из прорехи плаща красное солнце: глуповатое, неосторожно радостное покатилось оно золотым шаром и засияло в полную силу; ладно — ливень не заметил, убежал за прояснившийся горизонт. Горы же вспыхнули разом серебром нефтяных чанов на них, и березовые рощи, укрытые первой прозрачно-зеленой шалью весны, и далекие промысловые вышки стали видны светло и отчетливо; с земли Башкирии на татарскую землю перекинулся через все поднебесье исполинский радужный мост...
Природа, видно, радовалась освобождению из тяжких пут зимы и, сплавив оковы ее по вспененным, безбрежным в паводках рекам, устроила для ласковых прохладных ветров высокий и голубой праздник; Арслан, с ногой, закованной все еще в белую колодку гипса, нетерпеливо ждал в тот день такого же освобождения, желая отринуться наконец от всех печалей, связанных с больной ногой, — было ему тревожно, но хотелось быстрее, оттого он сильно волновался.
Вчера его последний раз осмотрели, просветили рентгеном: кажется, нога срослась правильно.
— Нормально! — воскликнул главный хирург и, тронув Арслана за плечо, довольно заулыбался. — Теперь, друг мой, полагается вам скинуть этот хомут без промедления. Вы — здоровы!
Утром Арслан, опираясь на костыли, проковылял к воротам, сел на скамейку и сидел вот, вслушиваясь в весенние голоса, томясь и ожидая. Гипсовая нога стояла на теплой уже, наверное, земле, пульсировала внутри нее горячая кровь, гоняла страстные токи скорее!
Но потом майский теплый ливень просыпал капли свои, неожиданные и крупные, и будто смыл все беспокойство Арслана, унес с собой его тревожные мысли; он просто и весело взглянул на умытый мир и обрадовался; воздух пах хмельно и звонко, перебулькиваясь, текли ручейки, над землею легко подымался теплый парок — замечательно хорошо было вокруг.
На перекресток неподалеку вылетела вдруг целая ватага пацанов, в одних трусах, с лепешками грязи на голых телах и рожицах; взбрыкивая ногами, они промчались мимо Арслана, все мелькали и мелькали маленькие покрасневшие пятки, так что он даже удивился: и откуда они, чертенята, выскакивают? Вожак пацанов в это время, пробороздив ручей вдоль и поперек, ляпнулся вдруг на пузо и закричал неистовей прежнего — в тот же миг рядом с ним растянулся второй, третий... выросла хохочущая, мотающая руками и ногами запруда, ручей вздыбился и потек через спины; вся улица кипела мокрой ребятней, от радости не знающей, что придумать еще, как теснее слиться с ласковой водой, как полнее встретить Весну...
А вот и она... вышла на перекресток, и сияющий луч с ее маленького чемоданчика плеснулся Арслану в глаза, словно заслоняя прекрасные линии под мокрым насквозь платьем с потемневшими от воды крупными узорами, не то с цветами, а может, и с птицами... Арслан тотчас узнал Сеиду, и ни на миг не вспомнил другую, хотя когда-то давно, в грозу, под деревом была и она столь же юной и чистой, нагой в промокшем платье и необыкновенно красивой. Непроизвольно он вскинул руки и ухватился было за костыли, но тут же отставил их и сидел уже спокойно — к нему приближалась Сеида.
Она шла, чуть наклонясь вперед, будто стесняясь откровенной красоты своего стройного, под прилипшим платьем тела, дошла, откинула влажную прядь с бархатной щеки:
— Добрый день, товарищ больной!..
— Здравствуй, Сеида. Пришла?
— Пришла, Арслан-абый. Такой хороший дождичек лил, вот... Теперь я как мокрый цыпленок! — рассмеялась звонко и счастливо.
Впервые была она вольна в своих чувствах перед этим могучим мужчиной, и пусть не страшны были ей самой никакие трудности в жизни, никакие потрясения, все же, казалось, так отрадно было бы укрыться порой за ним, как за скалою, спокойной и нерушимой. С самого утра она проснулась в волнении, будто ждала ее какая-то необычайная радость, и долго стояла потом у зеркала, примеряя самое удачное платье, укладывая послушные волосы в самую нарядную прическу. Да созоровал майский теплый ливень — окатил ее с ног до головы из своего гремящего ведра, свел на нет все старания, растрепал и промочил насквозь; конечно, можно было воротиться домой и привести себя в порядок, но... как-то суетно это все получалось, и пробудившийся голос сердца шепнул ей: нет, так даже лучше, иди смелее, ему понравится, ему полюбится, будь сама собою! И она не вернулась...
Вошли в избу.
— Мама, встречай гостей! — прошумел непривычно радостно Арслан, сконфузился и шаркнул костылем.
— Здравствуйте, апа... Знаете, надо бы приготовить тазик теплой воды, и еще вот парафин — его разогреть... наверно, тоже в тазике.
— Погоди-ка, милая, ты что же это... Батюшки, дак ты мокрая насквозь!
— Не волнуйтесь, апа, у меня халат есть, так что все в порядке. Принесите, пожалуйста, воды и разогрейте парафин,ладно?
Сеида, стараясь не выказывать волнения, достала из чемоданчика халат, накинула его на плечи и, взяв специальные ножницы, взглянула на Арслана строго, чуть по-детски нахмурясь:
— Садитесь, Арслан-абый. Начнем!
Про себя же она, мысленно закрыв глаза, шепнула: «В добрый час!» — и сделала уверенной рукой первый надрез на гипсовой марле, застывшей вкруг ноги Арслана.
В этот день на буровой погиб Карим Тимбиков.
Утром, когда до окончания скважины и до установления нового рекорда оставалось каких-нибудь пятьдесят метров, в глубине забоя прихватило инструмент. Карим в неистовстве звонил в контору, в трест, но там нужных людей не оказалось: Николай Николаевич неделю уже как не работал, сдавал дела, новый же управляющий к «проблеме Тимбикова», естественно, готов не был.
В конторе, куда Карим, впавший в отчаянье, позвонил еще раз, ответили, что инженер по сложным работам уехал в другое место, обещали прислать его сразу же по возвращении.
Где-то через час на буровую прибыл самолично Митрофан Зозуля, ознакомился с положением дел и сказал:
— Слухай, Тимбиков, мне твои повадки дюже хорошо известны. Щоб не смел пидходить, чуешь? Як только прибудет инженер — зробим нефтяную ванну[34]. Пока — жди.
Но ждать Карим не мог. Не мог, и все тут! Рекорд сам давался в руки, лез, прыгал, а тут каких-то полсотни метров — нет!.. скважину надо заканчивать сейчас... Карим метнулся и, не веря в скорый приезд специалиста, стал устранять аварию сам. Просто. Решил расхаживать инструмент за счет превышения допустимой нагрузки на талевую систему.
А допустимой она была в пределах семидесяти — восьмидесяти делений, цифру эту мастерам превышать категорически запрещалось. Карим, прогнав всех с буровой, довел поначалу до восьмидесяти, потом до ста, ничего не получалось, тогда он поднял до ста десяти, еще выше, стоя под натужно содрогающейся махиной вышки, поднимал и поднимал... Наконец не выдержал колоссальной нагрузки стальной инструмент — с грохотом оборвалась колонна бурильных труб, и часть ее, длиной более двухсот метров, осталась в плену забоя.
При таком обороте дел, безусловно, надо было дожидаться инженера; об этом твердили Кариму буровики, но он и слушать их не хотел, сунулся с метчиком в горло скважины, стал вылавливать обрывок инструмента.
Ребята, столпившись чуть поодаль, следили с замиранием сердца за действиями мастера, растерянно переговаривались, не зная, как его остановить в опаснейшей затее. Лишь один из них, бурильщик Джамиль Черный, поддержал Карима и по своей воле вызвался ему помогать; что им двигало — неизвестно, но теперь на буровой, обливаясь черным потом, работали два человека.
Минуты растянулись в мучительные часы. Впрочем, время все же не остановилось, развязка была близка.
Буровики словно оцепенели, стояли уже молча, не двигаясь в силу какого-то наития, удерживаемые рядом со взбунтовавшейся буровой ясным чувством товарищества.
А Карим таки уцепил оборвавшийся инструмент, но второпях забыл закрепить намертво метчик, и когда, ликуя уже, дал он опять большую натяжку, проклятый этот метчик сорвался; инструмент вдруг подпрыгнул, и верхний конец трубы, ударившись о штроп[35] талевого блока, выбил его из проушины крюка. Мастер и бурильщик, оглушенные адским грохотом, не успели опомниться, как десятипудовый штроп, пролетев двадцать пять метров высоты, врезался внизу с лязгом в щит лебедки, срикошетил и ударил всей своей тяжестью Карима по голове.
Не охнув даже, Карим повис на рычаге тормоза.
Единодушный крик вырвался одновременно из груди стоявших неподалеку буровиков, звук этот, вначале приглушенный, затем душераздирающе громкий, вспорол напряженную тишину:
— Мастер! Мастер!
Люди, словно подхваченные вихрем, бросились на буровую. Вбежав по мосткам, остановились и попятились. Перед ними, бледный как смерть, стоял Джамиль Черный:
— Кончился!
Карима вынесли с буровой, положили на высокое место, на ветер. Шапкин, спотыкаясь, побежал к телефону, Хаким-заде принес ведро воды, Черный, бережно приподняв разбитую голову Карима, подложил свою куртку.
Вдруг Карим широко открыл глаза, жадно, ненасытно устремил взгляд их куда-то в небо, далеко и непонятно.
В людях вспыхнуло, разгорелось пламя надежды. Воду лили Кариму на грудь, окровавленную голову обложили ватой, обвязали крепко чистой тряпицей.
Карим не поддавался смерти еще несколько минут, вздрагивал, пытаясь что-то сказать, стал подыматься — и рухнул на землю, умер.
Траурный марш высвистывал ветер; приближающаяся машина гудела в яростной тоске.
Медленно оглянулись. Увидев выпрыгнувшего из машины Кожанова, встали плотнее, закрыли собою Карима — он не видел...
Разъяв рабочих, к телу Карима пришел Кожанов. Содрогаясь, опустился на колени.
— Сынок, ну что же ты наделал... Куда ты спешил, сынок.
Протянув руки, искал опору, смотрел на буровиков, — они были нужны ему в эти тяжкие минуты.
— Кто допустил его? Кто? Не отвечали.
Руку, поросшую густо волосом, положил на холодный лоб покойника, большую руку, закрывшую все лицо. Не мог справиться с тиком, с судорогой, так и нагнулся, подергиваясь, не спрашивая и не глядя на окружающих, поднял тело на руки. Тело Мастера. Им рожденного и им же погубленного. Тихо, в окружении бурильщиков, понес его к своей машине...
В эту ночь Файрузу отвезли в родильный дом.
На рассвете она родила сына. У них был мальчик, поэтому на этот раз ждали, конечно, девочку. Но когда пожилая с утомленным лицом нянюшка, улыбнувшись, сказала: «Сын у вас!» — у Булата ослабли вдруг ноги, прихлынула к лицу кровь, и он, забыв о строжайшей тишине приемного покоя, крикнул во всю здоровую глотку:
— Молодец, жена! Еще одного буровика подарила!
6
На проспекте Губкина маленькая кудрявая девушка продавала ландыши — две корзины белели перед нею густой россыпью крохотных чашечек, раскиданных часто по плотной зелени листьев; над корзинами витал тонкий, но сильный аромат. Арслан купил у девушки, наверное, целую полянку лесных цветов, когда же она деловито протянула ему сдачу, он улыбнулся и взял из корзины еще один небольшой букетик: лесные ландыши в нем, казалось, были самые белые, самые тонкие. Этот свежий до звонкой упругой твердости букетик Арслан оставил Сеиде, а большую охапку цветов отнес в больницу — Файрузе.
Домой он пошел той улицей, которая проходила мимо автовокзала, шагал не спеша, опираясь на палку, и не утерпел, конечно, заглянул к вахтовым машинам — проводить их в очередной рейс. Машин, однако, на площади перед автовокзалом уже не было (разъехались, видно, по маршрутам), а под единственной тонкой березкой, тянущей к солнцу клейкие листочки, сидели на чемодане Анвар и Миляуша. Дети Карима Тимбикова.
— Здравствуй, дружок! — сказал Арслан, протягивая мальчику крупную, бугристую ладонь. — Рад тебя видеть, а почему вы здесь?
Анвар поднялся с чемодана и, потерянно глядя на Арслана, задумчиво сказал, подавая тоже маленькую ладошку:
— Мы уезжаем, понятно?
— Нет, дружок, пока не понятно. А где мама?
— Билеты покупает, вон туда пошла, видишь? — Анвар мотнул головой в сторону автовокзала и оглянулся на сестренку: та сидела тихо, опустив глаза с длинными, как у матери, ресницами, разглядывала пряжки на ремнях чемодана.
— Ну-ка, братцы, держите, — торопливо проговорил Арслан и, передав детям ландыши, пошел, как мог быстро, к кассам,
В здании стоял перестук топоров, взлетая, пропадал под высоким потолком — плотники перестилали полы. Арслан увидел Мунэверу у окошечка кассы, она была в темном плаще, в черной, туго подвязанной шелковой косынке. И, словно зная о нем, Мунэвера оглянулась; они замерли, глядя друг на друга, но не здороваясь даже, — так неожиданна была встреча и так остры нахлынувшие чувства; после невольного молчания приветственные слова показались ненужными и никчемными. Арслан, впрочем, не мог подойти к ней: касса была у другого входа, а здесь, под сорванными половицами зияла глубокая яма, пахнувшая сырой горьковатой землей.
Стояли они, как два путника на разных берегах широкой, неспокойной реки, так близко и так далеко друг от друга. На осунувшемся лице Мунэверы стыла печаль, глубокие тени легли под глазами, и весь облик ее дышал строгой, выстраданной решимостью.
Арслан спросил, опираясь тяжело на палку и подавшись вперед:
— Уезжаешь?
Дрогнули ресницы ее.
— Да... Прости, Арслан, но меня ждут дети... — И она пошла к выходу — навстречу щедрому потоку яркого, по-весеннему ослепительного света.
ЯДРО ОРЕХА Повесть
1
Всю жизнь я думала: разведусь с ним. Конечно, рассказывать об этом нелегко, да и не хотелось никогда, но... Шли годы, копился жизненный опыт, и я решилась. Расскажу все без утайки, хотя и стыдно, неловко мне будет за себя не раз.
Родилась и выросла я на окраине Казани, в Новой Слободе, на уютной мещанской улочке. Родители мои имели там добротную пятистенную избу, веснами утопавшую в белом яблоневом кипенье: сад наш славился на всю округу. Жили справно; даже суровые годы войны будто пролетели где-то мимо нас, не опалив своим дыханием; лишений мы не познали, я была всегда сыта и аккуратно одета. Отец мой работал на мехкомбинате дубильщиком, мать — раздатчицей в фабричной столовой; после смены она, не жалея рук, несла домой вместительные и полнехонькие ведра с картофельными очистками, кочерыжками, остатками пищи — мы держали корову; отец из меховых лоскутков, украдкой вынесенных с работы, кроил воротники, шапки, муфты — потом, через каких-то знакомых, все это сбывалось на толкучке. Словом, в хлебе насущном наша семья нужды не знала, да и за ситцем, прочим там добром в долгих очередях выстаивать не приходилось.
Родители мои сами были родом из деревни и только потом переехали в Казань, но деревенских отец (может быть, злопамятно) недолюбливал, на квартиру, когда случались приезжие, не пускал; говорил, что «в такие-то времена, когда каждый кусок хлеба на счету, кормить этих дармоедов, которым не сидится у себя в избе, никакого резону нет. Ничу!». Друзей и даже добрых знакомых у него, можно сказать, совсем не было. Я же росла у них единственным ребенком, оттого и наряжали меня краше соседских девок, баловали и любили.
К тому времени, когда я впервые повстречалась с Халиком, шел мне, помню, девятнадцатый год. Иной раз, по вечерам, потея и отдуваясь за расписной чашкой чая (чаевничали родители обычно в тесном кругу, попросту так: вдвоем), отец уже говаривал матери: «Надобно сплавлять с рук-то, слышь? Товар ненадежный. Лучше сбыть его, покуда не залежался...» Как оказалось, они решили выдать меня замуж за Гапсамата — парень этот, не такой уж и молодой, работал подручным у моего отца и был человеком основательным, из тех, кто нажитое не растрясет и своего не упустит, да еще, говаривали, привез из дальних земель большой сундук добра. Жил он неподалеку от нас, в Новой же Слободе, Этот Гапсамат и был к нам однажды приглашен и поутру явился. Родители мои тогда, помню, разлетелись к нему без оглядки, чуть ли не пыль из-под ног у гостя смахивали, усадили Гапсамата на почетное место. К столу позвали и меня. Гапсамат оказался невысок, но кряжист и будто налит здоровьем. Он протянул мне упругую короткопалую ладонь, сел, но смотрел упорно и неотрывно на отца, временами выбрасывая из себя какие-то щепки-слова. Я разливала чай... Подручный отца мне не только не понравился, но был даже неприятен, и... помню, я сильно встревожилась.
Шумно отхлебывая из блюдечка, прочно держа его короткими пальцами, он издавал горлом какой-то странный звук, словно рубил что-то внутри себя, и с толстых лиловых губ его срывалось корявое:
— Нтэк, значится. Ндэ-э... нтэк вот. Оно ничего-о.. Ничего ты, говорю, жизнь-то свою отстроил, Гибау-абзый, нтэ-эк. — Вслед за этими словами в горнице повисало тяжелое молчание, глушившее отзвуки неожиданно высокого голоса Гапсамата.
Когда опорожнено было по чашке чаю, отец, сдвинув на затылок богатую, в золотом шитье тюбетейку из черного бархата — обычно он хранил ее на дне окованного сундука и вынимал лишь в особо торжественных случаях, — смахнул со лба капельки пота и значительно откашлялся. Поглаживая заскорузлыми пальцами небольшие усики и остроконечную, чуть отливающую серебром бородку, он обратился к Гапсамату:
— Ты, Гапсамат, слышал небось, как оно в народе-то говорится? Живучи одной головкой, и обед, мол, варить неловко, а? Птички, божии созданья, паруются да гнездышки вьют, чтобы птенчиков там и прочее... Вот и человеку, говорю, самое что ни на есть милое, найти пару себе и гнездышко поустроить. Как ты на это смотришь?
И в один миг мне стало понятно, куда клонится затеянное родителями приглашение, торжественное чаепитие, топорный гость Гапсамат... конечно же! Он и раньше, бывало, захаживал к нам, но никогда не проходил далее сеней; вызывал из комнаты отца, шушукались они там в темноте, передавали что-то друг другу, и отцов помощник быстро исчезал, не поздоровавшись и не прощаясь со мною.
— Нащет гнездышка это ты верно приметил, Гибау-абзый, прямо в точку! — услышала я скачущий тенорок Гапсамата. — А ежели ты мне подмогнешь, пару себе найти будет очень даже запросто. Ты жизнь знаешь хорошо, опыту у тебя достанет, давай уж, подсобляй как можешь... — он перевернул свою пустую чашку и поставил ее на блюдце.
Отец долго и безуспешно пытался уговорить гостя еще на чашечку, но Гапсамат не согласился; вскинув голову, он смотрел на меня открыто и пристально, красивые глаза его сощурились, взгляд стал юрок и оценивающе-неприятен, прошла секунда, гость наш поднялся и заторопился уходить. Отец вышел вслед за ним в сени, провожать, и я слышала, как они быстро и негромко переговаривались там; на душе у меня сделалось тревожно. Зная привычку отца уславливаться твердо и данное слово неукоснительно выполнять, я была уверена, что не сегодня-завтра разговор о Гапсаматовом «гнездышке» возобновится.
Они не знали еще, что в сердце моем жил другой парень — Халик, квартирант наших соседей. Был он полной противоположностью Гапсамата: высокий, подтянутый офицер с пронзительно синими глазами, в ладно подогнанном кителе защитного цвета, с лейтенантскими погонами на широких плечах. Выглядел Халик много моложе и был, разумеется, красивее Гапсамата... Когда со светлыми ведрами на расписном коромысле выхожу я по воду, мигом распахивается калитка соседей, и вот уже Халик глядит на меня с нескрываемым восхищением.
— Здравствуй, соседушка, что, за водою пошла? — говорит он ласково.
— Да вот, по воду собралась... — отвечаю я, волнуясь. Разговор, конечно, глупый — чего там спрашивать да отвечать, когда я стою с коромыслом на плечах! Но от того, что он здесь, рядом, и смотрит как-то уж очень тепло, в душе моей растет какая-то спокойная и твердая вера — в себя, в жизнь, как это приятно! Чувствую, даже не оглядываясь: он все смотрит, смотрит мне вслед, пока не уводит меня, не скрывает по-деревенски заросшая травой извилистая тропинка.
Мы еще ни разу не встречались с ним наедине, не было у нас ни одного свидания, поэтому, хоть и чувствую я его неравнодушие ко мне, сердце глупое терзается мыслью: «Кто же, кто та счастливица, которую любит Халик?!» Помню, я даже ревновала к ней — неизвестной, а скорее всего, и несуществующей девушке.
В тот безрадостный день, когда в гостях у нас побывал Гапсамат, я, как уже говорила, сильно встревожилась. К вечеру меня вконец обуяли страх и тоска, мне не сиделось на месте; пошла наполнила водой все бочки и кадушки в саду и избе, но и потом каждую минуту вскакивала и подбегала к окну, выглядывая, не возвращается ли Халик с работы.
Его все не было.
С двумя большими ведрами, прикрытыми сверху старым тряпьем, вернулась из столовой мама. Прошла быстро на кухню, промыла принесенные очистки, кожуру, остатки поставила варить — обычно я помогала ей делать эту каждодневную работу. Но сегодня душа моя не лежала ни к этой работе, ни к дому, ни к хозяйству. И когда по комнате, проникая из кухни, распространился резкий кислый запах, настроение у меня было испорчено начисто.
Пришел отец, скинув грязную рабочую одежду в дровяном сарае (спецовка его противно пахла, мехкомбинат — не парфюмерная фабрика), долго и старательно умывался за беленой печью. На дворе стемнело, пал поздний вечер, но отец отчего-то затеял побриться, щелкая языком, с хрустом скоблил щеки и под носом, оставляя ниточку жестких усов. Когда же он полез в сундук и вынул бархатную с золотом тюбетейку, я забилась в самый темный угол, сидела молча, с одной удручающей мыслью: «Ужель опять этот Гапсамат притащится?» Нет, к счастью, Гапсамат в тот день так и не появился. Но мама приготовила стол будто для гостей, словно бы к празднику: Свежее масло, бавырсак, чак-чак[36], янтарный сотовый мед.
Меня очень мягко, но настойчиво позвали к столу.
Я вышла.
Чай пили молча. Отец щипал бородку, кряхтел, покашливал — я догадывалась, что ему хочется сказать мне что-то важное, догадывалась, конечно, и что именно. Через некоторое время он вышел в сени и возвратился с небольшим свертком в руках. Развязывал его медленно, мне показалось даже, что он сильно взволнован. Затем, чуть отступив, отец расплеснул по высоко и пышно убранной кровати — это была моя постель — волну переливчатого, ослепительно белого атласа.
— Рокия, дочка, подойди поближе, взгляни-ка, нравится тебе? — спросил он с широкой улыбкой.
— Нравится, — ответила я, единственно не желая огорчать его. До атласа этого мне не было никакого дела.
— Ай, красота-то какая! И откуда только ты достал такую хорошую вещь? — сказала и мама, подыгрывая отцу.
— А Гапсамат принес. Вдвое, говорит, заплатил, ну и бес с ним, зато вот какое добро отхватил. Ловкий парень!
Он, собрав блистающую волну с кровати, шагнул ко мне, приложил, откинув голову, оглядел струящуюся полосу и меня за нею, пощелкал языком: «Ну и ну!» Только вдруг увидев мое сумрачное и темнеющее лицо, свернул материю и бросил ее обратно на кружевное покрывало.
В это мгновение твердо постучали в дверь, и, пока родители собирались с мыслями, в комнату вошел Халик. Он был в милицейской форме! Мама побелела как мел и упала на стул; отец трясущимися руками пытался запихнуть атлас под подушку.
Я, сложив руки на груди, застыла возле кровати.
— Извините, пожалуйста, — заговорил Халик, чуть запинаясь. — Хоть и неудобно, но пришлось вот зайти... По делу я, дело-то, впрочем, небольшое. У старушки, хозяйки моей, ворота покосились, так она просила, посмотри, говорит. Ну, старушка-то вдовая, что она сама может, я говорю — ладно. А инструмента, конечно, нет. Думаю, у соседа наверняка есть — вот и зашел. Мне бы топор да отвес, либо уровень, на пару часиков, не больше...
Отец наконец опомнился — глубоко задышал, затем, на подгибающихся ногах, поспешил к выходу.
— Счас, счас найдем, — бормотал он, выбираясь из двери, — топор-то, конечно, в сарае... Где ж у меня уровень-то? Вот оказия, не припомнишь сразу-то... память куриная, чтоб ее! Минкамал, эй, Рокия, вы случаем не видали где? Уровень, говорю, не видали? Дочка, посмотри-ка, должон быть... где-то здесь.., а как же... — Вдруг он опять заскочил в комнату и спокойнее уже, с достоинством сказал: — Погоди-ка, сосед-молодец... Прости, не знаю, как величать тебя. Просим, просим к столу, отведать чего бог послал!..
Халик поблагодарил, отказался, ссылаясь на нехватку времени, и, еще раз извинившись за беспокойство, пошел к двери, — тут я, сказав отцу, что сама найду и уровень и топор, вышла вслед за ним в сени.
Уровень отыскался в дровяном сарае, в ящике с разным инструментом. Халик же робко и осторожно коснулся моей руки, сказал негромко:
— Рокия, я бы хотел с тобою встретиться...
— Где? — торопливо ответила я, забыв сразу о пресловутой «девичьей гордости».
— У отделения милиции...
— Что?! Да ты с ума сошел! Я туда не пойду! Да обо мне невесть что подумают...
— Ну, тогда где же?
— У кинотеатра Тукая.
— А когда?
— Завтра. В двенадцать, ладно?
— Ладно.
Он, пригнувшись, прошел в низкие воротца дровяного сарая, а я... Сердце мое так билось, и такая дрожь охватила, что, прежде чем возвратиться домой, пришлось мне минут десять выстоять в сарае, успокаиваясь и ликуя.
— Рокия, где ты? — мама, видно, уже забеспокоилась и вышла за мною.
— Здесь я, здесь, сейчас, ящик только поставлю!
В дом мы вернулись вместе.
Пыл отца, с каким он показывал мне белый атлас, исчез, рассыпался от тяжкого удара привидившейся нежданно беды. Отец был угрюм, расстроен, чуть взглянул на меня и буркнул:
— Чего ты больно разлетелась-то... Не велика птица... Эх, не люблю я этих мильтонов! Топор, мол, уровень, да поди, накапал кто-нибудь, вот и ходит, вынюхивает, ищейка!..
Слова эти больно меня ранили, но я не подала виду, промолчала.
На другой день с великим трудом дождавшись полудня, отправилась на первое «свиданье», благо родители мои были на работе.
Халик уже ждал на условленном месте, — поглядывая на часы, рассеянно, с мечтательным выражением лица, похаживал среди народа, собравшегося у кинотеатра. Заметив меня, он торопливо подошел и, спросив разрешения, взял меня под руку — мы направились в небольшой садик, расположенный неподалеку.
— Ну что ж, я должен сказать тебе, — заговорил он, взяв ласково мои руки, — я, собственно, не так уж молод. Воевал, два раза был ранен. Белое с черным не спутаю, и с пути, думается, не собьюсь. До войны учился в речном техникуме, на фронт ушел с последнего курса. Артиллерист. Вот, вернулся в Казань. Отец у меня умер, мать жива, сестренка есть, они со мной живут.
— А зачем вы мне все это рассказываете? — сказала я.
Он удивился. На орлином носу его выступили капельки пота. Отпустив мои руки, он загрустил, сидел молча, потом тихим извиняющимся голосом проговорил:
— Нет мне без тебя ни жизни, ни свету, Рокия... Я тебя люблю. — И вздохнул глубоко, будто сбросил с плеч тяжелый груз.
Я поразилась тому, насколько просто сказал он о чувстве, которое, как мне казалось, проснулось и во мне, но не могло пока найти выхода; да что там, я была просто растерянна, чтобы не сказать расстроенна! Если б он объяснился после многих (да пусть хоть нескольких!) встреч, когда мы узнали бы друг друга поближе, если бы все было «как полагается» у людей, может быть, и я смогла бы сказать Халику, что он пришелся мне по сердцу с первого взгляда, что видеть его для меня счастье. Но... так все сразу получилось, право...
— А почему вы... стали милиционером? — только и сумела я пролепетать в ответ.
— Чтобы водворять порядок, — сказал он коротко.
Это «водворение порядка» касалось близко и той жизни, которую вели мои родители и благодаря которой я грелась в довольстве, в беспечной сытости, в безопасности от жизни большого, великого мира за стенами нашей избы, мира подчас сурового, неуютного и даже жестокого. Мне вдруг представилось, как Халик арестовывает отца и маму, ведет их в милицию... Ослепительно вспыхнул перед глазами белый, сам по себе непорочный атлас... стало до слез жалко отца, старающегося ради меня, из-за меня же и страдающего. Нет! На этот раз победила моя избалованность, легкое и беззаботное детство, обернувшееся беззаботной юностью в пятистенной избе, которая казалась полной чашей; сытость взяла верх, сытость и память о том, что даже во время войны, когда многие страдали, нам было тепло.
— Я за милиционера замуж не пойду.
Халик как-то чудно изменился в лице, синие пылающие глаза его затемнели обидой, на бледных впалых щеках выступили красные пятка. Подчеркнуто точным, чеканным движением он вскочил, выпрямился и произнес три слова:
— Простите. Я ошибся.
Ушел, не сказав даже «до свиданья», не оглядываясь...
Гордый он был, Халик. Тогда я еще не понимала этого до конца, — досадуя на его резкость, на первое мое «свиданье», оказавшееся столь неудачным, стыдясь и туманясь слезами, пошла домой...
А для родителей моих все обернулось как нельзя лучше. Перестал заходить к нам милиционер Халик; после того дня я уж не встречала его, выходя с коромыслом по воду, видно, судьбою уготован был мне основательный человек Гапсамат. Что ж, сама порушила счастье, выпавшее на мою долю — винить некого... некого.
С Гапсаматом же дела были «на мази». Он теперь гостил у нас через день, и родители мои усердно готовили меня в невесты. Мама стала приносить из столовой больше всяких объедков и очистков, варила ведрами похлебку — откармливала к свадьбе телку. Отец отдал шить кому-то из знакомых скорняков шубу из красивого и дорогого меха.
Мне не верилось, что в тесной душе Гапсамата может поместиться большое, настоящее чувство. Наверняка, думала я, привлекает его мысль породниться с людьми, у которых есть какой-никакой, но достаток, которые и работают на хорошем, «удобном» месте. Действительно, когда ни придет к нам, все об одном у него разговоры: «за жизнь», как лучше устроиться и тому подобное. Начнет отец говорить что по хозяйству, о добре нажитом, о деньгах — Гапсамат прямо в рот ему глядит.
Выпивать, он, конечно, не выпивал. Да и отец мой в бутылку заглядывать не любил, один только раз и видела я, как сидели они за столом, где красовался большой графин с водкою. Гапсамат тогда пришел не один, привел и дружков своих, вроде как бы со сватами явился.
Пропустив стаканчик, непьющий Гапсамат вдруг захмелел.
— И-эх, папаша!.. — нимало не смущаясь, говорил он моему отцу, видать, бесповоротно уже представляя себя его зятем. — И-эх, папаша!..
И клялся, что мне за ним будет, как за каменной стеной, что буду я в его доме кататься в масле да в меду... Дружки одобрительно крякали, ухмылялись, не забывая исправно опорожнять стаканы.
Если добиваться — богатство найдется, Но сердце кровью обольется, —запел вдруг Гапсамат, и довольно-таки противный при разговоре обрывистый тенорок его неожиданно зазвенел чисто и высоко.
Один из дружков Гапсамата, ударив кулаком по груди будущего зятя, крикнул восхищенно, завистливо:
— Ну, брат Гапсамат, и удачлив же ты в жизни. Видать с серебряной ложкой во рту родился. Экое везенье, ай-яй!
От такой красноречивой беззастенчивости лицо у меня свело как от кислого яблока. Кажется, и отец мой заметил, что парни хватили лишку; поднявшись, он пригласил гостей осмотреть наш богатый яблоневый сад.
Мое упорное молчание и терпимость отец с мамой, видно, воспринимали как покорное согласие их воле. И однажды вечером, позвав меня к столу, за чашкою чая повели решительный разговор, в успехе которого, вероятно, не сомневались.
— Дочка, — сказал мне отец с искренней заботою в выцветших глазах, — года твои подошли, да и приданого мы наготовили вдосталь. Платья там, белье, шуба ли, все у тебя есть... Теперь, стало быть, покуда сами живы, хотим пристроить тебя за хорошим парнем. Не к лицу молодой девушке хорониться за отца-мать, сидеть в родительском доме до скончания века. Но, конечно, без твоего согласия такого важного дела нам не решить.
— За кого? — спросила я коротко и сухо. Хотелось быть такою же точной и ясной, каким был Халик.
— Ну, чего ты спрашиваешь, чай, не слепая. Сын Самигуллы, Гапсамат, ведь душу за тебя отдать готов, али не видишь? Семья хорошая, дурных людей в роду не бывало, перед миром они завсегда чисты, ей-пра! Непьющие все, такого никогда у них не замечалось, бабников да юбошников али еще пуще — снохачей — промеж них тоже никогда... порядочные люди! Ну, как ты, дочка, может, не долго думая, и свадебку сыграем, а?
Я сидела молча, в голове пока было пусто. Вслед за отцом Гапсамата и его семью хвалила мама, долго перечисляла все их достоинства. Парень, мол, дельный, работящий, цену добру знающий, семья бережливая, уютная да спокойная, и работают тоже на приличных местах.
В душе моей забурлила ярая неприязнь.
Халику — красивому, умному — я отказала накрепко, как отрезала, так что ж не отказать этому Гапсамату, с его-то тупостью, топорностью, грубостью?! Если сказать твердо: «Нет!» — неужто родители мои решатся выдать единственную дочь за нелюбимого, чтобы до конца дней своих чувствовать на себе ее проклятье?!
— Нет, папа, не невольте меня, Гапсамата не люблю и замуж за него не выйду.
— Ай-яй-яй-яй! Вот так сказанула, мать моя курица! — воскликнул отец. — Ну, кто ж это непременно за любимого замуж-то выходит? Свыкнешься — слюбишься, и того... да, кгм... Ты, дочка, до сих пор, слава богу, супротив родительского слова не шла, умницей была, послушной дитей, и на том тебе великое спасибо. Но... вот эти слова твои, которые ты сейчас сказанула — ай, обидно нам их слышать, обидно... Ладно, ты вот ответь по совести: чем это Гапсамат тебе не угодил, чем он хуже других? Получше еще будет! Парень видный, здоровья в нем хоть отбавляй. Ай-яй, деточка, в наши-то тяжкие времена, когда опосля войны и мужиков, почитай, не осталось, упускать такого золотого парня, как Гапсамат, это, я тебе скажу, первейшая глупость! Времена теперь такие, что выбирать больно не приходится, слышь? С войны-то вернулись все больше калеки да инвалиды, а те, которые подросли на военных голодных харчах, — хворые они да болезненные... Отец уговаривал меня мягко, незлобиво, без шума и угроз — я почувствовала, как крепость, воздвигнутая мною в душе, дала трещину, но... не поддалась. Все же ссориться с ними мне не хотелось, поэтому я попыталась отговориться:
— Нет, папа, не приневоливайте. Я учиться еще хочу.
— Где, на кого? — недоверчиво протянул отец.
Я молчала. Тогда он вновь принялся убеждать меня с каким-то природным тактом, тепло и снисходительно:
— Ведь мы же тебе, дочка, добра желаем, и ничего больше. Ты у нас одна-единственная, и счастье твое для нас всего дороже. Только гляди, я тебя вот сейчас упреждаю, как бы потом из-за своего же упрямства плакать не пришлось. Парень этот — хорошая пара, за сына Самигуллы-абзый любая пойдет с охотою...
Я, однако, была тверда, и родители о Гапсамате больше не заговаривали. В жизни их, казалось, наступила какая-то унылая пора — безрадостная, серая, почти что в тягость. Раньше, бывало, маменька, приходя с работы, все хлопотала по дому, по хозяйству, наводила уют и чистоту — теперь все валилось у нее из рук; отец раза два возвращался навеселе. Наша отлаженная, спокойно-довольная домашняя жизнь треснула с краешку, и трещина эта неумолимо расширялась. Родителей жалко... Может, выйти все-таки за Гапсамата? Детство и юность мои прошли возле родителей, за толстыми стенами теплого родительского дома, до сих пор я и не работала нигде толком, парней знакомых у меня никого не было... Учебу дальнейшую придумала так, для отговорки... Ну, да и без учебы не пропаду — со средним образованием тоже можно прожить. Вон, за примером далеко ходить не надо, взять мою маму: ученого человека искать не стала, что ученость? Отец мой четыре класса всего кончил, а человек хороший — мама долго не думала. Чего же плохого? Дело свое человек знает, мастер, да и дома жизнь наладить сумел — по всем статьям отличный муж. По крайней мере, гораздо лучше многих. А Халик... после того разговора он даже жить на другое место переехал. Да, вот так вот. Встретит на улице, наверное, и не поздоровается теперь...
Как-то, прибравшись по дому, перестелив заново все постели, взбив подушки и перины, я нечаянно остановилась против большого, в бронзовой раме, зеркала и глубоко задумалась. Вообще-то в последнее время от разных мыслей голова уже шла у меня кругом, но тут... Не проходит ли моя юность, зеркало? Пока щеки румяны да глаза светятся ярко, пока стан гибок, словно ивовый прутик, может, плюнуть да зажить в свое удовольствие молодой и избалованной женой Гапсамата, хозяйкой его большого добротного дома, где все есть или же все будет? Пройдут иначе попусту годы, оженятся все парни-погодки мои и закукую я старой неприкаянной девой.
Стало вдруг жалко себя, а еще больше родителей моих, которые высохнут от такого горя, сойдут раньше времени в могилу, сраженные неудачливо сложившейся судьбой своей единственной дочери. И ведь правда: чем же Гапсамат хуже других, ну? Руки у него, как отец говорит, золотые, характером домовит, основательный — но, может быть, оно и хорошо? Ладно, пусть он груб, пусть чурбан неотесанный, такая ли уж это беда непоправимая? Недаром говорится в народе: муж — голова, да жена — шея. Куда шея повернется, туда и голова глядит, вот ведь что! Да разве я, начитанная девушка со средним образованием, не смогу перевоспитать Гапсамата, не смогу повернуть дело так, чтобы в момент избавился он от своей грубости, некультурных выходок, мужланства?
И я стала переубеждать себя, приписывая Гапсамату качества, которыми от него отродясь и не пахло, представляя его куда более тонкой и чуткой натурой, чем был он на самом деле. Фантазия моя заработала бурно, безудержно.
Об одном обходном маневре — в угоду мечтам отца и матери — я пока ничего не говорила. Но когда в один прекрасный день отец заявил, что нам всей семьей, просто необходимо пойти к Гапсамату на новоселье («ловкий парень», как многозначительно объяснял отец, поставил свой собственный кирпичный дом из трех комнат), я не воспротивилась.
Увидев меня в красивом крепдешиновом платье, в черных замшевых туфлях, хранимых обычно в сундуке пуще зеницы ока, отец счастливо размяк, стал велеречив и спокоен, подойдя ко мне, торжественно обещал позаботиться и подыскать еще немало обновок: «Так что не жалей вещь, носи, носи ее, дочь моя. Пусть люди дивятся на твою красоту!»
Итак, сплоченной и дружной семьей, разнаряженные в пух и прах, мы двинулись к Гапсамату.
После этого похода стало ясно, что антипатия моя к сыну Самигуллы-абзый оказалась непрочной и потерпела полное крушение, проще говоря, рассосалась, как зубная боль. На нем, помню, был симпатичный темный костюм из дорогого бостона, полосатая рубашка, щегольские по тем временам бурки из белого фетра с отвернутыми голенищами и кожаной подошвой. Смуглое с румянцем в половину широкой щеки лицо его и вся коренастая, крепко сколоченная фигура показались мне тогда не лишенными какой-то могучей приятности.
Гапсамат почтительно величал нас «Рокия-туташ», «Гибау-абзый», «Минкамал-тути»[37], угощал по старому обычаю, сам стоя на ногах, и даже распить бутылочку по случаю новоселья при «дамах» не согласился — увлек отца в другую комнату, там, далеко от наших глаз, они ее тихо-мирно опустошили. Культурное обхождение Гапсамата, можно сказать, и сразило меня. Кстати... дом хозяйский оказался весьма хорош.
Ну, я тоже была на высоте.
Обращаясь к хозяину, который жадно и воровато поедал меня глазами (может стать — не меня, но мое платье), я старалась придать голосу голубиную нежность и мягкость розового масла и в то же время держала себя с большим достоинством — словом, цену себе знала. Буря перепутанных чувств в моей душе окрасила лицо нежным румянцем — благо, зеркало висело прямо передо мной, — и все гости пришли в нескрываемый восторг, признав меня истинным украшением застолья. Гордыня моя, напоенная сладостью тех минут, вознеслась высоко. И стыдно, и смешно теперь вспоминать, ей-богу, но вечер на новоселье чуть было не стал поворотным в моей дальнейшей судьбе.
Когда родители вновь предложили мне выйти замуж за Гапсамата, я хотя и без особой радости, но согласилась. И в том, и в другом доме началась предсвадебная суета. Мы готовили сладкое: горы баурсака, чак-чак, кош теле, испекли неисчислимое количество пирогов, рулетов; мамина родственнница, бабушка Муслиха, принесла свое чудесное блюдо: калява — столбики медвяного, мгновенно тающего во рту теста. Полы в избе выскребли, отмыли до сочного желтоватого блеска. Вычистили настенные ковры, повесили новые кружевные занавески, сразу придавшие комнате праздничный вид. Тщательно и с выдумкой убрались на дворе — где травка, где желтый песочек; отец, посчитав, что на гостей, «буде они пожелают заночевать», одних кроватей не хватит, срочно сколотил удобные топчаны; одеяла, матрасы, тюфяки, вывесив на весеннее теплое солнце, хорошенько проветрили, выбили затаившуюся в складках пыль.
Забот этих нам с мамой хватило на целую неделю. Отцу даже пришлось на время свадьбы попросить очередной отпуск; он, конечно, хотел в конце лета, в августе, — ничего не поделаешь, взял весною. Я, ожидая решительных перемен в моей жизни, пугаясь нового, неизведанного, в пучину которого бросало меня замужество, ночи проводила в страхе и тревоге. Сон пропал. Мама очень скоро догадалась о моем состоянии: по утрам стала выходить ко мне, подсаживалась, гладила мои руки, плечи, перебирала рассыпавшиеся по теплому снегу подушки волосы, молчала, но мне и от молчания ее становилось легче. Вот сидит рядом самый близкий человек на свете, болеет за меня и беспокоится, горюет моим горем и печалится моей печалью, родная... как я смогу без тебя?..
Не спится мне.
В окошке темнеет ветка яблони, постукивает легонько о невидимое стекло. За голубовато-смутною чертой ее мерцают на черном сплошном облаке ночи странные колючие огоньки — звезды, много звезд, то близких, то недостижимо далеких...
Дня за три до свадьбы к нам пришли сват со свахой, разузнали в подробностях, хорошо ли вызревает торжество и все ли к нему готово; долго, впрочем, не задержались. Мать Гапсамата Гульниса-апай оказалась тихой, мягкой и застенчивой женщиной лет шестидесяти, — они с мамой, уйдя за печку, успели всплакнуть там потихоньку, как полагается в татарских семьях, без голоса, утираясь полосатым, одним на двоих, полотенцем.
Проплакала всю ночь и я, понимая уже, что канут безвозвратно последние свободные денечки — и уйдет от меня мое вольное девичество: как покорная лошадка, буду тащить я в невестках воз чужого хозяйства. Станет ли дом их родным мне, кто знает? Вот и ушла юность... Я горько плакала, и мама приходила дважды и сидела рядом со мною; мне становилось легче...
Но торжество так и не вызрело, потому что нежданно-негаданно нагрянула беда. В день перед самой свадьбой к нам, запыхавшись, прибежала старенькая мать Гапсамата. Мама кинулась ставить самовар, но сваха, удерживая ее за рукав, зашептала отрывисто и испуганно:
— Не торопись, Минкамал, не до чаев тут, ай, дела-то какие... Я уж потихоньку убежала из дому. Думаю, надо все ж сватьев-то упредить, а мои и не знают, куда я пошла... Дела-то, говорю, какие: все наперекосяк ведь пошло, ах ты господи... — говорила она, уголком темного платка утирая набегавшие слезы.
— Ой! Ой! Да чего случилось-то, говори толком?! — шепотом же вскрикнула мама, пугаясь за будущую свекровь.
— Гаптельсамата-то[38] моего ... того... забрали.
— Ну-у-у! Куда?!
— Да в милицию уж, куда теперь еще забирают — в милицию. Вчерась ночью прибежали два мильцанера — все опечатали, и горницу нашу и дом новый, велели никому к дверям близко не подходить! Ох, господи, господи, и чего теперь там с ним делают-то, кабы зна-ать?!
— Может, он с мехкомбината чего вынес?
— Ай, не говори уж, кума, истинно бес его попутал. Взял он там каракуль, одну шкурку али две, видать, думал, на расходы свадебные. Ну, обмотался он шкурками-то под рубахой и в проходную, а там вахтер — новая метла, горазд выслуживаться — милицию вызвал, так его вместе с каракулем и уволокли, бедного. Сегодня, сказывали, с понятыми придут. Ай! Поди заявились уже. Побегу я. Ежели у вас чего есть, так прячьте скорее!
Загремела, покатилась по полу крышка от самовара, выпав из рук остолбевшей мамы. Опомнясь, она побежала в сарай за отцом: в сундуке, под платьями, у них лежали две шапки, пошитые из собранных на мехкомбинате лоскутков каракуля. Куда девать?! В крайнем волнении родители мои метались по горнице, перекладывая страшные теперь шапки с одного места на другое.
Мать Гапсамата, тетушка Гульниса, как влетела к нам, так и вылетела, спотыкаясь и приборматывая, только дверь за нею хлопнула да мелькнул на дворе темный пугливый платок.
— А-а-а, доченька ты моя родимая, да нету тебе счастья на этом свете! — заплакала, запричитала мама, вспомнив вдруг и обо мне.
— Молчок! — заорал перепуганный и весь какой-то встопорщенный отец. — Заткнись, тебе говорю! Нашла время выть, чертова баба. Накличешь беду, небось сама не обрадуешься. Давай, вороши сундуки, ежели там чего опасное, так выбрасывай либо прячь, чтобы не нашли. Ну, чего застыла?! Случится — придут, когда меня не будет, станут Гапсамата спрашивать, отвечай: такого не знаем. Соображаешь?
— Погоди, отец, как же это я с седой головой-то врать им начну? Гапсамат, чай, не чужак нам, зять, можно сказать...
— Зять, дура! Дадут тебе зятя, не прочихаешься! Ты что, хочешь, чтоб меня, твоего законного мужа, в тюрьме из-за какого-то ворюги сгноили, а?! С тебя и такое станет. Баба — разве ж это человек? Вся беда на свете из-за баб! Вот я тебе еще раз говорю, смотри у меня, слышь! Запомни раз и навсегда: не знаешь. Никакого Гапсамата не знаешь и знать не хочешь! И не ведала о нем никогда! Понятно? Не видал, не слыхал — сорок бед избежал. Гапсамат ишь, дурак, целые шкурки брал! А нам за него страдать ни к чему. Нет Гапсамата и не было! Рокия, слышала, чего я говорю?..
Тетушка Гульниса все еще прибегала к нам по два раза на дню, рассказывала, прерывая себя бесчисленными восклицаниями, но довольно-таки обстоятельно, о неважных делах Гапсамата, бывшего «основательного человека и завидного жениха», теперь же подследственного гражданина Г. С. Самигулина. В избе у них, а также в кирпичном доме был учинен обыск. Нашли много каракулевых шапок, одиннадцать целых шкурок, шесть штук бостона — все забрали, видать, обратно не отдадут уж.
— Это для чего ж столько в дом-то натащили? — спросила мама, поглядывая на несостоявшуюся свекровь с явным осуждением.
— Ай, и не говори уж, кума, беда, сказывают, под ногами зарыта. Хоть бы зарыта была, а то на тебе: прямо в доме лежит, в сундуках да в шкапу. А все жадность, жадность, глаза наши завидущие, ах ты, господи...
Отец мой оказался прав.
Брызги с Гапсаматова разбитого корыта долетели и до нас: прошло что-то около недели, как взяли парня в проходной, к нам же никакого официального интереса до сих пор проявлено не было; родители мои успокоились, хоть и сделались тише воды, ниже травы — тут-то у наших ворот и остановилась темно-синяя с красной полосою машина, и меня увезли в отделение милиции. Мама даже не успела попрощаться со мной. Онемев, застыла на пороге как была в пестреньком домашнем фартуке (в столовой она как раз на неделю взяла отгул).
Я намеренно громко, чтобы слышал милиционер, стоявший на крыльце, проговорила, обняв мою бедную маму:
— Не беспокойся, родная, я скоро вернусь. На нас никакой вины нет, меня тут же отпустят.
Милиция располагалась в большом деревянном бараке — по Нижней улице Новой Слободы. Вступив в длинный коридор мрачного, с частыми железными решетками на окнах, барака, я вдруг не на шутку перепугалась. По коридору навстречу мне милиционер с винтовкой наперевес сопровождал приземистого темного человека в телогрейке и громадных кирзовых сапогах, с руками, закинутыми назад, на поясницу. Мне на миг показалось, что это Гапсамат, и, чуть удержавшись от крика, я метнулась в сторону. Ой-й... Нет, не Гапсамат. Конечно, дурочка, да разве один только он и мается на свете? Мало ли людей, попавших в беду, сколоченную крепко своими же руками...
Милиционер, тот, что привез меня в отделение, молодой белобрысый парень, отворил одну из многих дверей, выходящих в длиннющий коридор. По приглашению молчаливого провожатого я нерешительно вступила в кабинет — там было очень солнечно, и сияние это после тусклого коридорного света ударило меня по глазам: невольно зажмурившись, я не смогла сразу разглядеть человека, стоящего у самого окна, за небольшим письменным столом.
Пока я привыкала к яркому освещению комнаты, мой провожатый щелкнул каблуками и, вскинув руку к синей форменной фуражке, четко отрапортовал:
— Товарищ старший лейтенант, гражданка Гибадуллина приведена по вашему распоряжению.
— Можете идти, — ответил человек, которого назвали старшим лейтенантом.
И я, разглядев наконец, что застывший у письменного стола красивый лейтенант милиции есть не кто иной, как Халик Саматов, чуть было не лишилась чувств.
— Садитесь, гражданка Гибадуллина, — произнес удивительно знакомый и не менее удивительно чужой, сухо-официальный голос.
«Вот и пришлось нам встретиться, — ожгла меня мысль, радостная поначалу, затем обратившаяся в жуткий стыд. — Но при каких обстоятельствах, боже!..»
— Вы уж извините меня, Рокия-туташ, — сказал Халик, когда белобрысый милиционер вышел. — Я был бы счастлив встретиться с вами не здесь, а где-нибудь в другом месте. Но — что делать, долг службы требует, и я должен, я вынужден допросить вас.
И вот в тот день я впервые столкнулась с его безграничной преданностью своему делу — «водворению порядка», которому он служил фанатично всю жизнь, не ведая и не мысля себе другого пути. Я видела, что он все так же относится ко мне: об этом говорили его глаза. Он даже забывался порой и умолкал, но каждый раз усилием воли брал себя в руки и возвращался к необходимо служебному тону.
Я рассказала ему все о своих родителях, описала как могла их жизненные принципы и, ничего не скрывая, — может, чуть насмешливо — поведала о том, как росла, не зная ни нужды, ни забот, в безмятежно-уютном родительском доме. Саматов несомненно почувствовал мою искренность, мое желание быть до конца правдивой: официальное отношение его ко мне окончательно установилось на «тепло, ясно», и меж нами повелась почти дружеская беседа. По правде говоря, мы исподволь проверяли друг друга. Так, я поняла, что в начале разговора напрасно опасалась его мести за мой отказ, напротив, ему приходится даже тяжелее, чем мне: он вынужден подвергать любимую девушку строгому допросу, и каково-то было ему видеть, как она страдает, как неприятно ей отвечать на дотошные вопросы протокола, касающиеся самых «деликатных» сторон личной жизни!
— В каких отношениях вы состояли с гражданином Самигуллиным? — звучит его низкий, чуть потускневший голос.
Я вздыхаю:
— Мы были жених и невеста.
Он, склоняясь над столом, записывает в протокол, пишет долго и яростно, пальцы его, крепко сжимающие авторучку, кажется, удрученно белеют на сгибах.
— Приносил ли вам гражданин Самигуллин шапки или воротники, пошитые из каракуля?
— Знаете, старший лейтенант, это уже нетактично с вашей стороны. Почему это я должна наговаривать на своего будущего мужа?!
— Но подумайте, Рокия-туташ, ведь мне придется вызывать в милицию и ваших родителей. Как вы считаете: нужно ли беспокоить и волновать пожилых людей или лучше все-таки вы сами все расскажете? Я начинаю сердиться:
— Вы что же это, подговариваете меня против собственных родителей?
— Успокойтесь, пожалуйста. Просто отвечайте на вопросы: не приносил ли вам гражданин Самигуллин каракулевые шапки?
— Нет, не приносил.
— И вы не видели, чтобы он передавал вашему отцу шкурки каракуля?
— Нет, не видела. Если вы думаете, что подобные дела делаются при женщинах; смею вас уверить, вы глубоко заблуждаетесь.
Он молчал и долго и внимательно смотрел на меня, затем нажал какую-то кнопку — в дверях мгновенно появился давешний белобрысый страж порядка.
— Товарищ сержант, — сказал ему сухо Халик, — возьмите машину и доставьте гражданку Гибадуллину домой. Все, выполняйте.
Я насмешливо поблагодарила:
— Спасибо вам, старший лейтенант милиции, за ваше беспокойство. Только не стоит, право! Уж как-нибудь сама дойду, авось не заплутаю там по дороге...
В отделении милиции со следователем Саматовым я беседовала трижды. Увозили меня на машине, домой возвращалась пешком. Завернув на нашу улицу, издалека еще замечала родителей: отец, неожиданно постаревший, сидел на скамеечке у ворот, посматривал на дорогу; мама стояла рядом, подперев щеку темной узкой ладонью. Увидев меня, они бросались навстречу: мама, спотыкаясь, добегала первой, обнимала, гладила мои волосы, плакала облегченно; потом, стараясь не терять остатки достоинства, подходил отец, утешал ее, и мы все вместе шли домой. В горнице, затворив двери, они усаживали меня посредине на табуретку или на стул, устраивались сами напротив и досконально выспрашивали: что там, в милиции, говорил следователь и не подъезжал ли ко мне насчет шапок, не грозил ли чем... На протяжении всего рассказа они поочередно ахали и охали, каждый раз обрывая друг друга, мама опять плакала, отец с дрожью в голосе покрикивал на нее. Ночами родители все шептались о чем-то, спать не могли, да и как спать, когда неизвестно, чем все это кончится? И мне было тяжело видеть их измученные лица...
Проснувшееся во мне когда-то чувство любви к Халику Саматову — нежаркое, девичье, но, казалось, неугасимое — вспыхнуло вдруг и обратилось в отчаянную ненависть. Видеть этого человека стало для меня невыносимой мукой. И что он мучает нас, проклятый?! Посадить хочет, так пусть сажает, только бы не терзал больше, не тянул душу!
Но и любовь и ненависть, по слухам, всегда бродят рядом: прошло немного времени, и, незаметно для меня самой, в сердце моем вновь произошла перемена. Нет, он не проклятый, он просто чистый и честный человек. Халик, по всему видать, сам уже измучился, но истина для него — прежде всего. Так ли?.. Перебегая из одной крайности в другую, я уже не могла дать совершенно ясного ответа, но все больше верила в Халика. Мне хотелось обрести в нем великодушного человека, в щедром сердце которого можно было бы искать спасения в самые трудные минуты жизни. Как бы любила я его! Такого глубокого, почти благоговейного чувства я не испытывала еще ни к кому на свете, даже к отцу, с кем меня связывали отношения нежные и благодарные, но все же менее сильные. Понемногу я пришла к мысли, что Саматову можно рассказать действительно все: он поймет, он может и должен понять, разобраться в щекотливом положении моей семьи. И я решила сообщить ему о тех злополучных шапках и воротниках, которые были пошиты моими родителями из лоскутков, вынесенных с мехкомбината, над которыми отец корпел месяцами, засиживаясь допоздна и стачивая зрение; но решение мое пока еще не окрепло. Если Халик Саматов, следователь Саматов, использует мою исповедь в интересах обвинения — будет очень и очень плохо. Если же не раскрыть ему все до конца — как узнать его душу? Бюрократ ли он, раб «буквы и закона» или же настоящий человек? Если бы знать точно!.. Как мне это было необходимо, как важно... Окажись он тем, кого хочу найти в нем, — с какой радостью связала бы я с ним свою судьбу, зная, что он любит меня! Но если Халик казенный и черствый человек, если в нем сидит холодный чинуша? И моя детская беззаветная доверчивость посадит в тюрьму отца моего? До конца дней своих не прощу себе этого. Не останется во мне доверия ни к людям, ни к жизни...
Все же я решилась. Если любим друг друга — между нами все должно быть начистоту, и я сказала Халику, что хочу встретиться с ним, поговорить, но не в кабинете следователя милиции, а в тихом и безлюдном месте, где мы будем вдвоем, далеко от кого бы то ни было — скажем, на берегу Волги, в какой-нибудь дальней рощице. Он согласился. Солнечным весенним утром мы купили билеты на речной трамвайчик и часа через два вышли в Нижнем Услоне, у подножия зеленых лесистых холмов.
Сколько лет прошло, а я все помню и, видимо, никогда не забуду тот день...
Был май. Деревья стояли зеленые, одетые в свежий листвяный наряд, и земля укрылась молодыми травами.
Эта юная зелень, ничуть не похожая на жухлую, наскучившую зелень знойного лета, побитую жгучими ветрами, усыпанную пылью высохшей земли, ласкала взор, веселила душу. Чуть слышный шепот листвы незримым облаком висел в настоянном, бодрящем воздухе, легкие пестрокрылые бабочки вспыхивали разноцветными бликами, хороводились, кружились в нарядной и суетливой карусели. Негустой дубовый лесок взобрался по отлогому склону наверх; из глубины его раздавались веселые и чистые звуки, высокий голос вел красивую бойкую мелодию, звенел и рассыпался далекий смех — молодежь гуляла по холмам своей новой Весны...
Сегодня я решила попытать счастья. В этот зеленый и беспечный мир мы прибыли не затем, чтобы гулять по бархатистой травке и дышать упоительным воздухом: я должна рассказать Халику все о нашей семье, должна вверить свою судьбу в его сильные руки. Халик сегодня не похож на строгого лейтенанта милиции, он без формы; пожалуй, будь Саматов в кителе и при погонах, я и не осмелилась бы выехать с ним на Волгу — страх перед следователем все еще сидит во мне. Но я верю... А ему очень идет штатский костюм, двубортный, кофейного, чуть с рыжинкою цвета. Воротник его белой нарядной рубашки расстегнут, и виднеется крепкая мускулистая шея. Он сидит, вытянув длинные ноги, под корявым развесистым дубом, без конца дымит, прикуривая одну папиросу от другой. Волнуется. Наверное, чувствует, какие серьезные надежды возложены мной на этот трудный разговор.
Неотрывно глядя в его синие, тепло мерцающие глаза, я начинаю:
— Отец мой, Гибадулла, по натуре — мелкий коммерсант. Во времена нэпа у него был небольшой магазинчик, лавка даже скорее. Он торговал мылом, гвоздями, да и вообще всякой всячиной. Это у него в крови, от деда еще и прадеда. Ну, а с меховой он постоянно приносит крошечные — вот, в два пальца, — лоскуточки каракуля.
— И что с ними делает?
— Вместе с мамой шьют шапки, воротники, муфты иногда.
— Сколько же у них получается в месяц?
— Шапка одна, ну, от силы две. Воротников и по три выходит, смотря по размеру.
— А где продают?
— Кажется, на толкучке.
— Та-а-ак.. — протянул Саматов и замолчал, сдвинув брови, нахмурясь. Папиросу свою, смяв в пальцах, отбросил далеко в сторону.
Я, пугаясь его затянувшегося молчания, не выдержала:
— Ну, что же вы молчите?
— Отец знает, что вас вызывали в милицию?
— Знает, конечно. Видел же, как меня на машине увозили!
— Ну, и как он, волнуется?
— Если это протянется еще хотя бы неделю — я думаю, он сляжет на нервной почве или, не дай бог, с ума сойдет.
— Как вы полагаете, Рокия-туташ, вот то, что Самигуллина посадили... Изменило ли это «коммерсантскую» натуру вашего отца?
— Он говорит, если на этот раз пронесет, и близко не подойду ни к одному лоскуточку. Пропади они пропадом, говорит, эти шапки!
— Ну да, пока на него страх напал. А потом за старое не примется?
— Что вы? Мой отец слов на ветер не бросает! Раз сказал — значит, так и будет.
Халик согласно кивнул головой и, взглянув на меня почти сурово, проговорил:
— По-моему, этого достаточно!
— Не поняла. Чего достаточно?
— Да, говорю, страх пережитый — для вашего отца достаточное наказание. Урок, кажется, основательный, даром не пройдет. А дело на него, за отсутствием состава преступления, уже закрыли.
Я вскочила с места и бросилась к Саматову на шею. Оправдал! Оправдал все мои надежды, радость ты моя! Счастье мое долгожданное!
На душе у меня сделалось удивительно легко и просто: я люблю Халика Саматова, человека сильного, справедливого и великодушного. И теперь уже я затеребила Халика, желая немедленно узнать о нем как можно больше, то есть, собственно, желая знать о нем все.
Оказалось, отца Халика звали Габдрахманом, маму — Махибадар, на свет он появился в деревушке Бавлинского района. «Родился в голодный год, оттого и длинный, — объяснил он, улыбаясь. — Отчего синеглазый да белокожий? Передалось от деда-латыша: одна из бабок вышла замуж за ссыльного, поэтому в жилах у меня есть толика латышской крови. Отсюда высокий рост (дед, говорят, был великаном), прямой тонкий нос, синие глаза». Детей у Габдрахмана росло четверо. Один утонул, купаясь в глухом омуте, другого, еще в люльке, сгубила корь. Остались родителям младшенькая Сания да первенец Халик.
В тридцать пятом году отец, вместе со всей семьей, переезжает в Казань. Работает на ТЭЦ бетонщиком. Но нет Габдрахману удачи в жизни: поев в столовой несвежей колбасы, он умирает от отравления. Может, миновала бы его беда, но, почуяв резь в животе и тошноту, Габдрахман первым делом кидается в контору — предупредить людей. И остальных рабочих — всего пятьдесят четыре человека — успевают спасти, о нем же в спешке забывают — так и скончался, бедняга, скрючившись на стуле, в уголке конторы.
«Смог бы мой отец вот так вот, не жалея себя? Отдал бы он свою жизнь, чтобы спасти других? Не родных и близких, нет, просто людей?» На эти вопросы ответа я не нахожу.
Я иду рядом с ним по мягкой лесной траве, чувствуя тепло его сильной руки. Нам сейчас не нужны слова, мне все понятно в нем, мне даже чудится, что я вижу насквозь его добрую и горячую душу.
День уже клонится к вечеру. Удлинились заметно тени, резко пошла на убыль полуденная жара, отдыхающая молодежь скапливается у пристани — ждет пароходика на Казань.
Погуляв вдоволь по лесным тропинкам, мы тоже спустились к причалу.
На берегу Халик подвел меня к павильону, где давали напрокат прогулочные лодки, и, сунув старику лодочнику паспорт и тридцатку, столкнул на воду голубой двухместный ялик. Затем, не дожидаясь моего согласия, он подхватил меня под руку и устроил на корме, а сам, взяв весла, отгреб от берега. И синие теплые глаза его сияли, когда он говорил мне:
— Этот вечер наш, ты слышишь...
А я... я, конечно же, покорилась его воле.
2
Не знаю, как для кого, но для меня существует одна совершенно ясная и, по моему убеждению, неоспоримая истина: девушка, пусть она даже очень долго, годами, встречается со своим возлюбленным, рискует все же не понять до конца особенности его характера, а ведь это очень важно для совместной жизни; между тем, став ее мужем, он раскроется полностью уже через какой-нибудь месяц и весь, со всеми своими добродетелями и недостатками, будет как на ладони. Но, скажу по совести, получилось так, что для меня эта истина явилась горьким откровением. Когда я еще была влюбленной и глуповатой девчонкой, готовой отдать все на свете за случайную мимолетную встречу возле калитки, Халик Саматов существовал для меня всего лишь в одном виде: высокий подтянутый офицер. Я представляла себе, как в один прекрасный день пройдусь с ним под ручку по улицам нашего предместья, и все девушки в округе полопаются от зависти. Еще бы: этакий ладный парень! Но вот с того счастливого дня, когда я стала женой офицера Саматова, прошло целых два года; не только гулять с ним, даже пройти разок по улицам Новой Слободы мне еще не приходилось.
Не успела отшуметь наша довольно скромная свадьба, как Саматов начал уговаривать меня учиться дальше. «Ты, — утверждал он, — станешь учиться, я буду работать, и все пойдет нормально». В то время желающих поступить в институт было не так уж много, в толпе абитуриентов редкий человек не, носил солдатскую фронтовую шинель. Словом, я без особых трудностей поступила на историко-филологический факультет Госуниверситета. Но оказалось, что учиться там само по себе гораздо труднее. Каждый раз после занятий я подолгу жаловалась Халику на строгих преподавателей, и, в конце концов, проучившись всего лишь год, университет я бросила. Потом у нас родился сын — Халик назвал его Маратом, — и дни мои стали проходить возле кровати «пламенного революционера». На другой год я одарила Халика еще одним сыном. Этого, в честь пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького, опять же по настоянию Халика, нарекли Максимкой. Не прошло и месяца с рождения «писателя», как Халик заявил мне, что жизнь его — по крайней мере два последних года — проходит впустую: теперь он был намерен поступать учиться. Если бы я не бросила свою филологию, наверное, поняв, что обоим нам учиться будет довольно-таки трудно, он и отступил бы от своего намерения, но, увы!.. пришлось мне согласиться, тем более росло у нас сразу два неимоверно шустрых мальчугана, и я, по существу, оказалась связанной по рукам и ногам.
У Халика же не было даже полного среднего образования, потому что на фронт он пошел добровольцем, с четвертого курса речного техникума, и аттестата, конечно, не имел. Но очень хотел получить его, сдав экстерном все экзамены за десятый класс общеобразовательной школы. Первым экзаменом назначили ему тогда сочинение, вот здесь-то он и перестарался: на двенадцати страницах допустил четырнадцать ошибок. От «экстренных экзаменов» Халика, конечно, тут же освободили.
Но мой суженый оказался на редкость упорным и той же осенью поступил в вечернюю школу рабочей молодежи. Это только теперь у нас некоторых молодых, можно сказать, силком обучают, в наше-то время от людей требовали прежде всего ударной работы. Начальству своему Саматов ничего не сообщал, в школу записался тайком, иначе не разрешили бы, наверное: работа у него в милиции была ненормированная, могли вызвать в любой час и вечером и ночью.
Ох, и трудно же давалась ему учеба. Нам тогда как раз выделили здоровенную, как футбольное поле, комнату в старом доме безо всяких удобств; на этой, в буквальном смысле слова, площади мы и жили: мама Халика — тетушка Махибадар, — его сестренка Сания, он сам да я с двумя крикунами. Для занятий дома у Халика, естественно, не было никаких условий, поэтому он частенько засиживался у себя на работе, бывало, даже ночевал там. Я и жалела и ругала его: вот, мол, чудак, ей-богу — звание у человека есть, зарплата неплохая, одежда-обувка казенные, и чего только ему надо еще, ради чего себя мучает беспрестанно? Жить-поживать да добро наживать, кажись, самим богом велено, а он... надо же таким быть! Вот чудак, честное слово! Халик же мой, скорее всего измотавшись окончательно от недосыпания и неудобных ночей на жестком служебном диванчике, выпросил у меня подушку, простыню и одеяло — завел обыкновение держать их у себя в отделении милиции (в кабинете у него стояла вместительная тумбочка для дел, совершенно пустая, туда он и запирал постельные принадлежности). В душе моей вдруг зародилось сомнение. Ну, как путается он там с шальными бабами? А что?! Власть у него в своих руках. Белье вот завел, диванчик там имеется! А я, значит, сиди тут, дом сторожи, так?! Ну, если он загубил мою жизнь!.. Может, за Гапсамата мстит? Я ведь поначалу не за него — за Гапсамата собиралась... Волнение мое мало-помалу улеглось, но Халику я поставила категорическое условие: после рабочего дня сразу же возвращаться домой — и никаких больше ночевок! Хватит! Он, конечно, был недоволен, но согласился. Стал теперь заниматься дома. Возвращается вечерком, голову холодной водой окатит, уши полотенцем обвяжет, — и за книжки свои. Меня еще пуще злость разбирает. Так ведь и продолжает гнуть свое, лиходей, ишь, и головы от книг не подымет! Читает да учит, читает да учит, выйдет потом, просвежится малость и опять за книжки. Или на ночное дежурство умотает — там ему, само собой, раздолье. А я, как дура, все дома сижу: служанка не служанка, жена не жена, да еще полный дом народу, кто кричит, кто поет — о господи!
«Нет уж, дорогой муженек, так просто ты от меня не отделаешься, — вконец разозлилась я. — Смотрите на него, люди добрые, какой умник нашелся: он, стало быть, выучится да в начальники полезет, а я тут кукуй в худой комнатухе с его чадами да домочадцами». Ну, уж если хочешь прицепиться, повод всегда отыщется. Как-то вечером приходит он домой с подарком: сестренке своей Сании, в честь окончания школы, купил, значит, белые туфли, красивые такие, на высоком каблуке. «Ни спросу, ни совету со мной, хочет, видно, родне своей угодить, — ну, думаю, ладно! — Покажу я тебе, где у меня твоя родня сидит!» Как раз и свекровь дома была, а мне это только на руку. Не успел он сапоги снять да в комнату пройти, налетела я на него, да как закричу:
— Ты что же это думаешь, я нянька, что ли, или служанка за твоими детьми пеленки без конца стирать? Когда замуж за себя уговаривал, так небось золотые горы обещал, а теперь заточил в этой проклятой комнате и ни ходу, ни проходу? Комната не комната, площадь Сенная, ей-богу! Надоело! Ты, я вижу, теперь и посоветоваться со мною не желаешь, покупаешь чего хочешь. О детях своих забыл!
Халик растерялся даже:
— Да ты что такое говоришь-то, Рокия? В кои-то веки раз купил сестренке туфли. У нее никогда их и не было еще. И в такой радостный день ты скандал затеваешь. Опомнись, не шуми, пожалуйста.
И так все это спокойно, толково проговорил, что я чуть не задохнулась от злости и уже было открыла рот, чтобы выпалить в него слова похуже, когда вмешалась свекровь:
— Сынок, Халик, ты уж из-за нас с женой не ругайся, найди лучше нам квартиру по средствам, сними, а мы сами как-нибудь проживем. Даст бог день, даст и пищу, лишь бы в семье был мир да лад...
Но и после того как Халик нашел им квартиру и родные его съехали от нас, покою ему я давать не собиралась. Однако он меня перехитрил. Без моего ведома, тайком, взял да и поступил на учебу, да еще в другой город. Оказывается, в отделение милиции, где служил Саматов, пришла разнарядка на двухлетние Высшие курсы народного хозяйства. Он и сказал своему начальству: «Отправляйте меня. С женой тут конфликтуем, из-за этого учеба страдает, как уеду, авось поуспокоится. В общем, меня в первую очередь!» Курсы эти находились в Куйбышеве — улетел мой Саматов, только я его и видела. Я с двумя ребятенками опять одна осталась. Ну, пошла к родителям, вот такие, говорю, дела: зять ваш меня покинул, укатил учиться, что теперь делать будем?
Отец опешил, стоит, в затылке чешет.
— Чего ж тебе сказать-то, дочка, и не придумаю. Ежели тебя поругать, так жалко, а на зятя и язык не подымется, потому как он мне в свое время помог, вытащил, можно сказать, из погибели. Спас от позору и вообще... Человек он умный, хороший, чтоб закладывать — так ведь такого за ним не водится. Вот и на службе его уважают. Чего еще тебе могу сказать? Промеж мужа и жены встревать, это самая глупая штука, я тебе скажу. До добра не доводит. У тебя своя голова на плечах, так что ты меня сюда не впутывай, как тебе душа велит, так и поступай...
— А если он там с женщиной свяжется? Если бросит меня с двумя-то детьми?!
— Вот это, конечно, нельзя. В нынешние времена бабам никакого моего доверия нету. После войны баба до мужиков сильно злая стала. Не глядит, молодой ли, старый, холостой, женатый — мужика себе ищет, и все тут. Береженого, как говорится, бог бережет, а чего тебе: ноги в руки, да и слетай к нему туда, посмотри своими глазами, что и как. Приедешь — тогда и доскажем, чего не договорили.
— А дети как же?
— А чего с ними случится? Вон, будут с матерью твоей, небось в школу провожать их еще не надо.
Мне ничего не оставалось, как собрать пожитки свои да махнуть в Куйбышев, к законному мужу.
Поездка эта оказалась для меня даже поучительной: я застала Халика за очередной глупостью. Муженек мой опять-таки мне ни слова, а сам сразу в двух местах обучается: сдаст на Высших курсах народного хозяйства один экзамен да сломя голову бежит в юридический институт на другой. Приехала я, гляжу — батюшки, да на нем лица нет, кожа да кости, в чем только душа держится?
— Ты что это, подлец, укатил от меня подальше, да один тут развлекаешься?! Ишь, высох как — один шкелет остался! — накинулась я на него.
Тут он мне и признался — куда денется? — что учится одновременно в двух высших заведениях. Я, конечно, не долго думая, тут же оповестила директора Высших курсов. Ну, директор моего Халика живо скрутил:
— Ты, Саматов, почему так поступаешь? Почему скрыл от администрации? В двух местах учишься! Надо было сразу же нас в известность поставить... Деньги-то от нас получаешь!
Сказал бы Саматов: никак нет, мол, только у вас зачислен, обман получается, а правду сказать боится, считает, что прогонят тогда его с Высших курсов. Молчит, намерен, видимо, действовать по принципу «повинную голову и меч не сечет». Ну, думаю, сейчас пропесочат дурачка, блажь-то небось из головы быстро вылетит, тут, слышу, Саматов задает вопрос:
— Вы, товарищ директор, фронтовик?
— Артиллерист, — говорит Семушкин.
— Правда? Так ведь и я артиллерист! — обрадованно восклицает Саматов.
— Вот это здорово! — взволнованный директор выходит из-за стола, крепко жмет Саматову руку. — Товарищ по оружию, значит, вот это здорово!
— Да, таким вот образом, товарищ директор: надо же как-то наверстать то, что упустил, пока снаряды во врага метал. Оттого и учусь сразу в двух местах.
— Я тебе, Саматов, категорически запрещаю впредь такие штучки. С завтрашнего дня в юридический чтоб ни ногой!
Тут я, конечно, не выдержала — высунулась со своей заботой:
— Ой, спасибо, товарищ директор. Вы только взгляните на него: ведь кожа да кости! У меня ведь детей двое, что ж им потом сиротами оставаться?! Пусть Саматов поклянется вам, что брвсит свой юридический и думать о нем не будет!
— Ну, Саматов, будь мужчиной. Клятву дай, как говорится, слово сдержи.
И что же говорит этот... муж мой мне, своей жене, и своему директору?! Говорит, клянусь, что с завтрашнего дня и впредь ни разу не переступлю порога Высших курсов.
— Что?! Ну-ка, повторите!
— Ноги моей не будет на Высших курсах. Перевожусь в юридический институт, на стационар. Все.
Семушкин тут растерялся, задумался, забормотал что-то себе под нос:
— Не-ет, братцы, шалишь, Саматова — это фронтовика-то, товарища по оружию, лучшего своего курсанта, члена парткома к тому же — я так просто не отдам. Вот что, Саматов, у нас в месткоме путевочка одна завалялась. В дом отдыха на двадцать четыре дня. Надо бы тебе туда съездить, точно говорю.
Вот так! Известное дело, мужик за мужика всегда горой. Я, значит, довожу до его сведения, что обучающийся на Высших курсах Халик Саматов обманно, можно сказать, зачислился еще и в юридический институт, а он ему путевочку предлагает. Да разве это только! У Саматова денег нет? — так на вот тебе путевку бесплатно, и на дорогу денег нет? — ничего, билет на самолет к путевке прилагается, а до аэропорта машину, мол, нашу возьмешь. Видали? Но до аэропорта не дошло пока — у Саматова экзамен висит, надо до отъезда сдать. Подготовиться же толком, оказывается, не успел. Но идет он этак решительно, как сам потом рассказывал, берет у профессора билет. Смелости ему не занимать! Столько неприятностей у него было потом из-за этой вот смелости, я еще расскажу в свое время... Ладно, заходит Халик к экзаменатору, берет билет. «Случай участия истца по гражданскому делу в судебном процессе». Из своей практики, мол, если подумать, примеры найдутся, но вот теорию почитать не удалось! А рядом с ним сидит молоденькая девушка, ей как раз обратное попалось: «Случай неучастия истца по гражданскому делу в судебном процессе». «Знаешь?» — спрашивает он ее. «Знаю». «Выйди первой, пожалуйста», — говорит ей Халик. Ясно: она расскажет — он послушает, а потом говори обратное, вот тебе и ответ. Но прогадал, оказалось, ответил неверно, что-то такое напутал — все смеются. Все же, поскольку на первые два вопроса ответил правильно, профессор начинает его «гонять», хочет вытянуть на «хорошо». А Халику на самолет поспеть надо. «Вы почему торопитесь, молодой человек?» — спрашивает профессор. Халик и выкладывает ему все как есть. Сходятся на «троячке». Этот «троячок» у Халика даже на госэкзамене всплыл, — припомнили, — чуть было не подпортил ему диплом. Единственный раз ведь получилось, что совесть была нечиста, и то поймали. А вопрос злополучный, коего он тогда не знал, ему еще понадобился. Но об этом потом.
Халик мой меня утешил как мог, извинился — простился, сел на самолет и был таков: улетел в дом отдыха. Я, одна-одинешенька, осталась в Куйбышеве. И такое зло на мужиков разобрало, что сил нет: находят же, хитрецы, как друг друга выгородить, — вот, пожалуйста! Пошла я в институт; пошла опять к директору Высших курсов — там поговорили со мною мягко, уважительно. Я уж и смирилась: видно, плетью обуха не перешибешь.
Была у меня одна задумка, из-за которой и прилетела я, в общем-то, в Куйбышев, и о которой никто, кроме меня, не знал. Хотела я очень повязать Халика накрепко, усадить его в калошу, а каким, скажете, образом? — да просто прибавить к двум его мальчуганам еще хорошенькую маленькую такую девчоночку. Халик же мой поцеловал меня в лоб да погладил по спине; и с таким-то жалким багажом я должна теперь целый месяц спать в холодной постели?
От досады я прямо не знала, как и быть, могла очень даже запросто и глупость сделать, но тут некоторым утешением явились сразу два письма, которые он прислал из дома отдыха. Писал, что за двадцать дней прибавил на семь кило и двести грамм. Видать, кормят до отвала. Дом отдыха как-никак закрытого типа. Что ему там — ешь да спи, ешь да спи — как не поправиться! Но вот взвесили его там и сказали: хватит, становись теперь на лыжи. Читаю я, и на душе у меня опять кошки скребут: «Становись на лыжи», мол, а вдруг чего похлестче придумает? Наверное, уж есть там кто-нибудь, кроме Халика, кому больше нечего делать, кроме как есть да спать?..
Окончил мои Халик Высшие курсы народного хозяйства, и направили его на Волго-Балтийский канал: вот, выходит, и вся польза от учебы. Канал этот раньше назывался Мариинской системой, города там — Вычегда да Шексна. Протянулся этот канал от Онежского озера до Рыбинского водохранилища. У Халика Саматова положение там высокое: начальник отдела кадров по строительным работам.
На этот раз я уже решила действовать по-другому. Халик мой опять попытался было улизнуть: мол, устроюсь там получше, потом и вас вызову, но я и слышать ничего не хотела. Как будет, говорю, так и будет, вместе как-нибудь устроимся, но я от тебя не отстану. И детишек, конечно, с собой взяла. Жили мы в основном в Вычегде. Ну, насмотрелась я там этих каналов — на всю жизнь. Со времен Петра еще остались, но тогда они были малюсенькие, теперь же в ширину до сорока метров. Раньше насчитывалось тридцать семь шлюзов, оставили из них девять ли, десять; остальные под водою, потому как много шлюзов — это неудобно. Пробыли мы в Вычегде до мая тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Халик мой и там учебу свою не оставил. Вот и до сих пор меня одно удивляет: откуда только берется у людей, подобных моему Халику Саматову, такая истовая, такая неутолимая, добросовестная целеустремленность? Устает ведь на работе как лошадь, приходит домой, думаешь, даже поесть ведь, бедняга, не сумеет, так и завалится, где стоит, но нет: умоется по пояс холодной водой, голову полотенцем обвяжет, чтоб, значит, ничего не слышать, — и за книги. Куйбышев теперь далеко, так Саматов в ленинградский юридический институт перевелся — ездит туда, экзамены сдает. Жены знакомых начальников прямо поражаются, спрашивают у меня: «И как это Халик Габдрахманович все успевает?» Я уж отвечаю им что-то, хотя и сама толком не пойму. Наконец решила у него самого спросить.
— Одни языком любят молотить, бездельничают, другие чепухой всякой занимаются, третьи водочкою увлекаются. А я на все это внимания не обращаю, вот и время для учебы остается, — сказал мне Халик.
Когда работы на Волго-Балтийском канале были закончены, нас вызвали в Москву. Конечно, мы могли, если захотеть, и домой вернуться прямиком в Казань, но главк решил иначе. Еще бы, биография у Халика что надо, как стеклышко: суровая школа войны за плечами, на строительстве канала он проявил себя с самой лучшей стороны — такие работники на вес золота. Халика оставили пока в Москве, велели ждать вакансии. Предлагали нам места и в тундре (с очень высоким жалованьем), и в Туве, и еще где-то — я не согласилась. Одно могу указать: Халик с моим мнением в тот год очень и очень считался. Да и как не считаться: я ходила в положении, вот-вот должен был родиться третий ребенок. Видно, Халик и рассказал в главке все начистоту, там посочувствовали, отправили нас в распоряжение Татарского Совмина. А в Казани будто только и ждали таких трудяг, как мой Халик Саматов. Взяли, да и послали нас в захолустье, в Альметьевск. Конечно, «в будущем хороший большой город», столица нефтяного Татарстана. Мастера-нефтяники со всей страны собираются. Говорят, придет время, там будут проводить мировые конгрессы по нефтяному делу, поэтому город постараются отстроить красивым и чистым. Но пока — захолустье, Халика там назначили начальником ремесленных школ.
В Альметьевске у нас родился третий сын: на что на что, а на мальчиков нам везло. Халик, теперь уже никому не следуя, просто по душе своей назвал сына Джаудатом. Ну, с тремя детьми, разумеется, в комнате с соседями жить невозможно. Дали нам тотчас хорошую квартиру. В городе в ту пору было много временных бараков, но начальство вошло в наше положение — достался нам очень удобный, красивый коттеджик. Жизнь, кажется, наладилась неплохо, да только вот с ремесленными школами дела обстояли очень худо. Состав учащихся разнородный, трудный, в основном сироты, потерявшие родителей во время войны. В общежитиях холодно, сыро, стекла во многих комнатах выбиты, ветер там так и гуляет. В мастерских грязно, тучи пыли, сор, обрывки бумаг, окурки, в общем — ужас.
Однако где Халик, там и порядок: против этого и тогда ничего возразить не могла. Всегда вспоминаю слова, которые он сказал мне на первом свидании. «Почему вы пошли в милицию?» — спросила я его тогда. «Чтобы водворять порядок!» — коротко,ответил он. Наверное, отвечая мне, Саматов имел в виду порядок по всей стране. Я же, только-только окончившая школу зеленая девчонка, его не поняла.
И Халик принялся «водворять порядок» на своей новой работе. Прежде всего испросил у Сазанова разрешения три дня не являться с отчетом, время это хотел целиком провести в общежитиях и мастерских. Сазанов, генерал в отставке, был управляющим треста «Татнефтестрой». Оказалось, ремесленные школы дают ему рабочие кадры: подростки-ремесленники четыре часа в день обучаются, затем четыре часа работают, проходят практику в качестве плотников, столяров, штукатуров, слесарей на комбинатах треста, которым руководит Сазанов. Халик тем временем выписал на окладе стекла, постели, теплые одеяла — возмечтал установить в общежитиях ремесленников армейский порядок. Загорелся весь, вижу: проснулся в нем его энтузиазм, взыграл! Созывает каждый день собрания бригадиров, педагогам от него никакого покою. Я, само собой, сижу дома с детьми, не работаю, но иной раз даже я не выдерживала: оставив детишек на соседскую бабушку, бежала помогать Халиму, Сводили мы ребят в баню, отмыли там дочиста, одели в новую форму.
— Нравится вам такой порядок? — спрашивает Халик на собрании учащихся.
— Нравится! — кричат те.
— Теперь все от вас зависит: будете стараться, будет еще лучше.
Среди ремесленников нашлись два юных художника-любителя. Халик им задал большую работу: написали кучу плакатов, оформили стенды, стали выпускать стенной журнал «Чаян»[39]. Журнал получился громадный, чтоб издалека было видно, кто плох в учебе и в труде. И тут художники пригорюнились: «Чаян» предполагалось выпускать два раза в неделю, а откуда набрать столько краски, когда размеры его ни много ни мало — десять квадратных метров? Карикатуры-то хотелось рисовать в цвете, вот задача! Но Саматов и здесь нашелся: фанеру белят побелкой, из жженых галош добывают черную сажу, из всяких трав вываривают цветные краски; славно получается! В травах да овощах, сами знаете, цвета можно отыскать пронзительные, чистые; из лука, скажем, желтый, из свеклы — красный, в общем, чудеса, да и только. Не карикатуры, а загляденье одно, даже нарочно хочется в «Чаян» попасть, такие они красивые. Да и видно их очень даже издалека.
— Этот Саматов прямо-таки волшебник какой-то! — удивляются преподаватели.
Меж ремесленниками развернулось соревнование. Художники стараются: и передовики, и лентяи-саботажники, все в стенгазете на своих местах, с портретами, чтобы знали точно, кто есть кто. Бездельникам — позор, учащиеся над ними хохочут, животы надрывают — уж больно смешными получаются, умора!
Меня тоже как-то увлекла эта веселая и деловитая кутерьма, жить стало гораздо интереснее. Но вскоре я поняла, что порядок в ремесленных школах водворяется не так уж гладко. Мой добросовестный Саматов принялся переделывать не только учеников-подростков, но и дяденек-бригадиров. Для него было все равно: будущий ли ты рабочий, подросток-сирота, или же заслуженный бригадир, почивающий на лаврах опыта, — ты должен быть человеком, вот и все! До Саматова, как выяснилось, кое-кто из бригадиров учащихся и за людей не считал, какой, мол, за сироту ответ — выделывали над ними всякие штуки. Бывали даже такие случаи, что по утрам некоторые, поднимая учащихся на работу, просто стаскивали их с кроватей...
Таких бригадиров Саматов гнал взашей. Объяснял кратко: за нарушение социалистической законности. Но те с такой постановкой дела не соглашались, как же, ведь до этого им все с рук сходило, никто не жаловался — и вдруг... нашелся блюститель порядка! Уволенные послали в Казань, в управление трудовыми резервами, пространную жалобу на начальника ремесленных школ Саматова. Мол, так итак, Саматов разлагает учеников-ремесленников, сговорившись с ними, подрывает их авторитет.
Нежданно-негаданно, как снег на голову, нагрянула из столицы комиссия. Во главе ее сам начальник управления трудовыми резервами. Идет комиссия по общежитиям.
— Товарищ начальник управления! Сорок два человека находятся на работе, один больной. Дежурный по двадцать седьмому общежитию Касымов.
Все общежития дотошно обследовали — везде порядок, не хуже, чем в армии. На каждой кровати плотные матрасы, по две простыни, одинаковые зеленые одеяла, ослепительно белые подушки. Полы блестят. Повсюду плакаты, стенды, картины.
— И что, товарищ Саматов, во всем такой порядок?!
— Стараемся, товарищ начальник управления!
Идет комиссия в столовую. Дежурный рапортует честь по чести, усаживает за стол, пробуют — вкусно, питательно.
Начальник управления собирает экстренное заседание и перед всеми воспитателями, педагогами и бригадирами коротко подытоживает: «Саматов делает все правильно. Желаю дальнейших успехов».
Но на этом трения у Халика с людьми не закончились. Один беспокойный энтузиаст, как говорится, целой сотне работу задаст. Не прошло и недели, как уехала столичная комиссия, — а Саматов успел уже поссориться с самим Сазановым, управляющим трестом «Татнефтестрой». Через инкассо он предъявил руководителю «Татнефтестроя» счет на изрядную сумму. На эту сумму, в виде компенсации за работу учащихся в комбинате, Сазанов, как ответственное лицо, обязался в свое время передать мастерским школ оборудование и стройматериалы, но обязательства своего не выполнил, и труд ремесленников так и остался неоплаченным. Теперь в течение трех дней он должен был или написать отказ, ссылаясь на те или иные доводы и параграфы, или же перевести деньги на текущий счет предъявителя иска. Вот тут и помянул Халик недобрым словом свой «троячок» на экзамене! Целую неделю штудировал учебник права, пока не разобрался досконально во всех обязанностях и правах истца — вопрос этот, пронявший его до печенок, Саматов запомнил на всю жизнь. Генерал, однако, этаких тонкостей не знает, вызвал он моего Халика к себе и кричит, стуча кулаком по столешнице:
— Кровными денежками нефтяников интересуешься?! Распоряжаться ими хочешь, так тебя распостак?!
— Вы не должны были дожидаться предъявления счета.
— Полетишь у меня с места! Под суд отдам!
— Отдавайте, но кричать на меня не следует, — говорит ему спокойно Саматов. — Советский закон рассудит, кто прав, а кто виноват.
Халик обо всем этом мне рассказывал с большим огорчением.
— А зачем связываешься? — сказала я ему. — Уж, наверно, генерал побольше твоего понимает.
— Ничего, за одного битого двух небитых дают, — улыбнулся Саматов. Мне же показалось, что он излишне самоуверен.
— Оба вы не о своем кармане печетесь. Деньги эти государственные. Может, — предположила я, — как-нибудь поладите еще с миром?..
— Нет, — ответил твердо, — нельзя с этим ладить. Сазановы привыкли не считаться с ремесленниками. А вот если я у них эти деньги вырву, и на самом что ни на есть законном основании — думаю, впредь они нам за версту честь отдавать будут.
Я знала, конечно, что Саматов мой словами попусту не бросается, но в победе его над генералом (генералом, ведь это подумать только!) все же сильно сомневалась. Может быть, тут сыграло свою роль мое почтительное отношение к слову «генерал», не знаю, да только начала я не на шутку беспокоиться за Саматова.
Но он вел свою линию смело, сильной, уверенной рукой.
Бухгалтеру своему Халик строго наказал, чтобы тот, в случае если Сазанов наложит арест на их текущий счет в банке, незамедлительно заявил протест. В письменном виде, по всей форме. Теперь, значит, каждые три дня отписывают они решительный протест, Сазанов рвет и мечет, но сам ничего сделать не может — направляет дело в Москву, на рассмотрение Арбитражной комиссии РСФСР. Как уж его там рассматривали, мне неведомо, но решилось оно в пользу ремесленных школ. Генералу пришлось выплатить еще семь процентов госпошлины. А семь процентов от большой суммы... Вот так, из кармана нефтяников и заплатил Сазанов государству эту немаленькую сумму...
Так Саматов мой вышел победителем. И победил он, как мне кажется, не только потому, что прав был, но и потому, что все законы изучил досконально и знал, как и куда дело повернуть. А все же поступок его я не одобряла. Ведь мог и проиграть.
3
В тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году ремесленные школы в Альметьевске переросли в специальные училища. Саматова отозвали обратно в Казань.
Так мы с Халиком, собрав свои немудрящие пожитки, а точнее, распродав их за полцены, вернулись домой. Я только радовалась этому. Думалось: наконец-то после стольких мытарств, почти ежегодных утомительных переездов с места на место, когда всякий раз приходилось бросать все и заново устраиваться, не имея ни друзей, ни знакомых, осядем в родном городе навсегда, найдем подходящую работу и заживем спокойной жизнью. Детишки будут ходить в одну школу, привыкнут к своим учителям. Маратик наш в этом году должен был уже пойти учиться. Отец с мамой встретили нас очень приветливо. Отношения сложились с ними прекрасные — родители в нас души не чаяли. Мама года два как перестала работать в столовой, возилась все больше в саду — сад был большой, богатый. Детишкам радовалась и любила их: выносила младшенького, Джаудата, на воздух, спал он себе в нарядной коляске под яблоней, в сладкой тени ее, а мама со старшими собирала ягоды, наедались они досыта малиной и смородиной — ходили потом чумазые, в ягодном соку.
Возвратившись в Казань, я сразу же предупредила отца:
— Вот что, папа, скажу. Поездили мы по стране вдоволь, хочется наконец и осесть — так что, прошу тебя, подыщи-ка Халику подходящую работу. Знаешь, чтоб и не пыльная, да денежная...
Найти работу надо было обязательно. Характер у Саматова беспокойный, ему только бы не сидеть без дела: когда дела по душе нет, Саматову свет не мил. Подавай ему работу, да еще и трудности заодно подавай: день, прожитый без борьбы, это разве день, мол! Того и гляди влезет в кем-то заваренную, самую что ни на есть крутую, кашу, потащит наверх какое-нибудь завалившееся предприятие — поседеешь с ним до сроку. Найти бы ему работу нехлопотную — гора с плеч долой, ей-богу! Зная его привычки и горячую до труда натуру, я молчала до поры до времени, все под него подлаживалась. Думала, надо брать Саматова хитростью.
Как-то, через знакомых отца, я разузнала, что в Казанский универмаг — он тогда на улице Баумана находился — требуется коммерческий директор. Зарплата такая, что лучше не надо, почет и уважение обеспечены, персональный ЗИМ — мечта! А чего? Нам, что ли, только каналы, с петровских времен еще не очищенные, перекапывать, сирот учить, воспитывать, сопли им утирать, да с генералами своевольными ругаться? Как мой отец говорит: «Ничу!» Значит, пришло время и дочке дубильщика Гибадуллы Рокии поездить на шикарном лимузине! И так уж надоело мне мотаться по разным городам, что день и ночь не даю Халику покоя, стучу и стучу, как дятел, его по голове: давай устраивайся, поработай и коммерческим директором, убудет, что ли, тебя, чего ты упрямишься? Меня, говорит, вызвали в распоряжение внутренних дел, там что скажут, так и будет. Утром поест — и за дверь; приходит вечером, поест и спать. Пять ли, шесть ли дней так походил, только возвращается как-то, смотрю, Халик мой ожил. Сияющий весь, и глаза так и горят.
— Слушай, — говорит, — я место нашел!
— Какое еще место?
— В трудовую воспитательную колонию устроился. Трудных ребят буду воспитывать.
— Господи, и зачем только я, дура, за тебя замуж вышла? — в голос заревела я. — Ох, кабы тогда не угодил Гапсамат в беду, не мучилась бы я сейчас с тобою! Вечно ты отыщешь самое гиблое место, и кто тебя за руку тянет, дурака такого, все у тебя не как у людей! Достукаешься, загонишь меня в могилу. Для того, наверно, и стараешься.
Все, что в душе моей накопилось за эти годы, выплеснула разом на него и крикнула в сердцах:
— Я с тобой дальше жить не буду. Не буду, понял?! Иди прочь, убирайся из нашего дома!
Была я почти что в беспамятстве, ни слов своих, ни поступков не осознавала; за меня говорили мой гнев, обида моя, разбитые мечты об уютной жизни и автомобиле ЗИМ...
Впрочем, Саматова всякими глупыми обидами к женской юбке не пристегнешь, у него на это свои понятия. Повернулся Халик да и пошел, и стали мы с того дня жить поврозь. Думаете, уговаривал он меня прекратить раздор, приходил мириться? Ни разу! Кровь ли спокойная деда-латыша или же твердость, обретенная на жестоких дорогах войны, были тому причиной, но суетиться вокруг женщины он себе не позволял. Крепенький муженек достался, что и говорить!..
Саматов работал на новом месте недели три уж, наверно, когда мы встретились случайно на улице.
В новом кителе с майорскими погонами, в начищенных хромовых сапогах, стоял передо мной высокий, статный офицер. Был он все так же приветлив, спокойно-серьезен; гордая красота Халика ничуть не умалилась от вынужденного «холостяцкого» положения, и вновь поразило меня достоинство, с каким он держался. Видеть Саматова мелочным или униженным мне не довелось ни разу в жизни.
Я чуть не расплакалась: стало невыносимо жалко те навсегда утерянные дни, которые провела я без него, хотя только от меня и зависело, будем ли мы вместе. Его ласковая, приветливая улыбка, простые и теплые расспросы о здоровье моих родителей и наших детишек смутили и растрогали меня, в душе моей колыхнулось горькое сожаление. Но я не подала виду, напротив, вела себя независимо и отчужденно, даже сказала в пику ему несколько весьма колючих слов и удалилась — беззаботно, казалось бы, но с совершенной пустотой в душе. Скверно мне было, но переломить себя я в тот раз не смогла.
Однако вскоре, случилось событие, от которого гордыня моя рухнула. Дней через десять после нашей встречи газеты заговорили о тридцатитысячниках. На заводах, фабриках, в институтах стали проходить собрания, по радио что ни день передавали новые постановления. Со всей нашей страны собирались труженики вроде Халика поднимать отставшие колхозы. Война-то и по сию пору давала себя знать. Поразорились хозяйства. У меня, как я это услыхала, даже сердце екнуло — ну, думаю, все! Уедет Саматов, назло мне уедет! А в деревне ой какие ядреные бабенки есть — живо схомутают муженька моего законного. И останешься тогда вот с таким длинным носом... Нет, оказывается, с тремя детьми останешься, а не с носом!..
Как я предполагала, так оно и получилось. Халик мой походил с месяц в сельскохозяйственный институт, послушал специально для них организованные лекции да и поехал куда-то на Каму.
На сей раз взбеленился отец.
— Это что за чудеса такие?! — кричал он на меня. — У тебя сердце али булыжник заместо него?! Мужа твоего невесть куда послали, а ты мне тут дурочку из себя строишь! Ну и молодец, дочка, умница, хрен тебе в пятку! А про будущность свою ты думаешь али нет? Это с тремя-то ребятенками, куда ты денешься? Али, может, думаешь, мы до самой твоей старости с тобой валандаться будем?
— Что же я могу сделать, папа?
— Ты, дочка, очень даже много чего можешь сделать. Очень даже, я говорю! В нынешнее время и закон и все права на бабской стороне, али забыла? Ежели забыла, то вот тебе наука: муж твой, хоть и партейный. а от жены да от детишек родных отрывать его никакого такого права нету.
— Вот я и говорю: что мне делать-то?
— Ступай в обком, прямо к секретарю иди, не бойся. Расскажи ему все по совести, мол, так вот и так, сколько годов уж, мол, мой законный муж Саматов Халик Габдрахманыч работает на самых ответственных участках, и все такое. Сперва, мол, строил Балтийский канал, и еще в столице нефтяников Альметьевске, а также, мол, работал без роздыху, как велела ему партейная совесть... Значит, пора бы, мол, и осесть. Где неполадки да тяготы, не все же, мол, посылать Саматова Халика Габдрахманыча. Ежели спросят, кто научил, говори, сама знаю, про меня, смотри, не говори. Ты десять классов закончила, и всякое такое тебе знать полагается. Ну, иди-иди, будешь сложа руки сидеть — останешься вдовой при живом-то муже, слышь? Иди, скажи там — ничу, мол, мужа от меня отрывать!
Провожая меня в обком, он все же вдруг струхнул и обеспокоенно сказал:
— Ты там гляди, больно-то не зарывайся, потихоньку, полегоньку, учтиво и того... повежливей с ними. Там люди ученые сидят, головастые, сами поймут, что к чему. Ты, главное, с душой все это рассказывай... На прием я попала ко второму секретарю, но и перед ним растерялась вконец, стояла столбом, лишившись напрочь дара речи. Где уж там папина грамота! Свой ум и то куда-то исчез, будто и не было его вовсе.
В кабинете, от самой двери и до стола, — громадный красный ковер. Ой, лихо мне шагать по нему! На том конце стоит поджидаючи сам секретарь: не видал он таких пигалиц, как дочь Гибадуллы Рокия, как же!
Стоит молча, лицо круглое, гладкое, голова наголо обрита, костюм на нем — глаз не оторвать. А взгляд у самого острый, кажется, насквозь пронзает. Подошла я ближе, и дух захватило, не вздохнуть мне, не выдохнуть. Потом вроде немного оправилась.
— Саматова, — говорю и руку протягиваю. — Рокия Саматова.
— Добро пожаловать, — отвечает секретарь, здоровается, к столу меня подводит. — Жена Халика Саматова?
— Да.
— Рад с вами познакомиться.
— Спасибо, я тоже...
— Слушаю вас, Рокия-ханум.
— Мы, товарищ секретарь, долго уж по стране-то колесили, — говорю я. — Детей у нас трое. Халик Габдрахманович на войне контуженный... Да и не молод уже. В милиции сколько работал, потом на Балтийском канале, в Альметьевске еще, и я всюду за ним ездила...
— Если я вас правильно понял, Рокия-ханум, вы хотите, чтобы Саматов в Казани остался, так?
— Да, правильно. Устал ведь он, измучился. И не молод к тому же...
— Вы сами-то как живете... хорошо?
— Да... ничего живем...
— А вы не против того, чтоб и в деревне хорошо жили?
— Нет, конечно, пускай живут.
— Вот и отлично. Я еще отца Халика Саматова знал, даже товарищами были. Из соседних деревень мы, бавлинцы. Вместе с Габдрахманом-абзый колхоз организовывали там. И в партию вместе вступили. Шестеро нас было, шестеро товарищей. Четверых кулацкая пуля сгубила. Как же я могу уговаривать Саматова, чтобы он не ездил в колхоз? Выйдет тогда, что я изменю памяти погибших товарищей.
— Так что ж: где тяжело, туда Саматова! Один он, что ли, нет никого больше?
— Мы Саматова не принуждаем, Рокия-ханум, да только он ведь сам не останется. Не тот характер. И вся порода у них такая: не для себя, для людей живут.
— Да это я знаю. Уж и не надеялась, что смогу оставить его здесь, в Казани. Но... у меня все же трое детей! Куда я их там дену, в деревне? Опять клушкою в избе торчать, детишек Саматова стеречь?
Секретарь поднял трубку телефона.
— Наратлинский райком мне, пожалуйста. Наратлы? Секретаря райкома, Байназарова... Байназар, ты? Здорово! Начали тридцатитысячников встречать? Как там Саматов? Саматов, говорю, Халик. Майор милиции... А! В «Красную зарю», говоришь? Хорошо. Понял. Слушай, Байназар, у меня жена его сидит, Рокия-ханум. Надо бы ее тоже встретить. Что, что? А, ладно, хорошо? Да, трое детей... Как там ясли, детсад есть в «Красной заре»? Проконтролируй, пожалуйста! Да-да. Относительно работы тоже не мешает узнать. Подбери там что-нибудь. Что? Машину? Дадим. Одну машину, говорю. «Газик». А зачем туда легковую, для таких дорог «газик» — самое милое дело... Ну, лимузин! — Он прикрыл трубку ладонью, спросил: — Рокия-ханум, секретарь райкома интересуется, когда вы приедете.
— Завтра... — сказала я оробело, — нет, послезавтра... то есть через неделю!
— Через два дня, Галим Ахметович, — сообщил секретарь обкома в трубку. — Байназар, слышишь, через два дня, говорю. На самолет посадим. Всего хорошего. — Положил трубку, улыбнулся: — Вот так, Рокия-ханум. Успехов вам! Счастливого пути. Халику Габдрахмановичу от меня привет!
Домой я вернулась ошарашенная, но странно: на душе у меня сделалось как-то просто и спокойно. Не успела зайти к себе .в комнату, отец, просунув в дверь голову, посмотрел на меня с немым вопросом — я только махнула рукой. До позднего вечера стирала, штопала детскую одежду, собирала необходимые вещи и через два дня была уже вместе с ребятней на Каме, в колхозе, куда Саматова назначили (точный адрес узнала я тогда же в обкоме). В село попала как раз ко времени: в неказистом мрачном клубе, устроенном в. древней каменной мечети, шумела, волновалась огромная толпа — выбирали председателя.
Мне до этого никогда еще не приходилось присутствовать на колхозных собраниях. При виде людей, плотно набившихся в гулкое темноватое помещение, сердце мое по-ребячьи испуганно стукнуло — стало отчего-то страшно. Не-ет, там, где Халик до сих пор работал, оказывается, было не так уж плохо! Здесь же никакого порядка нет. Захотелось тут же повернуть обратно, уйти, от духоты и спертого воздуха закружилась голова, застучало в. висках, но меня стиснули, затолкали, протащили в самую плотную гущу.
В нестройном гуле толпы из отдельных выкриков я поняла одно: за последние два года в колхозе сменилось несколько председателей. И вот свалился на Голову невесть откуда новый, Халик Саматов...
Сельский парторг Хисами, явившийся на собрание при полном параде, позвякивал набором медалей, долго разъяснял колхозникам суть государственного Постановления о тридцатитысячниках. Закончил, облегченно вздохнул и спросил:
— Будем менять председателя?
Небритый, заросший густыми черными волосами, выскочил некто в потрепанной телогрейке.
— Меняй давай! — прокричал пронзительно. — Меняй к дьяволу. Будя! Колесной мази нету, колеса на ходу горят. Дай, просим у него, колесной мази. Навозом, грит, смазывайте. Не надо нам таких, чтоб над колхозниками насмехались!
Потом выступали другие «ораторы», некоторые отчаянно ругались и матюкались так изобретательно, что я, в конце концов, перестала краснеть — просто ничего не понимала уже. Чем завершилось собрание, не помню, — чуть ли не в полуобморочном состоянии выбралась из клуба на свежий воздух. Охватил меня страх перед будущим своим на этой неухоженной земле и еще жгучее желание уехать — зачем, зачем я потащилась в эту богом забытую глушь?..
Назавтра собрали правление, Саматову, новому председателю, торжественно вручили печать — знак высокой власти. По своей воле ведь приехал, никто не заставлял; всегда ему больше всех надо было.
— Где бывший председатель?
— Уехал в район, домой.
— Кто заместитель председателя?
— Вон, Шариф Искандеров.
— Шариф-ага, — говорит Халик человеку, в жаркий летний день одетому в теплую шапку-ушанку, — пока я знакомлюсь с хозяйством, будете за председателя. Не робейте, ошибетесь — не беда, посоветуемся, исправим.
Смех один! Прежде чем исправлять, надобно же знать еще, в чем случилась ошибка! В колхозе имеются три автомашины: ободранная, чуть живая полуторка, грузовик поновее да полуразбитый «газик». Поутру заглянул к нам шофер, плутоватый парень Салахи, оглядел, зажмурив глаз и скептически подняв белесую бровь, детишек моих,-коих полна изба, и повез Халика на колхозные луга. Вернулся Саматов, а на темечке у него вздулась шишка с куриное яйцо, хорошая такая гуля. Это шофер Салахи ему удружил. Поехал прямиком через канаву, Халик и припечатался головой к железной трубе, которая проходит по потолку кабины! Ну и правильно, не суйся впредь куда не следует. Нашла же я ему место в Казани: отличное место; коммерческий директор — фигура! Ездил бы сейчас на ЗИМе по асфальтовым шоссе, и шишек бы не было.
На следующий же день Халик помчался в конюшню. Видать, на «газике» не очень-то, хотелось трястись.
— Кони есть?
— А как же! Жеребец имеется, ишо не запрягали.
— И седло к нему найдется?
Четверо мужиков в страхе выводят из стойла вороного жеребца, седлают его на дворе, усаживают Халика и разбегаются — ну-ка, мол, ретивый дядя, где ты себе шею свернешь? Как услышала я такие страхи, чувствую, сердце у меня оборвалось, закатилось куда-то, не выдержала я, понеслась стремглав на улицу. Что ни говори, а мужа-то жалко. Стою — трясусь, жду, когда прибегут сказать, что Халик разбился. Мимо мальчишки шмыгают, вопят чуть ли не радостно:
— Вороной жеребец Саматова в поле уволок!
— Вороной в поле ускакал!
Через час примерно возвращается Халик, ведет на поводу взмыленного коня.
— Посмеяться захотели, балбесы этакие. Не на того напали. Не знают, дураки, что я в артиллерии еще почище зверей видывал. Одного боялся: как бы не слететь с него посреди улицы. Нет, есть пока, значит, порох в пороховницах. Выскочили мы это в поле — дал я ему волю, эх и понесся, черт! Чуть районный центр не пролетели, прямо ураган. Ну, на обратном пути, видно, устал. Остановился у ямы там одной, стоит, я сижу, смотрю, чего будет делать. Оборотился он, ухватил меня зубами за галифе да стащил на землю: покатался, мол, хватит! И не дает сесть, стервец такой! Ну, ладно, надо отвести, сдать его конюхам-. Скажу: лошадь у вас ничего, нате, да смотрите за нею получше...
Вид у него был — не приведи господь, будто только-только из молотилки вынули. Все же жеребца на конюшню отводить пошел сам, принципиальный то есть. Смотрю ему вслед, и такой он родной, такой близкий — я даже слезу пустила, как дура. Да уж больно прост душой Саматов-то мой, говорю...
Вернулся он, зашел в избу, умылся, как раз и время обеденное подоспело. Вдруг вижу: заместитель его пылит, Шариф Искандеров. Борода у него жиденькая, рыжеватая, стоит — дергает себя за бороду:
— Товарищ персидатель! Механизаторы обедать просют.
— Ну так сготовьте, — говорит Халик, — разве ж это такое дело, Шариф-ага, чтоб у меня спрашивать?
Снял заместитель шапку-ушанку, подул в нее, опять надел да еще глубже надвинул:
— Так ведь того... Нету.
— Чего нету?
— Муки нету, вот чего.
— В сельпо спросите!
— Просили... не дают.
— Скажите, мол, с нового помола вдвойне отдадим. Муки-то — вон, все поля в хлебах.
— А сколько... это... просить?
— Сколько муки на день требуется?
— Ну, я так мыслю, не менее пяти пудов, а может, и чуть больше.
— Просите пока тонну.
Прошло два дня. Саматов мой собрался отправлять на элеватор госзадание — первые подводы с зерном. В избу к нам с раннего утра прибежала бухгалтер, молодая еще женщина Салима.
— Товарищ Саматов! Мешков-то нету.
— Куда же они подевались?
— Известно, шофера да грузчики порастащили.
— Поклеп! — сказал ей Халик, добавив в голос металлу и строгости.
Но бухгалтер Салима не оробела, напротив, подошла близко к Халику и заговорила доверительно, шепотом :
— Товарищ Саматов, поверьте, я вам только хорошего желаю. Видно же, что вы работать приехали, а не просто так. Поэтому должна вас предупредить кое о чем. Село наше, Тазабаево[40] — испокон веку воровское. Исстари ведется. Здесь коров умудрялись в лапти обувать, чтоб, значит, не слышно было, когда из хлева выводят, да чтоб следов не оставить. Если вы, прежде чем приняться за дело, не узнаете хорошенько, кто из селян особенно на руку нечист, помяните мое слово: они вас посадят в лужу.
— Хорошо. Буду иметь в виду. Сколько надо на мешки?
— Четыреста рублей хватит, наверное.
— Рокия, отсчитай, пожалуйста. Когда с банком дела наладятся, возьмем обратно из колхозной кассы.
Я отсчитала из наших подъемных, дала. Знала бы, как дела обстоят, получил бы колхоз от меня эти денежки! Оказалось, он в долгах, как в шелках.
Халик с головой погрузился в изучение экономики. Все ночи теперь над таблицами да диаграммами просиживает. Придет к нему иной раз светлая мысль, так он меня будит, делится со мной своей драгоценной задумкой. А мне одного хочется: спать — и от такой его настырности мне сплошное неудобство.
— Пять тысяч двести пятьдесят гектаров пахотных земель — это много, — слушаю я, ничего спросонок не понимая. — На сегодняшний день, при создавшихся условиях — много до глупости. — Он ходит по избе, скрипит половицами; мне хочется бросить в него подушкой. — Всего пятьсот дворов. Все они собраны в одном селе. Вот это уже хорошо: можно всех до единого поднять, когда нужно на колхозное собрание. Надо бы новый Дом культуры выстроить, для пятисот дворов это не жирно. Крупного рогатого скота — около двухсот голов. Точнее, сто девяносто три вместе с бычками и телятами. Тьфу! И это у них называется ферма? Позор, да и только. Чего, спрашивается, смотрели, думали, дядя чужой им прирост обеспечит?! Урожай снимают — семь центнеров с гектара. Тьфу, опять-таки. Смешно ведь на самом деле? На фураж да на семена и то не хватит. А как же колхозник?
Удобрения на поля не вывозятся, навоз зазря гниет — все на авось! Вот и дожили: на трудодень по двести грамм!., и ни копейки деньгами. Говорят, в Тазабаеве — одни воры. От роду, говорят, так ведется. Воруют, мол, и баста. А тут еще и война. Кое-кто из мужиков совсем избаловался — сладу нет, говорят. Ну-ну, поглядим. В хлеву скотина голодная ревет. Жить-то всем хочется.
Саматов марширует по избе почти до утра. Я засыпаю, дальше он разговаривает уже сам с собой — меня это наконец начинает пугать: доходится, думаю, договорится... Пора, пора увозить его отсюда, только бы предлог похитрее найти. Но у Халика одна забота: Тазабаево да отстающий колхоз. И на следующий день опять будит он меня среди ночи, опять рассказывает мне неинтересные, после сладких-то снов, хозяйственные рассказы:
— Рокия, послушай-ка. Спишь, что ли? А ведь бухгалтер Салима правду тогда говорила. Меня, помню, в райкоме еще предупреждали: в Тазабаеве вор на воре сидит и здоровенным вором погоняет. Ты, мол, это знай да на ус мотай: опыт у тебя есть, и не нам, мол, тебя учить, как с нарушителями управляться... Секретарь райкома Байназаров машину мне обещал, ГАЗ-69, так ведь пришла она, слышишь? Салахи я прогнал к черту. Дрянной парень. Нового шофера взял, Файзи зовут, весельчак! Оптимист большой. В армии еще водителем служил, отлично водит. А кроме всего прочего, знает каждого на селе как свои пять пальцев: у кого какой характер, кто на людях тороват, на безлюдье вороват, в общем, не шофер, а настоящая находка для меня. Я ему говорю, если, говорю, поможешь, в колхозе у нас будет полный порядок. Смеется. Ладно, едем мы на поля, нам навстречу — дядька с подводой. «Кто это?» — спрашиваю у Файзи. «Садри-абзый»,.. — говорит. «Как у абзый насчет?..» — «Ворует малость». Останавливаем абзый. На подводе у него солома набросана.
— Товарищ персидатель, — моргает жалостливо абзый, — сделай милость, разреши уж маненько соломы-то домой увезти. Крыша на хлеву вконец прохудилась, я, чай, от нужды взял, а не для-ради баловства.
— Ладно, — отвечаем, — под соломой-то у тебя что?
— Нету, — говорит, только у самого вдруг глазки забегали, — как перед господом богом, ничего нету.
Разворотили мы солому, а под нею два мешка ржи спрятано. Езжай, говорим, теперь не до хлева, а до колхозного амбара, сдашь там чин по чину — не забудь бухгалтеру квитанцию отдать. Матюкнулся он, да поехал. К амбару поехал. За неделю Халик накрыл с поличным человек восемь—десять. У Закира, сына Яруллы-печника, аж целую тонну пшеницы нашли. В народе сельском стали поговаривать, что все это от того, мол, что Саматов раньше в милиции служил, на аршин в землю видит, и ни одному вору от него не укрыться. Молва людская от каждого вздоха пухнет, стал Саматов — гроза воров — чуть ли не местной легендой.
Рассказывали по селу, как однажды ехал он на подаренной райкомом машине по дороге с колхозных полей. Въезжает в деревню, видит — к одному двору ведет след от подводы, и ясно так на траве отпечатался, видать, была та телега тяжело нагружена. «Стоп, Файзи, — говорит Саматов, — тут что-то нечисто». Останавливает машину, берет с собой шофера и заходит прямо в ворота. Тут баба, которая на дворе хозяйничала, начинает, конечно, суетиться и говорит, мол, заходите-проходите, дорогие гости, прямо ко времени угадали, только-только картошка у меня поспела. Сей минут, говорит, сбегаю к соседям, спрошу хлеба в долг; откушаете вареной картошечки — очень даже вкусно. Ничуть, говорит, не беспокойтесь, сосед наш, Гафият, в мэтээсе работает, так у него зерна этого полны закрома, не должно, говорит, такого быть, чтоб у него да хлеба не оказалось.
Будь кто другой на месте Саматова, так, пожалуй, сказал бы «благодарствуем» и пошел восвояси. Но Саматова на мякине не проведешь! Он нюхом чует, что тут пахнет не жареным, но, может, чем и похуже. Ох, говорит, тетка, спасибо тебе за приглашение, откушаем с нашим удовольствием, а как же: вареная картошка — это, можно сказать, наше любимое кушанье! Но сам тем временем шагает, не сворачивая, к лапасу[41], и шофер Файзи от него тоже не отстает. Заглядывают они, значит, с интересом в лапас, а там чуть ли не доверху навалено мелкой соломы, которую обычно скашивают со жнивья.
— Ты уж, персидатель, не гневайся, — говорит ему баба, будто бы пригорюнясь — сын-то мой, Гарапша, все на обчественных работах, дома почитай что и не видно его. Вот я и сходила на жнивье, нажала там что смогла серпиком, авось хватит буренке нашей на зиму...
— Ничего, тетка, ничего! — отвечает ей Саматов. — За жнивье тебя журить не стану. А соломки тут на трех буренок хватит, да еще, пожалуй, на козу Дуську останется...
Говоря же все это, продвигается сам по лапасу и палочкой, которую подобрал с умыслом на дворе, тычет незаметно во все стороны. Надо же такому случиться, что сидит на его пути в соломе рябенькая клушка на яйцах и, будто учуяв в Саматове человека опасного как для нее, так же и для будущего ее потомства, волнуется чего-то и начинает кудахтать. И с каждой секундой кудахчет все сильнее.
Тетке же только того и надо.
— Ах вы, охальники! — шумит она громче своей курицы. — Это чего же вы такое вытворяете там с Пеструшкой? Среди бела дня, и ни стыда у вас ни совести! Думаете, вдова, так надо мной измываться можно?!
А мысль у ней в голове такая, что хорошо бы соседей собрать да председателя поскорей из лапаса выставить. Желательно, конечно, чтоб с позором. Но Саматова никакими провокационными курицами не испугаешь! Таких штучек он еще в милиции насмотрелся.
— Извиняйте, тетушка, вину свою признаем, — говорит новый председатель и пристально глядит на клушкино гнездо. — Впрочем, сами мы тут натворили, сами и на место поставим! — с этими словами лезет он безбоязненно под давешнюю Пеструшку и... достает на божий свет яичко, одно всего, но сильно большое: мешок пшеницы пудиков этак на пять.
«Саматов — он, как овчарка, по запаху слышит, ежели где уворованное лежит», — от таких разговоров пропавшая у некоторых селян совесть становилась неожиданно на свое место. В избу оскорбленной вдовы Халик тогда же пригласил понятых, и в подполе ее, в лапасе, на чердаке и в чулане было найдено еще двенадцать мешков колхозного зерна.
Таких шустрых «колхозников» набралось по всему Тазабаеву чуть ли не десять человек. Двоих, самых отъявленных, увезли в район; был суд, и воров посадили. Село вдруг притихло: прекратились ночные вылазки, с дорог поисчезали конные подводы, перевозившие уворованное с колхозных полей. Но я видела, что тишина эта нехорошая, озлобленная; и мне не верилось, что Халику простят его слишком уж рьяное рвение. У тех, кого посадили при самом горячем содействии Саматова, на селе остались родные, дружки; наверное, ему еще попытаются отомстить!
И точно: так оно и получилось... Как-то вечером собирала я к приходу Халика на стол, вышла было в сени за молоком (мы его на холодке там держали), слышу — у крыльца нашего перебранка, и голос чей-то злой такой, а моего Саматова еле слышно.
Выскочила я из избы, гляжу, а это шумит дядя наказанного вора Гарапши, кряжистый мужик Мубаракша. Навеселе, видно, но на ногах еще держится крепко.
— Ступайте домой, проспитесь, — говорит ему Халик, — вы пьяны!
— Ладно, без сопливых скользко! Поговорить надо.
— Завтра в правлении поговорим, — не соглашается Халик и пятится потихоньку к двери. Я стою ни жива ни мертва, тут он меня увидел, махнул рукой: мол, иди в дом, у нас все в порядке. Где уж там в порядке! Смотрю, у Мубаракши лицо перекосилось, глаза страшные — лезет, как бык, на Халика и ревет:
— Ну, гляди, курва! Отольются кошке мышкины слезки... Да мы на таких законников, как ты, чихать хотели, вот я тебе хобот-то счас на бок сворочу!
Халик спорить с ним не стал, видно, заметил, как Мубаракша вытянул из-под телогрейки какую-то железяку (хотела я «караул» «закричать, да голос пропал) . Отступил он еще дальше, уперся спиною в дверь — чуть успела я отскочить — и остановился. А Мубаракша все надвигается, шкворнем полупудовым замахнулся, тут Халик ка-ак пнет его пониже живота — Мубаракша аж в воздух подлетел. Шмякнулся он в шагах трех от крыльца на землю (шкворень и того дальше), уснул будто и даже не шелохнулся ни разу. Я перепугалась: думаю, господи, а не убил ли Халик этого детинушку?! Уж больно здорово он угостил его, запросто мог и скончаться Мубаракша, вон ведь словно и не дышит! Подбегаю — нет, живой, только без памяти. Тут и Халик подоспел, ухватил его за воротник, подволок к воротам да и выбросил с разгону на улицу.
Я ударилась в панику: а ну как Мубаракша в район поедет, жалобу напишет, в суд подаст?
— Не подаст, — успокоил меня Халик. — Шкворень видала? Тут ему самому непоздоровится, думаешь, он этого не понимает?
На другое утро Мубаракша, как рассказывали, пришел в правление, сильно хромал и перед всеми, кто там был, стал просить у Халика прощения. «Ты, персидатель, чутка меня вчера покалечил, и правильно сделал, мол, так мне и надо...»
— А ты кто такой? — сказал ему Халик. — Я, брат, тебя в первый раз вижу.
Тут народ, собравшийся в правлении, так и покатился со смеху, а Мубаракша, не выдержав града насмешек, убежал домой. И целый месяц еще, встречаясь со мной на улице, он угрюмо отворачивался, сопел, молча проходил мимо; потом все же отошел, начал как-то приветливо здороваться — я, удивляясь неожиданной перемене в нем, спросила Халика, не знает ли он причины, Халик серьезно объяснил:
— Человек ведь он. Значит, как и любой другой, смог разобраться наконец, где правда, где кривда. Приходил ко мне в правление, поговорили мы с ним с глазу на глаз, покаялся он во всех грехах; я, говорит, самый матерый вор на селе. До тебя, говорит, мы председателям, которые нам мешали, отбивали всякую охоту председательствовать. Ну, говорит, ты меня крепко проучил. Мое слово, говорит, твердо: воровать брошу, стану твоим первым помощником!
Бросил он с тех пор воровать, нет ли, но первым помощником Саматова действительно-таки заделался. Драчливый мужик Мубаракша, к вящему удивлению Халика, показал себя мастером на все руки: он тебе и самолучший плотник, и столяр искусный, колесник, да еще в кузнечных хитростях куда как силен. Словом, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Дуда у него, правда, была на полпуда — тяжеленька! Ну, на дуде той играть он раз и навсегда бросил, и никто его после этим не попрекал: кто старое помянет, тому глаз вон! А поставили Мубаракшу, по совету председателя, завфермой, потому — в скотине он толк понимал и возиться с нею умел и любил. Неугомонный же оказался человек этот Мубаракша-абзый, просто диву даешься! Кто чуть ли не каждый день маячит до рассвету еще под нашим окном? Мубаракша! — заря, мол, деньгу дает: «Вставай, персидатель, дело делать надобно...» Соломы ли завезти на фермы, пока ведро стоит, сеном ли коров обеспечить, овчарню там заново перекрыть или еще что — не слезает Мубаракша с Саматова, прямо поедом ест, долбит и не дает председателю никакого покою. Я уж, грешным делом, подумала: с чего бы это стал он этакий рачительный до колхозного? Может, прикидываю, загонять решил Халика или сбить с панталыку в отместку, за то, проигранное им и якобы забытое, столкновение? Спросила у Халика, он говорит — брось ты, мать, с чего тебе такое в голову пришло? Совесть в человеке пробудилась; столько времени без дела была, конечно же, теперь рьяность в нем и гонит, через край ее расплескивает.
А помощников чистосердечных, преданных оказалось у Халика даже двое: если одним стал по-крестьянски хозяйственный, по-хорошему расторопный, «практичный» Мубаракша, то вторым — молодой парторг Талгатов, тоже, как и Халик, юрист, студент четвертого курса. Часто собирались они у нас в избе, в боковушке большого дома, на протяжении вот уже десяти лет переходившего непременным наследством от председателя к председателю; курили там задумчиво, утопая в клубах вонючего махорочного дыма, — Мубаракша-абзый никаких «пипиросок» не признавал — и подолгу, иногда ночи напролет, мечтали (с какой-то удивительной, непреклонной верой в осуществление) о будущем расцвете Тазабаева, о том, как выйдет родной колхоз на просторную и почетную дорогу образцового хозяйства. Порой кричали, шумели и спорили. Первым обычно заводился «практичный» Мубаракша; голосом хрипловатым, густым, исходящим словно бы со дна глубокого колодца, говорил он неперебиваемо, коротко, словно бухая молотом в гулкую землю:
— Лен надобно сеять, вот чего. Удмурты тому примером. Персидатель ихний, Гаврила, твердит как заведенный: «Где лен — там мильен!» Вот и ступай к Гавриле, побалакай. Узнай толком, по каким он книжкам лен тот сажает. Нынче вся премудрость через книгу идет!
В гудящий бас завфермой вплетался быстрый, оживленный говорок Талгатова:
— Правильно рассуждаешь, Мубаракша-абзый! Слышишь, председатель: а ведь лен нашу экономику действительно здорово укрепит. Что касается зерновых, так невозможно же за короткий срок резко поднять урожайность. Пойми ты меня правильно. В наших условиях, говорю, невозможно! Ни удобрений, ни техники, какой требуется, — разве ж мыслимо голыми руками?.. Энтузиазма в колхозниках пока маловато, вот и надо делать что-нибудь такое, что заставило, бы их твердо поверить в реальность результатов своего труда. Пока весьма тяжелого, надо заметить! А к Гавриле сам поеду. Сын его, Леша, вместе со мной учится, так я попрошу, чтобы он заранее предупредил отца о нашей нужде. Так вернее будет. Потом: ждать, когда разживемся, удобрениями, смысла нет. Надо уже сейчас укреплять землю, а единственный разумный метод — посеять на больших площадях многолетние травы!
— Семян-то кот наплакал.
— У «Пахаря» одолжим. Центнеров шесть; нам больше пока и не нужно. Через три года семян хватит на пятьсот — шестьсот гектаров, помяни мое слово! На днях приезжал оттуда председатель, из «Пахаря» то бишь. На мой банковский счет, говорит, арест наложили, ты, мол, юрист, научи, что делать, в долгу не останусь. Вот и поймаем его на слове! Я ему показал, как из передряги выкрутиться, — он рад был!.. Думаю, даст без уговоров.
И так вот без конца без краю. Я, стараясь отвлечься от их утомительного, скучного разговора (мало чего я тогда понимала), прислушиваюсь к шорохам и звукам, долетающим с ночной деревенской улицы. Заблудившаяся у нашего дома плакучая ива чуть стонет в порывах ветра. Где-то недалеко, в кустах, заливается соловей: беспечный! Была бы ему ветка, куда опуститься, да утро, которое петь... Эти тоже — сидят тут, размечтались, а через несколько часов в правлении, на полях, фермах и полевых станах будут работать и биться с людьми, для которых пока прежде всего — свой собственный завтрашний день, оберегаемый в отчаянных и близоруких спорах с бригадирами и председателем. Такова уж жизнь: ни единого дня она не дарит нам без труда и хлопот, ни единого беззаботного, бессуетного дня... Бессуетного?
Есть же на свете люди, которым живется легко и беспечно, у которых никогда не болит голова от противоречивых мыслей?! Школьная моя подруга, Мухлиса, уехала в Ташкент, вышла там замуж за узбека, пишет довольные письма: «А у мужа моего Алима сад плодовый на полгектара, снимаем богатый урожай, для себя ставим свое собственное вино. Вкусное! Еще муж купил недавно новую машину, «Победу», и пристроил к нашему двухэтажному дому закрытую веранду и балкон...» Везет людям: и мужья хорошие — удачливые — находятся, и судьбой своей умеют как получше распорядиться — эх!.. Не досталось на мою долю такого счастья! Загубила с чудаком Халиком свою молодую жизнь, теперь уж осталось только терпеть да вздыхать по ночам: не биться же головой об стену. Все колхоз ему, все о людях беспокойство, а я ему не люди, что ли? А дети его не люди? Что ни день — то нам печаль-забота, что ни вечер — тоска-кручинушка... Ишь, как соловей заливается, певун предрассветный. Мухлиса-то, верно, слушала б его трели с большущим удовольствием. Я живо представляю себе смугло-румяное, загорелое на жарком солнце того благодатного края, цветущее лицо ее — с черными, насурмленными стрелками соединенных на переносье бровей, с радостно сияющими глазами; вижу ясно, как сидит она в пестро-парчовом узбекском халате на пристроенной верным мужем широкой веранде и любовно оглядывает целый выводок детей, щебечущих вокруг нее, ласково усаживает их на колени и кормит хурмой. Отчаянно, безнадежно завидуя счастью этой Мухлисы, я еще долго не могу заснуть на своей высокой деревенской кровати...
Так вот, желая возродить в своих колхозниках энергию и доверие к труду колхозному, пытаясь установить высокую справедливость, Саматов мой одержимый угодил-таки в набежавшую беду. Оказалось, что существует некое, отчасти запамятованное прежними председателями, но тем не менее остающееся в законной силе, право: во время выполнения госзаданий обеспечивать хлебом также и колхозников, как мне потом разъяснили, пятнадцать процентов от сданного государству зерна. Халик мой и решил, что руководители колхоза должны воспользоваться указанным правом, и не просто должны, а обязаны. До него же ни один из председателей не выполнял до конца свой, по мнению Саматова, долг; объяснялось же это очень легко: после сдачи зерна государству хлеба просто-напросто мало оставалось. Урожаи не те были. Но Саматов упорно добивался доверия людей, упорно пытался поднять дух колхозников на высокий уровень воодушевления. И когда он окончательно запутался в этих символических процентах, умную головушку его вдруг осенило: выдать работникам колхоза пятнадцать процентов не из того хлеба, который остался бы после выполнения госзадания, а исходя из предполагаемого урожая, раздать людям хлеб уже сейчас, из наличествующих запасов. Короче, Саматов каждому колхознику на трудодень определил по килограмму хлеба — по существу еще не сжатого и даже не обмолоченного. Зерна хватило с лишком; на остатки же Саматов законтрактовал сто голов крупного рогатого скота.
Я в то время уже устроилась работать в отделе кадров местного МТС (Максимка наш подрос и теперь мог оставаться с Джаудатиком, когда Марат уходил в школу), а суть этой, по выражению директора станции Хамзы Сафича, непозволительной выходки председателя стала ясна прежде всего как раз моему руководству. Хамза Сафич относился ко мне с заметной симпатией, поэтому он вызвал меня к себе в кабинет и по секрету предупредил о неправильных действиях Халика, сказав еще напоследок, что если Саматов по своей доброй воле не сообщит в райком о допущенной им ошибке, то, судя по всему, не миновать ему страшной взбучки и даже, может... суда. «Тридцатитысячник он или нет, не посмотрят. За самоуправство по головке — гладить не станут», — заключил, явно переживая за меня, Хамза Сафич.
Ну и перепугалась я! Аж ноженьки мои подкосились. Чуть дотерпев до обеденного перерыва, помчалась домой; контора МТС находилась неподалеку от нашей неказистой избы, поэтому я добежала на едином дыхании — быстро. Халик оказался дома, обедал. Задохнувшись, я упала на стул и, чуть не плача, просветила мужа насчет его роковой ошибки.
Он слушал меня как-то невнимательно, ничуть не заинтересованно, хмуря темно-русые брови. И мне вдруг стало понятно: Халик, раздавая колхозникам хлеб, отлично сознавал, на что идет, и лишь нарочно прикидывался неосведомленным. Ох, горе лыковое!..
Через два дня его спешно вызвали в район. Я почему-то была уверена, что Халика даже не отпустят домой — в суд дело передадут и объяснений не выслушают. Горько было за него, но еще больше жалела я себя. Что ему! Накажут — и в ус не подует. Пожалуй, еще в грудь себя станет стучать: я, мол, за правое дело пострадал. Мне-то что прикажете делать? С тремя-то детьми?!
Представила я себе ожидающую нас беду, и холодный пот меня прошиб, и в жар кинуло, и голова заболела — словом, хворь от страха напала. И о чем только думает, болван этакий, хоть бы обо мне да о детях вспомнил, коли уж себя не жалеет!
Было, помню, близко к полуночи, когда к воротам нашим подкатила автомашина. Я как угорелая метнулась на улицу: из кабины грузовика, живой и невредимый, вылезал мой Саматов. Подскочила я и бросилась к нему на грудь:
— Что же ты натворил, бедолага ты мой?
— Ради бога, не поднимай ты посреди улицы такую панику, — сказал он как всегда доброжелательно, но твердо, отчего мне сразу полегчало: значит, все обернулось не так уж плохо.
— Ну, говори же, не трави душу! — ожила я и, забыв о том, что он, скорее всего, вернулся голодный и усталый, затеребила его, не давая пройти к дому.
Халик усмехнулся.
— Колхозник наш теперь с хлебом, а я — со строгачом, — голос его при этом был так спокоен и тепел, словно он получил высокую награду за хороший и правильно оцененный труд.
На этом, к счастью, история с несвоевременной выдачей хлеба окончилась, но немало еще Халик заваривал подобных дел, помотал мне нервы. Например, затеял «принципиальный» спор с МТС, переросший чуть ли не в скандал районного масштаба. И, конечно, поскольку я работала в аппарате Хамзы Сафича, хуже всего пришлось именно мне.
А получилось так. Натуроплата механизаторам начислялась тогда с обработанного гектара — ладно, передовой комбайнер Сабир, скажем, будучи парнем толковым и шустрым, скосил рожь с тридцати двух пресловутых гектаров; выплати ему Халик по установленному порядку, так он должен загрести тридцать два центнера зерна, по центнеру, то есть, с гектара, правильно? А хлеба-то у него с этих гектаров получилось всего что один полный бункер. Вот Халик и взбунтовался: не буду, говорит, платить с гектара. Если, говорит, так выплачивать, колхозник наш в дураках останется, ведь это же, говорит, настоящий грабеж. С каждого центнера убранного хлеба — пожалуйста, говорит, заплачу, поскольку так по справедливости выходит. А Хамза Сафич ему: плати, и все как положено, для тебя одного, что ли, закон не писан...
Халик тогда, не долго думая, мчится в райцентр и уламывает начальство принять госпоставку: потому — с госпоставки, что ни говори, приходится по пяти рублей с каждого центнера, какой-никакой, а колхозу доход! Но только было завелись в колхозной кассе деньги, Хамза Сафич тут как тут: иди, говорит мне, узнай у Саматова, что такое? Почему от Тазабаева в МТС хлеб не поступает?
— Халик, — говорю я уныло, мне уж и плакать-то невмоготу, — ну, почему тебе всегда больше всех надо? Почему мне от тебя сплошные неприятности? Для тебя что, особый закон писан? Везде платят с гектара, так чего же ты ерепенишься? Нашелся умник тоже, все хочет по-своему делать! Ты, наверно, опять назло мне делаешь, да? Пускай, мол, с работы ее попросят, пускай директор Хамза Сафич ее невзлюбит, житья ей не даст, так что ли? Вижу ведь, ты для того и стараешься!
Я, конечно, знаю, что слова мои только от злости: я не права. Мне тоже хорошо известно, что Халик делает это не нарочно, однако... сердце мое кипит, переполнено горячей обидой — нету мне с ним никакого покоя, — и я продолжаю выплескивать на его голову скопившуюся на душе обжигающую женскую укоризну. Он слушает меня удивленно, вскинув брови, по продолговатому лицу его пробегают недоуменные тени, и подрагивают крылья тонкого прямого носа. Наконец, не выдержав, он негромко обрывает:
— Ну, хорошо, мать, на сегодня достаточно. Остальное завтра договоришь, ладно?
Временами, когда я остываю и от сердца моего отлегают обиды, — перехожу я вдруг полностью на сторону Халика и, чувствуя неожиданное облегчение, перехожу, принимаю твердую веру мужа: беспокоюсь о его заботах, детей наших, попавших из удобной Казани в это неудобное сельское житье, стараюсь воспитывать примером Саматова. «Отец ваш работает не щадя себя, — говорю я им, — неспокойная душа он, ваш отец, всегда белеет за общее дело!» Страстно хочется мне в такие минуты уверить не только их, но и себя, что Халик поступает правильно, что он одаренный, сильный, незаурядный человек... А еще хочется сказать об этом во весь голос, чтобы слышали меня тазабаевские колхозники. Впрочем, они, кажется, узнали Саматова и без моих объяснений, на работу выходят куда охотнее. Еще бы, на селе только и разговоров, что Саматов сильно поднял цену трудодням, — теперь, конечно, и работать стало веселее!
Лен от удмуртского председателя Гаврилы привезли, засеяли на двенадцати гектарах.. Когда сняли урожай, семян оказалось довольно много; на этот раз засеяли гектаров семьдесят пять, и новый урожай дал колхозу двести пятьдесят тысяч рублей чистой прибыли. Деньги эти, после долгого и горячего совещания с «практичным» Мубаракшой и Талгатовым, Халик внес в банк по статье «спецучет». Таким образом, дескать, можно будет и в дальнейшем увеличить стоимость трудодня. Но польза от гавриловского льна на этом не исчерпалась: «льняные» деньги внесли в жизнь колхоза много новшеств, например радиофикацию. Наряды стали передавать по радио, и спешные приказы добирались до людей также через репродукторы; животноводы приободрились — на трудодни им впервые выдали немалые денежки.
Я потихоньку, но от души радовалась. Налаживаются дела у моего мужа, у родного Саматова! Тьфу, тьфу, не сглазить бы только. В те годы находились люди, которые выдумывали что-нибудь новое, неосвоенное и, не учитывая условий, пытались это новое в жизнь протолкнуть. Были такие и в нашем районе. Упаси нас господи от этого — молила я! Господь, однако же, не упас... Ведь все, казалось бы, поустроилось, колхоз твердо встал на ноги, так нет: получаем из района приказ — разводить кроликов и водоплавающую птицу. Что ж, делать нечего, засучили в нашем колхозе рукава и взялись разводить эту живность; прошлись по всем до единого дворам, собрали у кого сколько было по контрактации кроликов и гусей, а главным по новой затее поставили сына Мубаракши, молодого Сулеймана. Во-первых, мол, животных страсть как любит, а во-вторых, это... как его... энтузиаст! Помещение конторы одной из бригад превратил в «кроличье общежитие», заселили туда пятьдесят штук кроликов, какие нашлись, объявили это заведение опытной фермой, наипервейшей по всему району, и — покатилось! Точь-в-точь как снежный ком с горы, честное слово. На базе нашей фермы собрали мигом районный кустовой семинар; энтузиаст Сулейман и кроликовод Вагиз стали делиться своим богатым опытом с понаехавшими председателями и заведующими кроличьими фермами; те уважительно внимали, исписывая толстые тетрадки; районная газета посвятила руководителям «Красной зари» большую хвалебную статью.
Саматов, однако, вижу — отчего-то ходит хмурый. Молчком. Не разговаривает даже толком, я удивляюсь, думаю: «Чего же это с ним? Или не нравится, что хвалят? С него станет и такое!» Как-то слышу, Халик разговаривает с птичницей Мубиной.
— Халик Габдрахманыч, — говорит ему Мубина, — вот вы умный человек, — и допускаете глупое дело. Почему? Куриные яйца нам, скажем, немалый доход приносят, а только гуси-то его сжирают начисто. Собрали у колхозников пятьдесят гусей, ладно, но гусят вылупилось всего семь штук — ведь это же курам на смех, а нам в убыток!
— Не шуми, Мубина, зачем шуметь? — отвечает ей Халик. — Живность гусино-кроличья нам славу принесла, забыла, что ли? «Красную зарю» теперь по всей республике знают — им надо памятники установить.
То ли шутил, то ли всерьез, не поймешь его иногда...
А в колхоз привезли еще и две тысячи инкубаторских утят — к осени рукава и заливчики реки Иж густо и крякающе побелели. Фотографы приезжали из самой Казани, щелкали беспрестанно аппаратами, были деловиты и налегали очень на свежие деревенские продукты. Кролики все как на подбор стали жирны, числом долюбились до ста пятидесяти штук. Халика везде хвалили: в районной газете — Саматов, в областной — Саматов, в общем, кругом Саматов, ура! Только вот сам Халик чего-то понурый ходит, точно погорелец какой... Причина? Есть. В правлении, оказывается, подсчитали и получили: сто пятьдесят кроликов, дружно налегая, слопали клеверу больше, чем сумели бы сделать в те же самые сроки пятьсот овец; водоплавающей птице скормили столько разного корму, что выручка за мясо всех уток и гусей, если, конечно, его купят по оптимальной цене, могла покрыть лишь одну третью часть расходов. Вот это новшество!..
Халик собрал расширенное и срочное заседание колхозного актива; прочитали они там внимательно брошюру какого-то знаменитого академика и выискали в ней категорическое заключение: для разведения кроликов необходимы специально оборудованные фермы, водоплавающую птицу имеет смысл разводить лишь в определенных районах и не менее определенных условиях. Немедленно и безоговорочно поверив утверждениям академика, правление решило впредь подобные непродуманные действия не предпринимать, а «золотых» (если судить по тому, как дорого они обошлись колхозу) кроликов, уток и гусей медленно, но верно свести на ровный нуль. Пусть, мол, Иж-река вернется к своему прежнему цвету; оно хоть и не так красиво, да зато дешевле. Сказано — сделано. И... как рукой сняло шумиху вокруг Саматова. Впрочем... одна статья в районной газете вскоре появилась — под обличающим названьем «Травопольный король» и посвященная все тому же Халику Саматову. Из района примчались возбужденные представители и заставили у них на глазах — чтоб неповадно было! — перепахать заново земли, засеянные клевером. Халик, однако, на свой страх и риск в укромном месте, за дальним Жайлангарским лесом, сумел уберечь-таки от них приличный кусок клеверного поля гектаров этак на триста.
«Польза» уничтожения травополья в нашем колхозе сказалась весьма скоро: колхоз, вышедший было по сдаче молока на одно из первых по области мест, вдруг заметно отстал. Из соседнего колхоза имени Фрунзе — там дела обстояли иначе — привалила к нам радостная делегация и унесла переходящее Красное Знамя, завоеванное Халиком в упорной и вдохновенной борьбе.
Ну, что было — то сплыло, и начали уж забывать об этих событиях, когда пришло настоящее, почти стихийное бедствие: эпидемия ящура. Начался падеж скота. Халик дневал и ночевал на фермах, мобилизовав всех коммунистов, устроил круглосуточные дежурства. Месяц штурмовали ящуровские вражьи силы укрепления колхоза, но когда люди ослабли уже, истомились под гнетом бессонных изнуряющих ночей, эпидемия отступила. Прибыла из района комиссия, составила акт на шестьдесят семь поросят, погибших в неравной с ящуром борьбе. Думается, колхоз мог потерять и больше, если б не старания Халика, Мубаракши и Талгатова, а также, конечно, всех наших честных трудовых людей.
4
Что за человек он такой, мой бедный Саматов? Казалось бы, сует ему кое-кто из районного начальства палки в колеса: скотину колхозную без кормовых трав оставили, «строгача» вкатили, живность всякую убыточную ни с того ни с сего навязали, — чего же ради стараться-то? Так нет ведь — работает с утра до ночи, словно трактор железный. Из газет прознали они с парторгом, что есть в Белоруссии знаменитый колхоз «Рассвет», — отправил Халик туда немедля Талгатова, а вскоре и сам съездил, за опытом. Мечтают теперь производство льна полностью механизировать, как в том самом знаменитом колхозе «Рассвет». Когда накопилось достаточно средств, Халик ввел оплату трудодней деньгами; далось это, конечно, нелегко, и тут нашлись люди, обвинявшие Саматова в авантюризме, но все же победа осталась на его стороне. Затем, воспользовавшись удачным местонахождением МТС, — она базировалась как раз в Тазабаеве, — приступили к электрификации села. Каждый год в восьмидесяти избах зажигались яркие огни — лампочки Ильича. Дело-то, надо сказать, дело нешуточное: пока столбы там да проволока найдутся, пока монтеров подрядишь... Но зато уж польза какая! И вообще, по выражению бывшего зампредседателя Шарифа Искандерова,. полный «компор» (был Шариф-абзый твердо убежден: слово «комфорт», ежели выговаривать его от всей души и до конца, обозначает не что иное, как «коммунистический порядок». Он даже заверял своих односельчан, что с тех пор как на селе появилось электричество, погода явно сделалась теплее, в подтверждение чего сам Шариф-абзый перестал наконец носить летом зимнюю шапку-ушанку).
Семьям погибших, которым особенно трудно пришлось в суровые военные годы, Халик придумал на общеколхозных субботниках отстраивать новые, добротные избы. Справит такой счастливый хозяин новоселье — Халик и сам на седьмом небе от радости, будто себе богатые хоромы возвел. Чудак!.. но, честно говоря, смотреть на него в такие моменты очень даже приятно.
Только вот опять вернулась к нему непереносимая привычка маршировать ночи напролет по дому, когда я, например, до смерти хочу спать. Нет, он еще и рассуждает в полный голос:
— Умно и дальновидно руководить колхозом — это значит обеспечить себя твердыми кадрами. Если не будет у тебя хороших бригадиров, ты, Саматов, просто нуль. Нуль без палочки. Куда ты ткнешься без хорошего, честного завхоза, без опытного, честного бухгалтера? Да еще экономиста бы надо. Первоклассного экономиста! Талгатов, скажем, отличный парторг, с ним мне повезло: парень толковый, с выдумкой, оптимист, людей умеет и поднять, и убедить. Все так! Но не вечно же он будет сельским парторгом; закончит вот институт, наверняка получит назначение где-нибудь в городе. Для него все будущее в юриспруденции. А вот есть у нас Анвар Тавилов в Высшей партшколе, может, его вытребовать после учебы? Башковитый парень как будто, не оказался бы казенной душой — вот в чем вопрос. Колхозу позарез нужен свой знающий инженер, свои механики. Установили на трудодень по килограмму зерна, это здорово! И не сбавлять ни в коем случае! Миллион рублей долга уплатили, остальное пускай списывают. Надо добиться, чтобы списали, и точка!
Сбываются постепенно мечты моего Саматова — взлелеянные бессонными ночами, и, казалось бы, такие трудно осуществимые мечты оптимиста и бескорыстника. Добился-таки Халик своего: колхоз окреп окончательно и теперь даже был в состоянии закупить полностью МТС; в это время вышло соответствующее постановление правительства. И к кому, вы думаете, кинулись первым делом в районе? Конечно же к Саматову!
— Халик Габдрахманович, у тебя должны быть деньги, давай, покажи пример!
Обидно стало мне за мужа: «строгача» навесить — Халик Саматов под рукой. Пример другим подавать? — так пускай Саматов подает, он все может. Хорошо еще, существует на свете Саматов! Ладно, собрался Халик купить и технику МТС, и мастерские. Вызвали спецов, произвели оценку, наметили сроки выплаты... и тут опять загвоздочка: говорят, механизаторы должны перейти в колхоз на прежних условиях — с натуроплатою за каждый убранный гектар. Но Саматов, вникнув в суть, моментально уперся, а уж если он упрется, сами знаете, его и бульдозером не сдвинуть. «Нет, с гектара платить не буду. Давно пора установить совхозную норму — с центнера!» Это, мол, прекрасный стимул для получения в будущем высоких урожаев.
На счастье Саматова, находились такие люди, которые добровольно льют воду на его мельницу — и частенько находятся! Впрочем, если подумать... Бригадир механизаторов Габдулла Маликов полностью с Халиком согласился, сказал, мол, чем же это мы лучше рядовых колхозников, и также, мол, если поначалу получать меньше будем, зато после доходу станет вдвое больше. Говорили об этом и на заседании правления, и на общем собрании, спорили долго, но Саматов пробил-таки совхозную норму. Но тут и недовольные объявились: комбайнеры, которые получали иногда более трех машин пшеницы, теперь вроде должны соглашаться на одну. «Нет! Так не пойдет!» — шумят повсюду. Конечно, не всякий сразу поймет, когда кровный заработок сократят вдруг чуть ли не в три раза! Жмут на Саматова из района, матерят Саматова обиженные механизаторы — терпит Саматов, не сдается.
Однако два года не прошло, как стали сбываться слова Халика и бригадира Габдуллы. Стимул оказался первейший! Механизаторам, само собой, очень хочется, чтоб урожай был высокий: они и пахать начали глубже, без огрехов, и боронить старательнее; комбайнерам тоже главное не просторы необъятные пройти, нет, они теперь желают зерна побольше отгрузить — оплата, как-никак, с центнера. Зимой и то не дают покоя: давай, мол, выходи на поля, ставь щиты для задержания снега, давай, председатель, навоз отгружай, пускай земля плодовитая будет! И уж не видать на Агрызской железнодорожной станции сваленных в каменеющие кучи удобрений, подчистую их вывозят, а как же: с каждого гектара — самый высокий урожай, вот новая цель! Стимул, одним словом. Колхоз в гору пошел; пыхтит, правда, натужно, как лошадь с тяжелой телегою, — в гору-то оно, брат, трудновато! — но поднимается, на полпути не стоит. Старается теперь как председатель Саматов. Результаты тоже налицо: урожаи зерновых постоянно растут, трудодни все весомее становятся — словом, колхозник себя чувствует неплохо. И вот, поработали эдак засучив рукава года два-три, глядь — вышли по нашему району колхозы «Красная заря» да еще имени Фрунзе в миллионеры. Настали для моего мужа Халика радостные денечки! Но у одержимого Саматова привычек необычайных сколько угодно: он, к примеру, радоваться, как люди, ни в какую не согласен. Хотя, конечно, и в беде, как некоторые, носа не вешает: Саматов мой всегда серьезен и бодро озабочен, что в горе, что в счастье. Одно его может вывести из себя — несправедливость; ее-то он не переносит всей своей бойцовской душой, за правду готов до последнего стоять!
Пришел к нему по случаю праздника — в миллионщики выбились! — развеселый уже Мубаракша-абзый, звал отметить сию «обчественную» удачу, так Саматов мой сам не пошел, да и «практичного» абзый усовестил, спокойно, правда, безо всякого шума-крика. Нам еще, мол, овечью ферму надо достроить. Дворец культуры пора закладывать, подумай, Мубаракша Сунгатович, время ли гулянки-то гулять?..
У Халика, по причине его несговорчивого характера, беда и радость рядышком ходят; это я знала хорошо и почти привыкла даже — что поделаешь? Поэтому, прослышав о миллионерстве, стала я с покорной уверенностью ждать, когда и откуда грянет с громом и молниями очередная гроза.
Ждать, к слову, долго не пришлось...
Весна в шестьдесят втором набежала удивительно дружная. Напоенная талыми водами и согретая живительным теплом, земля выгнала хлеба тучными, обильными; старики, видно, боясь сглаза, радоваться в открытую не решались, но твердили в один голос, что год ныне самый урожайный. Халик вел колхоз крепкой и решительной рукой. Рожь на полях вымахала такова, что запросто укрывала самую рослую лошадь вместе с дугою, в этих ржаных лесах легко было заблудиться; пшеница уродилась замечательно хорошо — работа, конечно, — предстояла великая, но радостная. Пожалуйста: механизаторов в этом году ожидали очень высокие заработки; бригадир их Маликов оказался прав — оплата с центнера получилась более выгодной. И они трудились на совесть — стимул, помните? — не покладая рук, с раннего утра и до поздней ночи. Опустела колхозная канцелярия, на приусадебных участках колхозников не стало видно ни души: наступила страда! Халик забыл об отдыхе, не ведал сна, дремал порой на ходу и за столом ронял ложку из рук, но слабины не давал ни себе, ни людям.
Рожь убрали за неполных девять дней. Не переводя дыхания взялись было за пшеницу — и тут полило. Полило как из ведра бездонного, нескончаемо и неутихающе. Дожди, ливни, грозы... Порой разведривалось и в омытую синь выплывало жаркое летнее солнце — ненадолго; комбайнеры же, уподобившись летчикам, ждали ясной погоды. Погоды, однако, не было, была непогода. Машины застревали в разливах грязи, особенно топко сделалось на дороге, ведущей в райцентр. Халик с лица спал, похудел, как в Куйбышеве, когда учился сразу в двух местах, остался — кожа да кости. Целыми днями ходил в мокрой одежде, он сильно простудился, слег. Пытался было и здесь упереться, встать раньше времени, но парторг новый, Анвар Тавилов, вернувшийся как раз из Высшей партшколы (Саматов как в воду глядел — Талгатова после института в городе оставили, назначение получил), специально вызвал врача, говорил с ним заранее, и Саматова, под угрозой «верной смерти», отправили в больницу. Ладно еще, есть в Тазабаеве своя больница (кстати, сам же Халик ее отстроил и расширил), а не то увезли бы его в самую ответственную пору далеко от родного колхоза. Я, оставив детишек на попечение соседки, дневала и ночевала возле Халика: он, неугомонный, мог и не долечиться как следует, сбежать, а я ему в этом довольно успешно мешала. Через пару дней он смирился, следовал всем советам врача. Наверное, поставил себе целью выздороветь как можно скорее.
Вскоре навестить заболевшего Халика приехал первый секретарь райкома Байназаров. Тут чуть ли не впервые за последнее время увидела я как-то по-детски открытого, радостного Саматова, — сияя глазами, он говорил, стискивая горячей рукой мое плечо:
— Вот видишь, Галим Саттарович ко мне приехал. А ты говоришь, кому ты нужен, сам о себе печалься.
Секретарь райкома вошел в палату вместе с главным врачом, очень серьезно сказал ему, указывая на Халика:
— Вы, товарищ врач, должны побыстрее вылечить нашего председателя. Время горячее, тут ему долго валяться никак нельзя.
«Время горячее, да погода холодная, — подумалось мне дерзко. — И подлечиться-то, наверно, как следует не дадут, опять под дождем бегать заставят...»
Но Байназаров, словно прочитав мои мысли, обернулся к Халику и дружески улыбнулся:
— А ты, Саматов, не беспокойся, не суетись понапрасну. Лечись хорошенько и выздоравливай. В колхозе я оставляю уполномоченного из райкома, так что все у тебя будет нормально...
Эх, и не понравился такой оборот дела Саматову! Не успел Байназаров уехать, Халик мой заругался: на кой черт, говорит, нам этот уполномоченный? Я сам, говорит, на поле вымоченный, на току простуженный, в кровати валяюсь — зачем нам еще один?! Парторг у нас есть, бригадиры один другого, лучше, правление мудрое, так на черта нам этот указчик из райцентра сдался? Я, говорит, таких фокусов не понимаю. Вскочил он и, как был в нижнем белье, бросился к телефону звонить парторгу Тавилову. Тот,-конечно, по молодости не понимает, что человек болен и ему волноваться очень вредно, докладывает Халику,все как есть, без утайки.
Через эту его неосторожную прямоту и столкнулся Халик опять-таки с райкомом. Дня два ли, три ли прошло после приезда Байназарова, только позвонил Саматов с утра в очередной раз Тавилову, начал пытать того, как, мол, идут дела. Вижу, слушает он в трубке голос парторга, а сам вздрогнул даже, в лице переменился и побелел весь.
— Что случилось? — перепуганно спрашиваю — не обернулся Саматов, будто застыл, потом как закричит : — Да вы что? С ума там посходили?! Кто вам разрешил, я спрашиваю?! Что?! У тебя голова есть на плечах или тыква вместо нее?.. Нет, ты скажи мне, кто те-бе раз-ре-шил?! Ну, все. Погубили, бестолочи. Без ножа зарезали!!!
Тут у него и голос сорвался. Ого, думаю, если уж спокойнейший Саматов этак раскричался... Вырвала я у него из рук трубку, позвала врача; с большим трудом уложили его обратно в постель — вырывается ведь, прямо с ума свихнулся!
Что же оказалось, как вы думаете? Да взяли и отправили в счет сверхпланового госзадания восемьсот центнеров отборной, пуще всего Саматовым хранимой пшеницы — семенной фонд колхоза. Кто разрешил, мол? Не разрешил, а приказал, — тот самый уполномоченный из райкома, кто же еще? Мол, соберете в другой раз, не растаете! «Соберете»! Пойди, собери попробуй годную на семена пшеницу под проливным гиблым дождем...
Халика в больнице удержать нам все-таки не удалось. Не слушая ни меня, ни врачей, ни медсестер, он бегал по коридору, требовал свои вещи и кричал, бил кулаком в стену, наконец, стало понятно, что он в отчаянии. Не дашь ему одежду, так прямо в белье и выскочит под дождь, — отдали; он мигом оделся, и... только дверь за ним хлопнула.
Из больницы Халик побежал со всех ног в правление, вызвал туда уполномоченного, и, говорят, разговор с ним был совсем короткий:
— Чтоб сегодня же духу вашего здесь не было. Вон!!!
В тот же день уполномоченный с камнем на сердце (и за пазухой тоже) уехал в райцентр. В тот же день прибыл к нам председатель райисполкома Фахриев — как успел только! Человек твердый, горячий, как и сам Халик. Но поначалу заговорил спокойно, терпеливо будто:
— Почему же ты, Саматов, не выполняешь решений партии, а? Представителя райкома прогнал, как мальчишку. Нехорошо... — Однако сам первым и не выдержал, грохнул увесистым кулаком по столу: — Саботажник! Установка райкома для тебя, значит, пустое место?! Я тебя проучу! Получай еще полторы тысячи центнеров сверхпланового задания — не выполнишь, можешь считать себя конченым человеком!
— Мы свое сверхплановое задание уже выполнили.
— И это выполните! Найдешь у себя дополнительные ресурсы. Глубинку откроешь! Подбирай излишки у соседних колхозов — тогда справишься. Понятна тебе задача?!
Ну, Халик не из пугливых.
— Ты, Фахриев, не у себя в кабинете, да и время теперь другое, так что кулаком на меня не маши.
Хочешь здесь в колхозе командовать — пожалуйста. Вот тебе ключ, вот печать, командуй на здоровье, а у меня его и так мало осталось.
Фахриев вроде поостыл, взглядывая на покрытое испариной больное лицо Саматова, сказал все еще жестко:
— Не гоношись, Саматов. Со мной не пройдет. Пойдем в амбар — там посмотрим!
Вышли они. Я — за ними, думаю, доведет-таки Фахриев моего Саматова до белого каления, а он ведь больной совсем! Не-ет, я уж своего мужа этаким бессердечным людям в руки больше не дам. Не допущу! Как только минет вот эта нежданная беда — чтобы там ни случилось! — увезу Саматова в Казань. Хватит, помучился.
Подходим к амбару — высятся перед ним горы зерна, много, четыре тысячи центнеров пшеницы.
— А это что? — говорит Фахриев. — Зерна-то у тебя, выходит, завались?
— Хватает.
— Что же ты тогда уперся? Выполняй задание!
— Этот хлеб для сдачи государству не годится, только на фураж пойдет.
— Почему так?
— Перепрел.
— А это мы поглядим. Не годится, говоришь? Проверим, годится ли, нет ли...
И помчался Фахриев обратно в райцентр. На другой день приехала из Заготзерна передвижная лаборатория: одна автомашина с приборами, четыре девушки-лаборантки.
Халик, естественно, дает им на пробу зерно похуже, то, которое и в самом деле прелое. Колхозу без фуража плохо! Думает Саматов, если составится заключение о негодности зерна, быть «Красной заре» с фуражом, с хлебом. Наивный человек! Да разве ж такие, как Фахриев, вникать станут, что он, по чистоте душевной, более всего о людях беспокоится, о колхозе? Вот и получилось: в «Красной заре» хлеб гниет. Председатель Саматов загубил четыре тысячи центнеров хлеба. Через пять дней назначили бюро, и только тогда Халик понял: хлеба этого, якобы им, Саматовым, испорченного, ему не простят. Уполномоченный и Фахриев все сделают, чтобы его наказали, для острастки, а то, мол, прыткий стал! Самостоятельный! Но Халику на это наплевать, пускай отыграются; главное — хлеб! Во что бы то ни стало нужно просушить хлеб, а то и вправду весь сопреет..
Для такого находчивого и решительного человека, как Халик, пять дней — срок весьма достаточный. Вызвал он с полей (погода как раз установилась хорошая) четыре комбайна-самоходки, выстроил их в ряд, и пошло зерно проветриваться через комбайны. Потом еще через три сортировки пропускают — зерно не только сушится, но и очищается. Тут уж и я взялась ему помогать, стараюсь изо всех сил, принимаю по счету подготовленное для окончательной сушки зерно. Колхозники тоже работают с жаром, оно и понятно: во-первых, с хлебом будут, а во-вторых, само-собой, Халика им терять не хочется: мало, что ли, он для них сделал, мало перенес ради колхоза? Смотрю я на их старание и, верите, До слез иногда умиляюсь — вот это уж приятное волнение, таким всю жизнь волноваться согласна!.. Зерно, пропущенное через сортировки, отправляют в крытое гумно, на зернопульт. Потом в сушилку, там оно уже просушивается «набело». Отлично получается, зернышко к зернышку! Сушилка работает круглые сутки, в три полные смены, — таким образом, по истечении третьего дня высушили мы больше тысячи семисот центнеров хлеба. Ого! Еще три дня постараться, и все четыреста тонн будут спасены. Хватит колхозу нынче хлебушка!
А Фахриева тем временем кто-то известил: Саматов досушивает свой «обвинительный» хлеб.
Тут же последовало новое решение: бюро не через пять дней, а срочно, назавтра, и с самого раннего утра..
Что ж — Саматов с парторгом Тавиловым чуть свет погнали машину в райцентр.
Халик, конечно, ничуть не боялся бюро, виновным себя не чувствовал, и бюро это — партийное, надо полагать, разберется во всем объективно и мудро. Беспокоило его другое: хлеб! Перед отъездом, вызвав к себе колхозного механика Нурмухамеда, «практичного» Мубаракшу, бывшую птичницу Мубину, которая теперь заведовала сушилкой, он убедительно попросил:
— Друзья-товарищи, об одном прошу — работу ни на минуту не прекращайте. Это и приказ мой и мольба! Кроме меня, ни одного человека не слушайте, не смейте слушать — понятно вам?
До райцентра от нас двадцать километров. Дороги еще не подсохли, топь сплошная. Когда они доедут, да когда обратно вернутся — изведешься тут, их дожидаючись. На сердце у меня тяжесть, в душе пожар. Нет, я не боюсь, что Халика снимут с должности, скорее даже наоборот. Пускай снимают! Перешел бы, по крайней мере, на другую работу, спокойную; где все было бы по-человечески. У него одна вера — справедливость, честь, фанатическая преданность делу. Да вот не все его понимают, не хотят понимать и пытаются лишить инициативы и воли. В ущерб делу? — ну, не-ет, разве он такое вынесет? Вот и вспыхнул весь, взбунтовался... Господи, хоть бы уж там не упрямился, не твердил свое, глядишь — обошлось бы. Ну, снимут с работы, что ж такого, было бы здоровье, а работа найдется. В Казань, например, уехали бы... Должен понять в конце концов свою пользу. Только бы освободили его от злополучной должности! Я уже прямо-таки мечтаю об этом. Одна мысль в голове бьется. Уедем, в Казань уедем...
До вечера раза три бегала в правление и к Тавиловым тоже заходила, но Хадича, жена парторга, показалась мне чересчур спокойной. Молода еще, жизни не знает, все ей в розовом свете видится. Что им будет, мол, они же не нарочно — утешать меня взялась.
Свечерело. На деревенскую улицу пали светлые полосы из окон электрифицированных стараниями Халика домов, и на осветившихся редких лужах запузырились капли забытого было в тревогах последних дней дождя — грязные, измученные, возвратились наконец, бросив машину в Жайлангарском лесу, Халик иТавилов.
Я кинулась расспрашивать.
Халик отвечал вяло, неохотно. Да, было бюро. Его снимают. А что еще?.. Многословием он никогда не отличался, но в этот вечер был молчалив особенно. Лишь после моих страстных наскоков добавил, улыбнувшись, словно вспомнив нечто приятное: «С большим треском обещали снять!» И замолчал окончательно.
Не прошло и часа — его вызвали на партактив. Экстренное заседание проводил приехавший, а вернее, пришедший вместе с Халиком из райцентра помощник прокурора Хамзин. Постановили: решение бюро райкома признать правильным, объявить об этом завтра на общем собрании. Задача эта была возложена на парторга Тавилова. И еще пять рядовых колхозников-коммунистов должны были выступить.
Собрание назначили на десять часов утра. Где-то около восьми прибыл секретарь райкома Байназаров, кажется, привез с собою и нового председателя.
Народ собрался уже в девять. Весть о том, что Саматова снимают с председателей, всколыхнула всех: здесь были и мужчины, и женщины, и старики, и молодежь. Только у амбара, где, не переставая, проветривали зерно, остались Мубаракша, Мубина и колхозный механик Нурмухамед. Халик, невзирая на просьбы, так и не разрешил им отлучиться от столь напряженной работы.
Собрание это буду, наверное, помнить до самой смерти. Даже сегодня, хотя прошло уже немало лет, могу рассказать о нем в мельчайших подробностях...
Секретарь райкома Байназаров, выйдя к обширному, покрытому зеленым сукном столу, словно бы мельком оглядел весь клуб. Высокий светлый зал был нарядно-просторен, отчетливо парили в нем голоса, дышалось свободно и легко. «Смотри, смотри, — подумала я неприязненно. — Саматов заложил этот клуб; он строил его, с людьми нашими и для людей. Дворец культуры. Снимешь Саматова... ладно. Вам не важно, что он отличный работник, душу за колхоз положит. Чуть что не так — ему же и по шее».
Секретарь держал себя с большим достоинством. За то время, пока члены президиума занимали свои места, он не произнес ни единого слова. Людей, кажется, не видел, смотрел поверх, оглядывая по-прежнему убранство зала; улыбался чему-то. Вот вышел на сцену помощник прокурора Хамзин, парторг Тавилов, поднялись колхозники-передовики. Когда у стола, приглаживая обеими руками пышную копну волос, появился незнакомый мне довольно молодой парень в черном костюме, позади зашептали:
— Кутдусов это. Персидатель новый...
Мне отчего-то стало жалко моего Саматова, впрочем, понятно уж отчего — работал от души, не жалел себя, и вот; неужели выкинут, как сломанную телегу на свалку? Может, и в президиум его не пригласили? Нет, вышел. Байназаров даже рядом с собой усадил. Мудрит секретарь, ох мудрит. Только Халик занял место рядом с Байназаровым, как Тавилов громко обратился к залу:
— Товарищи!..
По рядам заскрипели, шелестели и там и тут, шикнули предупредительные шепотки — зал, вмещающий пятьсот человек и вместивший куда более того, настороженно умолк. Стало пронзительно тихо, и лишь стучала, оглушая, кровь у меня в висках.
— Товарищи! Общее собрание колхоза «Красная заря» объявляю открытым. На повестке дня — вопрос, касающийся перевыборов председателя. Возражений нет?
Зависла тишина.
— Тогда начнем. Я кратко ознакомлю вас с вышеупомянутым вопросом.
Анвар тщательно выбрит, на нем синий костюм, белая рубашка, пышный крепдешиновый галстук. Рука, в которой он держит свою бумагу, заметно подрагивает. Не слишком уверенно, отрывистым запинающимся голосом, трудно подыскивая слова, он сообщает присутствующим решение райкома в отношении Саматова, затем поясняет его подробнее и наконец переходит к постановлению партактива колхоза. Положение у него действительно нелегкое: Анвар сейчас пытается своего старшего товарища не очернить, но, разумеется, и перед райкомом хочется ему показать себя человеком дела.
«Был бы Талгатов, вел бы себя, конечно, по-другому», — думаю я грустно.
Колхозникам же и вовсе не понравились такие увертки молодого парторга — народ в зале, до этого сидевший как-то пришибленно-тихо, загудел словно растревоженный улей. Байназаров вынужден был довольно долго стучать карандашом по графину с водой; народ, однако, все не успокаивался, и тогда он сказал громко, перекрывая шум в зале:
— Товарищи, давайте не терять попусту времени. По-моему, вопрос совершенно ясен: за порчу четырех тысяч центнеров зерна, а также за падеж шестидесяти семи голов поросят снять председателя Саматова с занимаемой им должности. Таково решение райкома. Кому что непонятно? Может, есть желающие выступить?
Из задних рядов кто-то откликнулся:
— Чего там — «ясен»! Не ясен нам вопрос!
Весь зал с грохотом обернулся в ту сторону — там стоял старший сын Мубаракши, животновод-энтузиаст Сулейман.
— Что вам неясно, товарищ... простите, не знаю вашей фамилии?
— Мне вот что не ясно, Галим Саттарович, — сказал Сулейман, комкая в руке мягкую матерчатую кепку. Помолчав затем, видно собравшись с мыслями, продолжил: — Зимой нынче, когда начался этот самый падеж, пожаловала к нам из району комиссия, пять человек их, что ли, было, не помню точно. Проверили, составили акт, дескать, от ящура пало в колхозе «Красная заря» шестьдесят семь голов поросят, подписались под этим, заверили печатью, в общем, все как полагается. Но при чем здесь Саматов? Я вот никак не могу понять, для чего вы председателя-то нашего сюда припутали? Чем же он виноват, спрашивается?
— Точно! С чего это он вдруг опальный стал?
— Нашли козла отпущения!
— Да ежели б не Саматов, полфермы как языком бы слизнуло. Вон, поглядите у соседей, триста пятьдесят голов свиней — будто и не было их никогда!
— Вот именно! А то мозги тут затирают: ничу!
Атмосфера в зале вновь накалилась, и президиуму пришлось потратить немало усилий, прежде чем была установлена хотя бы и настороженная тишина. После этого, один за другим, коротенько выступили пять человек. Все они с видимым единогласием останавливались на второстепенных положительных качествах Саматова-председателя: мол, работал он неплохо, часто беседовал с колхозниками по радио, был внимателен к людям, человечен, ходил по избам и узнавал, как у кого идут дела, словом, говорили такую вот «мелочь». В заключение каждый из них поддерживал решение райкома, упирая на то, что колхозу-де требуется председатель молодой и энергичный. А Саматова, конечно, пора уже освободить.
Казалось, все улажено и зал склонился на сторону правильного решения райкома; Тавилов поставил вопрос на голосование: «Кто за то, чтобы снять?.. Раз, два, три, четыре, пять... шестеро... Кто против?..»
Все остальные, разумеется. Итого: свыше пятисот колхозников; короче, против весь колхоз «Красная заря».
И пошли тут прения, пошли уговоры! Поднялся председатель сельсовета Даут Исмагилов. Многие годы работал он на этой должности, перенял будто народную мудрость, был опытен и по-хорошему хитер. В последнее время, правда, отрастив солидное пузцо, стал тяготеть к спокойной, безоблачной жизни, но по-прежнему умел сказать толковую речь и убедить колеблющийся народ. Слово свое он начал с обращения к старикам:
— Люди добрые, отцы наши аксакалы! Чего же это мы сами-то себя мучаем, а? Или, может, мы Саматову Халику Габдрахманычу худа желаем? Да кто же такое и подумать-то посмел?! Однако что ведь получается: пускай окочурится он на работе, пускай у него жилы лопнут, пускай надорвется он от тяжких трудов?! Не-ет, люди добрые, разве можно! Саматов Халик Габдрахманыч свое отработал, и за то ему — великая наша благодарность. Но раз дальше-то колхоз вести человеку не под силу, неужто не поймем того? Неужто приневолим Саматова к тяжкому, непосильному, прямо сказать, труду? Мы и сами виноваты, что он, может, раньше времени устал и выдохся, — не помогли, когда надо было, не приложили дружеских усилий. И того... контроль с нашей стороны, конечно, слабоват был. Недоглядели, в общем... Короче, проморгали мы с вами Саматова Халика Габдрахманыча, прошляпили, не сумели вырастить из него дальновидного руководителя — это наша вина. А потому давайте, осознав свою ошибку, освободим его от работы и также учтем свои промахи — вот когда у нас будет новый товарищ, молодой, полный сил и энергии...
Как бы здорово ни оплетал Даут Исмагилов свою основную мысль, как ни хитрил он, но выводом последним все начисто испортил — другого председателя народ не хотел.
Исмагилов еще устраивал свою грузную фигуру на потрескивающем стуле, когда вскочил с места старый плотник Ахунзян и заговорил быстро и горячо, размахивая руками, будто обрубая топором ветки невидимого дерева:
— Ты погоди-ка, погоди, говорю, братец ты наш Даут! Хоть ты и сельсовет, хоть и сидишь там с печатью в руке, ан промашку на этот раз дал, понятна? Ежели ты думаешь, что умнее всех отыскался, так гляди не ошибись, а еще скажу: нас, стариков, в свою мудреную арбу запрягать и не пытайся. Кто нас досыта хлебушком накормил? Саматов! Кто нам избы порушенные отстроил? Саматов! Когда его к нам, то исть, направили из городу Казани, мы были кто? Еле-еле душа в теле. Получали мы до него на свои жалкие трудодни хоть малую денежку? Ну-ка, скажите по-честному, получали али нет?
— Нет!! — грянул зал.
— Правильно понимаете, не бывало такого. А теперь, значит, Саматов нам без надобности? Отмахнемся, стало быть, от Саматова, как от ненужной деревяшки? Может, в печку его еще бросим, а?! Кончай шутить, братцы. Ничу! Ежели у амбара хлеб в кучах преет, так нешто в этом деле Саматов повинен? Да ежели на то пошло, он и вопчем-то не виноват, понятна?! Саматов наш Габдельхалик[42] до того достарался за-ради нас опять-таки, что с ног, сердешный, свалился да в больницу угодил. А дали ему там поболеть спокойно? Дали! Так дали, что он чутка в белье оттудова не выскочил, спасать еще раз опять-таки наше колхозное добро. Кто такое устроил, а?! Районный полнамоченный, вот кто. Полнамоченному, понятно дело, сильно хочется, чтобы райком его по головке погладил за старание. Что он тогда делает, все видали? Хлебушек наш, пшеницу, которую на семена оставляли, которую, то исть, берегли пуще ока своего, восемьсот сполнавесных центниров, взял да отправил в счет дополнительного задания. Какое такое дополнительное, кто его навострил? Сам додумался! Ай-яй-яй! Умная головушка, гляньте-ка, какой вострый! Да ты его, милый мой, хлебушек-то этот, сперва посей, потом сожни да пропусти через три кряду сортировки, в амбар, от дождя уберегаючи, склади, вот тогда поглядим — будешь ли ты такой скорый да вострый, чтобы семянную-то пшеницу отправлять. Вот так, люди добрые, я своей темной головой мыслю. И ты на меня, товарищ дорогой Байназаров, не косись, не надо, и также брови не ломай, мол, чего тут старичишка щепы вместо умных слов насыпал, целую кучу. Правда, она завсегда правда, каким макаром ее ни представь. Я, к примеру, персидателем нашим, Габдельхаликом, премного доволен, а коли он у нас останется и впредь, думаю взять в руки топоришко да возвести ударным трудом овчарню али две, ежели понадобится. И также слышал, будто новую школу замыслили — даст бог здоровья, и там подмогнул бы, вовсе это не худо. Ежели и теперь вам непонятно, скажу прямо: я, то исть плотник из колхозу «Красная заря» Ахунзян, старик семидесяти с гаком лет, первым голосую против того, чтобы нашего персидателя Саматова Габдельхалика снимали с работы. Ничу!
После столь горячего и чистосердечного выступления плотника Ахунзяна народ в зале закипел и взбурлил. Со всех сторон неслись недоуменные гневные реплики, так что Байназаров просто вынужден был выступить.
— Тут некоторые товарищи пытаются защищать Саматова, рассказывая собранию о его заслугах, — начал он, стараясь говорить спокойно и терпеливо, как с малыми детьми. — Судя по их выступлениям, можно подумать, что райком не видит этих заслуг, затирает, что ли, сделанное Халиком Габдрахмановичем. Но ведь это не так, товарищи. Работа, она всегда на виду, и мы о работе Саматова не забываем. За семь лет он сделал очень многое. Отстроил фермы, повысил урожайность зерновых и надои молока, укрепил колхоз кадрами. Но не допустим ли мы, товарищи, серьезную ошибку, если скажем, что все это сделал лишь один Саматов? Осмотритесь, товарищи, вокруг: всюду подъем, всюду такой же рост! Нет уж, дорогие товарищи, колхозы растут и крепнут не волею Саматовых, но по могучей воле и благодаря неустанной заботе нашей родной коммунистической Партии, нашего правительства, по воле рядовых колхозников и рабочих, всего нашего народа. Разумеется, в этом есть заслуга и Саматова — как организатора, непосредственного руководителя, — но ни в коем случае нельзя эту заслугу раздувать, показывать ее в преувеличенном свете. Успокоение на достигнутом — качество, в корне чуждое коммунисту, члену нашей великой партии. А Саматов успокоился, потерял требовательность к себе в первую очередь, вот на это и указывает райком. На современном этапе подобный человек не может оставаться командиром крупного производственного участка. В нашем случае — колхоза, имеющего шесть тысяч гектаров посевной площади.
Логично проводит свою мысль товарищ Байназаров, ораторскими способностями его бог не обидел. Но только почему он обращается к народу в таком искательном, неуверенном тоне? Если бы еще в зале сидели люди, не имеющие к Саматову непосредственного отношения, не видевшие своими глазами самоотверженности его и беспримерного трудолюбия, тогда, возможно, Байназаров и сумел бы увлечь зал красноречивым словом, убедить этих людей в своей правоте. Но дело касается их собственного председателя, которому верны, они душой и телом, поэтому-то зал и не верит, прерывает Байназарова на полуслове, требует конкретных фактов. А факты, откровенно говоря, жидковаты. «С самой весны, — заявляет Байназаров, — не было в колхозе крутого подъема». — «Ну? — удивляется зал. — А разве можно добиться крутого подъема за пять-то лет? Мы медленно, да верно — так ведь иной раз и круче получается. И вообще, насчет колхозов, с самого окончания войны добиваемся этих самых крутых подъемов, да, видать, нелегко, когда полстраны было в развалинах. Вот те и взгорочка! Недаром наша партия, почитай, каждый год о сельском хозяйстве тревожится». — «Сев и уборка проходят в намеченные сроки, — говорит Байназаров, — но все равно есть потери». — «Ишь ты! — перечит ему народ в зале. — А у кого их нет, скажи на милость? Неделями, чай, льет — башки на улицу не высунешь!». — «Хлеб у вас преет, — укоряет колхозников секретарь райкома, — недоглядел Саматов!» — «Да как же, — кричат, — ему не преть? С полей-то уж мокрым привезли, хотели как быстрее, чтоб хоть и не сухой, да на току весь лежал; кабы не захворал Саматов да не слег, да ежели бы не мешал тут ретивый полнамоченный, давно бы уж зерно провеяно было да просушено».
Без усилий заглушив стоявший в зале дружный ропот, на сцене клуба возник опоздавший к началу собрания «практичный» Мубаракша.
— Слово хочу сказать, товарищ Байназаров, послушайте. Если уж решили вы снять Саматова и заменить его другим человеком, то, конечно, вы все равно на своем настоите. Так или по-другому. Но только это будет супротив воли всех колхозников «Красной зари», и знайте: на райкоме дело это не застрянет, райком — это еще не самая высокая власть. Мы сами найдем дорогу к правде. Партия наша отлично умеет слушать и тех, которые, значит, выращивают своим трудом народный хлебушек; на то она и наша — партия трудовых людей!
Горячо сказал Мубаракша, пожалуй, покрепче даже старого плотника Ахунзяна. И словам этим, идущим от самого сердца, народ высказал большое одобрение — долго не смолкали в зале аплодисменты, грохотали сплошным бушующим шквалом. Вскочил было с места парторг Тавилов, заговорил, но речь его текла вяло и сбивчиво: он явно растерялся. Блеснул вновь ораторским талантом Байназаров — напрасно, ничто уже не могло поколебать убежденных в своей правоте колхозников. Пробовали голосовать еще раз, но, как и в начале собрания, получилось смеху подобно: шестеро «за», пятьсот «против», ну, куда это годится?..
И вот тут-то меня насторожило поведение Байназарова, направленное теперь, по всему, в обход непоколебимого «своевольства» собрания, — я увидела, как он, нагнувшись к Саматову, долго и настойчиво говорил ему и Халик в ответ кивал головой. В чем он мог согласиться с Байназаровым, мне пока было совершенно непонятно.
Халик же вдруг поднялся и протянул руку, успокаивая народ; в нахлынувшей тишине он заговорил негромко, тепло и очень доверительно обращаясь к колхозникам. До меня с трудом дошел смысл сказанного им: он заявил, что на самом деле смертельно устал, болен, и просил собрание освободить его от работы. Что за чушь?.. Ах ты господи, ну конечно же! Это, разумеется, Байназаров, видя, что дела принимают совершенно неожиданный и для его авторитета оборот, не нашел иного выхода, как уговорить поддержать решение райкома самого Саматова.
Обращение председателя к колхозникам вызвало в зале великое недоумение. Народ ошарашенно заколебался: отпустить — так ведь нужен колхозу Саматов, очень нужен; а не отпускать — видно, чем-то крепко не угодил Саматов, все одно будут привязываться.
Пока мужики трудно и без особого толку раздумывали, слово перехватили женщины. И здесь уже заговорил не разум, а женское сердце, полное бесхитростной любви и жалости. Выступала вдовая тетка Мубина, которой в свое время пришлось немало помучиться с водоплавающей, не тем будь помянутой, птицей.
— Ну, мужики, до чего бестолково время ведете, глаза бы мои на вас не глядели, — говорила она, всплескивая руками. — У амбара вон хлеб горит! Кто за него отвечать будет? Клевер весь загубили, перепахать заставили. Кому за это отвечать?! Скотина, бедная, без кормов осталась, кто виноват? Спасибо Саматову, что терпит, бедняга, такое. Я на его месте давно бы от нас сбежала либо удавилась бы от огорченья!
Зал словно вымер — такая наступила тишина. Расколол ее нервный голос Тавилова.
— Что же вы предлагаете?
— А не мучить Саматова и дальше; оформить ему прямо сейчас, вот тут вот, двухмесячный, к примеру, отпуск. На износ же работал человек, понимать надо! Сам даже говорит, болею, мол, — оно ведь и правда, болеет. Такой председатель, как он, ну, разве лег бы в больницу во время уборки? Пускай поезжает на Кавказ либо в Крым, отдохнет там как следует и будет как новенький, будет работать по-прежнему на совесть. А разбрасываться таким человеком, как Саматов, — это дурость! Вот!
Предложение тетки Мубины гулом одобряющих голосов охотно и облегченно подхватил весь зал. И лишь двое в этом зале держались другого мнения: по своим соображениям секретарь райкома Байназаров и по убедительной просьбе Байназарова — муж мой, Халик Саматов. Секретарь райкома в тот день окончательно выбился из сил, пытаясь переубедить дружных в отпоре колхозников, парторг Тавилов тоже посерел от усталости и длительного неловкого положения; но обе стороны продолжали, хоть и вяло, пререкаться и спорить вплоть до семи часов вечера. И тогда опять поднялся чудак мой Саматов:
— Товарищи, у меня к вам одна-единственная просьба. Освободите меня от должности, честно вам говорю. Все-таки за плечами у меня война, ранения тоже есть, устал, товарищи. И после войны ведь семнадцать лет прошло, а я, по существу, не отдыхал ни единого дня. Вот приехал к вам молодой товарищ, выпускник сельскохозяйственного института, энергичный, знающий товарищ, да и колхоз ему достается не тот, что мне. Колхоз у нас теперь богатый, миллионер. Вместе и будете его вести, уверен — справитесь. А у меня уже пороху не хватает, порастерял, поэтому прошу: отпустите, сделайте одолжение.
Слово взял комбайнер Габдулла Маликов, бригадир механизаторов, человек, который когда-то крепко помог Саматову, согласившись получать натуроплату не с гектара, но с центнера:
— В самом деле, товарищи, чего мы мучаем тут Халика Габдрахманыча? И впрямь, наверно, устал, не машина же он, ей-богу! Так и пойдем навстречу: освободим его от должности, раз просит. Напишем от имени колхоза горячую благодарность в трудовую книжку пусть спокойно отдыхает. Кто-кто, а Саматов это заслужил. Только райкому одно условие: никаких взысканий Халику Габдрахманычу! Если согласны, то пусть товарищ Байназаров поклянется нам, что сдержит свое обещание.
Как же товарищу Байназарову не согласиться? И был он .вынужден утвердительно ответить в лице Маликова всему собранию, конечно, очень дипломатично, обходительно и не теряя достоинства:
— Ну, что ж, товарищи, рад, что вы в конечном итоге поддержали решение бюро райкома. Что касается взысканий Саматову, могу сказать вам: если бы мы собирались предпринимать что-либо в этом плане, то уже на бюро решили бы этот вопрос. Как видите, этого не случилось, поэтому и в дальнейшем можете быть спокойны. А новый ваш председатель, Загит Кутдусов, человек, полностью отвечающий самым строгим требованиям, ибо, разумеется, плохого мы бы вам рекомендовать не стали... — и он рассказал колхозникам всю недолгую и чистую биографию Загита Кутдусова. Да, в финале собрания Байназаров обещал оказать в строительных работах колхозу всестороннюю помощь, например, найти материалы сверх всяких нарядов...
И, наконец, около десяти часов вечера, освободив председателя Саматова от должности и избрав на его место Кутдусова, медленно и молчаливо разошлись.
Случись это хоть на год раньше, я бы только обрадовалась, даю вам честное в том слово! Еще бы: навек избавиться от председательских мучительных забот, разве не этого я желала своему мужу! Пора и о себе позаботиться. Именно так рассуждала бы я всего лишь год тому назад. Но удивительно: сегодня меня будто подменили. Я уже не думаю о теплых местечках для Саматова, душа моя горит — я жажду высшей справедливости. Халика обидели, это нечестно! Это против совести! А он, он — впервые в жизни — поступился правдою, поступился своими основными принципами. «Я не согласна. Я не согласна. — мысленно обращалась я к Байназарову, — понятно вам?! И я этого так не оставлю. Слава богу, дорожка в обком мне знакома — пойду, пробьюсь к самому первому, но Халика отстою. На этот раз от меня так просто не отделаются! На этот раз я хлопочу не о себе, и поэтому я во сто крат сильнее...»
Втайне от Халика я действительно начала собираться в дорогу. Однако оказалось, что есть люди порасторопней, понаходчивей меня. Протокол того колхозного собрания был переслан почтою прямо в обком. Не прошло и недели, как Халика вызвали в Казань, к секретарю обкома. И с кем он там первым делом встретился, как вы думаете? Конечно, с Байназаровым!
Секретарь обкома, кстати, крепко отчитал и того и другого:
— Оба виноваты! Вы, товарищ Байназаров, в самую горячую пору оторвали руководителя колхоза — и хорошего руководителя! — от работы, с народом вели себя не по-партийному, вам за подобную близорукость придется ответить персонально. А вы, Халик Габдрахманович, номенклатурный работник. Народ вашу работу оценил по достоинству, надо было оставаться на своем месте, не подводить зазря колхозников. Конфликт этот мы бы разрешили, конечно. Ну, ладно, дело, как говорится, сделано, назад не воротишь — а вам теперь поручим другой прикамский колхоз. Опыта у вас предостаточно, закалку, получили вот неплохую. Отдохните с месячишко и принимайтесь. О «Красной заре», однако, не забывайте, помогать ей остается также вашим долгом...
Таким замысловатым образом угодил Саматов снова в председательский тесный хомут — слова сказать не успел. Я на это уже нисколько не удивилась и лишь, вздохнув при мыслях о предстоящих опять трудах и заботах, спросила у него:
— Скажи-ка, Халик, только честно: неужели не осточертела тебе эта работа? Да еще после того, как с тобой эдак поступили?
Он взглянул на меня как обычно, тепло и чуть снисходительно, помолчал немного и сказал:
— Знаешь, Рокия, в жизни всякое бывает, на то она и жизнь, а не красивая картинка. Но если суть в человеке настоящая, без изъяну, скажем, вот как ядро у ореха — без червоточины, тогда не сломить его никакими случайными обстоятельствами. Обязательно выправится он, и ядро то здоровое пробьет новые ростки. Ты для меня, Рокия, самый близкий человек, друг мой верный и жена моя. Перенесла со мною все трудности, выпавшие на нашу с тобой долю. Поэтому скажу тебе откровенно: пуще зеницы ока берегу я свое ядро! Борьба и трудности только закаляют меня, это — не страшно. Я ведь с восемнадцати лет в партии и знаю: народ любит и верит в нее. Ведь фундамент у нашей партии — прочнейший. И если попадет в него иной раз по случайной ошибке разбитый кирпич или трухлявое дерево — им не поколебать фундамента, и рано или поздно они будут выброшены на свалку...
Вот истинная правда о Халике Саматове. Многие годы терзалась я мыслью, что напрасно вышла за него, и мнилось порою: еще не поздно, разведись, ведь жизнь так сладка и так хорошо можно устроить ее! Пустое... он увлек меня по своему трудному пути, и я вкусила другую сладость: счастье жить для людей. Теперь он, муж мой, для меня — единственный и неповторимый пример настоящего человека, как бы банально это ни звучало. Думала я никогда не рассказывать о нас, о Халике и о себе... но шли годы, судьба Халика стала моей судьбой, и трое сыновей наших выбрали, не сомневаясь, дорогу отца — тогда я решилась рассказать обо всем.
Верится мне: история моя послужит людям.
Агрыз — Казань
1970-1971
АРДУАН-БАТЫР Повесть
1
В городе Березники есть памятник. Громадный, бритоголовый, усатый человек с высокого постамента смотрит задумчиво вдаль. Приходят к памятнику люди, читают надпись, выбитую на мраморе:
МИРСАИТ АРДУАНОВ
1886—1953
Читают и думают: есть памятник Пушкину, он — поэт. Есть Чайковскому, он — композитор. Чапаю памятник — герой. Кто же Ардуанов? И отчего поставили ему памятник?
2
Безжалостно ворочала судьба Мирсаита Ардуанова, много носило его по белу свету... С десяти мальчишеских лет пас он богатейское стадо. За поджог дома Хашим-бая, злющего кровососа, посадили его тогда на год в тюрьму. Потом гнул Мирсаит жидковатый еще хребет (не душу!) на казанских пекарнях, рубил дрова, хлеб выпекал, подался в извозчики. Обжениться да изведать тепло и уют семейной жизни не успел он — заполыхала германская война. В царской армии научился джигит малость понимать по-русски, одолел начальную грамоту. Когда сошлись не на живот, а на смерть два мира, бился Ардуанов на стороне красных, за правду и свободную жизнь. Домой с войны воротился только в двадцать первом году.
Воротился, а жизнь-то и в самом деле изменилась, жизнь настала теперь человеческая, жизнь теперь перешла к беднякам.
Дал ему Совет землю. Паши, борони, сей на здоровьечко! Но сказали скоро ему: «Стой, братец, погоди! Есть еще другое дело...» Разве ж угомонятся так быстро хашим-баи, пившие жадно бедняцкую кровь? Кровососы и мироеды-пауки не угомонятся! Недолго прошло, как отбили адмирала Колчака к краю земли, сбросили вместе с бесславною армией в Японское море, тут вспыхнуло пожарище кулацкого мятежа. Началось с Мензелинска, перевернуло весь Актанышский край, переметнулось и в Карабашево. Напали кулацкие псы-подголоски на след красного бойца Мирсаита. Поймали его в соседней деревне, схватили, сбили наземь и, взгромоздясь сверху, припрыгивая, зверски истоптали сапожищами. Может, отдал бы он богу душу, простясь — после такой зверской расправы — с бренным, суетным, желанным миром, да выручило здоровье, могучее, отпущенное ему природой щедро, на пятерых: жив остался Ардуанов. Домой, к жене своей Маугизе, приполз темной ночью, с лицом, похожим на широченный подгорелый пирог, с глазами, закрывшимися, казалось, напрочь. Трудно было признать его в черно-синей, заплывшей кровавой массе, почти невозможно. Жена-то, конечно, признала.
Избили Мирсаита чуть не до гибели, однако жив еще курилка. Запрятали с женой горе поглубже да пошли в поле, засевать выданную Советом землю. Все ничего, лишь бы урожай снять добрый, тогда хорошо! И тут не повезло. С самого прихода весны не выпало ни капельки дождя, земля высохла, затвердела, будто каменная.
Нагрянула в двадцать первом, обжигая все и вся, засуха, побила хлеба, скот и птицу, поморила людей, учинился великий голодный мор. Ударил он и по Мирсаиту Ардуанову, принес черное горе. Был теперь Мирсаит не сам-один голова, росли детишек двое, да жена, да он — всего четверо ртов. Подержал Ардуанов совет с тюбетейкой, почесал, попросту говоря, крепко в затылке бритом и все же надумал: созвал мужиков из деревень своей родной сторонки, из Старокурмашева, Зияшы да Каентубы, сколотил артель грузчиков, махнул на широкую Волгу, на заработки. Раз уж махнул, решил загрести поглубже, побывала его артель и в Казани, и в Чистополе, и в Сарапуле. Годы проходили трудные, — обливались под кулями жгучим потом мужицкие спины, бороздили кожу на лицах глубокие морщины, а Мирсаита Ардуанова, артель его подстегивало одно — деньги. Нужны были деньги до зарезу, чтобы дом поставить, чтобы скот завести да утварь какую, чтоб зажить наконец человеческой жизнью. Кули на плечах, однако, ящики, мешки да дровяные чурки достатку не давали, на избу пока денег не хватало. Тут и проняло всех сомненье: «А и загнесся тут — денег не наскребешь!» Пора было думать о завтрашнем дне, искать другой заработок. Нашелся и человек, от которого пошло то раздумье.
Артель Ардуанова, пятнадцать человек, разгружала на Пермской пристани большую баржу «Волгарь». Проработав часа три, мужики решили передохнуть, чтобы перекусить да набрать еще силушки. Положив на землю только что снесенный с баржи двенадцатипудовый ящик — громадную, обитую досками шестерню, — сели на него рядком, принялись рубать во весь дух. Пища была ничего — подходящая: целый барашек, приготовленный в одном из домов неподалеку от пристани, два глубоких котла картошки да четыре каравая хлеба, — умолачивалась хорошо.
Появилась четверть водки, расплескалась по кружкам, выпили ее. Перевели было дыхание и, в настроении уже, загомонили, зашумели, зашутили, когда подошел к ним человек, в кожаной куртке, в картузе, лет этак тридцати.
— Ардуановская артель — вы что ли?
— А ежели так, но дашь?!
— Хочу на работу к вам, — сказал храбро «кожаный».
— Добро! — прогудел Ардуанов. Малость подумав и встав во весь свой двухметровый рост, неторопливо шагнул к человеку. Был тот ему как раз до подмышек.
— Добро, однако работка-то у нас, братец, тяжелая.
— А работа, она, дядя, везде тяжелая, — не отступал «кожаный».
От такой прыти артельщики аж подскочили.
— Спытай его, Мирсаит-абзый, спытай!
Ардуанов кивнул им, чтоб, значит, сошли с ящика.
— Вот, братец, ежли подымешь да снесешь на баржу — возьмем.
«Кожаный» и бровью не повел, на ящик даже и не покосился, лишь усмехнулся краешком губ:
— Да ты ведь и сам его не подымешь...
Парни обалдели, заорали:
— Эт-та что за наглость такая!
— Вот сморчок, ишо издевается!
— Вдарь ему!..
— Так его, перетак!..
Ардуанов поднял разом обе руки, успокоил артельщиков, постоял чуть, затем, крепко, тяжко ступая, подошел к ящику, нагнулся, гэкнув, оторвал его от земли и, удерживая на груди, понес к барже.
«Кожаный» в изумленье смотрел, как прогибаются под шагами Ардуанова прочные сходни, молчал, сверкал восхищенно глазами.
Случаи такие были для артели не в редкость, оттого о «кожаном» вскоре и забыли подчистую, но дня через три-четыре появился он вновь у барака грузчиков. Мужики шлепали в дальнем конце большого, неприглядного барака засаленными картами, однако, увидев знакомую куртку, живо обступили его, ожидая, видно, какой-нибудь новой потехи. «Кожаный», впрочем, на этот раз был чрезвычайно серьезен.
— Может, земляки, хватит вам по пристаням мотаться? — заговорил он неожиданно сурово. — Не пора ли за настоящую работу браться?
— А ты кто таков? И чего тебе надобно? — вопросил старый грузчик Бахтияр.
— Фамилия моя Нурисламов, звать Нариманом, — отвечал тот дружески. — Сам я казанский татарин. Если думаете, что пришел болтать с вами, ошибаетесь. А вот что мне от вас надо — скажу. Вы мне сами нужны.
Артельщики окружили его плотнее.
Нурисламов стянул с головы новый картуз, вздохнул, постоял, вытирая лоб с крупными залысинами носовым мятым платком, — будто не было для него дела важнее, — и вдруг просветлел лицом, в глазах вспыхнули ярые искры.
— Специальность вам надобна, земляки, — сказал. — Профессия, понимаете? В стране нашей готовятся великие дела. Да, да. Будем строить новые заводы, электростанции. Партия говорит, при Советской власти голодный мужик со своим клочком убогой земли ни черта не наворочает. Нужны тракторы, удобрения на поля, пшеница должна расти на громадных просторах.
— Ты, Нурисламов, земляк — так говори толком, шибко долго не агитируй, — пробурчал Мирсаит-абзый. — Рассусоливать ни времечка, ни охоты у нас нету. Вот ты прямо скажи: куда ты нам велишь податься? И к кому, конешно, обратиться тама?
Нурисламов, не раскрывая рта, улыбнулся по-детски пухлыми губами. Понравилась ему, вероятно, крестьянская сметка земляка, крепкий, практический ум его.
— В Березниках химкомбинат строим. На то есть указ партии. Давай к нам, Ардуанов.
— Один али как?
— Зачем один, давай с артелью. Сколько вас?
— Пятнадцать.
— Отлично! А рабочих нам нужно пятнадцать тысяч.
Слушавшие до этого тихо и внимательно, артельщики внезапно заволновались:
— А ежели осрамят нас там?
— Посодют, как пить дать, в лужу посодют?
— Ты сегодня здесь, а завтрева вышел весь!
— Сорока, одно слово! Ишь затрекотал! Пашшол!
Ардуанов повел глазами на ребят — успокоились, поутихли, — тогда, глядя на Нурисламова сверху вниз, он сказал:
— Ну, ладно, товарищ. Пусть так. Поехали, значит. А чего, стало быть, мы тама выгадаем?
— Вы, Ардуанов, сегодня двенадцать пудов подымаете, и даже легко. Да, а как через пять лет? Сколько вы сможете через пять лет подымать? — воскликнул тот, обращаясь не к одному Мирсаиту, но ко всем притихшим парням. — В Березниках вы получите профессию, станете кадровыми рабочими. Впрочем, я вас не принуждаю. Просто хочу вам добра, вот и все.
— Подъемные дадут?
— Обязательно.
— Погоди-ка тогда. Вот, говоришь, обязательно. . А сам-то ты откудова? И кто ты есть?
— Я из отдела кадров. Собираю рабочих на стройку.
— Давно надо было так-то разговаривать!
— Ну, земляк, гляди, ежели не выгорит у нас, пощады не ожидай!
Пока артельщики склонились к предложению Нурисламова и разочлись окончательно с пристанями, замысловатое название «Березникхимстрой» успело прочно закрепиться в их речи. А когда артель Ардуанова, погрузившись на пароход, прибыла в место, указанное человеком из отдела кадров, над дверью старенького амбара Уральских солевых заводов, несколько обновленного, впрочем, висела уже вывеска со знакомым словом: «Контора Березникхимстроя».
Рядом и вокруг амбара толпились люди с мешками, котомками, при фанерных чемоданах, ржали лошади, скрипели подводы. Шум, гам, что на базаре. Базар вкруг амбара, базар.
Ардуанов пошел узнать, нет ли среди народу земляков, и немало поразился. Оказалось, что еще до химкомбината работало здесь пять тысяч татар и тысяча семьсот из них были из-под Казани. Прибывали сюда и арские, и кукморские, и апастовские, но более всего — из Актаныша.
Приезжие одеты в полотняные рубашки, в пестрядинные портки, заправленные в чулки, длинные, из толстого сукна, на ногах желтеют среди пыли новые и поношенные лапти. Люди стоят кучками, о чем-то приглушенно спорят, завидев выходящего из конторы, окружают его плотным кольцом, расспрашивают страстно. Узнав условия работы и сколько примерно будет денег за нее, прикидывают промеж себя, что к чему, сравнивают с чаяньями; кажись, без обману, авось, статься, и не прогадаем — с такими мыслями идут они своей дорогой. Иной раз мелькнет в толпе красная, сытая морда, добрые сапоги, «пинжак» из хорошего матерьялу; что таких сюда пригнало, какая нужда — один аллах ведает...
Над реками Зырянкой и Талычем копают люди себе землянки. Прошла неделя, нет ли, выкопали уж целый земляночный город. И когда по утрам-вечерам разводили костры, чтоб сготовить похлебку, белесых дымных столбов над речной гладью было не счесть.
Долго рассиживаться не дали. Чуть освоились приезжие, как определили им кого пограмотнее в главные, быстро организовали артели. Тут ардуановцам, можно сказать, повезло. К тем пятнадцати мужикам, что приехали вместе из Перми, присоединились еще более ста человек татар и башкир, и стало у них в артели сто семнадцать человек. Выбирать им больно не приходилось — ремесла нужного никто из них не знал, — оттого работали в первые дни куда пошлют. Валили лес, пни корчевали, коряги, хворост, всякий мусор сжигали в кострах. Артель подобралась из людей, всю жизнь занимавшихся черным тяжелым трудом, хлеб привыкли себе зарабатывать силою рук, поэтому норму выполняли исправно. Когда прошел месяц и выдали артели получку да еще подъемные, настроение у всех сделалось хорошее, там и сям образовались даже небольшие компании, пытавшиеся устроить что-то вроде теплого праздничка. Но Мирсаит Ардуанов был не в духе, не нравилась ему ни работа, ни подобные в артели настроения. Земляк Нурисламов звал их сюда, чтобы обрели люди специальность, научились чтоб настоящей работе. А так что получается! И праздник этот тоже: если с каждой получки праздновать, пожалуй, потом и без штанов останешься. Нет, так нельзя, надо, чтоб и работа, и порядок — все по-умному.
Прошло еще время, месяц, два ли, и в народе раскинулся слух: как закончится, значит, работа в лесу, так погонют народ в торфяные болота.
— Что теперь, из-за денег ревматизму хватать, так, что ли?
— Дайош резиновы сапо́ги!
— Спецовки надоть! Пущай через ту болоту гати гатят! — шумели курганские мужики.
Но, пошумев с неделю, угомонились. Никто в болото не гнал, напротив, в амбарах — бывших солеварнях грозных ранее воротил Строгановых — открыли для народа столовую. Потемнелые сосновые бревна внутри тех амбаров мерцали блестками крупной соли, днем артели поочередно обедали, вечерами там же проводили собрания.
...Говорят ораторы о дисциплине, о больших будущих делах, летят слова «профсоюз», «комсомол», еще что-то малознакомое. Прибывшие на стройку слушают терпеливо, против того голоса никто не подает. Каждый думает про себя свою думу, хранит убеждение поперед батьки в пекло не прыгать, боится опростоволоситься и оттого сидит внимательным сычом.
Ардуанов свою артель приводит точно ко времени, потом уводит обратно по землянкам. В профсоюз записались всем скопом: слушают напутственные слова, взносы платят аккуратно, далее того отношения с громадным, кипящим, как муравейник, коллективом у них пока не заходят.
В начале сентября Ардуанова вызвали к начальнику стройки Крутанову. Артель встревожилась. Для чего бы, а? К добру ли, к худу?
Каждый по мере ума своего пытается дать Ардуанову совет, в артели молодежь все больше, поэтому к старшо́му обращаются уважительно: «Мирсаит-абзый».
— Ты там гляди, Мирсаит-абзый... это... не бойсь начальников-то, слышь, не пугайся сильно, — говорит парень из Новокурмашева Нурлахмет Фазлыев. — Ты с ними вот так, покрепче, мы, мол, проталериатского классу, а кто, мол, власть брал, рабочий, значит, и того, гидемон, а раз так — подавай нам кантретные условия, и все тут! Должно быть по закону, и пускай не крутятся тама, а честно! Неча нам мозги затирать!
Его поддерживает и поясняет Бахтияр-абзый:
— Тебя, Мирсаит, учить нечего. Своя голова на плечах. Ты за свою жизнь не один пуд соли съел, доверяем мы, в гиблое место не сунешься. А особливо, я скажу, то́ запомни: с начальниками там поаккуратнее, шибко им, значит, не перечь, чтоб они худого о нас не думали. Сумасброды завсегда башки себе расшибали, и ни хрена у них не выходило, потому ты давай, не гоношись там, потихоньку, полегонечку...
— А ежели в болото загонют?! — вскипает супротив него Нурлахмет.
Бахтияр-абзый мотает головой:
— А вот на это, Мирсаит, не соглашайся. Не ругайся только и в грудь не стучи, не бей шапкой оземь, а сиди шепотком и долдонь свое: «Ниту, мол, ниту, не согласный...»
Ардуанов, скомкав в кулаке купленную еще в бытность его грузчиком, просоленную фуражку, сидит спокойно, молча слушает артельщиков, мерит слова их на свой лад, наматывает на ус; когда, выговорившись, все умолкают, говорит он, гудит неспешно:
— Так-то оно так, братцы, а ежели не дадут другой работы, чо делать?
— Вот-вот, — быстро соглашается Бахтияр-абзый. На стройку приехал он с женой, с кучей детишек, приехал, продав и дом, и скот, назад ему уже пути нет. — Пока мы ишо на хорошем счету. А начальство, оно не глупее нас, надо думать, да. Может, я кумекаю, на все божья воля, пойтить нам, поработать на земле, а? Чего ж мы, лопаты в руках не держали?
— Знаете, хлопцы, тут надо хитростью брать, — вмешивается Нефуш — Певчая Пташка, среди них самый молодой и, к слову сказать, самый болтливый. Может он молоть языком весь день и, что удивительно, не устает вовсе. — Их, начальников, сладенько надо обрабатывать, красно да бойко. Ты, душа моя, Мирсаит-абзый, впорхни туда жавороночком да залейся соловушкой, чтоб не язык у тебя, а мед да масло: пуговка, мол, дивная, начальничек-мотылек ты летошный, бяшечка-букашечка, — так и жарь с присказочкой, — найди, мол, начальничек, ты для нас местечко, чтоб работа ладная, не болото вязкое, пожалей детинушек, нам в болоте страшненько...
Артельщики дружно захохотали.
Ардуанов натянул сапоги с подковками, сатиновую рубашку, выходной, потертый уже малость пиджак и отправился в контору.
Артельщики проводили его с крепкой надеждой.
3
Рано еще над землею, почти засветло, но уже разносится в прохладном утре жизненный шум: падают гулко стволы дерев, и летит крепкая ругань курганских мужиков, погоняющих своих квелых коняжек; пестро одеты, в лаптях, в зипунах, кое-кто даже в грубо выдубленных полушубках, спешат по взгорку люди, торопятся бабы и девки в длинных платьях и сарафанах, сбившись в стайки, подымаются к строгановским амбарам — на завтрак; слышатся шутки, вскрики, хрипловатые чуть со сна смешки.
Солнце, поспевшее наконец выглянуть из-за леса, высвечивает развороченную ямами землю, не осыпавшуюся еще, с поваленных сосен серо-зеленую хвою, пожелтелые кроны берез.
В Старокурмашеве, видать, тоже осень. И березка, которая возле дома, надо думать, пожелтела уже... Как там у них с дровишками на зиму, успели ай нет? Получку свою отправил жене, это хорошо, себе осталось рублей пятнадцать всего, ну оно ничего, хватит. Велел прикупить лошадь какую, чтоб и недорого, да крепко. Без коняги и дом-то не хозяйство, пустое слово. Ежели подфартит малость, можно и телку еще на те деньги, вона... Глядишь — через пару годков корова на дворе. Старший сынка, Мирзанур, мать отписала, в школу, мол, ходит. В деревне теперь своя школа! Ну, стало быть, в этом годе и младшенькая, Кашифа, к учебе пристроится. Мирзанур-то четыре года ходил далеко, в соседнем селе учился. Нынче у себя будет, рад небось. Детишки, как подумать, вырастут пограмотней, нежели тятька их, надо им одежу справную ладить, будут тогда не хуже людей...
Мирсаит-абзый, .вдруг задохнувшись, ясно увидел перед собой четырнадцатилетнего сынишку и Кашифу, дочку девяти лет, ласковую, тихую, потом и мать их, Маугизу, бойкую на язычок, любящую детей до страсти.
Оглядывая задумчивыми еще глазами толпу новоприбывших, которая гомонила у конторы, прошел он вовнутрь. Перешагивая через корзины и мешки людей, на корточках томящихся у замшелых стенок, грузно, по коридору, миновал отдел кадров — там тоже было полным-полно мужиков, видно, прибывали они каждодневно. Ждут мужики документы, волнуются, лица их, заросшие колючей щетиною, взволнованны, но галдят довольно мирно пока, без особого крику, спрошают друг друга о деле:
— Пачпорт дали, што ль?
— Бяда! Отправют обратно, дык погнесся ведь от обиды!
— Но, гололобый, куды прешь?
— Закройсь, паршивец! Ить я тебе врежу по уху!
— Пашул вон! Что ты, не при царе Микулае, а то — врежу!
— Тише!
Мирсаит-абзый шел сквозь народ в коридоре решительно, дойдя же до кабинета начальника строительства, сильно взволновался. Снял с головы фуражку, постукал сапогами, сбивая пыль, которой не было, потоптался несколько, потом все же толкнул осторожно дверь...
— Можно ли?
Ответа ему не было, да и сам вопрос его потонул в шуме голосов, наполнивших большую комнату, оказалось, и здесь полно народу.
— Можно, что ли? — спросил он еще, остановясь у порога. Никто не услышал по-прежнему, и Ардуанов, кашлянув, обратился уже громче.
От стола, окруженного гомонящим людом, приподнялась чья-то голова. Потом показалась девушка с густыми черными волосами, уложенными в две косы, с бело-румяным, как спелое анисовое яблоко, лицом, выйдя из толпы, она подошла к Ардуанову.
— Не товарищ ли Ардуанов? — спросила и она, легко улыбаясь, чисто по-татарски.
Мирсаит-абзый посветлел враз сердцем, словно обласканный неожиданным теплом, улыбнулся навстречу.
— Я, дочка, я это. Сказывали, мол, будто вызывал кто-то. Правда ай нет?
— Да, да. Вам к восьми, пока еще рано, минут пятнадцать придется обождать. Потерпите чуть-чуть. Я сейчас сообщу Никифору Степановичу, хорошо? Вот, посидите на моем стуле... — она поставила перед ним с высокою спинкою стульчик, постукивая каблуками, пошла к двери в глубине комнаты.
Тут Ардуанов понял наконец, что комната эта еще не кабинет начальника, а, получается, вроде как приемная. «И как попала в грубый народ такая райская птичка?» — ухмыльнулся он про себя, вспомнились вдруг молодость, времена, когда, умыкнул он свою будущую жену, — сделалось ему хорошо и приятно. Хотел было присесть на стул, поданный красивой девушкой, и чуть не ударился об пол — стул, пока раздумывал он, давно кто-то унес. Видно, крепко досадил он тем, у стола, что прервал их дело. Вон как уставились, кажется, слопали бы, да пока молчат сердито.
— Заходите, пожалуйста, товарищ Ардуанов, вас просят, — увела его давешняя красавичка от обжигающих недовольных взглядов.
В кабинете начальника встретил его стройный человек в костюме, галстуке, с зачесанными на косой ряд светло-русыми волосами. Был он довольно высок, чуть, может, ниже Ардуанова, но худощавей гораздо.
Ардуанов, войдя, мельком обежал глазами комнату главного, — мебелишки стояло не густо, как и в приемной: фанерный шкап, большой дубовый стол да три стула.
Начальник представился — Крутаков Никифор Степанович, — усадил грузного собеседника на стул, подтянув свой поближе, расположился рядом и начал просто, обращаясь к Мирсаиту-абзый, как к старому знакомому:
— Это вы хорошо сделали, товарищ Ардуанов, что пришли. — С усилием выволок он из нагрудного кармана пиджака большие, с чайное, наверное, блюдечко, сталью поблескивающие часы, взглянул на них. — А то бы сам за вами пошел, честное слово. — Помолчал, выдержав небольшую паузу. — Вы читать-писать смыслите?
— Угу, — недоумевающе сказал Ардуанов.
— О, это уже лучше. Вот, посмотрите пока газетку, она по-вашему напечатана. Мне тут срочно письмо одно надо отправить, так вы пока читайте вот, — говоря все это, он свернул газетный лист вчетверо и хлопнул по нему ладонью, показывая, где читать.
Газета «Путь социализма», выпускаемая в Свердловске, была знакома Ардуанову. Мирсаит-абзый не раз ее прочитывал «от и до». Когда работал еще грузчиком, искал он в печатных строках новости страны, разные там объявления о работе, чтоб, конечно, по душе.
Сейчас же он уткнул в место, указанное Крутановым, дубовый палец и, водя им по словам, стал читать:
«...О строительстве Березниковского химического комбината...» — Вслед за пальцем шевелил он и губами, читать так было сподручнее. Вдруг ему показалось, что Крутанов и не пишет вовсе, но с великим вниманием смотрит как-то пристально на него, и Ардуанов поднял голову: правда, Крутанов как раз глядел ему в лицо, и тонкие губы его вздрагивали в начинающейся улыбке, эти тонкие, распускающиеся улыбкою губы смели с облика Крутанова пружинную деловитость, — синие яркие глаза Никифора Степановича теплились ровно и глубоко.
В жизни своей нелегкой много людей повстречал Ардуанов, стало быть, и глаз углядел много; в большинстве своем начальники разговаривали с подчиненными, опустив их долу, не из робости, конечно, но из равнодушия, забив крепко взгляд в вороха бумаг перед собою. Этот прямо смотрит, да еще улыбается. Видать, собирается задать работку куда как тяжелую. Держись, Мирсаит, не поддавайся.
Крутанов вышел из-за стола, сел опять рядом с артельщиком.
— На этих днях трест «Уралсевтяжстрой» приступает к строительству в Березниках огромного химкомбината. Дело в том, товарищ Ардуанов, что первые работы придется начинать с торфяного болота.
— Отчего так?
— Со станции на строительную площадку надо тянуть дамбу, вот какая штука. Все оборудование для стройки пойдет через нее. Попозже протянут по ней железнодорожную ветку.
— Дак при чем же тут я?
— А вот при чем, товарищ Ардуанов, слушайте: мы, то есть руководители стройки, решили поручить насыпку той дамбы твоей артели. А вернее, посчитали, что лучше, нежели твоя артель, найти нельзя, трудно, понимаешь?
— Стой... как же так? — озадаченно ответил ему Ардуанов. Помолчал, поглаживая гладкий бритый затылок. — Мы ить грузчики, а не землерои. Да мы того торфу никогда не трогали, что оно есть!
Крутанов дальше не говорил, смотрел молча на необъятно широкие плечи Ардуанова, на большие пышные усы его, мохнатые черно брови, круглое и крепкокостное лицо. Потом заговорил, видно, от чистого сердца, о трудолюбии татар, о геройстве их в труде, о том, что работают татары не на страх, но на совесть, чтобы не даром день провести, а работа бы шла. И рассказал убедительно, как пришлось ему работать бок о бок с татарами и в Перми, и в Москве, словом, на пустом не остался, утвердил себя примерами.
— Пачему окончательно мы? Пачему других не послать? — не поддавшись, толкнулся Мирсаит-абзый, наверное вспомнив, как провожали его артельщики.
Крутанов видел, что большие, светлые глаза взирают на него бесхитростно; Мирсаит-абзый ждал настоящих слов. И начальник понял, что лучше сказать прямо, без обиняков, без обходных маневров.
— Ну, разумеется, мы могли бы и другим поручить — это бесспорно. Вас, товарищ Ардуанов, посоветовал мне старый друг, партиец...
— Кто такой?
— Нурисламов.
— Нариман, что ли?
— Он самый.
— А откуда вы его так давно знаете?
— Работали вместе на заводе в Перми, на стройку тоже вместе приехали, вот так.
— Гмм... Говорите — так... Друг, стало быть, а? — обрадовался вдруг Ардуанов, но, смутившись тут же своего нечаянного басовитого выкрика, умолк, сидел неловко.
Крутанову надобно было не упускать случая.
— Да, вот так, товарищ Ардуанов. Не верить другу я не имею права. А тут еще такая сторона: у тебя, товарищ, пролетарская закалка.
— Откудова вам это известно?
— Из анкеты, чудак. Тебе, знаю, и царская тюрьма знакома. И на войне был, прошел ее школу, а потом, я же своими глазами вижу: каждый день приходят люди, спрашивают тебя, а не другого. Кстати, когда к нам прибыл, сколько человек было в твоей артели? Пятнадцать? А теперь?
— Сто семнадцать, кажись.
— Ого! — одобряя, кивнул головой Крутанов и, ожидая ответа, напряженно глядел на артельщика.
Мирсаит-абзый покашлял еще и поднялся.
— Будет, товарищ Крутанов, — сказал он твердо. — Выполним.
Крутанов, улыбаясь, довольный, поднялся со стула.
— За понимание спасибо тебе, товарищ Ардуанов. Я верил: так оно и будет. Только вот что — спецовок пока нету. Сапог тоже не хватает, снабдить не можем.
— Лапти имеются?
— Лаптей выписали много. Возьмете на складе третьего участка. Сегодня же распоряжусь.
— Струмент?
— На сегодня: лопаты, кайлы, ломы, тачки, носилки.
— Когда зачинать?
— Завтра же поутру.
— Лады, — закончил Ардуанов. Когда прощались, начальник стройки крепко стиснул ему руку, впрочем, едва обхватив ее.
— Трудно будет, товарищ Ардуанов, выдюжите? Две артели на такую работу не согласились, и парням скажите своим: темпы строительства зависят теперь от вас, от того, как начнете вы работать.
— Понял, — отвечал ему нетерпеливо уже Ардуанов, но, войдя в положение начальника, добавил для успокоения: — Не подведем, не сумлевайтесь.
Возвращался он той же дорогою в тайге, и так же ухали оземь деревья, по-прежнему яро матерились лохматые возчики. Шел Ардуанов быстро, тяжело перемахивая через ямы, через упавшие поперек кряжистые стволы. И раздолбленная земля, и сотрясающий грохот валящихся деревьев были ему теперь близки и дороги; он чувствовал связь свою с ними и думал о предстоящей работе. Душа его ждала чего-то волнующе высокого, каких-то светлых перемен — ему поручили начинать стройку. Вот ведь, господи ты боже мой, крепил себя не поддаваться, отринуть то болото безо всяких, а сам, если на то пошло, и слова против не вымолвил. Погоди, а не подвел ли он артель? Ну, нет, ребята, конечно, поймут...
4
Напугав уральскую тайгу, грянул, раскатился выстрел. Никифор Крутанов с охотницкой двустволкою в руках поглядел на раскудрявившийся облачком, вслед за снопом огня, двойной дымный клубок в прозрачном воздухе, вымолвил артели рабочих, затихшей в ожидании команды:
— Начали, товарищ Ардуанов!
Мирсаит-абзый не спеша вонзил свою тяжелую большую лопату в землю, выворотил целую глыбу сыроватой торфяной почвы и, вскинув ее на уровень плеч, с силою, словно противника на борцовском сабантуе, кинул вправо от себя. В эту минуту все мысли его были об артельщиках, и ему хотелось стать для них примером, понравиться и увлечь за собой. Бахтияр Гайнуллин, стоявший в стороне от Мирсаита шагов на пять, — старший после Ардуанова в артели человек, — поплевав в ладони и бормотнув что-то неслышно, взялся за лопату. Подражая мулле, Нефуш — Певчая Пташка — завел то ли в шутку, то ли всерьез: «О, господи боже, стоять мне негоже, дай, господи, силы, слышь, боженька, милый, себе просить не стану, батыру Ардуану дай силу, не жмоться, ему с землей бороться, а все, чего нарою полуденной порою, пущай берет со свету жена, которой нету, жена моя Зульхабира, жена моя Гульхабира, Манлениса, Зимлениса, Бибисара, душа моя!» — и начал неистово перелопачивать торфяное болото.
Не прошло и пяти минут, как все вокруг стало одной колыхающейся массой землекопов, мерно наклоняющихся и выпрямляющих спины, блистающих неровно остриями лопат.
Засновали, лавируя промеж летающих комьев, люди с носилками, таскали выбранную землю, тайга прорезанная большой просекой, наполнилась звучным гулом.
Прораб Борис Зуев, перемежая русскую речь татарскими словами, объяснил людям, начинающим от дороги дамбу, порядок работы. Зуев не очень-то отличался от артельщиков, которые в домотканых рубахах и портках, в одинаковых лаптях все походили друг на друга; прораб был в подпоясанной ремнем зеленоватой гимнастерке, облупленных малость, но крепких еще сапогах. Борис — родом откуда-то из-под Елабуги — и по-русски, и по-татарски знал хорошо, отчего и поставили его на третий участок, к татарам и башкирам.
Когда Мирсаит-абзый, приустав, остановился на миг передохнуть, увидел он перед собой свою артель, охватившую пространство поболее, пожалуй, доброго хлебного поля, работавшую дружно, споро, не подымая головы. На душе у него успокоилось. Лишь одна забота осталась в ней, как гвоздь в сапоге чуть заметный: выдюжат ли эдак до конца?
Сказали, мол, для того, чтобы выбрать от дамбы торфяную почву да спустить воду, надобно будет месяца два. Сейчас осень только-только наступила: сентябрь, дни еще теплые, но как-то потом обернется? В октябре уже подморозит, и в ледяной сырости болота станет невмоготу: люди все в лаптях да в холщовых штанах, это — худо. Мокрая земля теперь-то уж, налипая безобразно, изводит силы, пробивает обмотки, холодит ноги.
Сам Мирсаит-абзый мог бы на работу и в сапогах выйти, но сильно не хотелось ему выделять себя среди прочих, оттого, плотно обмотав ноги портянками, был он тоже в лаптях.
Вот к нему подошли, обойдя весь третий участок, прораб Зуев и начальник строительства Крутанов, остановились с озабоченным видом.
— Ну, что, товарищ Ардуанов, идут дела? — произнес добро и в то же время не рассыпаясь в благодарности Крутанов. — Как, по-твоему, надо, наверное, устроить хлопцам организованный отдых, а? Или по-другому?
— Я так соображаю, что устроить, Никифор Степаныч. Негоже будет отбивать у ребяток охоту с начального дня, сломаются, — с серьезностью сказал. Ардуанов, втыкая лопату в землю.
— И как организовать, на сколько?
— Надо бы костерки запалить, конечно. Чтоб, значит, поочередно портянки просушить, обогреться вообще хорошо.
— Верная мысль. Еще что?
На этот раз Мирсаит-абзый обратился не к начальнику, но тихонько, по-татарски шепнул прорабу Зуеву.
— Товарищ прораб... сам знаешь, народ у нас сильно к чаю привыкший, нельзя ли распорядиться, чтобы к отдыху всем по кружке горячего чайку, а?
Крутанов, вытянув шею, оборотился к Зуеву.
— Что он сказал?
Зуев передал просьбу старшего, и Крутанов, услышав ее, заблестел светло глазами, озабоченно нахмуренные темно-пшеничные брови его разгладились весело и живо.
— Ну и прекрасно, разве трудно костры разжечь? — сказал он, улыбаясь.
— Костры-то, конечно, не трудно...
— Так что же тогда?
— Чай откудова взять?
Крутанов, повернувшись к прорабу, велел , не раздумывая:
— Чай и сахар доставишь из столовой.
Говорят, теплое слово всю зиму греет. И Ардуанов был несказанно рад, что просьба его принята оказалась так благоприятно.
После ухода прораба и начальника стройки прошло не больше получаса, как привезли в арбе пузатый парующий бак. На подводе, рядом с возчиком, сидел и прораб Зуев. Он легко спрыгнул наземь и, подойдя к столбу с подвешенным к нему на железной проволоке куском рельса, стал звонко бить.
Землекопы, втыкая лопаты в сырую мягкую землю, пошли на отдых.
Ардуанов, подозвав своего помощника, Исангула Юлдыбаева, велел ему развести костер. Башкиры — народ, привыкший запаливать в степных просторах жаркие огни, — мигом приволокли из лесу сколько надо хвороста и сушняка; не один, но четыре сразу вспыхнуло костра на торфянике, сделалось почти уютно. Артельщики, попивая из жестяных глубоких кружек горячий сладкий чай, нахваливали прораба, кряхтели, сушили с прибаутками прокисшую от влаги обувку.
Бахтияр-абзый, почувствовав от горячего чая и тепла небывалую легкость в себе, заговорил шутливо:
— Ах, и согрел ты нас, Мирсаит, голубчик, теперь и работа пойдет живее, как пить дать. Ага! А не сообразишь ли, родной ты наш, ко второму, значит, перестою по чекушечке махонькой, то-то хорошо станет, а?
Услышав его, подлетели живо, распахнув в улыбке рты свои до ушей, и башкирские джигиты, загалдели:
— Кумыс проси, старшой, кумыс! А чего, голова, твое слово закон! Ей-бо! Ты и по-русски шибко знаешь, мы — худо, давай, требуй у них кумысу!
— Не будет этого, — отрезал Ардуанов строго. — Ежели охотники вы до чекушек да кумыса, перебирайтесь к черту в другую артель. Ну, ладно, братва, поднялись, пора, за нас работать дядьев тут нету. Давай, Борис, лупи в свою рельсу, чтоб громче.
Когда прозвучало, все быстро и разом поднялись.
— Ну, жестко стелет старшой, спуску, видно, не даст! — выпалил шагавший позади всех Киньябулат. Впрочем, сказал он это не зло, улыбался и подмигивал.
Через несколько минут полетела вновь с лопат вязкая тяжелая водою земля, забегали скоро с носилками, по обе стороны будущей дороги стали подыматься на глазах рыхлые горы.
5
Километрах в трех от болота, где трудилась артель Ардуанова, на поросшей плакучими ивами излучине реки Зырянки три человека удили упорно рыбу.
Расстелив под себя дорожную шубейку, плотно сидел Сагайкин, в кожаной потертой фуражке, ощетинясь седыми в желтой кайме усами, закинув крючок с наживой, набил туго трубку, разжег. — И голосом, резкостью своей наводящим уныние и тревогу, сказал:
— Татарва поднялась, чуете?
— Тайги не знают, нехристи... — сплюнув через плечо, сказал Шалага, с виду беспечно молодой парень. — День повкалывают, два, а потом — аллюр три креста.
— Зелен ты еще, Петруся! Для тебя вся жизнь — самогон да финка, чечетка да красотка! Татаре — народ живучий, вкалывать любят. Терпят и мороз в пятьдесят градусов, и жару, когда голова с макушки печется вкрутую! Другие вон спецовки требовали, без них на работу отказались выходить, а эти пошли, сволочи...
— Ну и чего?
— Молод ты очень. Сам и мозгуй отсюда. Понял?
— Хэк, шутник, как тут не понять? Ты, господин Сагайкин...
Сагайкин сверкнул белками на Шалагу:
— Брось кривляться, гнида! Какой такой я тебе господин? Секретарь постройкома товарищ Сагайкин! Понял?
Шалага ухмыльнулся необидчиво, скорее даже обидно для Сагайкина:
— А мне одинаково: что товарищ, что господин! Обое начальники. Только вот я, Ксенофонт Иваныч, одного не могу уразуметь: отчего ты, товарищ секретарь постройкома, заладил через слово — понял да понял?
— Как же прикажешь ладить?
— Надо бы говорить — сумел ли я объяснить толком?
— Глупо. Впрочем, какая разница?
— Когда ты говоришь: понял? — выходит, что считаешь ты себя за умного, а меня за дурака. А ежели говорить: сумел ли я объяснить? — выйдет: ты, господин-товарищ, дурак дураком, а я парень ничего так, почти прохвессор.
Сагайкин молчал, потягивая из трубки, сопел, потом вдруг, тряся усищами, захохотал.
— Знаешь, Шалага, представил я те еще времена и твое глупое тарахтенье тоже. Тогда начальство тебе умничать не позволило б. Врезали бы тебе промеж ушей плеткою, и ты бы заткнулся живо. Знал бы тогда, кто умный, а кто дурак! Сумел ли я объяснить?
— Ну, — сказал Шалага терпеливей прежнего. — Это в те времена, Ксенофонт Иваныч. Они же, как звестно, — тю-тю.
— Ладно, хватит, подурачились достаточно... — Сагайкин стал серьезен и жесток. — Смеяться будем, когда время наше придет. — Оборотился потом к третьему, который сидел безучастно от них в сторонке, нахлобучив войлочную шляпу, завернувшись — в кожанку, взирал с лицом тусклым и неясным,на чуть покачивающийся поплавок: — А ты что затих, Шакир?
Тусклый пошевелился, выдернул из воды крючок и, наживив его розовым червем, бросил обратно в реку. Неспешно и глухо проговорил:
— Погожу я пока, Ксенофонт. Может, и щуку вытащу.
6
Когда бригада Ардуанова вернулась с торфяного болота на обед, встретили ее сразу двумя новостями. Первая из них — на стене столовой, временно устроенной в амбаре Строгановых, висел длинный, выполненный на красном материале плакат: «Привет ардуановцам, первым начавшим великую стройку!»
Плакат был начертан на русском и татарском языках, что само по себе очень порадовало артельщиков. Они и принялись шумно переговариваться, делиться нахлынувшими впечатлениями; несмотря на сильнейшую, от тяжкого труда на болоте, усталость, души их воспрянули.
Вторая новость тоже оказалась приятной: на Родовой горе артель Павла Громова начинала ставить просторные бараки. А переселяться из землянок первыми выходило тем, кто даст больше кубиков земли, то есть лучшим землекопам.
Об этом сказал секретарь постройкома Ксенофонт Иванович Сагайкин. Он сам встретил в столовой бригаду Ардуанова и, поведя дело решительно, рассадил быстро людей за длинные столы и перед раздачей супа проговорил короткое приветственное слово:
— Мы не ошиблись в грузчике с Волги Мирсаите Ардуанове. Он со своей артелью показал пример всем, кто приехал сюда на стройку. Те болтуны и саботажники, которые много требовали, но не работали, остались при своем интересе. Поздравляю вас, товарищи ардуановцы, желаю успехов и дальше. Лентяям и прогульщикам, в общем, тем, кто мешает строительству социализма, нет и не будет среди нас места.
Сагайкин подошел к Ардуанову, скромно и тихо сидящему за столом, пожал ему крепко громадную руку. И Мирсаит-абзый почувствовал, какая жесткая хватка в ладони товарища секретаря постройкома, подумал облегченно: «Кажись, твердый человек, хорошо будет с ним работать».
Артельщики же после слов Сагайкина, за столами, покрытыми белоснежными полотняными скатерками, под зажигательным взором командарма Ворошилова, чей портрет в красивой раме светился с темной стены, почувствовали себя как на празднике, стало им весело и надежно; а в тарелках перед ними вместо надоевшей овсяной болтушки дымилась вкусно мясная наваристая лапша.
От такого настроения, впрочем, долго за столом рассиживаться не стали, поев быстро и плотно, пошли они прямиком на свою работу. Снижать после обеда темпы очень не хотелось, но на сытый желудок работалось плохо: лопаты мелькали уже не так быстро, как поутру, истомная вялость сковывала досадно движения. К тому же из-за отсутствия холщовых рукавиц ладони у многих покрылись светлыми водянистыми волдырями; молодых скрутило в пояснице. Сдаваться было нельзя, невозможно: и работали, стиснув зубы, перетянув туго усталость поясами. Когда, с притупившимися лопатами на плечах, вышли они в дорогу домой, солнце уже катилось красно за Усольские черные леса.
Поужинав, решили по землянкам сразу не расходиться: промокшие насквозь ноги прели под влажной коркой портянок, дышали потом и грязью, оттого надумали пойти всей артелью на реку Зырянку, искупаться чтоб и простирнуть бельишко.
Сентябрь уже прошел начало свое, но дни последние были удачно теплы и солнечны — вода в реке охладиться пока не успела. С шумом, обгоняя, друг друга, бросились в нее, хохотали, брызгались и орали, мылись с мылом, колотили неистово обмотки и портянки. На землю тем временем опустились дымно сумерки. Мирсаит-абзый, заметив это, обеспокоился, крикнул, что с утра опять всем на работу. Однако парни Исангула Юлдыбаева — затейники из башкир, выросшие, можно сказать, в водах Белой и Демы, — торопиться не пожелали. Неудобно было и Мирсаиту Ардуанову с первых же дней загонять джигитов в жесткую сбрую понуканий; стал он ждать их; пока башкиры плескались напоследок в реке, провожал в дорогу до дома остальных парней — они уходили группами.
Сам же пошел с башкирами.
Облегченные после купания в ласковых струях Зырянки, рабочие шагали, перекликаясь весело меж собой, укромным лесным путем, гуторили оживленно, что дела, мол, идут на седни куда как неплохо, и если так пойдет дальше, пожалуй, не прогадают они, с получки можно будет справить обновки да и приодеться.
Пройдя самую чащобу тайги, остановились вдруг, пораженные запевом какой-то пичужки. Ошалелая птаха, право слово, какое щебетанье в сентябре-то, ну? Али бродит кто по лесу, пташек передразнивает?
— Ай-яй, каково песню выводит, кра-а-сиво! Так и хватает за душу, — выразил Киньябулат общее для застывших людей чувство. — На Деме, бывало, эдак не высвистывает, а тут — гляди-кось! А чего, братва, давай маненько послухаем, а? Куды торопиться-то?
Сгрудились все в маленькую толпу, слушали. И в остановившееся мгновение это большой камень, прочертив со свистом над головами, ударился, разбрызгивая кору, в ствол сосны. Тут же полетело со всех сторон градом: камни, кирпичи, засохшие комья глины, палки. Кто-то уже, схватясь за разбитую голову, кричал дико и страшно.
— Ложись! — прокричал Ардуанов.
Разом упали на землю. А пташка в зарослях все заливалась самозабвенно, слышно было даже сквозь шорох и свист, стук и ругань. В дальней стороне ухнул сорванно филин, протяжный и разлившийся звук скрылся в опадающей, сбитой булыгами листве.
«Ну, не понравилась кому-то наша работа, — подумал Ардуанов, прижимаясь к земле и следя настороженно за внезапно же утихшим каменным градом. — Не понравилось, что споро мы начали, злобятся. Не нужно, стало быть, разделять артель; ходить теперь всегда вместе, смотреть в оба».
7
Досадуя крепко на ночное происшествие, Мирсаит-абзый докладываться о том с жалобой не пошел-таки, к начальству в тревоге не ударился. «Обыкновенное дело, — думал он (думать вообще любил больше, чем говорить), — бузотеры хулюганют: озлились, видать, спецовок, мол, не дают, условиев нету, а тут гололобые еще лезут. Сволочи, рвать горазды, а как работать — кишка тонка. Ну, камнями они ничего не достигнут: раз покидают, два, опосля притомятся».
Ошибался Мирсаит-абзый. За месяц, что работали на стройке, врагов у ардуановцев на глазах прибавилось. У кассы, в очереди за получкой, другие артели смотрели на них недружелюбно, едкими глазами — получка у бригады Ардуанова раза в полтора выше, а как ей быть не выше, когда ни прогульщиков, ни лодырей в бригаде нет: норма всегда выполняется аккуратно. На собраниях тоже летят в сторону передовой артели грубые в колючести словеса, летят в противовес, потому как всякий раз ставят ардуановцев примером для остальных, за высокую в бригаде дисциплину труда.
Конечно, были все эти исподлобные взгляды и грязная ругань ерундой, поддающейся терпению, но вот пришли однажды с рыбалки Нефуш — Певчая Пташка и Киньябулат, пришли без рыбы, без удочек, приковыляли даже, избитые в кровь, с заплывшими глазами.
Мирсаит-абзый весь день ходил невеселый, был он угрюм, хмурил беспрестанно брови, в сердце его разгоралась обида — начальники тоже, туды их, слепошарых! И чего смотрят? Нет чтобы установить твердый порядок! Али ждут, когда артель на артель в кулачки схватются? Ежели на то пошло — нет пока на стройке бригады, которая смогла бы одолеть ардуановцев. Так нельзя, надобно принять меры. За три километра всего стоит поселок; тюрьма там с царских времен еще осталась, стены у ей крепкие, из сосновых просмоленных бревен. Вот и сообразить при стройке милицейские посты, похватать тех распоясавшихся хулюганов, устраивать их туда, припугнуть маленько. А то раз с рук сошло, два миновало, они теперь обнаглеют — не удержишь...
Мрачно было в артели, вид избитых в кровь парней подействовал на рабочих удручающе, и трудились они в тот день как-то вяло, без охоты... Во время обеда Ардуанов поручил людей Исангулу, а сам прямиком направился в контору. Сложилось в нем настоятельное решение поставить «вопрос ребром». Но в конторе не смог он встретить ни начальника стройки Крутанова, ни Хангильдяна — секретаря парткома, ни даже председателя постройкома Мицкалевича. Строительство шло крупное и было широко разбросано: надо, оказалось, строить узкоколейку и для того осушать Селинское болото; на станцию тянулись, застревая надолго, нескончаемые вереницы эшелонов, груженных цементом, галькой, металлическими конструкциями, — требовалось принять их все без промедления и доставить материалы к месту закладки основного комбината; дело стопорилось из-за центральной дамбы, она пока не была готова. Руководители стройки метались с объекта на объект, и встретить их по надобности не представлялось возможным.
Мирсаит-абзый, потерявший всякую надежду встретить их, собрался уже вернуться к артели, когда, в пути, столкнулся с товарищем Сагайкиным.
Ксенофонт Иванович повел бригадира в постройком. Там, усадив, выслушал его внимательно. Слушал, стиснув зубы, играя желваками, сжав за спиною кулаки и вышагивая по комнате. Прощаясь, сказал:
— Не беспокойтесь, товарищ Ардуанов, порядок установим! Бузотеров, мешающих строить светлое здание социализма, будем под корень рубить острым топором наказания.
Прошел день, другой, порядка все же не прибавилось. А в артели Громова, ставящей бараки на взгорье, учинилась безобразная стычка. Началась она с того, что два бузотера, не согласных с нормами выработки, пошли ругаться со старшим.
Придя, будто бы сказали бузотеры: какой-то черт, татарин Ардуанов, нам не закон, и категорически выступаем против, чтоб повышать каждый час из-за него нормы.
Тут, как говорили, артель вдруг разбилась надвое, одна часть встала за Громова, другая половина ударилась в крик, и два зачинщика масла в огонь подливали. После крика и спора пришли люди в буйство и учинили ту жестокую драку. Бились на кулачках, кидались поленьями и вообще чем попадя — стычка получилась преотчаянная. Двух человек, крепко изуродованных, увезли спешно в больницу.
На другой день после скандала плотники, конечно, не работали. Это уже задерживало на одном важном участке ход всего строительства и, кроме прочего, било и по соседям, например, по бригаде Ардуанова, которая, казалось бы копая землю, никакого отношения к плотницким заботам не имела. Но связь была прямая: вырвалась уже на волю беспощадная армия холодов, в землянках сыро, хлюпало, и людей стал мучить резкий простудный кашель, отчего некоторые даже слегли.
А дня два тому назад к Исангулу, разжигавшему у землянки костерок, подшагнул какой-то неизвестный хмырь и попросил закурить, у Исангула не было; хмырь плюнул и пустился в яростную ругань, понося Исангула и всю его родословную, облаял и бригаду, кидая в нее грязью. У Юлдыбаева кровь страсть какая в необузданности: обеспамятел он и, вскочив, кинулся на сквернослова, налетел, вдарил сплеча да, свалив, и насел сверху. На шум выбежали из землянок, засучив рукава, башкиры — народ гордый, не терпящий даже малых оскорблений. Запылав от такого, бросились и они к обидчику, уняли бы его совсем с лица земли, ну, ладно, подоспел Ардуанов, уговорами отвел джигитов от худого дела; а то чуть было не заварилось в тот раз смертоубийство. Выходило это на поверку чистой провокацией, и оттого встревожился Мирсаит-абзый окончательно, хоть и удалось ему удержать парней, не допустить их до беды. Но каждый день уговорами было не спастись уже, терпение у людей лопнуло, потому спешно требовалось обуздать провокаторов, хулиганов и драчунов, обнаглевших от безнаказанности, выходками своими ожесточающих душу трудового народа.
По просьбе Ардуанова в тот же день, ближе к вечеру, начальник строительства собрал экстренное собрание. В соляной амбар, служивший днем столовой, вечером клубом, набилось много людей — все почти рабочие. Руководители стройки тоже были налицо, сидели за столом в глубине амбара, для пущей твердости вытребовались из Веретьи два милиционера с кожаными кобурами на правом боку. Стол начальников поместился на возвышении из досок наподобие неуклюжей сцены, видно было его, впрочем, хорошо, милиционеры же встали по обе стороны у стенки, держа руки назад. Ладно сидящих голубоватого цвета шинелей, кубиков в петлицах и увесистых, оттяжно топырящихся на ремнях наганов хватило, чтобы обрызнуть холодком опасения самых горячих крикунов.
Собрание началось серьезно и кратко. Никифор Степанович сказал о важности химкомбината, строящегося в самом сердце Урала, об удобрениях, по которым тоскует земля в голодных деревнях.
Потом он объявил о создании специальной комиссии по борьбе с хулиганами и бузотерами, мешающимися под ногами строителей, отметил, что председателем ее назначен секретарь постройкома Товарищ Сагайкин. И тут же передал слово самому товарищу Сагайкину.
На секретаря постройкома, — в высоких, блистающих желтой хромовой красотой сапогах, в добротном галифе вышагнул он, словно медно начищенная войсковая труба над грудой кураев, перед одноликой в лаптях и зипунах толпой, к середине помоста, — в сторону его глядел народ с явным недоверием. Разница в облике резала глаз, как слух — фальшивая нота.
— Вся страна затаив дыханье следит за нами! — воскликнул товарищ Сагайкин. — Завод азотистых удобрений — первый химический флагман страны. Азот — вкупе с капитализмом — разрушение, гибель, война и смерть. Азот — вкупе с социализмом — высокий успех, новая жизнь человека, и, наконец, азот — это культура в наших условиях. А раз так, давайте, товарищи, красиво возводить наш будущий день. Давайте крепко строить индустрию страны социализма!
В амбаре висела в воздухе сырость, было холодно, зябко, но от жаркого дыхания сотен людей потеплело вдруг. После фраз Сагайкина народ задвигался, загудел нестройно, взмахивая руками, там и тут глухо зашептались.
— А хулиганы как же? Чего с ними делать? — прокричал хрипловатый голос. За ним тут же прицепился другой:
— Вот именно что! Ежели тебе приставили к начальству, давай, растолкуй как следывает!
Ксенофонт Иванович, оправляя тщательно повязанный галстук, подождал, пока шум стихнет.
— Я ждал этого вопроса, товарищи, и я готов. Наше строительство каждый день выдвигает на передний план одаренных работников. Артель, которой руководит пермский грузчик Мирсаит Ардуанов, на протяжении месяца выполняла норму выработки на сто сорок процентов. Павел Громов вывел также в первые ряды бригаду плотников. Слесари коммуниста Николая Вотинова в ближайшие дни начнут монтаж водонапорной станции. Работа, выполненная ими, служит примером для тысяч других рабочих.
— Чего с хулиганами делать? — ворвался тот же хрипловатый голос.
— Праульна! Они громовскую артель с панталыку сбили.
— Бараки теперче не поспеют.
— Али в землянках прикажешь зимовать?
Народ шумел озлобленно, из разных углов амбара летели к помосту заковыристые, сердитые выкрики.
Крутанов, успокаивая людей звоном медного колокольца, думал обрывочно и тяжело: «Томит собрание, дурак. Дразнит рабочих... Народ не за красным словом, за конкретными мерами пришагал. Эх, неладно, поставить бы Мицкалевича председателем комиссии. Обидно, что уехал он в Москву, раньше двух месяцев и не жди его...»
— Ну, ладно, не затягивайте, — сказал вслух Сагайкину и глянул недобро.
Товарищ Сагайкин, оборотившись к Никифору Степановичу, наклонил голову, выпрямился, заговорил снова, поведя плавно рукой:
— Товарищи строители, успокойтесь. Борьба с несознательными элементами будет поставлена остро. Наша задача — прежде всего организовать строителям лучшие условия труда и культурный отдых. Второе — ударить топором наказанья в корень мешающих строительству социализма.
Мирсаит Ардуанов нахмурился. Последние слова Сагайкина были ему знакомы, точно так утешал он Ардуанова и в прошлый раз, но не ударил палец о палец, чтобы установить порядок среди артелей. Болтун, стало быть!
Словно подтверждая и одобряя его мысли, народ вокруг вновь зашумел, выражая откровенное недовольство.
— Чего-то топор у тебя шибко вострый... как сибирский валенок.
— Пока ты его точишь, вона сколько народу поизуродовали!
— Да он не топор, а лясы точит, брехун, одно слово!
— Довольно словесного помету!
— Не желаем!
— Долой брехунов!!
Кто-то от двери свистнул так пронзительно и разъяренно, что у всех позакладывало в ушах, многие вскочили. Милиционеры бросились в ту сторону, но пока продирались они сквозь плотно сбитую массу взбудораженного народа, свистуна уже и след простыл...
После собрания что-то вроде небольшого совета устроили и сами руководители стройки. Секретарь парткома Хангильдян сидел на собрании молча, слушал лишь, оглядывая народ живо черными глазами, теперь же, уставясь прямо на товарища Сагайкина, сказал без обиняков:
— Ты, Ксенофонт Иванович, крутую кашу заварил. Взбаламутил народ пустыми фразами!
— Но почему, разве я говорил неверные слова?
— Каждому слову есть свое время и место. А ты, не знаю, запамятовал, что ли: здесь ведь не сознательные рабочие, а всего лишь пока сезонники. Твоим словам место через год, через два, скорее. Сегодня же надо было отвечать на конкретно поставленный вопрос: вопрос, кстати, не терпящий отлагательств. Если и впредь будешь такое вытворять, придется тебе уйти из постройкома.
— Признаю свою вину, товарищ секретарь парткома.
— Мало признать, мало, ты давай показывай конкретные действия. На твоей совести усилить милицейские посты, подготовить новые кадры для охраны порядка — из сознательных рабочих, особенно из партийцев, прошедших гражданскую, с выучкой Красной Армии, вот они, твои люди! Виноват, так давай, исправляй свою ошибку, время не терпит. — Затем он повернулся к Крутанову, сказал негромко: — Плохо, что не подготовились к собранию, товарищ начальник, первый блин получился комом. Да, сказывается отсутствие Мицкалевича.
8
В последних числах октября выпавшим вдруг и обильно снегом бело оделись приуральские леса. Дышать стало привольнее, чище, мир вокруг будто сразу приукрасили, был он светел. Но не прошло и недели, снег стаял. На черной земле, средь черных лиственниц и сосен, остались белеть лишь стволы берез. Небо висело низко, серо, там, кажется, гулял сумрачно ветер — тучи пробегали торопливо и подстегнуто.
Пришло время скучное, полили осенние надоедные дождички. Все в округе беспрестанно и скользко мокрело, дождь сетчато крапал, артельщики на болоте утопали по пояс, на лапти висло по пуду отвратно жирной грязи; отчаявшись, рабочие кидались в разные выдумки, подшивали лапти кожей, оплетали куделью — ничего не помогало, ничего не могло спасти от вездесущей сырости; теперь ждали одного: когда на Родовой горе станут готовы первые бараки.
Родовая гора имела тут свое предание. Влюбились будто бы когда-то друг в друга брат и сестра. Родители выгнали их прочь из дому, и они ушли будто как раз на эту гору, вырыли на склоне ее нору себе и жили там в отдалении от людей долго, а может, и нет, потом в одночасье померли вместе. Отсюда, как говорят, и назвали гору Родовой.
Наконец, как-то в дождливый же день, ардуановскую артель самой первой перевели в барак на Родовой горе. В бараке, как в солдатских казармах, сделаны были в два этажа дощатые нары, лежали набитые соломой подушки и тюфяки. Артельщики, увидев высокие и светлые окна, приметив большую печь для обогрева, возрадовались. После сырости и хлюпающего пола землянок здесь было сухо, светло, в общем, показался им барак сущим раем.
Конечно, в сравнении с гигантской стройкой, пришедшей в уральскую вековую тайгу, те дощатые нары да соломенные тюфяки лезли в глаза укором вопиющей бедности. Но артельщики, чуявшие не только слухом, но скорее душами своими невероятный напор могучих звуков, летающих над лесами днем и ночью, звуков, что рождались грандиозным трудом, предвещающим приход новой счастливой жизни, — артельщики наши на большее и не притязали. Не пугали их и осенние нудные слякоти, ни наступающие холода, они вели начатое дело упорно и жестко, не теряя попусту ни единой минуты.
Паровые копры, мощные лебедки, ухая и лязгая, били в мерзлую землю Прикамья железобетонными сваями; протянув, куда хватило, электрические провода, куда не достало, запалив жар костров, тысячи людей, вооруженные кайлами, лопатами, ломами и кувалдами, разворачивали Родовую гору, вынося к строительной площадке химкомбината тонны земли, пропитанной острым многолетним раствором со строгановских солеварен, превратившейся оттого в стылую массу, — тверже камня и железа...
На том месте, где стоять скоро индустриальному гиганту социалистической державы, взметая в воздух остатки древних соляных амбаров, оказавшихся случайно на пути, лопается неистовыми взрывами динамит, взлетает битый кирпич, рассыпается по кругу, и тучами грязно-багровой пыли застилается горизонт; когда воздух на время очищается от пыльной взвеси, между Родовой горой и Ждановским полем становятся ясно видны обозы курганских мужиков, подрядившихся возить на стройку гальку и песок. Караванным строем тянутся они иногда на километр с лишним. Мирсаит-абзый, наблюдая все это каждый день, ощутил вдруг в своей душе неизведанное дотоле чувство: знатный род Строгановых три долгих столетия правил Уралом по своей прихоти, и злоба их и темные дела измучили народ, проняли, как говорится, до печенок, а новое время будто и самое память о них стирает твердо с лица земли, сметает начисто, готовя светлое будущее.
Артель Мирсаита Ардуанова все еще трудится на строительстве дамбы. Завершающие работы по дамбе уже на носу. На дворе тридцатипятиградусный декабрьский мороз...
Артели было поручено копать туннель. Дойдя до строительной площадки, дамба, оказалось, должна превратиться в хитрую штуку: сверху по ней придумали провести еще чугунку, чтобы поезда могли доставлять оборудование до самого котлована химкомбината. Мирсаит-абзый прикинул так и сяк, после чего стал сильно озабочен: выходило, что прежними темпами за месяц с туннелем не управиться; земля была ужасно твердой, как железо: когда били ее ломом, искры сыпались...
В конторе обещали дать Ардуанову еще тридцать человек рабочих. Но с этим не согласились сами артельщики. Причина была простой, как всегда: деньги, которые причитались им за выработку туннеля, они уже — в прикидке — разделили между собой со вкусом и по совести.
Опыт Ардуанова, накопленный за годы солдатчины, гражданской войны, в бытность его грузчиком на берегах Волги и Камы, говорил ему точно: строительству нужны не сезонники, понаехавшие сюда с надеждой подзаработать хорошую деньгу, но сознательные рабочие. Когда не так, быстро надоест людям ковырять день и ночь мерзлую землю, способную сопротивляться не только лопате, но кайлу и кувалде, надоест носилками, тачками перебрасывать груды каменной глины надоест, ко всему прочему, жить одиноко вдали от родных семей. Поначалу, конечно, крепко донимали выходки хулиганов, злобные нарушения порядка, люди жаловались и ругались, теперь, кажется, те неурядицы уже прошли, но радости у людей не прибавилось. И придет однажды день, когда, устав ото всего, сытые по горло всем этим, разъедутся артельщики кто куда. Надо что-то придумывать, найти способ, поговорить по этому поводу хотелось бы с секретарем парткома Хангильдяном или еще... да, с Нариманом Нурисламовым, тем самым «кожаным», который и надоумил их поехать сюда, на стройку. Пока же единственный способ удержать людей в твердых руках — не давать им оглядываться да вздыхать, не оставлять места на трудные раздумья, строить и достроить ударно долгую эту дамбу...
Одетый поверх ватной стеганки в брезентовый, перехваченный поясом кожан, в овчинной, с поднятыми на макушку и завязанными наушниками шапке, Ардуанов, напрягшись всей мощной силой, чтобы не перевернуть, упаси бог, тяжелую, груженную мерзлой, глыбисто наколотой землей тачку, прошел, громко скрипя снегом, по длинным из балок мосткам, дотолкал груз, вывалил его. Возвращаясь, по соседней дорожке пробежал он грузной рысцой, аккуратно устроив тачку свою рядком с землекопами, сам взялся за лопату:
— А ну-ка, сынки, прибавим темпу: быстро будете шевелиться — не замерзнете. Может, выдадим сегодня две нормы, а?
— Мирсаит-абзый, да ты лицо обморозил, — сказал ему Нурлахмет.
Ардуанов, — растирая осторожно тыльной стороной большой рукавицы лицо, немного постоял; когда кожа на щеках, разогревшись, стала красной, снял рукавицу, ободрал теплой рукой с вислых усов намерзшие сосульки, потом, растопырив широко локти, снова повел нагруженную тем временем тачку по деревянному пути-настилу, стараясь держать ее точно посередине метровых мостков, за ним потянулись другие.
В туннеле рядом с ними трудилась артель бетонщиков. Было в ней всего пятьдесят человек. А мастеров у них двое: первый — с лицом, заросшим густой и черной, как дремучий лес, непроницаемой бородой, хорошо сложенный, в длинной дубленой шубе и валенках — Трапезников, старший мастер; второй — в шапке, обшитой поверху блестящей кожей, в коротком пронзительно-желтом нагольном полушубке, в чесанках с калошами — Шакир Сираев; этот командует женской бригадой, бабы и девки таскают на коромыслах ведра с водой, Сираев указывает, он — помощник старшего мастера.
Трапезников вел дело умно, с расстановкой и пониманием. Не шумел, не лаялся, не ругал, в руках у него всегда была лопата или ведро, ни минуты не терял на пустые разговоры. Сираев же, заложив руки за спину, прохаживался туда и сюда, баб и девок, спешащих с коромыслами на плечах к туннелю, пересчитывал и отмечал, словно пастух, собирающий овец; ругательств и окриков не жалел, понимая их, видно, как постоянную необходимость.
Какая-то девка, повязанная наглухо толстой шалью, споткнувшись о кочку, пролила нечаянно воду — Сираев был тут как тут, налетел коршуном, навис, наорал. У женщин-водоносов тем временем образовалась уже пробка, сбившись в кучку и поскакивая на холоде, они заопасались, что вода в ведрах покроется сверху ледяной коркою, оттого напали дружно и на Сираева, и на упавшую девку — впредь смотри, мол, под ноги, дурища!
Если бы не прекратил подоспевший Трапезников вскипевший уже скандал — быть бы худу.
Бетонщики заливали в туннеле, почти прорытом артелью Ардуанова, для крепости пол, обкладывали кирпичом земляные стены и наступали уже ардуановцам на пятки, оттого волей-неволей темпы приходилось все время увеличивать; такой оборот дела был как раз кстати, радовал Ардуанова: артель не топталась подолгу на одном месте, работала быстро, как могла, и уверенно продвигалась вперед.
Но даже не столько это радовало Мирсаита Ардуанова.
Бетонирование туннеля само по себе оказалось чрезвычайно интересной работой. Подтаскивалась женщинами вода, подносился песок, укладывался кубиками кирпич, привозились мешки с цементом; парни гвардейского росту беспрерывно помешивали раствор большими деревянными лопатками, напоминающими вблизи длинные весла; на морозе лица их морковно краснели, у мастера бетонщиков рослого Трапезникова от теплого пара, которым дышал раствор, от теплого пара, клубившегося у него изо рта, когда мастер давал указания и советы, на усах и густейшей бороде осел белый искрящийся иней, отчего был он похож на Деда Мороза с крещенской елки.
Мирсаит-абзый в какой-то момент уловил, что его артель смотрит на мастера-бородача с восхищением, нередко оглядывается на парней, готовящих бетон, на каменщиков, поднимающих стены, волнуется, провожая взглядами молодух, подносящих живо ледяную воду. И Мирсаит Ардуанов взлелеял в этот миг в своей душе малую искру надежды: погоди-ка, стой, да не тяга ли это сезонников к настоящей профессии? Осиль они ремесло бетонщиков, господи боже, в таком разе считай, на всю жизнь обеспечены хорошей работою. Тут ведь еще, на стройке химкомбината, делам пока нет конца и краю. Надо, надо бы поговорить об этом с начальством, да не с Хангильдяном, а прямо с самим Никифором Степанычем Крутановым. Обходительный человек, с полуслова понимает, о чем толкуешь ему, и, можно думать, отнесется к просьбе со всей серьезностью, мимо ушей не пропустит; а что — ведь когда нужно было, послушал же его Ардуанов, не уперся, верно?
В тот день Мирсаит-абзый до самого вечера ходил взволнованный, словно чувствуя на сердце большую радость. Перед окончанием смены к артельщикам пришел прораб Борис Зуев. Высчитав, сколько у них на сегодня выработано, сказал улыбчиво:
— Молодцы ардуановцы, норму выполнили на сто девяносто семь процентов!
— Ах, шайтан, чутка бы еще потянули — и вышло бы верных две сотни, — шлепнул губами Бахтияр Гайнуллин. — Али, может, черканешь там две сотенки, а, сынок?
— И то правда: три процента — ить это ж чепуха, — подтвердил Юлдыбаев.
Другие артельщики убедительно подхватили слова Исангула.
Мирсаит-абзый стоял спокойно, будто и не слушая, потом, качнув головой, сказал:
— Пиши правильно, Борис, чтобы как есть. Очки втирать ардуановцам не с руки. У жадности горло бездонное: если на то пошло, его ничем не насытишь.
9
Видно, не зря сказывают старые люди: «Голодный мыслит, где покушать, а сытый — сказочку послушать». Как только почуяли джигиты, что жить стало тепло и кормежка тоже приличная, потянуло их к развлечениям, в свободное время никто уже попусту не храпел. Начали они тосковать по семьям своим, оставленным на берегах Белой и Сюня, далеко, те у кого семей не было, вспоминали сладких зазнобушек. Сходить бы в клуб да потешить душу — клуб, однако, еще не открыт, и когда откроется, одному богу известно. Почитать бы газетку, да читать на весь барак умеют всего два-три человека, остальные темны, как беззвездная ночь. И выбились тут в атаманы балагуры да шутники, кому трепать языком — все равно что голову чесать.
Во время отдыха народ в бараке сбивается ближе к Нефушу — Певчей Пташке, обступает и обсаживает его кругом. А Нефуш вдарит ладошкой в ладошку, оттопырит большой палец, прищурит и без того узкие глаза да и пойдет всем на диво заговаривать.
— К примеру сказать, Шамук сегодня захворал. То бишь, если подойтить с обратной стороны, на работу Шамук не ходил, потому как на работе от Шамука пользы, что от козла молока. У Шамука нос опух. — Народ дружно поворачивается в сторону нар, где лежит, поохивая и постанывая, хворый Шамсутдин. — Ладно, пирикрасно, опух у него нос. А ведь нос этот не только самому Шамуку необходимый. Он ему, может, и ненужный вовсе, но ежели подумать толком, нос его общественный, то бишь оттого что он, этот нос, всей нашей артели во даже как необходим. А дурачок Шамсутдин того понять ни в какую не желает, а также к умному слову норовит отчаянно повернуться задом.
— К какому слову, уж не к твоему ли бестолковому, болван ты этакий? — говорит Шамсутдин, поднимая с нар голову.
— Погоди, погоди, братец, не тяни так голову! Ить тебя в твоем положении запросто нос твой перевесит, тут ты об пол и хрястнешься. А не говорил ли я тебе, братец Шамсутдин, чтоб ты отмачивал свой опухший нос в соленой водичке, ну? — Слушатели дружно расхохотались. — А чего вы ржете, олухи? Чего тут развеселого? Вот этак еще в Сарапуле, когда со старшим в грузчиках ходили, простудил я однова свой собственный, то исть, нос. Стал у меня нос страшно нелюдской, нечеловечий, расползся, прохиндей, на всю мою физиономию и, какой был, весь обзор мне закрыл — ничего не вижу! Один нос перед глазами. Ну, по сторонам, на манер коня, кой-чего еще видно. Лады. Поначалу опух, значится, потом пооблупился, ну, точно как голенище от старого сапожка тетки Хуббенисаттай. К-а-а-ак шмурыгну я им, братцы, верите ли, волки таежные под себя накладут, ежели услышат, помереть на месте, не вру. Неделю хожу с голенищем проместо носа, вторую, нет, не проходит, что ты будешь делать. Стало мне теперь и в башку отдавать. На виске в аккурат бухают, я вам скажу, кровяные артиллерии, гульт-гульт, и это бы ничего, да как кинешь на спину мешок пудов на шесть, перед глазами немедля начинает крутиться, и чудные такие кружочки прыгают, цветные все, так и мельтешат, одним словом, только и жди, когда мордой вниз со сходен загремишь; глубина там ничего себе так, глубокая.
— Ну и чего, чего дальше-то?
— Дальше-то? Ну, как — чего... Грузчики, которые рядом, и говорят мне, мол, ты, Нефуш — Певчая Пташка, в тепле его подержи, как рукой, мол, сымет. Ну, лег я, стало быть, однова, носом к печке приложился, послушался грузчиков. А печь кто-то возьми да разожги ночью, гляжу: нос-то у меня спекся начисто, и по сию пору не маленький был, я вам скажу, а теперь и вовсе мерещится мне, будто я — это нос да ноги, к нему приделанные. И цвету стал, паразит, красного, как спелый помидор. Народ надо мной хохочет — спасу нет, хоть стой, хоть падай. Домой бы в деревню подался, да там и без меня голодных ртов полна избенка, чего делать, обвязал я, как инвалид с ярманской, окаянный свой нос полотенцем да пошел опять ворочать мешки с солью. Ну, видать по всему, счастливо я зачат, появляется тут на мой нос Мирсаит Ардуанов: то да се, слово за слово, доперли мы до носатых сообщений; все, чего в груди и на роже у меня накопилось, вывалил ему до копеечки; гляди, говорю, Мирсаит-абзый, кака у меня страхиндула на лице вылупилась, так, мол, и так, голуба, Мирсаит-абзый родненький, опозорился я теперь через свой нос на всю Волгу, хоть ножом его режь, хоть с корнем вырывай — доконал он меня по самому середку, и нет мне с ним никакой жисти, ты, мол, говорю, Мирсаит-абзый, один середь нас разумный человек, не научишь ли, как от этакой напасти избавиться. Говорил я так, Мирсаит-абзый?
Ардуанов тихо улыбается:
— Ну как же, говорил.
— Вот после этого говорит он мне, ты, говорит, братец Набиулла, промой его хорошенько соленой водичкой. Смеется, думаю, он али правду сказывает?
— Ну, ну? — выказали возросшее нетерпение слушатели. Но байку свою Нефушу — Певчей Пташке добавить не пришлось, мимо барака с криками пробежали мальчишки:
— Нурлый женку свою убиват! Нурлый женку свою убиват!
— Ах, проклятье, чтоб тебя совсем, — проговорил сокрушенно Мирсаит-абзый, сетуя себе под нос. — И что это за драки такие нескончаемые? — Он медленно поднялся с места, расправив смятую в кулаке фуражку, надел ее, натянул на бритую голову и будто спросился у сидящего за столом народа: — Ладно, братцы, схожу-ка я... того... успокою малость...
— Сходи, Мирсаит-абзый, сходи, успокой, пожалста, а не то ведь ты человек начальственный, тебе, стало быть, и отвечать за всех, — ухмыльнулся, без насмешки, впрочем, вслед ему Нефуш — Певчая Пташка. Говорил он это с мыслью рассмешить артельщиков, но смеяться никто не стал. Видели, что в который уж раз, отведав «молочка бешеной коровки», Нурлахмет колотит свою жену, измывается над нею, и от того были огорчены донельзя; случаи эти набили всем горькую оскомину, раздражали артельщиков, словно непроходящий болезненный нарыв.
«Отличный рабочий, трудится хорошо, — удрученно думал дорогою Мирсаит-абзый. — Возьмет лопату в руки, так горы сворачивает, Хатира, женка его, ну всем удалась, и чего ему не хватает, адиоту?»
Пришлось старшому и на этот раз увидеть весьма некрасивую картину. Когда вошел он, Нурлый, свалив жену на пол, сидел на ней верхом, распяливал ей руки и чего-то допытывался пьяным голосом. Поговаривали, что ревнует он свою красивую Хатиру к волоокому хлопцу из постройкома, может, и теперь бубнил ей хмельные свои обвинения.
Хатира, почуяв, что кто-то вошел и стоит у двери, застеснялась, видно, задранного платья, принялась биться и дергаться, но Нурлый сидел сверху крепко, как пень, недвижимо приплюснув ее шестипудовой тушей своей к неструганому полу. Несчастная Хатира от унижения, что лежит в этаком неприглядном виде перед Ардуановым, залилась горючими слезами.
Эти горькие слезы опалили, ожгли большое сердце Мирсаита Ардуанова. Тотчас поняв, что уговорами здесь ничего не добиться, Мирсаит-абзый обхватил Нурлыя и поднял его на воздух.
— Ах, бесстыжая твоя морда, — негромко, без крику, приговаривал старшой. — Ну, это ли молодечество, герой ты недоделанный?!
Нурлый, пытаясь вырваться, дернулся было, но, уразумев, что попал в руки Ардуанова, смирился и сник.
Мирсаит-абзый, тряхнув как следует, посадил его на деревянный топчан и в мгновение ока повязал по рукам и ногам полотенцами, сорванными быстро с крюка над головою. Потом аккуратно уложил и сел рядом.
Можно было ему теперь и уйти, но делать этого, пока Нурлый лежал связанный, не хотелось, оттого примостился он на краешке топтана и сидел, погрузившись в невеселое молчание.
А Нурлахмет считался всегда человеком упрямым и тугим на раскрутку. Пролежал и сейчас он более часа, не промолвив ни единого слова. Сидел и Ардуанов, тоже молчал, посапывая задумчиво. Скрестились то есть терпеньями, и давил каждый в свою сторону. Наконец терпение Нурлахмета с треском сломалось.
— Отпусти же, медведь плешивый, не могу, руки затекли! — сказал он, простонав от боли.
— Разве это мужик, ежели на бабу руку поднял! — ответил миролюбиво Ардуанов.
Через полчаса еще Нурлахмет, тяжело всхрапывая, заснул. Ардуанов развязал ему поначалу руки, чуть поджав ноги, посидел недолго, растирая красные от полотенца полосы на запястьях Нурлыя, и, тяжело вздохнув, вышел прочь.
10
Был Ардуанов в своей артели старшой и нес оттого немало хлопотных обязанностей: забота ли как обуть-одеть джигитов, как деньги их сохранить и поделить по совести, как иногда, не ударяя по молодому самолюбию, поучить уму-разуму — все лежало на широких плечах старшого. Парни, конечно, и сами понимают это, ни с того ни с сего в бутылку не лезут и порядка стараются не нарушать; но опять-таки мало ли как бывает на свете, и жить всегда в добром милейшем согласии, может, ангелам небесным удается, но не людям в общем на всех бараке, потому в иной раз слышатся под его крышею и ругань, и удары, и бормотанье разнимающих.
Шамук, скажем, — сирота из-под Балтасей — шуток не понимает, если вдруг заденут его, хоть и невзначай, не помня себя лезет в любую драку.
Как-то раз после очередной схватки Ардуанов стыдил его очень долго.
— Шамсутдин, сынок, — говорил он, — что же это ты делаешь, а? Ежели прогонют тебя со стройки, тебе же и будет худо. Ведь придется тебе в таком разе и с артелью проститься, а куда ты тогда денешься?
Поклялся Шамук старшому:
— Не будет больше такого, Мирсаит-абзый; чтоб я провалился; если еще драку учиню; теперь, как увижу, что где-то спор повели, за версту буду обходить, а то и дальше...
Проработал Шамук дня два спокойно, тихо, а на третий взял да и схватился опять с Нефушем — Певчей Пташкой. А с чего та драка произошла, спросите? Да ни с чего, с пустого места.
Сели вечерком, кто помоложе, помечтать о будущих свадьбах. Каждый тут, конечно, выложил все, что на душе было, безо всякой утайки. Выходило, по общему убеждению, что должны за эту большую очень стройку выдать, коли закончут, мол, ее, «усубую» премию. И не только деньгами — денег они и без того заколачивали, поскольку передовики, немало, высылали, почитай, каждый месяц домой по деревням, — а, должно быть, справной одеждой. Жених, он тебе не шухры-мухры, не может он приехать к молодой и беспременно симпатичной невесте в пестрядинных портках. Оттого надо первым делом приобресть кожаные сапоги, смазные, на звонких подковках, такие, от которых взгляду не оторвать; затем, значит, сатиновую рубаху, с пуговками перламутровыми от верху и до самого низу, лучше всего — косоворотку; и, конечное дело, хороший костюм. И чтоб был из отличного сукна, черный весь, крепкий, словом, на загляденье — без этого нельзя. Вот погрузились все в эти мечтания, плавают, руками поводят, один Шамук сидит и помалкивает.
Тут и ляпни ему Нефуш — Певчая Пташка:
— Ты, Шамук, чего молчишь в тряпочку, али тебе женилку не привесили?
И по горло хватает сироте Шамуку.
— А ты чего надо мной измываешься? Чего ты ржешь надо мной? — с этаким безудержным криком загорается он, распаляется и, бросившись вдруг на Нефуша, рвет ему в клочья не старую еще рубаху, сажает по фонарю на каждый глаз.
Ну, что ты с ним будешь делать? И потом, слово старшого должно стоять крепко, иначе — сладу с хлопцами не будет. Поколебавшись очень долго, решил Ардуанов все же поговорить с участковым милиционером, просить, чтобы взяли его артельщика, горячего молодца Шамсутдина Салахиева, на пару всего деньков остудить излишний пыл, закрыли то есть в бывшую царскую тюрьму. Когда договаривался, сказал: «Будете уводить — уводите перед всей артелью, пусть станет это уроком для всех».
Точно сказывают: заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет, — на деле хватка у блюстителей закона оказалась куда крепче, чем ожидал Мирсаит-абзый; артель только-только вернулась с работы и собралась в. прекрасном к тому же настроении пойти поужинать, как вошли в барак два милиционера, один русский, другой татарин.
— Здесь располагается артель Ардуанова? — спросил татарин громче обычного.
Мирсаит-абзый подошел, встал рядом. Парни, насторожившись, бросали на милиционеров косые неловкие взгляды... Чего такое? Чего случилось-то? Аль пронюхали, что Шамук подрался?
— Шамсутдин Салахиев! Собирайтесь!
Побледневший Шамук, словно ожидая защиты, жался ближе к Ардуанову. Мирсаит-абзый спокойно спросил у милиционера, за что забирают, узнав, мол, за скандал и драку, убедительно настаивал на прощении парня, прибавляя, что такого больше не повторится.
— Вот еще безобразие! — накинулся на него милиционер-татарин. — Вместо того, значит, чтобы своевременно доставлять нам нарушителей порядка, вы, старший в артели, покрываете их и способствуете тем самым... кгм... кгм... Ай, нехорошо!
Дважды повторять не стали — уткнули Салахиеву в спину железный страховитый наган да и увели, не успел он даже поужинать.
Артель притихла, словно вдруг обездоленная. Потом все вместе накинулись на Певчую Пташку; мол, ты зачинщик, болтун проклятый! Ты языку удержу не знал, ты. Дразнишь, так знай, кого дразнить, глупец бестолковый. Ты дразни тех, кто с отцом-матерью рос, там хоть до коликов задразнись — они и усом не пошевелят. У сироты ведь душа, что струна у скрипки: чуть дотронься — и стонет уж невыносимо. Чего будем делать, если Шамука не выпустят теперь? На тебе это черное дело, Фахриев, на твоей совести.
Нефуш — Певчая Пташка, испросив у Ардуанова разрешения, побежал — из барака еще на цыпочках — относить Шамуку «передачу».
Когда прибежал обратно, окружили его артельщики.
— Ну, как там?
— Видел Шамука-то?
— Плачет небось, конечно...
— Ой, ой-ой, родненькие, кто не видел — не убудет, тот, кто видел, — пусть забудет, господи, спаси и помилуй. Ежели засядешь туда, и не думай, что скоро выберешься, вот так. Там, братцы, не сказывают: душенька-голубонька, бабочка-малявочка, певчая ты пташка, звонкая соловушка — бац! Трах! И за тобой навек закрылись железные замки запоров. Там, братцы, ограда вот такая высокая, как меня на меня поставить, а снизу еще старшого — ох! — а сверху в два ряда колючая проволока. Только было подкрался я к забору да приставил глаз к махонькой щелке, как закричит откуда-то сверху солдат с ружьем: «Стой, стрелять буду!» — так я, братцы, верите, за версту от того забору очнулся, не заметил, как и пробежал столько...
— Эх, бедняга Шамук, говорю, ужели не воротится теперь, а?
— Вот брат, как не доглядишь за нермами, как дернутся оне, так и бывает.
— Нефуш все, он довел!
— А вон и у него же фонарь под глазом.
— Фонарь, он того... то зажгется, то погаснет... а чего Шамуку делать? Правда, Пташке и приврать ничего не стоит.
Шамук воротился через два дня. Увидев его живым и здоровым, артель возрадовалась, словно поймав живую белку. Было в артели куда больше ста человек — все, как один, бросились к Шамуку, расспрашивали его, хлопали по плечу, щелкали языками, качали головой, словом, жалели и здравили в честь возвращения.
Ардуанов подошел к Шамуку после всех артельщиков, когда те уже наговорились и нащелкались вдосталь, выведя Салахиева одного на лесную тропу, долго расспрашивал тоже, что и как. Сказал под конец:
— Ну, сынок, напугался я было чуть не до смерти, думаю, упрятали тебя навовсе. Давай уж, чтоб более не попадаться, веди себя как следовает...
— Сказать честно, Мирсаит-абзый, вот честно? Поклялся я там, мол, если на этот раз выкарабкаюсь, никогда, ну, никогда! — не подниму на человека руку. Никогда, ну, никогда!
— Верно это?
— Чтоб мне провалиться. Чтоб мне солнца больше не увидеть.
11
— Ну ребята, начинаем наш первый урок.
За длинным, корявым столом в бараке сидели человек двадцать мужиков-артелыциков. Услышав: «ребята», они громко захохотали, и вслед за этими бородатыми «детьми» засмеялась молоденькая «учителка».
Лет ей, наверное, девятнадцать. Черные, волнистые волосы заплетены в тугие косы. Из-под густых, темных бровей смотрят на мир большие карие глаза. Смотрят пристально-внимательно и добро. Нос у нее ровный, красивый, губы розовые, полные, а когда они раскрываются, между передними зубами щелочку видно. Маленькая такая щелочка, потешная. Ах и учителка! Словно сестреночка младшая... А Мирсаит-абзый ее сразу признал: в конторе-то в тот день она была. Точно, она.
Артельщики — люди тяжелые, очерствевшие от долгой разлуки с родными краями, со своими женами. Эта юная «учителка» словно пробудила их, зажгла ясную зорьку в шершавых душах. Нефуш — Певчая Пташка, Шамук да Киньябулат — они что, сами еще зелены, но даже Мирсаит-абзый и тот почувствовал, как и тогда, в конторе, какое-то странное волнение. Увидел вдруг свою Маугизу, что осталась в Старокурмашеве, детишек... Эх, привезти бы их с собой, жить бы вместе, жить не тужить...
До сладкой боли ясно, зримо вспомнилось Ардуанову сватовство его к дочери Шайхелислама Маугизе.
Как раз перед германской то было. Приглянулась ему Маугиза — синеглазая, стройная, как таловый прутик. Да вот беда, по ее улице с гармонью не побродишь: мечеть стоит, и опять-таки мулла там живет. Потому и поджидал ее Мирсаит у родника или на берегу Шибаза. Придет Маугиза белье полоскать — Мирсаит уже тут как тут, коня поит. А парень он был тогда видный, в плечах косая сажень. Друзей много, аж за двадцать верст на сабантуй приглашают. Приезжает Мирсаит, борется, побеждает, все награды берет, — ну чем не пара любой красавице? Да есть у джигита один изъянец: богатства в его семье нету. У Шайхелислама оно, богатство. Ну разве ж примет он сватов от Мирсаита? Не примет. Вот и приходится парню через сестренку Галию действовать. Галия письмецо принесет, письмецо отнесет. От Мирсаита зазнобушке Маугизе, от Маугизы — ему.
— Вот, ребята, это — черная доска, — вздрогнул от голоса «учителки» Мирсаит-абзый. — А меня зовут Зульхабира. Вот это — мел. Он, как солнца светлый луч, к вашим душам белый ключ.
— Замуж-то успела выскочить? — спросил Нефуш.
— Нет еще, не успела, — сказала «учителка». — А что?
— Так просто. Дай, думаю, спрошу.
— На спрос суда нет...
— А как же тебя величать-то будем?
— Фамилия моя Кадерматова.
— А-а-а, Кадерматова! Аха. А можно тебе, Кадерматова, словечко одно молвить?
— Если нелепое, лучше не надо.
— Нет, это лепое. Сказать?
— Ну, попробуй?
— Помнится, в деревне у нас песню пели. Как она значилась... Аха! «Бабочка, ты бабочка...»
Артельщики притихли, заскорузлыми лапами поза-жимали рты — ну, счас отколет! Нефуш распевно продолжал:
— Певчая ты пташечка, ласточка залетна, Зульхабира, жисть моя, ипташ Кадерматова, скажи на милость, какой же из меня, коту под хвост, писарчук? Дак ты взглянь на мои грабли — лопата поболе да кирка потяжеле, вот это по мне. Какой же такой карандаш в них стерпит, в этаких-то ручищах?
Зульхабира, подойдя к нему, взяла грубую, мозолистую руку и от души захохотала. Наверное, представила, как крошится в «этаких граблях» несчастный карандаш. Смех ее так и сразил Певчую Пташку, без ножа зарезал. «Ах и учителка, — артельщики от восторга защелкали языками, — востра, брат, востра!»
Кадерматова раздала своим будущим ученикам тетрадные листочки, на двоих артельщиков по одному карандашу. Смешливо взглянув .на Нефуша, велела переломить их пополам, заточить, и дяденьки-ученики провели в своих тетрадях первые черточки.
С этого дня ее воля стала для бородатых детей законом.
На первых порах и самой Зульхабире, и ее ученикам приходилось туго. День-деньской копают землю артельщики, ну, ясно, устают, как черти, и карандаш, собака, так и вывертывается из негнущихся пальцев. Частенько кто-нибудь роняет голову на исписанный каракулями листок, и в шуршанье бумаги вплетается басовитый облегченный храп.
Ну да к чему только не привыкает человек! Через месяц-другой привыкли и они. Одно занятие в неделю — это показалось им даже мало, артельщики стали просить еще, вот два раза — ничего бы!
— А...ры...бы...а — арба, глянь-ка — арба! — получив из черненьких, пляшущих перед глазами буковок знакомое слово, они радовались, как настоящие дети.
Молодые схватывали науку читать довольно-таки быстро, а у старших дела были плохи. Взять Бахтияра Гайнуллина — в жизни человек книгу не держал, не видел даже, и вот, тыкая в буковки огромным, почерневшим пальцем, выводит:
— Кы...а...ры...гы...а...
— Ну, что же получилось? — выпытывает учителка Зульхабира.
— Не знаю, — упорствует Бахтияр-абзый.
— Карга, карга[43] получилась, — суется Нефуш.
— Сам ты карга, — не нравится это обидчивому Бахтияру-абзый, — рот раззявил да каркаешь, цыц! Сопля зеленая...
— Ребята, ребята, — вмешивается Зульхабира, — дразниться нехорошо. Откажусь я от вас, добалуетесь. Живите тогда неучами.
Она велит остальным писать буквы, рисует на доске куском мела образец, а сама садится рядом с тугим на учение Бахтияром-абзый в сторонке. И с удивительным терпением втолковывает ему, быть может, в сотый раз, из каких таких буковок собирается совсем необидное слово «карга».
Наконец Бахтияр-абзый выбивается из сил. Вытирая со лба крупные капли пота, он говорит:
— Ладно, дочка, на седни хватит. Сурьезная штука, инда пот прошиб. Смотри, как бы я у тебя всю охотку не отшиб, — и тяжело вздыхает.
Но парни не желают разбредаться. Когда Мирсаит-абзый, Бахтияр-абзый и другие, кто постарше, выходят во двор подышать свежим воздухом, молодежь заводит вечерние игры. У Ахмадиша есть гармонь, он хранит ее под замком в стареньком фанерном чемодане. Сейчас Ахмадиш достает заветную тальянку, плутовато подмигивает Нефушу и... ах, жги, жги — играй, гармонь, играй!
Хоть и широка Агидель-река, Но пароходам здесь не разминуться.Эх, хорошо поет Сибай из Каентубы, молодец джигит, душа-парень! Песня взлетает, набирает силу, и вот уже все сердца бьются в лад, могучие, ладные голоса подхватывают ее бережно, но крепко, и нет теперь ни татар, ни башкир, есть люди, поющие песню о далеком родимом крае, в песне этой и тоска, и огромная любовь.
Плакаться мне, молодцу, негоже. Но в душе моей огонь пылает...Вторую песню запевает Нефуш, голосишко у него пожиже, чем у Сибая, но старокурмашевцы перед парнями из Каентубы срамиться не желают, выталкивают в подмогу Нефушу самого наилучшего своего певца, Зарифа. Певчей Пташке теперь кажется, что он очень даже ничего так поет, складно — Нефуш закрывает от удовольствия глаза, откидывает голову...
По-над старым Уралом льется песня. Слушают ее в соседних бараках, распрямляются натруженные за день спины, смягчаются огрубелые души, и вот уже в ближнем бараке затренькала балалайка, кто-то пошел вприсядку. Еще дальше разом грянули о сибирском бродяге, как он Байкал переехал, а «навстречу родимая мать»...
У ардуанцев в бараке дым коромыслом, играют в «бей по руке». Зульхабира — горожанка, росла в Свердловске, что ни увидит, ей все в новинку. А парни стараются удивить.
Нефуш прячет лицо в ладонях учителки, вокруг него гомонящая толпа джигитов. Один из них, Шамук, с размаху влупливает по выставленной за спину руке Нефуша. Бьет-то один, а человек десять с хитрыми рожами оттопыривают большие пальцы. Раз! — вскакивает, как черт из коробочки, Нефуш. Два! — ухватывается он за палец, да палец-то, шайтан его забери, сибаевский.
Хохот стоит — стены трясутся. Зульхабира хлопает в ладоши, сквозь смех с трудом выговаривает:
— Не угадал, ой-ей-ей! Вот растяпа, ой-ей-ей!
Певчая Пташка вновь ныряет в ладони Зульхабиры, кто-то хлопает, Нефуш подскакивает, опять не угадал! Еще раз бьют, он хватается за палец, «непраульна!» — орут джигиты.
Наконец до них доходит, что Нефуш плутует. Он, подлец, нарочно не на того указывает, руки-то у учителки — вона какие мягкие! А они разорались: «Непраульна! Непраульна!» Вот повел, а?!
Нефуша, как гвоздь, выдергивают из ладоней Зульхабиры и начинают другую игру. Играют в «положи монетку», «наруби дров».
А Зульхабире забавно, смешно до слез, она смотрит на артельщиков не отрываясь и, кажется, начинает понимать веселую и широкую душу этих людей...
Темны зимние ночи. За окнами барака, засыпая сугробами дороги, бродят скрипучие ветра. В иные дни у ардуанцев тихо, ни шума; ни песни, люди слушают ветер, думают свои думы. Вспоминается юность, забытая на берегах Агидели и Сюня, текут неторопливые разговоры о деревенской переливчатой гармошке, о памятной озорной проделке. Кто-то не то шутя, не то всерьез делится наболевшей заботой:
— Моя-то голубка сизокрылая, видать, не дождется уж своего Кабира. Выйдет за Кутдуса, что у околицы живет, эх...
— Ну-у, подумаешь! В нонешние-то времена девок этих пропасть!
— Так-то оно так... — вздыхает тот, кто горевал о «сизокрылой голубке», и украдкой взглядывает на Зульхабиру. На нее многие заглядываются, на Кадерматову. Да вот сама Зульхабира со всеми одинакова.
Учить — учит и острое словцо иногда ввернет, но из джигитов никого не выделяет.
Как кончаются занятия, всей гурьбой с гамом провожают «учителку» до дому. Кто откажется от этакого удовольствия? Но артельщики в последнее время замечают: сама-то Зульхабира не больно как этого желает. Закончит занятия, соберется быстренько и тут же прощается. Попрощается, да так одна и убежит.
А за ней, чем-либо отговорясь, срывается и Нефуш. Артельщики в недоумении: никак, приворожила жар-птица краснобая Нефуша?
До чего дошло, сама учителка средь белого дня, выискав какую-то причину, заявляется в туннель, где работают ардуанцы, гутарит о чем-то с Мирсаитом-абзый, машет ручкой джигитам, но на Певчую Пташку и глазом не ведет, скачет с кочки на кочку, что твоя козочка, — и нет ее. А Нефуш, господи ты боже мой, совсем дар речи потерял и только тяжеленные тачки, словно щепочки, таскает. Неспроста все это, чуют джигиты, ай-яй, неспроста!
Вечером Нефуш куда-то пропадает, объявясь же, предстает пред очи Мирсаита-абзый, выставляет одну ногу вперед, склоняет голову набок и серьезно эдак сыплет:
— Миленький, родименький, солнышко ты ясное, Мирсаит-абзый, душа моя, за-ради бога, выдай денежек немного?
Джигиты хохочут, дразнятся: не давай, мол, Мирсаит-абзый, не давай, однако Ардуанов деньги Певчей Пташке дает, вглядывается в благодарные, счастливые Нефушевы глаза — а ведь и вправду, горит душа у парня, горит...
Через недельку, вечером, как раз перед занятиями в бараке появляется Нефуш. Фу-ты, ну-ты, черный «пинжак» на нем, черные брюки, белая сатиновая косоворотка — дирехтор, помереть на месте, дирехтор!
— О! Откуда взял?!
— Эх, отхватил пинжак, ха-а-рош!
— Ну, парень, тепереча все-е...
Певчей Пташке все это слышать ну до того приятно, рот у него расползается до ушей. Но он помалкивает, важничает. Старшие — Бахтияр-абзый и Мирсаит-абзый — осматривают Нефуша последними. Бахтияр-абзый щупает материю «пинжака», мнет ее, пробует на растяг. Мирсаит-абзый, разглядывая обновки, вертит Нефуша во все стороны и по-свойски говорит:
— Ну, брат Набиулла, носить тебе его на здоровьечко. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Иде ж ты такую знатную вещь-то брал?
— И-и, Мирсаит-абзый, и не спрашивай! Как говорится, купил, нашел, еле ушел. Денег аж не хватило, в придачу отдал — все, что по-русски знал!
Вот какие пошли дела. На занятия Зульхабиры Нефуш ходит в черном «пинжаке», лишнего не болтает, молчит все больше. И в его бессловесности виновата определенно комсомолка Зульхабира.
Научить джигита-землекопа по имени Набиулла Фахриев (а попросту Нефуш — Певчая Пташка), научить этого Нефуша читать и писать, снять с него хоть один слой невежества, направить кипучую энергию по верному руслу — доброе дело! Добрым этим делом и занималась «учителка» Зульхабира. Но... когда «учителка» молода и красива, когда у нее такая прекрасная душа и веселый нрав, может ли Набиулла Фахриев воспринимать одну только педагогику? А что, если почитание педагога переросло в почитание прелестной девушки? Если заботливые слова учительницы показались вдруг словами любви?
Но Зульхабира, острая на язычок, подымает на смех каждое начинание Нефуша: его черный «пинжак», его замысловатую прическу, красноречивые взгляды и тяжелые вздохи. А потянется за ней Нефуш, только рукой отмахивается «учителка» — мол, что за поведение, ученик Фахриев?! И знать она того не хочет, что будто заново родился Нефуш и белый свет для него клином сошелся, разбередила его «учителка», ох, разбередила...
12
Прошло полгода еще, и на строительстве не осталось уже артелей: из числа сознательных рабочих стали создаваться бригады. День ото дня погоня за длинным рублем сводилась на нет, в ликбезе, у Зульхабиры Кадерматовой, рабочие постигали науку читать; теперь многие подписались на газету «Путь социализма». И даже увлекались по вечерам книгами — для этого в дальнем углу барака отгородили помещеньице, названное гордо «красною комнатой».
В середине февраля бригаду Ардуанова занесли в книгу Почета уральских строителей. И Мирсаит-абзый получил из самой Москвы книжечку: в красной жесткой обложке, с серебряно светящейся подписью — «Ударник».
Поначалу решил он бригаде об этом не сообщать.
Но не прошло и трех дней, как прислали ему замечательную книжечку, подлетел к Ардуанову запыхавшийся Нефуш: в руках держал он распахнуто газету, рядом шумели товарищи, галдели, орали, перебивая друг друга, но так радостно — ни единого слова понять было невозможно.
— Ох, ребятки, да не галдите вы эдак. Аж в ушах у меня заложило. Давайте по одному, — сказал им бригадир.
— Мирсаит-абзый, душа моя, — начал было, захлебываясь от радости, Певчая Пташка, но перебил его Шамук, заслонив широким плечом, вышагнул сам вперед.
— В газете пропечатали. Чтоб мне свету больше не видеть, не веришь, так на вот, сам почитай, — да и вырвал из рук Нефуша газету, подавая ее достойно бригадиру.
Нефуш, конечно, полез в бутылку. Разве можно так — одним словом — передать всю радость, его обуявшую? Тьфу, Шамук — полено неотесанное!
— Погоди, Мирсаит-абзый, погоди, сам все расскажу. Я первым увидел! Не суйтесь! Я расскажу — этим тоже я сказал, они бы и не увидели сами!
— Ну-ка, чего ты им сказал такое? — взял Ардуанов газету.
Ребята умолкли, смотрели сияющими глазами. Мирсаит-абзый неспешно расправил газету, разложил ее на коленях, всмотрелся.
— Где тут? Ага, вижу...
Стал читать. Медленно читал, лицо его было спокойно, в особой радости не расплывалось.
Ребята заволновались, стали еще пуще кричать, махать руками: что ты? Да разве ж так читают? Весь смак потерял, ай, Мирсаит-абзый, негоже, нехорошо!
Певчая Пташка, который в ликбезе занимался всех старательнее и по причине любви своей к учителке Зульхабире через месяц уж научился грамоте так, будто знал ее отроду, который газеты проглатывал, будто воду пил, Нефуш — Певчая Пташка подлез бригадиру под руку да и пошел без единой запинки:
— «Прошли времена, когда бригада работала только за деньги — нет, теперь все по-другому. Денежные интересы отброшены на самый дальний план...»
— Чуете, так и закручено: на самый, мол, дальний план.
— Ты читай, брат, читай, — рокотнул Мирсаит-абзый, улыбаясь в пышные, чуть выгоревшие усы.
«...Рассол, стекающий от древних соляных заводов, годами, веками впитывался в податливую когда-то землю, превратил ее в бескрайний булыжник. Гнулись ломы, притуплялись кайла; железные лопаты зазубривались и ломались. Но твердому камню ардуановцы противопоставили силу рук своих и взрывную силу аммонала, волю к победе и несгибаемый энтузиазм — камень покорился. Уложены фундаменты... Пример их мужества вдохновил всех на строительстве, и даже отлынивающие от работы прогульщики-дезертиры поднялись к трудовому геройству».
— Эх, и сказанул! Вот так сказанул, я это понимаю! Верно, Мирсаит-абзый?
— Лишку хвачено, — отвечал Мирсаит-абзый. — Те дни, когда ломы гнутся, впереди еще...
Ребята сникли разом, радость их пожухла, словно солнечный день заволокли тучи. Понимал Ардуанов, что нельзя им потерять головы, нельзя переоценивать свои силы, но оставлять парней в разочаровании тоже не годилось, получалось нечестно и неумно.
— Шамсутдин, сынок, ну-ка сообрази там чайку, — проговорил он, лукаво сощурясь.
Сели все вместе за стол, отдуваясь, причмокивая, стали пить из блюдечек горячий чай.
— Вы уж, ребятки, на меня не серчайте, обиды не держите. Радости, конечно, радоваться надо, это не грех, так оно и положено. — Ардуанов замолчал, долго вытирал мягким полотенцем вспотевшую от чая бритую голову. Затем серьезно продолжил: — Нельзя нам, ребятки, оставаться лишь землекопами...
— А чего, разве мы плохо работаем?
— Слов нет, работаем хорошо. И все же мало нам чести оставаться землекопами — ведь это не специальность, большого ума тут не надо. Начальники говорят, товарищ, мол, Ардуанов, ребята в твоей бригаде — молодцы, джигиты, работают на совесть, прогулов совсем нету и драчунов тоже. — Бригадир глянул в сторону Шамука, подмигнул; тот, вспомнив былой грех, густо покраснел и отвернулся. — Ну, а ежели так, чего, значит, дальше-то делать? А надо нам, ребятки, думать о завтрашнем дне и работать с прикидкой — то исть надобно нам освоить хорошую специальность.
— Какую специальность?
— Начальники говорят, давайте, мол, учитесь на бетонщиков — вот это дело!
— Батюшка, дак мы теперь на всю жизнь здесь остаться собираемся, так, что ли?
— Ты, сынок, старших-то не перебивай, послушай лучше. Это уж твоя воля — останешься ты здесь али не останешься, никто тебя к тому принуждать не будет. А специальность тебе не помешает, карман, как говорится, не оттянет. Сам знаешь, с ремеслом не пропадешь, оно завсегда поможет жизню прожить.
Ребята переглянулись: шо, мол, делать-то будем; от бригадира своего секретов они не держали.
— Ну, Мирсаит-абзый, останемся мы здесь, а что толку? Все одно ходить в тоске, будто гусак отбившийся... — сказал наконец Шамук.
— Ты, Шамсутдин, договаривай, не тяни... — почуял, куда тот клонит, Мирсаит Ардуанов.
— Дак ведь жизнь-то проходит, бригадир... Там, в деревне... зазнобушка у меня осталась... Камиля... — и заговорил быстро-быстро, решившись — а, была не была! — Я ведь и приехал-то, думал, на свадьбу заработаю, и шабаш. Уеду! Ждет она меня, ждет... Все глаза уж небось проглядела!
— Вот оно даже как? — Ардуанов, склонив голову, вгляделся в лицо Шамука: действительно, хорош парень, в самом соку, ишь взгляд какой — так и горит. Да, видно, наступила ему пора жениться, иначе начудить может. Вон как бровями дрожит, чуть только паром не пышет.
— Ну и распрекрасно! Добро, говорю, — а что, если мы сестрицу Камилю сюда вызовем?
— Да она не приедет... — заколебался Шамук, не ожидавший такого поворота.
— Вот тебе на! Отчего же не приедет. Ежели б, к примеру, я был девушкой? Ого! За таким, как ты, джигитом на край света пошел бы... Смотри, лев, а не джигит! Вот чего, дети мои... Начальники говорят, хватит, мол, вам бродить холостыми. Вызывайте, мол, кто женатый, женок своих, у кого зазнобушки остались дома — вызывайте сюда, и точка. Построим, мол, удобные дома, специальности обучим — вот как хорошо будет.
— Будет ли, Мирсаит-абзый?
— А чего же, если захотеть. Конечно, будет, вот чудаки, да ежели захотеть, все может быть. Скоро вон Набиуллу оженим, поглядите.
— На ком?! — вскричал Нефуш, забывшись.
Мирсаит-абзый добродушно засмеялся:
— На учителке Зульхабире.
— Ой, да она меня не любит.
— Почему же не любит? Любит. Только, говорит, на курсы в Москву съезжу, а там, говорит, с руками с ногами за Нефуша согласная, женой ему буду!
— Ой, да не смейся уж, Мирсаит-абзый, душа моя, али сам не знаешь? Она ведь, кроме как издеваться надо мной, более и знать ничего не хочет: ты, говорит, Нефуш, чурбашка неотесанная. Ежели б, говорит, ты не болтал бесперестанно языком, тебя давно ворона бы унесла. Насмехается почем зря, чего только она не говорит, хоть стой, хоть падай.
— Ну, значит, любит. Потому как всякому такое не скажешь — тому только,, к кому сердце лежит, — заключил, ухмыляясь необидно, Мирсаит-абзый. — Начальники говорят, пущай, мол, Набиулла Фахриев обучится бетонному делу, тогда, ближе к весне, справим им с учителкой Зульхабирой красную свадьбу.
Нефуш — Певчая Пташка смекнул уже, что к чему, потому не спорил, лишь хохотнул восхищенно:
— Ну и хитрый же ты, Мирсаит-абзый, начальники, мол. Ты ведь сам все это выдумал, а? Не запирайся!
Ардуанов, откинувшись на спинку стула, от души рассмеялся. Аж слезы у него выступили.
— Ничего-то от вас, ребятки, не скроешь. Эх, дети мои, дети... Ну, ладно, пора расходиться, завтра, чаи, не праздник. С утра на работу. — И серьезно уже, твердо сказал: — А насчет бетонщиков это я не выдумал. Нурисламов, который в отделе кадров начальником, так и сказал: зайду, мол, непременно к вам в барак, потолкуем, что и как, от чистого сердца. Любит он нас.
— А чего же тогда не приходит?!
— Сам же нас сюда заманил, а теперь и носа не кажет! — раскричались опять, заволновались парни.
Мирсаит-абзый поднял руку, договорил так же спокойно и серьезно:
— Насчет женок, чтобы их сюда вызвать, тоже не моя задумка. Товарищ Крутанов, про Никифор Степаныча говорю, вызывал меня намедни. Пора, говорит, отбрасывать напрочь такие мысли, что заработаю достаточно денег да и смотаюсь, отсюда быстренько, — нет, ребятки, надо нам стать патриотами стройки. Он мне сказал: ты, Ардуанов, и твои ребята — ударники. На вас смотрят все пятнадцать тысяч рабочих — это славно, но и обязывает вас ко многому. Я, к примеру, отписал уже Маугизе своей, мол, бери с собой Мирзанура да Кашифу и не откладывай ни единого дня — приезжай ко мне. Вот так-то.
Письма он еще не писал. И когда ребята, попрощавшись, ушли спать, сел, чтобы не оказаться обманщиком, за стол, взял бумагу и карандаш.
Долго писалось это письмо.
Мучили его слова, не давались, — не складывались, как ему хотелось. Надо было высказать Маугизе все, что полнило его душу, теплое и ласковое... Трудно. Руки у Мирсаита Ардуанова не слишком проворны, не успевают превратить в слова жаркий стук переполненного сердца. И все, что звучало в доброй его душе, так в ней и осталось, на бумагу же легли привычные, заученные слова.
«Лети письмо с приветом, приди скорей с ответом. Вам, уважаемой и почитаемой, благоверной жене» нашей Маугизе, от нас, мужа твоего Мирсаита, который копает в далеких Березниках землю, многие-многие приветы. А еще я передаю приветы сыну моему старшему Мирзануру и дочке младшенькой Кашифе, сильно по ним скучаю, и то в моих приветах. Кому, сама знаешь, передай приветы, тако же родным всем и близким и другим, кто меня спросит, всех я и не упомню. С приветами на сем кончаю, перехожу к словам. Пишу я это письмо вот о чем: ты уж, Маугиза, теленка продай, стригунка пущай кто-нибудь возьмет и вскормит. Отдай его хорошему человеку, чтобы не загубил. А потому это, что я нонешней зимой приехать никак не смогу. Дела здесь начались большие, удивительные. Ты, Маугиза, возьми детей и приезжай сюда сама, так будет лучше. Тако же передай и соседям, пущай, ежели кто хочет, собираются и приезжают, и еще пущай не беспокоятся, не пропадут и не прогадают, заработки здесь очень хорошие, к рабочему человеку отношение теперь почетное, ежели кто не чурается работы, то делов здесь по горло. Письмо это писал февраля девятнадцатого числа. Остаюсь ждать письма.
Муж твой Мирсаит».13
Обучение новому делу — специальности бетонщиков — заняло четыре месяца. Конечно же, для гигантской стройки, поднимающейся не месяцами, а днями и даже часами, было это немалое время; но зато новая специальность поставила бригаду Ардуанова в самый центр клокочущего, бурного хода стройки, ввела в прямые, непосредственные взаимоотношения с пятнадцатитысячной армией строителей.
Раньше, когда ардуановцы лопатили землю, они обычно приходили работать в такие места, где до них не ступала еще ничья нога — болота, скалы, буреломы, — и, выкладываясь до последнего, рыли там канавы, котлованы, пробивали туннели, перетаскивали в поте лица горы выкопанной земли; когда же наступал черед самым интересным делам — возведению каркасов, монтажным работам, цементированию, — они уже покидали подготовленную ими площадку.
И по сути выходило, что живут они на особинку, в отрыве от других бригад, одиноко, со своими лишь мыслями и чаяниями. Единый механизм стройки не подгонял их и не поддерживал, не прогонял через бурлящий свой котел — поэтому и были они в вынужденном отдалении.
Теперь же, перейдя в бетонщики, ардуановцы крепко спаялись со слесарями-монтажниками, плотниками, электриками, переплелись в трудовом единстве с бригадами, в которых работали и русские, и украинцы, и белорусы. Быстро росла теперь сознательность их, ардуановцы становились настоящими представителями рабочего класса, легче и скорее понимали истинную цену вещам.
Профессия бетонщика в то же время принесла с собой много дополнительных забот. Она потребовала от бригадира знания не только количества необходимого на предстоящие сутки раствора, но и особенностей его приготовления, умения обращаться с чертежами, понимания таких никогда Мирсаитом-абзый до этого не слыханных понятий, как «опалубка», «заливка», «трамбовка», «конфигурация». Другими словами, кроме общего образования, надо было постигать и техническую грамоту. Ардуанов теперь уже занимался не с остальными парнями, у учительницы Зульхабиры Кадерматовой, а у прораба Бориса Зуева. Когда по вечерам в первом краснознаменном бараке, взявшем обязательство за один год стать бараком сплошной грамотности, его бригада собиралась на очередной урок, занятия начинались и в квартире Ардуанова — в комнате, отгороженной в дальнем конце барака стенкой из двойной фанеры.
Борис Зуев — парень белесый, голубоглазый, родом откуда-то из-под Елабуги — каждый раз, как приходит к Ардуанову, стучит в дверь несмело, топчется на пороге; с тетушкой Маугизой, высокой, острой на язычок женщиной с ярко-синими, что встречается у татар очень редко, — живыми глазами (нет еще двух недель, как приехала она с детьми); здоровается прораб уважительно, прижимая потертую шапку к груди, склонив голову. Подростку Мирзануру, как равному, крепко жмет руку. И они с Мирсаитом-абзый приступают, немедля к делу. Впрочем, только было подходят к столу — влетает в двери с пронзительным криком Катя-Кашифа, дочка Ардуанова, десяти шумных и озорных лет. Выучила она только что новое русское слово, и вот надо ей непременно поделиться своей радостью с отцом да с гостем-дяденькой. Те, однако, особого внимания на нее обращать не хотят, стараются выпроводить поскорее к маме.
К разговору во время занятий прислушивается и Мирзанур — его из комнаты не выгоняют, лишь велят не шуметь и не досаждать им разными вопросами.
На столе расстелены карты и чертежи. Борис, чуть согнувшись, стоит рядом, водит по чертежу пальцем, не спеша объясняет, как расставить людей, на сколько ячеек разделить фундамент, как высчитать объем проделанной работы. Легко понимает Ардуанов, когда речь идет о прямоугольной площадке, живые карие глаза его чуть заметно улыбаются, соглашаясь со всем тем, о чем рассказывает Борис. А вот как правильно высчитать площадь помещения с куполообразной или, скажем, треугольной крышей? В таких случаях Ардуанов будто сникает даже: уныло повисают пышные усы, в глазах колышется недоуменная дымка. Но Борис — парень толковый; не ленится, не суетится, объясняет Ардуанову подробно и доброжелательно. По отдельности останавливается он на каждом звене выполняемой работы, а если и на этот раз не удается растолковать, донести до бригадира четкий смысл, Зуев не расстраивается, не нервничает, спокойно и толково начинает объяснять заново. В таком терпеливом, обоюдно старательном ключе занятие их продолжается до тех пор, пока возле барака не раздаются шум, смех и залихватские переборы тальянки.
Только послышится за маленьким окошком барака голос вечерних игр молодежи — томительный перелив гармони, — все: Борис начисто утрачивает хвои учительские таланты. Не то чтобы объяснять, слова не может выговорить без раздраженной гримасы; так бесит его этот звонкий голос, — конечно, есть на то своя особая причина. Девушка, светлоглазая красавица, с которой Борис дружил три года, на которой жениться мечтал, бросила его в одночасье да и вышла замуж за поповича; на богатой свадьбе всю ночь напролет ревела, буйствовала гармонь, развлекая пьянешеньких гостей... Терпеть не может!., в печенках сидит у него с той ночи тальянный жестокий перебор...
...Торопливо, споро бегут дни — разматываются беспрерывной нитью с большой неведомой катушки времени; на берегу Камы, в поселке Чуртан, в Березниках сооружения вырастают одно громаднее другого; разворачивается грандиозная стройка и все большей отдачи требует от тебя, должен и ты расти и крепнуть вместе с нею, или же отбросит она тебя, как в бурю выносит волна на пустынный берег сорную щепу.
По дамбе, которую недавно еще, всего-то год назад, проложила, перелопатив торфяное жуткое, болото, бригада твоя, день и ночь, сутки напролет идут нескончаемо обозы — везут оборудование на строящийся химкомбинат. По обе стороны дамбы взметнулись четырех-, пятиэтажные дома, — школа, детский сад и клуб строителей открыты в них, новые и удобно-просторные. Рядом с каменными высокими домами приютились разные конторки, времянки, деревянные жилые бараки; улицу эту, первую улицу будущего города химиков, назвали «Пятилетка». Звучное слово «пятилетка» — бишъеллык! — было у всех на устах.
Весной, когда земля вокруг очистилась от снега и уже подсохла немного, на стройку пригнали две машины. Этих, далеко не новых, с полинялой краскою кабин и залатанными бортами «Пирсов» встретили радостным, ликующим шумом.
«Пирсы» были пятитонные, со сплошными резиновыми колесами, пригнали их пермские шоферы. Пригнали и тут же сами уехали обратно.
Ищут теперь среди пятнадцати тысяч рабочих шофера — человека, который, мог бы водить машину. Вот ведь времена пошли! Взялся за это дело сам Крутанов, отправил на все четыре стороны своих заместителей, подключил и комсомол. В отделе кадров товарищ Нурисламов, перебрав тысячи анкет, нашел человека по фамилии Буранов; работал тот слесарем на строительстве цеха каустики. Пригласили его в кабинет Никифора Степановича, начальника всей стройки.
— Садитесь, Роман Яковлевич, — сказал Крутанов, с надеждою глядя на слесаря. — Вы нам очень нужны. Из отдела кадров сообщили, что вы в Ленинграде кончали автошколу. Это правда?
— Правда... — нехотя сказал Буранов.
— Ну, значит, вы сможете отремонтировать машину.
— Возможно...
— Но я не вижу в вас энтузиазма, товарищ Буранов?
Усмехнулся слесарь краешком губ.
— Я, товарищ начальник, никак не могу ремонтировать их один. Трудно! По крайней мере, понадобятся мне два помощника.
— Ох, елки-моталки, нашел что сказать! Берите хоть десять человек, хотите — двадцать!
— Нет, не то; мне нужны люди, знакомые с автоделом.
— А вот этого не обещаю, Роман Яковлевич. Что ж! Остается вам самим — да, да! — .самим подготовить себе помощников.
— Не выйдет, я думаю.
— Как это так — не выйдет? Как же не выйдет? — вспылил вдруг Крутанов. — Мы совершили невероятную, невиданную до сих пор во всем. мире революцию — и вышло, получилось. В голоде, в холоде начали строить химический гигант — выходит, получается! А вот теперь, когда всего-то нужно — привести в порядок старый хлам, оставшийся от американских буржуев, вы говорите — не выйдет, мол, людей нету. Да бросьте вы, скажу я вам, народ смешить! Дам я, Роман Яковлевич, прямые вам адреса. Идите к плотнику Громову, к слесарю Вотинову, к бетонщику Ардуанову. Это наши ударные бригады. Пусть из каждой выделяют вам по одному человеку. И — убежден я! — вы из них за одну лишь неделю подготовите первоклассных водителей.
Сев за стол, он торопливо, большими сползающими буквами набросал записки, подписал их размашисто, вручил Буранову, тоном, не терпящим возражений, сказал:
— Идите, Буранов, сегодня же приступайте к работе. Завтра, в восемь часов утра, без всякого стука, без проволочек зайдете ко мне и доложите. Желаю успеха!
Из бригады Ардуанова для изучения автодела направили Набиуллу Фахриева. Певчая Пташка, впрочем, напросился туда сам, изъявив горячее желание, и взялся охотно, даже со страстью. Потом же автодело станет немаловажною причиной того, что сердечные узы Нефуша и Зульхабиры Кадерматовой будут крепнуть изо дня в день...
Провозившись с машиною дотемна, порой по двенадцать часов кряду (терпению его и настойчивости частенько удивлялся даже сам Буранов), возвращался Нефуш домой грязный, как черт, весь в машинном масле, пропахший насквозь керосином; раздевшись до пояса, шумно плескался он, умывшись, надевал свой знаменитый, купленный за «все, что по-русски знал», черный костюм, совал за пазуху книгу, взятую у Буранова, и бегом мчал к женскому бараку, к «учителке» Зульхабире. Вместе садились они за стол — Зульхабира переводила на татарский непонятные Нефушу русские слова, а Певчая Пташка рассказывал ей про ходовую часть машины, про то, где какие имеются в моторе механизмы; рассказывал Нефуш с настоящим увлечением. Зульхабира смотрела на него широко раскрытыми черными глазами, и Нефуш, краснея, отводил взгляд в сторону; только тут, сообразив, что смутила парня, она опять склонялась над книгой, иногда завитки густых красивых волос девушки касались шеи Нефуша и приятно щекотали его, — парень чувствовал, как по гудящему телу пробегала огненная волна, билась в висках оглушительная кровь, и лицо его начинало пламенеть; в такие минуты ему казалось, что звонкий, ровный голос Зульхабиры слышится не рядом, а где-то далеко, в голубых таежных дебрях... Прошло, наверное, дней десять, и вот первую машину вывели из «гаража». Не назвать гаражом — обиду сотворить, но одно название что гараж; просто навес, кое-как сколоченный из невыструганных досок, лишь бы спасал от ветра и дождя.
Вывели машину на улицу, рядом с шофером примостились в крайнем волнении два «помощника» — Фахриев и Карташев. Буранов изогнутой железкою завел мотор, нажал на педаль — тут поехали они, как бы это не соврать, с грохотом изрыгая густой и едкий дым. Вот бы увидела его Зульхабира... Так уж хотелось в этот миг Певчей Пташке, чтоб была она рядом...
Поездили, потряслись и враз поверили, что древний «Пирс», конечно же, ходит. После этого стал Буранов учить их водить машину. День-деньской крутились они вокруг дощатого навеса-«гаража», и вперед подавали машину, и назад, отрабатывали часами нелегкие повороты.
Стали теперь ждать того дня, когда выедут в первый ответственный рейс. Кому выпадет счастье, кто сядет за баранку первым? Ну, охота и тому, и другому — сил нет! Буранов же оказался человеком вдумчивым, заранее все предусмотрел, оттого и решал он, положив на весы своей памяти, все за и против. Кто первым водить научился? Фахриев. Кто, почитай, каждый день работал часа два лишнего? Фахриев. Сердце Нефушево трепыхалось, словно птица-жаворонок. Ключ повернул, нажал на педаль — Роман Яковлевич молчит как рыба, только смотрит; ладно, крутнул Нефуш изогнутую железку, завел мотор. И поехал, елочки зеленые, пошел!
На станции Усолье кирпич погрузили, привезли на площадку механического цеха. Бьется Нефушево сердце, словно из клетки вырвалась птица-жаворонок. Здесь — ардуановцы! Здесь бригада Мирсаита-абзый бетонирует котлован. Все ребята — поболее ста человек — разом выбежали навстречу Фахриеву. Как подняли они парня да подбросили высоко в воздух — слетела с него кепка, посыпались из кармана ключи, мелкие деньги, — а ребята все качают Нефуша, не хотят отпустить.
— Ай да молодчина! Вот так Нефуш! — восхитился обычно скупой на похвалу Мирсаит-абзый. — Ну, первым рейсом ты кирпич привез, а вторым давай, сынок, цемент привези, а не то бригада через час без работы заскучает. Тьфу, тьфу, типун на болтливый язык, без дела сидеть ударной бригаде не к лицу.
Появился откуда-то Борис Зуев:
— Не шуми, Мирсаит Ардуаныч, теперь уж дела пойдут — техника пришла. Сам видишь, за один раз столько привез, сколько и на пятнадцати подводах не осилить...
Шоссейная дорога на строительную площадку еще не была проложена — ардуановцы промостили ее толстыми досками. Из таких же досок выложили специальные, с деревенский ток примерно, площадки для выгрузки кирпича, цемента либо песка. Нефуш — Певчая Пташка, громыхая на стычках деревянной мостовой своей старенькой машиной, стал возить материалы для стройки.
Был он бесконечно горд тем и радовался, что участвует так достойно в большом и сложном деле, витал на седьмом, захватывающем дух небе, и гордую его радость несколько уменьшало лишь то, что не видит его — сидящего столь ловко и красиво за рулем — Зульхабира Кадерматова; она к тому времени уехала по комсомольской путевке в Москву, на шестимесячные курсы.
Еще через две недели вышла из «гаража» и машина Ивана Карташева. Руководители строительства назначили Романа Яковлевича Буранова, как единственного знатока, преподавателем автодела; имея же в виду, что скоро на стройку должны поступить новые машины, открыли курсы шоферов на двенадцать уже человек.
Предполагаемое поступление машин, кроме необходимости подготовить умелых шоферов, вызвало на стройке также много других неотложных забот: кирпич, цемент, гравий поступали на стройку пароходами или «товарняками», для машин же готовых дорог не было — всюду болота да песок; поэтому специально созданную бригаду бросили прокладывать эти дороги — она заваливала шлаком все неровные и болотистые участки, кое-где укладывала сплошь бревна: сверху их заравнивали твердой землей, пропитанной солью до окаменения. Иногда дорога выходила из строя в самых неожиданных местах, порой ломался деревянный мост через Зырянку — но ждать, пока прибудет дорожная бригада, не было времени; и Фахриев с Карташевым, с ними еще восемь человек грузчиков, ремонтировали дороги сами, приводя спешно в порядок опасный мост...
Натруженно урча, взрыкивая, обдавая все вокруг едким, вонючим дымом, идут машины через села Старый Чуртан, Веретья — там раскрываются окна, на перекрестках кучками собираются, услышав непривычный шум, деревенские мужики. Снимая с головы картузы, они приветствуют шоферов, когда же машины останавливаются, чтобы набрать в радиаторы воды, мужики окружают их плотным кольцом, и начинаются расспросы в степенном крестьянском удивлении — «как это такая чудо-машина может ходить без лошадей».
Певчая Пташка, отчаянно взмахивая руками, пускает в ход все знакомые ему русские слова: вот, дескать, отсюдова заправишь керосином, теперь, значит, керосин тама с водой встренутся да как влупют друг по дружке, тут, стало быть, и выйдет огонь; а огонь, известно, дым дает, дым расширяется, и вот ежели загнутой железкой немного помешать тама, да еще толкануть малость плечиком, то машина с ходу побежит, да так, что и не угонишься.
Качают мужики головами, и заросшие, бородатые лица их озаряются лукавой улыбкой.
— Ну, шустрый татарин, шустрый! — говорят мужики...
Так, дело уже шло своим чередом, и Нефуш с Иваном вполне освоились со своей новой профессией, когда в один из сентябрьских дней, придя утром на работу, Фахриев увидел злостную картину: деревянный кузов его машины был начисто снесен, и одно из передних колес неприятно щерилось перерубленной резиновой шиной.
Сообщили тут же руководителям стройки. Из села Веретья прибыла милиция, «оперы» стали расследовать происшествие, шоферам же велели пока ничего о случившемся не рассказывать. Надо было напасть на след преступника.
Да разве утаишь шило в мешке!
Во-первых, ездила теперь по стройке одна лишь машина, а во-вторых, плотники, пришедшие делать новый кузов, стали всем рассказывать, добавляя много от себя, что грузовая машина «Пирс» поломана вражеской рукой. И пошли по стройке разные разговоры, пошли пересуды.
Снова разгорелось затихшее было за последние полгода самоуправство, пуще прежнего подняли голову хулиганы да саботажники. Нескольких парней из бригады Громова и Вотинова избил кто-то темной ночью, искалечил в укрывающей темноте.
И зашелестели ползучие слухи: дескать, строят комбинат совершенно напрасно, все равно простоит он недолго, потому как из-под земли за триста строгановских лет добыто столько соли, что всюду там — под землею — пусто, вот только достроят, и все заводы, электростанции — все гуртом провалится к черту, в огненную тьму.
Длинны ноги у лжи; разговоров всяких, слухов тревожных становилось все больше, к старым прибавлялись новые. Нет, комбинат, оказывается, не успеют даже достроить, под землей кроме пустоты, которая там осталась из-под соли, накопилась еще и нефть; вон она-то, заполняя одну за другой уже выработанные соляные шахты, разъедая всю землю на своем пути, приближается теперь к Березникам.
Конечно, слухи эти дурные распространяли не рабочие, а скрывающиеся среди тысяч строителей недобитые белогвардейцы, кулаки, что убежали из сел, с насиженных хуторов, боясь раскулачивания. Руководители стройки все это хорошо понимали; ГПУ и милиция беспрерывно искали вражеские силы.
Начальник строительства Крутанов, секретарь парткома Хангильдян и председатель постройкома Мицкалевич, посоветовавшись между собой, созвали бригадиров, прорабов, учителей, работающих в ликбезах, на срочное совещание. Выступал Хангильдян.
Человек этот с ястребиным крупным носом, с большими жгуче-черными глазами, сам огненно-горячий по натуре, и говорить начал, разрезая руками воздух, словно бросая в слушателей горящие головешки:
— Враг подымает голову. Почему так? А потому, что на селе ему уже наступают на хвост. Врагу не по нутру, чтобы поля наши получили азот. Для него азот — чушь, азот ему ни к чему. Товарищи, мы должны быть бдительными. Мирсаит Ардуанович, сколько комсомольцев в твоей бригаде? Почему мы так медленно раскачиваемся? Пора, пора привлекать передовую молодежь в комсомол. Вотинов, Громов, а как у вас? Мало того, что вы сами коммунисты, пора уже повлиять и на других. Мы всех разыщем: и тех, кто ломает машины, и тех, кто устраивает драки, — из Свердловска вызван отряд милиции. Но одного найдем, другой останется. Поэтому нужно по всему фронту усилить бдительность. Многословие ни к чему, кроме пустой траты времени, не приводит. Никифор Степанович! — повернулся он к Крутанову. — Надо в каждой бригаде создать ударные группы и возложить на них соблюдение порядка. (Крутанов согласно кивнул головой.) Игорь Николаевич! — повернулся к Мицкалевичу. — Вы ответственный за порядок в бараках. На вас возлагается также проверка работы ликбезов. Организацию социалистического соревнования, движения ударников я возьму на себя.
Составление протокола было поручено секретарю постройкома товарищу Сагайкину. Записывал он все, что выговаривал жестко Хангильдян, писал, не поднимая головы... писал и все пропускал через свои мысли.
«Ударные группы. Ответственность за бараки. Организация соревнования. Давайте, давайте, организуйте — мы вот конкретнее будем действовать. Пора к черту разнести и вторую машину. И может это сделать любой зажиточный мужик. Он, мужик этот, на стройку с двумя лошадьми приехал. Ему машина не нужна. Ему лучше возить камень на своих лошадях да набивать потуже карманы. Вот и надо пустить умелый и вредный слух, добиться, чтобы сам он сломал машину».
После выступления Хангильдяна стал Сагайкин записывать слова бригадиров. Когда заговорил Ардуанов, почувствовал товарищ секретарь постройкома, как задрожали его руки, выбился на лбу невольный пот: «Ох, татарва, попадись ты мне в те времена, уже не вылезал бы, сволочь, с гауптвахты, дал бы я тебе почуять горький вкус кнута...»
Перо же тем временем писало совершенно другое:
«Бригадир бетонщиков-арматурщиков Ардуанов. Говорил о соревновании. Вызывает на соревнование бригады Вотинова и Сираева».
Когда очередь выступать дошла до плотника Громова, в коридоре послышался глухой шум, бормотанье, выкрики, и вскоре в дверях появился милиционер в серой длинной шинели. Подняв к козырьку фуражки крупную руку, он отдал честь и обратился, четко развернувшись, к начальнику строительства.
— Разрешите, товарищ Крутанов?
— Что случилось? — спросил Никифор Степанович, крепко недовольный тем, что прерывают важное совещание.
— Контру поймали. Разрешите ввести?
— Ну, давайте.
В дверь втолкнули рыжебородого мужика, одетого, в разодранный чекмень, вслед за ним протиснулись красные возбужденные Карташев и Фахриев. Фахриев держал в руках топор. Карташев — короткий лом.
Милиционер встал у дверей, рыжебородого тем временем подвели к самому столу.
— Машину пришел ломать, — сказал Карташев. — Вот мы двое...
— Развяжите ему руки, — прервал его Крутанов.
Развязали.
— Ну, говорите.
— С топором пришел, гад, вредитель! Ту машину, видать, тоже он раскурочил. Когда схватили его, стал отпираться, врет, будто пришел за дровами.
— Это правда? — не повышая голоса, остро проговорил Крутанов. Рыжебородый, запинаясь, ответил:
— Товарищ начальник, Христом-богом говорю, зря меня обижают. Почто наговаривают? Вот тебе истинный крест... — мужик поспешно-перекрестился. — Ночи страсть холодные, я и хотел костерок запалить. Мы, чай, знаешь, под телегой ночуем...
— С какого участка? Фамилия?
— С пятого. Фамилие Мясоедов.
— Как же это вас, Мясоедов, угораздило с пятого участка до гаража добраться? Обозники, кажется, у Камы ночуют?
— Оглобля у меня сломилась, гражданин начальный. Привез я в аккурат кирпич на механический. Вот тут она, стерва, возьми да и сломись. Чего делать — взял я топор и пошел искать дереву для оглобли.
Мужик, скривив лицо, словно собака, напрасно прибитая человеком, очень жалостно посмотрел на Крутанова. Никифор Степанович заколебался.
Сагайкин мигом сообразил, что дела начинают катиться под дурной уклон: если допрос еще затянется, Мясоедов может все испортить, сболтнув лишнее... Среди обозников подстрекательством занимается группа Шалаги. Если этот болван проговорится сдуру? Нет, нельзя этого допускать ни в коем случае...
Сагайкин прыгнул с кошачьей проворностью, очутился возле Мясоедова и закричал истошно:
— А, сволочь, преступление свое хочешь скрыть?! Так?! Подстрекатель, вредитель гадский, значит, машины ремонтировать бесполезно, до этого, мол, стояли и теперь постоят? Этого ты хочешь?! Кто обозников подговорил? Ты, сволочь!! Дескать, здесь не Москва, шоссейных дорог нету, машины у нас ходить не могут? Ты что же, гад, думаешь, так тебе и поверили здесь, думаешь, за ангела тебя приняли?!
Не успели за столом и опомниться, как Сагайкин ухватил мужика за ворот, слева и справа начал охаживать пощечинами.
— Контра! Подкулачник! Врет, сукин сын, еще оправдывается. Мы тебе покажем, как социализму подножки ставить.
С трудом оттащили Сагайкина. У него были мутные, бессмысленные глаза, бледное, заострившееся от гнева лицо!
14
На берегу Камы одновременно с корпусами химического комбината заканчивалось и строительство водонапорной станции. То ли потому, что на других участках работ еще было непочатый край, то ли от чего другого, но корреспонденты первым делом бросились именно к этой станции.
Водонапорную монтировали слесари бригады Николая Вотинова. Верят ему руководители стройки. Вотинов сам — сын потомственного рабочего; отец его долгие сорок семь лет гнул спину на соляных заводах купцов Строгановых, да там и умер, не оставив ни единого рубля своей осиротелой семье. Денег не было, деньги были нужны, и Николая с двенадцати лет отдали на завод учеником слесаря. Немногословный, с твердым, как молот в руках, характером, Вотинов со своею бригадой, в которой всего двадцать шесть человек, крепких, умелых слесарей, по десять — двенадцать часов работал, когда надо, не выходя из цеха, никогда не требовал себе лучшего, чем у других, жилья, лучшей, чем у всех, одежды, словом, был коммунистом не потому, что носил в кармане партийный красный билет: хранил он в своей жаркой и скромной душе бесконечную веру в Советскую власть.
И корреспонденты, побывав в бригаде Вотинова, увидев работу ее, напечатали о ней в газете «Путь социализма» большую статью.
«Не по дням, а по часам поднимается химический гигант на Каме. Слесари бригады Николая Вотинова смонтировали водонапорную станцию. О том, насколько грандиозна эта станция по своим размерам и насколько велико ее значение, можно судить по следующим цифрам: станция в два раза мощнее, чем вся водопроводная система Москвы. Девятнадцать насосов установлены на станции. За сутки они должны перекачать 83 миллиона ведер воды. Если бы не было этой станции, Березниковскому химкомбинату понадобилось бы 225 тысяч лошадей, день и ночь возящих воду...»
В середине марта, в непроглядно темную, свистящую поземкой ночь, сотрясая все кругом, раздались оглушающие взрывы. Вместе с глыбами раздробленного бетона в воздух взметнулся гигантский водяной столб.
По тревоге поднялся на ноги весь пятнадцатитысячный коллектив. Руководители строительства, инспектора горного надзора прибыли в тот же час на место аварии. И увидели: обвалилась спасительная броня — бетонная стена, построенная специально для защиты станции от напора камского течения. Если не ликвидировать немедленно аварию, вода может пробиться в залы станции, и тогда выйдут из строя дорогие насосы, испортится другое оборудование, купленное за границею на золото: на десять миллионов золотых рублей.
О случившемся доложили прямо в Москву; на место аварии были посланы тотчас лучшие бригады.
Задувал со стороны тайги ярящийся буран, редкие фонари в окрестностях станции светились волчьими глазами средь темного леса.
Более двухсот подвод, и еще машины Фахриева и Карташева, подвозили непрерывно щебень и тяжелый цемент. На берегу Камы вспыхнули костры, голубые всполохи автогенов, взрезая ночную тьму, указывали обозникам дорогу.
Но самая тяжелая часть ремонтных работ легла на плечи бетонщиков Ардуанова и слесарей Вотинова. Бригада Вотинова должна была спасти оставшиеся в воде насосы и потом, по колено в воде, смонтировать их, бригаде же Ардуанова выпало восстанавливать разрушенную бетонную перемычку.
Руководители стройки, безусловно, знали исключительную выдержку парней Ардуанова и Вотинова, но послать рабочих в ледяную мартовскую воду все же не решались; ибо знали они и то, что если все обернется трагически, будут их до конца дней мучить угрызения совести, мало того, поставлена будет на карту судьба Березниковского химического комбината.
Оба бригадира, предварительно переговорив со своими ребятами, согласились работать в ледяной воде. Но, кроме согласия, надо было и всесторонне обдумать это дело, чтобы организовать работу умело и с наименьшим риском. И тут бригада Ардуанова вновь встретилась с Нариманом Нурисламовым, который, помнится, — уговорил их приехать на стройку. Был он на этот раз в глубоко надвинутой теплой шапке, в добротных яловых сапогах, в брезентовом кожане, какой обычно носили обозники. В движеньях его, точных, выверенных, в скупых и твердых словах сквозило чувство ответственности за судьбу бригады, за жизнь каждого члена ее, молодого ли парня или старого, пожившего уже агая. Посоветовавшись с Ардуановым, он разбил бетонщиков на три отряда и, словно боевой командир, отдающий, приказ своим подразделениям, дал задание каждому отряду в отдельности. Два отряда подносят готовый бетон. Люди третьего, как коммунисты, идущие на эшафот, взявшись за плечи друг друга, стоят железной несгибаемой стеной, передавая по цепи раствор для спустившегося в ледяную воду бетонщика, поддерживают в нем бодрость духа; а через пять минут вытаскивают его из плещущего холода и отправляют в приготовленную заранее теплую комнату, чтоб мог он там переодеться в сухое, растереть спиртом застывшее тело; тем временем в воду опускают следующего бетонщика.
Этот строгий, и точный, и жесткий ритм позволяет всем вместе, как единому сердцу и уму, перенести суровую ответственность и тяжесть необычного труда; железная дисциплина, какая бывает только на военной службе, чувство единства и товарищества ведут людей к достижению цели.
Нурисламов, отдавая приказы, исходил из собственного опыта спасения военных судов в годы гражданской войны. И в эти минуты Крутанов, Хангильдян и Мицкалевич подчинялись полностью его твердым приказаниям.
В мартовскую, ледяную и обжигающую, воду первым вошел Мирсаит Ардуанов...
15
...Во время аварии не до сна было и Ксенофонту Ивановичу Сагайкину. По правде говоря, он хлопотал даже более других руководителей строительства: бетонщики, конные подводы, шофера — все находились под его бдительным приглядом. Он, по распоряжению. Нурисламова, устроил подвоз пищи из столовой на поле действия, и туда доставлялись своевременно горячая похлебка и крепкий горячий чай; во многих местах разожгли костры; Сагайкин организовал также доставку сухой одежды; все это значительно облегчило борьбу людей с ледяным напором взбунтовавшейся воды. Старшие руководители стройки остались весьма довольны такой расторопностью Ксенофонта Ивановича и в коротких беседах промеж собой не могли не выказать по этому поводу некоторого удивления: до чего ж не прост и не однозначен, мол, человек; чудеса! Какую пустую болтовню развел товарищ Сагайкин на собрании, а теперь вот, когда пришла беда, смотри, работает вовсю, стиснув зубы.
Да, стиснув зубы — это уж точно.
Ночью, при виде взметнувшихся к небу столбов дыма, огня и воды, душа Ксенофонта Ивановича, давно ждавшего этих минут и бросившегося к окну с дикой радостью, сдавленная туго злобой душа его, дождавшись этой минуты, забила освобожденно крылами.
«Летит по тайге пепел «новой жизни», прах ее летит, господи! Вот так оно и бывает — когда лапотники да голодранцы за дело берутся. Начальство ударится в панику, и не выправить им аварии до лета теперь, какой же дурак согласится лезть в холодную, как лед, воду. И насосы их, купленные у зарубежных фирм на казенный счет, за чистое золото, полетят к черту, выйдут из строя. Полежат в воде до самого лета, и тогда им одна дорога — на свалку. А ведь насосы те, деньги казенные, на которые они куплены, — все добыты в поте лица ишачков серых. Вот и получится хорошенькая распря... одна станция тянет миллионов на десять. И отстроить ее заново можно будет только за счет сокращения заработной платы рабочим, да, а легко ли это? Сезонники и без того народ скандальный, если их прищемить в деньгах, будут они противниками Советской власти, чего там, открыто подымутся. Так-то вот, товарищи дорогие, Крутанов, Хангильдян и тому подобное, заварил я вам кашку, и густую, ваш таежный социализм затрещал по всем швам, слышите...»
Тошно видеть Сагайкину, что социализм «по швам трещать» никак не собирается, оттого зол он неимоверно и скрипит зубами. На его глазах ежедневно и ежечасно идет по рельсовым путям в Березники и Соликамск, словно вышедшая из берегов река в весеннем разливе, половодье разнообразных грузов. И каких грузов, это надо видеть, черт бы побрал их! Читает Сагайкин выведенные на ящиках черной краской названия промышленных фирм со всего мира: «Бабкон-Вилькокс», «Ганномаг», «Сименс-Шуккерт», «Борзит», «Рейн Кабель — Павел Газ»... еще кто-то... еще...
И поднимается в Ксенофонте Ивановиче глухая злоба против своих кумовьев-капиталистов. Видеть не может он теперь их ненасытную жадность, страсть к золоту, за которое могут они продать родного отца и собственные убеждения. Ну что, полопались бы они, если б и не продавали пока насосов? Откуда взять бы тогда России, изнывающей от голода, нищеты и тифа, те мощные машины? Неоткуда. Не изготовить ей их пока самой, хоть из кожи вылезет, не-ет, пусть сперва вшей еще всех передавит. Три столетия правили «торговые люди» Строгановы уральской тайгой, но не могли даже солью насытить эту бескрайнюю и нищую страну. Пусть бы и стояли себе те соляные заводы, нет, лезут к химии...
С распухающим, словно боль под сердцем, неуемным уже страхом наблюдает Ксенофонт Иванович, как день ото дня крепнет база химкомбината в Березниках, как набирает он мощь, и ширится, и поднимается. В тайге отыскали белую глину — говорят, будут из нее добывать алюминий. Нашли магний, нужный очень для науки. И это еще сверх богатейших калийных залежей, запасов которых здесь хватило б на нужды всего мира. Это же сверх нефти на Чусовой. Откуда берется только энтузиазм у народа, ну, откуда? Какой-то казанский татарин, сын безграмотного, темного крестьянина, в три-четыре месяца создает передовую бригаду бетонщиков и с фанатической преданностью топчет по десять и больше часов в сутки бетонные заливки; только ли — трое суток, почти безвыходно в холодной воде, устраняет аварию — и вот, нет ее, аварии, одно воспоминание... Никак не укладываются подобные дела в голове Ксенофонта Ивановича. Хочется ему встретить Ардуанова где-нибудь в глухой тайге, хочется видеть, как собьет проклятого татарина с ног бандит Шалага, у которого нож всегда за пазухой, но не ножом, а сапогами вспрыгнет ему на лицо и будет топтать, топтать, пока не раздавится нос, не выскочут из орбит глаза, топтать — ах, какое наслаждение было бы увидеть!
В механический цех будущего комбината привезли паровой котел. Сагайкин частенько ходит смотреть на этот котел, встречает там инженеров — бородатых и безбородых; видит американцев в желтых ослепительных брюках, зырянских серозипунных мужиков, русских, украинцев, татар, башкир, попадаются ему монтеры и слесари, землекопы и бетонщики; замечательные механизмы, трубы и бесчисленные отсеки котла ясно показывают, какой громадный труд человеческий затрачен на его изготовление; и люди взирают на гигантский котел с восхищением, стоят молча, впитывая душами величественную незабываемость минут...
Когда через какое-то время начинаются испытания парового исполина и округу заполняет неслыханный до сей поры сплошной и могучий гул, Сагайкин почти теряет ощущение реальности, тупеет на миг, но, опомнившись, задыхается от злобы, мечется неподвижно, и жестокая мысль опаляет вдруг его бурлящий мозг: «Сколько разных национальностей работают здесь, уйма! Так ведь просто: надо распустить меж них заразную — о, еще как! — вражду. Чтоб видеть и слышать не могли друг друга, чтоб дрались насмерть, мстили кровавой местью...»
Он приходит к твердому решению собрать воедино работающих на него «надежных людей», рассыпанных пока по разным участкам, и отвести их поглубже в тайгу, подальше от зорких чекистских глаз. Неспроста приехала в Березники московская комиссия, шалите, братцы чекисты! Смотреть испытания парового котла, да не только: скорее, наступить на хвост товарищу Сагайкину, поймать Сагайкина, упрятать его куда Макар телят не гонял. Не напрасно скрывают Крутанов и Хангильдян работу странной этой комиссии. Но береженого бог бережет, и пока не попали «надежные люди» в лапы ГПУ, пока не унюхали их московские ищейки, надо первым делом уводить ребят в тайгу; они еще не раз пригодятся. Где бы только жилье отыскать? Впрочем, теплые дни на дворе вселяют в него уверенность. Выкопают землянки, временно поживут в них, ничего, не сдохнут. А насчет продуктов уж он позаботится, это в его руках.
Всю ночь гудит паровой котел; приезжают одна за другой разделенные на две смены автомашины, бегут от света фар их по стенам пугливые тени. Где-то надрывается гармонь, и тягучий голос обливается горячей тоскою, Сагайкин, выбившись из сил, сомлев, проваливается в бредовые, кошмарные сны...
16
В уральскую тайгу пришла весна. Проспавшие всю зиму сосновые боры и не заметили, увлекшись солнечным сияньем и теплом парующей земли, как рядом с ними возникли уже первые заводы, цеха и вспомогательные хозяйства химического гиганта, выросла своя электростанция, поднялась водонапорная. На глазах изумленной тайги достраивались почти улицы Пятилетки и Индустриализации, каменные хоромы их стоят ровно и красиво. Да и в саму тайгу, жившую ранее сплошным темно-зеленым массивом, окутанную в голубые туманы, рождавшую бесконечно синие лесные дали, ворвались с пропискою навеки кирпичные красные трубы, поднимающие себя до середины высокого неба, трубы темные и железные, распарывающие его гладь узкими, черными чертами. И стало уж обычным видеть в тайге автомобили, бетономешалки и другие замысловатые по тем временам машины.
И это было ново, было увлекательно. Но все же больше всего бросались в глаза изменения, происходящие в самих людях. В первые годы с языка ардуановцев не сходили разговоры о том, что надо бы возвращаться в родные края, купить хорошую крестьянскую лошадь, накопить денег да срубить добротную избу; в последнее же время многие думали ожениться и обосноваться на этом месте, поговаривали уже, что не место красит человека, а жить можно везде — все зависит от тебя самого.
И, как средоточие всего этого, виделся впереди древний весенний праздник труда, праздник татарского народа — сабантуй. Приближение его всколыхнуло всех почти одинаково. Вернее же, всегда, вечным спутником, живет этот праздник в сердцах людей; лишь жизненные заботы — переезды, устройство на новом месте — заслонили было думы о нем, скрыли их в хлопотливом тумане...
Но как только дела пошли более или менее на лад, как только очертились первые контуры комбината, вновь засиял сабантуй перед глазами татар, и душе захотелось его страстно и нетерпеливо.
Перед началом смены или когда собирались они в бараках, все заговаривал Бахтияр-абзый о сабантуе, просил упорно, чтоб сходил Мирсаит-абзый к начальству, выяснил там все в точности, договорился о времени и месте проведения.
Крутанов такого праздника не знал, был он из средней России, потому выразил некоторое сомнение.
— На стройке работает более четырех тысяч башкир и татар, товарищ Ардуанов. В любом празднике случаются шумы и скандалы — кто станет отвечать за последствия?
Мирсаита-абзый поддержал Хангильдян.
— Зря вы беспокоитесь, Никифор Степанович. Сабантуй — праздник труда. Никто там не напивается, не дерется, на сабантуе состязаются в ловкости и в силе. Мы, помню, в Перми проводили такой праздник — так все остались довольны.
— Это все хорошо, только, скажем, вот вы, товарищ партком, возьметесь ли сами за организацию этого дела?
— Безусловно.
— И отвечать будете?
— Конечно.
И Мирсаит-абзый с Хангильдяном, посидев два вечера после работы, определили уже точно место проведения сабантуя.
Чтобы не испугать секретаря, Ардуанов многого требовать не стал.
— С десяток горшков. В середине майдана шест надо будет вкопать. Ну, брус поперечный для битвы мешками. Победителям скачек и национальной борьбы — призы-подарки, И вот еще чего: сабантуй на сей раз проводится не в татарской деревне, а в новом поселке, и потому, наверно, не будет вышитых полотенец да узорных платков победителям в подарок — негде их собирать, понимаешь, товарищ секретарь? А знаешь ты, что в этом-то и есть вся красота сабантуя? Девушки и молодухи наши с ранней еще весны, как только начнет таять снег на полях, самые красивые свои подарки, всякие там вышитые, тканые, узорчатые, начинают готовить для сабантуя; и ждут потом, кому, какому батыру тот подарок достанется. Поэтому вы, товарищ Хан, — Мирсаит-абзый поглядел убедительно на секретаря парткома (так, по-свойски, называли секретаря парткома Хангильдяна рабочие, и многие даже не знали его настоящей фамилии), — так вот вы, товарищ Хан, сказали бы сами в постройкоме — мол, надо найти сорок — пятьдесят метров белой кисеи, столько же красной материи да хоть немножко сатина и шелка. Тогда девушки из бригады Шакира Сираева за две недели наготовят столько подарков, что хватит на всех батыров, а?
Договорились об этом тоже.
Хангильдян, однако, все же беспокоился, что праздник может пройти не очень гладко.
— Клянусь хлебом и солнцем, ничего не случится! — торжественно сказал Мирсаит-абзый и сам рассмеялся: вот ведь как хочется встретить сабантуй, даже клятвы в ход пошли!
— Понимаю я тебя, товарищ Ардуанов. Твоя бригада, конечно, ни с того ни с сего драку не учинит. Но ведь... есть и враги. Вредители, собаки, которые чувствуют, что наступил их последний час, оттого и бьются в предсмертной агонии, все укусить пытаются. Чего там греха таить — заставили же они нас недавно работать по колено в ледяной воде. Конечно, они здорово просчитались. Рассчитывали, подлецы, оставить нашу насосную на растерзание камским волнам. Рассчитывали, что рабочие придут в отчаяние, мол, зря стараетесь, зря тужитесь...
— Ну и как, товарищ Хан, не удалось еще напасть на след?
— Ничего, нападем, — сказал Хангильдян и положил на стол свой тяжелый кулак, густо поросший темными волосками. — Нам, товарищ Ардуанов, нельзя ослаблять бдительность ни на минуту. В первую очередь полную ответственность за праздник ты берешь на себя. А какой у нас там распорядок?
— Как это — распорядок?
— Ну, открытие празднества, ведение его — кому все это поручается?
— А... Обычно аксакалам, кому же еще, самым старым и уважаемым.
— Ну вот и найдите таких, создайте особую комиссию.
— Хватит ли этого?
Добавить к ним еще молодых, смелых, крепкоруких! Человек двадцать — тридцать. Повяжите красные повязки, и пусть рассеются среди народа, по всей гуще праздника. Пусть будут как постовые, стоящие на страже порядка!
— Будет, товарищ Хан, — сказал Ардуанов, и на осунувшемся от тяжкой работы лице его усталые, но не потерявшие своего блеска карие глаза озарились улыбкой.
17
Все шло своим чередом. Мирсаит-абзый, Бахтияр-абзый, вместе с ними Исангул Юлдыбаев, Киньябулат, Янбай Дауришев, из более уже шустрых парней Шамсутдин, Сибгат-Сибай, Нефуш — Певчая Пташка изо всех сил занимались подготовкой сабантуя. Но тут из Москвы, закончив учебу, приехала неожиданно Зульхабира Кадерматова.
Новость эта вызвала в бригаде Ардуанова сильнейший переполох. Оказалось, очень они соскучились по своей учительнице, каждому любо было б взглянуть на нее хоть разочек, сказать ей ласковое, от сердца, слово. И очень уж всем хочется, чтоб счастье пришло к Зульхабире большое и полное, оттого не могут они удержаться — советов да наставлений Нефушу прямо не счесть: полный, доверху, короб.
— Ты, скажем, Нефуш, с разинутым ртом не носись, пташек по деревьям не считай. А не то, гляди — проворонишь свою соловушку. Отхватит ее какой-либо чужанин, тогда спуску от нас не жди. Ты помни хорошенько, бригада наша ударная, и, как наша работа хорошая, так и... ну и того... Чтобы, значит, и крылья души были крепкие, чтоб их нельзя было сломить! Вот тебе надо было встретить ее на машине да прямо с парохода и везти самому, вот тогда, понимаешь, был бы ты настоящий джигит. Слушай, а ты написал ей хоть о том, что ты теперь самую хорошую специальность разучил — шофер?!
Краснеет Нефуш, что-то бормочет.
— Нет, ты правду говори, написал ей или нет? — нажимают на него ребята. Особенно Исангул старается и не смеется при этом, даже не улыбнется, серьезно так наступает:
— Ты, друг, к этому делу относись с большой ответственностью, понял? Стройка полна голодного воронья, которое так и пялит глаза по сторонам, чего бы хапнуть. Сморгнуть не успеешь, как такой оголодавший ворон сопрет нашу сестричку-учительницу, а твою будущую жену. Так что ты, друг мой, заруби на своем носу и имей в виду: не зевать!
— Истинно так! — дружно подхватывают ребята.
А Нефушу приятно, рот у него за ушами пропал. Сидит он, слушает с удивительным добродушием и спокойствием колкие подчас смешки друзей, не обижается ничуть. Наконец не выдерживает и простодушно раскрывает перед ними кипящие в сердце чувства, не боясь водопада новых насмешек.
— Так ведь я и привез ее со станции на своей машине...
— Иди ты?!
— Когда?
— Зульхи[44] письмо мне написала. Мотылек ты мой, дескать, летошный, пташка ты моя певучая, соловушка мой ненаглядный, ты, дескать, Нефуш Фахриев, кукушкин птенчик, в чужом гнезде выросший, не забыл ли ты, ветрогон, про свою учебу? Если же ты, она мне пишет, позабыл да позабросил книжки и тетрадки, остался если вдруг темным, неграмотным, как осиновый пень, в таком случае я, учительница твоя Зульхабира, и вовсе перестану думать, что живет на белом свете Нефуш — Певчая Пташка, да вычеркну это имя из молодого своего сердца. Видите, в каком таком направлении раскатились теперь мои дела!
— Ну, а ты?
— Чего — я? Я думаю, то есть говорю я, ты постой, говорю, Зульхабира-туташ, а что же ты, говорю, скажешь, если я, пока ты сама училась тама в Москве, не только яналиф[45] вызубрил, но даже русский теперь назубок знаю. Так выучил, что и любой русский заслушается, рот разинет, а? И как начал, я тебе скажу, как начал, засучив рукава...
— Ты что-то очень уж издаля начал, сынок, может стать, теперь я тебе скажу, подойдешь все-таки ближе к делу, а? — сказал Ардуанов, поглаживая усы широкой ладонью.
— А чего, Мирсаит-абзый, отец родной, если захотеть, можно, конечно, и поближе. Ну, вы сами пирикрасно знаете: она, Зульхи, еще уезжала — видела, что я на машине учусь, но, как говаривает Бахтияр-абзый, не окончательно до конца верила: получится из меня что-нибудь нужное али нет?
— Ишо бы, она, чай, знала, что ты ни черта лысого не могешь, способностев нету!
— Пиричем тут «способностев»? Если уж на то пошло, кто промеж нас всех первее буквы выучил? Кто первее писать обучился? Кто первее костюм купил? Вот то-то и оно! Кто смело сел на машину — автомобиль «Пирс», который аж из самой мериканской страны прибыл? Болтаете, так говорите то, чего знаете, а не смыслите, тогда развесьте уши да слушайте получше!
— Ну так как встретил ты ее? — остановил Мирсаит-абзый не на шутку разошедшегося Нефуша.
— Да я же давно об этом хочу рассказать — только мне не дают, вот черти! Ну и черствый же народ — эти бетонщики, аллах свидетель, у них, видать, что фундаменты, что души — одинаково закаменели. Слова не дают сказать! Ну вот: встретил я ее. А было так. Пошел к Крутанову, мол, машина нужна. Нет, не дает. Машину не дает и самого не отпускает. Что это, мол, за такие еще чудеса в рабочее, панимаешь, время, ушел — пришел, работу оставил, технику от производства умыкнул, и пошло, и поехало...
— А ты чего?
— Ну, я ему говорю, так ведь, говорю, ипташ-товарищ начальник, сама Зульхабира, соловушка моя, приезжает, так ведь, говорю, я ее, может, первый раз за всю свою жизнь встречаю...
— А Крутанов чего?
— Ну, Крутанов разошелся пуще прежнего. Ах, тебе девушек встречать? Как не стыдно?! Создавать в производстве прорыв, среди бела дня лишать производство последних транспортных средств... Как не стыдно! А еще, мол, комсомолец...
— А ты чего?
— Я чего? Я стою, конечно: рот раскрыл, глаза зажмурил... Он в меня, значит, словами все обидными кидает, как гравием, по башке колотит, — ух! Но я слушаю, а сам про себя хитрую думку думаю: нет, говорю я себе, ты, ипташ-товарищ начальник, цельный день не выдюжишь обручи-то на меня насаживать — когда ни то выдохнешься, а я человек шибко терпеливый, вот закроешься ты, из сил выбившись, тут я свое и заталдычу: начальничек, мол, мотылечек, и так далее и тому подобное. За всю мою интересную жизнь впервой получилось, что любимая моя же ласточка прилетает издалека — из Москвы, вот и надо мне теперь машину: расколотись — но достань... А в другой раз силой будете навязывать — так не возьму ведь...
— Сдался, што ль?
— Сдался. Но! Не по своей воле. Хан пришел, партийный секретарь. Видать, услыхал, что мы битый час в кабинете скандалим, зашел и говорит:,товарищ, грит, Крутанов, недаром тебе такую крутую фамилию дали, я, грит, слушал да терпел, но ты, однако, бурлишь, как кипяток, а такого нельзя допускать. Дай ты Фахриеву машину, он, мол, зато после смены лишний час отработает. Будешь мне, грит, отрабатывать? Какой такой может быть разговор, товарищ партийный секретарь, говорю, да разве ж я когда-нибудь отказывался от работы?! Вы только скажите, аллах свидетель, день ли, ночь ли — верну этот час вдесятеро!
— А он чего?
— Чего он? Стоит, словно малый, рот до ушей, улыбается; вижу, хочется ему погладить меня по головке, да решиться не может, видно, боится, что обижусь...
— А Крутанов чего?
— Ну, Крутанов тоже помягчел. Уж больно товарищ партийный секлетарь по-свойски на меня смотрит, куда Крутанову деваться? Жизнь, она такая: кого мир обидел, того и мужик прибьет. Раз товарищ партийный секлетарь смотрит на меня светло и ласково, раз он хочет меня по головке погладить, тут Крутанову, хучь он на стройке и начальник первой руки, хочешь не хочешь, надо смягчаться... И приглашает он меня, братцы, к себе, усаживает на стул перед своим столом и говорит: давай, Фахриев, начистоту: тебе Кадерматова кто — шаляй-валяй или же...
Тут, стало быть, я от злости аж поперхнулся. А кто да кто вам, говорю, товарищ Крутанов, дал такое право, чтоб смеяться над моей невестой, да еще и оскорблять ее вдобавок?!
— А он чего?
— Ему что? Думаешь, он первого такого встречает, который, значит, петух, как и я? Ору, стало быть, с пеной у рта, а он сидит себе спокойно и улыбается. Ну, когда я кричать устал, спрашивает: «Все у тебя?» — «Все!» — отвечаю. «Значит, серьезно?» — «Серьезно», — говорю.
Когда такое дело, говорит он, ты, водитель Фахриев, резину не тяни, возьми, грит, да аккуратненько, красивенько, чин по чину, женись на своей учительнице Кадерматовой. Только смотри у меня, Певчая Пташка, не вздумай начальству лишние хлопоты учинять. Квартиры пока нет. Но в бараке, грит, выделим лучший уголок.
«А свадьба?» — говорю я. «Какая свадьба?» — «Красная, говорю, свадьба. Али прав у нас нету таких?» — «Ну, улыбается, это уж вы с Мирсаит Ардуанычем поговорите. Если он считает тебя достойным, то, пожалуйста, сделаем красную свадьбу, но у нас на стройке, грит, такого еще не было».
У Шамука, Сибая, да и у других парней, которые, затаив дыхание, слушали весь этот разговор, разгорелись глаза.
— Разве и до этого уже дошло?.. — почесывая голову, сказал ошарашенно и Мирсаит-абзый.
И Исангул смотрел, раскрыв рот, на Нефуша, завидовал страстно, но по-хорошему.
— Ладно, рот-то свой... можешь и закрыть. А не то ворона накакает, — сказал ему Янбай Дауришев. Впрочем, он и сам завидовал счастью Фахриева, и сам, не отрывая взгляда, смотрел на смуглое, еще больше похорошевшее от волнующего душу разговора, округлое лицо его, на черемухово-черные, искрящиеся радостью глаза...
На другой день начали они готовиться и к свадьбе. Бригада делала это уже не втайне, а с согласия жениха и невесты, советуясь даже с ними.
...До Сагайкина наконец дошли слухи о том, что люди из бригады Ардуанова, а с ними и все работающие на стройке татары и башкиры собираются отметить свой национальный праздник, и в душе у него опять загорелась тусклая, коптящая надежда.
«То, что не смогли сделать аммонал с динамитом, сотворит обыкновенная финка. Надо расстроить, разломать к черту весь этот праздник... и сделать это так, чтобы между русскими и нацменами закипела яростная вражда, даже резня, если получится!»
Он вызвал к себе самого жестокого и безжалостного из «надежных людей» — Тошевекова; пристально глядя в его темно вспыхнувшие в предчувствии нового дела зеленоватые глаза, коротко рассказал:
— Тут татарва собирается справлять свадьбу. Учительница Кадерматова выходит за шофера Фахриева.
— Ну так что ж, пущай выходит.
— Свадьбы быть не должно!
— ...Откуда я их узнаю?
— Связной Сираев. Ну, что как дурак уставился или не знаешь? Бетонщик. Тот, что с девушками работает! Шакир Сираев, знаешь?
— Знаю, — сказал Тошевеков.
— Ну, раз знаешь, тогда давай... Сираев тебе покажет жениха и невесту. И чтобы чисто, понял?! С богом. — Он размашисто перекрестился, в заключение злобно прошипел: — Только гляди, если вдруг попадетесь, друг друга не продавать! Не то... Всю жизнь будем гнить в большевистской тюрьме.
18
Высоко-высоко, в бездонной синеве неба, мягко, словно пух лебединый, плывут белые облака. Они купаются в солнечных лучах, прозрачно светятся и кажутся легкими, как кисейные платьица маленьких девчушек.
Таежные леса в глубокой зелени. На луга словно кинут бархатный ковер, разостлан бескрайно; средь пушистого травяного узора блещет и сияет серебро реки; то укрываясь в усыпанных розовым кустах шиповника, то открываясь солнцу, подобно невесте, вышедшей напоказ, струится небыстрая речка Зырянка.
Небывалая картина открылась сегодня реке: такой она еще не видела за версты своего пути, за века жизни своей... На излучину пришли веселые, шумные люди, вбили в мягкую землю брусья, посадили громадную мачту, устремившуюся верхушкой в небо, сдвинув кожаные тюбетейки, совещались, говорили всерьез и шутя...
А вот уж дрожит воздух над речкою от голосов и гулов. Поют, заливаются гармони, плещут на высокой мачте тканые полотенца, на раздолье приречного луга возникает большой майдан — его образуют вставшие широким кругом, собравшиеся здесь люди.
Зульхабира и Нефуш пришли, чуть опоздав к началу. Вышло у Зульхабиры праздничное платье широковатым в поясе, сидит она, ушивает его, исправляет быстро и ловко; то ли от того, что нагнулась, то ли от праздничного настроения лицо у девушки заалелось, горит, словно маковый цвет.
— Ты, Нефуш, на меня не гляди пока, а то я стесняюсь. Воткну вот иголку в палец, придется тебе вместо сабантуя в больницу меня отвезти...
Нефуш и сам разоделся к празднику с иголочки, так и блестит, как самовар, не тускнеет: розовая рубаха из гладкого сатина, черные суконные брюки с карманами, привезенные с пермского «толчка» хромовые желтые сапоги — все это новехонькое; Нефуш чувствует себя неловко и стесненно, однако скидывать обновы не желает ни за что на свете, хочется ему показать себя Зульхабире, чтобы непременно оценила она; а еще хочется ему до смерти поговорить с ней, нашептаться, пусть хоть и глупостей, обняв любимую крепко, пересказать ей переполнявшие душу чувства свои, но Зульхабира — девка озорная, сама себе голова — близко не подпускает, не дает и слово сказать, ушивает праздничное платье.
Когда они добрались наконец до места проведения сабантуя, весь луг заливной был полон уже народа, и от обилия людей, от обилия солнца, от пестроты нарядов рябило в невольно смежающихся глазах.
Вдруг все громко и разом засмеялись.
Зульхабира, желая тотчас узнать, что́ там такое, уцепив Нефуша за руку, продвинулась сквозь толпу ближе к средине круга. Передние ряды, образовав этот самый круг, оказалось, сидят на зеленой траве, скрестив или вытянув ноги, и, раскрыв рты от крайнего восторга, смотрят на забавы, которые происходят на майдане. Там солидные дяденьки — многие уж с сединой — влезли ногами в мешки и прыгают, кто быстрее пробежит эдак, словно стреноженные лошадки, и падают, и хохочут сами над собой, и ругаются. Зульхабире все это видеть, как стало понятно, впервой, она заливается от смеха, люди рядом пытаются остановить ее, — куда уж! — пуще прежнего смеется Зульхабира.
Ну, ладно, смеялась бы только, а то ведь она еще ухватилась за руку Нефуша и жмет ее, и дергает, и поглаживает неосознанно, так что Нефуш — какой уж вроде бы шутник и проказник! — стесняется, косит по сторонам затуманенным глазом, краснеет, как спелый помидор, но руку не отнимает, потому как уж очень приятно ему, что любимая сидит с ним рядышком, смеется столь заливисто, должно быть, и ей очень хорошо...
Потом начали разбивать горшок, тут уж Зульхабира хохотала, кажется, до слез. А когда плюгавенький старикашка в черной тюбетейке, после того как завязали ему глаза и покрутили малость, угрожающе поднял палку и пошел от горшка совсем в другую сторону, на народ, она в изнеможении привалилась к Нефушу.
Зрители беспрестанно подсказывали играющим: «Вправо бери, куда же ты, левее давай!» — дразнились незлобиво и веселились изо всех сил.
На бой с горшком вышло уже человек пять, все они со старанием лупили палками землю, а самый удачливый оказался от горшка шагах в семи; тогда, не выдержав, вскочила с места Зульхабира, крикнула Нефушу:
— Я пошла, Нефуш, не поминай лихом! — да и выбежала сразу на середину майдана.
Охотников разбить горшку голову набралось много, но девушек среди них не было ни одной. Потому Исангул и Сибай — они завязывали игрокам глаза и следили за соблюдением правил, — увидев среди мужчин Зульхабиру, главное украшение всего сабантуя, бросились наперегонки к ней. Исангул поспел первым и принялся повязывать девушке на глаза черный платок, Сибаю оставалось лишь смотреть, завидуя счастью товарища.
Жаждет прямо-таки Исангул Юлдыбаев победы Зульхабиры над горшком, оттого старается завязать ей глаза нетуго, но от волнения трясутся у него руки, и платок проклятый спадает да спадает. Вот наконец завязал уже вроде, и чуть не испортила все сама Зульхабира.
— Ой, Исангул, видно же мне! — шепнула громко.
— Не шуми, красавица, я это нарочно, — проговорил ей на ухо Юлдыбаев и коснулся прелестного плечика. — Пошли, вместе пошагаем сначала.
Он, взяв Зульхабиру за руку, должен был отвести ее в сторону от горшка шагов на двадцать, но, забывшись от счастья, что идет с нею рядом, чуть не ушагал куда-то за майдан: ладно еще заорали парни, переживающие за девушку, и громче всех, конечно, Нефуш:
— Хватит!
— Куды зашел?!
— Не плутуй, мошенник!
Зульхабира, оглядывая из-под неплотно завязанного платка перед собой землю, шла к горшку медленно, с остановками. Старики, охраняющие правила сабантуя как зеницу ока, зашумели вдруг: «Видит! Видит!»
Зульхабира потерянно замерла, боясь, что не сумеет разбить уползающий неведомо куда горшок, боясь опозориться перед Нефушем, и оробела, и совсем остановилась. В этот миг, соскользнув, платок закрыл ей глаза. Подумав: раз так, будь что будет, — шагнула она на несколько шагов решительно вперед и быстро, чисто по-девичьи, не размахиваясь, ткнула палкой в землю. И застыла, не веря своим ушам. Майдан гудел, майдан приветственно кричал, горшок, рассыпавшись, лежал перед ней черепками.
У самого уха чей-то голос пробасил: «Ай да молодчина! Спасибо, дочка!» Сняв платок, она обернулась: Мирсаит Ардуанов, в черной бархатной тюбетейке, с красной повязкою на руке, протягивал ей душистое, в красивой обертке мыло.
В жизни своей не получала Зульхабира более дорогого ее сердцу подарка. Не зная от радости, что делать, побежала она хвалиться наградой к Нефушу, и ликованию ее не было предела — лицо девушки заливалось румянцем. Вот, оказывается, каков народный праздник сабантуй!
И после того, как села она опять к милому Нефушу, и после того, как похвалил он ее, все не могла Зульхабира успокоиться, рассказывала снова и снова о битве своей с хитрым горшком, а Нефуш улыбался, сиял, как солнышко, слушал с великим удовольствием; в переживаниях этих волнующих минут они и не заметили, что сабантуй пошел дальше и развернулись новые игры, новые забавы. В одном углу майдана, усевшись верхом на бревно, двое лихо махались мешками, набитыми соломой; какой-то парнишка, завернув штанины, карабкался на мачту, где, на самой верхушке, висела клетка с живым в ней петухом; девчата из бригады Шакира Сираева на узорчатых коромыслах несли — кто быстрее — полные ведра воды, стараясь не расплескать ни капли.
А Нефуш — Певчая Пташка смотрел на все эти забавы с прохладцею, не выказывая ни удивления, ни восторга, так что Зульхабира даже растерялась: и как это он может сидеть так спокойно, почему не хохочет и не кричит, как все вокруг? Ах, городская девушка Зульхабира, тебе-то все в диковинку: а не знаешь ты еще — на сабантуе только одна молодецкая забава зажигает сердца джигитов, заставляет биться их горячие сердца в восторге и крайнем азарте: это — борьба, национальная борьба татар «кряш», схватка смелых и сильных, победить в этой схватке — значит стать героем, свести с ума всех девушек на сабантуе...
В центр майдана с разных сторон побежали маленькие мальчишки, и Зульхабира вновь схватила Нефуша за руку:
— Что это?! А это еще что?! — спрашивала она, не понимая, что происходит.
— Кряш это, не шуми, — серьезно и веско сказал Нефуш. А Зульхабира удивленно заметила, что он как-то вдруг напрягся и широко раскрытые глаза его заискрились живым интересом.
Мальчишки же на майдане уступили место подросткам, подростки — молодым парням. Майдан вдруг сомкнулся, сузился. Задние ряды стали крепко напирать.
— Что это?! Это что?! — теребила Нефуша Зульхабира, все еще ничего не понимая.
— Кряш это, Зульхи, кряш.
К совсем почти сомкнувшемуся в толпу майдану, где разворачивался «кряш», нехотя подъехали два конных милиционера, стали постепенно расширять его, наезжая и нестрого покрикивая. Перед копытами лошадей всем стало боязно, пересиливая азарт, люди, не поднимаясь с бархатной приятной травы, отползали потихоньку, по-смешному, назад.
Вот наступило и для Зульхабиры жаркое время, когда пришлось ей остаться одной, сидеть, переживая остро за своего любимого.
— Ежели не вернусь, не поминай лихом: прощай, Зульхи! — проговорил Певчая Пташка, вспомнив, видно, шутку самой Зульхабиры.
И с той самой минуты, как взял Нефуш в свои руки вышитое полотенце[46], пробудился в Зульхабире страстный болельщик. А парень в голубой майке, который вышел против Певчей Пташки, очень был крепок, мускулы на его жилистых руках выпирали узлами, перевитыми туго канатами. Зульхабире показалось, что враз, на едином вздохе, повалит он Нефуша. Певчая Пташка поначалу взялся было, не скинув даже рубашки, однако стражи порядка — старики-аксакалы — заставили его все же снять. И Зульхабира впервые в жизни увидела, как силен и красив любимый: широкогрудый, с такими же крепкими, свитыми мускулами, он, конечно же, ни в чем не уступал своему сопернику. Это ее успокоило. Но когда, намотав крепко на руки полотенца, взялись парни и так склонились к земле, что казалось, лягут вот-вот, когда уперлись до хруста лбами, Зульхабире вновь стало страшно. За ногу свалила б она голубую майку, когда могла бы. А борцы тем временем все топтались на месте; «Кончай тянуть!», «Боритесь!» — кричали уже им недовольные зрители.
Но вот потихоньку стали отрываться от земли Нефушевы ноги. Голубая майка прижал его к выпуклой, каменной груди (сердце Зульхабиры словно к самому горлу подкатилось!), но когда казалось, что вот-вот уложит он Нефуша, выскользнул Певчая Пташка из могучих объятий, укрепился на земле и за какое-то мгновение опрокинул чисто противника. Сделано это было хорошо и быстро — Зульхабира не успела даже сообразить, что там произошло. Только потом, когда Нефуш, тяжело посапывая, притащил ей метра два белого, в горошек, ситцу, Зульхабира поняла наконец, что он победил. Другого борца Нефуш положил после первой же попытки. Третий, видно, не знал правил: так долго топтался он на месте, что вывел Нефуша из себя. Дали ему какой-то подарок, лишь бы ушел с майдана, не утомлял людей.
Не сразу нашелся следующий противник Нефушу. Бахтияр-абзый долго ходил среди борцов, уговаривал смелых выйти на майдан, показать силушку. Ардуанов вытащил из груды подарков белую рубашку. Сердце Зульхабиры вновь забилось неровно — был это ее подарок.
— Ну, кто выйдет? — крикнул Ардуанов, помахивая над собой красивой рубашкой.
И тут из толпы выбрался хмурый человек в черной сатиновой рубашке, надетой навыпуск, вразвалку направился к Нефушу. Мирсаит Ардуанов узнал в нем Шакира Сираева, неохотно подал ему полотенце.
Почувствовав на своей спине хватку Сираева, сразу понял Певчая Пташка, какие у того крепкие руки. Человек этот, угрюмый и молчаливый, не давая вздохнуть, словно обручем железным, все теснее сжимал Нефуша.
Когда Шакир и Нефуш затоптались, уперевшись лбами, Зульхабира не выдержала и крикнула:
— Не поддавайся, Нефуш!
Тот, видно, услыхал ее голос, стал притягивать Шакира к себе, но Сираев, казалось, в землю врос — даже не шевельнулся. Тем временем Нефуш сам почувствовал, что ноги его отрываются от земли, и хотел было, как и в тот раз, поддаться, а потом неожиданно выскользнуть и свалить хмурого противника. Но, попытавшись вырваться, подумал: а ведь не сможет на этот раз! Силен враг! Прощай, вышитая рубашка! Прощай, подарок Зульхабиры!..
— Смотрите-ка, смотрите, вот это действительно настоящий борец! — так восхитился сидевший возле стола комиссии Никифор Крутанов.
— Да, умело борется, видно, и до этого не раз боролся, — спокойно отметил Хангильдян.
После победы над троими Сираева отвели в сторону, усадили — дали возможность побороться и другим. Мирсаит-абзый поначалу в борьбе участвовать не хотел, но потом и в нем взыграла кровь борца, повалил он кряду трех человек и тоже очутился рядом с Сираевым. И таких, как Ардуанов, непобежденных, набралось восемь человек. Крутанов, видевший сабантуй впервые, расчувствовался, стал доказывать Хангильдяну и Мицкалевичу с неугасимым жаром, какой это, оказывается, хороший праздник; заключил, что надо бы проводить сабантуй ежегодно. Ардуанов, мол, и тут повел дело очень правильно.
— Цыплят по осени считают, Никифор Степанович. Давай пока не будем спешить, — сказал секретарь парткома. — Как там, интересно, милицейский пост? Надо бы вызвать сюда начальника, расспросить, как у них дела.
Послали за начальником отряда товарища Сагайкина. Ксенофонт Иванович был со стариками-аксакалами в составе комиссии сабантуя, наблюдал за порядком; начальника отряда он вскоре привел. Человек этот, средних лет, с кубиком в петлице гимнастерки, доложил руководителям стройки, что беспорядков пока не наблюдается, охмелевших людей по одному отводят в бараки.
Часам к шести вечера на берегу Зырянки заметно поредело. Остались все больше старики — самые заядлые любители состязаний — да и сами же их участники.
Все, конечно, хотели, чтобы батыром стал Ардуанов. Он справедливо борется, сил не жалеет, и чисто очень выходит у него, аккуратно, кладет на землю, что по хлебу масло размазывает. Но вот из восьми человек осталось четверо, среди них и Мирсаит-абзый. Крутанов снова не выдержал: «Ай да молодец! Ну, Мирсаит, не подкачай!» — крикнул. Но не получилось так, как хотел он: слава батыра досталась Шакиру Сираеву. Правда, ему не удалось положить Ардуанова на землю, но помучил он его изрядно; учитывая, что Сираеву дважды удалось оторвать Мирсаита-абзый от земли, предназначенный для батыра патефон решили вручить ему. Тут зрители попробовали было возмутиться, кричали, что участникам, мол, не дали завершить борьбу, но сам Мирсаит-абзый дальше бороться не захотел, и все скрепя сердце вынуждены были согласиться с решением комиссии. Сираев сунул под мышку патефон, заработанный в поте лица, и счел за благо побыстрее смыться, потому как хорошо знал обычаи сабантуя: упаси аллах, сторонники Ардуанова дорого не возьмут — так намнут бока, что не проохаешься.
Тетушка Маугиза сама, взяв за руку, вывела Мирсаита-абзый из круга-майдана, хотела было захватить и целую охапку подарков, завоеванных им в честной великодушной борьбе, да Мирсаит-абзый не дал, сказал ей громко:
— Нет, старая, это не мое — бригады: мы еще свой сабантуй проведем, вот отдышусь маленько...
И действительно, организовал он тут же небольшой, веселый майдан; стали ребята из его бригады бороться, бегать взапуски, бить увертливые горшки. Этот малый сабантуй вышел даже забавнее главного, большого; смех, шутки — все участвовали, и не из-за подарков, а просто ради интересу.
Ардуанов своей рукой раздавал победителям подарки, говорил приветливые, дружеские слова. Во время бега наперегонки всех до слез рассмешил Бахтияр-абзый: трюхал он самым последним, отстав далеко от участников, спадали с него калоши — он неторопливо подбирал их и трусил дальше.
— Бахтияр-абзый, не подкачай! Первым идешь! — орал, веселясь, народ.
— Бахтияр-абзый! Чего ты стараешься, подарков-то уже нету, все вышли...
А Гайнуллин знай трюхает себе — плик-плик, — улыбается и отвечает весело:
— Мирсаит — парень добрый, авось и для меня чего отыщет.
19
Зульхабира и Нефуш ушли с сабантуя почти последними. Сегодня им море по колено! Взявшись за руки, гуляли на излучине реки, посидели на бережку... А теперь вот возвращаются в барак, на сказочную Родовую гору.
Бежит невидно лесная тропинка. Темнеют сумрачно кусты боярышника, в кронах дубов, раскинувших резные шатры над ними, запутались неяркие звезды. Шумы и грохоты стройки доносятся сюда глухо, матово — тонут в чуть слышном окружающем шорохе леса.
Рука об руку, шагают они по лесу, никого вокруг — лишь шелест листвы. В сердцах их просыпаются те долгие зимние дни, проведенные в грусти, в тоске, далеко друг от друга; идут они медленно, в плену своих мыслей, текущих небыстро и счастливо.
«Когда бы не строился в Березниках химкомбинат, не встретила бы я, наверное, Певчую эту Пташку. Шел бы он по жизни, взяв за руку другую, не меня. А он — мой. Готов за меня в огонь и воду, готов прыгнуть с высокой скалы — любимый! Я буду ему верной спутницей. Подарю ему мальчика и девочку, красивых, умных...»
«Этот нежный цветок на счастье мое родился. Она раскрыла мне глаза — был бы я без нее слепой, глупой курицей. Как дорога она мне: на руках буду носить, беречь больше жизни. Одного за другим народит она мне десятерых детей. И мы проживем жизнь, воркуя дружно и весело, как лесные птицы...»
Дочь уральского мастера Кадермата и сын актанышского крестьянина Фахри шагают вместе по таежной тропе. Сегодня они прощаются со своей молодостью... Завтра — свадьба, первая на стройке красная комсомольская свадьба!
Ах, жизнь! Неужели проходит уже у Зульхабиры и Нефуша беспечная пора, полная страстных, искренних порывов, пора свободная, без горя горького и забот, пора нежная и легкая, как тот чуть слышный невесомый ветер, что прилетает из тайги? Неужто проходит молодость? И начинается новое время, начинается новая семья... Как Мирсаит-абзый, как верная жена его Маугиза, острая на язычок и такая добрая в душе, должны будут и Зульхабира с Нефушем нести без жалоб и упреков эту нелегкую ношу, возложенную на них страной и взятую ими с радостью, добровольно. В их руках теперь судьба родины социализма.
Они еще не думают об этом, крылатые души их переполнены, — не чуют земли под собою. Гудит в них кипящая кровь, видятся — голубые облака, сказочные корабли с раскинутыми парусами; и хочется любить и быть любимым, и кружится голова от весеннего половодья чувств.
Они вышли на небольшую круглую полянку — над ними добро и напутственно засияли звезды. В призрачном свете засеребрились вокруг, всплыли из тьмы бело и таинственно частые стволы берез.
Зульхабира прислонилась к дереву, сросшемуся парно, вытянувшему рядом два ствола к звездному небу. Зульхабира раскинула руки навстречу Нефушу. Нефуш взял ее крепко за обе руки, сказал тихо:
— Будешь любить меня?
Зульхабира откинула голову, глаза закрыла, засмеялась чуть капризно, как ребенок:
— Лю-бить бу-ду! — сказала, играя, сказала, смеясь.
— На всю жизнь? — сказал Нефуш, прошептал жарко.
Вдруг затихла Зульхабира.
— Буду любить. Всю жизнь буду любить! Милый мой, никого на свете нет у меня роднее тебя, ближе тебя...
Нефуш не сдержал своих чувств, забылся и, впервые в жизни, прижал ее к груди крепко-крепко, нашел ее губы и в тот же миг почувствовал, как рванули его сзади за ворот, уперлись коленом в спину, ломая, сгибая, калеча.
И острая холодная сталь, круша со злым хрустом ребра, вонзилась ему в сердце.
Зульхабира, вздрогнула, открыла глаза. Не успела опомниться — упал на нее от грубого толчка Нефуш, в груди у него, под сердцем, топырился нож с деревянной резной ручкою; на белое платье девушки, дымная, хлынула потоком кровь.
20
Ночью ли это было, на заре ли, Ардуанов проснулся от сильного стука в стенку. Почуяв беду, быстро, забью даже одеться, вскочил он, как был, в одном нижнем белье, подошел к двери и распахнул ее.
У двери собралась вся бригада — с фонарями в руках, ребята стояли сплошной черной толпой. Из толпы вышел Исангул Юлдыбаев, подошел к бригадиру, вплотную, сказал на ухо:
— Набиуллу убили.
— Какого Набиуллу?
— Певчую Пташку.
«А свадьба? А Зульхабира?» — не то в душе, не то вслух вскрикнул Мирсаит-абзый первую пришедшую ему в голову мысль...
Надо было все же одеться — он оделся, а когда выходил из барака, услышал громкие голоса из поселка строителей, мелькнули перед глазами тени куда-то спешно бегущих людей.
И, начиная с этих минут, горе, навалившееся тяжким камнем на его плечи, громадная ответственность за судьбы своей бригады, принудили Мирсаита Ардуанова быть твердым, не раскисать и не поддаваться чувствам.
На ногах были уже и руководители стройки. Крутанов собрал пятиминутное совещание, организовал комиссию по организации похорон; председателем ее был назначен секретарь парткома Хангильдян, членами — Нурисламов, Ардуанов и Бахтияр Гайнуллин. Сагайкину хотели было поручить организационные дела, а также связь с областью, но его не оказалось дома.
Тело покойника перевезли в больницу. Судебная экспертиза и оперативные работники приступили к делу.
Решено было, что утром бригада выйдет на работу как обычно. Все хорошо знали: приостановить работы — значит дать тайным вредителям возможность распространить среди населения всякие слухи. И конечно, воспользовавшись брожениями, они могут еще какое-нибудь черное дело натворить.
— Мирсаит Ардуанович, похоронных церемоний вашего народа я не знаю, поэтому дело это целиком возлагается на тебя, — сказал Хангильдян. — Сделай все, что находишь нужным. Только не забывай: Фахриев был комсомольцем, и мы, после соблюдения всех ваших обычаев, должны положить его останки в гроб, чтобы народ мог проститься с ним. Я еще раз по-товарищески тебя прошу: давай будем действовать, заранее обдумав все, вплоть до мельчайших деталей. Сразу видно, ребята в ярости, в особенности парни из твоей бригады, как бы не начался у нас стихийный бунт. Сам знаешь, нет в мире опасней провокации, чем игра на национальных чувствах.
— Ребят я успокою. До сих пор они меня во всем слушались, — сказал Мирсаит-абзый. — Нам ведь еще надо сообщить родственникам покойного, найти все, что нужно будет для похорон. Куда это Сагайкин-то запропастился? Черт, в самый нужный момент...
— Да уж, действительно. Надо бы, — конечно, выяснить... Машину, которую водил Фахриев, думаю, хорошенько помыть, обтянуть красной и черной материей. Впрочем, все это сделает Мицкалевич...
«Куда же мог деться Сагайкин? Вот тоже проблема! Нет, все-таки пустой человек!» — думал секретарь парткома, оставшись один, но решил пока этим голову не забивать — и без того она сумрачно гудела.
Тело покойника, как и было уговорено, обмыли по татарскому обычаю, положив в специальный лубок; сделал это, с помощью давно живших в Березниках стариков татар, Бахтияр-абзый Гайнуллин; затем облачили тело в новую одежду и положили в гроб. Поначалу хотели было выносить тело из барака, но подумали, что народу придет много и в бараке места может не хватить; поэтому гроб решили установить в клубе. Крутанов посоветовал прощание и похороны приурочить ко времени перерыва на отдых, обеденный перерыв на час удлинить и оповестить об этом, через агитаторов, воспитателей и бригадиров, всю стройку.
В двенадцать часов дня в течение целой минуты траурно пел гудок старого содового завода. Люди, оставив работу, медленно пошли в клуб, на улицу Пятилетки.
На километр с лишним вытянулась очередь пришедших попрощаться с покойным. Молча заходят они; выразив безмолвно последнее свое уважение совсем еще молодому парню, что лежит в гробу, усыпанный полевыми цветами, выходят тихо; выходят с тяжким горем в груди, с горькой жалостью к Зульхабире, сидящей молча у изголовья Нефуша. Стискиваются у людей зубы, сжимаются кулаки...
Гроб выносят на машину. Глядя скорбно на волнующееся внизу море людей, Хангильдян говорит слова прощания:
— Товарищи, кровавый вражеский нож унес от нас комсомольца Фахриева. Было ему всего двадцать пять лет. Он любил жизнь, любил своих товарищей, телом и душой он был предан нашей стройке. Начав с землекопа, Фахриев стал бетонщиком, потом водил первую же полученную стройкой машину. Враг хочет разрушить наши ряды, хочет протянуть кровавую руку к нашей дружбе, закалившейся на этой стройке; враг хочет посеять среди нас панику. Не выйдет! На похоронах своего рабочего, товарища, комсомольца Набиуллы Фахриева мы торжественно клянемся удвоить и утроить нашу энергию, закончить с честью строительство химического гиганта страны социализма...
...Вжались друг в друга медные тарелки, и плоский звон их донес людям реальность смерти; и звуки серебряных труб, и гулкий барабанный рокот маршем сплотили людей в едином шаге, в едином протестующем и утверждающем кулаке.
Над ними — светлое июньское солнце, в небе — белые, словно пух лебединый, облака; по дороге медленно катится грузовик, на нем — Набиулла Фахриев, и у изголовья его, как черная, с подбитыми крыльями птица, сидит Зульхабира. Рядом с нею — Мирсаит Ардуанов, на скамейках — ребята из его бригады.
Шагают по земле люди, едут конные милиционеры с винтовками за плечами. Медные тарелки, серебряные трубы, натянутые туго-звенящие широкие барабаны ведут людей торжественно-траурным маршем.
В последний путь провожают молодого солдата строительного фронта...
21
А Ксенофонт Иванович Сагайкин никуда не исчезал: под вечер в день сабантуя был он арестован и томился в одиночной камере, коротал там ужасную ночь, ворочая в душе столь короткое и бесконечно грозное слово «гепеу» — ждал в смятении, когда наконец вызовут его на первый допрос.
Наверное, самое тяжкое в жизни человека — неопределенность. Если бы Сагайкин доподлинно знал, почему и отчего оказался он в этой камере, то заранее подумал бы и о том, как себя держать во время допроса, какую линию поведения себе выбрать; за бессонную эту ночь наверняка сумел бы он придумать такое, что ни один человек, будь хоть семи пядей во лбу, не смог бы под него подкопаться. Но ничего он не знает. Не знает, черт побери! Удалось ли «надежным людям» прикончить жениха, если хлопнули, то как, где, сумели ли выйти сухими из воды — ничего не знает; вот и его самого арестовали: просто так, по подозрению только, или же продал его один из «надежных людей», оказавшись под арестом? Ничего не знает Сагайкин и от этого незнания страдает, мечется, мучается страшно... К какому прийти решению, какую защиту придумать, о господи...
И до этого чувствовал он, что люди из ГПУ, кажется, держат уже его под наблюдением, но ему не приходило в голову, что его так неожиданно арестуют. У противников Ксенофонта Ивановича не было ни единой улики против него, ни одного доказательства его вины, которые могли бы стать поводом для ареста. Покусывая жесткие спутанные усы, дотошно перебирал он в памяти события последних дней: где побывал, с кем виделся, пытался понять, какой неосмотрительный шаг мог допустить. Был вообще-то в землянке, но ведь она замаскирована в таежной глуши, и никто его не заметил. А может, заметили, но сделали вид? Может, сидят уже его «надежные люди» в изоляторе и в ожидании смертного часа ворочают в душе мучительные мысли? А может, им удалось докопаться до причин ночного взрыва на водонапорной? Но ведь об этом знают лишь Сагайкин да те люди, что совершили взрыв. И взрыв этот был произведен не группой Сагайкина, а совсем другими людьми, у которых и руководитель был совсем другой, приехавший со стороны, человек. Сагайкин только указал им все ходы и выходы. Они, наверное, давно уже доехали до Магнитки, давно готовят новые шнуры, новый аммонал и, в мыслях и мечтах своих, представляют, как взметнутся в воздух новые столбы огня и дыма.
От этих своих мыслей Сагайкин будто немного успокоился. Ощупал руками стену камеры, прошел немного вперед, но споткнулся о парашу, стоящую у двери, и выругался сквозь зубы. В камере было темно, душно. Он остановился перед маленьким, забранным чугунной решеткой окном: над Зырянкой, над тем самым безлюдным плесом, где сидели они когда-то с удочками, занималась заря, орошая кровавым багрянцем низкую кромку неба. Это красное зарево живо напомнило ему времена, когда убежал он из большевистской тюрьмы, товарищей-эсеров, что вели на свободе подпольную отчаянную работу, напомнило о том, как с их помощью поручик Сафронов превратился в Сагайкина — потомственного рабочего сибирских демидовских заводов и как очень долго потом — несколько месяцев — уходил он из Сибири. Товарищи по партии поручили ему обосноваться в центре Урала и там рубить под корень вырастающий победно социализм. Удалось ли ему подрубить эти корни? Водонапорная цела. Жив ударник Ардуанов. И до каких еще пор будут эти Ардуановы ходить живыми по земле? Сагайкин почуял, как скрипнули у него зубы, как яро вздулись жилы на висках. Ненавистные Ардуановы, Громовы, Вотиновы вырвали у Ксенофонта Ивановича его будущее, заперли самого вот в этой одиночной камере и оставили с глазу на глаз с воспоминаниями о прошедших днях!..
Сквозь тюремное окно с завистью смотрел Ксенофонт Иванович на отблески кроваво пламенеющей зари, — на вольную волю. Всматривался до резкой боли в глазах, ждал, когда рассветет. Откуда-то издали послышался протяжно-грустный заводской гудок. Знал он, что гудит это единственный сохранившийся в уральских лесах химический завод купца Любимова и шведа Солвэ. Словно ножом полоснул его сердце этот слабенький заводской гудок: услышал в нем Сагайкин бледный голос своего класса, сметенного с этой земли навечно. На заводской тонкий крик пронзительным свистком ответил паровоз, везущий бетон для утренней смены, певуче приветствуя друг друга клаксонами, проехали грузовые машины, которых, за последние дни, стало прибывать на стройку очень много. Потом голоса, отдельные звуки превратились в сплошной ликующий гул, в господствующий, призывный, способный любому навязать свою волю. Тяжело, мертвенно больно сознание, когда вынужден ты смотреть на все это через забранное чугунной решеткой тюремное окно, безвыходно ощущать, что система, которой ты был всегда злейшим, кровным врагом, шагает ввысь, социализм победно продолжает свое дело. Так во имя чего же покинул он кедровые, пихтовые леса, безмолвие, погрузившееся в сплошную неохватную тишину, родные, любимые места и из Сибири устремился сюда — в центр Урала, в гущу огня и дыма? Неужели для того лишь, чтобы сквозь чугунную решетку слушать, как гудит, грохочет социализм?
Вздрогнул вдруг Сагайкин от скрипа засова тюремной, из толстого железа, двери. А вскоре распахнулась она, и грубый низкий голос приказал:
— Сагайкин, к выходу!
В сопровождении вооруженного конвоя, не оглядываясь, долго шел Сагайкин длинным полутемным коридором. По крайней мере, ему показалось, что очень долго. Потом слева открылась какая-то узкая дверь, и в глаза ему ослепляюще ударил сноп яркого безжалостного света. Когда Сагайкин открыл глаза, он увидел перед собой человека крепкого телосложения с квадратным лицом и впалыми щеками, в полувоенной гимнастерке, подпоясанной широким кожаным ремнем. Сагайкин успел также заметить, что одежда этого человека соответствует суровому выражению его лица и лишь мягкие курчавые волосы, растущие вокруг круглой лысины на непомерна большой голове, создают странное и неуместное впечатление. Именно этот контраст в облике встречающего человека показался Сагайкину очень знакомым. Мучительно перебирал он в памяти всех своих знакомых, всех, кого знал или мог знать в прошлом, но, вероятно, оттого, что встреча эта была такой тревожно-неприятною, так и не смог припомнить сурового человека.
В кабинете стояли стол, два стула и очень большой сейф. С желтоватой голой стены, рождая в душе смутную тревогу, смотрел Дзержинский. Сагайкина особенно удивил сейф. На дверце этого непомерно большого, тяжелого сейфа, сделанного на заводах Демидова, тускло бронзовело изображение двуглавого орла. Этот сейф, ожгло Сагайкина, предназначавшийся капиталистам России, служит теперь большевикам, и, возможно, именно там лежат документы, от которых зависит его судьба.
Человек в гимнастерке здороваться с Сагайкиным не спешил, садиться ему не предлагал; глазами, горящими страстно на мрачноватом лице со впалыми щеками, уставился на вошедшего, сказал резко:
— Сагайкин — это ваша собственная фамилия?
Словно прикладом ударили по голове Сагайкина — так поразил его внутренне все же ожидаемый этот вопрос. Часто глотая воздух, словно рыба, выброшенная на берег, проговорил он:
— Что... что это за издевательство, гражданин следователь? — Почувствовал сам, что голос его слаб и водянист. — Мы — потомственные Сагайкины. Дед мой всю жизнь гнул спину на заводах Демидова; сделанные его руками перстни из алтайского драгоценного агата не брезговали носить даже короли иностранных держав.
— Значит, вы из рода знаменитого мастера демидовских заводов, Дмитрия Ксенофонтовича Сагайкина?
Сагайкин вздохнул свободно и протянул к следователю мизинец левой руки: на нем посверкивал перстень с агатовым камнем.
— Вот... мое единственное богатство, оставшееся от деда Димы. Подарил мне перед самой смертью своей. Наказал на прощание: ты, сынок, как зеницу ока береги рабочую честь, смотри, не запятнай ее ничем.
Следователь вытащил из левого ящика стола большую лупу и, положив руку Сагайкина с перстнем на свою шершавую ладонь, всмотрелся в агат через увеличительное стекло. Потом, уже более мягким, певучим голосом, подтвердил:
— Правильно! Это — Дмитрия Сагайкина работа, не фальшивка. Второй экземпляр перстня хранится у нас, здесь вот, — и, вытащив из сейфа такой же перстень, показал его мнимому Сагайкину.
В груди Ксенофонта Ивановича затлела искорка надежды. Ну, правильно он сделал, черт его возьми совсем, что упомянул о перстне! Выкрутится, раз так — убей бог, выкрутится. Он просветлевшими, полными надежды на спасение глазами взглянул на сурового человека уже почти беспечно и... похолодел всем телом. По мягкому и в то же время строго-твердому, даже жесткому выражению лица его он вдруг вспомнил: Морозов! Впалые щеки, квадратное лицо, мягкие желтые волосы вокруг лысины, горящие черным антрацитовым пламенем живые глаза. Так ведь карточку именно этого человека показали ему тогда сибирские друзья, предупредили: берегись попасться в лапы Морозова; мягко стелет, да жестко укладывает. Пропал ты, Ксенофонт, и нет тебе спасения!
— Ну и как же, Ксенофонт Иванович, не запятнали вы свою рабочую совесть? Достойно носите имя прадеда — Ксенофонта?
Съежился Сагайкин, словно стеганули его по спине казачьей плеткой-девятихвосткой.
— До сих пор не случалось такого, гражданин следователь, — выдавил. Помолчал, отдышался и добавил: — Сознательно, конечно. Ну... всякое может быть в жизни человека. Если... ошибся, готов кровью смыть свою вину.
— Да-а... Ну, хорошо, Ксенофонт Иванович, если не запятнали, это хорошо... — сказал Морозов, тут же, без перехода, спросил: — У Колчака долго служили?
И вновь помутилось в голове у Сагайкина — так внезапно прозвучал этот вопрос.
— Что вы? Я там не служил.
— Никогда?
Уставившись на кобуру с вороненым тупым наганом, висящую на широченном плоском ремне Морозова, Сагайкин мгновенно прожил в душе одну историю: врезалась она ему в память, словно вспышка молнии в темень мрачной ночи. Помнится, служил он у Колчака, расстреляли красные троих его товарищей. И Ксенофонт Иванович не мог простить Советской власти этих смертей, и он тогда, целуя саблю, поклялся отомстить за них.
Вспомнив еще раз троих товарищей по оружию — трех молодецких, бравых поручиков, Сагайкин чуть не сомлел, даже голова у него закружилась. Какие парни были! Красных рубили, не вынимая изо рта папиросок, — жжах! — и из одного коммуниста готовы двое — ах, ребята! .
— Так, значит, никогда? — повторил свой вопрос Морозов.
— Никогда, — не сморгнув, отвечал Сагайкин.
— Ну что ж, так и запишем, — сказал Морозов, помолчал с минуту и, не отрывая взгляда проницательных глаз от Сагайкина, добавил дружеским тоном, как бы входя в его положение:
— Плохи дела-то у вас, Ксенофонт Иванович. Проведение праздника, оказывается, на вас было возложено, как на секретаря постройкома. А вы... вы сорвали праздник. Вот поэтому мы вас и, мягко говоря, вызвали сюда. А ответ вам придется держать перед рабочим классом.
— Разве... Случилось что-нибудь?
— Убили комсомольца Фахриева. (На лице Сагайкина не дрогнул ни один мускул.) И это не хулиганов рук дело. (У Сагайкина нервически дернулась левая бровь.) Впрочем, убийцу мы уже арестовали. (К лицу Сагайкина, полыхая, кинулась кровь.)
— Где он? — сам того не замечая, шепотом спросил Сагайкин.
— Там, где ему и полагается быть, Ксенофонт Иванович. Опоздали вы.
— Как это?
— Ну — как? Так вот. Недосмотрели. Рабочий класс вам этого не простит.
Голову опустил Сагайкин.
Морозов нажал кнопку на краю широкого стола, появившемуся в дверях молодому конвоиру сказал:
— Ксенофонт Иванович Сагайкин освобождается из-под стражи по причине отсутствия состава преступления. Верните ему вещи, изъятые под расписку при аресте.
Когда вышел Сагайкин, Морозов позвонил по телефону начальнику отдела; доложил ему, что счел нужным освободить Сагайкина и установить за ним наблюдение.
Цель его, пожалуй, была достигнута. Дал Морозов Сагайкину понять, что находится тот в руках ГПУ, сообщив же об убийстве Фахриева, содрал с волка овечью шкуру; теперь товарищ Сагайкин освобожден, но не такой уж он махровый дурак: понимает, что не сегодня-завтра может быть арестован, и накрепко. А так — все подозрения на первый случай с него вроде бы и сняты. Поэтому постарается он во что бы то ни стало установить связь со своими сообщниками, а страх перед возмездием лишит его трезвого рассудка.
В соседней с той камерой, где был Ксенофонт Иванович, сидит Петр Шалага. Сразу после убийства Фахриева задержали его неподалеку на таежной волчьей тропе. Нашли при нем обоюдоострую финку. Следствие показало, что нож этот и тот, которым был убит Фахриев, близнецы-братья, оба сделаны в одной кузнице одним мастером. Во время допроса Морозов с Шалагой церемониться не стал: положил рядом два ножа и спросил, чьи они? Один — нож убийцы... Привыкший легко распоряжаться чужими жизнями, Шалага, однако, когда дело коснулось его самого, раскис очень быстро. Заскулил тут же и раскололся: рассказал, что главарем у них — Сагайкин, под началом его работают тринадцать человек; люди эти живут где-то в тайге, но кто из них чем занимается — неизвестно; Сагайкин вызывает их к себе по одному и дает отдельные задания.
Морозов решил и Шалагу выпустить на свободу, но для того, чтобы они не могли увидеться с Сагайкиным, Шалагу освободили часа на два позже. Морозов не сомневался, что кто-то из них обязательно пойдет искать спрятавшийся в тайге отряд...
22
Выйдя на свободу, Сагайкин сделал для себя ясный как будто вывод; сомнения его рассеялись в жесткой хватке зримой логики. «Все, донюхались, теперь на следу. Морозов этот нарочно меня выпустил, понятно. Побежит, мол, в свою группу, упреждать, тут мы их, голубчиков, и отловим. Побегу, как же, я вам побегу, сволочи! Сдохну, а от своего не отступлюсь. Надо, чтобы в бригаде этого Ардуанова думали, будто шоферишку ухлопали, как поганого татарина, за то, что он — татарин, вот как. Пусть думают, что это — дело рук рабочих из русских. А когда взъярятся, тут как раз надо убрать с дороги Ардуанова... Смута пойдет меж татар и башкир, ну, а если Ардуанова и прикончить, непременно поверят, что русские злобятся, и пламя обернется пожаром. Посмотрим тогда, господа большевички, из какого песка выстроена ваша крепость, именуемая нерушимой дружбой».
Гепеу, собаки, явно выпустили его ненадолго: значит, надо правильно использовать каждую минуту... Крепко надо использовать, чтоб им от тех минут тошно стало!.. У, псы чекистские! — кипело в душе Сагайкина, ярилось, клокотало; внешне, однако, выглядел он вполне невозмутимо. Действовать задумал Ксенофонт Иванович в основном через Сираева — за два года раскусил его до сердцевины, мохнатой, злобной, да к тому же еще знал точно, как и почему попал Шакир на Березниковскую стройку. А попал Сираев так: был у себя на родине справным кулаком, когда Советская власть стала брать кровососов к ногтю, достал Шакир через свояка в сельсовете бумагу, в которой указывалось, будто Шакир Сираев происходит из неимущего крестьянского сословия, да и отправился, затаясь, в самоссылку. Так что Ардуанов для него не мил друг, но враг, который встал на пути. И случая срезать бригадира-ударника, будь уверен, Шакир Сираев не упустит. Вишь ты, какой-то мужик полуграмотный, голытьба Ардуанов в героях ходит — да для Сираева это нож острый! Вот и направит он тот нож в грудь ударника... Шакир, поди, мечтал завод какой прикупить, хозяином стать, культурным, образованным... Тоже г..., прости господи, из грязи да в князи! Но ненависть к Ардуанову Шакира ослепит, хоть и хитрый он жук, дерьмо навозное, а ударника уберет, точно — уберет.
Было бы время — с оглядкой подошел бы Сагайкин к Сираеву, с хитрой да осторожной выдумкой, но теперь или пан, или пропал. Другого пути нет. Потому-то и решил он встретиться с хмурым вечно бригадиром не ночью укромной, в тайном месте, а среди белого дня, в собственном кабинете; послал за ним человека. Когда Сираев (а он был в заляпанной бетоном кожанке, брезентовые рукавицы топырились вызывающе из-под потертого кушака — в самой что ни на есть деловой рабочей одежде), тяжело и жестко ступая подкованными сапогами, вошел в кабинет секретаря постройкома, Сагайкин, не удосужась даже поздороваться толком, закипел и заорал сверх меры нагоняюще:
— Эт-та что за безобразие, Сираев, ну? Чего вы смотрите? Чего ворон считаете, бестолочь такая! Начали соревноваться, так думайте же головой, чтоб, значит, ваши товарищи были в безопасности, вы же с товарищами соревнуетесь? А то выдумали какой-то праздник, сабантуй, понимаешь! А кому за последствия отвечать? Чем возместить напрасно пролитую кровь рабочего класса?
Знал и Сираев, что все это — комедия, театр, чтоб слышно, значит, было в соседних кабинетах. Потому слушал он секретаря постройкома терпеливо, насупив, правда, брови, но даже внимательно; однако, когда Сагайкин совсем вошел в раж и затрещала уже под его кулаками столешница — не выдержал, окрысился; когда же заглянули в кабинет один за другим несколько человек, встал и резко спросил:
— Довольно, Ксенофонт, переходи к делу. Тебя как выпустили?
— Не выпустили бы, погноили еще, да улик у них нету.
Сираев постоял, улыбаясь недоверчиво краешком темных губ.
— Ну ладно, давай, говори, какое у тебя дело. Я пойду, меня бригада ждет
Сагайкин сузил глаза и шепнул сразу:
— Ардуанова убрать надо.
Зашелестел крыльями в душе Сираев, острыми, ястребиными, но, зная цену себе, отмахнулся поначалу:
— Это уж не моя забота.
— А чья это забота?
— Не ведаю о том, товарищ из постройкома.
Нервы Сагайкина, туго натянувшиеся за две бессонные ночи, изрядно потрепанные за два часа опасного допроса, сорвались вдруг и взбесились: спотыкаясь, ринулся он к столу и, выхватив из ящика небольшую, с ладонь, бумажку, завертел ею, зашуршал перед носом Сираева:
— А это ты видишь? Русским языком написано, хоть и неграмотно, да понятно: Шакир Сираев, кулак из аула Султангол Актанышского кантона. Доходит? Скрылся из аула, получив от свояка, работавшего в сельсовете, подложную справку. Во время кулацкого восстания организовал травлю и нападение на сельского активиста Ардуанова. Ты же... крупный зверь, тебе бы давно на виселице болтаться либо в Сибири тайгу валить!
— Ну хватит. Болтун ты все же! К делу давай, — четко сказал Сираев, не теряя спокойствия. — Что от меня требуется?
— Убрать Ардуанова. Понял? Сам ли сделаешь, за тебя ли кто — на свое усмотрение. Говори теперь: какие твои условия? Тянуть времени нет.
— Во-первых, дай-ка сюда эту бумагу! — и Сираев выхватил ловко у забывшегося Ксенофонта Ивановича давешний листок, подпалил мигом, раздул, заглушая запах горелой бумаги, свернул и зачадил махоркой. Глядя на побелевшее лицо Сагайкина, криво усмехнулся: — Не бойся, постройком, Ардуанова я уберу Только... в наше, социалистическое время грязный мужик Ардуанов ценится очень высоко, — потерев большим пальцем об указательный, добавил: — Ну-ка, постройком, какая твоя цена?
Сагайкин подошел к двери, дернул, чертыхнувшись сквозь зубы, запер на ключ, вернулся. Из сейфа вытащил плотный, увесистый на вид, сверток, кинул на стол к Шакиру. Пакет тяжело чмокнул поверхность стола, исчез тут же в кармане Сираева.
— Смотри, Шакир, чтоб чисто было сработано. И не вздумай схитрить, как паршивого таракана...
— Фу-фу, напугал. Здесь сопливых младенцев нет, чего зря болтаешь?
— Ладно, — ответил Сагайкин, остывая уже, — счастливого тебе пути, если разойдутся наши дороги, не поминай лихом.
— Постараемся, — сказал Сираев, ощерясь, — может, и встретимся еще где... — вышел, тяжело и жестко ступая подкованными сапогами...
Морозову доложили, что Сагайкин только что виделся с бригадиром Сираевым. Морозов довел это до сведения начальника отдела. Посовещавшись, на дорогах, что выходили из Березников в разные стороны, на укромных охотничьих тропах в тайге — всюду выставили посты. Конечно, слежка за Сагайкиным велась основательная, но... чем черт, а тем более бандит не шутит. Впрочем, за весь этот день никаких происшествий не было: из поселка никто подозрительный не исчезал. Сагайкин как будто никуда не собирался, кроме Сираева, ни с кем больше встреч у него не было; бегал товарищ секретарь постройкома, чуть не выпрыгивая из собственной кожи, по строительным площадкам, старался мозолить глаза начальству: Крутанову, Хангильдяну, Мицкалевичу, — рассыпаясь, здоровался с ними, чрезвычайно озабоченно говорил о делах, коротко объяснял свое внезапное исчезновение временным недоразумением, не выказывал по случаю последних горьких событий никакой обиды, словом, старался перехитрить и ГПУ и начальство — доказать свою полную и беззаветную невиновность.
А вот Шалага, хоть и знал он, что приставлен к нему надежный «хвост», оказался очень уж дураковат — был Петруся жаден до жизни и за шкуру свою трясся до потери соображения. Приказал ему Морозов, выпуская из тюрьмы, крутиться постоянно неподалеку от бетонщиков — что ж, поначалу он все выполнил в точности: не отходил от бригады Ардуанова ни на шаг, целый час там вертелся, слетал и к Сираеву, спросил о Сагайкине, но к постройкому податься не решился, забоялся вдруг; грызла Шалагу страшная мысль — а если узнал господин поручик Сагайкин, что продал его Петруся чекистам ни за грош? Убьет на месте! В какой-то неясный миг Шалага почуял: «хвоста» нет, исчез куда-то. И проснулся в нем, и вспыхнул бандитский шкуроспасательный инстинкт, разлилась мгновенно звериная ловкость: решился Шалага уйти, оторвавшись от неумелого, видать, «хвоста». Засвистав блатную песню, двинулся он сначала — руки в брюки — к таежной незаметной тропе. По тропке этой шагал беспечно: для него, мол, все трын-трава, пущай хоть сейчас ловют да к стенке ставют. Потом оглянулся быстро, зыркнул по сторонам и, увидев, что пусто вокруг, прыгнул резко с тропинки, нырнул в таежную чащу. И в душе его, темном, гладком мозгу горячей струею текла, пенилась одна мыслишка: только бы смотаться, только бы уйти от легавых, спутать, замести следы! А те, что в лесу? А Сагайкин? В гробу он их видел! Думай, Петруся, как бы самому живым выкарабкаться, как спасти свою лишь забубенную башку. До изнеможения бежал через тайгу бандит Петр Шалага, продирался сквозь густые спутанные заросли, поминая в мать и в душу, припадая тут же колотящимся сердцем к богу, сопя, пыхтя и обливаясь потом; больно стегали по лицу упругие ветки; где-то слетела щегольская кепочка; упав, ободрал он до крови коленку — не остановился ни на миг, радостное, шальное — спасся, драпанул, ушел, нате вот, выкусите! — гнало и гнало его вперед. Вдруг понял он, трезвея, что бежит к лесной землянке, что близок уже к ней, и теперь, когда, казалось, выбрался из страшной заварухи невредимым, мелькнуло в голове воровски благородно: надо выводить людей из тайги и уходить отсюда вместе с отрядом. Ведь не продал же он их, не выдал легавым, обманул, их, сказал — не знаю. А за остальное пусть отвечает господин-товарищ Сагайкин!
Он выбежал на тропу, ведущую к самой землянке, и понесся, в предвкушении, последним аллюром — схватили его двое с винтовками, набили тряпками рот, затянули, выкручивая, руки. Скоро с пятью конными бойцами подоспел и Морозов. Остановились в засаде, в суровом и уверенном ожидании.
Прошло полчаса — длиннее суток, — и клюнуло еще: на таежной тропе возник бесшумно рослый человек в кожаной тусклой куртке; скрутили его, как Шалагу, забили кляп, обыскали. В карманах неизвестного нашли два револьвера, нож-финку, какую-то небольшую карту — по всему, оказался он разведчиком группы.
Где-то в глубине тайги призывно заржала лошадь; по большой удаче, кони бойцов из отряда Морозова стояли смирно и тихо. А лесные люди, видно, уже собрались бежать — по сведениям, лошадей у них быть не могло... Опять же, пойманный бандит выходил на разведку — значит, вот-вот; кожаной куртке уперли промеж лопаток дуло винтовки, пустили вперед. Минут через пятнадцать осторожной ходьбы показалась землянка, из низкой, еле заметной трубы ее тонко и расплывчато курился дымок. Часового у землянки не было, видно, лесные люди крепко надеялись на укромность своего убежища.
Морозов приказал: «Окружить гадючью нору и заткнуть наглухо трубу»; Шалагу и другого бандита, повязав по ногам, оставили в кустах. Трубу быстро заткнули. Тут же под землею раздались крики, шум и ругательства, кажется, дым пошел в помещение. Морозов пальнул из револьвера в воздух, крикнул отчаянно громко:
— Сдавайтесь, вы окружены!
23
Ночь.
Небо укрыто сплошной пеленою туч.
Яростный режущий свет прожекторов выхватывает из темноты башни достраивающегося уже химкомбината, арки его, виадуки, тяжело-массивные здания, сферические выпуклости шаров, сплетенные кружевным узором мачты, черные трубы, уходящие в слепое небо, — все это высится над землею загадочно и грандиозно.
А бетонщики, заливавшие фундаменты заводских корпусов, сварщики, огнем сплавляющие железные поперечины, слесари, собиравшие сложные механизмы, — и не представляли, оказывается, они в повседневной сумятице, в ворохе больших и поменее дел, какого исполина воздвигли в глубине уральской седой тайги. И теперь только, когда поднялось среди зеленого моря столь таинственное и удивительное сооружение, постигли люди великое значение своего труда и взялись с еще большим пылом и энтузиазмом, засучив смело рукава, и вспыхнуло в них высокое чувство, именуемое рабочей гордостью.
Бригада Ардуанова, ожидая, когда паровоз-«кукушка» доставит к ним очередную «порцию» бетона, остановилась передохнуть. Первым восхитился и заговорил Шамук:
— Мирсаит-абзый, гляди-кось, что скажу, Мирсаит-абзый, а вот ежели я приведу сюды балтасинцев да и открою им: вот этот завод, мол, я строил! — поверят ай нет ли?
— Ты? Вот этот завод? Хо! Ври, да не завирайся, вот чего скажут, и прослывешь ты, мил друг, великим болтуном!
— А чего ты, Сибай, рот разеваешь? Да еще шире варежки? Али я хоть один прогул совершил? Али на работу не выходил, бригаду позорил? Не-ет, брат, завод я строил по совести.
— Ты, паря Шамсутдин, не скажи «я строил», ты скажи «мы строили»; так-то оно вернее будет, — аккуратно встревает в разговор Бахтияр-абзый. — Ежели подумать, один углышек того завода вон, Нурлахмет, который тихо сидит себе в сторонке, он, говорю, один углышек возводил. А другой углышек Киньябулат да Исангул, — не было ничего, ан эти ребятки взяли и построили. Но уж если вы не против, есть там и моя доля махонькая. Верно я сказываю, а, друг Мирсаит?
Ардуанов, улыбаясь, кивнул. Бригаде его с неделю как выдали спецовки, придуманные для тех, кто топчет бетон, и парни, облачившись в резиновые сапоги с высокими голенищами, в брезентовые хрусткие тужурки, забыли начисто, что всего-то два годика назад теряли последние лапти в торфяной жиже, чувствуют себя уверенно, голову держат молодецки. Гляньте, ну, хоть на Шамука! Чего он такое говорит, этот Шамук, в недалеком прошлом отчаянный драчун и растяпа? «Я, говорит, завод строил!» Это тебе, брат, уже не шутки. Рабочие люди, пролетариат вырос из его посезонных грузчиков. И правильно говорит Шамук: он строил завод! Вот почему окрысились враги злобно, вот почему напали предательски на комсомольца Набиуллу Фахриева. Знали, что вырос рабочий человек, сознательный советский рабочий, знали, гады, что идет он рушить старый мир, любый вражьему сердцу. И ударили Фахриева в сердце бандитским ножом...
Вспомнив Нефуша, аж зубами скрипнул Мирсаит-абзый и чуть не застонал от пронзительной боли, убоявшись же, что вот-вот затронут парни ту мучительную тему, поднялся резко и шагнул в сторону.
— Слышь, друг, говорят, Сагайкин-то белым охвицером оказался, из колчаковской, мол, своры, а? Ты про то не знаешь ли? — проговорил, нанизывая слова мягко и просительно, старый Бахтияр Гайнуллин. — Ежели не врут, Нефуша нашего, говорят, тоже оне и убили. Не то, мол, десять человек их народу, не то пятнадцать, не народу, конечно, так, дерьма всякого, а жили оне, мол, в тайге, в норах, на манер ползучих гадов? А этот, постройком, ишо поучал нас, гнида, как же его сразу не распознали, изверга?
— Что их споймали — все верно. А чего такое они наделали, пока нам неизвестно, вот будет им суд, провернут как следует. Если нужно, пропечатают, тогда сами все узнаем, — ответил обстоятельно Ардуанов. — Вон подошла наша «кукушка», надо разгрузить, пока бетон не застыл.
Парни, которые должны были разгружать бетон с состава, побежали по деревянному настилу, громко и озабоченно тарахтя пустыми тачками.
Шамук, все еще не желая отходить от Ардуанова, спросил, идя рядом с ним:
— Мирсаит-абзый, говорят, в той вредительной шайке... если правда, конечно, но сказывали, там и Шакир Сираев был, а? Чего же он тогда на свободе ходит, других упрятали, куда полагается, а его не упрятали?
Ардуанов удивленно остановился, сдвинув кепку на глаза, почесал в бритом затылке:
— Вот этого тебе, братец, не скажу, не знаю, потому как Шакир, однако, сильно осторожный человек, чего-то не верится, чтобы он был там, в этой шайке...
На этом и закончили.
Дошли до платформы, куда паровоз-«кукушка» притащил в одном вагоне восемь чанов, вместимостью каждый по два кубометра бетону. Ардуанов двумя руками с явной натугой сдвинул запор на первом из них, и в тачку Сибая, подошедшего как раз, пролилась струя бетона; Ардуанов понаблюдал немного, потом поручил это дело Бахтияру Гайнуллину, сам же поспешил к котловану.
Котлован был глубок, и бетон на его дно сливали по желобу; внизу рабочие лопатами растаскивали не застывшую еще массу по всем углам, разравнивали, утаптывали старательно, чтобы в переплетении арматуры не оставалось воздушных пузырей.
Прошло не более получаса, когда Ардуанова, наблюдавшего сверху за ходом работы, позвал какой-то незнакомый человек, в кожанке с капюшоном, надвинутым на самые глаза:
— Мастер, беда случилась, ей-богу! Бетон застрял. Быстрей, быстрей!
— Где, чего ты мелешь? — сказал Мирсаит-абзый непонимающе.
— Вон там! Вон, на той стороне.
На дальней стороне котлована сгрудилась небольшая кучка людей, они что-то кричали, спорили, ругались, но о чем сыр-бор, понять отсюда было невозможно.
Ардуанов бросился туда, не оглядываясь более на незнакомца.
— Где? — крикнул он, подбегая.
— Вон там, на той стороне! — ответили сразу в несколько голосов. На ту сторону можно было перебраться только по балке, перекинутой через котлован, — довольно тонкому, отесанному с четырех сторон брусу. Было это опасно, но Ардуанов, зная, что застрявший в желобе бетон через короткое время застынет в никуда не годный камень, колебаться не мог и не стал. Он пошел по балке: раскинув руки, как крылья, старался сохранить равновесие, каждый был занят своим делом, на него не обращали никакого внимания. Ардуанов силился не смотреть вниз, пройти брус быстро и ровно: там, внизу, переплетались угрюмо железины, лежала ощетинившаяся гнездами арматуры жесткая пропасть. Малейшее неловкое движение бригадира — и полетит он в эту пропасть, и точно, свернет себе шею. Подойдя уже близко к тому месту, где образовался затор и бетон неуклюже застрял, он вздохнул облегченно, но в тот же миг почувствовал, что угодил в западню, вражескую ловушку, не успел он отшагнуть обратно, как балка, подпиленная снизу, с шорохом сломалась; Ардуанов, будто птица с подбитым крылом, накренился в воздухе набок и полетел в пропасть, на прутья арматуры, на железо, вслед за ним рухнул затор, и освободившийся бетон стек на дно котлована.
24
Это что за чудеса?! Луна сошла с неба, да прямо на землю, катается желтым кругом, как мельничный свежевыкрашенный жернов, по актанышским гладким лугам, припрыгивает и подскакивает, гоп-гоп, сама по себе, а сверху тот желтый жернов, такой шершавый, жесткий, холодный, и бьет Мирсаита по рукам, по лицу; Мирсаит бегает от луны босиком по жесткой стерне, а когда желтая юла ударяется в него — больно, впору криком закричать. И Мирсаит прижимает к себе, к груди, правую руку, боится, что заденет ее кругло-желтошершавая луна. Но вот потихоньку, прыг-прыг, отрывается луна от земли, проваливается в небесный колодец, маленькая уже, с тарелку медную, звенящую — дзоньг! — исчезает, пропадает, вянет, плавится... Жаркая, как огненная купель, яркая, как весенний пестрый луг, тянется путь-дорога. Без конца, без начала, бесконечная, изначальная... Не радуга ли? Босоногий Мирсаит бежит по радуге, босоногий, подкованный железно Шакир бежит по радуге; бегут по радужному запредельному мосту легко, будто невесомые они, как взвешенная в солнечно-пыльном луче пушинка. Бегут — не смотрят друг на друга, не оглядываются; и нет уже радуги-дуги, пути-дорожки — плывут они на белом облаке, не очень удобном, длинны волосы у Шакира, две долгие засаленные косы: жжах! жжах! — бьет он каждой косою попеременно по лицу Мирсаита, жжах! — как плетьми стегает. Закрывается Мирсаит рукой, но тщетно! Тугим полотенцем охватывает его Шакир, сжимает, будто стальным клепаным обручем, и с треском вдавливаются у Мирсаита ребра... — ох! больно, не выдержав, разлепляет он глаза...
Видит женщину, склонившуюся над ним, чувствует на пылающем лице ее легкую, нежную руку... плачет она беззвучно, не слышно, а Мирсаит, уже на скошенном лишь недавно актанышском лугу, ходит взад-вперед, топая гулко большими жесткими сапогами, хрустит резко кожаном, в руках у него — острая лопата. «То сон, не явь», — хочется крикнуть Мирсаиту, да какой же это сон? Вон и луна давешняя, большая, с мельничный жернов, светлая, сияющая — слепит глаза, и луг весь лучами ее усыпан, словно серебряными таньгами. И речка Шабаз течет белоснежно, едут конные арбы, украшенные кистями и полотенцами, на арбах сидят, обнявшись, люди, над головами у них косы сверкают прочерченно. Луна пропала куда-то, все так же сверкают острые косы, дорога длинным брусом протянулась через заводской котлован; арбы, заваливаясь крылами то влево, то вправо, проходят узким брусом. Резко задувает и сникает холодный ветер, бьет в лицо приятной прохладою, рука, шея и бока ноют долгой протяжной болью, воздух греется, накален, травы, и скошенные, красным пламенеют, вырывается пламя ввысь и лижет лицо Мирсаита, — боясь сгореть, стонет он и открывает глаза. Рядом с ним, в белом платке, синеглазая, сидит тихо женщина. Почему сидит она? Что ей нужно?
И вновь он окунается в огненный кошмар, и вырывается с криком, и падает, и открывает глаза, — наконец понимая смутно, что женщина та, рядом с ним, жена его Маугиза, успокоенно уже засыпает, спит долго, почти беспамятно. Когда приходит он в реальный, больничный, кажется, мир, Маугизы нет, у изголовья его стоит большеносый мужчина в белом халате, рокочет ненавязчиво и приятно.
Большеносый в белом берет его свободную, незапеленатую руку, сжимает ее у запястья, считает что-то по часам. Улыбается широко, во весь рот.
— Та-а-ак, так-так! Живем, голубчик, очень даже живем, кризис миновали, превосходно. Живем назло врагам, а?! С нашим-то организмом? Что нам три сломанных ребра, пустячки, батенька, пустячки!
— А что, доктор, али ребра у меня были сломаны?
— Ну, мы их заштопали, Ардуаныч, все в порядке. И ребра, и руку, а ключица вот еще поболит. Недолго, голубчик, потерпите! Ну-к, выпьем лекарство, вот так! Превосходно. Горько? Горько! Значит, превосходно.
Понемногу, с большим трудом возвращался Ардуанов к жизни. В первые дни было ему очень тяжело. Всю жизнь свою работал волжский грузчик, землекоп, бетонщик Мирсаит Ардуанов не покладая рук, привык во всем полагаться на себя лишь и зависеть от кого-либо не любил и не умел — теперь было ему стыдно есть с ложечки, стыдно не только сестер, но даже жены своей Маугизы, но делать нечего: раз уж остался ты жив, раз нужен для будущих больших и важных дел, раз спасла тебя история руками врачей рабоче-крестьянской власти, вырвала тебя из смертных пут, расставленных врагами, — должен ты жить. Да, конечно, сейчас ты лежишь, закутанный во многие слои марли и гипса, словно ребенок в кроватке, беспомощен — это с твоей-то двухметровой громадой, с силушкой твоей, когда на все округа не раз ты был батыром сабантуев; и парни из твоей бригады, пришедшие тебя проведать, были потрясены, увидев твое состояние, — дрогнули их души, а сверстник твой Бахтияр пролил безмолвно горькие мужские слезы; и ждали Шамук, Сибай, Исангул, ждали ребята, закусив губы, когда доплачет он. Им плакать было нельзя. Долго еще сидели они у твоей кровати, пока не перестали наконец видеть в тебе калеку, ущербного, пока не перестали чувствовать, замечать своего физического превосходства: привыкли, любили они видеть в тебе учителя, советчика и отца.
А когда поверили они окончательно, что можешь ты и запеленатый, подобно малому ребенку, в марлевые повязки разговаривать, смеяться, дрожа поседевшими усами, — выложили и думы свои, не тая и не скрывая.
— Мирсаит-абзый, а чего это вредители — чтоб они провалились совсем, гады! — чего они все время к нашей бригаде лезут, а?! Им чего: другого места нету, куда рыпаться? — Может, нарочно: татары, мол, вот и издеваются? — заговорил Шамук, от волнения подскакивая и глотая слова.
Поддержал Шамука, как обычно, Бахтияр-абзый:
— Вот мы, друг Мирсаит, думали тут, думали и пришли сообча к такой мысли. Ежели, мол, будет Мирсаит жив-здоров и сможет переговорить с нами, спросим всем гамузом у него совету. Вот и Сибай, и Зариф, и Каюм, да и другие тоже, все хотят до точности описать, что такое тут было, да послать, чтоб пропечатали в газете. И, аллах даст, напишем, пущай враги не радуются крепко. Пусть не похваляются, будто напугали нас до страшного. Мы не из пугливого десятка! А на их злобную попытку убить нашего Ардуанова ответим мы ударным трудом, так и порешили!
— Чу, чу, ребята... — остановил их Ардуанов и долго лежал потом, молча, стиснув зубы, сдерживал подкатившиеся слезы.
Через неделю еще проведать его пришла Зульхабира. Была она в повязанном наглухо темном платке, на платье, такое же темное, чуть с синим отливом, накинула белый больничный халат. Войдя в палату, потопталась она у порога, застыла, словно прибитая гвоздями к полу, когда же увидела на кровати Ардуанова, белого совсем, в марле и гипсе, усталое, поблекшее от горя лицо ее густо покраснело; слабыми, неровными шагами ступила она к кровати, дошла и растерялась совсем, не зная, куда девать полевые цветы, собранные ею за целый летний день. На длинных ресницах ее дрожали слезы, вдруг села она на краешек и, рассыпав букет по одеялу, обеими руками обхватила голову Мирсаита-абзый и зарыдала, вздрагивая и орошая горячими слезами лицо его и губы, усы. Как уж крепился все эти дни Мирсаит-абзый, как сдерживал он себя, но не выдержал, заплакал вместе с нею беззвучно, заплакал скупыми мужскими слезами.
Они имели право плакать — и плакали. Нефуш — Певчая Пташка обоим был дорог, для обоих незабываем. Зульхабира и Мирсаит-абзый стали друг другу учителями: если одна учила грамоте, другой учил твердости в жизни...
Наплакавшись вдосталь, они, словно дети-сироты, обиженные мачехой-судьбой, притихли, помолчали. Зульхабира долго сидела, глядя ему в глаза, словно хотела перед прощанием с этим мужественным человеком, не жаловавшимся никогда и ни на что, ни на какую работу, и даже на жестокую болезнь, взять у него столь необходимый ей запас стойкой твердости.
— Мирсаит-абзый... если можно... я бы уехала из Березников. Тяжело мне здесь, так тяжело. Ни на минуту не выходит он у меня из головы, скоро, наверное, с ума сойду. Во сне вижу, смеемся, ходим по лесу. Моя рука всегда лежит у него в руке. Ночами то звездой мелькнет, то месяцем ясным покажется. О господи, каким радостным приходит он в мои сны! — Сложив руки на груди, помолчала, глядя вниз, на пол, боролась, кажется, с переполненной своей душой, не хотела показывать более слез пожилому человеку. — Скажи мне, Мирсаит-абзый, что ты скажешь — то я и сделаю.
Ардуанов посмотрел ей в лицо, прекрасное, заалевшее маковым цветом, в грустные, печально-туманные глаза и сказал, как самому близкому человеку, удивительно тепло и добро, веря искренне в душевные ее силы:
— Как сердце велит, вот так и поступай, дочка. Никто тебя не осудит.
Понимая друг друга без слов, они еще помолчали, побыли вместе... Потом Зульхабира стала собираться. Мирсаит-абзый не удерживал ее, лишь торопливо сказал, будто боясь, что потом не успеет:
— Зульхабира, дочка, а ведь у меня к тебе просьба одна есть. Знаешь, приходили сюда ребята из бригады, так хотят в газету написать; ты нам всем глаза раскрыла, так уж помоги им, ладно, чтобы желание не осталось только желанием...
— Если в моих силах, помогу, Мирсаит-абзый. Ну, ладно, прощай, выздоравливай скорее, тетушке Маугизе от меня поклон. Получится — напишу, что и как, если не придет от меня письмо, не обижайтесь, мол, забыла. — Руками закрыла она горящее лицо, ступая медленно, вышла из палаты.
После ее ухода словно кусочек сердца отломился у Ардуанова, очень долго лежал он, глядя в потолок, не в силах перевести дыхание...
В больнице его продержали еще около двух месяцев. И чем быстрее шли его дела на поправку, тем больше становилось посетителей. Приходили Хангильдян с Мицкалевичем, очень подробно, нисколько не ленясь, рассказали Ардуанову о делах в бригаде, о делах хороших; сказали, что за бригадира пока Исангул Юлдыбаев, что ребята по-прежнему верны имени Ардуанова и ни разу не нарушили трудовой дисциплины, настоящий пример для всей стройки; своим рассказом вселили они в Ардуанова еще большую бодрость. Ненадолго зашел и Крутанов, показал Мирсаиту-абзый ордер на двухкомнатную квартиру по улице Пятилетки, оставил номер газеты «Путь социализма», где была напечатана статья ребят из его бригады. Была она пронизана жгучей ненавистью к убийцам, и Мирсаит-абзый еще раз вспомнил о Зульхабире. Сдержала свое слово Кадерматова и от имени ребят из его бригады выразила все кипящие в ее душе мысли и чувства, всю свою ненависть к лакеям старого мира. И вот, подтверждая эти горячие, яростные чувства, под статьей подписались 116 человек из бригады.
Пройдут годы, много утечет воды — а документ этот сохранится как заповедь комсомола тридцатых годов грядущему поколению. Пока же он, словно горячая пуля в стволе винтовки, лежит на газетной странице и так же, как и месяца два назад, при разговоре с самой Зульхабирой, волнует Ардуанова с первозданной силой.
25
Угасал нежаркий августовский день. На берегу Камы, у небольшой пристани, мимо которой обычно молча проплывают большие пароходы, собрался народ. Шумят, спорят, чадят, собравшись кучками, махрой, то и дело все кругом сотрясается от взрывов хохота, но затихает это так же быстро, как и вспыхивает, растворяясь в плотной толпе. В сгущающихся вечерних сумерках сердца людей живут одной мыслью: приезжает нарком, народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Каков он, комиссар? Что движет им, какие святые думы?
В составе делегации, организованной для встречи наркома, пришел на пристань и Мирсаит Ардуанов. Он не смеется, не выражает громко, как это делают другие, своего беспокойства по поводу опоздания парохода; все его мысли о Маугизе, жене его.
Вот и спустились на землю сумерки. На Каме загорелись сигнальные огни, а парохода все нет. Мирсаит-абзый не выдержал, подойдя к руководителю делегации Крутанову, стеснительно сказал:
— Никифор Степаныч, вернусь-ка я все же домой... Жена у меня в Больнице.
— В больнице? А что случилось?
— Родить должна... — взглянул Ардуанов на начальника строительства смущенно и в то же время расчувствовавшись.
— Да-а... трудный вопрос, товарищ Ардуанов. Не отпускать — причина у тебя серьезная, боюсь, отца в тебе обижу; а сказать: иди — удобно ли встречать наркома без лучшего ударника? Трудный вопрос, товарищ Ардуанов...
Мирсаит-абзый все еще колебался, когда толпа, зашумев, потоком двинулась к дебаркадеру пристани; и Крутанов схватил Мирсаита-абзый за руку, притянул к себе — они подошли к дорожке, по которой должна была следовать делегация.
Небольшой однопалубный пароходик, на борту которого белела надпись «Камский водник», причаливая к пристани, гудел слабо и устало.
Матросы быстро положили сходни.
Первыми с парохода сошли три человека в военной форме, вслед за ними, помахивая над головой фуражкой с серпом и молотом, в развевающемся плаще, на сходни ступил сам Орджоникидзе. Его тут же узнали по привычно знакомым, таким же, как и на портретах, черным пышным усам. А шагал он так быстро и так искренне приветствовал людей, которые стояли живым, ликующим коридором, лицо его было озарено такой ослепительной улыбкой, что разом забылись и улетучились куда-то тревожные минуты, проведенные в долгом ожидании парохода.
Здороваясь за руку с членами делегации, Орджоникидзе добрался и до Мирсаита-абзый.
Не успел Крутанов представить: «Ударник стройки Ардуанов», как мозолистая большая рука Мирсаита-абзый оказалась в руках наркома. Ардуанов вспыхнул, руку наркому пожал искренне и крепко. Орджоникидзе искрящимися глазами оглядел его богатырскую фигуру и, словно от боли, шутливо потряхивая кистью руки, проговорил:
— Вижу, химия наша в надежных руках!
Обняв слегка Ардуанова за плечи, стал он расспрашивать его о работе, о жизни. Потом, как бы извиняясь, кивнул ему головой и осыпал вопросами уже Крутанова.
Все уселись оживленно в автомобиль, тронулись в путь. Когда же поднялись на пригорок, Орджоникидзе, а за ним и члены делегации вышли из машины. Видно, захотелось наркому еще издали взглянуть на гигантский комбинат, и долго стоял он, молча устремив взор в ту сторону.
Перед ними, охватив весь горизонт, вырисовывался гигантский силуэт первой очереди комбината — азотно-тукового завода. На фоне темного уже неба было ясно видно, как клубится, словно закипая, поднимающийся вверх белый дым. Оттого ли, что заводские трубы поглотили плотный сумрак, но дым этот казался не дымом даже, а взлетевшим в ночной воздух драконом, и желтое пламя, колыхавшееся над серным цехом, — будто вырывалось огнем из пасти этого страшного чудовища.
Орджоникидзе глубоко вздохнул и сел снова в машину.
А Крутанов серьезно спросил его:
— Ну как, Григорий Константинович, будете сегодня отдыхать или же поедем на завод?
Орджоникидзе засмеялся и озорно, по-детски ответил:
— А что такое отдых? Не понимаю этого слова! Везите меня, товарищ Крутанов, на завод.
По азотно-туковому заводу ходили с полчаса. В цехах валялся еще неубранный металлолом, по углам, скопившись, лежали колючие кучи мусора. Орджоникидзе собрал в кружок рабочих, глядя на них (главного же инженера, который слушал его, буквально пожирая глазами, он не замечал), энергично взмахнув рукой, сказал, впрочем, без всякого раздражения:
— Производственную культуру надо поднимать, товарищи. Вы знаете, что говорят об этом в Европе? Там говорят, что трудовая дисциплина и культура производства — это гарантия успеха в любом деле. Бескультурье — наш главный враг. Именно отсюда и начинается работа вразвалочку. Культура, товарищи, помните: высокая культура труда!
Времени было уже около десяти часов, но Орджоникидзе все-таки попросил, чтобы повезли его на ТЭЦ. Осмотрев станцию, вместе с членами делегации пошел на дымоохладитель, взобрался на самую крышу. По всей ее плоскости были разложены части разобранного для ремонта оборудования, лежали грузно, равнодушно тяжело.
Нарком усмехнулся, под усами бело блеснули зубы.
— Разве крыша кроется для того, чтобы на ней держать разнообразные механизмы?
Главный инженер растерялся, забубнил объясняюще:
— Тут, товарищ нарком, понимаете, отсутствие техники вот, держит, и ничего не поделаешь. Нет у нас подъемного крана, так чем же поднимать и опускать такие тяжелые детали? Пришлось пока разместить их на крыше.
Орджоникидзе подошел к деталям, сложенным плотными штабелями, некоторое время задумчиво смотрел на них, покачав головой и тяжело вздохнув, проговорил:
— Да, к сожалению, у нас пока нет порой самых нужных, пусть даже самых элементарных механизмов. Надо нам побыстрее обзавестись своей собственной техникой, машинами, удобными для производства, ускоряющими намного дело!
Почувствовал Ардуанов в поведении наркома и в действиях его требовательную и строгую простоту. Орджоникидзе не поучал людей, много и нудно не говорил, но увлеченно осматривал вместе с рабочими и руководителями стройки все, что понастроили в Березниках; и когда приходилось ему что-нибудь по душе, пышные черные усы его словно взлетали на смуглом лице и довольно топорщились, от глаз в стороны разбегались лучистые морщинки, и сами глаза сияли ровно и глубоко; когда же видел нарком отдельные недостатки и неудачи, усы его будто резко обвисали. Мысли свои выражал он четко и ясно. Понимали наркома хорошо и рабочие, и начальники.
На другой день на содовом заводе заметил Ардуанов, что стал Орджоникидзе молчалив, хмыкал частенько и покачивал головой. Да, уж очень был стар этот завод, построенный во времена купцов Любимовых. Поршневые насосы, подающие известковое молоко, безнадежно износились, устарели, но, видно, не было еще сил у страны, чтобы заменить их новыми — не до этого стране, есть заботы и поважнее. Но хмурится Серго, видя старый утиль вместо машин, молчит и вздыхает. А Мирсаиту-абзый хочется видеть его радостным, с солнечной жаркой улыбкой на лице, слышать хочется, как весело и заразительно хохочет Орджоникидзе. Таким людям, как Серго, волевым, искренне преданным делу, очень идет оглушительный смех, и кажется Ардуанову, что только неуживчивые, скрытные и темные люди хихикают осторожно, в кулачок, по-козлиному.
Ночью Ардуанов побывал в больнице. Дочь у него родилась, дочь! Поделился бы Мирсаит-абзый своей радостью с товарищем Серго, может, и поднялось бы у наркома настроение — да знает Ардуанов, что в жизни не решится он на такое. Смирный характер у Мирсаита, застенчивый.
В одном из заводских коридоров Орджоникидзе увидел вдруг женщин, штопающих в полутьме мешки из-под соды. Как ни старался главный инженер увести наркома поскорее, не вышло — вмиг окружили бабы товарища Серго, загомонили оглушительно, вывалили на него все свои жалобы. А вот почему, мол, хлеба иногда не дают по суткам, а то и больше?! Действительно, хлеб выдавался по карточкам, и в иные дни не было его. Мирсаит-абзый даже обозлился на женщин за такую их беззастенчивость, настырность бабскую, готов был сам за Серго им ответить. Но пришло ему тут же в голову другое: «А что? Правильно говорят, им детей кормить надо! И со стороны руководства это не молодечество на день трудный, рабочий, оставлять тысячи людей без хлеба». А нарком слушал женщин очень внимательно, с добрым желанием, и Мирсаит-абзый тоже стал ждать его ответа.
— Да, в снабжении хлебом срывов быть не должно! — сказал нарком и взмахнул туго сжатым кулаком. — Хлеба у нас по норме хватает, и тот, кто оставляет рабочих без хлеба, будет отвечать по справедливым законам Советской власти!
Крепко сказал нарком, но и этим не ограничился, заставил-таки разыскать человека, отвечающего за снабжение хлебом: начальника ОРСа Хесина вызвал Серго в отдельную комнату. Мирсаит-абзый видел, как через две минуты Хесин вышел из этой комнаты весь в поту, словно из бани, шел ошалело, на ходу утираясь смятой в руках кепкой.
Рабочие, ждавшие у двери, чем все это кончится, развеселились, кричали с хохотом:
— Вставили пистон нашему коммерсанту!
— Гли-ка, идет, будто занашатырили его сзади!
— Значит, хлеб завтра будет!
— А не будет, он сам теперь ночью испечет!
С каждым часом все более нравился нарком Орджоникидзе Мирсаиту Ардуанову, и все в нем казалось ему хорошо и ладно, все приходилось по душе: и то, как по-свойски, понимая, говорил он с рабочими, как резал начальству, и белое у него было белым, а черное — черным; как простодушно, по-ребячьи, радовался красоте только что отстроенного Дворца культуры, попробовал даже сидеть в новых креслах, хвалил, пощелкивая совсем по-родному языком, за мягкость и прочность. И на Мирсаита-абзый нашло радостное спокойствие. Но вскоре в сердце его шевельнулось вдруг смятение. А что, если нарком захочет посмотреть, как живет семья ударника стройки Ардуанова?.. Вот сраму-то будет, хоть в тайгу беги. Маугизы-то нету дома. Такого гостя да если не встретить бэлишом, не попотчевать...
Увлеченный своими мыслями, он и не заметил, как нарком вскочил на сцену и пошел по ней, оглядывая все по дороге. Тут директор клуба Брадский решил, видно, похвастаться вращающейся сценой и, пока остановились они с наркомом у складок занавеса, мигнул рабочему, давай, дескать, подключай...
И поехала вдруг сцена, повернулась, дальше пошла.
В зале — в ладоши хлопают.
А Мирсаит-абзый подумал первым делом: «Понравилось товарищу Серго, нет ли?»
И как только остановилась сцена, повернувшись кругом, увидел он, что лицо-то у наркома не очень приветливое, серьезное такое, деловитое. Отодвинув материю занавеса, показал Орджоникидзе на незаштукатуренную стенку за ним:
— А это что, товарищ директор?
— Это... это... так, Григорий Константинович, это же за сценой, тут занавес, понимаешь, декорации, зрителю не видно будет.
— Та-ак. Зрителю, значит. А артистам как? Артистам видно будет? Артистам, которые стоят здесь перед выходом на сцену? Что же вы думаете, эта красивая картина подымет у них настроение?
Ничего не может сказать зав клубом, бормочет что-то невразумительное.
А Серго обернулся вдруг к Ардуанову:
— Ну, а вам как, товарищ Ардуанов?
— Думаю, невесело им смотреть на эту картину, скучно...
— Отчего же, товарищ Ардуанов?
— Ну, скажем, если дом не достроен, — неуютно в нем себя чувствуешь, как на улице.
— Вот именно! Строитель, он знает, — похвалил Ардуанова нарком и тут сказал такое, что Мирсаит-абзый едва не лишился чувств: — Как думаете, товарищ Ардуанов, если захочу я взглянуть, в каких условиях живет ударник стройки, не станете возражать?
— Ну... пожалуйста, если хотите, — опомнившись немного, выдавил Ардуанов, но до самого дома шел сам не свой.
Семья его обедала: Мирзанур с Мирзашарифом устроились прямо на полу, на нешироком домотканом паласе, а Кашифа, у подоконника, читала книжку.
Орджоникидзе внимательно оглядел чисто вымытые комнаты с вышитыми полотенцами в простенках между окон — шаги его гулко отдавались в пустой, без мебели квартире, — спросил у начальника стройки:
— Что ж это такое, товарищ Крутанов? Нет денег на мебель или нельзя в городе купить?
— Деньги-то есть, товарищ Серго, денег хватает, — смутился Мирсаит-абзый, — ни столов, ни шкапов, ничего нету в магазине... В бараке когда жили — там на топчанах все, да не хотелось их везти в новую квартиру.
«Да и денег, конечно, не густо», — мелькнуло у него в голове.
Орджоникидзе понял, конечно, тактичное и скромное объяснение Ардуанова, кивнул начальнику стройки, давая понять: «Пойдемте-ка, поговорим в другой комнате».
Вошли, остались втроем, с глазу на глаз. Здесь стояли два самодельных табурета, чурбан еще, аккуратно отесанный, и все. Орджоникидзе, чтобы не ставить товарищей в неудобное положение, выбрал быстро чурбан, сел на него поудобнее и, чуть улыбнувшись, не спеша заговорил:
— Меня, товарищ Ардуанов, руководители строительства подробно информировали о вашей бригаде бетонщиков. За три года в бригаде нет ни единого прогула. Говорят, что нормы выработки здесь определяются по работе ардуановцев. Ну как, могу я верить руководителям стройки?
— Лишнего сказано, — ответил, смутившись снова, Мирсаит-абзый, вытер старательно большим платком вспотевший лоб.
— Лишнего, говорите... Преувеличили, значит?
— Само собой.
Удивительно свойски, светло улыбнулся Орджоникидзе — усы его распушились, будто взреяли к сияющим глазам.
— Скромность — хорошее качество, товарищ Ардуанов, но... я же сам видел работу вашей бригады.
— Где? Когда успели-то? — усомнился против воли Ардуанов.
— В ночной смене были. Понаблюдали там, как ваши ребята бетонируют.
— Ну и как же, товарищ Серго?
— Бригада — отличная, серьезно говорю. И главное, любят они свою работу, знают ее. Скажите-ка, товарищ Ардуанов, откуда в вашей бригаде такое сознательное отношение к труду?
— Как отвечать, товарищ,нарком, как я сам думаю или как руководители направляют?
— От души говорите, конечно же, от души!
Заметив, как раскрылись глаза Крутанова, Ардуанов помедлил чуть, но потом, решив: будь что будет, — начал:
— Вы, товарищ Серго, видели, наверное, какой бывает ребенок запеленатый, ну, в пеленках?
— Приходилось.
— А видели, каков он, когда его распеленают?
— И это приходилось видеть, — с улыбкой ответил Орджоникидзе.
— Так вот... В царское время нас очень долго держали в пеленках...
— В оковах, хотите сказать?
— Ладно, пусть будут оковы. Так вот, руки наши и ноги были в оковах, а кричим ли мы, плачем ли, никто нас не слышал. Теперь нет на наших руках и ногах этих оков, при Советской — нашей! — власти мы можем взмахнуть крыльями и лететь свободно, как хотим. И если бы нам эта свобода не дала ничего, если бы не изменились мы, так были бы посмешищем, а не советскими людьми.
Разволновавшись, Орджоникидзе поднялся с чурбана и крепко пожал Мирсаиту-абзый руку:
— Спасибо, товарищ Ардуанов. Нам очень нужны сознательные рабочие, такие, как вы. Чем больше их будет, тем больше станет заводов в стране. Станет их много, товарищ Ардуанов! Вот вспомните еще слова Серго! Думаю, мы с вами скоро в Москве встретимся. — Повернулся к Крутанову, сказал ласково-повелительным голосом: — Могу я надеяться, Никифор Степанович, что в квартире ударника Ардуанова будет мебель?
— Трудно сказать, Григорий Константинович!
— Почему?
— Мы ведь курс не на мебель держим, а на новые заводы.
— Что ж, это правильно. Даже очень правильно, товарищи. Для того чтобы не оказаться под пятою врагов, нам прежде всего нужны заводы. А без мебели пока обойдемся. Проживем, товарищ Ардуанов?
— Проживем, конечно, в лесу дерева много, сам всего понаделаю.
— Кстати, список и характеристики ударников стройки надо уже послать на рассмотрение правительству. Срочно, не откладывая, поняли? Обговорите в парткоме, к моему приезду чтобы все было в Москве. До свиданья, товарищ Ардуанов.
Мирсаит-абзый, прислушиваясь к их удаляющимся шагам, остался стоять один в пустой комнате. Скребла его все еще мысль: «Сумел ли я сказать правильно и понятно». А пуще всего жалел он о том, что не сумел соблюсти древний, обычай предков — даже чаем не угостил этого хорошего гостя...
26
От газеты еще пахло остро свежей краскою большой и шумной типографии; газета хрустела светло и ново.
«За доблестный труд в промышленном строительстве, за организацию передовых бригад, за героический вклад в дело построения социализма орденом Ленина награждаются:
Ардуанов Мирсаит — рабочий Березникхимстроя, бетонщик;
Громов Павел Андреевич — рабочий Березникхимстроя, плотник;
Вотинов Николай Александрович — рабочий Березникхимстроя, слесарь...»
Ниже четко выстроились фамилии руководителей: Крутанова, Хангильдяна, Мицкалевича; в графе награжденных орденом Трудового Красного Знамени стояли также имена старого Бахтияра Гайнуллина и Исангула Юлдыбаева, парня молодого и старательного.
Мирсаит-абзый дочитал Указ до того места, где было крупно напечатано: «Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин, секретарь А. Енукидзе», затем, осторожно зашуршав, сложил газетный лист и засунул его во внутренний карман короткого из дешевого сукна пальтеца.
Шел домой Ардуанов. Никто еще не знал об Указе, оттого встреченные по пути знакомые не ликовали и не спешили поздравить его с наградою, лишь, как обычно, кивали уважительно, здоровались да и проходили своей дорогой.
Сам он Указом был много доволен, считал его верным, по праву: Указ этот возвеличивал не только награжденных, но, более того, все строительство представало на глаза огромной страны, вызывая восхищение и удовлетворение.
Дома встретила его тетушка Маугиза.
— Чего такое стряслось, отец, отчего, говорю, так рано, а? Не заболел ли, часом? — синие глаза жены его заблестели тревогою. — Постелить, может, скажи?
— Нет, не заболел. И постелю ты, мать, пока не стели. Детвора где?
— Кашифа, известно, в школе, а Мирзашариф... погоди... на улице, видать.
— От Мирзанура весточки нету?
— Нету, нету. Ох! Ну, не иначе как делов у него много, чтой-то не пишет...
— Так-та-ак... — протянул Мирсаит-абзый, ничего сюда не добавляя. Постоял потом, нерешительно помаргивая. Сказать, что ли, жене о награде, прочитать Указ али рано еще? Привычки такой, конечно, не было, чтоб о себе самом речь говорить, потому унял волнение, успокоился, усмирил уже выстроившиеся слова. Но молчать после всего было неудобно, и он сказал неспешно:
— Чай, мать, сготовь. Будем чай пить.
Тетушка Маугиза вскипятила в самоваре воду, заварила чай, накрыв на стол, разлила его, густо-коричневый, по глубоким чашкам. Подняла было молочник, разбавить чтоб и подсластить, когда Мирсаит-абзый, улыбаясь широко, проговорил:
— Крепче давай, слышишь. Не жалей чаю, не жалей!
Тетушка Маугиза удивленно взглянула на мужа, задумалась... Чудной какой-то он сегодня, право слово, чудной. О господи, уж не случилось ли чего с Мирзануром?
С той самой поры, как убили злодеи Набиуллу Фахриева да угодил ее муж, покалечившись, в больницу, все дни проводила тетушка Маугиза в неутихающей тревоге, в неумолчном взволнованном стуке сердца; все глаза проглядывала она, поджидаючи мужа вечером с работы.
— Чего стряслось-то? Почему скрываешь от меня? — с мольбою взглянула она на мужа, с назревающей обидою даже.
И Мирсаит-абзый, чтобы успокоить разволновавшуюся жену, собрался было рассказать обо всем, как есть, когда, не постучав, не спросив разрешения, вошел в комнату Николай Вотинов.
Хозяева встревожились, и особенно тетушка Маугиза: Николай к ним обычно приходил либо по важному делу, либо, как это не раз уже случалось, чтоб сообщить о каком-либо чрезвычайном происшествии. Потому, увидев ушанку и желтый дубленый полушубок нежданного гостя, тетушка Маугиза сильно побледнела.
— Мир этому дому! — сказал тут Вотинов, припомнив смысл мусульманского «салям алейкум», и скинул с головы шапку.
— Проходи, Николай Лександрыч, проходи. Гостем будешь! — Мирсаит-абзый помог Вотинову снять полушубок и стеганку под ним, повесил их на самодельную вешалку из доски с деревянными колышками. — Видать, с добром пришел: только было чаевничать сели. У нас, у татар, поверье такое есть, ежли гость попал к столу — значит, он хозяевам добра желает, — приговаривал очень приветливо добрый Мирсаит-абзый. Вотинов принялся было стаскивать сапоги, но тетушка Маугиза быстро-быстро доказала ему, что-снимать их не надо, что пол очень холодный, пусть вытрет — и все, — убежав, принесла скоро старую тряпку. Вотинов, конечно, ничего из сказанного не понял, так как тетушка Маугиза сказала ему об этом по-татарски, однако по приветливому лицу ее сообразил, что ему здесь рады.
И Николаю вдруг стало очень хорошо. Он, ступая по некрашеному, вымытому до прозрачной желтизны полу на самых носочках, прошел к столу у окошка и, окинув взглядом красно-узорчатые полотенца в простенках, большой, зеленый, обитый серебристой фигурной жестью сундук, сказал:
— А хорошую тебе квартиру дали, дядя Мирсаит.
— Да, теперь у нас такой заботы уж нет, — ответил охотно Мирсаит-абзый, проведя рукой с крепкими ногтями по усам. — Сам-то как? Семью не вызвал еще? Ты, мать, самовар подогрей, остыл, поди, давно. Мясо есть? Давай, подогрей и мясо...
Догадывался Мирсаит-абзый, почему появился у них Вотинов, но заговаривать об этом не спешил; пускай сам начнет, если пришел.
Когда на столе появилась жареная картошка с мясом, Вотинов сходил к двери и достал из кармана полушубка бутылку водки; кивнув головой в сторону другой комнаты, где чем-то занималась тетушка Маугиза, он вопрошающе и смешно вытянул губы: дескать, удобно ли при ней? На его смугло-румяном лице дрогнули белесые, словно мелом нарисованные брови, озабоченно раскрылись обычно ясные и спокойные глаза.
— Можно, можно, — сказал Мирсаит-абзый и выставил на стол две пустые чашки. Николай быстро разлил по чашкам водку.
— Дядя Мирсаит, ты не пьешь, конечно, я знаю, но, может, все-таки поднимешь ради нашей победы, ведь радость какая, а?
Широкий, просторный лоб Ардуанова прочертили две борозды и на глазах углубились удрученно.
— Николай Александрыч... очень я тебя уважаю. Радость у нас действительно большая и общая, но и ты на меня не серчай, я ее никогда в рот не брал... — И он, чокнувшись водкой, выпил свой чай.
Вотинов опрокинул чашку горькой и долго сидел, занюхивая ее хлебом, потом деревянной ложкой достал со сковороды кусочек мяса. Хмыкнув, Мирсаит-абзый двинул в его сторону копной возвышающуюся на сковороде картошку, подложил самые жирные куски говядины.
Потом вдруг они заговорили громче, чем обычно, и из соседней комнаты вышла встревоженная тетушка Маугиза.
— Отец, неужто и ты?
Вотинов поднялся:
— Тетя Маугиза... Поздравляю тебя. Поздравляю с орденом!
— Какой ордер, у нас же квартира есть хорошая. О чем он говорит, отец?
— Нас ведь орденом наградили... Орденом Ленина. Николая, меня, Павла еще. Правительство наградило. Сам Калинин.
— И-и господи, господи... То-то ты сегодня ходишь сам не свой, как курица, которая снестись не может. То-то от тебя сегодня путного слова не дождешься. Ну, что же ты мне сразу-то не сказал, я бы лепешек испекла, вишь, и гостя нечем потчевать. Вот как бывает-то... И-и господи, господи...
Она застыла на месте, и губы ее задрожали, к глазам, щемяще, подступили слезы. Наконец она не выдержала, беззвучно заплакала и, закрыв лицо платком, ушла опять в соседнюю комнату...
После второй чашки Вотинов быстро и чудно́ захмелел. Блестя влажными глазами, торопился он вот в эти минуты, именно в этом состоянии, высказать такому же рабочему человеку, как и он, все, что накопилось у него в душе, и говорил не умолкая — да только плохо слушался его язык.
— Дядя Мирсаит... а дядя Мирсаит... — повторил он уже несколько раз, положив руку на плечо Ардуанову. — Вот мы... мы, говорю... однажды, когда-нибудь... умрем, вот. И похоронят нас... это... ну, в одной могиле.
— Как это в одной могиле? — не понял Мирсаит-абзый.
— Ну, там, чего ты, Мирсаит-абзый? Тебя, скажем.., по вашему обычаю... саван там, носилки... Я же сам из Перми... Видал, как ваших хоронят, татар, говорю... Чего говорю-то? Что я сказал сейчас?
— «Умрем», говорил.
— Ну да, вот, значит, умрем. Похоронят нас. Тебя в саване, меня, как следует, в гробу.
— Ну, ну, и что потом? — улыбнулся Мирсаит-абзый. — И что мы потом сделаем?
— Ничего не сделаем, мы же мертвые будем. Вот наверху, на белом свете, там будут говорить: вот, скажут, были люди, пермяк Коля Вотинов, то есть я это, Николай, а также татарин Ардуанов, значит, это ты, дядя Мирсаит. Вот, скажут, были люди, не знали ни сна, ни отдыха, работали, и все тут. Страну нашу укрепляли. Скажут ведь?
— Скажут, Николай Александрыч. Точно, скажут, если судьбой написано.
Вотинов погрозил пальцем куда-то в сторону.
— Не-не-не... не шути, слушай... А вот в это время проснусь я и спрошу: дядя Мирсаит, ты спишь?
— А что я отвечу?
— А ты скажешь: никак, мол, нет, Коленька, я не сплю. Мне спать нельзя. Там, наверху, люди про нас говорят. — Вотинов умолк, перевел дыхание, потом снова положил руку на плечо Ардуанова и прямо взглянул ему в глаза: — О нас будут говорить люди! Озаряя весь мир, будут гореть яркие огни. И будут работать заводы...
27
Через две недели в Березники прибыл трибунал. Он рассмотрел дело по обвинению группы врагов народа во вредительстве и саботаже на Химстрое. Главарь этой группы был приговорен к расстрелу, остальные тринадцать человек к десяти годам тюремного заключения. При чтении приговора Сагайкин упал на скамью — его не держали ноги. Кипящим свинцом влились в его похолодевший мозг суровые слова приговора, вышибли из Сагайкина остатки сил. По лицу его скатилась тусклая слеза: страшно тяжело было ему умирать, зная теперь уже точно, что победил советский строй, а сам он раздавлен, как червь, колесом истории.
ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО
Ну, вот: на этом можно было бы и закончить нашу повесть о советском батыре Ардуанове. Однако не могу — так сблизили меня с ним два года, в течение которых собирал я о делах батыра волнующий материал, два года, пролетевших быстро и ярко, прожитых мыслями и чаяниями большого человека. И стало мне вдруг тяжело, просто невыносимо расстаться с ним вот так, сразу; сунув в портфель завершенную рукопись с последней, поставленной нехотя точкою, отправился я снова в химический град, в советские Березники — края, где живет семья Мирсаита Ардуанова и товарищи его, работавшие на той грандиозной стройке.
Поезд «Казань — Соликамск» отправился в путь, когда время близилось уже к полуночи, — повез нас, пассажиров, в дальнюю дорогу, убаюкивая завораживающими перестуками. В вагонах дальнего следования в подобную полуночную пору не очень-то рвутся разносить по купе горячий хлопотный чай; быстро раздают сыроватые чуть постели, желают улыбчиво спокойной ночи, приятных всем сновидений — на этом прощаются и уходят.
Так получилось и на этот раз. Сосед мой — старец лет семидесяти, седой как лунь, в очках и с аккуратной еще фигурой — слова проводницы, сказанные с искренней располагающей улыбкой, принял весьма охотно, в свою очередь пожелал спокойной ночи ей и мне и, не расходясь в словах с делом, нырнул под одеяло на нижней полке. Мне же спать еще не хотелось: предстоящая встреча со своим героем — хотя и не было его уже давно в живых — бесконечно волновала меня.
— Если я почитаю немного, будет вам мешать свет ночника? — спросил я спутника.
— Читай хоть до самого утра. Мне все равно. Я в любых условиях сплю, — ответил мне седовласый мой старец.
Улыбнувшись благодарно, открыл я книгу Константина Паустовского, разыскал в ней одно небольшое место, отчеркнутое, — в полторы всего книжные страницы; именно эти строки вдохновили меня написать, рассказать всем о батыре Ардуане — стал я читать в который уж раз за два минувших года:
«На постройке «цеха водоочистки» работала бригада бетонщика Ардуванова. Вся бригада состояла из татар и башкир, почти не понимавших по-русски. Они пришли на стройку из волжских степей. Они не умели держать как следует лопату и робко топтались в рабочкоме. Дощатый барак с красными полотнищами и портретом Ворошилова казался им дворцом. Они опасались курить и осторожно кашляли в руку, чтобы не потревожить людей, заседавших за столами в этом великолепном помещении.
Бывший пермский грузчик Ардуванов внимательно осмотрел степных людей и пробормотал:
— Будет дело!
Он организовал татарско-башкирскую бригаду.
Профработники, любящие газетный жаргон и неудачные сокращения, тотчас же прозвали ее «бригада нацмен». Через несколько месяцев из вчерашних батраков-чернорабочих Ардуванов сделал квалифицированных бетонщиков. Через год Ардуванов получил орден Ленина. Орден запылен цементом и кажется зеленоватым.
Ни один бетонщик из бригады Ардуванова не прогулял ни одного дня. В узких добродушных глазах ардувановцев можно прочесть, как по букварю, об их честности, упорстве и выносливости.
Здешней суровой зимой при пятидесятиградусных морозах без теплой спецовки они работали с таким же легким сердцем, как и в душные летние дни. Их труд заражал даже вялых пермяков.
Но рядом с ардувановцами ходили бузилы. Бузила — это или истерик, считающий, что звание рабочего дает ему права и не налагает никаких обязанностей, ощущающий себя «борцом за революцию, загнанным в бутылку», или тупорылый малый, попахивающий самогоном, хулиганством, рекрутским молодечеством. Он кроет в бога и в гроб прорабов и инженеров, требует спецовку, лучшую, чем все, обеды, лучшие, чем все, курит среди стружек. Пестрая кепка лихо смята над морщинистым лбом, зеленое кашне кутает осипшую глотку. Он плюет вслед ударникам. Большевики его «разорили», где-то там, в семейном гнезде, и под толстой черепной крышкой чадят мысли о мести.
Бузилы вскинулись — «татарва» учила их работе. На татар показывали пальцами, об их работе знало правительство, и из-за татар с бузил взыскивали строже: их лодырничество получило яркий контрастирующий фон.
Спрятаться было некуда. Тогда в ход пошла верная финка. Двоих из ардувановцев «подкололи», предварительно затеяв драку, как того требует хулиганская тактика. Бузилы думали отделаться простым «ранением в драке по пьяному делу», но просчитались. Их судили за контрреволюцию. Бригаду Ардуванова занесли в «Красную книгу» Урала — почетную книгу строителей новой индустриальной базы на Востоке».
Смотри же ты, каким звонким романтиком был Константин Паустовский! Да романтиком ли только? Наверное, надо еще обладать большим талантом и благородным сердцем, чтобы в такой короткой записи раскрыть столь полно характер целого народа. Наверное, надо крепко любить бескрайнюю свою родину и всех людей, населяющих ее...
Долго я лежал, слушая, как дружелюбно гудит поезд у ночных станций, словно приветствуя народы нашей страны, да не заметил, как и уснул. Когда же открыл утром глаза, спутник мой давно был на ногах.
Я пошел умываться, вернулся бодрый и радостный, стал ждать утренний чай. Тут и разговорились. В другое время на знакомство ушли бы долгие месяцы — в поезде это дело одного дня.
Седой мой старец представился Иваном Федоровичем Коноваловым, назвал и я свою фамилию и — коротко — имя. Впрочем, имена эти нам, друг друга до того совершенно не знавшим, ничего не давали. Стали мы знакомиться глубже. То есть пытали теперь, кто до какой станции едет. Я — в Березники. Оказалось, и Иван Федорович тоже! Вот чудеса! Да мы же почти родные, земляки, можно сказать!
Я, как и требовала моя профессия, должен был узнать осторожно у Ивана Федоровича, кто он и чем занимается, о себе, конечно, следовало по правилам писателя молчать.
Иван Федорович — коренной житель Березников, мало того, краевед этого города, и в Казань ездил по очень важному делу. Искал он в архивах Казани документы человека, избиравшегося делегатом на II съезд РСДРП от Верхнекамской партийной организации, а также Устав этой организации и... нашел. Нашел после месячных волнений и тревог. Вот почему смог он вчера уснуть со спокойным сердцем.
Удивительные порой дела бывают на свете... Может, он знает и моего героя? Ну как же, быть краеведом и не знать?!
— Простите, Иван Федорович, вот вы живете в Березниках. Не знаете ли, не слыхали ли о таком человеке — Ардуанове? — спросил я у него и, готовясь услышать: «Какого Ардуанова?» — уставился ожидающе в карие его глаза.
— А как же! — сказал Иван Федорович и ласково улыбнулся.
Впрочем, слова эти обычно говорят люди, желающие избежать конкретного ответа. Поэтому и я сначала не был особенно удивлен. Нет уж, мой мудрый старец, от меня не так-то легко отделаться, и профессия наша любит точность.
— И что — лично знаете? — спросил я хитро.
— Сорок лет рядом прожили, — отвечал просто Коновалов.
Я, мигом утеряв свое спокойствие, вскочил с места.
— Ну, или мне здорово повезло, или сяду я в глубокую калошу! А не вы ли автор очерка «От землекопа до члена правительства»?
— И что, если я?
— А герой очерка Паустовского «Коноваловские ребята» — тоже вы?
— И что, если я?
— О господи, я же в тот приезд искал вас целую неделю. А на этот раз вы сами мне попались. Дорогой Иван Федорович, да если бы вы вчера сказали мне, что вы тот самый знаменитый Коновалов, мы бы давно уже были знакомы.
Старик, поблескивая стеклами очков, смущенно улыбнулся.
Стали мы беседовать уже всерьез. И я невольно проговорился о том, что прочел очерк Ивана Федоровича в библиотеке Казанского университета; узнал, что в свое время с огромным тактом и терпением сумел расспросить он умирающего Ардуанова о его жизненном пути и теперь эти факты могли бы очень пригодиться какому-нибудь писателю, задумавшему написать об этом книгу. Тут пришла очередь удивляться Ивану Федоровичу.
— Вы что же: писатель? — спросил он меня.
— Нет, — отвечал я твердо. — Я в типографии работаю, наборщиком. Но это еще не говорит о том, что я могу остаться равнодушным к биографии такого человека, как Ардуанов.
Коновалова, однако, на мякине провести не удалось.
— Или выкладывайте начистоту, или я с вами больше не разговариваю, — сказал он сердито. И даже, обидевшись не на шутку, со стариковским упрямством вышел из купе в коридор.
Дорого обошлась мне попытка скромно умолчать о своей работе. Пока разговорились вновь с Коноваловым, прошло, наверное, часа три, не меньше. Все же друг друга мы поняли, и общий язык наконец был найден.
— Иван Федорович! Вот вы человек, сорок лет проживший рядом с Ардуановым. Так, наверно же, знаете: какое было в нем главное качество, что стал он таким героем? За что же, по-вашему, поставили ему памятник? — спросил я у Коновалова: было это для меня очень важно.
Седой мой старик помолчал, подумал, потом, словно очнувшись, взглянул мне прямо в глаза:
— По-моему, основное качество Ардуанова — нравственная чистота, вот что. — И пояснил, словно боясь, что я недопонял смысл слов его: — Скажем, борется Мирсаит на сабантуе, а сильный был человек, ох, братец, сильный, Половину всех призов забирал, можно сказать, вот каков, и никто, конечно, не упрекнет его, слова не скажет, но нет, сам не согласен Мирсаит. Собирает сабантуй малый, для бригады своей. Вот они там и борются, и бегают, и все-все; так он все подарки свои победителям отдаст. Вот каков был человек, сильный, душа, одним словом. (Я в душе возликовал: значит, верно описано у меня, вот и старик подтверждает.) Дали ему на улице Пятилетки новую квартиру, после того уже, как вышел он из больницы. На первом этаже квартира — подумали, наверно, что трудно будет после операции-то на верхотуру лазить... А квартира холодная — сил нет! Другой кто непременно шум бы поднял, ну, Ардуанов живет, конечно, получше квартиры не требует. Приходят это однажды к нему из горсовета. Товарищ, мол, Ардуанов, как ударнику стройки, постановили мы выделить вам новую квартиру, значит, трехкомнатную. Где там! Разбушевался старик, всех отругал. Первым делом на дочку свою обрушился, на Кашифу, мол, ты это все ходишь, у тебя язык длинный. Почему, мол, из горсовета пришли, ты, что ли, писала? Мне, говорит, эту квартиру за работу дали хорошую, вот умру я, тогда вы за свои добрые дела и получите новую квартиру. А до этого, мол, и не думайте. Вот каков сильный человек он был, братец! Таки настоял на своем, семья его теперешнюю трехкомнатную квартиру только после его смерти получила.
— И детям, видно, ту квартиру за работу дали?
— У вас, у татар, есть такая пословица: что в гнезде видит, так и в полете делает. Ну, дети у него тоже не подкачали. Старший сын в милиции служит, еще в те нелегкие времена комсомол его мобилизовал, так и остался там; средний, значит, инженер-конструктор, на заводе, том самом, который отец строил; две дочки по медицинской линии пошли, врачи, все — с высшим образованием. И скромные такие, порядочные. Ах, хорошие люди, каждый раз, как вижу их, тепло на сердце становится, будто самого Ардуана увидел. Знаете ли, попутчик, оказывается, по одному даже человеку можно представить себе весь народ. Как узнал Ардуанова — так полюбил я татарский народ, показал мне Ардуанов, на что способен человек. Да и страна вся видела дела его: выбрали Ардуанова членом Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, приглашали его в гости, в Москву, и Калинин, и Орджоникидзе, в работе съезда Советов участвовал, это когда была принята Конституция. Ты, кажется, говорил, что бывал в Березниках, так заходил, наверное, в музей, там хранится его одежда рабочая, я и передал ее в музей, и орден тоже там, один из первых, зеленоватый такой, будто пыль цементная на нем осела. Правильно сделали рабочие Березников, что поставили памятник ему у завода, который он строил; на работу когда идут, после работы — равняются по Ардуанову, докладывают ему по совести о своих делах. Слышал ты или нет, мы ведь в этом году специальную премию установили, имени Мирсаита Ардуанова, теперь каждый год будет награждаться этой премией лучшая бригада строителей.
Хорошо было мне слушать седовласого моего попутчика, старшего товарища, сорок лет прожившего рядом с Мирсаитом Ардуановым, человека, искренне уважающего мой народ. Хотелось мне, чтобы продлились эти минуты надолго. Но в то же время спешил я получить ответ на очень важный для меня вопрос, запылавший сейчас в моей душе с волнующей, нестерпимой силой:
— Скажите, Иван Федорович, так за что же поставили Ардуанову памятник? Вот, например, есть памятник Маяковскому — он поэт, человек творчества; Чайковскому есть памятник — он композитор, опять же творец; Чапаю — он красный герой, грудью защитивший революцию.
Терпеливо дослушал меня Коновалов. Потом, взглянув дружески, улыбнулся и ответил:
— Ты, конечно, и сам знаешь за что. Но, видно, дорого тебе услышать это от меня, хорошо, я скажу: батыр Ардуан, как и Маяковский, как Чайковский, как ваш национальный герой Джалиль, тоже был творцом. Но создавал он не поэмы, не симфонии, а Новое время, Новый мир — мир социализма. Вот за это и поставили ему памятник. Первый памятник татарскому рабочему в русском городе.
Стремительно мчится в солнечное утро наш поезд, будит светлым гудком станции на пути, приветствуя будто народы Советской Родины; мчит он нас в «республику химии», в город, где был рожден батыр Ардуан, в близкие уже Березники.
Березники — Казань
1972—1973
ЧУВСТВОВАТЬ БИЕНИЕ СЕРДЦА НАРОДА
У каждой эпохи, у каждого времени бывает свой талантливый писатель, всей душой чувствующий биение сердца народа, проницательный, зоркий, в совершенстве владеющий стихией родного языка. Примеров тому много, есть они и в татарской литературе. Мне кажется, именно таким писателем является Гариф Ахунов, чье творчество ярко и точно отражает сегодняшний день, жизнь Советской Татарии.
Пришедший в литературу в пятидесятые годы, Гариф Ахунов сейчас один из ведущих писателей. Он не одинок, рядом с ним в одном строю трудятся его сверстники, собратья по перу. Среди них — А. Гилязов, Л. Ихсанова, А. Баянов, Н. Фаттах, Р. Тухватуллин, М. Магдеев, М. Хабибуллин и другие, занявшие в современной литературе видное место. Это поколение уже вошло в пору творческой зрелости.
Творческий путь Ахунова характерен для послевоенного поколения. Детство, совпавшее с трудными годами войны. С малолетства тяжелый крестьянский труд, потом школа, учеба в техникуме... Юношеская влюбленность в литературу, мечты, надежды, поиски своего пути... И вот теперь мы видим Гарифа Ахунова в передних рядах нашей литературы. Его трудолюбие, неустанные творческие искания, богатое воображение, способность работать в разных жанрах, смелое стремление к созданию широких эпических полотен свидетельствуют о больших возможностях писателя.
Обратимся же к творческой биографии Гарифа Ахунова.
Он родился в 1925 году в деревне Училе Арского района в крестьянской семье. Рано лишился отца. Пламя ожесточенной классовой борьбы, которая развернулась в первые годы коллективизации, коснулось и семьи Ахуновых: первого председателя колхоза, организованного в деревне Училе, коммуниста Ахунзяна (отца Гарифа) варварски убивают кулаки. Этот трагический факт на всю жизнь запечатлелся в душе будущего писателя. Он трансформировался и получил отражение во многих произведениях Г. Ахунова. До 1940 года Гариф учится в сельской школе. Затем работает в колхозе. Поступает в Арское педагогическое училище, где испытывает первые увлечения литературой. Жизнь тех лет, стремления, мечты воссозданы им позднее в автобиографических рассказах, вошедших в книги «Мы родом из Арска» (1979), «Когда зажигаются звезды» (1980).
Любовь к литературе полностью завладела юношей. В 1947 году он становится студентом историко-филологического факультета Казанского государственного университета и в 1952 году успешно его заканчивает. В пору студенчества он пробует свои силы в литературном творчестве, пишет стихи, рассказы, статьи.
Его первая повесть «Краса юности» (1955) посвящена жизни студенчества. Это — первое серьезное испытание, первый опыт, и уже он показал силу таланта молодого автора, наблюдательность, умение воссоздавать жизненные характеры в жизненных ситуациях. Это было первое произведение писателя, оно строилось в основном на биографическом материале, его герои — друзья юности автора. В этой повести писатель нарисовал яркие, запоминающиеся картины студенческой жизни. Уже первое произведение Г. Ахунова показало, что в литературу пришел талантливый писатель. Повесть сразу обратила на себя внимание критики. Вдохновленный первым успехом, Г. Ахунов целиком уходит в литературное творчество и журналистскую работу. Много сил отдает работе в журнале «Совет эдебияты» (теперь «Огни Казани»). Один за другим выходят в свет его очерки, рассказы, критические статьи. Но писателем владеет мысль о создании широкого эпического полотна, в котором он мог бы раскрыть великие дела эпохи, показать ее людей. Для этого ему нужен жизненный опыт, нужно самому быть в гуще событий, увидеть изнутри и понять их общественно-политические и духовные движущие силы. И Гариф Ахунов приходит к верному решению — в 1956 году он едет в центр татарской нефти Альметьевск. Годы, проведенные им в Альметьевске среди нефтяников (1956—1968), оказались важнейшей вехой в жизни писателя, это были годы его творческого созревания. В Альметьевске организуется отделение Союза писателей Татарии, его ответственным секретарем становится Г. Ахунов. Сплотить молодые литературные силы, направить внимание писателей на героический труд нефтяников — Ахунов целиком посвятил себя этой задаче. Сейчас в Альметьевском отделении работает большой коллектив талантливых писателей, и в этом, безусловно, есть немалая доля труда Г. Ахунова.
Писатель ищущий, с острым политическим пером, Г. Ахунов очень активен и в общественной жизни. С 1969 года он — член КПСС. Был делегатом XXV и XXVI съездов партии, II, III, IV съездов писателей РСФСР, V, VI и VII съездов писателей СССР. Начиная с 1974 года и по сей день он работает председателем правления Союза писателей Татарии. Депутат Верховного Совета СССР девятого и десятого созывов, член пленума обкома партии, один из секретарей правления Союза писателей РСФСР и СССР. Член редколлегий газеты «Литературная Россия» и журнала «Волга». Часто выступает с проблемными статьями о современной татарской литературе. За активную работу в области развития советской литературы Г. Ахунов удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Альметьевские нефтяники присвоили ему высокое звание почетного нефтяника Альметьевска. В 1973 году за роман «Клад» и повесть «Ядро ореха» он награжден Государственной премией ТАССР имени Г. Тукая.
Становление Г. Ахунова как писателя, формирование его как художника, его поистине творческий взлет связан с Альметьевском, когда он жил среди нефтяников. Здесь он, деревенский парень, открыл для себя новый мир, увидел героические дела добытчиков черного золота — нефти. Об этом сам Гариф Ахунов сказал в статье «Альметьевск — колыбель моей жизни»: «Альметьевск — город, окрыливший мечты моей юности. Альметьевск — самая главная опора в моей писательской работе, самая большая радость, город, ставший колыбелью моей жизни... Я окунулся в среду нефтяников. За двенадцать лет жизни в Альметьевске я написал и опубликовал десять книг. Годы самого высокого напряжения, самых пламенных чувств приходятся на этот период — на альметьевский. Вот потому я и называю с чувством безграничной гордости Альметьевск колыбелью жизни и хочу, чтобы он становился все прекрасней, жил, глядя вперед, в светлое завтра».
И конечно же, первый и главный итог того «высокого напряжения», о котором говорит писатель, — это роман «Клад». Разумеется, прежде чем создать «Клад», роман в нашей литературе новаторский, там же, в Альметьевске, писатель переживает период поисков, создает рассказы, очерки. Выходят в свет повесть для детей «За горой Артыш», пьеса «Огонь горит в очаге» и другие произведения. Деревня Калимат из «Клада» и его герои впервые появляются именно в них. В них писатель поднимал и важные, актуальные проблемы. Однако самой большой удачей писателя, безусловно, стал его роман «Клад». И дело не только в умении писателя поднять и раскрыть серьезную тему, но прежде всего в том, что он сумел раскрыть в эпическом произведении исторические перемены в жизни народа, воздействие духа нового времени на внутренний образ жизни татарской деревни, на крестьянскую психологию, показать процессы обновления.
Главные герои романа «Клад» — простые люди: одни еще не так давно трудились на колхозных полях, другие — представители рабочего класса, прошедшие большой жизненный путь. Всех их объединяет одно желание и один святой долг: дать стране нефть и тем самым усилить ее мощь, украсить жизнь людей новой радостью, счастьем. В романе «Клад» убедительно показан рост социального сознания народа, пафос творческого созидательного труда, его пронизывают идеи социалистического гуманизма, коллективизма и интернационализма.
Изображая труд нефтяников, их жизнь, Г. Ахунов не увлекается показом производственных процессов, рассказом о разной технике и орудиях труда, его прежде всего интересует судьба Человека, процесс социально-психологических изменений, происходящий в его родном народе.
Соответственно этому трактуется главная идея романа, словно бы закодированная в его названии. Что такое «Клад»? На первый взгляд, конечно, речь идет о борьбе за нефть — «масло земли», об использовании этого богатства на благо народа, страны. Но такое объяснение было бы неполным и неточным. Главная идея романа выражена словами одного из его героев, старого мастера Лутфуллы-абзыя: «В газетах мы называем нефть «черным золотом». Золото. Значит, клад. Но разве только нефть наше богатство? А люди разве не клад? Ведь люди тоже клад... Если разобраться, не будь людей — и дело бы стояло. А клад так и остался бы кладом лежать в земле...»
Да, самое главное — это люди. И задача литературы никогда не сводилась к тому, чтобы описывать машины, с помощью которых происходит в данном случае открытие нефтяных богатств, их разработка, она заключается, прежде всего, в художественном изображении человека и его мира. Г. Ахунов не увлекается, как бывает в некоторых наших произведениях, техницизмами, живописанием картин производства, он рисует живые характеры, и на каждой странице его романа чувствуется волнение автора, его тревога за судьбы героев.
Особенно четко прочерчены в романе судьбы двух семей — Шавали и Лутфуллы. Сюжетные линии и главный конфликт развиваются в основном вокруг этих семей. Изображая два резко противоположных характера, писатель широко пользуется приемом контраста: упрямый, грубый, косный Шавали и человек передовых взглядов, добрый, отзывчивый Лутфулла; смело выступившая против старого уклада, трудолюбивая, смелая, прямая в любви Файруза — и мягкосердечная, тихая, не способная бороться за свои права, за любовь, оторвавшаяся от общественных дел Мунэвера; Арслан и Карим — с диаметрально противоположными взглядами на жизнь и на труд.
Герои «Клада» проходят тяжелые жизненные испытания. И во второй части «Клада», в романе «Хозяева» мы встречаемся с ними уже в ином качестве, теперь они и духовно поднялись на новую ступень — они уже хозяева своей жизни, своей судьбы.
Главный герой второй части романа — начальник нефтедобывающего управления Арслан Губайдуллин. В прошлом деревенский парень, ставший теперь настоящим нефтяником, выросший до уровня руководителя. Автор достоверно изображает то, как закалялся его характер, как рождалась принципиальность в борьбе за новое и справедливое. Арслан — руководитель нового типа, требовательный к себе и к товарищам, прямой, отзывчивый, твердо верящий в прекрасное будущее, способный бороться за него до победы.
В романе четко проводится мысль о неразрывной связи поколений — она явственно прослеживается на образе Лутфуллы Диярова. «Кто же они — хозяева?» — думает Арслан на торжественном вечере по поводу присвоения старому нефтянику Лутфулле Диярову звания Героя Социалистического Труда. Арслан от души поздравляет своего учителя. «Какие только хозяева не появлялись в стране... — говорит он. — Но настоящим хозяином страны на веки вечные был и останется народ. Такие, как Лутфулла Дияров, не жалеющие себя, не требующие для себя многого, самоотверженные люди, работающие от души, — вот кто они, хозяева...»
В татарской прозе не так много значительных произведений, посвященных современному рабочему классу. Здесь можно вспомнить романы И. Гази «Обыкновенные люди», А. Абсалямова «Огонь неугасимый», Э. Касимова «Чулман — река внуков», А. Баянова «Огонь и вода», Ш. Бикчурина «Твердая порода» и несколько повестей. В этой области писателям, кажется, пока еще не хватает и смелости, и опыта. И поэтому еще более возрастает значение «Клада» Г. Ахунова, романа не просто производственного, но прежде всего психологического, в котором во главу угла ставятся проблемы нравственные.
Нравственно-этические проблемы стоят и в центре повести «Ядро ореха». Это прежде всего проблема личной ответственности. В повести фактически два действующих-лица: совсем неопытная девушка Рокия, выросшая в семье, где процветала психология мелкого мещанства, и добрый, честный, прошедший нелегкую школу жизни юноша — лейтенант милиции Халик Саматов.
Перед нами встает история любви с ее сомнениями, колебаниями. Уже выйдя замуж за Халика, Рокия первое время смотрит на него недоверчиво, она мучается, все еще не в силах расстаться со старыми родительскими представлениями. Но жизнь берет свое — Рокия наконец понимает правоту мужа и встает вместе с ним на борьбу против бюрократизма, равнодушия, карьеризма, бесчеловечности, которые, к сожалению, еще бытуют в нашей жизни. Против обывательства и мещанства.
Критика часто классифицирует литературу по тематике: писатель современной темы, писатель исторической темы, производственный роман, исторический роман. Однако, как показывает жизнь, такая классификация достаточно условна. Но какого писателя не волнует история его страны, его народа? Вот и Г. Ахунов, ярко выраженный представитель современной темы в литературе, обращается к истории. Именно в ней ищет он истоки героизма своего народа, с такой яркостью и убедительностью воспетого им в романе «Клад». И вполне закономерно, что после «Клада» появляется повесть «Ардуан-батыр», замечательный памятник героям первых пятилеток.
«Ардуан-батыр» — историко-документальная повесть. Она обращена к истории возникновения в 30-е годы Березниковского химкомбината. Автор повествует об удивительных делах строителей нового мира, об их героизме, вере в высокие идеалы, о том, как закалялся и рос новый человек, преодолевая трудности. Есть в повести и документы, и воспоминания. Помогает понять основную идею произведения очерк К. Паустовского об Ардуанове. В Березниках герою труда Мирсаиду Ардуанову воздвигнут памятник. За что? Вот на это дает ответ повесть. Современник Мирсаида, старый рабочий Коновалов говорит писателю: «Ардуан-батыр был творцом, как те же Маяковский, Чайковский или ваш национальный герой Джалиль. Только он творил не поэму, не симфонию, а новую эпоху, новый мир, мир социализма. Вот за что поставили ему памятник!» Сказано очень точно. Памятник герою труда. Памятник созидателю новой жизни.
Героизм — явление историческое. Его национальные и общественные корни уходят глубоко. Увидеть эти «корни», найти истоки героизма советских людей — таково постоянное стремление Гарифа Ахунова. Движимый этим стремлением, он принимается за историко-революционный роман «Дочь Волги». Первая книга этого романа, задуманного как многоплановая эпопея, очень быстро пришла к читателям и уже заняла видное место в современной прозе, еще раз продемонстрировав рост таланта писателя.
Исторические события, изображенные в романе «Дочь Волги», охватывают период бурных незабываемых лет. Страдания трудового люда в 1906—1917 годах под царским гнетом, растущее недовольство, первые искры борьбы, Великий Октябрь, гражданская война и затем сложный период строительства нового мира, волны перемен в духовной жизни общества. События гражданской войны на Каме и Волге и прежде отражались в произведениях татарских писателей — Г. Ибрагимова, К. Наджми, И. Гази. Г. Ахунов не повторяет своих предшественников, он по-новому подходит к событиям гражданской войны. Есть в романе и образы исторических личностей — бойцы знаменитой дивизии Азина, воевавшей против белых, революционер Мулланур Вахитов, связанный с борцами из Агрыза, Салауша, Елабуги.
Однако в первой части романа «Дочь Волги» автор не ставит перед собой задачу изображения исторических личностей в широком плане. Мулланур Вахитов, Шаймордан Ибрагимов и другие появляются лишь эпизодически. Вероятно, эти образы полнее будут раскрыты в последующих частях романа-эпопеи.
Новый роман Г. Ахунова «Дочь Волги» — еще одно доказательство развития жанра эпического романа, он уверенно вписывает в опыт советского историко-революционного романа новую страницу, отличающуюся ярким национальным своеобразием.
Гариф Ахунов находится в самой гуще жизни и внимательно следит за переменами, происходящими в ней. И говорит о них по-своему: его творчество глубоко самобытно. Безусловно, проза Гарифа Ахунова родилась не на пустом месте. У него есть свои учителя, коллеги по перу. В его крупных произведениях последних лет ощутимо живое влияние традиций великой многонациональной советской литературы, и это естественный и положительный факт. В своих записях Г. Ахунов говорит о влиянии на него творчества Г. Баширова. И о воздействии на его творчество Г. Ибрагимова, К. Наджми, об учебе у них языку, стилю и композиции. Писатель неоднократно признавался, что в изображении сложных и противоречивых сторон жизни, ее суровой правды он опирается на творчество Михаила Шолохова, которого много переводил. И это естественно. Ведь продолжать литературные традиции — это значит не повторять их, а раскрывать в них новые страницы, новые грани. Творчество Г. Ахунова служит доказательством тому.
Хасан ХАЙРИ
1
Лапас — навес.
(обратно)2
Тансык — означает «желанный».
(обратно)3
Киречин — керосин.
(обратно)4
Мурза — дворянин.
(обратно)5
Чулпы — украшение из серебряных монет, вплетается в косы.
(обратно)6
«Арыш камчылы» — зарница, буквально: «стегает плетью рожь».
(обратно)7
Абы, абзы — обращение к старшему по возрасту мужчине.
(обратно)8
В этом случае — разрешение приступить к еде.
(обратно)9
Бэлиш — национальное кушанье, мясной пирог.
(обратно)10
Бисмилла — начало мусульманской молитвы, с которой, по обычаю, начинают всякое дело.
(обратно)11
Калфак — головной убор.
(обратно)12
Станкогод — потенциальные возможности проходки одной буровой в течение года.
(обратно)13
Отвод — ворота в изгороди, окружающей деревню.
(обратно)14
Шамаиль — молитва, написанная серебром на черном стекле.
(обратно)15
Правдивый Тукай — Габдулла Тукай, поэт-демократ, основоположник татарской реалистической поэзии.
(обратно)16
Саке — нары.
(обратно)17
Талевый блок — подвижная часть подъемного механизма на буровой.
(обратно)18
Тампонаж — закупорка цементом фильтрующих пород, пустот и трещин в горных породах, чтобы предохранить нефтяные скважины от проникновения воды.
(обратно)19
Манифольдная линия — труба, по которой подается нефть от скважины к мернику
(обратно)20
Обсадные трубы предохраняют скважину от обвалов и проникновения в нее воды и газов из проходимых пород.
(обратно)21
Кааба — мусульманский храм в Мекке, место паломничества верующих.
(обратно)22
Каротаж — совокупность методов исследования геологического разреза буровых скважин путем измерения физических свойств горных пород.
(обратно)23
Каротаж через «голый конец» — ведение каротажных работ через бурильные трубы со снятым турбобуром.
(обратно)24
Курай — башкирский народный музыкальный инструмент, напоминающий флейту.
(обратно)25
Уход — поглощение глинистого раствора подземной пустотой.
(обратно)26
Шарошки долот — вращающаяся часть долота, зубья которой крошат породу.
(обратно)27
Ротор — специальное приспособление для бурения; стальной вращающийся стол.
(обратно)28
Индикатор — аппарат для записи колебаний давления в цилиндрах поршневых машин.
(обратно)29
Ключ Орлова применяется для свинчивания бурильных труб.
(обратно)30
Направление — обсадная труба.
(обратно)31
Куркак — трус.
(обратно)32
Арыш быламыгы — здесь: тряпка, мямля.
(обратно)33
«Слепой козел» — детская игра в жмурки.
(обратно)34
Нефтяная ванна — закачивание нефти в забой, чтобы расшатать заклинившийся инструмент.
(обратно)35
Штроп — продолговатое кольцо.
(обратно)36
Бавырсак, чак-чак — национальные татарские блюда из теста.
(обратно)37
Туташ — вежливое обращение к молоденькой девушке; тути — вежливое обращение к старшим.
(обратно)38
Гаптельсамат (обычное для татар двойное имя; Гаптель и Самат) — полное имя от Гапсамат.
(обратно)39
«Чаян» — название татарского сатирического журнала.
(обратно)40
Название села состоит из двух слов: таза — здоровый или самостоятельный, бай — богач.
(обратно)41
Сарай наподобие хлева.
(обратно)42
В деревнях у татар принято давать двойные имена: Габдель — обычно добавляется ко многим именам.
(обратно)43
Карга — ворона.
(обратно)44
Зульхи — сокр. от Зульхабира.
(обратно)45
Яналиф — татарская письменность на латинской основе (1929—1939 гг.)
(обратно)46
Участники «кряша» борются, охватывая талию противника полотенцами или кушаками.
(обратно)

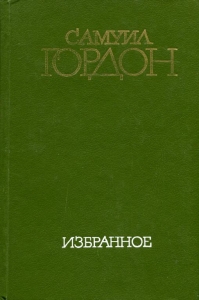



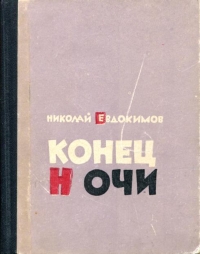
Комментарии к книге «Ядро ореха», Гариф Ахунов
Всего 0 комментариев