Иван Лепин УРОКИ
Что там скрывать — любил я любил стихами морочить головы нашим заводским девчонкам. В цехе ли, в женском ли общежитии, куда, случалось, проскальзывал, на вечерах ли в клубе — нигде не упускал случая поразить их, а вернее — понравиться. Читал я с подвыванием, мне казалось, выразительнее самого заслуженного артиста.
По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух…Или:
Ну, целуй меня, целуй, Хоть до крови, хоть до боли…И, конечно, «Хорошую девочку Лиду» читал (от Смелякова я был без ума), «Соперников» Твардовского, «Разлуку» шумевшего тогда Евтушенко, «Зодчих» Кедрина, «Во весь голос» Маяковского… Слушательницы мои восторженно охали, ахали, подпрыгивали от удовольствия. То ли взаправду им нравились стихи, то ли они притворялись, но я, увлеченный, верил в искренность этих охов и ахов и старался еще пуще (как не стараться в двадцать лет ради девичьего внимания?!). В поисках новых стихов я подолгу просиживал в районной библиотеке, просматривал все выписываемые библиотекой литературные журналы, домой брал не по одному поэтическому сборнику.
Выискивал самое-самое, для моей души подходящее. Если душа стихи принимала, заучивал их мгновенно.
Однажды я вернулся из библиотеки с очередным «уловом»: Дмитрий Ковалев — «Красота»:
Как лебеди, Дики твои колени, Тоскуют весны ранние по ним… Приснилось, Что ханжи пооколели, И стало меньше Хоть грехом одним. И стала юность чище и моложе, И зрелость добротою ближе ей, Наедине Опаслива до дрожи, Ты хмуришься от наготы своей, Такая зябкая, Как будто с ветви сада Росой осыпали, Хоть голову втяни. Двух земляничин робкая прохлада Краснеет и хоронится в тени… Но если бы рассвет Твои опаски И глаз твоих пугливых высоту Увидеть мог — Он погасил бы краски, Чтоб не спугнуть такую красоту.В тот день мне надо было выходить на работу в третью — ночную — смену, и стихи я решил выучить немедля, чтобы ошарашить ими девчонок из нашего цеха. Так я и сделал, выучил и в час ночи подозвал к стропальщице Люсе Горенко еще и крановщицу Свету Трубе, сверловщиц Олю Чугай и Наташу Чернову и прочитал им свежие стихи.
— Чьи? — широко открыв глаза, удивилась Света.
— Дмитрия Ковалева.
— Что-то я не слышала, ты про такого не рассказывал!
— А я сам о нем ничего не знаю.
Потом заговорила Наташа, девушка стеснительная, но любознательная:
— А разве могут быть колени дикими? — И залилась от смущения краской.
Я не успел ей ответить, рядом оказался мастер и скомандовал разойтись по станкам.
— После работы будете лясы точить, а сейчас — конец месяца…
Я же, уязвленный самолюбием, уже назавтра давал Свете справку:
— Родился Ковалев в пятнадцатом году в Белоруссии — есть там маленький город Ветка. Участник войны, он служил на флоте. У него есть книжки «Далекие берега», «Рябиновые ночи», «Тишина».
— А где сейчас живет?
Я пожал плечами.
— Наверное, там же, где родился. А может, в Москве…
Так уж случилось, что летом шестидесятого года мы узнали друг друга: я о нем — по его прекрасным стихам, он обо мне — по тощей подборке заводских виршей, посланных на творческий конкурс в Литературный институт. Недавно я перечитал их и, право, подивился мягкости K°валева, набиравшего тем летом «команду» заочников в свой поэтический семинар. Будь я на его месте, то безоговорочно возвратил бы пареньку из Горловки его скромные опыты.
Но, видимо, присылали работы и послабее моих.
Как бы то ни было, а меня в числе трехсот счастливчиков вызвали ни вступительные экзамены (вообще-то; институту нужны были всего девяносто «счастливчиков» — сорок пять очников, сорок пять заочников). Вызову я был ужасно рад, девчонки, постоянные мои слушательницы, провожая, чмокали меня в щеки: «Молодец, теперь успешно сдавай экзамены».
Заводских девчонок я не подвел, был зачислен в институт, о котором мечтал долгие годы во сне и наяву. И попал я таким образом в руки Дмитрия Михайловича Ковалева, ставшего для меня на шесть лет учителем, строже которого я дотоле не знавал.
Если можно было бы графически изобразить мои последующие чувства к нему, то линия студенчества была бы зигзагообразной (восхищение его стихами — линия вверх, жестокий разнос мной написанного, условный зачет по творчеству — линия вниз, его честные, бескомпромиссные суждения о литературе — линия вверх, упреки типа: «Хватит быть довольненьким» — линия вниз и т. д.). А вот послеинститутский период я бы изобразил сплошной восходящей линией (пришло понимание: Дмитрий Михайлович устраивал полный разнос за дело, правильно упрекал в душевном довольстве — может, к сожалению, и редковато упрекал).
И такое отношение к нему сохранили почти все участники нашего семинара, что вполне объяснимо: если в институте не последним делом для нас был полный порядок в зачетке, то теперь, постигая жизнь, ее законы, мы пытались наводить «полный порядок» в этой жизни. И тут основным мерилом, стало то, как мы сами и окружающие нас люди относились к жизни: расчетливо, нахраписто или по-ковалевски совестливо.
Сессии для заочников в ту пору проводились раз в году — в июне. Так что общались мы весь первый курс со своим творческим руководителем по переписке, не будучи знакомыми с ним лично.
Долгожданный июнь наконец наступил, и литинститутцы слетелись к своему заветному гнезду — на Тверской бульвар, 25.
Почти все участники нашего поэтического семинара собрались в аудитории за полчаса до звонка. Такое нетерпение легко объяснить: хотелось увидеть, каков он, Ковалев, в жизни. Волновались. Кое-кто, посидев пять-десять минут, шел покурить, чтобы успокоиться. Вышел и я. Сделав несколько глубоких затяжек, бросил недокуренную «беломорину» в урну и заторопился из курительной комнаты в аудиторию: как бы не опоздать на первую встречу.
Когда я вошел, то у стола преподавателя заметил подростка-новичка — невысокого, худого, в коричневом, великоватом чуть, костюме. Он то и дело поправлял рассыпавшийся чуб и деловито перебирал стопку светло-серых папок. Вбежали последние курильщики и мигом расселись по местам.
На новичка никто не обращал внимания. Мы с нетерпением смотрели на дверь, в которой вот-вот должен появиться Дмитрий Михайлович.
А новичок тем временем отодвинул папки на край стола и подал голос:
— Все в сборе? Тогда — здравствуйте. Я — Ковалев, руководитель вашего семинара.
Мы широко раскрытыми глазами удивленно уставились на подростка. Оказалось, это не подросток, а мужчина лет пятидесяти (на самом деле — сорока пяти), с худым нервным лицом, с нависшими на глаза бровями и с высоким морщинистым лбом.
На тонких его губах показалась улыбка, он как бы недоумевал, заметив наши удивленные взгляды: «Неужели я не похож на руководителя?»
Но замешательство было минутное, и Ковалев предложил:
— Давайте будем знакомиться поближе. Я называю фамилию, а вы коротенько рассказываете о себе.
Честно говоря, я малость разочаровался в руководителе: не очень солидно он выглядел. Наверное, трудно ему будет справляться со своими подопечными. И как следствие — мы подчиним его своей воле, станем, как говорится, вить из него веревки. А это мне меньше всего хотелось — я уважал людей добрых, но и требовательных.
Два часа ушло на знакомство.
Остальные два часа говорил Ковалев. Анализировал наши творческие работы. Когда он особенно увлекался анализом, обычно тихий его голос становился резким, речь — нервной, каждое слово, казалось, имело оболочку, свою форму, и его можно уловить, потрогать.
— Я убежден, — говорил он о стихах Ю., — что дело не в подстрочниках. Даже самый плохой подстрочник донесет мысль. — Он жестикулировал при этом, рубил правой рукой перед собой воздух после каждого слова. — У вас же в подстрочниках сплошная декларация. Уверен, то же и в оригинале.
Ю. сидел, пряча голову в плечи, ни жив ни мертв.
В конце занятия Ковалев подвел итоги:
— В нашем семинаре — пятнадцать человек. Не думаю, что все из вас станут, поэтами. С некоторыми, возможно, придется расстаться: институт наш творческий, план выпуска талантов ему не спускают, и отчисление здесь — обычное дело. Будем работать с теми, кто выдержит испытание на творческую зрелость. Так что, если кто-то уже сейчас чувствует себя не очень уверенно, пусть лучше добровольно уходит с первого курса; хуже будет, если кого отчислят с третьего или четвертого — приказом.
Аудитория тяжело вздохнула: ничего себе начало! Да этот подросток, видать, не так безобиден и прост, как кажется с первого взгляда, веревок из него не совьешь.
Через неделю, на втором занятии, обсуждали стихи С. Он невнятно прочел три-четыре стихотворения из представленной подборки, с которой уже ознакомился весь семинар, и обреченно стал ждать, что скажем мы, его товарищи. А к нашему мнению, естественно, прислушается и Дмитрий Михайлович. Так что его вывод во многом зависит от нашего приговора.
Надо отметить, что большинство из нас уже набили руку на критике — в литобъединениях, в литкружках. Причем по молодости, как водится, мы шли в атаку с открытым забралом, беспощадно, напролом, камня на камне не оставляя от написанного нашим же ровесником (впрочем, каждый из нас прошел через подобное горнило испытаний).
С. в литобъединениях до института не состоял, не печатался даже в районной газете и, кроме одобрительных слов друзей-приятелей на работе, никаких отзывов о стихах не слышал. И вдруг — шквал, ураган, вихрь, буря — что там еще есть из разрушительного? — накатились на его бедную подборку. Почти в каждом выступлении звучало: «коряво», «вторично», «детский лепет», «поэзия не ночевала», «девятнадцатый век», «кому это нужно?», «графоманство»…
В этом же духе высказался и я. А когда высказался, пожалел: «Отчислят же парня».
Ковалев слушал нас внимательно, прохаживался по аудитории взад-вперед, скрестив руки за спиной. Иногда иронично улыбался, покачивая головой. И неясно было, одобряет он очередной разнос или сомневается в доводах выступающего.
Разбушевавшийся вал страстей неожиданно стих — оказалось, что высказались уже все.
Тогда Ковалев прервал свое хождение, встал у стола, опустив на него руки. Сморщил лоб, пошевелил бровями. Сейчас утвердит наш приговор: стихи никуда не годятся.
Он заговорил ровно и спокойно:
— Я слушал вас, ребята, и удивлялся: откуда такая глухота? Мне кажется, что любая критика должна быть доброй, уважительной. Там, где нет доброты, не может быть речи и об объективности. Даже в самых безнадежных произведениях нужно в первую очередь искать доброе, удачное. А у вас получилось сплошное охаивание, хотя стихи не заслуживают этого. Присмотритесь к ним, прислушайтесь. Сквозь их корявость, старомодность, подражательность проглядывают ростки поэзии, и это вселяет надежду в творчество С. — И закончил: — Он, по моему мнению, один из способных в нашем семинаре. Его только направлять нужно, подсказывать, в чем он силен и в чем слаб…
«Вот те на, — изумленно разинули мы рты. — Выходит, весь семинар идет не в ногу, один Ковалев — в ногу?»
Недоумение меня не покидало и после занятия, по дороге в общежитие. Примеры Дмитрий Михайлович привел, конечно, убедительные. Но…
Что — «но»? Мне ведь, признаться, и самому многое нравилось в стихах С. А поддался чужому влиянию. Вдруг, опасался, причислят меня в сторонники и защитники старомодности, детского лепета и — страшнее ничего не придумаешь — графоманства.
«Не пора ли быть осмотрительней, самостоятельней? — сказал я себе. — Ковалев ведь не побоялся один пойти против целого семинара. А почему? Да потому, что свое мнение имеет, и умеет его отстаивать. А я сдрейфил…»
Второй курс, вторая сессия. После обсуждения моих стихов студентами Дмитрий Михайлович подводил черту:
— Я решительно не согласен, будто можно «делать стихи». Хотя из собственной практики знаю, что иногда вынужден делать их. Только такие стихи, признаюсь вам, ни разу не доставили мне даже маленькой радости.
И далее:
— Не верю, что можно научить писать стихи. По себе сужу: ни один совет со стороны, ни одна теория не пригодились мне, когда искал нужное слово, которое должно озарить, оживить другие. Все заранее продуманное, намеченное мешает мне, сковывает, толкает к шаблонности. А вот когда приходит что-то свое, выстраданное, все приготовленное мной напрочь отшелушивалось…
Поразмышлял о творчестве Дмитрий Михайлович, затем взял мою зачетку и поставил мне… условный зачет. Парень-де ты хороший, но к новым твоим стихам это отношения не имеет. Они у тебя сделанные, придуманные. Посему поезжай-ка домой с условным зачетом, а в будущем году посмотрим, какие уроки ты извлек из сказанного мной. Не извлечешь — придется распрощаться…
С тревогой открываю очередной конверт из института. Что в нем? Новая методическая разработка? Рецензия на контрольную? Вытащил листок — письмо от Ковалева. Обращается, как всегда, по имени-отчеству, уважительно. Далее пишет:
«Это хорошо, что вы в последнее время старательно работаете, выполняете все мои задания, пишете стихи. Есть и результат этой старательности: стихи стали собраннее, поэтичнее. Но, конечно, не дай бог, как говорят, успокоиться. Особенно, когда речь идет о стихах. Нужен поиск и поиск. Кстати, кажется, одно или два ваших стихотворения прошли в книге „Поэзия рабочих рук“ (составитель Я. Смеляков), которая вот-вот выйдет в „Молодой гвардии“.
Ну, теперь о вашей работе по круговому семинару. Вступление у вас основательное. И стоящие мысли высказаны в нем. Хотя высказаны они несколько суховатой, главное, как-то официозно. Не в меру „серьезно“. Вполне согласен с вами в том, что переводить на русский язык надо лучшее, что заслуживает этого. Ну, прописные истины я бы на вашем месте не стал перечислять, так как они сами собой разумеются.
В самой же рецензии вы лишь второпях обмолвились вообще, что осетин Агузаров пишет о своем крае, о близких ему людях (это дежурная, шаблонная фраза) и что пишет он шаблонно — и всё. Ни примера, ничего… Это, простите, из рук вон плохо…
Стихи рязанца Корнеева вы разобрали более тщательно (правда, они и сами дают гораздо больше материала для этого) и, главное, доказательно. Разговор о сельской теме правда, несколько поверхностный, только названный и перечисленный, но зато разбор по сути верный, по примерам неплох, хотя есть немного и казуистики. Ну, скажем, категоричное „ныряют вниз“ в поэзии не так уж и категорично. Можно, скажем, образно говоря, нырнуть в небо, хотя оно и не внизу, нырнуть в темноту и т. д.
Все же хорошо, что вы тщательно отнеслись, постарались все сделать, как сумели. На то она и учеба, чтобы можно было разобраться, что получилось, а что нет, что хорошо, что плохо».
И поругивает, и подбадривает одновременно. Поругивает справедливо: ленюсь мыслить, вот и получаются у меня поверхностные рецензии.
Однажды на семинаре зашел разговор о песне. С горячностью, присущей студентам, некоторые ребята (и я в их числе) доказывали, что песня и поэзия — вещи очень разные, и, как пример, читали невзрачные куплеты модных современных песенок. И доканывали своих оппонентов весомыми аргументами:
— Блока не поют, Маяковского не поют… Твардовского опять же, Заболоцкого… А они — выдающиеся! И вообще, писать песни — не дело настоящего поэта.
Но контрдоводы были веские:
— А Есенин! А Светлов! А Прокофьев! Не говоря уж об Исаковском! Отличные поэты, и песни у них — что надо!
И вот мы притихли, ожидая, что скажет Дмитрий Михайлович. Он привычно ходил поперек аудитории, заложив руки за спину, терпеливо слушал студентов. И непонятно было, чью сторону он возьмет, кого поддержит.
Наконец все вроде бы накричались.
Дмитрий Михайлович остановился у преподавательского стола, на минуту задумался, опустив взгляд. Затем сказал тихо, с какой-то болью и завистью:
— А я бы хотел написать песню. Чтоб ее в народе пели. — Глаза его блеснули. — Хорошая песня долго живет. А с ней и автор. Возьмите Мерзлякова. Остался в памяти потомков одной-единственной песней — «Среди долины ровныя…» Как и Макаров — у него «Однозвучно гремит колокольчик», Давыдов со своим «Славным морем — священным Байкалом…» Вот бы и нам так… А что касается Блока, Твардовского и других — тут дело ясное… Их наизусть и без песен знают…
Ввели осенние сессии — к худу ли, к добру ли, мы, студенты, пока не знали. Будущее покажет. Впрочем, нас-то, пятикурсников, нововведение только однажды и коснется. Через год, на шестом курсе, нам так или иначе по осени приезжать — защищать дипломную работу, и по весне тоже — сдавать госэкзамены.
Семинаристы наши явились на сессию в полном боевом составе — тринадцать человек. Потери за пять лет по сравнению с другими поэтическими семинарами минимальные — всего два студента. Причем оставили нас по причине уважительной — перешли на очное отделение.
Честно говоря, после первой сессии и особенно после второй, когда половине своих воспитанников Ковалев поставил условные зачеты, я полагал, что к финишу наши ряды изрядно поредеют. Ан нет! Ругал нас нещадно Дмитрий Михайлович, грозил отчислением, а так никого и не отчислил. Я не думаю, что Ковалев проявил жалость, расчувствовался. Он мог быть в обычной жизни и жалостливым, чересчур добрым и даже добреньким. Но когда дело касалось литературы, поэзии, тут он оставался непреклонным, прямым, беспощадным ко всякого рода псевдолитературным явлениям. Видимо, просто мы стали писать лучше, интереснее, вот и уцелели.
Во время сессии Ковалев успел с каждым встретиться наедине — у себя на квартире. Мы привезли с собой проекты дипломных работ, и теперь разговор шел по самому большому счету. Дмитрий Михайлович был по-прежнему строг, но в его строгом, ранее казалось нам, бесчувственном голосе теперь звучали нотки заботливости. Что это так, я убедился, услышав от него фразу (во время разговора о моем проекте дипломной): «По уровню ваших работ станут судить и обо мне как о руководителе, и поэтому я за ваши рукописи сейчас переживаю больше, чем за свои собственные».
И участливо поучал, корил:
— Пишешь: «Все семь дорог…» Слуха, что ли, нет? Разве можно ставить рядом два «се-се»? А это — коряво: «Бесподобностью я скован губ, потрогавших зарю». К тому же слишком неопределенно, неконкретно — «бесподобностью». Что сие значит?.. Далее. «У меня тихие глаза, как лужицы, как молнии». Ничего, но размер ведь нарушен. Чтобы не сбиться с ритма, нужно читать «у мéня». Далее. Вытравляйте всякое поигрывание, самокрасование — это претит хорошему вкусу, отвращает от того, что вы хотите сказать читателю. Стремитесь быть естественнее. Все нарочитое не внушает ни доверия, ни симпатии. В стихах это нетерпимо. Может даже из поэтического замысла сделать финтифлюшку.
Защита дипломной работы была назначена на четвертое ноября. Приехал я на два дня раньше, чтобы было время отдохнуть после дороги, осмотреться, унять волнение. Свободных мест в общежитии оказалось много, и меня поселили в отдельной комнате.
Москва готовилась к Октябрьским праздникам. Украшались стены и фронтоны зданий, вывешивались лозунги, плакаты, флаги. Красивы были по вечерам расцвеченные иллюминацией улицы.
Я люблю прогулки в одиночку, когда никто тебе не мешает думать обо всем на свете.
Иногда обрушивался поток тревожных мыслей, А ну как провалю защиту? Значит, минимум на год отсрочка в получении диплома. Каково будет смотреть в глаза заводским друзьям? Э-э, скажут, да он у нас слабак. А еще в поэты рвется. Поступал бы уж в политехнический — токарь-то неплохой…
Хуже, если жалеть начнут, — не переношу жалости.
Бр-р-р! Мороз по коже! Уж не позвонить ли Ковалеву — узнать его отношение к моей дипломной? Да и мнение оппонентов ему известно… Может, зря я переживаю, может, все уже решено…
Захожу в телефонную будку, лезу в карман за гривенником. Набираю две-три цифры и отрешенно вешаю трубку. Зачем приставать к человеку со своими сомнениями? Это меня они гложут. А его — ни капельки. Он, возможно, сейчас спокойно смотрит телевизор или читает. И нет ему никакого дела до того, что скажут мне в случае неудачи заводские друзья…
Назавтра я пришел в заочное отделение отмечаться и там встретился с ним. Он поздоровался со мной за руку — в глазах усталость.
— Не мог всю ночь уснуть, — сказал. — Переживаю за вас и Володю Порядина — самыми первыми ведь защищаетесь… Вчера, говорите, приехали? А чего ж не позвонили? Ах ты беда! Вместе бы и попереживали… Впрочем, по секрету сообщу, что, по моим наблюдениям, дела лично у вас складываются нормально.
Весной шестьдесят девятого года я переезжал из Донбасса на Урал, в Пермь. Поезд прибыл в Москву утром, времени до отхода «Камы» оставалось много, и я осмелился позвонить Дмитрию Михайловичу. После окончания института я не виделся с ним и теперь, набирая номер его телефона, волновался: захочет ли он встретиться со мной? Кто я ему сейчас? Бывший ученик, канувший неизвестно куда после госэкзаменов, не написавший своему учителю за три прошедших года ни строчки. К тому же я знал, Ковалев вел в Литинституте новый семинар, и ему теперь, наверное, не до бывших.
Трубку долго не снимали («Он, поди, за письменным столом сидит, а я его сейчас оторву от работы», — ругал я себя за бесцеремонный звонок). Но вот наконец узнаю его голос:
— Я слушаю. — И тут же — обрадованно: — Вы откуда звоните? С Курского? Приезжайте немедленно, я как раз чай собираюсь заваривать. Столько не видел вас!
У меня отлегло от сердца: не помешал, значит, ему, а если и помешал, то не так уж здорово (в противном случае он, не лицемеря, признался бы в своей занятости — такой человек).
Беговая улица, дом два. Этот адрес известен каждому его выпускнику, ибо за шесть лет учебы каждый побывал на квартире Дмитрия Михайловича много раз. Здесь хозяин привечал нас, угощал чаем, затем снимал стружку за неудачные стихи, а под конец, дабы студент уходил с легкой душой, рассказывал и о своих литературных трудностях («Не только вам одним достается по первое число»), по-отечески напутствовал и, уже у порога, рассказывал какую-нибудь курьезную историю из столичной писательской жизни.
Я коротко нажал на кнопку звонка, и дверь сразу же отворилась: ждали. Дмитрий Михайлович обнял меня, долго жал руку. Повесив мой плащ, пригласил:
— Проходите в кабинет, отдыхайте, а я сейчас…
Потом мы пили чай на тесной кухоньке. Было на столе: земляничное и малиновое варенье, засахаренная клюква, сливочное масло, копченая — тоненькими колясочками — колбаса, черный и белый хлеб… Из открытой кастрюли, стоявшей на плите, выглядывали закипавшие сосиски. Все для меня привычно. Только разговор другой.
— Вы здесь по делу? — мягко спросил Дмитрий Михайлович.
— Проездом.
— Куда, если не секрет?
— В Пермь.
— В гости?
— Жить.
— ?
— Жить. Поменял квартиру. В Россию потянуло… Хотел на родину переехать, в Курск, пришел в бюро обмена, а там говорят: «Курска нет. Есть Пермь. Хотите?» Я постоял две-три минуты, подумал. Пермь… Это — Кама, Виктор Астафьев, издательство (я давно мечтаю работать в издательстве). И согласился.
— Вы там хоть были?
— Восточнее Москвы никуда не ездил.
Дмитрий Михайлович поставил недопитую чашку.
— Ничего город. Без каменных громад, но не провинциален. Я в прошлом году был в Перми — на совещании молодых. Писатели там интересные — Радкевич, Давыдычев, Решетов. Да и среди молодых есть талантливые ребята. Приятно было с ними работать. — Ковалев, полузакрыв глаза, на минуту замолчал; мне показалось, он собирался с мыслями. — Только вот под конец один «непризнанный» мне настроение испортил… Мы как раз по Каме на катере прогуливались. Я сидел на корме, когда он подсел ко мне. Плотный такой, в очках, на плечи спадает шевелюра. Подсел и начал: «Вы не верьте нашим писателям, не такие уж они добрые, какими предстают с трибуны, на самом деле зажимают молодых как могут и где могут. Я недавно написал повесть, так прозаик П. такую отрицательную рецензию написал, что вы и представить не можете. А сам издал роман — муха через страницу переползет и сдохнет от скуки». В том же духе еще что-то пел, но я его не слушал, твердо решил, что этот товарищ — из стана графоманов. Настоящий талант не будет на словах доказывать свое преимущество каждому встречному-поперечному, он докажет это своим творчеством. Да… Он понял, что сочувствия от меня не дождешься, и направился в буфет… Вскоре спустился туда и я. Каково же было мое удивление, когда за одним столиком я увидел молодого прозаика, разливающего по рюмкам коньяк, и писателя П., на которого он только что, как нынче говорят, катил бочку. Но он не ужаснулся, заметив меня. Наверняка полагал: я промолчу. А я ужасно не люблю двурушников. Это ж ведь потенциальные предатели. И я подсел к П. и без обиняков поведал о том, что несколько минут назад услышал на палубе. Молодой прозаик проклинал, наверное, меня последними проклятиями. Но разве мог я смолчать? Ведь П., поди, считал его приличным человеком, наверняка со спокойной душой угощался, не зная, что его за глаза только что облили грязью. Он вдруг встал, высокий, широкоплечий, глаза метали молнии. Молодой прозаик под их огнем, казалось, таял, уменьшался, как свеча. Мне даже жалко его стало. Впрочем, вскоре я успокоился: может, это ему будет уроком, может, большую подлость не совершит…
Он прервал свой монолог, извинился, кинулся к плите:
— Сосиски-то давно уже сварились.
Подал мне тарелку с горячими сосисками:
— Ешьте, вы ведь с дороги…
Я ел, а из головы не выходило рассказанное Дмитрием Михайловичем. Не переставал спрашивать себя: «А у меня хватило бы гражданской смелости сказать правду о молодом прозаике?»
Спрашивал — и совесть моя медлила с ответом.
В очередной раз я попал в Москву через год — посчастливилось с командировкой. Стоял май — теплый, ранний. На московских улицах звенели свежей листвой деревья. Во дворе дома, где жил Ковалев, росли роскошные тополя, уже достигшие пятиэтажной высоты. В молодой зелени неистово кричали радостные воробьи и прочие городские птахи.
Дмитрий Михайлович пребывал в хорошем настроении, суетился в прихожей возле меня:
— Снимайте свою куртку, вот тапочки… Вы давно пробовали конопляное масло? — спросил неожиданно.
— Сто лет назад. Еще в детстве.
— Вот я вас и угощу. Тут на днях ребята из Белоруссии приезжали — Брыль с Мележем, так гостинец привезли. Я это масло до беспамятства люблю. Жаль, что исчезло оно из употребления — то ли не из чего делать, то ли невыгодно.
— Лень.
— А может, ваше дело, и лень. Ну проходите, усаживайтесь.
Мне в этой небольшой двухкомнатной квартире всегда уютно, и чувствовал я себя здесь если не как дома, то очень уж раскованно и тепло. Нравилось рыться в интереснейших книгах, рассматривать всевозможные сувениры во главе с морской раковиной, по величине не меньше граммофонной трубы.
Снова кухонька, снова душистый цейлонский чай.
На этот раз заговорили о Есенине — близилось его семидесятипятилетие. Вернее, я слушал, а говорил в основном он, Ковалев:
— Статью вот о нем написал. В один «толстый» журнал. Боюсь, сократят — на мой взгляд, прямая получилась статья. У нас ведь любят, чтобы в юбилейных материалах побольше сиропа было. А разве совместимы эти два понятия — сироп и откровенный до боли поэтический мир Есенина?.. Кстати, — наливая мне очередную чашку, спросил Дмитрий Михайлович, — вы давно были на его могиле?
Я замялся и стыдливо покраснел.
— Не был вообще.
— Как? — изумился он.
— Все недосуг…
— Сейчас же собираемся и идем. Тут пять минут ходьбы.
— Но вам ведь некогда. Сами говорите, что перевод романа нужно срочно заканчивать. Вы мне лучше подскажите, как добраться…
— А там?
— Там я спрошу, где могила.
— И не стыдно мне будет? К Есенину не мог человека проводить!.. А роман… Ничего, потерпит.
Через несколько минут мы уже стояли под высоченными тополями во дворе. Дмитрий Михайлович глубоко втянул в себя воздух.
— Как все-таки пахнет молодая листва! Несмотря на автомобильный газ…
Ваганьковское кладбище и впрямь находилось в пяти минутах не столь быстрой ходьбы, и мы вскоре вошли в его ворота. Навстречу нам двигалась шумная группа молодежи, неуместно громко смеявшаяся. Дмитрий Михайлович резко поднял голову, болезненно поморщился:
— Безобразники! Здесь ведь — души многих великих…
Ребята, услышав это жестокое «безобразники», стихли, запоглядывали на Дмитрия Михайловича — длинновязые, модно одетые.
— Надо чаще бывать на кладбищах, — заговорил снова он, уже обращаясь ко мне. — Не наскоком приходить поглазеть на свежую могилу той или иной знаменитости, как вот эта компания, а чтобы подумать, поразмышлять — о жизни, о смерти, о добрых делах своих и о грехах. Наедине с ними, некогда жившими, человек становится чище помыслами. Он как бы глубже осознает: все мы бренны, а сделать предстоит еще многое. Так не лучше ли, пока не поздно, отбросить лень и праздность, поспешить закончить работу за себя, а если успеется — и за них, вот под этими памятниками лежащих…
У черной мраморной плиты с бронзовым барельефом он вдруг остановился и остановил за руку меня:
— А вот и Есенин…
Я растерялся, трусовато заоглядывался, нет ли кого рядом. Мне казалось, оттуда, из-под земли, слышу голос великого поэта: «Кто ты и что ты на этой земле? Пишешь стихи? А ну прочитай!.. О, и эту рифмованную блажь ты называешь стихами? А где в них кровь? Настоящие стихи пишут кровью сердца. Согласен?..»
Я вытер холодный пот со лба, тихо положил на плиту букетик гвоздик.
Дмитрий Михайлович тронул меня за рукав.
— Теперь я тебе покажу могилу Мерзлякова. Знаешь его? Он, кстати, из пермских краев. Его могила долго считалась затерянной. — Ковалев понизил голос: — Несколько лет назад я ее случайно обнаружил…
В конце семьдесят первого года мне поручили редактировать сборник стихов молодого поэта Анатолия Гребнева. Был он в ту пору студентом-заочником Литинститута, занимался в семинаре Ковалева.
Рукопись мне откровенно нравилась — пусть были в ней отдельные шероховатости, слегка заметные следы подражания. Но стихи брали за душу своей безыскусственностью, естественностью, народностью интонаций.
Запылала июльская просинь, Закачалась река в берегах, Золотые певучие косы Зазвенели в тяжелых руках. Ой, цветы-первоцветы густые, Вам теперь головы не сносить! Хорошо, что в ракетной Россия И вручную умеют косить.Дальше следовали стихи о трудном военном и послевоенном детстве, о не вернувшемся с войны отце и, естественно, о любви, о природе. Чем глубже я вчитывался в первую рукопись поэта, тем меньше замечал и шероховатость, и отдельные заёмные образы. Мне казалось, вопреки оговоркам рецензентов, книга готова к набору, и моя редакторская забота состояла теперь лишь в технической подготовке к сдаче ее в производственный отдел.
Посему с автором я работал минут двадцать — не более: претензий у меня к нему не было, были лишь советы по мелочам.
В конце я сказал Гребневу:
— Мы тут посоветовались и решили просить Дмитрия Михайловича Ковалева написать к твоему сборнику предисловие.
Анатолий испуганно вскочил с кресла.
— Да ведь он очень занят: семинарские дела, свои стихи, переводы, поездки с писательскими бригадами — до меня ли ему?
— Попробуем. Откажет — откажет. Но вдруг и согласится… А от авторитетного предисловия ни одна книжка еще не проигрывала.
На другой день мы отправили рукопись и письмо Дмитрию Михайловичу. Просили не только написать предисловие, но и написать быстро — за полмесяца, желательно, не позднее 25 декабря, поскольку до первого января рукопись должна быть сдана в производство.
Срок давался малый, что и говорить. Не всякий даже очень спорый и незанятый человек согласится принять такое условие. Расчет был на то, что с творчеством Гребнева Дмитрий Михайлович прекрасно знаком и ему не нужно скрупулезно читать рукопись.
Письмо-просьбу отправили, и я, редактор, стал ждать.
Проходит день, другой. Волнение (напишет — не напишет?) усиливалось. Ковалев ведь знал стихи своего ученика по разрозненным подборкам (творческим работам), а тут речь идет о книге. Выстроилась ли она, получилась, скроенная из этих подборок? А что, если скажет: сборника пока нет? Вот и окажем мы Гребневу медвежью услугу.
На третий день мое терпение лопнуло, и я набрал Москву. Дай, думаю, настрою Дмитрия Михайловича на соответствующий лад.
Трубку долго не снимали. Затем услышал женский голос.
— Антонина Андреевна?
— Я.
— Извините, из Перми вас беспокоят. — Дальше следовали дежурные слова: что нового, как здоровье и т. д. — Дмитрия Михайловича можно к телефону пригласить?
Разговорчивая Антонина Андреевна почему-то замолчала. Я слышал, как она шумно вздохнула.
— Нету его дома…
— Где же он?
— Уже три недели в больнице. — Снова пауза. — Боюсь я за него. Никогда такого не было.
У меня перехватило дыхание: что же делать?
— Печально, Антонина Андреевна, — будто освобождаясь от удавки, медленно произнес я. — Мы там от издательства ему письмо направили с одной просьбой, так вы уж его придержите, не беспокойте Дмитрия Михайловича.
— А что за просьба?
— Предисловие написать… К сборнику Гребнева…
— Да, пожалуй, он не сможет. На всякий случай я ему скажу.
— Не надо, не надо! Вот выздоровеет — тогда.
С тяжелым чувством безнадежности опустил я трубку. Назавтра доложил начальству о сложившейся ситуации, и начальство развело руками: что поделаешь, раз так вышло?
А дней через десять я получаю толстый конверт, подписанный знакомым размашистым почерком — на сей раз только менее разборчивым. У меня замерло сердце: «Написал!»
Я вскрыл письмо и извлек пачку листов из нелинованной общей тетради. Писал Дмитрий Михайлович на обеих сторонах, писал неровно, по всей видимости, лежа. «Извините, — обращался он ко мне, — что посылаю предисловие неперепечатанным — негде это сделать и не в силах. К тому же торопился успеть к обозначенному сроку — сам в прошлом издатель, отлично знаю все издательско-типографские тонкости. Конечно, я мог бы и отказаться, сославшись на недуг. Но ведь вы — дети погибших отцов, и кто вам обязан помогать, кроме нас, оставшихся в живых?»
Через час я вычитывал с машинки предисловие, озаглавленное «Стихи, которым доверяешь».
Чем больше он имел учеников — а среди них были не только выпускники Литинститута, но и участники многих областных и зональных совещаний молодых литераторов, в которых принимал участие Дмитрий Михайлович, — тем чаще получал он дарственные книги. Я был однажды свидетелем того, как почтальон принес ему четыре бандероли с поэтическими сборниками. Конечно, такое случалось не каждый день, но часто, и это доставляло ему несказанно-неожиданную радость. Радость учителя, воочию видящего плоды своего труда.
Каждую книгу он успевал прочитывать (это при ежедневной сверхзанятости). Успевал прочитывать, успевал отвечать — добрым отзывом, советом, а то и укором, если книга не приносила ему удовлетворения.
То ли не спал он совсем, то ли сутки у него были длиннее.
…А я не всегда прочитываю даже книги друзей.
С болью Ковалев сетовал на некоторых критиков:
— У нас в ходу нынче всяческие «обоймы». Вот и «обойму» военных поэтов изготовили — пять-шесть имен. Тасуют их, как карты, — то в одной статье, то в другой. Может создаться впечатление, что на фронте были только эти пять-шесть человек. В военную ж антологию критикам, похоже, и заглянуть лень. А ведь в ней представлено столько самобытных имен! И героических…
Он, очевидец долгой тяжелой войны, имел право на такую обиду.
Часто Дмитрий Михайлович вспоминал друзей-краснофлотцев. Многих из них навсегда поглотили воды Баренцева моря. Он говорил о товарищах, еле сдерживая боль, а писал — не сдерживая ее:
…От всей заставы Пятеро осталось. И не сознанье подвига — Вина. В глазах — Тысячелетняя усталость. А Только-только Началась война.На войне у него погибли два брата. Об этом я узнал из его стихов. В разговорах же умалчивал про свое горе, возможно, опасаясь одного: у кого-то оно могло быть еще большим.
Ковалев писал о горе от имени всех:
Война не понаслышке нам знакома. Мы собственную землю брали с боя. У нас нет улицы И даже дома, Где б не было вдовы Или героя. Не меньше, чем колосьев в рясном жите, Детей у нас и юношей в расцвете. Кому же, как не нам, желать, скажите, Взаимной доброй жизни на планете? Сады с непозабытым белым маем. Хлеба дремучие до небосвода… Кто-кто, А мы всем сердцем понимаем, Как нам нужна хорошая погода!Послал ему только что вышедшую у нас в Перми сувенирную малоформатную книгу «Весна Победы». Были в ней и стихи Дмитрия Михайловича.
Вскоре получил от него письмо:
«Большое спасибо за прелестное издание, за книжечку, вышедшую к 30-летию Победы! Молодцы вы, пермские издатели, ей-богу!..
На дни моего 60-летия собираюсь уехать из Москвы в Сибирь, чтобы не быть самому на своей старости, на ее пороге. Каждый день тут у нас похороны, прямо как на войне. Вчера похоронили Владимира Котова (умер от инфаркта). Мне он давно не звонил, а тут как раз в день смерти позвонил, сказал добрые слова о моей заметке о Шолохове, спросил, читал ли я о нем статью, там же, в пятом номере „Молодой гвардии“.
А сегодня хороним нашего заведующего кафедрой советской литературы Виктора Панкова. Тоже внезапная смерть от инфаркта. Котову — 47 лет, а Панкову, кажется, — 55. Куваев, Шукшин, Елкин — кругом смерти. Это я еще зажился, несмотря на военное прошлое, на нелегкое детство и прочее.
Летом собираюсь в Белоруссию и Болгарию — в июле и августе. Отдохнуть бы немного, а тут переводы стихов и прозы на шее, а о своем опять подумать некогда.
Мои приветы — Толе Гребневу и Алексею Решетову (о нем я написал рецензушку в „Новом мире“).
Обнимаю — Дм. Ковалев».Он гордился, что не без его участия был открыт поэт-фронтовик из Перми Константин Мамонтов, но тщательно скрывал это участие.
А дело было так.
В шестьдесят третьем году в издательстве «Молодая гвардия» выходил сборник стихов поэтов, погибших в Великой Отечественной войне, — «Имена на поверке». Узнав об этом, составителю — а им был Дмитрий Михайлович — редакция одной центральной газеты передала тетрадь со стихами погибшего солдата (ее подобрали на поле боя, а после прислали в редакцию фронтовые друзья поэта). Стихи Ковалеву понравились (простые, чистые и честные), и он рекомендовал их к изданию.
Книга благополучно вышла, получила прекрасные отзывы. Но самым радостным было то, что автор, Константин Мамонтов, остался жив, все послевоенное время, работал машинистом паровоза. В том бою он был тяжело ранен, утерял тетрадь, впоследствии считал ее навсегда пропавшей.
Публикация вдохновила Мамонтова, он, что называется, «расписался», и вскоре в Перми был издан его первый отдельный сборник, куда вошли и стихи из московской публикации. Он стал лауреатом премии ЦК ВЛКСМ имени Николая Островского, местная писательская организация единодушно приняла его в члены СП.
А вот на заседании приемной комиссии при Союзе писателей РСФСР, рассказывал Дмитрий Михайлович, дело осложнилось. «Нельзя принимать в Союз писателей по этой тоненькой книжке», — возразил один рецензент. Другой его поддержал: «К тому же автор далеко не молод, вряд ли издаст вторую».
— И тут я не выдержал, взъярился, — вспоминал потом эту баталию Ковалев. — С каких пор мы стали измерять качество литературы количеством? В этой книге всё — жизнь, в ней — судьба человека и поколения. Послушайте:
Забыть нельзя разорванное небо, Друзей своих — могильные холмы И каравай простреленного хлеба В хозяйственных ладонях старшины…Или вот это:
Не вечно быть войне. Солдаты Чехлом закроют пушкам рты. А кровь и смерть — в скупые даты, На пожелтевшие листы… И пусть сотрется пыль походов, Изгладит память пыль свинца, Но никогда солдатам годы Не разминируют сердца.Так высоко и просто сказать может только поэт. Пусть стихи его не всегда до блеска отшлифованы, но в них есть то главное, без чего любая гладкопись мертва. В них есть душа… Члены приемной комиссии, не знакомые с книжкой, просили меня читать еще и еще, и я читал, не уставая. Разве можно устать от настоящих стихов? К тому же я видел светящиеся от удивления глаза товарищей. Ведь подлинная поэзия — всегда удивление. А тут мы имели дело с таковой.
Мамонтова приняли в Союз писателей. Были у него впоследствии и новые книги.
Дмитрий Михайлович в своем «подзащитном» не ошибся.
До сих пор в моих ушах стоит пронзительное, непрерывное дребезжание звонка среди глубокой ночи.
Я вскочил с кровати, как ошпаренный. Растерянно ища тапочки, повторял: «Слышу, слышу, минуточку», — но там, за дверью (я, естественно, не ведал, кто там был), не отпускали кнопку, и звонок продолжал визжать, как живой, громче обычного, будто хотел освободиться от удерживающих его шурупов.
Я поспешно открыл дверь и увидел средних лет женщину; рука ее по-прежнему давила на кнопку.
— Извините, вам телеграмма. — Протянула бумажку и тоненькую шариковую ручку. — Распишитесь. — Я взял бумажку, чтобы расписаться в ней, и никак не мог найти нужную строчку.
Женщина ткнула пальцем в синюю галочку:
— Вот здесь. Пишите: «Два часа тридцать минут…» Число — шестое марта. Вот здесь подпись.
Руки мои дрожали, я кое-как исполнил требуемое; сердце предчувствовало недоброе — поздравительные и прочие рядовые телеграммы среди ночи не доставляют.
Не закрывая двери, прочел телеграмму:
«Умер Дмитрий Михайлович, похороны десятого…»
За месяц до случившегося я был в Москве, знал, что с декабря он лежит в больнице, и хотел проведать его. Но к Дмитрию Михайловичу посторонних уже не допускали.
В семьдесят первом году он — после семи операций! — выкарабкался из больницы. Снова писал, вел семинар в Литературном институте, заседал в редколлегии журнала «Наш современник» и в приемной комиссии Союза писателей РСФСР, как ни в чем не бывало колесил по стране в составе различных писательских бригад, писал стихи, рецензии, предисловия, переводил.
Еще шесть лет побеждал свою болезнь — диабет.
Думалось, что победит ее Дмитрий Михайлович и на этот раз…
И вот — страшная телеграмма.
Во сколько квартир его друзей, товарищей, учеников ворвалась эта весть! Скольких заставила вздрогнуть, в бессилии опустить голову.
Из прощального слова лауреата Ленинской премии поэта Егора Исаева:
«Дмитрий Михайлович Ковалев… Фронтовик-подводник. Большой русский поэт, пришедший к нам из Белоруссии… Как он любил родную землю — Центральную Россию и Белоруссию! Любил ее во все времена года. Любил дивную, бушующую в цветах и соловьях, любил туманную, серую — в низких облаках и секучих дождичках; любил белую — сугробную, вьюжную… всякую любил. Любил жителей ее и тружеников. Любил самозабвенно, мудро — от раннего тепла до позднего, от первого до последнего. Любил. И эта любовь, как сама жизнь, от всего сердца сказалась в его стихах, в его книгах — удивительных и неповторимых…»




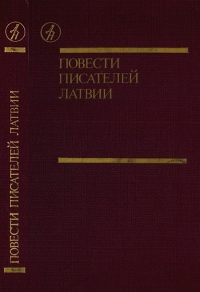
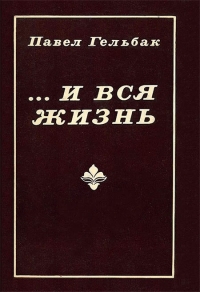
Комментарии к книге «Уроки», Иван Захарович Лепин
Всего 0 комментариев