Мухина-Петринская Валентина Михайловна На Вечном Пороге
1
Это произошло два года назад. Я тогда работал в мостоотряде номер восемь. Мы строили мост через Волгу. В обеденный перерыв мне вручили заказное письмо. Я посмотрел штемпель: Красноярский край. Отродясь у меня там не было ни одного знакомого. И вот мне писали с гидростроя: поселок Вечный Порог!.. Когда я прочел письмо, у меня зарябило в глазах. Перерыв кончился, но я работать не мог, так тряслись руки. Наш мастер, Иван Матвеич, сразу это заметил и подошел ко мне.
— Ты что, Мишка, не заболел ненароком? Поди, тоже в Волге купался? Сколько вам говорить… только лед прошел, а они…
— Нет, — говорю, — не купался и не заболел, а вот письмо получил…
Я не долго думая дал ему прочесть это письмо. У него даже лысина вспотела и на носу капельки пота выступили. Он же знал, что я круглый сирота, детдомовец.
— И ты не догадывался, что у тебя есть отец?
— Откуда же? Мне никто ведь не говорил…
— Много она на себя взяла, как я понимаю… — медленно произнес он.
— Кто она?
— Ваша заведующая детдомом… Вот что, парень, иди переоденься и прямиком в детдом. Хоть отругай ее! Ну и человек!
Я поблагодарил мастера и, передав ему сварочный аппарат, пошел в общежитие переодеваться.
— Ты напишешь ему? — крикнул Иван Матвеич мне вдогонку, но я сделал вид, что не расслышал. Какая тут может быть переписка!.. Я уже знал, что уеду.
Вам, наверно, интересно узнать, что это за письмо? Вот оно, переписываю его целиком:
"Дорогой Миша!
Тебе пишет начальник гидростроя на Ыйдыге Сергей Николаевич Сперанский.
Не могу не вмешаться в твои отношения с отцом и не сказать тебе, что я думаю по этому поводу: ты не прав.
Твой отец Михаил Харитонович Нестеров — очень хороший человек, хотя и совершил когда-то преступление. Четыре года он был на фронте, участвовал в обороне Севастополя, был несколько раз ранен, попадал в плен, но каким-то чудом удалось ему с товарищами бежать. Он видел Освенцим… Он знал, что такое гитлеровский офицер.
Не оправдывая его, скажу лишь, что за годы заключения он искупил свою вину… Так говорится — искупил вину.
Теперь Михаил Харитонович работает на гидрострое бригадиром плотничьей бригады. Он выучил десятки плотников. У него есть награды. Все его у нас уважают.
Пожалуй, никто его не знает так, как знаю я. Мы не раз вместе охотились на соболя. Ходили и на медведя. Ночевали в тайге у костра, и Михаил Харитонович рассказал мне про свою жизнь. Трудная судьба! Легче всего обвинить, а человека надо понять.
Он очень тяжело пережил твой отказ переписываться с ним. Это его тайное горе… Сильно оно его подкосило.
Напиши отцу, ты один у него на свете родной человек. Он достаточно наказан. Не без конца же казнить человека.
А всего лучше — приезжай к нам на гидрострой. Электросварщики нам очень нужны. Вообще людей не хватает, а строительство гигантское.
Напиши мне. Хотелось бы узнать, что ты за человек? Если решишься приехать, телеграфируй на мое имя, вышлем денег на дорогу, путь далекий.
Всего доброго! С. Н. Сперанский".
Вот это письмо! Сразу видно, что писал его добрый, душевный, справедливый человек! Впрочем, я это понял потом, когда раз десять перечитал письмо. Сначала я был потрясен лишь одним фактом, что у меня есть отец. Только круглый сирота, выросший в детдоме, может понять, как я был оглушен этим известием.
А мать? Жива ли мама? Может, и она жива? Вряд ли… Начальник гидростроя упомянул бы об этом. Мать и не оставила бы меня в детдоме.
Я наскоро переоделся в пустом в этот час общежитии, умылся и пошел в детдом. От Волги улица круто подымалась в гору, и я на минуту приостановился взглянуть на наш мост.
Разорванные звенья недостроенного моста рельефно выделялись на голубой воде, отражающей светлое весеннее небо. Белые кучевые облака, огромные и пышные — воздушные замки — то открывали, то закрывали солнце, и металлические фермы то темнели, то светлели. В каждой этой ферме и мой труд — электросварщика! Мне нравилась эта работа, просто с удовольствием я ее выполнял и никогда бы в жизни не сменялся, например, с бухгалтером. Радовало сознание, что мост воздвигается на века, что рядом столько интересных людей.
Хорошо, что вокруг простор, солнце, высота — облака проплывают совсем близко. Кажется, подпрыгни — и достанешь.
Это был первый мост в моей жизни, и я его любил.
Но я его не дострою. У меня есть отец, и я поеду к нему. Меньше всего меня смущало., что отец был в заключении.
2
Давно-давно не был я в нашем детдоме… с тех пор, как меня выписали. Некоторые бывшие воспитанники, теперь студенты или рабочие, посещали его иногда по воскресеньям. Но я не мог. Слишком тягостным было воспоминание. Если бы он не был, наш детский дом, таким уж образцово-показательным! Но он будет таким, пока там заведующая Пелагея Спиридоновна.
Так же слонялись по тщательно выметенному двору — ни травинки в неположенном месте — ребята, упитанные и вялые, удивительно похожие друг на друга. Еще не уехали на дачу. Я знал, что в лесу они будут иными, в каждом проявится свое.
Так же пахло карболкой из уборных. Та же стерильная чистота в дортуарах. Так же одинаково, по казенной форме, застланы койки. И до отбоя не разрешается лежать. Читать можно только сидя и в классной комнате, где учат уроки: наверно, легче проследить, кто что читает.
Вот было происшествие, когда застали меня в сарае с книгой Коллинза: "Бедная мисс Финч", издания 1874 года! Я вымолил эту книгу у одной девочки в школе. У ее родителей — целая библиотека. Там было много интереснейших книг, которых в городской библиотеке не достанешь: рассказы Грина, Полное собрание сочинений Брет-Гарта и Стивенсона, старые, двадцатых годов, журналы "Всемирный следопыт" и "Мир приключений", еще дореволюционные издания "Вокруг света". Пелагея Спиридоновна расценила "Бедную мисс Финч" как прямое посягательство на мою идеологию и немедленно конфисковала злополучную книгу.
…Пелагея Спиридоновна была у себя в кабинете. Когда я вошел, она говорила по телефону — резкий, пронзительный, властный голос. Я остановился в дверях и молча смотрел на нее. Она нахмурилась, как всегда при виде меня, и закончила разговор.
— Михаил Нестеров? Садись! — приказала она, указывая на стул.
Я сел, и некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Нисколько она не изменилась, наша заведующая: ни одной морщинки, ясный лоб человека, уверенного в своей правоте, выпуклые голубые, словно фарфоровые, глаза, бесцветные брови и ресницы, льняные волосы причесаны волосок к волоску и скручены на макушке жидким узлом. На ней синий костюм (до сих пор подкладывает вату на плечи, хотя так давно никто не носит), туфли на микропоре. И кабинет такой же, когда приводили меня к ней для выговора, только занавески обновили да повесили фотографию образцово-показательного детдома.
Даже теперь мне стало душно и захотелось выбить окно и распахнуть дверь — сквозняк устроить.
— Как это ты надумал навестить нас? — спросила она сухо.
— Какое вы имели право скрыть письмо моего отца? — спросил я каким-то не своим голосом.
Она смотрела на меня внимательно и строго, будто собиралась сделать выговор, однако на ее выдающихся скулах выступил неровный кирпичный румянец.
— И какое вы имели право ответить за меня? — И я повторил слова мастера: — Много вы на себя взяли!
— Может быть, много на себя взяла! — неожиданно согласилась она. — Я решила сказать все, когда тебе исполнится восемнадцать лет… Через два месяца бы сказала.
— Но почему?
— Давай побеседуем. Ты уже взрослый… Нельзя! Нельзя! Я занята! раздраженно крикнула она девчонке, которая сунулась в дверь. — Постарайся понять меня, Нестеров. Я отвечала за твое воспитание перед…
— Гороно, знаю, но при чем…
— …народом. Ты был всегда слишком неустойчив в моральном отношении… вообще трудный ученик. Мы не сумели… или не успели закончить твое воспитание, когда выпустили тебя из этих стен. Мы устроили тебя в ремесленное училище… На этом я могла бы о тебе забыть. Однако я до сих пор интересуюсь твоей судьбой. Я считаю, что ты еще должен воспитываться в коллективе, и отец, преступник, свел бы это воспитание на нет. Вот почему я посоветовала ему подождать с перепиской.
— Но вы ответили за меня… будто я не хочу знать своего отца!
— Нет. Этого я не писала. Но твой отец почему-то решил, что ты не хочешь иметь с ним ничего общего.
— Вы нечестно поступили с ним и со мной! Но вы этого даже и не понимаете, — сказал я, сдерживая ярость. — Кстати, в чем вы видите мою моральную неустойчивость?
— Ты всегда чуждался коллектива.
— Какая ерунда!
— Но ты всегда упорно уединялся…
— Просто я любил читать, а мне мешали.
— А потом, помнишь… насчет отдельной комнаты?
— Ну и что?
Конечно, я помнил эту историю. В школе нам дали сочинение на тему "Моя мечта". Кто написал, что мечтает стать космонавтом, кто — капитаном или летчиком. Только одна девочка написала, что она хочет стать зубным врачом, да мой друг Пашка хотел стать лесником (и стал им). Я ни за что не признался бы в своей мечте. Профессию я тогда еще себе не выбрал — сам не знал, кем мне хочется быть. Но, сколько я себя помню, у меня было только одно желание, одна мечта: чтоб вдруг нашелся мой отец! С этой мыслью я просыпался, с нею засыпал, потому так был рассеян на уроках. Сколько раз я представлял себе этот потрясающий момент. Вдруг меня вызывают: Нестеров, иди — приехал твой отец! И я бегу стремглав по лестнице…
Разве я мог писать о самом дорогом в школьном сочинении? К тому же я был зол, устал от казарменной обстановки.
Взял да и написал, что мечтаю иметь отдельную комнату, которую я бы обставил, как хотел, и не пустил бы на порог, кто мне не по душе.
Преподавательница русского языка пришла в ужас от такой убогой мечты, позвонила Пелагее Спиридоновне, та восприняла это как укор своей воспитательной системе, и… в общем, была целая конференция по поводу моего индивидуализма. Выступали больше девчонки и все сравнивали меня с каким-то англичанином, который сказал: "мой дом — моя крепость".
Долго мне припоминали эту мою отдельную комнату. Как видите, не забыли и до сих пор. Странно! Та же Пелагея Спиридоновна весьма настойчиво хлопотала об отдельной секции. Хорошо помню, как она сияла и как все ее поздравляли, когда она наконец приехала в эту самую секцию.
И вот из-за этой истории Пелагея Спиридоновна сочла меня «неустойчивым» и не рискнула передать письмо отца, освободившегося из заключения.
— За что он сидел? — спросил я угрюмо.
Пелагея Спиридоновна, долго щурясь, смотрела на меня, видимо, колебалась…
— Твой отец был судим за убийство… — произнесла она как-то неуверенно и отвела глаза от моего лица. Я понял, что она сказала не все, но это было уже неважно.
Я долго молчал.
— Выпей воды, Нестеров! — почти мягко посоветовала она и сама налила воды из графина. Мне послышалась в ее тоне торжествующая нотка. Не то чтобы заведующая злорадствовала, но как будто хотела сказать: "Ты видишь теперь, я была права!"
— И все-таки вы не имели права решать за меня! — зло выкрикнул я, жестом отстраняя стакан с водой. Пот заливал мне глаза, и я вытер его ладонью. — Где письмо моего отца?
Поджав губы, она полезла в стол и сразу достала пачку писем.
— Мы переписывались, — пояснила она неохотно. — Я сообщала о твоих успехах на работе. Можешь взять эти письма. И… можешь обжаловать мои действия!
Пелагея Спиридоновна подробно растолковала, куда я могу на нее жаловаться. Я только махнул рукой и старательно спрятал в карман письма. Руки мои дрожали.
— Нестеров, — начала она с непохожей на нее нерешительностью, — объясни мне, почему ты так меня ненавидел? Ты не будешь отрицать…
— Вы хотите знать?
— Да.
— Хорошо, я скажу, прежде чем уйти навсегда. Когда я был маленьким, я не любил вас за то, что боялся вас — вы всегда были сухой, педантичной. Все ребята считали вас злой и боялись…
— Я… злая? Я была строгой ради вашего блага.
— Когда я подрос и стал размышлять… я стал вас ненавидеть.
— За что?
— За то, что вы хотели сделать нас всех одинаковыми. Изо дня в день вы употребляли всю вашу энергию, силу воли и власть на то, чтобы сделать детей, вверенных вам, копиями друг друга. Копиями выдуманного вами некоего хорошего мальчика. Вы хотели нас отштамповать! Это было очень страшно, и я противился изо всех сил и, сколько мог, учил других ребят противиться этому.
— Ты ненормален, Нестеров. Советую тебе обратиться к врачу.
— Раз не похож на вас, значит, какая-то ненормальность, да? Таких воспитателей, как вы, на километр не надо бы допускать к детям. Вы же считаете, что коммунизм — это общество, где все будут одинаково мыслить, одинаково поступать. Так оболгать коммунизм! Нет, Пелагея Спиридоновна, коммунизм — это общество, где один будет не похож на другого. Расцвет индивидуальности человека. Никто не будет бояться поступать, как он хочет…
— …вплоть до убийства?
Я игнорировал ее подлый выпад и закончил пылко, но не особенно умно:
— А таких, как вы, сошлют на какой-нибудь остров, и там воспитывайте друг друга — ханжи, догматики, бюрократы! Библиотек у вас не будет, вы же в глубине души не любите писателей. Вам будут посылать только газеты, чтобы вы знали, какого мнения держаться на данном этапе…
Повторяю, моя заключительная тирада была просто глупой, слишком уж я разошелся, но она окончательно взбесила Пелагею Спиридоновну. Она побагровела и, вскочив со стула, грозно указала на дверь:
— Вон отсюда!
Я раскланялся и ушел, по-мальчишески довольный, что взбесил ее.
Ехал я в цельнометаллическом вагоне. Никогда не представлял, что Сибирь такая огромная: день за днем мчался скорый поезд, а Сибири не было конца и края.
Попутчики были хорошие люди, сибиряки, только одна бабка очень надоедала: кто родители, да где жил, где учился. А как сказал, что детдомовский, так она сразу стала запирать чемодан. Наверное, думает, что все детдомовские жулики и воры.
Мне все хотелось подумать, а попутчики, как назло, собрались на диво словоохотливые. Хорошо, хоть спать рано ложились: в десять часов вечера все в вагоне уже спали. Только в радио что-то хрипело, а в одиннадцать и радио выключали.
Вагон бросало и качало, колеса стучали, тонкие перегородки дрожали, за окном стремительно проносились столбы, кружилась темная тайга, а я лежал на верхней полке и думал, думал…
Было о чем поразмыслить!.. Ведь я ехал к отцу, которого никогда не видел. То есть видел его, когда я был ребенком, но ничего не помнил. Может, мой отец и не преступник совсем, а убил нечаянно. В драке, например. Выпил и подрался. Он же не профессор какой-нибудь. Вполне мог выпить на празднике, подраться спьяна и, не рассчитав удара, убить человека.
Начальник гидростроя пишет, что моего отца там все уважают. Кто бы стал уважать настоящего преступника? Значит, нечаянно. Случилась беда.
Я никак не мог представить своего отца… Какой он из себя? Похож ли я на него? Я парень высокий, широкоплечий, глаза серые, волосы русые, а он? Что он за человек? Его тоже зовут Михаил Нестеров… Ведь я Михаил Михайлович. Два Михаила Нестерова — он и я… как странно. Он дал мне жизнь, но воспитали меня другие. Что во мне от него? Что от тех коллективов, в которых я был? И что во мне — мое, которое я сам в себе воспитал?
"Хотелось бы знать, что ты за человек", — писал Сперанский. А я и сам еще не знал, что я за человек. Товарищи всегда меня любили, начальство по работе выделяло. В мостоотряде многие были даже огорчены, что я уезжаю. Особенно добрый старик Иван Матвеич. У него сын погиб на фронте, в моем возрасте, и он ко мне искренне привязался. Я к нему тоже! Но учителя меня не очень любили… Мне кажется, они считали меня сложнее, чем я был на самом деле, и, не поняв, недолюбливали, хотя я не был озорным, никогда не нарушал дисциплины, аккуратно готовил уроки.
Впервые я почувствовал себя хорошо в мостоотряде. Я бы никогда не ушел из нашего мостоотряда, но неожиданно сбылась старая, почти безнадежная мечта.
"Дорогой Миша, сынок!" Так начиналось первое письмо моего отца, я перечитывал его много раз.
"Дорогой Миша, сынок! Ты, конечно, меня не помнишь, потому что был дитем, когда я поднял тебя на руки, чтоб проститься надолго. Но я — твой отец. Я отбыл заключение в лагере и теперь работаю на гидрострое плотником. Мы только еще закладываем котлован. Здесь будет самая высокая в мире плотина. Ыйдыга — порожистая и бешеная река, но все пороги будут затоплены, и река станет судоходной. Мы с одним пареньком прошли через пороги на плоту, сами же его себе и сбили. Лесу сколько угодно. В свободное от работы время я строю себе дом. Начальник обещал достать листового железа на кровлю. Так что я могу взять тебя к себе, если ты, конечно, захочешь.
Думаю, ты не откажешься от меня, хотя преступление я совершил, от этого не отказываюсь. Лучше бы, конечно, я этого не делал: осиротил тебя.
Мал ты сейчас, Мишенька, и меня не поймешь. Об одном моя думка, мечта моя: как я все тебе расскажу уже взрослому и ты сам рассудишь.
Была и такая у меня мысль: никогда не объявляться, чтоб жилось тебе проще и легче. А потом решил так: пусть ты все узнаешь. Ты один у меня родной человек — сын мой, кровь моя.
Жениться я больше не буду. Хорошая женщина теперь за меня не пойдет, а от плохих лучше подальше быть. Может, еще доведется понянчить внуков.
Мог бы обучить тебя плотницкому делу — я плотник неплохой. Ходили бы с тобой на охоту, сынок. Жду от тебя весточки.
Начальник сказал, можно и телефонный разговор устроить. Все обговорим. Целую тебя крепко. Твой отец.
Михаил Нестеров".
Я не раз всхлипнул над этим письмом. Остальные письма, которые он уже писал заведующей детдомом, были короткие — две-три строчки. Приведу только первое:
"Уважаемая товарищ Соснина! Очень убило меня Ваше письмо. Как я понял, Миша не хочет меня знать, а Вы по доброте своей умолчали об этом. Ну что ж, поделом вору и мука! Прошу Вас, как человека, хоть раз в год пришлите мне весточку о сыне: как он, где учится или работает.
Заранее премного благодарен. М. Нестеров".
Ну как он мог подумать, что я не хочу его знать? Да будь он хоть вор, я бы все равно от него не отказался! От своего отца! Он этого боялся, потому сразу так и решил.
Вот так я ночью думал, злился, вспоминал, сожалел, мечтал и крутился с боку на бок. Спал больше днем, под разговоры соседей по купе. Раза два просыпался с криком. Мучили кошмары. Кто-то меня преследовал, хотел убить.
От Красноярска я летел самолетом. Горизонт раздвинулся невообразимо. Колыхалась от ветра тайга, будто волны по ней ходили — зеленый и серый океан. Совсем мало было внизу деревень — так, кое-где по берегам рек.
После самолета я ехал двое суток пароходом-до порогов, потом автобусом вдоль белой от пены реки, затем на грузовой машине по плохой дороге через дремучую тайгу до какого-то райцентра. А там я пересел на другой грузовик, на борту которого было выведено кистью: «Гидрострой». Наконец-то! А то уже стало казаться, что я никогда не доеду, так и буду вечно ехать.
Шофер был какой-то взбалмошный. Румяный, смазливый, картинный парень с совершенно сумасшедшими ярко-зелеными глазами. Когда я подошел, он на кого-то орал, ругался за какую-то задержку. Сначала он вообще не хотел меня брать, но, узнав, что я еду на самый гидрострой, велел лезть в кузов. Я пристроился на бочках рядом с двумя бойкими, глазастыми женщинами в телогрейках и платках. Впрочем, они тотчас же сняли телогрейки, подложив их под себя. В кузове на бочках разместилось несколько парней, постарше меня, очень загорелых и веселых. Они перекидывались с женщинами шуточками, подтрунивали друг над другом и умирали со смеху. Дорога была плохая, и, когда нас особенно встряхивало, парни ругались, но потом опять начинали смеяться. Весельчаки оказались монтажниками из гидростроя, а женщины работали бетонщицами.
В кабину с собой шофер посадил длинноногого унылого мужчину, которого называли «князь» (!). А самого шофера пассажиры величали… «королем». Было от чего обалдеть.
Заметив мое недоумение, женщины разъяснили мне, что имя водителя Зиновий Гусач, а прозвали его королем трассы, потому что он лучший водитель по всей Ыйдыге. Что же касается Князя, то он не был лучшим, а наоборот, лодырем, картежником и вруном, а титул был его воровской кличкой, так как он бывший вор. Но он накрепко «завязал», решив, что лучше работать за длинные рубли, чем за пайку. Работать, правда, он не очень любил и все менял специальности, ища, где полегче. Год назад он выпросил у начальника гидростроя Сперанского место кладовщика и как будто доволен — относительно, конечно. Князь дал честное слово, что, если его будет «поманывать», он предупредит начальника и тот его переведет на другое место.
— И начальник ему поверил? — удивился я.
— Поверил.
Бетонщицы мне понравились. Я уже знал, как тяжел их труд и как нелегко сохранить жизнелюбие и незлобивость. Отмахиваясь от задиравших их парней, они рассказали мне о себе. Обе — с Каспия, завербованные, одну звали Анна Кузьминична, другую — Нюрка. Обе одинокие, то есть незамужние. Теперь я их знаю уже два года, но так и не понял, почему одна Анна, да еще Кузьминична, а другая Нюрка. Обе одних лет, работают в одной бригаде, живут в одном общежитии. Загадка!
Они стали расспрашивать меня: кто, откуда, куда и зачем. Я сказал, что еду к отцу. Они сразу заинтересовались — кто отец? Они были с гидростроя и, наверное, знали отца. С замиранием сердца я сказал:
— Плотник он… Михаил Харитонович Нестеров.
У парней улыбки как водой смыло. Все сразу замолчали и уставились на меня во все глаза. Нюрка даже побледнела. Анна Кузьминична, всплеснув руками, стала изо всех сил тарабанить в оконце кабины. Король остановил машину и обернулся:
— Тебе чего, в кусты, что ли, понадобилось?
— Знаешь, кого везешь? — крикнула Анна Кузьминична. — Сын Михаила Харитоновича!!!
Шофер выскочил из кабины и тоже уставился на меня. Все так на меня смотрели, что я сконфузился и повесил голову. Конечно, хорош сын, который столько лет не хотел знать отца. Они же не могли знать, как было на самом деле.
Первым опомнился Гусач. Он приказал Князю лезть в кузов, а мне пересаживаться в кабину. Я было запротестовал, но женщины стали меня уговаривать, как больного: "Иди, Мишенька, иди!" Нюрка даже по голове меня погладила. Пришлось зачем-то пересесть в кабину. Там не так трясло и подкидывало, но я разозлился и молчал. Зиновий Гусач тоже вначале будто лишился языка. Он яростно вертел баранку, искоса поглядывал на меня зеленым глазом. Лицо его посуровело, желваки даже ходили.
Солнце тем временем зашло, но почти не стемнело — здесь стояли белые ночи. Только тайга окуталась сумерками, и на дорогу повеяло сыростью и прелью, да сильнее запахло хвоей.
Дорога летела по сопкам, по горам, иногда в неярком, как бы притушенном пучке света от фар перебегали дорогу какие-то мохнатые зверьки.
— Есть не хочешь? — спросил Зиновий.
— Спасибо, не хочу.
Он засопел и первый раз прямо взглянул мне в лицо. Почувствовав в нем друга, я заговорил. Желание оправдаться заставило меня рассказать про Пелагею Спиридоновну, про то, как мне не передали письмо.
— Самое простое дело! Из заключения вот тоже ребятам не передают письма, чтоб разговоров лишних не было. А заведующая детдомом напишет матери: не надо травмировать детскую душу. А то не поймет, какая радость ребенку письмо отца. Видел я…
Мне отчаянно хотелось спросить про отца, но я почему-то не решался и успокаивал себя: через несколько часов его увижу.
— Мне Михаил Харитонович вроде как отец родной, — заговорил снова Зиновий. — Сам-то я с Рязанщины. Родина Есенина, знаешь? Так я с соседнего села. Отца не помню, он на фронте погиб, а отчим был хороший, не обижал. Я еще юнцом был, когда случилась со мной беда: попал я в плохую компанию. Ну, лестно дураку, что взрослые парни приняли меня в свое общество. Потом разобрался, что к чему, да уже поздно было. Дело обыкновенное. Я уже кое-что про них знал, отпускать меня невыгодно. Но и толку от меня им не было: на плохие дела я оказался неспособен категорически.
А тут как раз попадись они на одном деле: ограбление сельмага. Начали они меня приплетать, будто и я с ними.
Отец с матерью мне поверили, а больше никто. Соседи показали, что я из их компании. Так попал я в колонию. Вдруг этап на Север… и меня с тем этапом. Там я сразу поставил себя так, что никому и невдомек, по какой я статье попал туда. Вдруг ворье узнало, что и я по 162-й. Возмутились ужасно, будто я им оскорбление нанес. Стали меня чуть не каждый день бить. Плохо мне было. Вижу, если с ними не поладить, забьют. И вот, знаешь, напала на меня тоска. Такая, что хоть в петлю. Конец мне пришел, да и только!..
И тут вдруг помог мне добрый и сильный человек — бригадир плотничьей бригады. Да — Михаил Харитонович Нестеров! Взял он меня к себе в бригаду. Спать рядом на нарах положил. Вечерами разговаривал со мной, как с сыном. Как выразить, что значит хороший человек? Слов таких нет. Скажу одно: он спас меня от чего-то плохого, что надвигалось на меня. Он сумел показать мне, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается, и хорошего да светлого в ней больше, чем скверного и темного.
Освободились мы в одном месяце — обоим скостили. Два года не досидели. Сначала мы подались в тундру. Сезон там работали на одном строительстве. Потом прослышали про этот гидрострой и порешили сюда перебраться. Книгу приключенческую можно написать, как мы сюда добирались по Ыйдыге.
— Это ты с ним на плоту через пороги? — А как же, я самый. Он писал?
— Да.
— На гидрострое я шофером стал. Курсы вечерние окончил. Мне это больше подходит. Беспокойный я какой-то, понимаешь. А когда езжу туда-сюда, мне легче. Парень я веселый, но и теперь бывает, что нападет тоска… Страх вот меня мучает, как бы опять какой беды не случилось. Уж так осторожен. Меня ребята лихачом считают. Это неправда. Просто я все дороги хорошо знаю. Небоязно и в туман, и в гололед. Пить я не уважаю. Как тоска находит, я иду к Михаилу Харитоновичу. Поговорим с ним по душам, и легче станет.
Дивное дело!.. Другой, смотришь, порядочный человек, ни в чем плохом не замечен, биография чистая, образование большое, вон как наш инженер Глухов, шагает в жизни по солнечной стороне, а толку от него? От такой души не согреешься, холодно с ним рядом. Самого себя только и уважает. А Михаил Харитонович словно родия каждому. У нас на гидрострое просто не верят люди, что он сидел за такое дело — убийство жены…
* * *
Когда я опомнился, то нашел в себе еще храбрость уточнить:
— Значит, он убил мою мать? Зиновий остановил машину.
— Разве ты не знал?
— Что мать… не знал!
Он перевел дух, открыл дверцу машины и неловко, боком вышел.
— Давай проветримся, — предложил он. — Душно как!
Я тоже вышел из машины. Мне не хотелось смотреть на Зиновия, но я все же взглянул. Он вроде как постарел сразу.
— От меня узнал… может, он сам хотел сказать… подготовить как… А я сразу ляпнул.
— Чего остановились? — полюбопытствовала Нюрка, перегибаясь через борт. Ее попутчики дремали.
— Остановка десять минут! — объявил Зиновий и, тронув меня за рукав, шепнул: — Пройдем вперед немножко… поговорить с тобой надо.
Мы прошли немного по дороге и остановились. То ли я замерз или от волнения — коленки просто прыгали, аж неловко. Зиновий что-то бормотал. Лица на нем, что называется, не было. Я понял состояние парня.
— Ни при чем тут ты, — проговорил я невнятно, потому что лязгали зубы. Я ему не скажу. А за что он ее…
Зиновий неуверенно переминался посреди дороги…
— Говори все, что знаешь! — взмолился я и снял зачем-то кепку. Подкладка вся взмокла от пота, а меня трясло. — Да говори, что ль! Кончай, ради бога!
— Пожалуй, и лучше покончить с этим, — согласился Зиновий. — Хотел бы я, чтоб ты понял его, как я понимаю. Был Михаил Харитонович на фронте четыре года. Дошел до самого Берлина. Видел Освенцим… Понимаешь? Рассказывал Михаил Харитонович, что у него душа зашлась от того, что он там увидел. Да и сам он немножко плена хватил. Ну вот, а когда вернулся домой на Смоленщину… Не трясись так…
— Ну?
— Оказалось, что жена его… с этими… с гитлеровскими гадами путалась. По доброй воле, понимаешь? Все, как есть, это знали. Если бы просто изменила, с русским человеком… ну, ушел бы от нее, и все тут… Не было бы такой злобы. А как узнал, что с гитлеровским офицером жила… Только и успела она крикнуть: "Подожди, объясню все!" А он ее в сердцах-то, кулаком… попал в висок, и — кончено. С одного маху она и упала. Была она до войны преподавательницей немецкого языка. Тебя там не было при этом… у соседей спал. Она часто тебя туда относила, чтоб не мешал дома… Не она первая. Мне рассказывали, некоторые бабы с ними путались. Одни женщины в партизанские отряды шли, а другие…
— Знаешь что… — проговорил я с усилием, — ты только не обижайся на меня, друг, прошу тебя! Я пешком пойду… А вы езжайте…
— Так еще километров сорок осталось!
— Ничего. Я дойду. Чемодан довези. А меня оставь…
— Как же я тебя брошу? Вот беда!
— Езжай! Прошу, как человека! Хочу один побыть… Гусач поглядел на меня внимательно и вдруг согласился:
— Ладно. Иди. Тут не собьешься — трасса одна. Зверь, думаю, сам не нападет.
Он бегом вернулся к машине, сел в кабину, и, едва я посторонился, грузовик прогрохотал мимо. Женщины отчаянно размахивали руками, били в стекло кабины и что-то кричали Зиновию. Наверное, возмущались, зачем он ссадил меня посреди дороги.
Машина скрылась за поворотом, и я вздохнул облегченно. Нестерпимо было мне сейчас ничье сочувствие.
…Я и сам не знаю, о чем плакал: отца ли было жалко или мать, стыдно ли за родителей. Просто было очень тяжело!
Ничего не видя, долго я так брел. Дорога пошла круто в гору, и тяжелый подъем отвлек немного. Когда взобрался на гору, сердце билось гулко, и я остановился передохнуть и оглядеться.
Необычно светлой была ночь, и непонятно, откуда брался тот свет, потому что ни луны, ни солнца на бледном небе, да и звезд не видать. И высокое это небо, и смутные горы с заснеженными вершинами, и далекая, зубчатая на горизонте тайга, и неподвижные лиственницы рядом — все было пронизано этим призрачным струящимся, словно в мареве, синеватым светом.
Я никогда не был на Севере, в тайге, природу знал мало, даже в лесу настоящем никогда не был; не считать же пригородные истоптанные дачи и рощи, где на траве валяются консервные банки и грязная бумага. И вдруг впервые в жизни я очутился наедине с Природой. Единственный след человека — в рытвинах и ухабах дорога. А если сделать шаг от дороги — вправо или влево, — сразу начиналась непроходимая, вся в буреломах и колючих зарослях дремучая тайга, где наглухо перемешалось живое и мертвое.
Странно одушевленным показалось мне все вокруг, когда я озирался, стоя на горе. И хотя глубокой, как бы застоявшейся, была тишина — ни одна ветка не колыхнулась, — было какое-то тайное движение вокруг меня. Как будто, едва я отвернусь, деревья обменивались взглядами, и я отчетливо чувствовал эти многозначительные пристальные взгляды.
Мне не было страшно одному среди непонятного. Слишком я был потрясен, чтобы осталось место для чувств обычных.
Постояв, я снова пошел по дороге… Но теперь я шел уже иначе, прислушиваясь не к своей боли, а к тому, что вокруг. Меня охватило ощущение нереальности, будто я шел во сне. У каждого так бывает, наверно. Я даже как будто успокоился, хотя боль оставалась где-то внутри…
Часа два я шагал, почти без мыслей, иногда останавливался и оглядывался.
Заметно посветлело. Небо стало прозрачнее и приняло какой-то неземной цвет. Может, в такой дымке увидел Земной шар человек, поднявшийся в космос первым.
Справа блеснула река, скрылась в чащобе и снова появилась, разлившись широко и привольно. Дорога спускалась к Ыйдыге… Я вдруг увидел солнце уже довольно высоко — почему-то просмотрев его восход, будто меня в это время не было.
Я очень устал, но усталость была мне приятна — она заглушала то, что так хотелось заглушить.
Когда трасса совсем спустилась к реке, я остановился. Берег был обрывист и крут, вода глубока, но так чиста и прозрачна, что каждый камешек виден на песчаном дне. Найдя спуск, я подошел к самой реке, нагнувшись, опустил в нее руку и тотчас отдернул, словно обжегся: вода была страшно холодна. Я напился из ладони. В воде табунами ходили хариусы, но я тогда не знал еще, что это за рыба, и только полюбовался быстрыми и изящными ее движениями.
…Мне не хотелось думать о том, что отец убил мою мать. Я вдруг пожалел, что еще так далеко до Вечного Порога — еще идти да идти, а отец там тревожится и страдает и сомневается во мне.
Неужели это было лишь вчера, когда я узнал? Не собирался я судить своего отца. Мне стало неприятно, что он мог так подумать обо мне. Неизвестно, что ему сказал Зиновий Гусач…
Еще раз напившись ледяной, очень вкусной воды, я вскарабкался вверх и снова зашагал по бесконечной дороге. Солнце поднималось все выше, уже изрядно припекало. Я обрадовался, когда подул ветер. Я снял пиджак, засучил рукава сорочки. Фуражки не оказалось. Стал припоминать, куда ее дел, но так и не вспомнил.
Далеко впереди показался грузовик. За всю ночь ни один автомобиль не перегнал меня. И ни одного поселка! До чего же безлюдный край! Я смотрел на приближающуюся машину и пожалел, что не попутная. Очень устал я и шел медленнее и медленнее. Машина скрылась, показалась вновь… Грузовик остановился. Из него вышел Гусач.
— Подвезти, что ли? — спросил он грубовато. В кузове никого не было. Зиновий отвез пассажиров и — вместо отдыха — поехал за мной.
— Спасибо! — сказал я и с чувством не то благодарности, не то вины сел в кабину.
3
— Он ушел на работу! — сказал Зиновий, складывая мои вещи у дверей, и, пошарив где-то под крыльцом, достал ключ.
— Специально для меня оставляет. Иногда прихожу сюда днем поспать, после рейса. Беспокойно в общежитии.
— Чего же не перебрался совсем?
— А я жил у Михаила Харитоновича, но, когда получили твою телеграмму, перебрался к ребятам.
— Если только из-за меня, переезжай назад.
— Начальник обещал комнату… как раз достраивают дом. Отперев дверь, Зиновий кивнул мне головой и пошел к машине.
Я смотрел ему вслед. Почему-то мне захотелось, чтоб он обернулся. Хорошая у него улыбка. Он обернулся, помахал рукой и уехал. А он красивый парень, подумал я. Никакой не смазливый, не картинный, у него же прекрасное лицо. Какая-нибудь хорошая девушка его полюбит, и навсегда.
Я забыл спросить у Зиновия, скажет ли он отцу или мне самому его искать. Решил ждать дома.
Дом был бревенчатый, с большими окнами. Отец сам строил его — он же был плотником.
Дом стоял на высоком обрывистом берегу Ыйдыги, в полукилометре от поселка. Просторный двор обступили старые лиственницы, обросшие серым мохом.
Прежде чем войти, я остановился посмотреть на гидрострой. С возвышенности был хорошо виден огромный котлован. В нем, как муравьи, копошились сотни людей. Уже явственно проступал остов будущей водосливной плотины — гигантской решетчатой опалубки, ее делали плотники! На обнаженном дне реки четко выделялись могучие бетонные блоки. Отчетливо доносился скрежет экскаваторов, дробь пневматических молотов, шум машин. Но, все перекрывая, шел откуда-то глухой, низкий гул, то нарастающий, то затихающий. Я понял, что это был Вечный Порог!
Мне вдруг так захотелось работать, там, вместе со всеми в котловане, я почти физически ощутил в руках сварочный аппарат. Завтра я пойду к Сперанскому и попрошу, чтоб он поставил меня на работу. По-мальчишески хотелось похвалиться своим умением. В мостоотряде приходили любоваться, как я кладу шов. Тут мне стало стыдно своего тщеславия, и я пошел в дом.
Странное ощущение радости охватило меня, когда я открыл дверь. В доме была одна большая комната, не считая холодных сеней и кладовой. Бревенчатые стены тщательно проконопачены мохом и паклей. Некрашеный дощатый потолок успел потемнеть. Шведская печь делила просторную эту комнату как бы на две части. В первой был прочный кухонный стол, ничем не накрытый, тщательно, до желтизны, выскобленный, самодельный буфет для посуды, полка закрыта чистой ситцевой занавеской, табуреты и деревообделочный станок.
Я прошел дальше и огляделся с тревожным и жадным любопытством, словно вопрошал эту незнакомую комнату — кто есть мой отец? Вся мебель была сделана добротно, изящно, с любовью к дереву; отец как бы выявлял его скрытую красоту. Чувствовался почерк в работе. Так у нас в мостоотряде угадывали по сварочному шву, кто его делал. Потребности хозяина были скромны и суровы. Вместо кровати — низкий топчан, накрытый шерстяным одеялом, подушка в ситцевой наволочке. Вместо ковра — на стене и на полу огромные медвежьи шкуры.
Новая металлическая кровать, очевидно недавно купленная (для меня, что ли?), сложенная стояла в углу вместе с сеткой. У окна письменный стол, на нем чернильный прибор — олень, осторожно трогающий копытом чернильницу. Неужели тоже сам сделал?
Увидев книги, я, как всегда, забыл обо всем остальном. Вот от кого я унаследовал любовь к чтению — от отца. Стеллаж занимает всю стену от пола до потолка. Не по случаю были куплены эти книги, а любовно подобраны. Полное собрание сочинений Мамина-Сибиряка издания 1916 года, приложение к «Ниве». Интересно, где отец достал его? От букиниста здесь еще были сочинения Леонида Андреева, Ивана Бунина, какого-то Мережковского. На другой полке Пришвин, Паустовский, Леонов, Федин, Куприн, Достоевский. Я пожалел, что нет моих любимых Стивенсона и Уэллса.
Отдельно стопочкой лежало несколько любовно обернутых в прозрачную бумагу томиков. С интересом развернул я их, почему-то подумав, что обязательно увижу "Судьбу человека" Шолохова и стихи Твардовского. Так и оказалось.
На нижних полках лежали аккуратно сложенные пачка «Известий» и журналы "Новый мир", «Природа».
Выбрав несколько журналов, я сел на топчан и задумался, но мысли путались, начинала болеть голова. Сказывались дорожная усталость, бессонная ночь, тревога и нервное напряжение. Мне захотелось прилечь. Едва коснулась голова подушки, — я заснул крепчайшим сном.
Проснулся от звука шагов… кто-то тяжелый осторожно передвигался по комнате. Я сразу все вспомнил и вскочил с топчана — заспанный, с всклокоченными волосами. На меня молча и растерян-316
но смотрел, опустив руки, могучего телосложения человек. В один миг я охватил взглядом и эти широкие плечи, и густые русые волосы, и светло-серые глаза, и уже совсем русский нос «картошкой», и то, как человек этот был одет — рабочие брюки и джемпер, и даже увидел, какие башмаки на нем. Это был мой отец, и больше он никем не мог быть, как моим отцом. И я первый шагнул к нему, чтоб обнять…
Долго мы говорили с ним в этот день, узнавая друг друга. Я отдал ему подарки, купленные в Москве: электрическую бритву, трубку, табак, несколько галстуков. Отец усмехнулся, шутливо почесав затылок, из чего я заключил, что попал со своими подарками "пальцем в небо".
— Сам-то ты куришь? — спросил он меня.
— Нет.
— Вот и я некурящий.
Мы посмеялись. Заметив мое огорчение, отец сказал:
— Табак и трубку ты лучше подари Сергею Николаевичу. Он будет рад. А вот с бритвой я не расстанусь… Разве сбрить бороду?
— Ну, такая борода! Жалко. Мы опять посмеялись.
— Сбрею, — решил он.
Мы пили чай. Отец больше рассказывал про гидрострой, а я почему-то про детдом. Конечно, объяснил, как получилось с его письмом, как мне его не передали.
— Какое у тебя образование? — поинтересовался отец. И был очень доволен, что я закончил десятилетку.
— Вечернюю… при мостоотряде, — пояснил я.
— Тем более.
— А у тебя, папа, какое образование? — спросил я и тут же раскаялся, зачем спросил. Никакого это значения не имеет, когда отец так начитан.
— И я окончил десятилетку. Тут, на гидрострое. Уговаривали поступить в педагогический… Учителей у нас не хватает.
— Ну и что ж ты?
— Не пошел… Не всякая мать захочет, чтоб я учил ее ребенка. Да и мне совесть не позволит.
— Но ты уже искупил все!
Отец посмотрел мне в глаза. Я невольно отвел взгляд. Он вздохнул.
— Видишь ли, Миша… Единственное преступление, которое нельзя ни искупить, ни загладить, ни заплатить за него даже всей жизнью, — это как раз убийство. Потому что человека, которого убили, к жизни не вернешь. И прощено оно уже быть не может, потому что тот единственный, кто имел бы право простить, уже не существует.
Надо же этому случиться! Если что несвойственно моему характеру, душе моей, так это насилие над человеком! Ты скажешь, как же ты мог? Все наделала война. Пойми меня правильно, сын… Я не хочу списать преступление за счет войны. Я только объясню, как это могло случиться со мной! Четыре года я убивал врагов… Нет, Я не ожесточился и не озверел. Как никогда прежде, любил я русскую землю, народ свой, товарищей, каждого ребенка, каждое деревцо в России, сломанное войной. И тем яростнее ненавидел тех, кто принес кровь, пожар, насилие, гибель, надругательство. Когда война, не может быть иначе. Я убил тысячи врагов, ведь я служил в артиллерии. Слышал про «катюши»? А вернувшись домой, еще не сняв шинель, пахнущую дымом и кровью, я убил жену за то, что она… с врагом…
Я не хотел этого… но так случилось. А теперь я хочу только одного. Чтоб никогда больше не было войны! Чтоб тебе и сверстникам твоим не довелось этого испытать.
Отец вышел из-за стола, на котором остывал чай, и тяжело прошелся по комнате.
— Ольга, твоя мать, не была ни врагом, ни предательницей. Она было только слабая женщина… Может быть, легкомысленная. Друзья пытались меня потом утешить, говорили, что Ольгу следовало бы все равно за эту связь судить. Не знаю. Никто ее не судил. Даже я… Это было исполнением приговора без самого приговора. Но я никогда не прощу себе этого… Только она одна могла простить…
Я понял, как он казнил себя долгие-долгие годы.
— Папа! — взмолился я. — Не надо об этом!
— Давай, сыночек, не надо. — Он постарался улыбнуться.





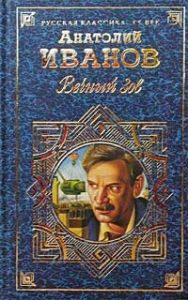

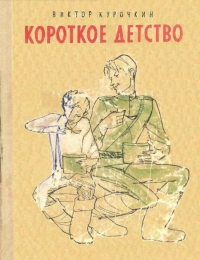
Комментарии к книге «На Вечном Пороге», Валентина Михайловна Мухина-Петринская
Всего 0 комментариев