Андрей Платонов Любовь к Родине, или Путешествие воробья (Сказочное происшествие)
Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину. Этот памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нем написаны стихи, и со всех четырех сторон к нему подымаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням к самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, к дальним Никитским воротам, и трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из местного киоска, – и все они умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипки музыкант клал на землю против памятника, он был закрыт, и в нем лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется.
Обыкновенно старик выходил играть под вечер, по первому сумраку. Для его музыки было полезней, чтоб в мире стало тише и темней. Беды от своей старости он не знал, потому что получал от государства пенсию и кормился достаточно. Но старик скучал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Там звуки его скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глубины человеческого сердца, трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей жить высшей, прекрасной жизнью. Некоторые слушатели музыки вынимали деньги, чтобы подарить их старику, но не знали, куда их положить: футляр от скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножии памятника, почти рядом с Пушкиным. Тогда люди клали гривенники и копейки на крышку футляра. Однако старик не хотел прикрывать свою нужду за счет искусства музыки; пряча скрипку обратно в футляр, он осыпал с него деньги на землю, не обращая внимания на их ценность. Уходил домой он поздно, иногда уже в полночь, когда народ становился редким, и лишь какой-нибудь случайный одинокий человек слушал его музыку. Но старик мог играть и для одного человека и доигрывал произведение до конца, пока слушатель не уходил, заплакав во тьме про себя. Может быть, у него было свое горе, встревоженное теперь песнью искусства, а может быть, ему стало совестно, что он живет неправильно, или просто он выпил вина...
В позднюю осень старик заметил, что на футляр, лежавший, как обычно, поодаль на земле, сел воробей. Музыкант удивился, что эта птичка еще не спит и даже в темноте вечера занята работой на свое пропитание. Правда, за день сейчас трудно накормиться: все деревья уже уснули на зиму, насекомые умерли, земля в городе гола и голодна, потому что лошади ходят редко и дворники враз убирают за ними навоз. Где, на самом деле, питаться в осень и в зиму воробью? Ведь и ветер в городе слаб и скуден меж домами, – он не держит воробья, когда тот простирает утомленные крылья, так что воробью приходится все время ими махать и трудиться.
Воробей, обследовав всю крышку футляра, ничего полезного на ней для себя не нашел. Тогда он пошевелил ножками денежные монеты, взял из них клювом самую мелкую бронзовую копейку и улетел с ней неизвестно куда. Значит, он недаром прилетал – хоть что-нибудь, а взял! Пусть живет и заботится, ему тоже надо существовать.
На другой вечер старый скрипач открыл футляр – на тот случай, что если прилетит вчерашний воробей, так он может покормиться мякотью хлеба, который лежал на дне футляра. Однако воробей не явился, наверно, он наелся где-нибудь в другом месте, а копейка ему не годилась никуда.
Старик все же терпеливо ожидал воробья, и на четвертые сутки он опять увидел его. Воробей без помехи сел на хлеб в футляре и по-деловому начал клевать готовую пищу. Музыкант сошел с памятника, приблизился к футляру и тихо рассмотрел небольшую птичку. Воробей был взлохмаченный, головастый, и многие перья его поседели; время от времени он бдительно поглядывал по сторонам, чтобы с точностью видеть врага и друга, и музыкант удивился его спокойным, разумным глазам. Должно быть, этот воробей был очень стар или несчастен, потому что он успел уже нажить себе большой ум от горя, беды и долголетия.
Несколько дней воробей не появлялся на бульваре; тем временем выпал чистый снег и подморозило. Старик, перед тем как идти на бульвар, ежедневно крошил в футляр скрипки мягкий теплый хлеб. Стоя на высоте подножия памятника, играя нежную мелодию, старик постоянно следил взором за своим открытым футляром, за ближними дорожками и умершими кустами цветов на летней клумбе. Музыкант ожидал воробья и тосковал по нем: где он теперь сидит и согревается, что он ест на холодном снегу? Тихо и светло горели фонари вокруг памятника Пушкину, красивые чистые люди, освещенные электричеством и снегом, мягко проходили мимо памятника, удаляясь по своим важным и счастливым делам. Старик играл дальше, скрывая в себе жалкое чувство печали по небольшой усердной птичке, которая жила сейчас где-то и изнемогала.
Но прошло еще пять дней, а воробей все не прилетал гостить к памятнику Пушкину. Старый скрипач по-прежнему оставлял для него открытый футляр с накрошенным хлебом, однако чувство музыканта уже затомилось от ожидания, и он стал забывать воробья. Старику многое пришлось забыть в своей жизни безвозвратно. И скрипач перестал крошить хлеб, он теперь лежал в футляре целым куском, и только крышку музыкант оставлял открытой.
* * *
В глубине зимы, близ полуночи, началась однажды поземка. Старик играл последней вещью «Зимнюю дорогу» Шуберта и собирался затем уходить на покой. В тот час из середины ветра и снега появился знакомый седой воробей. Он сел тонкими, ничтожными лапками на морозный снег; потом походил немного вокруг футляра, задуваемый по всему телу вихрями, но равнодушный к ним и безбоязненный, – и перелетел внутрь футляра. Там воробей начал клевать хлеб, почти зарывшись в его теплую мякоть. Он ел долго, наверно целых полчаса времени; уже метель почти полностью засыпала снегом помещение футляра, а воробей все еще шевелился внутри снега, работая над своей пищей. Значит, он умел наедаться надолго. Старик подошел к футляру со скрипкой и смычком и долго ожидал среди вихря, когда воробей освободит футляр. Наконец воробей выбрался наружу, почистился в маленьком снежном сугробе, кратко проговорил что-то и убежал пешком к себе на ночлег, не захотев лететь по холодному ветру, чтобы не тратить напрасно свою силу.
На следующий вечер тот же воробей опять прибыл к памятнику Пушкину; он сразу же опустился в футляр и стал клевать готовый хлеб. Старик глядел на него с высоты подножия памятника, играл оттуда музыку на скрипке и чувствовал добро в своем сердце. В этот вечер погода стояла тихая, словно усталая после вчерашней едкой поземки. Наевшись, воробей высоко взлетел из футляра и пробормотал в воздухе небольшую песню...
Утром долго не светало. Проснувшись в своей комнате, музыкант-пенсионер услышал пение вьюги за окном. Морозный, жесткий снег несся по переулку и застил дневной свет. На оконное стекло еще ночью, во тьме, легли замороженные леса и цветы неизвестной волшебной страны. Старик стал любоваться этой воодушевленной игрою природы, точно природа тоже томилась по лучшему счастью, подобно человеку и музыке.
Идти играть на Тверской бульвар сегодня уже не придется. Сегодня поет буря, и звуки скрипки будут слишком слабы. Все же старик под вечер оделся в пальто, обвязал себе голову и шею шалью, накрошил хлеба в карман и вышел наружу. С трудом, задыхаясь от затвердевшего холода и ветра, музыкант пошел по своему переулку к Тверскому бульвару. Безлюдно скрежетали обледенелые ветви деревьев на бульваре, и сам памятник уныло шелестел от трущегося по нем летящего снега. Старик хотел положить хлебные комки на ступеньку памятника, но увидел, что это бесполезно: буря тотчас же унесет хлеб, и снег засыплет его. Все равно музыкант оставил на ступени свой хлеб и видел, как он исчез в сумраке бури.
Вечером музыкант сидел дома один; он играл на своей скрипке, но некому было его слушать, и мелодия звучала плохо в пустоте комнаты, она трогала лишь одну-единственную душу скрипача, а этого было мало, или душа его стала бедной от старости лет. Он перестал играть. На улице шел поток урагана, – худо, наверно, теперь воробьям. Старик подошел к окну и послушал силу бури сквозь замороженное стекло. Неужели седой воробей и сейчас не побоится прилететь к памятнику Пушкину, чтобы поесть хлеба из футляра?
* * *
Седой воробей не испугался снежного урагана. Только он не полетел на Тверской бульвар, а пошел пешком, потому что внизу было немного тише и можно укрываться за местными сугробами снега и разными попутными предметами.
Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника Пушкину и даже порылся ножками в снегу, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Несколько раз он пытался взлететь с подветренной стороны на голые, обдутые ступени памятника, чтобы поглядеть, не принес ли туда ураган каких-нибудь крошек или старых зерен; их можно было бы поймать и проглотить. Однако буря сразу брала воробья, как только он отрывался от снега, и несла его прочь, пока он не ударялся о ствол дерева или трамвайную мачту, и тогда воробей поскорее падал и зарывался в снег, чтобы согреться и отдохнуть. Вскоре воробей перестал надеяться на пищу. Он разгреб поглубже ямку в снегу, сжался в ней и задремал: лишь бы ему не замерзнуть и не умереть, а буря когда-нибудь кончится. Все-таки спал воробей осторожно, чутко, следя во сне за действием урагана. Среди сна и ночи воробей заметил, что снежный бугор, в котором он спал, пополз вместе с ним, а затем весь снег вокруг него обвалился, рассеялся, и воробей остался один в урагане.
Воробья понесло вдаль, на большой пустой высоте. Здесь даже снега не было, а только голый чистый ветер, твердый от собственной сжатой силы. Воробей подумал, свернулся потеснее своим телом и заснул в этом урагане.
Выспавшись, он проснулся, но буря по-прежнему несла его. Воробей уже немного освоился жить в урагане, ему было даже легче сейчас существовать, потому что он не чувствовал тяжести своего тела и не нужно было ни ходить, ни летать, ни заботиться о чем-либо. Воробей огляделся в сумраке бури, – ему хотелось понять, какое сейчас время: день или ночь. Но увидеть свет или тьму сквозь сумрак он не сумел и опять съежился и уснул, стараясь сберечь тепло хотя бы внутри себя, а перья и кожа пусть остывают.
Когда воробей проснулся во второй раз, его все еще несла буря. Он стал теперь уже привыкать к ней, только его брала забота о пище. Холода воробей сейчас не чувствовал, зато тепла не было, – он лишь дрожал в этом сумраке и потоке пустого воздуха. Воробей снова сжался, стараясь не сознавать ничего, пока ураган не обойдется.
Проснулся воробей на земле, в чистой и теплой тишине. Он лежал на листьях большой зеленой травы. Неизвестные и невидимые птицы пели долгие, музыкальные песни, так что воробей удивился и послушал их некоторое время. Затем он убрал и почистил свои перья после вьюги и пошел кормиться.
Здесь, наверно, шло вечное лето, и пищи поэтому было много. Почти каждая трава имела на себе плоды. На стеблях меж листьями висели либо колосья с зернами, либо мягкие стручки с мелкими пряными лепешками, либо открыто росла крупная сытная ягода. Воробей клевал весь день, пока ему не стало стыдно и отвратительно, он опомнился и перестал есть, хотя мог бы покушать еще немного.
Проспав ночь на травяном стебле, воробей с утра опять начал питаться. Однако он съел теперь немного. Вчера от сильного голода он не заметил вкуса пищи, а сегодня почувствовал, что все плоды трав и кустарников были слишком сладкими либо, наоборот, горькими. Но зато в плодах содержалась большая питательность, в виде густого, почти опьяняющего жира, и воробей на второй же день слегка пополнел и залоснился. А ночью его стала мучить изжога, и тогда воробей затосковал по привычной кислоте простого черного хлеба; его мелкие кишки и желудок заскулили от ощущения теплой, темной мякоти в футляре музыканта у памятника Пушкину.
Вскоре воробей стал вовсе печальным на этой летней, мирной земле. Сладость и обилие пищи, свет воздуха и благоухание растений не привлекали его. Бродя в тени зарослей, воробей нигде не встретил ни знакомого, ни родственника: тут воробьи не жили. Местные, тучные птицы имели разноцветные, красивые перья; они обыкновенно высоко сидели на древесных ветвях и пели оттуда прекрасные песни, словно из их горла происходил свет. Ели эти птицы редко, потому что достаточно было склевать одну жирную ягодку в траве, чтобы насытиться на весь день и на всю ночь.
Воробей стал жить в одиночестве. Он постепенно облетал всю здешнюю страну, поднимаясь от земли чуть выше кустарника, и повсюду наблюдал густые рощи трав и цветов, толстые низкие деревья, поющих, гордых птиц и синее, безветренное небо. Даже дожди здесь шли только по ночам, когда все спали, чтобы ненастье не портило никому настроения.
Спустя время воробей нашел себе постоянное место для жизни. Это был берег ручья, покрытый мелкими камнями, где ничего не росло, где земля лежала более скудной и неудобной.
В береговой расщелине там еще жила одна змея, но у нее не было яда и зубов, она питалась тем, что глотала влажную почву, как червь, – и мелкие земляные животные оставались у нее внутри, а сжеванная земля исходила обратно прочь. Воробей подружился с этой змеей. Он часто являлся к ней и смотрел в ее темные, приветливые глаза, и змея тоже глядела на воробья. Затем воробей уходил, и ему становилось легче жить в одиночестве после свидания со змеей.
Вниз по течению ручья воробей увидел однажды довольно высокую, голую скалу. Он взлетел на нее и решил ночевать здесь, на возвышенном камне, каждую ночь. Воробей надеялся, что когда-нибудь настанет буря и она сорвет его, спящего, с камня и унесет обратно домой, на Тверской бульвар. Первую ночь спать на прохладной скале было неудобно, однако на вторую ночь воробей уже привык и спал на камне, глубоко, как в гнезде, согреваемый надеждой на бурю.
* * *
Старый музыкант понял, что седой, знакомый воробей погиб навсегда в зимнем урагане. Снегопад, холодные дни и вьюги часто не позволяли старику выходить на Тверской бульвар для игры на скрипке.
В такие дни музыкант сидел дома, и его единственным утешением было смотреть на замороженное оконное стекло, где складывалась и разрушалась в тишине картина заросшей, волшебной страны, населенной, вероятно, одними поющими птицами. Старый человек не мог предположить, что его воробей живет сейчас в теплом, цветущем краю и спит но ночам на высоком камне, подставив себя под ветер... В феврале месяце музыкант купил себе в зоологическом магазине на Арбате маленькую черепаху. Он читал когда-то, что черепахи живут долго, а старик не хотел, чтобы то существо, к которому привыкнет его сердце, погибло раньше его. В старости душа не заживает, она долго мучается памятью, поэтому пусть черепаха переживет его смерть.
Живя вместе с черепахой, музыкант стал ходить к памятнику Пушкину совсем редко. Теперь он каждый вечер играл дома на скрипке, а черепаха медленно выходила на середину комнаты, вытягивала худую, длинную шею и слушала музыку. Она поворачивала голову немного в сторону от человека, точно для того, чтобы лучше было слышать, и один ее черный глаз с кротким выражением смотрел на музыканта. Черепаха, наверно, боялась, что старик перестанет играть и ей опять станет скучно жить одной на голом полу. Но музыкант играл для черепахи до поздней ночи, пока черепаха не клала свою маленькую голову на пол в усталости и во сне. Дождавшись, когда у черепахи закроются глаза морщинами век, старик прятал скрипку в футляр и сам тоже ложился на покой. Но музыкант спал худо. В теле его то постреливало где-нибудь, то щемило, то заходилось сердце, и он часто вдруг просыпался в страхе, что умирает. Обыкновенно оказывалось, что он еще живой и за окном, в московском переулке, продолжалась спокойная ночь. В марте месяце, проснувшись от замирания сердца, старик услышал могучий ветер; стекло в окне оттаяло: ветер, наверно, дул с юга, с весенней стороны. И старый человек вспомнил про воробья и пожалел его, что он умер: скоро будет лето, на Тверском бульваре снова воскреснут деревья и воробей пожил бы еще на свете. А на зиму музыкант взял бы его к себе в комнату, воробей подружился бы с черепахой и свободно перенес зиму в тепле, как на пенсии... Старик опять уснул, успокоившись тем, что у него есть живая черепаха и этого достаточно.
Воробей тоже спал в эту ночь, хотя и летел в ураганном южном ветре. Он проснулся только на одно мгновение, когда удар урагана сорвал его с возвышенного камня, но, обрадовавшись, сейчас же уснул вновь, сжавшись потеплее своим телом. Проснулся воробей уже засветло; ветер нес его могучей силой в далекую сторону. Воробей не боялся полета и высоты; он пошевелился внутри урагана, как в тяжелом, вязком тесте, проговорил сам для себя кое-что и почувствовал, что хочет есть. Воробей огляделся с осторожностью и заметил вокруг себя посторонние предметы. Он их тщательно рассмотрел и узнал: то были отдельные тучные ягодки из теплой страны, зерна, стручки и целые колосья, а немного подальше от воробья летели даже целые кусты и древесные ветви. Значит, ветер взял с собою не одного его, воробья. Маленькое зерно мчалось совсем рядом с воробьем, но схватить его было трудно, благодаря тягости ветра: воробей несколько раз высовывал клюв, а достать зерна не мог, потому что клюв упирался в бурю, как в камень. Тогда воробей начал вращаться вокруг самого себя: он перевернулся ножками кверху, выпустил одно крыло, и ветер сразу снес его в сторону – сначала к близкому зерну, и воробей враз склевал его, а потом воробей пробрался и к более дальним ягодам и колосьям. Он накормил себя досыта и, кроме того, научился, как нужно передвигаться почти поперек бури. Покушав, воробей решил заснуть. Ему сейчас было хорошо: обильная пища летела рядом с ним, а холода или тепла среди урагана он не чувствовал. Воробей спал и просыпался, а проснувшись, опять ложился по ветру ножками кверху, чтобы дремать на покое. В промежутках меж одним сном и другим он сытно кормился из окружающего воздуха; иногда какая-либо ягода или стручок со сладкой начинкой вплотную прибивались к телу воробья, и тогда ему оставалось только склевать и проглотить эту пищу. Однако воробей побаивался, что ветер когда-нибудь перестанет дуть, а он уже привык жить в буре и обильно питаться из нее. Ему не хотелось больше добывать себе корм на бульварах постоянным хищничеством, зябнуть по зимам и бродить пешком по пустому асфальту, чтобы не тратить сил на полет против ветра. Он жалел только, что нет среди всего этого могучего ветра крошек кислого черного хлеба, – летит одна лишь сладость или горечь. К счастью для воробья, буря шла долго, и, просыпаясь, он снова чувствовал себя невесомым и пробовал напевать сам себе песню от удовлетворения жизнью.
* * *
В весенние вечера старый скрипач выходил играть к памятнику Пушкину почти ежедневно. Он брал с собою черепаху и ставил ее на лапки возле себя. Во все время музыки черепаха неподвижно слушала скрипку и в перерывы игры терпеливо ждала продолжения. Футляр от скрипки по-прежнему лежал на земле против памятника, но крышка футляра была теперь постоянно закрыта, потому что старик уже не ожидал к себе в гости седого воробья.
В один из погожих вечеров начался ветер со снегом. Музыкант спрятал черепаху за пазуху, сложил скрипку в футляр и пошел на квартиру. Дома он, по обыкновению, накормил черепаху, а затем поместил ее на покой в коробку с ватой. После того старик хотел взяться за чай, чтобы погреть желудок и продлить время вечера. Однако в примусе не оказалось керосина и бутылка тоже была пустая. Музыкант пошел покупать керосин на Бронную улицу. Ветер уже прекратился; падал слабый, влажный снег. На Бронной продажу керосина закрыли на переучет товара, поэтому старику пришлось идти к Никитским воротам.
Закупив керосин, скрипач направился обратно домой по свежему, тающему снегу. Два мальчика стояли в воротах старого жилого дома, и один из них сказал музыканту:
– Дядя, купи у нас птицу... Нам на кино не хватает!
Скрипач остановился.
– Давай, – сказал он. – А где вы ее взяли?
– Она сама с неба на камни упала, – ответил мальчик и подал птицу музыканту в двух сложенных горстях.
Птица, наверно, была мертвая. Старик положил ее в карман, уплатил мальчику двадцать копеек и пошел дальше.
Дома музыкант вынул птичку из кармана на свет. Седой воробей лежал у него в руке; глаза его были закрыты, ножки беспомощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху под ночную рубашку – к утру он либо отогреется, либо никогда более не проснется.
Напившись чаю, музыкант бережно лег спать на бок, не желая повредить воробья.
Вскоре старик задремал, но сразу же проснулся: воробей пошевелился у него под рубашкой и клевнул его в тело. «Живой! – подумал старый человек. – Значит, сердце его отошло от смерти!» – и он вынул воробья из теплоты под своею рубашкой.
Музыкант положил ожившую птичку на ночлег к черепахе. Она спала в коробке, – там лежала вата, там воробью будет мягко.
На рассвете старик окончательно проснулся и посмотрел, что делает воробей у черепахи.
Воробей лежал на вате тонкими ножками кверху, а черепаха, вытянув шею, смотрела на него добрыми, терпеливыми глазами. Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете.
Вечером старый музыкант не пошел на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из футляра и начал играть нежную, счастливую музыку. Черепаха вышла на середину комнаты и стала кротко слушать его одна. Но в музыке недоставало чего-то для полного утешения горюющего сердца старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал.



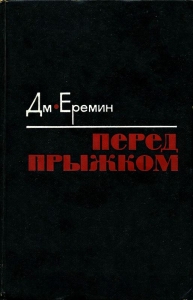


Комментарии к книге «Любовь к Родине, или Путешествие воробья», Андрей Платонович Платонов
Всего 0 комментариев