Собрание сочинений в 3-х томах. Т. I.
В первый том Собрания сочинений А. И. Мусатова входят повести «Большая весна» и «Земля молодая».
Вступительная статья Вл. Николаева.
АЛЕКСЕЙ МУСАТОВ
*
БОЛЬШАЯ ВЕСНА
ЗЕМЛЯ МОЛОДАЯ
*
СТОЖАРЫ
ДОМ НА ГОРЕ
*
ЧЕРЕМУХА
ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ
КЛАВА НАЗАРОВА
том 1
БОЛЬШАЯ ВЕСНА
ЗЕМЛЯ МОЛОДАЯ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Б- 3-х ТОМАХ
МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1976
P2
M91
Рисунки И. Година
Мусатов А. И.
Собрание сочинений в 3-х томах. Т. I. Рисунки И. Година. Оформл. В. Горячева. М., «Дет. лит.», 1976. — 510 с. с ил.
В первый том Собрания сочинений А. И. Мусатова входят повести «Большая весна» и «Земля молодая».
Вступительная статья Вл. Николаева.
©Вступительная статья. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976
ЭТОТ РОДНОЙ С ДЕТСТВА МИР
Алексей Иванович Мусатов более сорока лет работает в литературе. За этот срок им написано много повестей, рассказов, очерков как для юных, так и для взрослых читателей. Но более всего А. И. Мусатов известен как детский писатель. Книги, адресованные юным, сделали его имя широко популярным не только в нашей стране, но и за ее пределами.
В нашей литературе А. И. Мусатов занимает свое особое место. Достаточно взглянуть на оглавление трех томов его собрания сочинений, чтобы отметить бросающуюся в глаза особенность: большинство повестей посвящены жизни русской советской деревни. И это не случайно. Главные произведения писателя составляют своеобразную художественную летопись колхозного движения в нашей стране, начиная с создания первых сельскохозяйственных артелей и до наших дней.
Неправильно думать при этом, что А. И. Мусатов всегда писал только о деревне, есть у него, к примеру, повесть о молодых рабочих-строителях. Писал он и о студенческой молодежи, а если говорить об очерках, то тематические границы здесь чуть ли не безбрежны. И все же на всех этапах творчества главное внимание А. Мусатова привлекала жизнь деревни, и с истинным увлечением пишет он о крестьянском труде, постоянно интересуется проблемами колхозного движения, они его волновали более всего, ими он продолжает жить.
И этому есть свое объяснение. Алексей Иванович — выходец из крестьян. Он родился в 1911 году в семье крестьянина деревни Лизуново, Владимирской области. Здесь он вырос, окончил сельскую школу, рано приохотился к нелегкой крестьянской работе, кровно полюбил родную русскую природу. Жизнь деревни для него — открытая книга. Тут он не чужой, а свой, не пришлый сторонний наблюдатель, а полноправный хозяин. Его взору без труда открывается то, что для иного скрыто за семью печатями, ему свободно удается проникать в душевный мир своих героев, понять их характеры во всей жизненной сложности и противоречивости.
А. Мусатов пишет в спокойной и даже традиционной реалистической манере, которая вроде бы и не в чести у тех, кто, в угоду литературной моде, гонится за всякого рода формальными изысканиями и вывертами. Писатель вроде бы и не боится банальности, но побеждает ее тем, что умеет просто и выразительно запечатлеть подлинную правду жизни, проникая в сокровенные подробности изображаемых событий и характеров.
Предметом особых забот художника является стремление сделать свое произведение актуальным, остропроблемным. Но и тут нет ничего нарочитого. Иные произведения такого рода утрачивают свое значение сразу же, как только спадает острота затронутых в них проблем. И это удается избежать писателю, хотя его повести, как правило, и остропроблемны и актуальны. Они остаются жить и привлекают к себе внимание читателей и после того, как изменились условия, миновало время, которому они посвящены.
В чем же тут дело? Да, думается, в том, что автор, не гонясь за поражающей читателя эффектной остротой, спокойно и деловито исследует глубинные процессы жизни, поднимает проблемы, долгое время сохраняющие свое значение. Происходит это и потому еще, что А. Мусатову не приходится, как иным авторам, «вживаться» в материал, он им просто не перестает жить. В жизни села он всему знает истинную цену, превосходно ориентируется в том, что тут преходяще и скоротечно, а что способно сохранить значение на долгие и долгие годы. И этим в немалой степени можно объяснить запас прочности лучших его книг.
Разговор о повестях, вошедших в настоящее Собрание сочинений, хотелось бы начать с лирической «Черемухи». Эта короткая повесть посвящена изображению той давней поры в жизни нашей деревни, когда идеи коллективного хозяйствования на земле только-только начинали завладевать крестьянскими умами. Процесс перехода от единоличного мелкособственнического хозяйства к коллективному был мучительным, подчас даже трагически тяжким, что нашло отображение и в повести. Но более всего «Черемуха» захватывает своим лирическим пафосом, истинно поэтическим изображением происходящего.
Не раз утверждалось, что всякая хорошая книга одинаково привлекательна и для взрослого и для юного читателя. Это верно лишь отчасти, слишком широко толковать такое мнение нет оснований. Существует много не только хороших, но, скажем прямо, отличных книг, которые представляют интерес или только для взрослых, или только для одних детей. Но, конечно, создать книгу, которая одинаково привлекала бы внимание и ребят и их родителей, — поистине редкостная удача. Примером такой удачи и представляется нам «Черемуха». Повесть эта впервые увидела свет на страницах «толстого» литературного журнала, она неоднократно выходила в издательствах, издающих книги для взрослых, но прочно вошла и в обиход юных читателей, которым и предназначалась автором с самого начала.
Существует утверждение, что, как бы ни была поэтична проза, наизусть читатель заучивает обычно только стихи. Это, конечно, верно. Но вряд ли можно отрицать тот факт, что и хорошая проза помнится так же долго, как и хорошие стихи. И это относится не обязательно только к прозе выдающихся мастеров. Порой можно забыть сюжетные подробности в рассказах М. Пришвина, К. Паустовского или А. Гайдара, но настроение, которым на тебя повеяло со страниц их произведений, то лирическое одушевление, которое охватило во время чтения, не сможешь забыть очень долго, если не всю жизнь.
Вот и «Черемуха» А. Мусатова, не раз прочитанная со вниманием, западает в душу на долгие годы. По строчкам этого коротенького произведения как бы разлит терпкий аромат цветущей черемухи и весны. Быть может, и не упомнишь всех описанных событий, даже наверняка не упомнишь, но зато не скоро забудешь, как величественна и красива похожая на пышное облако цветущая черемуха, хотя она и была описана в нашей литературе многократно, но все равно тут с ней встречаешься будто в первый раз.
И ведь что удивительно: о самой черемухе говорится в повести не так уж много — более или менее пространно только дважды, но этот поэтический образ невозможно отделить от всего, о чем рассказано в повести. Пышное «облако цветущей черемухи» все время стоит перед глазами, сквозь это видение различаешь живые фигурки юных героев — Алеши, Петьки и Насти, которые с таким увлечением и с такой серьезностью играют в то, что совершается на их глазах, что порой уже и невозможно отличить, где игра, а где сама действительность.
Но главное — через эту серьезную и по-детски милую игру и ребячьи переживания с поразительной ясностью просматривается подлинная крестьянская жизнь на крутом изломе, наполненная событиями огромной важности, отчетливо видишь, как до самого основания перевертывается вековой деревенский уклад. Давно написана «Черемуха», а и до сей поры она свежа, читается с интересом и волнением.
Работа над «Черемухой» заставила писателя еще раз внимательно вглядеться в памятные события начала тридцатых годов, заново переосмыслить многое из того, что стало теперь уже историей. Результатом этого явились две новые повести — «Большая весна» и «Земля молодая», в которых более развернуто рассказано «современным мальчишкам и девчонкам» о далекой для них поре коллективизации. В дилогии прослежена история создания и становления колхоза в среднерусском селе Кольцовка. В основу повестей положено многое из того, что в свое время явилось материалом и для первых книг писателя — «Шанхайка» и «Шекамята», написанных по свежим следам событий и на основе личных наблюдений. Но в новых повестях писатель изображает события тех лет более укрупненно, несравненно глубже рисует характеры, они делаются значительнее, а от этого становится полнее, объемнее и вся картина.
Одним из самых выразительных образов в повести «Большая весна» является достаточно подробно выписанный образ кулака Ковшова. Сохраняя все наиболее типичные черты, присущие врагам колхозного строя, Ковшов при всем этом лишен плакатной прямолинейности и схематичности. Илью Ефимовича не вдруг разглядишь, он хитро умеет скрывать свою кулацкую сущность, ловко приспосабливаться к обстоятельствам каждый раз, когда это необходимо, предстает перед людьми в ином обличий, не меняя, разумеется, при этом своей сущности. С таким врагом нелегко было бороться. Знакомясь с Ковшовым, современный читатель сможет представить, каких усилий стоило сломить остервенелое сопротивление кулачества.
Обнажая драматический характер классовой борьбы в деревне в эпоху коллективизации, писатель вскрывает непримиримость классовых интересов кулачества и трудового крестьянства, мужество, стойкость и героизм тех, кто бесстрашно бился за народное счастье. В повестях «Большая весна» и «Земля молодая» опоэтизированы люди, до конца преданные народу, не дрогнувшие перед врагом, не отступившие перед многочисленными трудностями. Таковы и коммунист Матвей Петрович Рукавишников, страстный поборник всего нового, чуткий друг и наставник молодежи, и много вытерпевшая на своем батрацком веку Аграфена Ветлугина, и настойчивый в поисках правды жизни Василий Силыч Хомутов, и выдвинутые на первый план юные герои: Степа Ковшов, Нюшка Ветлугина, Митя Горелов — боевые вожаки сельских комсомольцев. Они и для сегодняшнего читателя сохраняют силу притягательного примера. За некоторыми из них отчетливо просматриваются широкоизвестные прототипы. Так, в судьбе Степы Ковшова легко уловить отзвуки подвига Павлика Морозова, а образ Нюшки Ветлугиной в значительной мере навеян реальной судьбой первой трактористки страны — Паши Ангелиной.
Создать правдивое произведение о жизни, воскрешающее в живых образах историческое прошлое или определенные стороны современной действительности, для любого художника удача немалая. Но в искусстве есть еще одна трудно достижимая цель, особенно важная для всякого, кто адресует свои произведения юным. — создать живого и привлекательного героя, героя, который покорил бы ребячьи сердца, зажег бы их желанием во всем следовать за ним, непременно быть похожим на него. И этой трудной цели достиг писатель.
Повесть «Стожары», за которую А. И. Мусатов удостоен Государственной премии СССР, создавалась по свежим следам войны. Ее дыхание живо ощущается в повести, и главный герой — Санька Коншаков — целиком принадлежит трудной поре первых послевоенных лет. Но, оставаясь героем своего времени, Санька и в наши дни не перестает привлекать к себе сердца юных читателей. А как велико было его влияние сразу после выхода книги в свет! Вслед за гайдаровским Тимуром герой «Стожар» шагнул в живую жизнь, заражая живым примером мальчишек и девчонок деревень и сел. В разных концах страны возникло движение коншаковцев, ребят, с увлечением начавших по примеру полюбившегося им героя заниматься выведением высокоурожайных сортов пшеницы, ржи и других сельскохозяйственных культур. Трудно сказать, скольким нынешним мастерам земли, прославленным хлеборобам, привил истинную любовь к труду своими книгами, и в особенности прекрасной повестью «Стожары», Алексей Иванович Мусатов, но совершенно определенно можно утверждать, что таких очень и очень много. И в этом нельзя не видеть высокой заслуги писателя перед Родиной, перед народом, его весомого вклада в дело коммунистического воспитания подрастающего поколения.
Повесть «Стожары» примечательна не только тем, что в ней зримо и убедительно изображен главный герой, — это бесспорно решающая удача, но и тем, что в ней ярко выписаны и второстепенные герои, и обстановка в послевоенном селе, и сельский пейзаж; за развитием событий следишь с неослабевающим напряжением. Рядом с Санькой Коншаковым в повести действует и другой весьма привлекательный герой — Федя Черкашин. Мальчик побывал в партизанском отряде, отличается смелостью, справедлив, наделен живым умом. А сколько обаяния в Санькиной мачехе, женщине чуткой, участливой, душевной. В последнее время в литературе появилась не одна добрая мачеха, противостоящая традиционному образу злой ненавистницы приемных детей. Наша действительность продиктовала множество убедительных примеров, внесших существенную поправку к традиционному образу. И все же надо сказать, что одним из первых отошел от традиционного изображения мачехи А. Мусатов. Мы уже говорили о том, что писатель необыкновенно живо и верно схватывает деревенские характеры. Не так уж много места отведено в «Стожарах» изображению Евдокии Девяткиной, но как зримо предстает перед нами эта стяжательница и сплетница, изворотливая и недобрая женщина. Под стать ей и ее сынок, лживый, хитрый, эгоистичный Петька Девяткин, вызывающий естественную неприязнь читателя.
И еще об одном нельзя умолчать — о поэтическом пафосе, который захватывает при чтении этой повести. Следишь за событиями, происходящими в селе, и тебе кажется, что ты бродишь по извилистым берегам Стожарки, до сладкого изнеможения косишь росистый луг. И разве не захочется каждому, прочитавшему повесть, еще раз взглянуть на ночное небо и отыскать на нем яркое созвездие Стожары? И кому не западут в душу слова Маши Ракитиной, мечтающей о том, чтобы ее родные Стожары ярче всех светили на небе, чтобы и ее родное село, как эти звезды в вышине, не затерялось на обширных земных просторах, потому что живут в нем хорошие люди и творят замечательные дела.
В созданной вслед за «Стожарами» повести «Дом на горе» писатель ведет речь о жадном ребячьем стремлении скорее стать активными строителями и в связи с этим о более тесной связи школы с жизнью. Мысль о приближении школьного образования к практике колхозного производства, положенная в основу повести, и поныне не утратила своей актуальности. На страницах «Дома на горе» она решается художественными средствами. Главный герой повести Костя Ручьев во многом отличен от Саньки Коншакова, но и он увлекает за собой сверстников, своим примером указывает верные пути в жизни.
Хотя Костя Ручьев и весьма привлекателен и вокруг него, как и положено, развертываются основные события, в повести создан и более значительный образ — это образ «дома на горе», высоковской сельской школы, живыми ниточками связанной с окружающей колхозной действительностью. Эти «живые ниточки» протянуты от окружающих деревень к «дому на горе» не только ребятами-школьниками, но и седобородыми хлеборобами, и пытливыми опытниками-новаторами, и молодыми механизаторами, не так давно покинувшими школьную скамью. Изображенная в повести школа — естественный опорный пункт распространения передового опыта. Директор школы Федор Семенович Хворостов, учителя, увлекаемые ими ученики — активные участники многих событий, происходящих здесь.
Писатель по крупицам собирал положительный опыт, то хорошее, что вошло в жизнь, художественно осмыслил, проанализировал, и, не удовлетворившись достигнутым, попытался предложить новое решение некоторых практических воспитательных проблем. Повесть «Дом на горе» в свое время привлекла внимание, да и сейчас еще не утратила актуальности именно в силу этого отчетливо обнаруживаемого намерения автора активно вторгаться в живой процесс воспитания.
Конец пятидесятых и начало шестидесятых годов ознаменовались новым повышенным вниманием советской общественности к проблемам сельского хозяйства. Партия, правительство самым тщательным образом рассматривали вопросы всестороннего подъема сельского хозяйства, при этом неизменно речь шла о кадрах, о притоке молодых сил в колхозное производство, о трудовой судьбе подрастающего поколения советской деревни. Эти материалы явились для писателя важным стимулом в дальнейших творческих поисках, и в результате появилась новая повесть о жизни колхозного села и трудовом воспитании его юных обитателей — «Зеленый шум».
В ней, с еще большей убедительностью, нежели прежде, писателю удалось изобразить единство помыслов, дел, устремлений младшего и старшего поколений. Все, что происходит в описанных в «Зеленом шуме» Клинцах, естественно и глубоко касается юных жителей деревни, всё оставляет заметный след в их сердцах, оказывает серьезное влияние на их мировосприятие. Общественная и личная жизнь советских людей, как правило, неразрывны. В особенности это характерно для современной деревни, где личное благополучие, повседневное бытие зависит от состояния артельного хозяйства. Без видимого усилия писатель точно передает в своих книгах атмосферу коллективной жизни села. При этом он превосходно знает силу старых привычек, не закрывает глаза на всякого рода отклонения от общепринятых норм социалистической морали. В его произведениях в полном соответствии с ходом нашей жизни, естественно и закономерно, новое, передовое неодолимо побеждает старое, преодолевается и самая давняя из привычек прошлого — радение о своем личном за счет общественного.
Писатель отлично понимает и остро чувствует драматизм подобных коллизий, потому и тяготеет к остроконфликтному повествованию, апеллирует к эмоциям и сознанию читателей, побуждая их сопереживать, четко разграничивать свои симпатии и антипатии между враждующими сторонами. В повести «Зеленый шум» три семейных конфликта, правда разной степени остроты, но каждый связан не столько с личными отношениями, сколько с отношением к коллективу, с пониманием и исполнением общественного долга. И поэтому семейные конфликты неизбежно становятся предметом общественного разбирательства, оказываются органическими звеньями решительной перестройки всей жизни и всех порядков в клинцовской артели, всего морального климата деревни.
Повесть «Зеленый шум» эмоциональна, драматична, читатель пробивается к светлому финалу ее, ощутив реальную сложность борьбы. Известная некрасовская метафора «идет-гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, весенний шум» сводится в данном случае к тому, что «Зеленый Шум, весенний шум» — это юная поросль будущих хозяев земли, завтрашних мастеров колхозного производства, стремящихся жить честно, смело, не мириться со злом, с юных лет решительно бороться со всякой неправдой. Тема эта продолжена писателем и в других произведениях, в частности в повести «На семи ветрах».
Особое место в творчестве А. И. Мусатова занимает повесть «Клава Назарова», повесть о войне, об отваге и мужестве, проявленных советскими людьми в годину страшнейших испытаний. Среди молодых героев, прославившихся боевыми подвигами в минувшую войну, писатель выбрал руководителя молодежной подпольной организации пионервожатую Клаву Назарову. И выбор этот для него не случаен. Клава Назарова жила в небольшом русском городке, застроенном деревянными домами, при каждом почти обязательно сад и огород, во дворах куры, а то и скотина. Вся жизнь тут проходит на виду у соседей, все тут друг друга хорошо знают и быт мало чем отличается от деревенского. Такую жизнь писатель хорошо знает и чувствует. Но главное, что заставило А. Мусатова остановить свой выбор на Клаве Назаровой, это то, что она за свою короткую жизнь проявила себя более всего как школьная пионервожатая, да и члены созданной ею подпольной комсомольской организации — школьники или бывшие школьники, а многие из них ее одноклассники. И этот мир издавна знаком писателю.
Документальная основа придала повести особую достоверность. Оперируя подлинными фактами, которые надо было бережно сохранить, автор главные усилия сосредоточил на исследовании и раскрытии героического характера Клавы Назаровой, ее мужества, стойкости, убежденности. Героизм Клавы Назаровой подготовлен всей ее жизнью, всем сплавом ее морального облика, способностью вдохновляться высокими идеалами. Вот почему такое большое место в повести занимает предыстория подвига, описание детства и отрочества героини, ее работа в качестве пионервожатой в самый канун войны.
И тут писатель нашел столько интересного и увлекательного, так сумел высветить характер героини, что если бы он только этим и ограничил повествование, мы были бы вправе признать, что в нашей литературе создан один из самых интересных и цельных образов пионервожатой, человека, которому присущи все качества, необходимые для того, чтобы безраздельно владеть ребячьими сердцами.
Повесть А. Мусатова «Клава Назарова» по праву заняла прочное место в ряду других популярных произведений о героях Великой Отечественной войны.
В издаваемое Собрание сочинений А. И. Мусатова невозможно было вместить и половину того, что создано писателем. Он и сегодня в большом творческом пути, продолжает успешно работать, и из-под его пера выходят все новые и новые книги. Уже когда готовилось это издание, А. И. Мусатов закончил повести «Дубовые листья» и «Хорошо рожок играет», которые отмечены первой премией на Всероссийском конкурсе. Но и включенные в предлагаемое издание произведения позволяют составить представление о его творческом облике и характере дарования.
Вл. Николаев
БОЛЬШАЯ ВЕСНА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РОДНЫЕ МЕСТА
Бойко насвистывая и сбивая палкой головки цветов, Степа приближался к родным местам. Мало-помалу все ему здесь отчетливо припоминалось. И знакомый бревенчатый мостик через реку, всегда так оглушительно гремевший под колесами подвод, и песчаная отмель у воды, где Степа любил собирать цветные камешки, и береза с расщепленной молнией верхушкой — от этого приметного дерева до Кольцовки совсем уже недалеко.
Перевалив косогор, заросший веселыми глазастыми ромашками и белесыми фонариками отцветших одуванчиков, Степа увидел врытый в землю межевой столб. Отсюда начинались кольцовские земли.
Да и без межевого столба Степа знал, что он уже в родных местах. Перед ним раскинулся небольшой лесок, отделяющий кольцовские угодья от полей соседней деревни.
Степа даже вспомнил, что этот лесок раньше называли Замызганками. Здесь когда-то было пахотное поле, но со временем землю запустили, полосы превратились в перелоги и густо заросли, особенно на межах, лозняком, березками, осинником, елками и можжевельником.
Никто в Замызганки не ходил за грибами, но Степин отец говорил, что лучшего грибного места на свете не сыскать. В воскресные дни, до завтрака, отец доставал большую корзину и, подморгнув Степе, звал его по грибы.
Мать обычно ворчала: добрые люди ушли за грибами чуть свет в дальнюю Субботинскую рощу, а они только еще собираются...
«А мы рядом... в момент обернемся. Еще картошка не успеет остыть», — улыбаясь, отвечал отец, и они шли в Замызганки.
Там было тихо, пустынно, никто из заядлых грибников сюда не заглядывал, и, может быть, потому грибов всегда оказывалось великое множество. Были тут и крошечные, молодые грибки, еще только пропоровшие землю и похожие на упругие рожки козленка, были и старые грибы, поднявшие на своих шляпках бурые листья и колючие иглы хвои.
Обходя перелог за перелогом, отец и Степа через какой-нибудь час уже возвращались домой с полной корзиной. На расспросы встречных, откуда такие отменные грибы, отец кивал в сторону Замызганок, но никто ему не верил.
«Ну и пусть не верят! — говорил Степа. — Нам же лучше! Будет наше заповедное место».
Посмеиваясь, отец соглашался.
Сейчас, очутившись в Замызганках, Степа невольно остановился: разве можно пройти равнодушно мимо таких памятных мест!
Он вспомнил, как учил отец: собрался по грибы — не торопись, не бегай, ходи, как столетний дед, сверли землю глазами, примечай каждый бугорок, каждый приподнятый лист; а заметишь — опустись на корточки, пощупай кругом землю руками.
Так Степа и сделал. Присев, он раздвинул колючие лапы молодой елки и вперил глаза в лесной сумрак. Смотрел долго и упорно, но пока видел только обомшелые корни осин и березок, бурые, прошлогодние листья да сухие ветви. Понемногу глаз стал привыкать к зеленоватому сумраку. Вот в бурой листве мелькнули сыроежки — одна молодая, розовая, другая — бледно-голубая, старая, в трещинах. Но разве уважающий себя грибник берет сыроежки!
А вот сквозь ветви глаз нащупал подосиновик. Гриб задорно накренил свою красную шляпку и как будто поддразнивал: «А ну-ка, возьми меня!»
Забыв, что он в одних трусах, Степа, пригнувшись, храбро полез в чащобу. Колючие ветви царапали ему голые плечи и грудь, зацеплялись за туго набитый рюкзак, что висел у него за спиной, какой-то гибкий, тонкий прутик больно хлестнул по щеке. Но мальчика было не остановить. До подосиновика осталось лишь несколько шагов.
И тут Степа понял, что он обманулся. То, что он принял за красную грибную шляпку, оказалось покрасневшим прежде времени осиновым листом, прилепившимся к какой-то коряжине.
Степа только головой покачал: это бывает — грибы, они любят обманывать людей. Значит, надо смотреть еще зорче!
Но сколько он ни смотрел, грибов не было. «Рано еще, не грибное сейчас время», — решил Степа, продираясь сквозь чищу.
Наконец лес поредел, показалась поляна.
Неожиданно с поляны донесся чей-то шепот.
Степа прислушался.
— Слышишь? Трещит что-то! — встревоженно говорил какой-то тонкий голосок.
— Ну и пусть! — ответил другой, глуховатый, с хрипотцой.
— Может, барсук?
— Зачем барсук... Не иначе волк... А то и медведь.
— Да ну тебя, Нюшка! Всегда пугаешь... Наверно, еж копошится. Давай посмотрим...
Степа усмехнулся и, решив созоровать, еще сильнее зашумел в кустах: пусть трусихи на поляне подумают, что через лесную чащу пробирается зверь серьезный, а не какая-нибудь мелочь вроде ежа.
— Нет, это не еж! — закричали на поляне. — Тетя Груня! Несите топор! В кустах какой-то зверь шебаршится...
— Ах, выдумщицы! — ответил издали женский голос. — Совсем уж невесты, а все еще в игры играют. Занимались бы своим делом.
— Ей-ей, тетя Груня!.. Напролом лезет.
— Возьмите головешку из костра да попугайте своего зверя!
Степа фыркнул, но на всякий случай поспешил поскорее выбраться из густых зарослей лозняка и осинника.
На поляне, заросшей густой травой, на небольшом расстоянии от кустов в настороженных позах стояли две девчонки.
Увидев Степу, они вскрикнули, закрыли лица руками и бросились бежать.
Степа пожал плечами: неужели он такой страшный?
Он стоял на перелоге, заросшем вдоль меж густым, курчавым кустарником. С одной стороны кустарник был вырублен и собран в большие кучи.
На дальнем конце перелога жарко пылал костер; к небу поднимались оранжевые, просвечивающие языки пламени. Недалеко от костра работала женщина в синей домотканой юбке. Она подкапывала корни кустарника заступом, подрубала топором, потом, ухватив руками, с силой выдирала корни из земли — черные, тонкие, гибкие, они были похожи на змей — и бросала их в костер.
Девочки между тем подбежали к женщине в синей юбке и, перебивая друг друга, принялись ей что-то возбужденно объяснять. Женщина выпрямилась, вытерла ладонью мокрое от пота лицо и, посмотрев на Степу, направилась в его сторону.
— Ты хоть прикройся! — крикнула она. — Голыш беспортошный!
Только сейчас Степа сообразил, почему он так перепугал девчонок: он был без рубашки, без брюк, в одних трусах.
«Вот уж действительно деревня-матушка!» — усмехнулся Степа. Не то что у них в городе. Там ходи в трусиках где угодно — по улицам, в магазин, в аптеку.
Завернув за куст, Степа быстро оделся, туго затянулся желтым скрипучим ремнем с портупеей и, держа в руках рюкзак, вышел на поляну. Женщина стояла здесь же. Была она высокая, худощавая, с широким скуластым лицом в крупных рябинках.
Степа сразу узнал ее — тетя Груня Ветлугина.
— Вот это другое дело! — сказала Аграфена, любуясь бравым видом подтянутого, стройного паренька. — Прямо красавец писаный, кавалер! А то вылез голый срамник из лесу, только девчонок перепугал... Крапивой бы тебя за это! Чей будешь-то?.. Погоди, погоди... — Она пристально вгляделась в Степино лицо и вдруг всплеснула руками: — Да ты не Степка ли Ковшов из колонии?
— Он самый! — отозвался польщенный Степа. — Только теперь уж не колония, а детский дом называется. — А я вас, тетя Груня, тоже узнал...
Женщина обернулась и помахала рукой девчонкам, которые всё еще стояли на дальнем конце перелога.
— Идите, идите! Он уже оделся.
Потом она заслонила Степу своей спиной и обратилась к приблизившимся девчонкам:
— А ну, поскакушки, говорите: чего вам сейчас хочется?
Девчонки остановились.
— Только скоро... Сто лет не думать — голова отсохнет! — поторопила Аграфена.
— Я загадала, — подалась вперед одна из девочек. — Поскорее бы пообедать да сбегать на речку искупаться. А еще, чтобы все корни сами из земли повылезали...
— У тебя только и на уме — на речку да за ягодами! — отмахнулась Аграфена и посмотрела на другую девочку. — А ты, Татьянка, чего задумала?
Девочка, которую назвали Татьянкой, все еще стояла, прикрыв глаза.
— Не знаю, тетя Груня... — вполголоса призналась она.
— А братца увидеть не хочешь? — спросила Аграфена и, отступив на шаг в сторону, подтолкнула Степу к девочкам. — Принимай вот...
— Таня! — вскрикнул Степа и, опустив на землю рюкзак, шагнул к сестре.
Да, перед ним стояла его родная сестра, которую он не видел более четырех лет. Она была худенькая, в коротеньком платьице, в тряпочных чуньках, с острым шелушащимся от солнца носиком и почему-то стриженная, как мальчишка, под машинку.
Таня, широко открыв глаза, испуганно смотрела на брата. Потом бросилась к нему, но шага за два остановилась, словно ей отказали ноги, и, часто заморгав, вдруг беззвучно заплакала.
Степа поежился. Как все мальчишки, он не выносил слез. А тут еще плакала родная сестренка. На выручку подоспела Аграфена:
— Эх, как задожжило! Хоть кадушку подставляй...
— У нас там жбан из-под кваса есть, могу принести, — сказала Нюшка, дочка Аграфены.
Скуластая, как и мать, большеглазая, приземистая, со шрамом над бровью, Нюшка несколько раз обошла Степу кругом, задержала взгляд на светлых пуговицах, на новеньком ремне с портупеей, на вишневом комсомольском значке на груди мальчика. Ее лицо выражало такое любопытство, что Степа невольно покраснел.
— Это у вас в колонии или, как там, детском доме, форма такая? — деловито спросила Нюшка. — У всех, да?
— Нет... это не в детдоме, — пояснил Степа. — Такую только комсомольцы носят... юнгштурмовка называется.
— А ты уже комсомолец?.. Давно?
— Не очень.
— Справный костюм, — похвалила Аграфена, поправив зеленую фуражку на голове Степы. — Совсем как красноармеец... Смотри-ка, Таня!
Сестренка уже не плакала. Вытерев кулаками мокрые щеки, она смущенно улыбнулась и, подойдя к Степе, уткнулась ему в плечо.
И опять в глаза Степе бросилась ее остриженная голова.
— Почему тебя, как мальчишку, оболванили?
Таня вспыхнула и, отвернувшись, принялась повязывать голову косынкой:
— Болела я... вот и остригли.
— А мы тебе письмо написали, — сказала Нюшка. — На двух страницах... Вот только отправить не успели.
— О чем письмо? — спросил Степа.
Нюшка и Таня переглянулись: говорить или нет?
— Тут, Степа, такое дело... — заметив замешательство девочек, пояснила Аграфена. — Таня в город засобиралась... Не могут ли ее там в колонию принять?
— А что? Плохо у дяди? Обижают ее?
— Нет, по головке гладят. Живет — песенки поет... Как сыр в масле катается! — сердито бросила Нюшка.
— А ты помолчи! — остановила ее мать и, обернувшись к Степе, уклончиво сказала: — Плохо не плохо, а все же к родному братцу поближе хочется.
— Не знаю, тетя Груня... — растерянно ответил Степа. — Я ведь теперь и сам не в детдоме. Нас всех, у кого есть родственники, по домам рассылают. Вот я и приехал поступать в вашу школу.
— В шекаэм?! — почти вместе вскрикнули девочки.
Степа кивнул головой:
— Да... В школу крестьянской молодежи. У меня и направление есть.
— Оно, пожалуй, и лучше, что ты в деревню вернулся, — сказала Аграфена. — Вон ты какой рослый да статный. Какой год-то пошел? Четырнадцатый, поди, как Нюшке?
— Пятнадцатый, — поправил Степа.
— Вот то-то... Совсем большой... Теперь Таня с тобой не пропадет.
— А где ты жить будешь? — спросила сестра. — У дяди?
— Почему у дяди? — с достоинством сказал Степа. — При школе. Мне как колонисту и детдомовцу стипендия полагается и общежитие. Вот пойду к директору, покажу направление, и все будет сделано. Пойдем со мной?
Таня вопросительно посмотрела на Аграфену:
— Нам работать надо...
— Ступай, ступай, — разрешила Аграфена. — Раз брат приехал — можно и отлучиться...
Нюшка толкнула подругу в бок.
— Тетя Груня, — попросила Таня, — отпустите и Нюшку с нами!
Мать посмотрела на дочь и покачала головой. И что за непоседа! Ходит на все свадьбы, на все похороны, первая примчится на пожар, первая встретит приехавшего из города уполномоченного, проводит его до сельсовета, умучает по дороге расспросами. Как же ей не проводить сейчас до школы Степу-колониста!
— Ладно, идите! — согласилась Аграфена. — Только Ворону на глаза не попадайтесь... — И она пошла на другой конец перелога, к потухшему костру.
— Кто это Ворон? — поинтересовался Степа.
— Да так... дядечка один, — замялась Таня.
— Что там дядечка! — фыркнула Нюшка. — Ты уж прямо говори. Все равно Степа узнает.
— Ой! — вскрикнула Таня, схватив подругу за рукав. — Вот он и сам... Давай скорее за работу!
Оставив Степу одного на поляне, девчонки побежали к Аграфене и принялись складывать в кучи срубленный кустарник.
ВОРОН
На конце перелога остановилась легкая тележка, запряженная сытой лошадью с белой, похожей на крест лысиной на лбу. Бросив вожжи на спину лошади, с тележки спрыгнул статный, грузный мужчина.
«Это же дядя Илья!» — вглядевшись, узнал Степа.
Окинув взглядом наполовину расчищенный перелог, Илья Ефимович Ковшов подошел к Аграфене.
— Не дюже много наработала, — недовольно сказал он. — Будешь так ковыряться — до сенокоса не управишься. Когда ж перелог станем запахивать?
— Так за́росли-то какие, Илья Ефимович! И корней без счета, — ответила Аграфена. — Выдираешь, выдираешь — сил не хватает.
— Сил мало — не бралась бы за раскорчевку. Никто тебя не неволил. Я и других нашел бы...
— Это так, — согласилась Аграфена, понимая, что спорить бесполезно. Лукаво прищурившись, она посмотрела на Ковшова: — И куда тебе, Ефимыч, земли такую прорву? Пустыри запахиваешь, перелоги корчуешь...
— Ладно, Грунька! — с досадой отмахнулся Ковшов. — Ты в мои дела не суйся, я пока еще своим умом живу, у других не занимаю...
— Что и говорить, ума у тебя палата, на всю деревню хватает, — усмехаясь, проговорила Аграфена и, заметив остановившегося за спиной Ковшова Степу, улыбнулась: — Ты глянь, кто приехал-то!
Илья Ефимович обернулся.
— Здравствуйте, дядя Илья! — громко произнес Степа.
Дядя был высокий, крутоплечий, с литыми, сильными руками, с могучей шеей; он считался в деревне первым силачом. Борода острижена, подбородок зарос черной щетиной с проблесками седины, усы пожелтели от махорки, на переносице крупная, похожая на ягоду переспевшей малины бородавка. Глаза смотрят задорно и весело. Одет дядя в заношенный пиджак, из нагрудного кармана торчит карандаш и раскладной желтый аршин; от добротных сапог несет запахом дегтя.
— Эге! Кого вижу! — воскликнул Илья Ефимович. — Племянничек! Родная кровь! Из дальних странствий возвратясь, как говорится. Какими судьбами?
Степа объяснил, зачем он приехал в Кольцовку.
— Та-ак! — протянул дядя. — Отец, значит, от дома в сторону отвернул, а сынок все-таки к родным местам потянулся... — Илья Ефимович взял Степу за плечи, повернул, похлопал по костистой спине. — Вот только худущий ты, брат... И вытянулся как жердь огородная. Кормили, что ли, в обрез, добавки не давали?
— Да нет, была добавка, — признался Степа. — Я ведь котлоносом работал.
— Кем, кем?
Степа покраснел: не стоило, пожалуй, об этом сейчас говорить, но делать нечего — пришлось объяснить.
— У нас в колонии мы котлы из кухни в столовую таскали. За это нам повар добавочную порцию отпускал.
— Скажи на милость! — с довольным видом рассмеялся дядя, подмаргивая Аграфене. — Мал, мал, а сметлив. У котла-то оно посытнее. Ну ничего, племяш! Мы тебя и здесь подкормим. Иди-ка в школу, определяйся там, а потом ко мне.
В это время из кустов, ломая ветви и треща валежником, словно молодой медвежонок, вылез большеротый, губастый мальчишка и бросился к Илье Ефимовичу:
— Тятька, в наших овсах рукавишниковская лошадь пасется!
— Ах, черти, гулёны! Распустили свою худобу! — выругался Илья Ефимович. — И много там потравили? Чего ж ты зевал, лопоухий?
— А зачем мне зевать! — осклабился сын. — Я уздечку с лошади снял.
— Дрянь уздечка, ломаного гроша не стоит, — буркнул Илья Ефимович, мельком оглядывая шитую-перешитую уздечку. — Надо бы лошадь в сельсовет отвести да акт на потраву составить...
Он направился к тележке, но, вспомнив о племяннике, остановился:
— Да, Филька! Смотри-ка, кто приехал! Степан. Братец твой двоюродный. Иди поздоровайся.
Вытаращив глаза, Филька, не моргая, уставился на Степу, словно видел его впервые в жизни.
Потом, по привычке шмыгнув широким носом, он шагнул к брату и резким движением протянул ему короткопалую ладонь:
— Здорово, колонист!
Степа молча пожал Филькину руку.
— Ну, то-то! — удовлетворенно заметил Илья Ефимович и погрозил сыну пальцем: — Смотри не цапайся с ним! Все же родная кровь. И не смотри, что он худой — котлонос все-таки...
— Чего? — переспросил Филька.
— Потом разберетесь, потом! — заторопился Илья Ефимович. — Поехали за вениками...
Филька немного замешкался, поотстал от отца.
— А ничего жмешь... Есть силенка... — снисходительно заметил он Степе. — А бороться умеешь?.. Как Иван Поддубный? Ну ладно, иди, вечером померяемся... Котлонос!..
И он побежал вслед за отцом к тележке. Вскоре Илья Ефимович с сыном уехали.
— Ну что, повстречал двоюродного братца? — спросила Аграфена. — Теперь он тебе проходу не даст: борись с ним да на кулачки сходись. Всем ребятам кости помял...
Она нагнулась и, схватив узловатый корень, принялась рывком выдергивать его из земли.
Степа потоптался на месте, потом взял топор и, поплевав на ладони, принялся сводить кустарник.
Мелкий лозняк он подрубал глубоко под корень и отбрасывал в сторону. Легко поддавался и тонкий осинник. Но вот па пути встретилась ольха толщиной с руку. Степа обхватил топорище обеими руками, хекнул и наискось всадил светлое лезвие топора в сочный ствол дерева. Потом он так же ловко нанес еще три-четыре удара. Ольха на мгновение замерла, наклонилась и, ломая ветви, с шумом и треском упала на землю.
«Зря не тяпает. Умело топор держит!» — отметила про себя Аграфена, следя за работой мальчика. Потом она тронула Степу за плечо и взяла из рук топор:
— Ступай-ка по своим делам. Будет еще время, наработаешься. У дяди не заскучаешь... — Аграфена позвала девчонок: — Идите и вы с ним, да побыстрее, не прохлаждайтесь там.
У ДИРЕКТОРА
Как только вышли из перелесков на проселочную дорогу, Нюшка сразу же свернула на боковую тропинку, наискось пересекавшую ржаное поле.
Шли цепочкой: впереди Нюшка, за ней Таня, позади всех Степа.
Прозрачные зеленоватые стебли ржи почти сплошь закрывали узкую тропинку, но Нюшка безошибочно нащупывала ее босыми ногами, шла уверенно и быстро.
Рожь то вставала плотной зеленой стеной, то едва доходила ребятам до пояса и была густо расцвечена полевым клевером, голубыми васильками, желтой сурепкой.
— Степа, а ты хлеб жать умеешь? — спросила Нюшка, оглядывая ржаное поле.
— Серпом не приходилось... Мы у себя в колонии жнейкой убирали.
— Научишься и серпом, была бы спина здоровая, — сказала Нюшка и обернулась к подруге: — Правда, Таня?
Девочка ничего не ответила и только туже затянула под горлом кончики платка, который то и дело сползал с ее стриженой головы.
Степа, прибавив шагу, заглянул сестренке в лицо. «И почему она все время молчит и прячет глаза?»
— Таня! А с чего это дядю Илью Вороном прозвали?
— В деревне всем клички дают... — замялась сестра.
— Клюв у него большой, вот и прозвали, — не оглядываясь, сказала Нюшка. — Хватает чего ни попадя и все в гнездо тащит... Только ты смотри, — предупредила она Степу, — еще ляпнешь при нем, что он Ворон, — так он тебе все уши оборвет... У меня до сих пор мочка болит. — И девочка, выпростав из-под платка ухо, зачем-то потерла его.
Сорвав коленчатый стебель ржи, Степа задумчиво пожевал соломинку.
Нет, девчонки явно чего-то недоговаривали. Как бы там ни было, но дядя Илья совсем не плохой человек. После гибели Степиных родителей он взял к себе Таню на воспитание и всегда, когда Степа приезжал в Кольцовку, радушно встречал его, расспрашивал, как он живет и учится. Дядя Илья даже сам несколько раз был у него в колонии и привозил подарки.
Правда, отец Степы не любил вспоминать про брата и при случае обычно говорил: «Разошлись наши пути-дорожки. В одном доме жили, да в разные углы смотрели». Так ведь это раньше было.
— А вы что, с матерью на дядю работаете? — осторожно спросил Степа у Нюшки. — И платит он вам?
— Платит, платит... — неопределенно ответила Нюшка. — Сухую корку да фунт дыму — глодай всю зиму!
— Выходит, что вы вроде батраков... наемная сила?
— Еще чего! — невесело усмехнулась Нюшка. — Разве дядя Илья позволит! У нас все полюбовно, по-соседски. — И, махнув рукой, она вдруг спросила Степу, зачем он сказал дяде про котлоноса.
— А что ж такого? — удивился Степа. — У нас в колонии так заведено. Каждая четверка носит котлы три месяца... По очереди.
— Ах, вот что! — кивнула Нюшка. — Только Филька все равно растрезвонит — котлонос да котлонос! Так и прилипнет прозвище, как репей. У меня вот тоже кличка есть: Сучок да Худое Брюхо. А Таню Сморчком зовут. А за что?
Миновав ржаное поле, Степа и девочки увидели Кольцовку. Большое, на сотню дворов, село с садами и палисадниками раскинулось на высоком берегу реки.
Справа от села, примыкая к реке, зеленел бывший помещичий парк, и на зеленом фоне ярким мазком проступала оранжевая черепичная крыша большого здания.
— Вот и шекаэм. — Нюшка показала рукой на крышу. — Теперь только речку перейти...
И она опять свернула в сторону от дороги и повела Степу и Таню прямой тропкой через небольшой болотистый лужок.
На ходу Нюшка рассказала про ШКМ. Школа большая, в два этажа, в учительской стоят мягкие кресла, на стенах — лепные фигуры толстеньких голых ребятишек: амуры и купидоны, как их называют. Сдобного Фильку Ковшова мальчишки тоже прозвали Купидоном.
При школе есть огород, столярная мастерская, две породистые коровы — Диана и Незабудка, которых держат на каком-то рационе и кормят всем самым вкусным, разве только не хватает им птичьего молока. Есть еще одноглазая лошадь Царица, которую все ребята очень любят, часто кормят сахаром и раз даже привели ее в класс на урок.
А еще при ШКМ имеется общежитие. В нем живут те ребята, которым далеко ходить домой или у кого нет родителей. Общежитие помещается в бывшей барской конюшне, но все равно там очень интересно и весело. Ребята показывают туманные картины, ставят спектакли, у них есть гармошка, голосистый горн и три балалайки.
Директора школы зовут Федор Иванович Савин, или, по-другому, Фис. Он очень важный и строгий, ученики его боятся, но Степе робеть нечего, раз у него бумажка из города.
— А я и не боюсь! С чего ты взяла? — И Степа, в свою очередь, спросил девочек, в каком классе они учатся.
— Мы и так ученые, — поспешила ответить Нюшка. — Все знаем, все понимаем. И как телят пасти, как свиней кормить, воду таскать. Куда нам больше...
Степа вопросительно посмотрел на сестру.
— Училась я, в шестой класс ходила. Потом заболела, — робко пояснила Таня.
— А в этом году?
— Не знаю... Как дядя Илья скажет.
Степа нахмурился.
Подошли к реке. Неширокая, с топкими берегами, с уютными заводями, она казалась неподвижной. Только по зеленым водорослям, что вытянулись и полегли на дно, можно было определить, в какую сторону течет вода. Старые ивы склонились с берега и, обмакнув в воду свои мягкие ветви, казалось, пришли на водопой.
Через реку были переброшены лавы. Нюшка первой вбежала на них, осторожно дошла до середины реки и принялась подпрыгивать.
Гибкие слеги, пружинисто изгибаясь, зашлепали по воде, обдали девочку брызгами.
— Можно! Переходите! — крикнула Нюшка, выходя на другой берег. — Сегодня без подвоха. А то мальчишки, бывает, подпилят слеги — и полетишь в воду.
За рекой началась тенистая липовая аллея.
Аллея привела к двухэтажному кирпичному зданию. На столбах, охраняя вход в школу, дремали два старых каменных льва с выщербленными мордами. Деревянные перила крыльца глянцевито блестели, а ступеньки были так искусно обточены ногами школьников, что казалось, здесь поработал морской прибой.
— Куда ты? — удивленно спросил Степа, видя, что Нюшка проходит мимо крыльца.
Девочка только махнула рукой: она не раз мыла у директора полы и стирала белье и знает, где его найти.
Завернув за угол школы, Нюшка подошла к небольшому деревянному флигелю и заглянула сквозь изгородь:
— Так и есть... в саду он. Цветочки поливает.
— Может, в другой раз? — осторожно сказала Таня.
— Нет уж, давайте разом... Отделаемся — и в сторону, — решительно заявила Нюшка, открывая калитку и подталкивая Степу. — Иди, мы тебя подождем.
Степа оставил девочкам рюкзак, расправил складки на юнгштурмовке и шагнул за калитку.
Федор Иванович Савин любил свой садик перед флигелем. Окруженный крепким дубовым частоколом с протянутой поверху колючей проволокой, сад был, пожалуй, самым тихим и укромным местом в этом шумном школьном мире. Здесь хорошо было отдохнуть, побыть наедине или принять гостей. В саду росли яблони и груши, в углу стояло несколько ульев, но больше всего Федор Иванович любил разводить цветы.
Вот и сейчас, присев на корточках перед клумбой, он внимательно рассматривал своих питомцев.
Пышно распустившиеся пионы радовали его, хорошо шли анютины глазки, а вот флоксы огорчали. Они были хилые, тщедушные: видно, Федора Ивановича подвели с семенами.
— Здравствуйте, товарищ директор! — услышал он вдруг за спиной.
Савин поднялся и с недоумением уставился на подростка в зеленом костюме.
— Здравствуй, молодец, здравствуй! Меня, кстати, зовут Федор Иванович. Как ты сюда попал?
«А что, разве нельзя?..» — хотел было спросить Степа, но вовремя сдержался и, достав из нагрудного кармана сложенную вчетверо бумажку, протянул ее директору:
— У меня направление в вашу школу...
Отряхнув с рук землю, Савин взял бумажку.
«Детский дом имени Тимирязева (бывшая сельскохозяйственная детская колония), — прочел он, — направляет Ковшова Степана для поступления в кольцовскую школу крестьянской молодежи. Ковшов С. пользовался государственным обеспечением».
Пока Федор Иванович читал, Степа с любопытством рассматривал его.
Директор был невысокий, полнеющий человек, с гладко выбритым округлым лицом. Он совсем не походил на строгого директора школы, а скорее казался добродушным пасечником или садовником, о чем свидетельствовали и полотняный, выгоревший на солнце костюм, и сандалии на босых ногах, и широкополая соломенная шляпа.
Степе не понравились только глаза директора, когда тот окинул мальчика беглым, но цепким взглядом. Глаза были маленькие, юркие, пронзительные и какого-то неопределенного, грязновато-свинцового цвета.
— Та-ак! — задумчиво протянул Савин, складывая бумажку и пожевав губами. — Колонист, значит? А кем тебе доводится Илья Ефимович Ковшов?
— Это мой дядя.
— А где твои родители?
— Их убили... — помолчав, ответил Степа. — В двадцать четвертом году... кулаки...
— Да, да, вспоминаю, — перебил его директор. — Илья Ефимович рассказывал. Тебя, значит, определили в детскую колонию, а сестренку взял на воспитание дядя...
Он вдруг замолчал и вновь окинул мальчика пристальным взглядом.
Потом отвернулся и, пригнув яблоневую ветку, долго рассматривал зеленую рогатую гусеницу и наконец резким щелчком сбросил ее на землю.
— Скажи, пожалуйста, — спросил Савин, — а почему ты решил учиться в деревенской школе, да еще именно в кольцовской? Почему не остался в городе, не пошел, скажем, в профшколу или фабзавуч?
— Так нас же послали... — пояснил Степа. — Да я и сам попросился в Кольцовку. Сестренка здесь, дядя...
— К родным поближе — дело, конечно, хорошее. Но у нас же школа особая. Готовим культурных крестьян, опытных земледельцев... У тебя что же, призвание к агротехнике, талант, и ты твердо решил посвятить жизнь сельскому хозяйству?
Степа пожал плечами — он никогда об этом не думал. В колонии ему приходилось работать и на полевом участке, и в огороде, но еще с бо́льшим интересом трудился он в мастерских.
— У меня направление к вам, — нахмурился он, — и вы должны принять...
— Ну что ж, — вздохнул Савин. — Учись, если направили, не возражаю... Зачислим тебя в седьмой класс. Но насчет стипендии ничего обещать не могу. Все уже распределено... И в интернате свободных мест нет.
— Это как же? — опешил Степа. — В колонии сказали, что меня в общежитие примут... И стипендия полагается.
Директор развел руками: к сожалению, он ничего не может поделать. Как видно, придется Степе жить у дяди. Илья Ефимович — человек обеспеченный, добрый и, конечно, с радостью примет племянника к себе.
— Так что до свидания, Ковшов! Можешь быть свободным до первого сентября — гуляй, отдыхай...
Федор Иванович вновь нагнулся к цветам, давая понять, что разговор закончен.
— До свидания, товарищ директор! — отрывисто сказал Степа и, повернувшись, почти побежал к калитке.
— Ну как... все уладил? — нетерпеливо спросила Нюшка, когда Степа выскочил из сада.
— Уладил! — зло ответил он, рывком вскидывая на плечи рюкзак. — Хоть сейчас уходи отсюда, хоть завтра... Нет для меня стипендии...
— Вот так Фис! — ахнула пораженная Нюшка. — Кому есть стипендия, кому нет...
— А кому есть? — спросил Степа.
— Поживешь — узнаешь, — уклончиво ответила Нюшка и высказала подозрение, что Степина бумажка, как видно, совсем не строгая, если никак не подействовала на директора.
Степа ничего не ответил. Нюшка заторопилась к матери.
— А ты иди с братом домой, — кивнула она Тане. — Ворон, он и не узнает, что ты с работы ушла.
КОВШОВЫ
Таня еле поспевала за братом — так быстро он шагал. Степе уже не терпелось увидеть свою избу. Пусть она заброшена, окна крест-накрест заколочены досками, крыльцо заросло травой, но все равно это родной дом!
Вот сейчас они с Таней обойдут избу кругом, постоят в проулке у старой дуплистой черемухи, заглянут в огород. Потом возьмут у бабушки ключ, откроют ржавый замок, с треском оторвут от окон доски, приколоченные длинными гвоздями, широко распахнут рамы и двери, и с улицы потянет свежестью. И солнышко заглянет во все углы ковшовского дома.
Степа достанет веник, побрызгает пол водой и выметет за порог мусор. Потом они с Таней посидят за столом: он у стены, сестра — напротив, спиной к кухне, как обычно любили сидеть отец и мать.
Степа шел все быстрее.
Осталось лишь миновать колодец с позеленевшей, обомшелой колодой, кучу бревен, палисадник у избы Ветлугиных — они были соседями Ковшовых, — и перед ним откроется родной дом. Небольшой, в три окна, срубленный из толстых бревен, с сизой взъерошенной крышей из дранки. К стене прибит кусок жести, и на нем нарисован багор — знак того, что хозяин дома должен являться на пожар с багром в руках.
Но что это? Степа остановился и зачем-то глубже нахлобучил фуражку: избы с багром не было.
Ее место занимал огромный, в шесть окон, дом, обитый свежим тесом и покрытый железом.
По углам дома ослепительно сияли на солнце оцинкованные водосточные трубы. Наличники с затейливой резьбой, окрашенные в ядовитый зеленый цвет, как венки, облегали окна. Застекленные террасы, точно крылья, выросли у дома справа и слева. Степа понял, что это дядин дом, стоявший с ними по соседству, за эти годы, пока он не был в деревне, пополнел, раздался в боках, напялил на себя новенькую, нарядную одежду, но по-прежнему выглядел все таким же неуклюжим, приземистым и некрасивым.
Степа с недоумением оглянулся на Таню.
— А нашу избу снесли, выходит? — спросил он, не скрывая обиды.
— Нет, она здесь... Под одной крышей с дядиной... — И Таня объяснила, что произошло.
Избы их отца и дяди Ильи стояли на одной усадьбе, отделенные узким проулком. Дядя все твердил, что без хозяина дом — сирота, что без присмотра братнина изба пропадет. Наконец он уговорил свою старуху мать, подвел обе избы под одну крышу и обил их снаружи тесом.
— А кто живет в нашей избе? — спросил Степа.
— Я с бабушкой, да еще дядины дочери, — сказала Таня. — Дядя говорит, теперь наш дом сто лет стоять будет.
— Сто лет... — грустно усмехнулся Степа. — Только его не увидишь больше. Запрятали, запаковали...
Подошли к крыльцу. Калитка была на замке.
Таня заглянула под ступеньку, пошарила в водосточной трубе — ключа нигде не было. Она растерянно пожала плечами: как же теперь войти в дом? Прошла вдоль проулка, посмотрела в огород, и вдруг лицо девочки просветлело. Она поманила к себе Степу.
На огороде, у бревенчатой, прогретой солнцем стены старой бани, словно у теплой печки, сидела на бревнышке бабушка Евдокия.
Степа улыбнулся — пожалуй, впервые за этот день так широко и радостно — и распахнул дверцу в огород. Таня сделала предостерегающий жест:
— Тихо... Не буди ее!
Бабушка дремала. Платок сполз у нее с головы, обнажив седые редкие волосы. Очки в жестяной оправе еле держались на кончике носа. Корзина, которую она плела, откатилась далеко в сторону.
Таня и Степа на цыпочках подошли к бревну и присели рядом с бабушкой.
— Как она? — вполголоса спросил Степа.
— Ноги болят, глаза видят плохо. Вчера с крыльца оступилась... «Чего-то, говорит, ступенек мало стало».
— А это зачем? — Степа показал на кучу тонких, гибких прутьев.
— Бабушка, она такая — часу без дела не посидит. В поле ее ноги не пускают, так она корзины плетет... И меня научила...
Бабушка, разомлевшая от сладкой дремы, что-то бормотала во сне, вздрагивала и все больше склонялась на Степино плечо. Степа замер и, стараясь не разбудить ее, осторожно обнял за спину.
«Совсем старенькая стала», — с нежной жалостью подумал мальчик, и ему показалось, что он уже куда сильнее бабушки.
А ведь когда-то все было по-иному. Сколько раз Степа с Филькой, прокаленные солнцем, с зазеленевшими от травы рубахами и штанами, с боевыми царапинами и ссадинами на руках и ногах прибегали к бабушке в этот самый огород и взахлеб рассказывали о событиях дня: где побывали, что видели, с кем подрались...
Нередко возникали и жалобы. Филька плакался бабушке, что братец чуть не утопил его в бочаге, а Степа умолял бабушку поровну разделить все цветные стеклышки, пузырьки и бабки, которые захватил своевольный Филька и спрятал в потайном месте.
Бабушка, тогда еще сильная, с острыми глазами, громким голосом, терпеливо выслушивала внуков, мирила их, когда нужно, щелкала по затылку и не очень больно драла за уши, потом по очереди вытаскивала у мальчишек занозы, смазывала топленым маслом ссадины, прикладывала к синякам холодные листья подорожника.
И день, полный трудных дел и необыкновенных приключений, обычно заканчивался для ребят у теплой и такой уютной стены старой бани, где бабушка рассказывала бесконечную сказку про молодца-огольца, который никогда не плакал, не жаловался, но и в обиду никому не давался. И внучата сладко засыпали под певучий бабушкин говорок. Но все это было очень давно.
Степа помнит только, что они жили тогда в большом сумрачном доме, где в стенах зияли широкие щели, полные рыжих тараканов, а потолочные матицы прогнулись и поддерживались дубовыми подпорками.
Старшим в доме был дедушка Ефим — сердитый, лохматый старик, который покрикивал на своих взрослых сыновей Илью и Григория, так же как отцы, в свою очередь, покрикивали на Фильку и Степу.
Потом дедушка Ефим умер, и братья решили делиться. В доме Ковшовых тогда было шумно целый месяц. Илья и Григорий вымеряли веревкой усадьбу, взвешивали сено, овес, муку, подолгу спорили и метали жребий, кому достанется телега, а кому сани, кому теленок, а кому овца с двумя ягнятами.
Илья, колотя себя в грудь, кричал на всю улицу, что Гришке Ковшову добро все равно впрок не пойдет: к земле он не прирос, в навозе копаться не будет и рано или поздно переметнется в город на легкую жизнь — листать да подшивать в какой-нибудь конторе бумажки.
Илья требовал себе львиную долю наследства, а Григорий, которого к этому времени назначили секретарем сельского Совета, смотрел на все сквозь пальцы.
«Лопух ты, недотепа! — сердилась на Григория бабушка. — Зачем же свое законное упускаешь? Ты шуми, скандаль... Иначе Илюха тебя обведет и выведет...»
Братья разобрали старый отцовский дом, выстроили себе по новой избе, изгородью разделили усадьбу на две половины, и каждый зажил сам по себе.
Бабушка Евдокия перешла жить к Григорию, и Степа был уверен, что сделала она это только ради него, потому что любила его больше, чем Фильку.
Через год уездный комитет партии послал коммуниста Григория Ковшова в отдаленное село Дубняки. Там его избрали председателем сельского Совета.
Григорий заколотил дом и снялся с насиженного места. Степа помнит, как они всей семьей ехали в Дубняки на подводе, нагруженной домашним скарбом. Ехали двое суток, ночевали в поле, мать с бабушкой варили на костре кашу, которая пахла дымом и казалась Степе необыкновенно вкусной.
«Что ж, цыган-кочевник, теперь у тебя ни кола ни двора... И родные места из памяти вон!» — с обидой выговаривала Григорию бабушка: ей очень не хотелось уезжать из Кольцовки.
«Что вы, мамаша! — возражал отец. — Не в чужую страну едем. В Дубняках тоже наша земля, мужицкая. И кол с двором найдутся — были бы руки справные...»
Вскоре вместе с группой бедняков и середняков Григорий Ковшов организовал в Дубняках первую в округе сельскохозяйственную коммуну. Ее назвали «Заре навстречу».
Коммунары получили бывшее помещичье имение. Они привели в конюшню своих лошадей и коров, свезли в сарай плуги, бороны и телеги, устроили в барской гостиной общую столовую и начали хозяйствовать. Починили теплицу, цветочную оранжерею, навели порядок в запущенном саду.
А весной, чуть только подсохла земля, коммунары выехали в поле. Это был необычный выезд. Впереди лошадей, запряженных в плуги, размашисто шагал Степин отец, держа в вытянутых руках кумачовый флаг.
На конце загона стояли крестьяне и покачивали головой.
Отец прошел два круга и, оглядев вспаханную землю, воткнул древко флага во влажную почву.
«Тятька, дай я флаг понесу», — попросил Степа.
«Ну что ж, и то подмога, — согласился отец. — Пусть все видят, как мы новую жизнь начинаем».
И Степа долго нес впереди пахарей трепещущее на ветру кумачовое полотнище.
«Хватит, коммунар-знаменосец! Поди, умаялся», — наконец остановил его отец.
А потом случилось несчастье.
Однажды летним утром Григория Ковшова нашли у моста через речку с простреленной из обреза головой. Невдалеке лежала мертвая изувеченная мать Степы.
К груди отца была приколота записка:
С новым председателем коммуны будет то же самое. Пуль хватит на всех.
Убийцу не нашли.
Григория с женой похоронили в старом парке, под окнами правления коммуны.
Как сквозь туман, видит Степа свежевырытую могилу в парке. В нее на веревках опускают два сосновых гроба. Кругом без шапок стоят сумрачные коммунары.
Бабушка, сорвав с головы платок, вдруг падает на землю. Она не кричит, не плачет, а только смотрит страшными глазами на белые гробы и, словно заклинание, шепчет про себя: «Кто тебя найдет, злой человек? Кто тебя покарает?»
И вот уже могила засыпана землей. Кто-то из коммунаров поднимается на рыжий холм и говорит, что никакие пули и угрозы их не испугают и что коммуна «Заре навстречу» живет и будет жить.
Потом все негромко запевают:
Вперед, заре навстречу, Товарищи в борьбе! Штыками и картечью Проложим путь себе.Степа плачет, слушает, и ему кажется, что это самая правильная песня на свете...
...От нахлынувших воспоминаний Степа неожиданно вздрогнул и сжал кулаки.
Бабушка вскинула голову, открыла глаза и испуганно пошарила вокруг себя.
— Батюшки, где ж корзинка-то?.. Ой, как это? Чур меня, чур! — замахала она руками. — Иль вы мне снитесь?
— Нет, бабушка, не снимся! — засмеялась Таня. — Степа из колонии приехал.
— Ну вот... — заулыбалась наконец бабушка, поправив платок и очки. — Пока не сморилась, все шмель над ухом гудел. Я так и загадала — быть доброй встрече...
— Бабушка, Степа, поди, есть хочет, — шепнула Таня.
— Так бы и сказал... — Бабушка поднялась, провела Степу и Таню в дом и загремела у печки заслонкой.
Пока Степа обедал, Таня успела рассказать бабушке, зачем брат вернулся в Кольцовку и чем закончился его разговор с директором школы.
— Вот ведь дела какие! — встревожилась бабушка. — Как же ты теперь жить-то будешь, мытарь?
— А знаешь, бабушка, — задумчиво произнес Степа, — я его все равно найду...
— Кого, внучек?
— А кто отца убил... Всю жизнь буду искать, а найду!
— Что ты, внучек! — встревожилась бабушка. — Сколько лет прошло... все забылось.
Степа не успел ничего ответить, как вернулась с работы жена дяди Ильи, Пелагея, молчаливая сутулая женщина, и две ее рослые дочери.
Потом приехали из лесу Илья Ефимович с Филькой. Они привезли целый воз молодых пахучих березовых веток, и Пелагея с дочерьми сразу же принялись за дело.
Часть веток они связали в тугие веники и повесили их на чердаке — в запас на зиму. Оставшимися ветками убрали крыльцо, сени, избу — ведь завтра в Кольцовке престольный праздник, троицын день.
Дядя Илья спросил Степу, чем закончился его разговор с директором школы. Степа рассказал.
— Те-те-те! — причмокнул языком Илья Ефимович. — Лишать тебя стипендии — это, пожалуй, не по закону будет.
— Вот-вот! — обрадованный поддержкой, горячо заговорил Степа. — Надо письмо в детдом написать...
— Эге, а ты, я вижу, ретивый да быстрый! — усмехнулся дядя и посоветовал Степе не кипятиться и на рожон не лезть — все как-нибудь обойдется.
Этот разговор слышала бабушка Евдокия.
— Что ж, Илья, — тихо сказала она сыну, когда Степа вышел на улицу, — придется, видно, племянника-то на свой кошт брать.
— Это почему же? — удивился Илья Ефимович. — Пусть его государство кормит. Парень все-таки сирота... И отец у него погиб на боевом посту, так сказать...
Но Евдокия отлично понимала своего сына и знала, как надо с ним разговаривать. Она напомнила про Григорьеву избу, про сарай, про половину усадьбы и кое-какое имущество — про все, что Илья присоединил к своему хозяйству. Хотя он и делал это исподволь, незаметно, но люди по соседству ведь не слепые, они все видят, примечают и помнят. Да и сельсовет не даст сирот в обиду, и народный судья в городе — человек, сказывают, строгий и справедливый.
Пораженный Илья Ефимович уставился на мать:
— Чтоб вам типун на язык, мамаша! И откуда у вас злости столько?
— С кем поведешься, от того и наберешься, — усмехнулась старуха. — Так что ты уж, сынок, веди в дом Степу-то. По-хорошему, по-законному... Чтоб все видели — парень не обсевок в поле и не гость на недельку.
Вечером, за ужином, Илья Ефимович, хмуро оглядев Степу и покосившись на старуху мать, объявил домочадцам:
— Слушай все. И чтоб помнилось... Степан у нас жить будет... Ковшов так уж Ковшов. И взыскивать с него станем по-ковшовски...
СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Утром Степа проснулся от колокольного звона.
Он по привычке вскочил с постели, потянулся к тумбочке за одеждой и улыбнулся: он лежал в сарае на сене, которое, как живое, шевелилось под ним и потрескивало.
Над головой, в дыре, сквозь соломенную крышу голубело небо, а рядом, закутавшись в пестрое лоскутное одеяло, крепко спала Таня.
Да и звон был совсем другой: в колонии — ясный, чистый, а здесь — мерный, тяжелый, бухающий.
«К обедне звонят... Сегодня ведь троица», — вспомнил Степа и, захватив одежду, как со снежной горки, съехал с сена вниз. Осторожно приоткрыл ворота и очутился на улице.
Утро стояло во всей своей красе. Выгоревшее белесо-голубое небо было просторно и пустынно, только за еловым бором начинали кучиться белые высокие облака, словно в тихую гавань стягивались легкие парусники.
Сарай стоял среди некошеного огуменника рядом с амбаром. Цветы и травы подступали к самым воротам и, обрызганные росой, светились, как цветные камешки. Две старые березы лениво шелестели своей блестящей листвой. Под застрехой попискивали ласточки и стремительно носились туда и обратно.
Степа глубоко втянул прохладный воздух.
В этот час колонисты обычно выходили на зарядку. Ребята проделывали замысловатые вольные движения, потом, стараясь не отстать от длинноногого физрука дяди Кости, обегали три раза вокруг усадьбы, упражнялись еще немного на турнике и кольцах и наконец бросались с подкидной доски в ледяную, родниковую речушку. Вода в ней была такой обжигающе холодной, что даже испытанные колонисты невольно ухали и вскрикивали.
Но и здесь было хорошо!
Степа огляделся по сторонам и принялся за зарядку. Вдох, выдох, шаг на месте, наклон туловища в одну сторону, в другую, приседание... Теперь пробежка. Мерно работая локтями, Степа припустился по дорожке к овину.
Росистая, еще не прогретая солнцем трава обожгла ему ноги. Головки цветов, сбитые при беге, полетели в лицо. За овином тянулась невысокая изгородь. Степа оперся рукой в верхнюю жердь и перемахнул на другую сторону — получалось не хуже, чем через «кобылу».
Он перемахнул через изгородь еще раз и еще... А потом стал прыгать без помощи рук.
Какая-то женщина в белом платке остановилась поодаль, долго из-под руки смотрела, как голоногий бесенок скакал через изгородь, потом часто закрестилась и повернула обратно.
Когда Степа вернулся к сараю, у. ворот его уже поджидали заспанная Таня и Нюшка. Щурясь от солнца, они с удивлением поглядели на него.
— Ты зачем бегаешь да скачешь? Игра, что ли, такая? — спросила Таня.
— Зачем игра! Физзарядка! В здоровом теле — здоровый дух! — смеясь, объяснил Степа, неторопливо прохаживаясь после бега по кругу и с шумом, словно из кузнечных мехов, выпуская из легких воздух.
— Филька-Купидон никуда не бегает, а все равно всех побарывает, — заметила Нюшка. — Тут главное — харчи...
Степа заметил у сарая гладкую, вылощенную руками палку, на какие обычно насаживают вилы или лопаты, и решил окончательно поразить девчонок.
— А хотите, на турнике покручусь?.. Есть молоток и гвозди? Таня вынесла из сарая ящик с инструментом.
Степа положил один конец палки на крепкий сук березы, другой приколотил гвоздями к углу сарая — вот и турник!
Он поплевал на ладони, взялся за деревянную перекладину, подтянулся, и вдруг его голые худощавые ноги полетели вверх. Таня не успела вскрикнуть, как Степа уже выделывал на турнике бог знает что: подтягивался, опускался, раскачивался, крутился то на животе, то на спине.
Таня испуганно схватила подругу за руку.
А Нюшка не сводила со Степы глаз. Вот это номера! Так, пожалуй, ни один мальчишка в Кольцовке не сумеет сделать.
Степа между тем зацепился согнутыми в коленях ногами за перекладину, повис головой вниз и, опустив руки, даже похлопал в ладоши, словно хотел сказать: «А мне и так неплохо!»
К тому же он успел заметить, что Нюшка внимательно следит за его упражнениями. Тогда, сделав резкое движение, Степа схватился руками за палку, вытянулся, раскачался и, с силой подбросив свое легкое тело вверх, принялся крутиться вокруг турника на вытянутых руках. Это было «солнце», его коронный номер.
Таня с криком бросилась к дому:
— Бабушка! Степка убивается!
Растерялась и Нюшка. Но ненадолго. Она подбежала к турнику и попыталась ухватить крутящегося Степу за ноги. Но он пролетал мимо и никак не давался в руки.
В этот момент из-за угла сарая выскочили двое мальчишек — Шурка Рукавишников и Митя Горелов.
— Хватайте его! — скомандовала Нюшка.
Но Степа уже и сам не мог больше крутиться. Он пружинисто спрыгнул с турника и попал в руки ребят.
— А я думала, ты как часы у дяди Игната. Те как начнут звонить, ни за что их не остановишь! — засмеялась Нюшка и крикнула Тане вслед, что Степка жив-здоров и больше не крутится.
Таня вернулась.
— Это ты «солнце» крутил? — деловито осведомился Шурка Рукавишников, крепкий, рослый паренек, в нарядной, праздничной рубахе, которую он успел уже запачкать и смолой, и зеленью, и желтоватым соком какой-то травы. — Пять раз крутанул... Это да, это физкультура! — продолжал Шурка, не сводя со Степы восхищенных глаз. — У меня вот так не получается...
— А ты почему знаешь, что пять? — ревниво спросила Нюшка. — Уже подглядел?
— А чего нам подглядывать! — пожал Шурка плечами. — Шли мы вот себе и шли... Правда, Митяй? — И он многозначительно покосился на Митю Горелова.
— Факт! Чего нам подглядывать, — охотно подтвердил Митя, оглядываясь по сторонам.
Тут зоркий глаз Нюшки заметил за соседним сараем в зарослях бурьяна еще несколько мальчишек.
Она отбежала в сторону и чужим, хриплым голосом закричала:
— Э-эй! Колонист! Степка! Заходи слева! Окружай! Всыплем им горяченьких!
И, сунув два пальца в рот, она по-разбойничьи свистнула. Потом набрала пригоршню старых, битых кирпичей и принялась швырять их в бурьян и на крышу соседского сарая.
— Ты... ты чего? Белены объелась? — кинулся к ней перепуганный Митя Горелов — Да там же... Так и голову свободно пробить можно...
— Не мешай! — оттолкнула его Нюшка, продолжая обстреливать сарай.
Вскоре бурьян подозрительно заколыхался, и пять или шесть мальчишек, бранясь и размахивая руками, отступили от сарая в более безопасное место.
Прекратив обстрел, Нюшка вернулась к турнику и, уперев в бока красные от кирпича руки, разразилась веселым смехом. Засмеялась и Таня, довольная тем, что ее отчаянная подруга ловко разгадала хитрость мальчишек.
— Ну что, Рукавишник, «не подглядывали»? — торжествуя, спросила Нюшка. — Ловко я твоих из засады выкурила!
— Так они же сами по себе... А мы шли с Митяем и шли, — сконфуженно забормотал Шурка и помахал приятелям рукой, приглашая их подойти.
Хмурые, насупленные мальчишки приблизились к сараю Ковшова.
— Идите живее! — поторопила их Нюшка. — Колонист не жалит, не кусается. Можете с ним даже за ручку поздороваться. — И, видя, что Степа по-прежнему ничего не понимает, пояснила: — Тебя тут таким страшилищем разрисовали, хуже Соловья-разбойника! От тебя, мол, ни пешему, ни конному прохода не будет.
— Кто же это постарался? — удивился Степа.
— Наверно, Рукавишник с Митяем! — не моргнув глазом, выпалила Нюшка.
От такой безудержной выдумки Митя Горелов даже приоткрыл рот, а Шурка вспыхнул, сжав кулаки и двинулся было на Нюшку, но та благоразумно спряталась за Степину спину.
— Ну, Сучок, перепадет тебе от меня! С походом и довеском! — погрозил Шурка и, понимая, что сейчас совсем неподходящая минута для расправы с девчонкой, остановился перед Степой и стал оправдываться: — Не говорил про тебя ничего такого... Слово даю!
— И я не говорил, — опомнился наконец Митя. — Это все Филька выдумал.
— Верно... брательник твой, — хмуро подтвердил Шурка, не любивший говорить о людях плохое.
— А я о чем толкую! Филька придумал, а Рукавишник с Митяем разнесли, как галки-сороки, — вышла из положения Нюшка, очень довольная тем, что мальчишки сами назвали Фильку.
А на самом деле было так.
Еще вчера вечером, встретив на улице кольцовских мальчишек, Филька Ковшов с важным видом сообщил, что из колонии приехал его двоюродный брат Степка. А он, мол, как и все колонисты, человек отпетый, отчаянный, бывал во всяких переделках, и шутки с ним плохи.
— Ну и что? — недоумевая, спросил Шурка.
— А то! Соображать надо, — сказал Филька. — Нас теперь компания: Ковшовы — два. Братья, родная кровь. Попробуй затронь только! Степка, он и бороться может, и подножку даст, и наотмашь...
Шурка сказал, что все это враки, не такие уж колонисты дикие и драчливые, как болтает Филька, и даже вызвался завтра же познакомиться со Степой.
— Попробуй подойди к нему! — усмехнулся Филька.
Утром, когда Шурка позвал ребят к Степе, с ним согласился пойти один лишь Митя Горелов, остальные решили на всякий случай посидеть в засаде.
Шурка с Митей подкрались к сараю Ковшовых и долго наблюдали за тем, как колонист крутился на турнике...
Сейчас Степа быстро натянул штаны и оглядел ребят. Многие из них были ему знакомы.
Вот переминается на своих косолапых ногах и посапывает лобастый, приземистый Афоня Хомутов. Хороший, верный дружок Афоня. Когда Степа свалился с дерева и вывихнул ногу. Афоня безропотно тащил его на закорках от самой Субботинской рощи до избы Ковшовых.
Это с ним Степа ушел однажды, далеко-далеко за околицу, чтобы увидеть, куда на ночь проваливается солнце. Шли они долго, стало темно и страшно, и неизвестно, что было бы с ними, если бы наконец их не догнал Афонин отец. Афоня сказал отцу, что это он подбил Степку пойти с ним, и, подняв рубаху, покорно подставил голую спину под широкий отцовский ремень.
А сколько раз мальчишки совали задремавшему Афоне под рубаху лягушонка, сыпали в нос нюхательный табак, закручивали в волосы остистый стебелек...
Афоня вскакивал, размахивал руками, оглушительно чихал, но долго сердиться не мог и только жалостливо просил: «Будет вам... балуются, как маленькие!»
А вот и Митя Горелов! Сколько лет они не виделись, а Митя все такой же тщедушный, маленький, нос густо осыпан темными крапинками веснушек, губы постоянно шевелятся, а лицо, как и прежде, немного встревоженное и испуганное. Кажется, что Митя вот-вот сорвется с места и куда-то помчится — вечно он забывал что-нибудь или терял.
Пожалуй, больше всех изменился Шурка Рукавишников. Он вырос, раздался в плечах, грудь его округлилась, но глаза смотрят открыто и дружелюбно.
Степа радушно пожал мальчишкам руки.
— Ну, чего испугались?
Ребята переглянулись.
— Да нет... — улыбнулся Шурка, касаясь пальцем глянцевито-коричневых плеч Степы. — Какой ты смоленый... Словно тебя в котле варили.
— А финка у тебя есть? — стоя поодаль и подозрительно оглядывая Степу, спросил долговязый Семка Уклейкин.
— А как же... Острая, длинная... Как пырнет — и дух вон! — фыркнула Нюшка. — А еще пистолет двенадцатизарядный... Покажи им, Степа.
Ухмыляясь, Степа достал из кармана брюк маленький перочинный ножик, как стручок гороха, и подбросил его на ладони.
Все рассмеялись.
Шурка собрался было что-то сказать, но его перебил Митя Горелов:
— Смотри, Филька идет!
ФУТБОЛ
Все оглянулись. От дома узким проулком мимо огорода вразвалочку шел Филька Ковшов и на ходу уплетал ватрушку. Был он в новой сатиновой рубахе и в скрипучих остроносых, еще не обношенных штиблетах.
— Эге, уже собрались, траву топчете!.. — Он подозрительно оглядел ребят и, засунув в рот последний кусок ватрушки, кивнул на Степу: — Ну, как мой братчик? Не надавал вам еще по шее? Вы особо ему не надоедайте. А то раз, раз — и накостыляет. Видали, какие у него мускулы... Сталь-железо... — И он по-хозяйски потрогал Степины бицепсы.
Степа отстранился и поспешно надел юнгштурмовку.
Но Филька был в отличном настроении и принялся рассказывать про сегодняшнее утро. Он вообще любил поговорить о своих делах, считая, что ребятам все это очень интересно и они должны его слушать терпеливо и беспрекословно.
А про сегодняшнее утро стоило порассказать.
Правда, оно началось довольно скучно. Мать не дала Фильке поспать и ни свет ни заря погнала его в церковь.
Для виду Филька отстоял минут десять у иконостаса, подпалил щеку божьей матери, затем, прихватив три восковые свечки, выбрался на улицу и наткнулся за церковной оградой на мужиков, которые азартно играли в «очко». Среди мужиков был и его отец. Сначала отцу не везло, но потом он сорвал довольно крупный банк. Тут Филька постарался попасться отцу на глаза, и тот отвалил ему от своего выигрыша целую пятерку — вот уж теперь можно будет погулять ради троицына дня!
— Гуляй, Филечка, ради праздничка, веселись на трудовую денежку! — насмешливо сказала Нюшка. — Купи в сельпо пуд пряников да воз орехов. На целый год мальчишек задобришь...
Филька с пренебрежением посмотрел на Нюшку — вот язычок-жальце у девчонки, не мешало бы его укоротить, — но не нашелся, что ответить.
Он поспешно вытащил из-за пазухи спущенный футбольный мяч, а из кармана штанов — блестящий, новенький насос.
— Погоняем ради праздничка! Накачивайте!
Мальчишки встрепенулись. Что там ни говори, а Филька умеет быть щедрым и тороватым — он и орехами угостит, и на гармошке даст сыграть, и футбольного мяча не пожалеет.
Митя Горелов, самый заядлый футболист, вывихнувший уже не один палец на ногах, приладил к резиновой камере насос и быстро надул его.
Шурка ловко зашнуровал покрышку.
Ребята прошли за овин, на выбитый скотиной прогон, разулись, засучили штаны и принялись делиться на команды. В свою команду Филька отобрал Шурку и еще двух рослых, сильных мальчишек.
— Ты как по футболу — спец? — вполголоса спросил он Степу.
— Играл малость...
— Тогда ко мне пойдешь, — распорядился Филька.
— А может, по жребью разобьемся? — предложил Степа.
Филька сказал, что им надо сыграться и привыкнуть друг к другу на тот случай, если придется выступать против команды соседнего села. Но мальчишки в один голос закричали, что Филька всегда подбирает в свою команду здоровяков, которые только и знают, что толкаются и сбивают с ног. Фильке пришлось уступить.
Кинули жребий, и Степа оказался в одной команде с Афоней, Митей и Шуркой. Нюшка тоже напросилась играть в футбол и попала по жребию в команду к Фильке.
Филька раскричался и заявил, что лучше он сейчас же спустит мяч, но с девчонкой играть не будет.
Чтобы не срывать игры, Степа согласился заменить Нюшку Шуркой Рукавишниковым.
Перед началом игры Филька не удержался и сделал «свечку». Он с силой ударил по мячу, и тот так высоко взвился вверх, что, наверно, достал бы до облаков, если бы только они плыли в это время в небе. Так, во всяком случае, казалось Мите, которому никак не удавалось сделать такую же «свечку».
— А ты так умеешь? — вполголоса спросила Нюшка у Степы.
— Куда нам, малярам... — усмехнулся Степа.
Мяч, побывав в голубом небе, наконец с пушечным уханьем упал на землю, попрыгал, поскакал и, как собачонка, покорно улегся у Филькиных ног.
Филька с торжествующим видом поглядел на Степу — ведь это он приучил кольцовских ребят к футболу.
Случилось это после того, как Филька прошлым летом побывал в городе у тетки. Там он познакомился с мальчишками и научился у них играть в футбол.
В деревню Филька вернулся с новеньким мячом и поразил всех набором необыкновенных слов: пасс, аут, форвард, голкипер.
Особенно ему нравилось, поставив кого-нибудь из ребят в ворота, бить по мячу с близкого расстояния. Мяч летел, как пушечное ядро, сбивал неловкого вратаря с ног или расквашивал ему нос. Филька от души веселился, уверял, что каждый мальчишка должен быть мировым вратарем, а тех, у кого от удара мячом вспухали носы или под глазом появлялись синяки, он щедро одаривал орехами, семечками и пирогами.
Договорившись сейчас, что состязаться будут на «интерес» — проигравшая партия везет победителей от овина до сарая на закорках, — мальчишки начали игру.
Ее сразу повела команда Фильки. Вернее сказать, играл один Филька. Захватив мяч, он гнал его через все поле, стараясь во что бы то ни стало прорваться к воротам противника.
Широко расставив локти, он лез напролом, всех толкал, лягался, сбивал игроков с ног, подправлял мяч руками и, когда ворота были совсем близко, наносил свой смертельный удар.
Вскоре Нюшка, стоявшая в воротах, пропустила первый гол. Дрожа от негодования, она принялась кричать, что гол забит неправильно: Филька оттолкнул защитника Афоню и подправил мяч рукой.
— Жаловаться потом! — хохотал Филька, подмаргивая своей команде и вытирая подолом рубахи распаренное лицо. — Сейчас мы вам нашвыряем полну коробочку — будете нас на закорках таскать!
— И впрямь нашвыряют! — шепнул Степе Митя Горелов, когда мяч улетел далеко за границу поля. — Филька же — он, как бугай, прет... и толкается не по правилам.
— Ничего... Мы свое возьмем, — успокоил его Степа. — Ты пасуй побольше...
И тут случилось что-то непонятное.
Тяжело сопя, Филька бросился к Степе, который только что захватил мяч. Но Степа не стал обводить Фильку, а передал мяч бежавшему с правого края Мите. Филька метнулся к Мите, но тот, выписав ногами какой-то замысловатый крендель, просунул мяч между Филькиных ног. Мяч вновь очутился у Степы. И опять Степа не задержал его, а перебросил в сторону, только теперь уже на левый край.
Мяч словно издевался над Филькой: обходил его стороной, проскакивал у него между ног, пролетал над головой.
Вскоре счет сравнялся.
Филька разорался на своих игроков: они лодыри, не хотят бегать, боятся за свои белые ножки, — и, захватив мяч, решил отыграться.
Но тут у овина показалась старшая сестра Фильки и позвала Ковшовых завтракать.
Филька словил мяч руками и принялся его расшнуровывать.
— Шабаш!.. Завтра доиграем, — мрачно сказал он. Распалившиеся мальчишки стали упрашивать Фильку оставить им мяч еще на полчасика.
— Оставь, Филя, — поддержал их Степа. — Не убудет его...
— Им оставь! — хмыкнул Филька. — Потом ищи-свищи, концов не найдешь.
Шурка предложил в заклад свою рубаху.
— Кому она нужна, твоя хламида! — сказал Филька. Взяв мяч, он с шипением выпустил из него воздух.
Степа покачал головой и что-то шепнул Тане. Она помчалась к сараю и вскоре вернулась с небольшим свертком в руках.
Степа сорвал бумагу, и все увидели новую черную покрышку и присыпанную тальком резиновую камеру.
— Вот... обновляйте, — сказал Степа. — Это мне перед отъездом детдомовцы подарили.
Филька фыркнул и направился к дому.
— А насос? Чем накачивать будем? — вспомнил Митя. — Надо у Фильки попросить.
— А ну его! — махнул рукой Шурка.
Широкогрудый, обладающий завидными легкими, он вложил камеру в покрышку, набрал полную грудь воздуху и, сунув в рот черную резиновую трубочку, принялся надувать мяч.
Сморщенная кожаная покрышка быстро расправилась, на ней проступили толстые швы. Но дальше стало труднее.
Лицо Шурки покраснело, щеки надулись, за ушами заболело, на глазах выступили слезы. Но Шурка не сдавался.
Наконец мяч все же удалось надуть, хотя и не так туго, как насосом.
Ребята стали продолжать игру.
Степа с Таней побежали догонять Фильку.
— Это ты зря новый мяч выдал, — заметил наставительно Филька, когда Степа с ним поравнялся. — Ребятам только палец сунь, потом всю руку утянут. Дай, да помоги, да выручи... Попрошайки! Христарадники!
ТРОИЦЫН ДЕНЬ
Ребята вошли в сени и остановились у распахнутой настежь двери.
В доме Ковшовых было полно гостей. Многочисленные родственники дяди Ильи и его жены сидели вокруг сдвинутых впритык столов, густо заставленных закусками и вином.
Все усердно ели, пили, чокались, стучали ножами и вилками. В доме стоял нестройный, разноголосый гул.
— Ого! Уже молотят, — фыркнул Филька. — Так и опоздать можно! — И, дернув Степу за рукав, он втиснулся между гостями и сел на лавку, поближе к огромному блюду со студнем.
Степа и Таня задержались у двери.
— Я, пожалуй, не пойду, — растерянно сказал Степа, вспомнив, что он комсомолец и что в колонии и в детдоме у них резко осуждали религиозные праздники.
— Я тоже... Уж очень гостей много, — согласилась Таня. — Пойдем в другую половину избы...
Но уйти им не удалось.
Из переднего угла поднялся Илья Ефимович и, улыбаясь, нетвердой походкой шагнул к порогу. Был он аккуратно подстрижен, чисто выбрит, лоснящиеся волосы зачесаны на косой пробор, новая ластиковая рубаха коробом стояла на его груди. За утро дядя, казалось, помолодел.
— Ты где ж, племяш, пропадаешь? — радушно заговорил он. — Садись, садись, у нас тут самый разгар... — Дядя потянул Степу к столу и представил гостям: — Прошу любить и жаловать! Григорьев сынок... Из колонии вернулся.
Гости — кто с недопитой рюмкой, кто с насаженным ка вилку кружком колбасы — обернулись к Степе. Послышались восклицания:
— А ведь верно, Григорьев... как списанный.
— Вытянулся-то как! И худущий!
— Не с мамкиных разносолов — из колонии все-таки... А там не зажируешь.
Степа осторожно отвел дядину руку:
— Не положено мне...
— Чего такое? — удивился Илья Ефимович.
— Он же, поди, в батьку пошел... Безбожник... ате-и-ист... — подал голос лысый рыжеватый мужчина с колючими, мохнатыми бровями, особенно старательно выговаривая последнее слово. — У него, верно, всё дурман да опиум, а ты его троицын день неволишь справлять.
— Вот еще что! — рассмеялся Илья Ефимович и кивнул на передний угол, где на резном киоте вместо икон лежали книги и журналы, а над киотом висел красочный плакат: «Если вы не дураки, разводите бураки». — Все мы безбожники, все богохулы. Что ж теперь, ради троицына дня и пить-есть не надо? Садись, племяш, угощайся. Не то достанутся тебе рожки да ножки...
Дядя бросил беглый взгляд на Таню, которая в коротеньком будничном платье стояла в дверях.
— А ты чего замарашкой ходишь? Живо переодевайся!
И тут еще Степа заметил бабушку. В темном платке, строгая, прямая, она сидела на дальнем конце стола, поближе к двери, и кивала ему головой: мол, садись, не упрямься!
Филька потеснил сидевшего с ним рядом подростка и, схватив Степу за руку, потянул к себе.
И Степа сел. Честно говоря, ему уже давно хотелось есть, а на столе стояло столько вкусных вещей: студень, заливная рыба, селедка в колечках лука, жареное мясо, подрумяненные пироги, ватрушки с творогом...
Казалось, что стол вот-вот прогнется и рухнет от тяжести, но распаренная тетя Пелагея то и дело подносила всё новые тарелки и блюда с закусками, чудом умещая их на переполненном столе.
— Кушайте, гостечки дорогие, закусывайте! — угощала она, кланяясь гостям. — Уж не обессудьте, что бог послал...
— Бог-то бог, да и сам не будь плох! — довольно хохотнул Илья Ефимович и, наполнив багровой наливкой пузатенькие, на коротких ножках рюмки, размашистым жестом пригласил всех выпить. — Первая — колом, вторая — соколом, третья — мелкой птахою... А ну, гости званые, еще по одной! С праздничком вас!
Гости выпили, крякнули и с деловитым видом потянулись к закускам.
— Давай работай! — подтолкнул Степу Филька, кивая на соседей. — Видал, как навертывают! Словно после молотьбы или пилки дров. Наверно, двое суток постились, чтобы в гостях пожрать как следует... Слушай, Фома-Ерема, — обратился он к мальчишке-соседу, который только что поддел вилкой солидный кусок жареной баранины, — вы с батькой сколько дней не обедали?
Подросток, которого звали Фомой-Еремой, одетый в теплую куртку, перешитую, как видно, с чужого плеча и наглухо застегнутую на все крючки, поперхнулся и сердито посмотрел на Фильку:
— У нас и своей баранины хватает! Завтра придете с отцом — можете хоть пуд съесть.
— Это нам известно, — хитровато блеснул своими разноцветными глазами Филька. — Живете — не бедствуете. Недаром дядя Никита в твердозаданцах ходит... Да, Степка! Хочешь, я тебя познакомлю? Это Фома-Ерема, по-другому Фомка Еремин. Тихий, тихий, а на кулак резкий.
— Это уж как есть, — польщенно согласился Фома-Ерема и посмотрел на свою тяжелую бугристую ладонь.
— А вон там под киотом его папаша сидит, Никита Еремин. Видишь, как колбасу уписывает! — шепнул Филька, кивая на лысого мужчину, который назвал Степу безбожником и атеистом. — Церковный староста. Так сказать, завхоз самого господа бога. На одних свечках сколько нагреб — третью корову купил! Жадные они, Еремины, страсть!
— А кто рядом с дядей? — вполголоса спросил Степа.
Филька охотно объяснил. Рядом с отцом сидит заведующий сельпо, первый отцов дружок, дальше какие-то дальние родственники, кумовья, сватья, еще дальше — материны сестры с мужьями.
— У нас родных да близких — на трех телегах не увезешь. В обиду не дадут! — похвалился Филька. — А слева от отца знаешь кто сидит? Митькин отец. Горелов-Погорелов, председатель сельского Совета. Ох и выпить он любит! Только помани — на рюмочку за десять верст прибежит.
Степа поглядел на захмелевшего Горелова. Бледный, одутловатый, с густыми картинными усами, он размахивал пустой рюмкой и толкал в плечо Никиту Еремина:
— На клиросе ты как соловей, а «Степь широкую» запеть гнушаешься. А ну, пророк Еремей, давай раздольную! — И Горелов хриплым голосом затянул: — «А-ах ты, сте-е-епь мо-оя...»
— Подожди, Кузьмич! — остановил Горелова Илья Ефимович, наполняя ему вином рюмку. — Песня не уйдет. Дай людям поговорить прежде...
А разговор давно уже идет, и в каждом углу о своем. Говорят о предстоящем сенокосе, о видах на урожай, о налогах, о давней тяжбе с соседней деревней из-за какого-то лужка, о грозах, что в этом году слишком уж часто проходят над Кольцовкой, — к чему бы это?
— Илья Ефимыч! — подал через стол голос женин брат, высокий, сутулый Игнат Хорьков. — Ты у нас книгоед, тебе газеты охапками носят. Растолкуй ты нам, как дальше жить-дышать будем? На юге-то, слышь, люди в колхозы пишутся...
— Что там на юге! — перебил его другой родственник. — Был я на днях в Пустоваловке. Там мужики в коммунию сходятся... Всех коров, лошадей на один двор свели. И даже курей не забыли, в общий сарай согнали. Препотешное, скажу вам, зрелище! Куры орут истошно, словно их режут, петухи дерутся, аж перья летят, бабы плачут, а мужики от сарая не отходят — где же еще такие петушиные бои увидишь! Я, грешный, и сам добрых два часа у сарая выстоял... Ярмарка, да и только!
— Вот-вот! — подхватил Хорьков. — До нас-то такое дойдет или стороной минет?
Степа, положив на стол вилку, с любопытством вскинул голову: что-то ответит дядя?
Илья Ефимович степенно вытер усы, оглядел родственников. Он, конечно, человек грамотный, газеты читает аккуратно и может всё объяснить.
— Нет, коммуна теперь не привьется, — сказал он, — мужику она не по душе.
— Выходит, братан твой ошибся? — допытывался Хорьков. — Зазря голову сложил?
— Да как вам сказать... — Илья Ефимович задумчиво чертил вилкой по мокрой клеенке. — Григорий человек был умственный, а жил, пожалуй, неправильно...
— Это почему же... неправильно? — негромко спросила с дальнего края стола бабушка Евдокия.
— А потому, мамаша, что надо бы Григорию за свое хозяйство держаться, а не коммуны строить. Пустая это затея. Теперь коммуны и сама Советская власть не одобряет.
— А ты, Илюша, по-правильному, значит, живешь?
— Живу по-законному, — не скрывая раздражения, ответил Илья Ефимович. — Культурное хозяйство веду — клевер сею, турнепс... Племенной скот имею, севооборот многопольный. К тому нас и Советская власть зовет. У меня с ней полное согласие. Вот и Тихон Кузьмич может подтвердить — представитель власти.
— Целиком и полностью, — икнув и качнувшись, сказал Горелов и предложил выпить за культурного крестьянина Илью Ефимовича Ковшова.
Степа опустил голову.
Отец, который хотел, чтобы все жили согласной, дружной семьей, и отдал за это свою жизнь, — он, оказывается, жил неправильно. Нет, Степа не мог этому поверить!
— Так-то, мамаша, — когда все выпили, наставительно продолжал Илья Ефимович, желая сохранить за собой последнее слово. — А коммуны что... На песке да на воде замешаны — поживут без году неделю и разваливаются.
Таких слов Степа перенести уже не мог.
— А вот и не на песке! — поднявшись, неожиданно сказал он. — Коммуна-то в Дубняках живет, не развалилась. Там теперь колхоз, и называется он по-старому «Заре навстречу». Про него даже в газете недавно писали... — Степа торопливо вытащил из нагрудного кармана гимнастерки пачечку бумаг, отыскал истертый листок с заметкой, вырезанной из газеты, и протянул дяде.
— Эге! — хмыкнул Илья Ефимович, не обращая внимания на листок. — Ты-то чего смыслишь в этом деле?
— Хватит о делах, хозяин! — Горелов потянул Ковшова за рукав. — Давай лучше раздольную...
Дядя махнул на Степу рукой и, набрав в грудь побольше воздуху, густым, с переливами голосом затянул «Степь широкую».
Степа встал из-за стола.
— Куда ты? — остановил его Филька. — Терпи, казак... Сейчас чай будет. С вареньем!
Степа с досадой отмахнулся, вышел из дому и направился в огород. Он лег на траву, положив руки под голову, и устремил глаза в небо.
Оно уже не было таким пустым и белесым, как утром. Роились кучевые облака, то и дело заслоняя солнце, из-за горизонта выплывала туча, где-то вдали лениво урчал гром.
Вскоре в огород заглянули Филька и Фома-Ерема.
— Вот он где, братец! Ну как, плотно заправился? — Филька воровато оглянулся по сторонам и достал из-за пазухи граненый стакан и бутылку наливки. — Сейчас мы тебя взбодрим. Видал, чего я стянул! Отец даже и не заметил.
Он открыл бутылку, налил полстакана густой темно-красной наливки и протянул Степе:
— А ну, чок за дружбу! Будем втроем держаться — я, ты, Фома-Ерема. Пусть все ребята от нас плачут!
— Это уж как есть, — согласился Фома-Ерема и, взяв у Фильки из рук бутылку, легонько стукнул ею о стакан, потом сунул горлышко бутылки в рот и, запрокинув голову, сделал несколько больших глотков.
— А ты чего медлишь? — поторопил Филька Степу. — Необученный, что ли? Ничего, привыкнешь. Тяни, не задерживай посуду.
Степа поднялся и долго смотрел на стакан. Потом с размаху ударил Фильку по руке, и стакан с вином полетел на траву.
— Ах, вот как! Задаешься! — взревел Филька, бросаясь на Степу.
Но Фома-Ерема вовремя его удержал и успокоил, сказав, что ради праздника не сто́ит с колонистом связываться.
КАЧЕЛИ
Поминутно оглядываясь и что-то недовольно бурча, Филька вслед за Фомой-Еремой ушел наконец из огорода. Степа еще немного посидел на «бабушкином месте» и тоже направился на улицу.
Деревня гуляла.
Из раскрытых окон, украшенных березовыми ветками, доносились шумные возгласы, смех, крики. На завалинке у дома Хомутовых сидели пожилые женщины и выводили печальную старинную песню, словно оплакивали свою судьбу.
Вдоль деревни из конца в конец стремительным шагом ходили разряженные девки и пронзительными голосами выкрикивали под гармошку озорные частушки про незадачливого миленка. Захмелевший гармонист еле волочил ноги и все норовил где-нибудь присесть, но девки не отпускали его, и он, с мрачным лицом растягивая гармошку, словно качая кузнечный мех, наигрывал один и тот же мотив.
— Эй, пильщик! Почем с сажени берешь? — кричали ему из окон.
Пьяненький Прохор Уклейкин в жилетке и одном валенке, покачиваясь, брел вдоль палисадников, часто останавливался и, тыча кулаком в ствол березы или в плетень, начинал поносить то Горелова, то Илью Ковшова, то какую-то Марфу, которая обнесла его в такой день чаркой.
За прудом, на ровной выбитой лужайке, парни, сняв верхние рубахи, играли в городки. Рюхи у них были огромные, чуть не с оглоблю, играли они свирепо, и городки после каждого удара, как снаряды, летели далеко по улице.
И повсюду сновали вездесущие мальчишки.
У бревен на вытоптанной площадке отплясывали девчонки. На балалайке им играл Митя Горелов.
Степа заметил Нюшку и остановился.
После утренней игры в футбол Нюшка уже успела переодеться. На ней была фуляровая клетчатая кофта, как видно перешитая с чужого плеча, черная короткая юбочка, в волосах пунцовая лента и поношенные, не по ноге, желтые туфли на высоком каблуке.
Нюшка плясала в паре с черноглазой курносой девочкой. Помахивая белым платочком, она плавно проплыла перед подругой, жеманно показывая всем свои праздничные туфли.
Черноглазая, дождавшись своего выхода, мелко засеменив ногами, принялась плясать быстрее. Нюшка в долгу не осталась. Но тут высокий каблук подвернулся, и девочка чуть не упала на свою партнершу. Кругом засмеялись: «Копыта мешают!»
Нюшкино лицо стало как пунцовая лента в волосах. Да тут еще вовсю пялит глаза невесть откуда появившийся Степка Ковшов!
Недолго думая Нюшка сняла туфли и, не выпуская их из рук, принялась выделывать босыми ногами такое, что все девчонки сгрудились вокруг пляшущих. Нюшка легко летала по кругу, сыпала мелкой дробью, пускалась вприсядку, требовала от Мити, чтобы он играл побыстрее.
Пляска прекратилась, когда на балалайке лопнули две струны и Митя заявил, что он должен пойти домой починить инструмент.
Девчонки принялись обнимать Нюшку, кто-то надел ей на голову венок из желтых бубенчиков.
— Здорово ты выкаблучиваешь! — похвалил Степа, встретившись с девочкой взглядом. — Тебе бы на вечерах выступать.
— А я бы еще могла... я на пляску гораздая! — похвалилась польщенная Нюшка и крикнула Мите Горелову, чтобы тот поставил на балалайку самые прочные струны. — Хочешь ярмарку посмотреть? — предложила она Степе.
Он согласился и напомнил Нюшке про туфли, которые она все еще держала в руках.
— Ах да! — сконфузилась Нюшка, надевая туфли на запыленные, в цыпках ноги. — Это сестрицыны, кобеднешние... Лучше бы я их и не брала.
Ярмарка шумела у пожарного сарая. Повизгивали на петлях качели, мелькали крашеные карусельные кони, в палатках и с подвод продавали игрушки, глиняную посуду, квас, сладости, орехи...
Степа, нашарив в карманах деньги, что сохранились у него после детдома, угостил девочку сладким квасом, купил кедровых орешков и, добравшись до палатки со сладостями, осведомился у Нюшки, что она больше любит — тянучки или ириски.
— А я всякие люблю! — чистосердечно призналась Нюшка и вдруг спохватилась: — Ой, как ты много потратил...
Но Степа, кроме тянучек и ирисок, купил в палатке еще холодящих мятных пряников и предложил девочке покачаться на качелях.
Нюшка была на седьмом небе.
Не зная, как отблагодарить Степу, она надела ему на голову венок:
— Поноси, поноси... сегодня можно.
Потом, провожаемая завистливыми взглядами девчонок, она забралась в зыбкую лодочку качелей и попросила Степу покачать ее так, чтобы дух захватывало.
Степа, сильно пружиня ноги и выгибая спину, быстро раскачал лодочку. Заходили ходуном деревья, люди внизу то пропадали, то появлялись вновь, сердце у Нюшки сладко замирало и куда-то проваливалось.
И чем выше взлетала лодочка, тем сильнее визжала Нюшка, хотя ей совсем не было страшно: пусть все видят и слышат, как они со Степой умеют веселиться!
И снизу увидели. Филька с приятелями остановился у качелей и, задрав голову, удивленно присвистнул:
— Видали, Сучок-то с кем? А колонист старается, на всю жестянку жмет.
— Он ей конфеты-пряники покупал... три кулька, никаких денег не жалеет, — добавил Фома-Ерема.
— Теперь она его обратает, попрошайка... потянет копеечку. Будет водить, как телка на веревочке.
Нюшка перестала визжать, нахмурилась, и Степа почувствовал, как она затормозила лодочку. Качели остановились. Степа первый прыгнул на землю.
— Смотри, смотри! — захохотал Уклейкин. — Он веночек надел, желты цветики...
— Понятно дело, — ухмыльнулся Филька. — Девчатник... В колонии они все такие. С мальчишками-то ладить уметь надо, а с девчонками оно попроще.
Прикусив губу, Степа сорвал с головы венок и шагнул к Филькиной компании.
— Носи веночек, носи! Да еще ленточку заплети в волосы, — помахал ему кепкой Филька, отходя на другую сторону качелей.
Степа с досадой сунул венок Нюшке:
— Нарядила тоже...
Нюшка сузила свои зеленоватые глаза:
— Ах, вот что! Фильке на язычок попался — девчатником обозвали! Ну и пожалуйста, можешь от девчонок за сто верст держаться!
Она сунула Степе в руки кулечек со сладостями и, повернувшись, пошла в сторону.
Но каблук, как нарочно, зацепился за камень, и Нюшка опять споткнулась. Разозлившись, она сбросила с ног зловредные туфли и, схватив их, бегом бросилась к дому.
— Куда ты? Подожди! — растерянно крикнул Степа, но девочка уже скрылась в ярмарочной толпе.
Неловко прижимая к груди кулечки, Степа побрел через ярмарку и вскоре встретил Шурку Рукавишникова.
— Вон ты где! — обрадовался Шурка. — А я у вас дома был. Пойдем к нам — тебя мой отец зовет.
— Меня? Дядя Егор? — удивился Степа.
— Посмотреть на тебя хочет. Он твоего отца хорошо знал, дружками были... Да ты чего такой? Иль конфет переел? — Шурка покосился на кулечки со сладостями.
— Ага! — Степа невпопад кивнул головой. — Хочешь вот... угощайся!
Шурка не отказался и по очереди запускал руки в кулечки.
Не успели ребята пройти и сотни шагов, как к ним подбежала Таня. Все лицо ее было в красных пятнах, платок сполз на шею, обнажив стриженую голову.
— Вот хорошо, что я вас встретила! Пойдемте скорее... Там Митька с отцом воюет. — И она потащила ребят за собой.
На ходу Степа спросил, как это Митька может воевать с отцом, да еще с председателем сельсовета.
Шурка объяснил, что Горелов, наверно, напился самогонки и сейчас показывает перед публикой номера.
— Какие номера? — не понял Степа.
— Номера у него известные, — нахмурился Шурка, — шумит да кочевряжится.
Они подошли к двухэтажному, с каменным низом и деревянным верхом дому Никиты Еремина и увидели у крыльца Горелова и Митю.
Перед домом в беспорядке лежали недавно ошкуренные липкие и пахучие сосновые бревна. За ними, распластавшись на земле, укрылось с десяток мальчишек. Они фыркали, хихикали, сучили от удовольствия ногами.
— Вы чего здесь? — строго спросил Шурка.
— Ложись, занимай место. Сейчас такой спектакль будет— животики надорвешь! И главное — задарма, — не поднимая головы, ответил Сема Уклейкин.
Шурка, Степа и Таня присели за бревна.
Еле держась на ногах и нелепо размахивая туго набитым портфелем, Горелов делал тщетные потуги подняться по ступенькам высокого крыльца.
Но ступеньки, казалось, были густо смазаны салом — ноги скользили, разъезжались, и председатель, гремя сапогами, скатывался вниз.
Он, кряхтя, поднимался, плевал себе под ноги и с упрямством пьяного человека вновь и вновь лез вверх.
Наконец Горелов добрался до верхней ступеньки. Он забарабанил в резную дверь и зычно закричал:
— Ребятня! Митька! Серега! Встречай отца! Принимай гостинцы!
Митя схватил отца за рукав.
— Папаня, папаня!.. Это не наш дом. Это Ереминых. Наш в другом конце. Пойдем, папаня!..
Горелов, не обращая внимания на сына, продолжал молотить свинцовым кулаком в дверь.
— Открывай, кому говорю! Куда вы все запропастились, черти дубленые!
Из-за угла дома показался Никита Еремин. Он был навеселе и что-то нежно мурлыкал под нос, сам себе дирижируя сухонькими руками.
Увидев председателя сельсовета, он понимающе и довольно усмехнулся:
— Тихон Кузьмич в полной своей, так сказать, красоте и прелести!
Митя бросился к Еремину:
— Дядя Никита! Папаня домом ошибся... Скажите ему...
— Ну что ты, голубь сизокрылый! — с деланным испугом замахал руками Еремин. — Как я могу поучать и прекословить представителю власти! Мы под ним, как под богом, ходим. — Он со смиренным видом присел около палисадника на скамейку и подмигнул мальчишкам за бревнами: подождите, мол, то ли еще будет.
Из-за бревен послышались веселые восклицания:
— А неплохой домик председатель облюбовал!
— Губа не дура!
— Дядя Тиша, спойте песенку!
— Речугу закатите!
— Камаринского!
Степа толкнул Шурку в бок:
— Да они потешаются над ним! Какой же это председатель?
— Вот уж такой... — Шурка сердито цыкнул на мальчишек: — Чего человека задираете? Топайте отсюда!
— Сам топай! — огрызнулся Уклейкин. — Не у ваших бревен лежим.
Митя подозрительно покосился в сторону бревен — не иначе как там укрылись мальчишки и потешаются над председателем.
Он снова ринулся к отцу и повис у него на руке:
— Папаня, пойдем! Ну, папаня!
Горелов, устав, видимо, барабанить в дверь, как-то сразу обмяк и грузно осел на верхнюю ступеньку крыльца. Потом расстегнул портфель, засунул в него руку и принялся извлекать оттуда пироги, ватрушки, печеные яйца; куски колбасы и все это раскладывать на две кучки.
— Это Сереге... Это Митьке, — бормотал он. — Ешь, ребятки, угощайся! Отец у вас добрый... Я вам и обновки справлю. Дай только срок...
Неожиданно Горелов достал из портфеля круглую сельсоветовскую печать. С удивлением посмотрел на нее, словно не понимая, как она примешалась к пирогам и яйцам, ухмыльнулся, подышал на печать и с размаху шлепнул ею о ступеньку крыльца:
— Вот! Пусть знают! Здесь живет Тихон Кузьмич, председатель. Приложением печати заверяю... А могу и расписаться самолично. Целиком и полностью. Нам нетрудно.
За бревнами дружно захохотали:
— Дядя Тиша, почем нынче справки?
— За самогон отпускаешь или за сало?
Митя залился алой краской, выхватил у отца из рук печать и спрыгнул с крыльца.
Горелов, забыв про гостинцы и портфель, попробовал встать, но, покачнувшись, только съехал на две ступеньки ниже.
— Митка... выпорю! — взревел он. — Целиком и полностью... Верни печать!..
— Вот и всегда так, — жалобно шепнула Таня брату. — Кому смех, а Митьке — горе. От стыда сгоришь за такого батьку. — И она принялась тормошить мальчишек: — Да помогите вы Митьке, чурки бесчувственные! Отведите дядю Тишу домой.
— Отведешь его! — поежился Сема Уклейкин. — Он как тряхнет...
— А может, все-таки попробуем? — поднимаясь из-за бревен, сказал Степа. — А, Шурка?
Степа, Шурка и еще несколько ребят двинулись к крыльцу, подхватили осоловевшего председателя под мышки и поставили на ноги.
— Чего вам? Чего? — сжав кулаки, бросился к мальчишкам Митя — ему было мучительно стыдно за пьяного отца. — Не лезьте в чужое дело... Сам доведу.
— Митя, так он же как мешок с травой, — шепнула Таня.
И верно, Горелов еле передвигал ноги и всей тяжестью налегал на плечи мальчишек.
— Вы его водой окатите, он сразу очухается, — посоветовала Таня, когда процессия поравнялась с колодцем.
Мальчишки со смехом сунули голову председателя под колодезную струю. Холодная вода довольно быстро протрезвила пьяного Горелова.
Он долго еще держал голову под струей, потом напился, вытерся подолом рубахи и, не глядя на мальчишек, огуменниками побрел к дому. Митька, перекинув портфель за спину, понуро плелся позади.
— Достается парню, — сказал Степа.
— Да, жизнь у него не сахар, — со вздохом подтвердил Шурка.
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
Кончились угарные праздничные дни. Деревня отшумела, отгуляла.
Филька до того пристрастился к вину, что в последний день праздника раздобыл где-то бутылку самогона-первача, тайно распил ее с Фомой-Еремой и сильно захмелел. Пошатываясь, он бродил по улице, задирал мальчишек, диким голосом орал песни, потом схватился на перепляс с каким-то парнем из соседней деревни.
Наконец, мучимый жаждой, он направился домой напиться квасу. Дверь в сени была на запоре, и Филька стал пробираться в избу через двор.
В темноте он наткнулся на теленка, что лежал на соломе. От выпитой самогонки у Фильки кружилась голова, и теплый теленок показался ему долгожданной постелью. Филька снял рубаху и, прижавшись к теленку, крепко заснул.
Во дворе его и обнаружил отец, вернувшийся на рассвете с гулянья. Он отодрал сына за уши и перенес его в кровать.
Утром Илья Ефимович чуть свет поднял всю семью.
— А ну, гулены, пора и честь знать, — сказал он, недовольно оглядывая невыспавшихся дочерей и разомлевшего, вялого Фильку. Скользнул взглядом и по Степе, который торопливо натягивал зеленую юнгштурмовку.
— Э, нет! — заметил дядя. — Парадный-то костюмчик придется скинуть. Тут тебе не колония — ручки в брючки не погуляешь.
Таня дернула брата за рукав и шепнула, что сегодня начинается «навозница». Степа быстро переоделся.
Навоз возили на четырех лошадях — две были свои, а две Илья Ефимович нанял у соседей.
Через широко распахнутые ворота подводы въехали во двор, и мужики, нанятые на поденную работу, острыми железными вилами наложили на телеги дымящийся, влажный навоз.
Затем к телегам подошли Филька, Степа, Таня и Нюшка. Нюшка с матерью пришли работать к Ковшовым чуть свет.
— Поглядывай там, — предупредил отец Фильку. — На чужую полосу навоз не завезите.
— Знаю, не маленький. Наши полосы меченые — три колодчика! — с достоинством ответил Филька и подал команду трогаться.
Лошади натужно вывезли тяжелые возы на дорогу. Крупные синие мухи кружились над ними. Острый запах навоза стоял на улице.
Филька, подложив под себя доску, устроился на самом верху навозной кучи и крикнул Степе, чтобы он сделал то же самое — им сегодня навоз возить не перевозить, а ноги у них не казенные.
Степа посмотрел на Таню и Нюшку. Девочки шли рядом с лошадьми, держась за оглобли, и совсем не собирались забираться на подводы.
И Степа сделал вид, что не расслышал Филькиных слов.
На паровом поле, заросшем молочаем и желтоглазой сурепкой, Филька отыскал полосу своего отца, помеченную тремя ямками. Ребята свалили навоз небольшими кучами на полосу и повернули подводы обратно к деревне.
До вечера сделали до десяти ездок.
И так пошло день за днем.
Лето выдалось на удивление благодатное — в меру погожее, тихое, солнечное, с ясными, чистыми зорями по утрам, с пышными малиновыми закатами, с богатыми звездными россыпями по ночам. На вырубках и в лесу было полно ягод, на реке хорошо клевали плотва и окуни, а голавлей под корягами мальчишки ловили прямо руками. Но Степа ничего этого не замечал.
Без привычки он сильно уставал. К вечеру голова у него становилась тяжелой, словно чугун, ныли руки и ноги, спина разламывалась, и за ужином его мучительно клонило в сон. Уставала и Таня.
Они молча уходили в сарай, валились на пахучее сено, молниеносно засыпали, а утром с трудом продирали глаза.
— Что, брат, не по носу табак? Не сладко в деревне-то? — посмеиваясь, спрашивал Илья Ефимович. — Это тебе не в колонии. У вас там режимы да расписания, а у нас все по солнышку: с ним встал, с ним лег. Всё горбом да хребтом брать надо...
— Я привыкну, — оправдывался Степа.
— А ты того... похитрее будь, — поучал наедине Степу Филька. — Особо-то не чертоломь. На нашего батю не угодишь.
Сам Филька отлично умел хитрить. В самый разгар работы он начинал стонать и жаловаться, что у него болит живот, или принимался искусно хромать, уверяя всех, что подвернул ногу, и сердобольная мать обычно отпускала его домой.
В жаркий полдень, когда все отдыхали, Филька старался убежать на речку и утаскивал с собой Степу.
Он охотно знакомил брата с кольцовскими мальчишками, всегда подчеркивая при этом, что Степа колонист, городской житель, парень смелый и сильный. Он всячески расхваливал Степины способности упражняться на турнике, его умение бегать и прыгать.
На речке Филька затевал шумные состязания. Он бился с братом об заклад, что тому ни за что не обставить его ни по плаванию, ни по прыжкам в воду. Раззадоренный Степа плавал, напрягая все силы, очертя голову бросался с ивы в речку и подолгу держался под водой.
— Вот это да! — восторгался Филька. — Тебе бы только под водой жить.
Особенно же любил Филька борьбу. Собрав мальчишек, он предлагал Степе помериться с ними силами.
— А зачем? — отказывался Степа. — Я не умею.
— Ну, ну, не прибедняйся! — говорил Филька и подталкивал к Степе кого-нибудь из мальчишек.
Начиналась борьба. Степу захватывал азарт, и он довольно легко клал мальчишек на лопатки.
Потом выходил мериться силами сам Филька. Он пыхтел, сопел, ловко перекидывал сухопарого Степу через плечо, как клещами сжимал ему. шею, наваливался на него всей своей тяжестью, но, странное дело, победа все же доставалась Степе.
Филька разводил руками, схватывался бороться еще раз, но вновь и вновь оказывался побежденным. Мальчишки приплясывали от восторга и были уверены, что Степка Ковшов действительно самый сильный парень в Кольцовке.
Но особенно он покорил их своим умением боксировать. Степа занимался в колонии в боксерском кружке, знал уже кое-какие приемы защиты и нападения, и ни Филька, ни сам Фома-Ерема, с его железными кулаками, ничего не могли поделать.
— Что хочешь требуй, — принимались они упрашивать Степу, — только научи драться по-новому!
Степа говорил, что ему ничего не надо, но приемы бокса показать согласился.
По его совету мальчишки из Филькиной компании раздобыли себе вместо боксерских перчаток овчинные рукавицы, набили их сеном и по очереди сражались с колонистом, терпеливо снося его внушительные удары по носу и в подбородок.
Но все это не очень радовало Степу. Вокруг него происходило что-то загадочное и непонятное. Если в первые дни после приезда мальчишки тянулись к нему, то теперь они поглядывали на него с недоверием и опаской.
Когда Степа подходил к Мите Горелову, Афоне Хомутову или к Шурке Рукавишникову, они умолкали, на вопросы отвечали неохотно, а Нюшка отчего-то неопределенно усмехалась, отводила глаза в сторону и начинала насвистывать.
Как-то раз Филька пригласил Степу на рыбную ловлю, сказав при этом с таинственным видом, что будут только свои, надежные ребята и что болтать об этой рыбалке не полагается.
— Понимаю, — усмехнулся Степа. — Чужие переметы снимать собираетесь?
— Да нет... У нас рыбалка особая. Приходи вот к омуту... Степа не утерпел и на закате отправился на дальний луг к омуту. Здесь он встретил Фильку, Сему Уклейкина, Фому-Ерему и старшего брата Фомы Оську. Рослый, жилистый парень, с выпуклыми глазами и рыжеватым пушком на подбородке. Оська неприязненно поглядел на Степу.
— Свой... могила... — заверил Филька и, отведя парня в сторону, принялся что-то шептать ему на ухо.
— Ага... тогда пусть, — кивнул Оська и посмотрел на Степу уже более миролюбиво. — Говорят, боксом умеешь драться? Показал бы приемчики. А?
— Какой там бокс! — смутился Степа. — Балуюсь просто...
— Хорошо баловство, когда всем ребятам носы побил! — ухмыльнулся Оська и неожиданно толкнул Степу в грудь. (Тот еле устоял на ногах.) — А ничего, — похвалил Оська, — стоишь крепко...
Потом подошел к омуту, огляделся кругом, прислушался и достал из-за пазухи обрез.
По знаку Фомы-Еремы мальчишки отступили назад.
Оська медленно поднял руку с обрезом и выстрелил в черную гладь омута около прибрежных кустов. Вода в том месте, куда попала пуля, закрутилась бешеной воронкой, и эхо выстрела гулко разнеслось по лугу.
Потом, сделав еще два выстрела, Оська обернулся к мальчишкам. Уклейкин рванулся к нему. В прошлый раз Оська разрешил по одному разу выстрелить из обреза Фоме-Ереме и Фильке. Сегодня же, конечно, очередь его, Уклейкина.
Но Оська вдруг поманил к себе Степу:
— Стрелять умеешь?
«Из малопульки...» — хотел было признаться Степа, но искушение выстрелить боевым патроном было так велико, что он сказал совсем другое:
— Смогу.
— Ладно, бабахни, — согласился Оська и передал Степе обрез.
Мальчик прижал ложе обреза к плечу, зачем-то долго целился и наконец дрожащим пальцем нажал курок.
Грохнул выстрел, в плечо сильно толкнуло.
На поверхности омута показались первые оглушенные рыбы.
Фома-Ерема, Филька и Уклейкин быстро разделись и полезли в воду вылавливать добычу.
Степа, потирая плечо, продолжал стоять в стороне.
— А ты чего прохлаждаешься? — обратился к нему Оська. Рыбы всплывало все больше и больше.
— Зачем же рыбу глушить? — недоумевая, спросил Степа. — Мелочи-то сколько погибло!
— А зачем стрелял? — захохотал Оська, — Тоже мне жалельщик нашелся! А ну, не растабарывай!
Чувствуя свою вину, Степа разделся и полез в воду, Вскоре мальчишки выловили крупную рыбу и выбрались на берег.
Оська отделил часть рыбы Фильке и Уклейкину, остальную сложил в мешок, и все направились в деревню.
Дома Филька отдал чистить рыбу Тане. Степа сел ей помогать.
— Опять Оська Еремин с ребятами рыбу глушил, — вполголоса сказала Таня. — И ты с ними спутался..,
— Позвали... Я же не знал, что они так рыбачат, — виновато признался Степа.
— Ты и с ребятами почти не видишься, — упрекнула его сестра, — с Шуркой, с Митей... А они всё про футбол спрашивают.
Степа незаметно вздохнул. Это верно, захороводил его Филька. То он показывал Степе заповедные места для купания, то катал на плоту, сколоченном из двух половинок чьих-то ворот, то учил ловить руками голавлей.
Потом эти занятия боксом, борьба, днем работа в поле, и для встреч с Шуркиной компанией времени совсем не оставалось.
«Да, неладно все получается», — досадуя на себя, подумал Степа.
В воскресенье он надул футбольный мяч и, пригласив Нюшку и Таню, отправился собирать Шуркину компанию.
Вскоре за овином мальчишки уже играли в футбол. Потом появился Филька со своими приятелями и тоже присоединился к игре.
Но футбол не ладился. Филькины приятели то и дело выбивали мяч далеко за пределы поля, толкались, нарушали правила.
Неожиданно Фома-Ерема с размаху упал на мяч. Сверху его придавил Сема Уклейкин — и мяч со звонким выстрелом лопнул, зашипел и превратился в сморщенный кожаный мешок.
— Приказал долго жить! — дурашливо закрестился Уклейкин. — А хороший был покойничек...
— Вы что, нарочно на мяч навалились? — Степа двинулся на Филькиных приятелей.
— Нарочно, нарочно! — закричала Нюшка. — Я видела, как они шептались...
Фома-Ерема и Уклейкин отступили и посмотрели на Фильку. Тот загородил Степе дорогу.
— Ну, чего взъерепенился? Поскользнулись ребята, упали — с кем не бывает... — миролюбиво заговорил он. — Не горюй! Нужно будет — возьмешь мой футбол. — И, заметив, что мальчишки всё еще продолжают хмуриться, Филька бодрым голосом крикнул: — Эка дело — солнце село, завтра новое взойдет!.. Сыграем лучше «до хозяина». — Он достал из-за пазухи краснобокое крупное яблоко, по-видимому из прошлогодних ковшовских запасов, сосчитал: «Раз, два, три» — и, размахнувшись, бросил его, словно камень.
Яблоко упало далеко за футбольными воротами и долго еще катилось по земле.
Мальчишки переглянулись — кому же не хочется полакомиться таким яблоком! — и с криком бросились вдоль прогона. Не удержалась и Нюшка.
На футбольном поле, около ворот, остались стоять Филька, Степа и Таня.
Впереди всех мчался Митя Горелов.
Какую бы игру ни затевали мальчишки, он всегда оказывался первым. Он мчался очертя голову, не разбирая дороги, и чаще всего попадал в неприятные положения. Про него так и говорили: «Кому пышки, а Митяю шишки».
Сейчас Митя первым схватил краснобокое яблоко. Теперь осталось лишь повернуть обратно, добежать «до хозяина» — Фильки, который стоял у футбольных ворот, — и тогда яблоко будет принадлежать Мите.
Крепко сжимая яблоко, Митя побежал обратно, и в спину ему сыпались кулачные удары, пинки, оплеухи, затрещины...
Мальчишки, словно Митя был их злейший враг, толкали его, подставляли ноги, загораживали дорогу, всячески оттирали от Фильки, а Митя должен был прорваться сквозь живую стену и покорно сносить самые крепкие удары.
Степа первый раз в жизни видел такую дикую игру.
Вот Митя вскрикнул, упал, поднялся, снова упал...
— Ой, Степа, да они же его... — вскрикнула Таня, хватая брата за руку, и вдруг, не помня себя, бросилась к ребятам и, расталкивая их, закричала: — Зачем бьете? Пропустите его!.. Такая дурья игра!..
Воспользовавшись замешательством, Митя быстро вскочил, подбежал к Фильке и коснулся его плеча:
— Чур меня, чур! Больше не бить! Я у «хозяина»!
— Неправильная игра! — недовольно сказал Фома-Ерема. — Танька помешала. Видали?.. Как наседка налетела... Митька, ты бы хоть поделился с ней. Темнота!
Митя протянул Тане яблоко. Девочка вспыхнула еще сильнее и отвернулась. Раззадоренный Филька вытащил из-за пазухи новое яблоко:
— А ну, еще «до хозяина»!
Митя встрепенулся, сунул яблоко Тане в руку и уже готов был снова вступить в игру.
Таня умоляюще посмотрела на брата.
Филька взмахнул рукой. Но бросок не состоялся. Степа выбил у Фильки из рук яблоко и раздавил его каблуком:
— Катись отсюда со своими яблоками! Слышишь?
— Чего? — опешил Филька.
— Уходи, говорю! Ты, хозяин...
Филька, по обыкновению, поплевал на ладони и принялся засучивать рукава, но Степа, подавшись всем телом вперед, смотрел на него с таким бешенством, что Филька не нашел ничего лучше, как засунуть руки в карманы.
— Вот чума... Игра же такая...
В ЧУЖОМ САДУ
В каждом селе есть избы, покинутые хозяевами. Была такая изба и в Кольцовке. Стекла в ней выбиты, ставни стонали на ржавых петлях, двор завалился, на соломенной задерневшей крыше росла трава и одинокие тонкие березки.
Хозяева давно куда-то уехали, деревня не замечала того, что разрушался дом, и только ребятишки любили эти старые стены.
Желваков дом — так назывался он по фамилии своего бывшего хозяина — был постоянным местом сбора кольцовских ребят, местом их отдыха, забав, игр и шалостей. Здесь они делились новостями, заводили торговлю и мену, ссорились и мирились, судили и наказывали виновных.
Вот и сегодня после ужина мальчишки собрались на бревнах у Желвакова дома. Бревна сложены в несколько рядов. Можно посидеть и в нижнем ряду, и в среднем, а еще лучше привольно растянуться на самом верху, где бревна еще теплые, как печная лежанка.
На улице уже стемнело, в окнах зажглись огни, из-за сараев вылезла багровая щербатая луна.
Скрипнули где-то ворота, лениво тявкнула собака, протарахтела на мосту запоздавшая телега.
— Филька-а-а! Степа-а! — донесся издали протяжный голос Пелагеи.
— Иде-е-ем! — так же протяжно отозвался Филька, поудобнее устраиваясь на бревнах и не проявляя никакого желания идти домой.
Но Степа поднялся. День сегодня выдался нелегкий и долгий, руки и плечи ныли от усталости — пора и на сеновал.
— Сиди! Успеем еще! — удержал его за руку Филька. — Все равно отца дома нет, он в город уехал.
Степа вновь присел на бревна. Ему, пожалуй, безралично где дремать — здесь или на сеновале. Перед глазами плыли возы с навозом, потные лошади, тучи синих мух, удушливая, горячая пыль на дороге.
Начали позевывать и другие мальчишки.
Фильке было скучновато.
Парни с девчатами ушли сегодня в соседнее село и унесли гармошку. Нельзя ни поглазеть на их веселье, ни подменить уставшего гармониста, ни сплясать «русского» с какой-нибудь рослой девицей.
Ну ничего, сейчас Филька что-нибудь придумает, Может быть, забраться на крышу к Никодиму Курочкину, наклониться над трубой и заиграть на гребешке? Эх, какой тогда вой поднимется в трубе! Никодим выскочит на улицу в одних исподниках, переполошит соседей и долго будет жаловаться на домового, который вот уж какой раз не дает ему покоя.
Нет, это уже было!
Тогда, может быть, «испить кваску»? Делалось это так. Мальчишки бросали жребий, и тот, кому доставалось идти за квасом, отправлялся к погребу тетки Спиридонихи, чей квас славился на всю Кольцовку.
Надо было пробраться в темноте в погреб, нащупать на льду жбан с квасом и принести его к Желвакову дому.
Когда квас был выпит, жбан обычно наполнялся водой и возвращался в погреб на старое место. Спиридониха до сих пор не могла понять, что за чудесные превращения происходят у нее с квасом.
Но и этот номер мальчишки уже проделывали не раз.
Филька поскреб в затылке: что бы такое придумать позабавнее да поновее?
— У Хомутовых яблоки наливаются, — услужливо подсказал Уклейкин. — Вот бы попробовать...
— Верно! — обрадовался Филька. — Как раз сезон подходит.
Окинув взглядом расположившихся на бревнах мальчишек, он спросил, кто сегодня поработает на всю компанию и прогуляется в сад к Василию Хомутову.
— Митяя Горелова очередь, — подал из темноты голос Фома-Ерема. — Мы его сколько раз угощали...
— Что вы, ребята! — оробел Митя. — Знаете, дядя Вася какой! У него один глаз спит, а другой все насквозь видит...
— Погоди, погоди! — перебил его Филька. — Квасом мы тебя поили, мои орехи ты грыз, пироги белые ел, а теперь отказываешься? На дармовщинку хочешь прожить?
— Так, Филя же... — заныл Митя. — Куда хочешь меня пошли, только не к дяде Васе. Лютый он, изувечить может. А еще в саду у него проволока колючая натянута. И собака там.
— А ну, геть отсюда! — рассердился Филька. — Нам слабаков не требуется.
— Слушай, а может, не надо... — осторожно вмешался в разговор Степа, чувствуя, как Митя дрожит мелкой дрожью. — Зачем тебе яблоки?
Но Фильку было не удержать: пусть двоюродный брат видит, как слушаются его ребята.
Он толкнул Митю в спину и закричал, что тот может сидеть дома на печке и не лезть к ним в компанию, если боится какого-то там дядю Васю.
— Ладно, пойду, — покорно согласился Митя. — Только вы мне сигнал подайте, если что...
— То-то! — подобрел Филька. — Да ты не дрожи. Не один пойдешь — с тобой Семка будет.
Мальчишки выждали, пока луна зайдет за облако, поднялись с бревен и, прижимаясь к палисадникам, пробрались к дому Хомутовых. В окнах было темно.
— Спят... можно, — подтолкнул Филька Митю. — Да смотри кислятину не хватай, белый налив ищи!
Вместе с ребятами Филька расположился около берез, на приличном расстоянии от дома Хомутовых, а Митя с Уклейкиным бесшумно юркнули в проулок.
Вскоре раздался приглушенный треск — ребята, видимо, раздвинули тычинник и пробрались в сад.
Мальчишки у берез, предвкушая, что скоро полакомятся белым наливом, настороженно молчали. Потом от нечего делать принялись вполголоса вспоминать свои былые приключения. Говорили, что легче всего, пожалуй, убегать от Игната Хорькова. Он кричит, размахивает хворостиной и мчится как угорелый, не разбирая дороги. Надо только отвернуть в сторону или присесть в крапиву, и дядя Игнат пролетит мимо. А вот от Хомутова убежать труднее...
Вновь из облаков выскользнула луна, посеребрила стволы берез, стены изб, поленницы дров в проулке...
— И чего они там копаются! — сказал кто-то со вздохом. — Тут в момент надо.
Неожиданно мелькнула чья-то тень, и к березам подбежал Семка Уклейкин.
— Ну как? С добычей? — нетерпеливо спросил Филька.
— Где там! — тяжело дыша, сообщил Уклейкин. — На дядю Васю напоролись. Он в шалаше спал...
— Тикай, братцы! — скомандовал Филька.
Степа, схватив Уклейкина за руку, спросил, где Митька.
— За мной трухал... Потом зацепился за что-то... Такой растяпа! — И Уклейкин ринулся вслед за мальчишками.
Степа остался один. «У нас в колонии ребята не разбежались бы», — подумал он.
В этот момент в саду Хомутовых кто-то испуганно вскрикнул.
Степа бросился в проулок и почти наскочил на Митю Горелова. Вполголоса охая, тот на четвереньках вылезал из сада через дыру в тычиннике.
— Что с тобой? — шепнул Степа.
— Ой! Кто это? — вскрикнул Митя. — Ты, Степка? А я на колючую проволоку налетел... идти не могу.
Из сада донесся тяжелый топот и хриплый голос:
— Держи их, крапивное семя!.. Хватай!
Это кричал Василий Хомутов... Подбежав к изгороди, он ударил тяжелым сапогом по трухлявому тычиннику и, проделав большое отверстие, вылез через него в проулок.
Понимая, что Мите теперь не убежать, Степа толкнул его в спину и шепнул:
— Ползи!
А сам по проулку побежал навстречу Хомутову. Метнулся в одну сторону, вильнул в другую, но проулок был узкий, и дядя Вася, широко раскинув руки, вскоре словил Степу, как рыбу в бредень, и ухватил за шиворот.
— Ага! Попался, злыдень! Врешь, разоритель, не уйдешь теперь! — торжествуя, забормотал он и потащил Степу в сад.
И то ли потому, что мальчишка не сопротивлялся, не рвался из рук и не хныкал,, обычно свирепый и крутой на руку Хомутов на этот раз не бил «злыдня и разорителя».
— Что ж теперь делать с тобой? — допрашивал он— То ли уши пообрывать, то ли крапивы напихать в штаны... Или в погреб посадить, а утром отцу сдать... Ты чей будешь, разбойная душа?
Степа молчал.
— Афонька, вздуй-ка фонарь! — крикнул дядя Вася, подведя Степу к шалашу.
В шалаше чиркнули спичку, и вскоре оттуда вылез заспанный Афоня. В руках его тускло светил фонарь.
— Ну-ка, свети! — приказал дядя Вася. — Что я тут за ерша-окуня выловил?
— Батя, так это же... новичок! — приподняв фонарь, вскрикнул Афоня. — Степка Ковшов.
— Колонист! — Хомутов от удивления даже выпустил ворот Степиной рубахи. — Значит, и ты туда же... по садам-огородам! Хлюст, нечего сказать! — И он вдруг пребольно щелкнул Степу по затылку. — А ну, чтоб духу твоего не было! Шасть отсюда!.. Афонька, выпроводи!
Афоня подтолкнул Степу к калитке.
— Тоже мне «городской, из колонии, в ячейке состою...», — вполголоса произнес он, шагая следом за Степой. — А сам почище Фильки...
В голосе Афони было столько неприкрытого презрения, что Степа, вспыхнув, невольно остановился и хотел объяснить, как все получилось, но Афоня не дал ему открыть рта.
— Иди, иди, выметайся отсюда! — сердито прикрикнул он и, распахнув калитку, с силой наподдал Степе ногой. — Другой раз попадешься — не так отделаем...
ПРИНЯТ!
На этом дело не кончилось.
На другое утро, когда Таня собралась по воду, Степа, по обыкновению, отобрал у нее ведра и сам отправился к колодцу. Колодезный насос, как видно, засорился, и Тане с каждым днем становилось все труднее качать воду.
Подойдя к колодцу, Степа подставил под обомшелый желоб жестяное ведро, взялся за гладкую, блестящую качалку и принялся быстро поднимать ее вверх и опускать вниз. Качалка загремела, застучала, но вода и не думала показываться.
Наконец минуты через три, когда Степу уже бросило в жар, в деревянном насосе, уходящем далеко в колодец, что-то всхлипнуло, чавкнуло, зашипело. Степа еще быстрее заработал качалкой, и вскоре витая серебряная струя со звоном полилась в ведро.
В этот момент к колодцу подошла Нюшка Ветлугина.
Не выпуская из рук качалки, Степа обрадованно кивнул ей. Девочка работала в своем хозяйстве, и они не виделись почти целую неделю. Но Нюшка сделала вид, что не замечает Степы. Она поставила свои ведра на землю и, задрав голову, смотрела на макушки берез, где сердито переругивались грачи.
— Ставь ведра, — предложил Степа. — Зараз накачаю.
Нюшка продолжала смотреть на грачей.
Выпустив на минуту из рук качалку, Степа подставил под желоб Нюшкино ведро и вновь принялся качать воду.
Грачи грачами, но Нюшка отлично все видела. Вдруг она быстро отодвинула ведро в сторону. Струя воды полилась на деревянный настил, далеко разбрасывая радужные брызги.
— Не балуйся! — попросил Степа. — Давай накачаю, пока вода не ушла. Мне ж нетрудно...
— Спасибочко, не нуждаюсь! — Нюшка зло стрельнула в Степу глазами и взяла ведро в руки. — Ты лучше Фильке помогай. Спец по садам-огородам!
Степа от неожиданности выпустил качалку:
— Да ты знаешь...
— Знаю, знаю! — сердито фыркнув, перебила его Нюшка. — Спец-то спец, а в руки дяди Васи попался! Много он тебе крапивы в штаны напихал? А? И как ты ночью спал только? На животе, поди!
И Нюшка вновь заинтересовалась грачами.
У Степы пересохло в горле. Он с маху поднял наполненные ведра и, пока нес их до дому, расплескал почти половину воды.
В этот же день Степе еще раз напомнили о ночном приключении.
За ужином дядя Илья, кинув на племянника хмурый взгляд, сказал, что сегодня на него жаловался Василий Хомутов.
— Круто берешь, парень! Прожил в селе без году неделю, а разговоров на все лето не оберешься. Этому тебя в колонии-то обучили — по садам разбойничать?
— Вы колонию не троньте! — обозлился Степа и в ту же минуту почувствовал, как Филька под столом толкнул его в ногу.
— Так какой же леший погнал тебя за чужими яблоками? — повысил голос Илья Ефимович. — Своих, что ли, не хватает? Иди в сад да объедайся, если уж такой падкий на них.
Толчки в ногу усилились.
— Смотри! — погрозил дядя. — В другой раз Хомутову попадешься— он больше жалеть не будет, блин из тебя сделает. И поделом — не воруй!
Прикусив губу, Степа вылез из-за стола и вышел на улицу. За углом дома стояли Таня и Нюшка.
— Опять он с Филькой связался, — донеслись до Степы слова сестры. — В сад к Хомутовым залез...
— Знаю, — отозвалась Нюшка. — Присох он к Филькиной компании, пугалом для мальчишек стал. Филька что ни сделает, все Степкой прикрывается. В чужой сад кого пошлет — на него сваливает. Мол, колонист требует. И всем его силой угрожает. А еще говорит, что Степка дикий и отчаянный. Избить может под горячую руку каким-то там боксом... и ножиком пырнуть. А только наши ребята тоже не из пугливых. Шурка даже частушку сочинил. Слышала? «Нас побить Ковши хотели, побить собиралися, а мы сами да с усами, их не испугалися».
— Лучше бы Степка и не приезжал сюда! — всхлипнула вдруг Таня. — Жил бы и жил в своей колонии...
— Может, и так, — вздохнула Нюшка. — У Фильки и без того подлипал хватает.
Кровь бросилась Степе в лицо.
Так вот что о нем думают! Но ведь это неправда. Да и нужен ему этот Филька, как прошлогодний снег! Сейчас он подойдет к девчонкам и все объяснит.
Нюшка и Таня вышли из-за угла дома. Но тут Степе показалось, что объяснить не так-то уж легко. В самом деле, Шуркину компанию он почти забыл, а с Филькой продолжает хороводиться, обучает его приемам бокса и даже ходил с ним глушить рыбу в омуте.
— Я со Степкой и на сеновал теперь не пойду, с бабушкой буду спать, — донеслись до него слова Тани. Расставшись с подругой, она направилась в дом.
Затаив дыхание Степа прижался к стене. Вскоре на крыльце появился Филька. Степу так и бросило к нему.
— Ты... ты зачем меня страшилищем выставил? — хрипло спросил он. — Зачем ребят пугаешь? Я и бью и ножом пыряю...
— Вот чудак, не понимаешь? — искренне удивился Филька. — А чтобы боялись все. Знаешь, как это здорово, когда боятся! Я тебе нарочно в борьбе-то поддавался. Пусть думают, что ты еще сильнее меня. Теперь нашу компанию уж никто не затронет. Нас так и зовут: «Филька и Кº».
— А я не хочу, чтобы меня боялись! И не лезь ко мне со своей компанией!
— Ничего, у нас с тобой дело пойдет, — благодушно заверил Филька. — Куда ни кинь, а тебе моей компании не миновать. Со мной-то надежнее. — И, схватив Степу за плечо, он зашептал ему на ухо, что на завтра есть одно дельце — надо бы проучить Шурку Рукавишникова, который сочиняет про них разные частушки.
— Отойди от меня на три шага! — Степа резко сбросил Филькину руку и столкнул его с крыльца.
Филька загремел по ступенькам.
— Ну, ну, ты не очень...
— И не подходи больше!
— Значит, все врозь, все пополам? — ухмыльнулся Филька. — Смотри, колонист, просчитаешься!
Но Степа ничего не слышал. Спрыгнув с крыльца, он побежал к сараю.
* * *
Проснувшись утром, Степа узнал от бабушки, что Таня с Нюшкой уже с полчаса назад куда-то ушли.
— А меня почему не разбудили?
— Так у вас с Филькой свои дела, — грустно усмехнулась бабушка.
Степа насупился, ушел обратно в сарай и лег на сено — только бы не встречаться с Филькой. И потом, надо что-то придумать. Быть может, пойти к Шурке и обо всем поговорить с ним по душам? Как-никак, а они комсомольцы и должны понять друг друга. Но Шурка тоже хорош — ничего толком не узнал, а уже сочиняет частушки.
Вскоре в сарай заглянула Таня. Она неслышно подкралась к брату и обняла его за шею.
Степа вырвался.
— Ну, не сердись, — виновато заговорила сестра. — Я теперь все знаю. И Нюшка знает. Митя нам рассказал. Он тебя к себе зовет. — И она потащила брата к Гореловым.
— Зачем? — заупрямился Степа. — Нужен — пусть сам приходит.
— Да не может он: лежит весь исколотый. Ему бабка Спиридониха примочки делает. Пойдем скорее...
По дороге Таня успела поделиться с братом своими думами насчет Мити. До чего же не везет парню!
Полез он как-то в погреб. В это время опрокинулась поленница дров, захлопнула дверцу, и Митя оказался в заточении. Его искали два дня и вытащили еле живого, посиневшего от холода и страха..
В другой раз, падая с дерева, Митя зацепился рубахой за сук и, болтая ногами, провисел до тех пор, пока отец не принес лестницу и не снял его. А потом вдобавок выпорол сына ремнем. Так Митьку и зовут в деревне «Битый-сеченый» да «Дубленая кожа».
Но он не унывает. Отлежится, а потом опять бегает и скачет как ни в чем не бывало.
Не унывал Митя и сейчас. С толстыми, неуклюжими от бинтов коленями он лежал на широком сундуке и с удовольствием грыз зеленое яблоко.
На лавке сидели Шурка Рукавишников и Афоня Хомутов. Нюшка подметала пол.
Увидев такую компанию, Степа немного опешил и задержался в дверях.
— Иди, не стой на пороге! — подтолкнула его Таня и кивнула ребятам. — Вот он... привела...
Митя, широко улыбнувшись, приподнялся с подушки и протянул Степе руку:
— Здорово, колонист! Чего не заходишь? Мы тебя тут ждем, ждем...
Степа осторожно пожал ему руку:
— Я-то здоров. А вот ты как? Сильно поцарапался?
— Пустое... семечки, — небрежно отмахнулся Митя и, довольно резко спустив забинтованные ноги на пол, сделал попытку пройтись по избе.
Но с первого же шага он ойкнул, болезненно скривился и, поддерживаемый Шуркой, опять лег на сундук.
— Пройдет... У меня кожа дубленая. Мне один раз гвоздем ступню насквозь пропороло — и все равно зажило. А потом еще...
— Ладно, дубленый, всего не перескажешь, — перебил его Шурка и, подойдя вплотную к Степе, с серьезным видом протянул ему руку: — Ты это здорово Митьку выручил. И Фильке нос ловко утер... Это я тебе от всех наших ребят говорю... А частушку забудь! Не было ее и не было.
— Да будет вам! — отмахнулся Степа.
— Это уж как есть... на факте, — вновь приподнялся Митя. — Я, Степа, для тебя теперь что хошь сделаю! — Он взволнованно оглядел избу, ребят и, не зная, чем доказать свою преданность Степе, остановил свой взгляд на кепке с яблоками: — Афоня, угощай!
Афоня, которому уже давно было не по себе, подошел к Степе и, отвернув в сторону красное лицо, протянул кепку с яблоками:
— Бери вот, белый налив. Из нашего сада. Нам ведь не жалко, только попроси. А вот по ночам в сад лазить да деревья ломать — это глупость одна. Ты-то за яблоками не лазил, я знаю. Ты из-за Митьки попал... — Он замолчал, помялся и с трудом выдавил: — Я тебе наподдал тогда... у калитки. Не сердись уж! Захочешь — и ты мне раза дашь.
— Ладно, замнем это дело, — сказал Степа, беря из кепки яблоко и косясь на Нюшку, которая внимательно прислушивалась к разговорам мальчишек.
Глаза их встретились.
Нюшка вспыхнула, набрала в рот из кружки воды, отчего щеки ее округлились, и, побрызгав на пол, торопливо замахала веником.
Степа понял, что он теперь принят в новую компанию.
СЕНОКОС
Крестьянской работе не было конца. Вслед за навозницей подошел сенокос.
Несколько дней Илья Ефимович готовился к выезду в дальний заливной луг: отбивал косы, чинил грабли, смазывал пахучим дегтем колеса дрог. Это были широкие, вместительные телеги с высокими стойками, приспособленные для возки сена.
В день выезда в луга дядя Илья спросил Степу, умеет ли он косить.
— Приходилось малость, — ответил Степа.
Илья Ефимович достал косу и заставил племянника показать свое умение на огуменнике.
Степа прошел саженей двадцать, но коса, как нарочно, вела себя из рук вон плохо: то скользила поверх травы, то зарывалась носом в землю, то срезала «пяткой» дерн.
— Косьем по шее за такую работу! — фыркнул Филька, наблюдая сбоку за Степой.
Поморщившись, Илья Ефимович согласился, что косарь Степка действительно неважный, но все же решил взять его с собой в дальние луга — в сенокосную страду дорог каждый человек.
— Ох, Степа! — пожалела брата Таня. — Тебя же на лугу засмеют за такую косьбу... Там знаешь как надо...
И она повела Степу к Ветлугиным. Пошептались о чем-то с тетей Груней, и та позвала Степу косить вместе с собой огуменник. Встав за спиной мальчика, тетя Груня прошла с ним один прокос, другой, показала, как надо взмахивать косой, как и когда нажимать на «пятку», как высматривать и обходить бугорки и кротовины.
Щеки у Степы разгорелись, рубаха на лопатках потемнела от пота. Но тетя Груня все еще не отпускала его:
— Маши, маши — завтра легче будет!
В сумерки у пожарного сарая ударили в чугунную доску, и по этому сигналу вся Кольцовка двинулась в луга.
Ковшовы выехали на двух подводах. На первой ехал Илья Ефимович с Филькой и дочерьми, на второй — Степа с Таней и Нюшка с матерью.
За околицей они сразу попали в поток подвод. Телеги поскрипывали, остро пахло дегтем, отдохнувшие лошади шли резво и споро, особо нетерпеливые призывно и звонко ржали. То и дело из вереницы подвод вырывалась чья-нибудь телега, и хозяин ее, нахлестывая лошадь и подзадоривая односельчан, устремлялся вперед.
Иногда телеги цепляли одна другую осями, слышались треск дерева, крик, брань.
Степа сидел на телеге рядом с Нюшкой и видел, как блестели у девочки глаза и вздрагивали ноздри.
— Смотри, смотри! Обгоняет! — шепнула она, дергая Степу за руку и показывая на Шуркиного отца, Егора Рукавишникова, который, обогнав все подводы, далеко вырвался вперед. — Нам бы свою лошадь! Я бы всегда впереди всех ездила...
Захваченная общим азартом, она вдруг выхватила у матери вожжи и, встав на телеге во весь рост, гикнула на лошадь и, обогнав подводу Ильи Ефимовича, устремилась вслед за Рукавишниковым.
— Эй ты, босота!.. Запалишь мне коня! — погрозил ей кнутом дядя Илья.
Но Нюшка ничего не слыхала.
— Тетя Груня, дядя сердится, — предостерегающе шепнула Таня.
— Гони Емеля — твоя неделя! — махнула рукой Аграфена, как видно угадывая состояние дочери.
Степа понял, о какой «неделе» шла речь. Дядя разрешил Аграфене пользоваться его лошадью, но при этом поставил условие: каждый второй воз своего сена она должна отдавать Ковшовым.
На дальний луг кольцовские мужики приехали уже затемно, расположились лагерем в перелеске, выпрягли лошадей и разожгли костры. Кто постарше, лег спать, а молодежь и подростки всё еще сидели у костров, переговаривались, слушали, как плещется рыба в реке да где-то в хлебах деревянным голосом кричит дергач.
С первыми проблесками зари все косари вышли на луг. У каждого на плече — острая коса, на поясе на правом боку— жестяная коробка, а в ней, как кинжал в ножнах, — брусок для точки кос.
Луг расстилался неоглядный, ровный, как стол, сизый от росы и тумана и как будто затянутый слюдяной пленкой.
Косили группами — «осьмаками». Каждый «осьмак» объединял пять-шесть крестьянских хозяйств. Луг заранее разделен был на участки, а участки, в свою очередь, — на полосы по числу «осьмаков».
Косари подошли к первому участку, примыкающему к реке, и окружили жеребьевщиков — Василия Хомутова и Егора Рукавишникова.
Хомутов бросил в картуз пригоршню палочек— каждая величиной с наперсток и с какой-нибудь меткой. Затем он поднял картуз над головой, потряс им и обернулся к рослому, плечистому Рукавишникову.
Тот с торжественным видом, засучив рукав, запустил руку в картуз, вынул первую палочку с меткой, взглянул на нее и, вдохнув побольше воздуха, заливисто и протяжно вывел, словно песню в праздничный день:
— Слу-ушай!.. Пе-ервая полоса-а — кре-ести-ик!
И косари того «осьмака», чей жребий был помечен крестиком, быстро заняли первую полосу.
— Вто-ора-ая полоса — две-е рубки! — продолжал Рукавишников. — Третья-а — желоб!.. Четверта-ая — колодчик...
— Вот заливается! — улыбнулась Аграфена. — Лучше всякой песни.
— Ты слушай, слушай, — шепнул Филька Степе. — Наш жребий — три колодчика... И куда он запропастился только?
Наконец дядя Егор выкрикнул «три колодчика».
Филька толкнул в бок Степу и вслед за отцом и другими косарями своего «осьмака» устремился на седьмую полосу.
Жеребьевка вскоре закончилась, все полосы были заняты. Луг наполнился вжиканьем и посвистом кос, звенящим шарканьем брусков о металл.
Мужики косили размашисто, споро, азартно, поддразнивая друг друга, стараясь опередить соседей.
Покончив с первым участком, они вновь кидали жребий и переходили на второй, на третий... Зеленые, лохматые валки скошенной травы тянулись за косарями.
Степа невольно залюбовался дружной работой. Вот так, наверно, работают в артели «Заре навстречу». Он сказал об этом тете Груне.
— Спозаранок у нас всегда дружно да споро, — усмехнулась Аграфена. — Посмотри вот, что дальше будет...
Из-за реки выкатилось солнце. Росистый луг засиял, заискрился цветными огоньками, косы заблестели серебром, с реки потянуло свежим ветром.
Женщины и девчонки принесли в узелках и корзиночках завтрак.
За завтраком многие мужики выпили самогонки, и после этого сенокос пошел довольно бестолково. Косари подолгу препирались друг с другом, вспоминали старые обиды, ругали Рукавишникова и Хомутова — они, мол, неправильно ведут жеребьевку.
К полудню, когда трава стала сухой и жесткой, косьба прекратилась, и косари принялись делить скошенную траву между собой.
Они считали, прикидывали, переругивались, вновь метали жребий, и после этого каждая семья уже самостоятельно сушила на лугу траву.
Степе даже стало жалко, что так быстро все кончилось: вот работали они с Митей Гореловым и Афоней Хомутовым в одном «осьмаке», а теперь все разбрелись по своим полосам.
На другой день, навьючив сухое, шумящее сено на дроги, Ковшовы начали переправлять его домой, на усадьбу, и сваливать около сарая. Когда сена накопилась целая гора, Илья Ефимович поглядел на горизонт, где роились и наливались синевой облака, и кивнул приглашенным «подсобить» мужикам:
— Поторопись, братцы! Как бы дождиком не прыснуло.
Мужики взяли длинные трезубые вилы и, навалившись, вонзили их в сено.
Илья Ефимович подозвал Таню, Нюшку и Степу:
— А ну, топтуны... по местам!
Ребята полезли в сарай.
Филька обычно от такой работы уклонялся — он уже взрослый, косил не хуже мужика, и не к лицу ему связываться с такой работой, как утаптывание сена.
И что это была за работа!
Мужики то и дело швыряли огромные навильники сена. «Топтуны» принимали его в объятия, тащили в дальние углы сарая, приминали, прессовали, забивали сеном все пустоты. И сено, такое ароматное и нежное на лугу, здесь, в полутемном, душном сарае, казалось жестким, колючим, жарким. В руки вонзались какие-то колючки, пыль забивала нос и горло, пот щипал глаза. Да еще гляди, как бы не напороться на острые концы вил, которые так и мелькали перед глазами.
СОН НА ВОЗУ
Через неделю дальний луг был выкошен. Филька и Степа возвращались домой с последними возами сена.
Филька ехал впереди на Лысанке, Степа — сзади на ленивой Фефеле. На возу укачивало, как в люльке, и уставший за день Степа начал дремать.
— Э-эй! Не дрыхнуть! Смотри в оба! — крикнул с переднего воза Филька.
Степа вскинул тяжелую голову и, сонно почмокав языком, пошевелил вожжами.
С тех пор как была сказана памятная фраза: «Всё врозь, всё пополам», и Филька убедился, что двоюродный брат переметнулся к Шуркиной компании и больше ему не опора и не защита, он невзлюбил его всей душой.
Внешне все было тихо, мирно и пристойно.
На глазах у взрослых, особенно при отце, Филька был со Степой ласков и обходителен, называл его «браткой», по-дружески обнимал за плечи, но про себя злорадно твердил: «Теперь он у меня попляшет камаринского! А захочу — и землю жевать будет».
Дома, садясь за стол ужинать, он пролезал мимо колониста и старался прищемить ему руку или ногу. Степа бледнел от злости и боли, а Филька с виноватым видом говорил: «Я же нечаянно... Ты, братец, не сердись!»
Во время косьбы Филька пристраивался позади Степы и, широко размахивая косой, ожесточенно шептал; «Жми-дави, колонист! Не то пятки подрежу!»
Возы подъезжали к мосту. Филька еще раз оглянулся назад и окликнул Степу, Тот не отозвался! уткнувшись лицом в сено, он сладко спал.
Филька ухмыльнулся и быстро спустился с воза на землю.
Когда Степин воз въехал на мост, Филька остановил Фефелу, распряг ее, вывел из оглобель и пустил на обочину дороги. Сам же догнал свой воз и, посмеиваясь, поехал дальше.
Фефела спустилась к реке, напилась воды, потом принялась щипать сочную прибрежную траву.
Вскоре к мосту подъехало еще несколько подвод с сеном.
— Эй, там, на мосту! — закричали мужики. — Ходу давай! Вздрогнув, Степа сонно приподнял голову, а затем вновь опустил ее на сено.
К мосту подошли мужики, бабы, ребятишки. Увидев пустые оглобли, даже сумрачный Василий Хомутов рассмеялся и стащил с воза заспанного возчика:
— Вот это да!. Это возчик! Лошадь из оглобель потерял.
Поеживаясь, Степа растерянно оглядывался по сторонам, отыскивая глазами Фефелу. Ее нигде не было видно.
— Спит себе, как младенец в люльке, да слюни пускает! — насмешливо сказал Игнат Хорьков. — И знать ничего не знает.
— Теперь узнает, — в тон ему заметил Хомутов. — Илья Ефимович пропишет ему ижицу... ниже спины. — И он вновь гулко, словно в бочку, захохотал. — Лошадь потерял, словно чеку из оси. Да такое раз в сто лет бывает! Ну, колонист!
— Сморился парень, чего с него взять, — примирительно сказал Егор Рукавишников. — Не у кого-нибудь — у Ворона батрачит. Тут и взрослый с ног свалится...
Раздались недовольные голоса — мост надо было освобождать. Кто-то предложил свалить Степин воз с сеном в сторону.
Рукавишников, поплевав на ладони, впрягся в оглобли и скомандовал: «Разом, взяли!»
Подталкивая воз сзади и с боков, мужики стронули его с моста и поставили на обочине дороги.
Путь был свободен. Возы с сеном потянулись к Кольцовке.
Степа остался один. Он спустился к берегу реки и по свежим следам направился разыскивать Фефелу.
«Не у кого-нибудь — у Ворона батрачит», — вспомнил он слова Рукавишникова.
В самом деле, кто они теперь, Степа Ковшов и его сестренка? Разве не такие же батраки, как Нюшка и тетя Груня? Аграфена так и говорит про Степу: «Вот и еще один батрачок у Ковшова прибавился. Теперь нашего полку прибыло».
Они чертоломят, гнут спины, а впереди никакого просвета.
Степа, скажем, еще пойдет осенью в школу, а что будет с Таней? Так и останется на побегушках у дяди.
Степа задумался и не заметил, как его догнали Шурка, Митя и Афоня.
— Чего вам? — хмуро спросил он. Ему было очень неловко перед ребятами, что он заснул на возу и не уследил, как у него распряглась Фефела.
Шурка предложил поскорее отыскать и запрячь лошадь.
— Да-да, — поддержал Митя. — Пока Ворон не примчался...
Степа внимательно поглядел на ребят и молча согласился. На ходу Митя спросил Степу, куда же подевался Филька — ведь они вместе выехали с луга. Степа пожал плечами:
— Я заснул на возу. А Филька, наверно, вперед уехал.
— Тогда понятно, — хмыкнул Шурка и высказал предположение, что не иначе как двоюродный братец подложил Степе свинью — нарочно выпряг Фефелу.
— Это ты брось! — не поверил Степа. — Зачем ему?
— Эх ты, простота! — вздохнул Шурка. — Разуй глаза — увидишь. Мало ты еще в Кольцовке живешь...
Река причудливо петляла среди зеленых кустов, берег был топким, под ногами хлюпала вода.
— Наверно, в овсы убежала, — сказал Афоня. — Лизоблюдка, а не лошадь!
Степа принялся звать Фефелу.
Вскоре донеслось протяжное, жалобное ржание — лошадь как будто звала на помощь..
Ребята заглянули за кусты и увидели Фефелу, Она лежала на полянке среди голубых незабудок.
— Ну и шкода! Наелась да на боковую! — выругался Афоня и тут же осекся. — Ребята, она же в трясину угодила...
Лошадь, заметив мальчишек, вскинула передние ноги и, храпя, попыталась выбраться из топкого места. Но, сделав несколько судорожных движений, она обессилела и вновь по самое брюхо погрузилась в трясину. Лиловые глаза Фефелы тоскливо смотрели на ребят.
— Надо мужиков звать, — заторопился Митя. — Я побегу...
— Пока зовешь, лошадь совсем засосать может, — остановил его Афоня.
Он оглядел ребят и деловито распорядился ломать ветки лозняка и застилать ими трясину — ему с отцом не раз приходилось таким способом выручать лошадь из беды.
Мальчишки принялись за работу.
Вскоре перед Фефелой образовался толстый настил из веток.
Мальчишки распутали вожжи, сложили их вчетверо и подсунули под передние ноги лошади. Затем, ухватившись за концы вожжей и понукая Фефелу, они помогли ей выбраться на настил.
Потом вымыли в реке ее зашлепанные грязью ляжки и брюхо и впрягли в оглобли.
— Нам Ворон в ножки теперь должен поклониться, — заметил Шурка, — лошадь ему спасли.
Мальчишки вместе со Степой забрались на воз с сеном и через полчаса подъехали к Кольцовке.
На околице их встретил встревоженный Илья Ефимович. Он остановил лошадь и обрушился на Степу с руганью:
— Эх ты, горе-работничек! Спишь да лошадей теряешь! Меня за такое, бывало, грабельником по спине охаживали.
— Что вы, дядя Илья! — привстав на возу, с невинным видом сказал Шурка. — Сна ни в одном глазу не было. Чека из оси выпала, чуть колесо не свалилось... Вот мы и задержались.
Илья Ефимович подозрительно оглядел чеки в осях, Фефелу и сердито прикрикнул:
— Чего на возу расселись! Лошадь и так мокрая. А ну, сыпь все оттуда!
Ребята попрыгали с воза на землю. Степа зашагал рядом с Фефелой, а мальчишки, подморгнув ему, быстро пошли по улице и загорланили:
Ты не вейся, черный ворон, Над моею головой...Сенокос подходил к концу.
Два сарая уже были туго набиты молодым, душистым сеном, за двором вырос высокий, аккуратно очесанный стог, а Илья Ефимович все выискивал, где бы ему еще раздобыть травы, чтобы пополнить свои сенные запасы.
Он выкашивал забытые перелоги, обочины дорог, глухие лесные овраги.
За несколько дней до жнитва Илья Ефимович выехал сенокосничать в Субботинскую рощу, богатую густо поросшими травой полянами и овражками.
Кольцовские мужики заранее поделили рощу на делянки по числу дворов в деревне, и каждый хозяин распоряжался своей делянкой как умел: кто выкашивал, кто продавал.
Показав Фильке, Степе и Аграфене свою делянку, Илья Ефимович отозвал сына в сторону и наказал ему:
— Присматривай тут, ушами не хлопай. Чтобы почище косили да не прохлаждались! А я по лесу пошукаю...
Косить в лесу было нелегко. Тут не размахнешься со всего плеча, не выпишешь косой, как на лугу, широкое полукружие, не положишь ровный валок травы. То и дело коса натыкается на старые пеньки, на узловатые корни, на муравьиные кучи.
Степа еле успевал точить зазубрившуюся косу. К тому же мешали кусты и деревья. Они словно нарочно подталкивают тебя под локоть и осыпают частыми холодными каплями росы.
А сколько соблазнов в лесной траве! То мелькнет срезанная грибная шляпка, то обнажится россыпь краснобокой земляники, то вспорхнет из-под косы насмерть перепуганная птица...
— Э-эй, косарь-травобрей! Ты чего все косу точишь? — окликнул Степу из-за кустов Филька. — Давай, давай, шевели плечиками!
— И зачем вам сена столько? — помолчав, спросил Степа. — И косят, и возят...
— Кому это «вам»? А ты что же, не наш, не у Ковшовых в доме живешь?
— Жить-то живу... — неопределенно сказал Степа и, вспомнив про Фефелу, напрямик спросил Фильку, зачем он выпряг лошадь.
— А-а, ты вот о чем! — осклабился Филька. — Будешь на возу дрыхнуть — еще и не так проучу!
С трудом сдержав себя, Степа отошел в сторону и принялся скашивать островок желто-лиловой иван-да-марьи.
Таня с Нюшкой вытаскивали скошенную траву из затененных мест на солнечные поляны и расстилали тонким слоем для просушки.
— Ты чего злой такой? — Таня подошла к брату.
— Да вот... чуть не поломал... — Степа с трудом вытащил врезавшуюся в корень дерева косу, потом посмотрел на сестренку и тихо спросил, не хочется ли ей сейчас уехать куда-нибудь подальше от Ковшовых.
— А зачем? — удивилась Таня. — Мы же теперь вместе с тобой. И мне не страшно совсем...
— Страшно не страшно, а все равно вы батраки у Ворона, — вмешалась в разговор Нюшка. — И никуда вас дядя теперь не отпустит. Зачем ему вас терять? Родные-то батраки даже дешевле.
Не зная, что ответить, Степа пошаркал бруском по косе и принялся за работу.
В самом деле, стоило ли ему возвращаться в деревню? Как-то теперь сложатся его дела со школой, со стипендией? И как быть с Таней?
Работали до полудня.
Перекусили прямо в лесу и, немного передохнув, вновь принялись за косьбу.
Вскоре делянка уперлась в густой лес, откуда тянуло прохладой и прелым листом. Никакой травы там уже не росло.
— Шабаш, молодой хозяин! — обратилась к Фильке Аграфена. — Откосились.
— Забирай левее, — махнул рукой Филька. — Травы хватит. — И, выбрав широкую полянку, он принялся размахивать косой.
— Погоди, ты же на чужое залез, — остановил его Степа, показывая на заломленную на углу делянки ветку дерева и выкошенную косой широкую окружность. — Вот и метка рукавишниковская.
— Коси, коси! — распорядился Филька. — Все равно трава пропадет. У Рукавишниковых руки до нее не дойдут.
Степа еще раз осмотрел метку на краю делянки и решительно вытер пучком травы светлое лезвие косы:
— Ну, нет! Я чужое хапать не буду.
— Да ты что! — налетел на него Филька. — Подумаешь, какой Стенька Разин! Твое дело телячье — что скажут, то и выполняй! А может, отец купил эту делянку?
— А если и впрямь она куплена! — потянула брата за рукав Таня. — Чего ты?
— Вот дядя подтвердит, тогда видно будет, — стоял на своем Степа. Он отошел в сторону и воткнул косье в землю.
— Правильно! — поддержала Степу Нюшка и повесила грабли на дерево.
Прекратила работу и Аграфена.
— В самом деле, Филя, — сказала она, — вот я свою делянку вам уступила, это верно, а про Егора Рукавишникова слуху не было. Зачем же, что плохо лежит, к рукам прибирать?
Филька, оторопев, посмотрел на косарей и побежал в лес разыскивать отца.
Вернулись они минут через двадцать.
Илья Ефимович сделал вид, что ничего особенного не произошло, и только стал торопить всех, чтобы сгребали траву и навьючивали ее на возы.
Но вечером после ужина он задержал Степу у крыльца и хмуро заметил ему, что тот много на себя берет и вмешивается не в свое дело.
— Все равно чужое хапать не буду! — упрямо повторил Степа.
— Может, тебя хозяином в доме сделать? — вспылил дядя. — Свои порядки заведешь...
Степа смолчал, повернулся и пошел к сараю.
Илья Ефимович тяжелым взглядом проводил племянника.
Да, с колонистом стало нелегко. Не ладит с Филькой, лезет не в свои дела, в доме на всех смотрит волчонком. И в хозяйстве от него проку немного: работает без особого рвения, неумело, ко всему еще надо приучать.
Вспомнился недавний разговор с директором школы. Савин встретил Илью Ефимовича на улице и как бы мимоходом спросил, как ведет себя племянник.
Ковшов сдержанно ответил, что особо хвалить не за что.
— Боюсь, что вообще хвалить его не придется, — заметил Савин. — Я тут кое-какие справки навел. Оказывается, что он считался в колонии и детдоме самым озорным и хулиганистым воспитанником. От него там с трудом избавились. Жалко мне вас, Илья Ефимович! Сядет вам племянник на шею — не возрадуетесь.
— Избави бог от такой родни! — оторопел Ковшов. — Пусть он тогда обратно едет, откуда приехал.
Савин заметил, что в колонию Степе возврата уже нет, но устроить его в какую-нибудь городскую мастерскую, пожалуй, будет нетрудно. Надо только Ковшову заняться этим...
Илья Ефимович ничего тогда не ответил Савину, но сейчас, после столкновения с племянником, решил послушаться совета директора.
БУДЕТ ТАК!
С утра Степа выехал на Фефеле бороновать вспаханную под пар землю. Земля уже засохла, отвердела, и железные зубья бороны оставляли на полосе еле приметный след.
Приходилось пускать борону по одному и тому же следу по нескольку раз.
Сначала Фефела ходила в постромках довольно исправно, но потом, когда начало припекать солнце и налетели слепни, она стала яростно хлестать себя хвостом, часто взбрыкивать и останавливаться.
Степа, помня наказ Тани и Нюшки о том, что с Фефелой надо обходиться построже, зло дергал вожжами и орал на лошадь страшным голосом. Но это мало действовало на Фефелу.
Когда от слепней стало совсем невтерпеж, лошадь вдруг легла на бок и, дрыгая ногами, принялась кататься по вспаханной земле. При этом она так запуталась в постромках, что Степе пришлось перепрягать ее заново.
И началось единоборство. Степа выломал длинный лозняковый прут и нещадно хлестал им лошадь, как только она пыталась повалиться на бок. Фефела же, скосив глаз, все выжидала момент, когда ее хозяин зазевается, и снова старалась лечь.
Но вскоре и прут уже не пугал Фефелу.
Тогда разъяренный Степа схватил глыбу земли и метнул в спину лошади. Фефела рванулась вперед, и мальчик даже не успел подобрать волочившихся по пашне вожжей.
— Тпру! Сто-ой!.. — закричал он, а лошадь, чувствуя, что ее преследуют, свернула с полосы и как ошалелая помчалась к деревне.
Борона запрыгала по комковатой пашне, заметалась из стороны в сторону.
Паровое поле кончилось. Фефела вырвалась на зеленое клеверище и, как гребенкой, процарапала по нему черный след. Потом она попала на чью-то картофельную полосу.
Степа обомлел. Сейчас лошадь с бороной ворвется в деревню и наделает такого переполоха, какого, наверно, еще никогда не бывало в Кольцовке...
Но тут от дорог и навстречу Фефеле шагнул какой-то человек. Он шел медленно, широко раскинув руки, потом вдруг кинулся к лошади и ловко схватил ее под уздцы.
Фефела, затанцевав на месте, остановилась.
Степа подбежал к незнакомцу. Сердце его гулко колотилось.
— Спа... спа... сибо, дядя!
«Дяде», державшему лошадь под уздцы, было лет под тридцать. Среднего роста, широколицый, с маленькими белесыми усиками, в запыленных сапогах, он лукаво поглядывал на красного, запыхавшегося Степу.
— На здоровье. Получай-ка свою лошадь. И скажи, кто это тебя научил швырять в нее комьями земли?
— Слепни одолели, — сконфуженно сказал Степа.
— Это бывает. А зачем ты за лошадью следом гнался, когда надо бы вперед забежать? Ты что, не деревенский?
— Да нет... я здесь живу, — помявшись, признался Степа.
— Скажи тогда отцу, чтобы он научил тебя с лошадью обращаться, — посоветовал незнакомец, передавая мальчику вожжи.
После этого он направился к дороге, где стоял оставленный им чемодан, и, взяв его, зашагал к Кольцовке.
Степа, проводив взглядом незнакомца, перевернул борону вверх зубьями и тронул лошадь обратно к паровому полю.
В сумерки, когда мальчик вернулся домой, к нему прибежал Шурка:
— Ты знаешь, кто к нам приехал? Отцов брат, дядя Матвей.
— Это что с усиками?
— Ага... Ты уже видел?
— Встречались...
— Отец говорит, Матвей что-то интересное будет рассказывать. Приходи к нам завтра утром.
Утром Степа направился к Рукавишниковым.
Их изба стояла недалеко от околицы. Большая, приземистая, она глубоко осела в землю и от старости наклонилась вперед, словно сгорбилась, и, как на клюку, опиралась на толстую дубовую подпорку. Одна сторона избы была обита тесом, другая, по-зимнему, закутана соломой. Фасад выкрашен яркой охрой, на крыше красовался щеголеватый резной петух, а у крыльца прогнили две ступеньки — у хозяев никак не доходили руки, чтобы их починить.
К углу избы был прибит вместительный дощатый ящик с надписью: «Для газет и писем», хотя письмоносец, по обыкновению, передавал письма через окно.
В сенях стоял закапанный клеем большой верстак, за которым обычно столярничал Шуркин отец, стена была увешана столярным инструментом, на полу лежали пахучая щепа и завитые в колечки и трубочки стружки.
Степа заглянул в избу; в ней никого не было. Тогда он пошел в огород.
Здесь было полно людей. То ли ради воскресного дня, то ли по случаю приезда Матвея к Рукавишниковым собрались родственники, соседи и немало односельчан.
Они расположились под старой раскидистой яблоней на траве. Кто сидел, поджав под себя ноги, кто полулежал, опершись на локоть, кто стоял на коленях — казалось, что люди собрались у костра для хорошей беседы.
Все с любопытством посматривали на Матвея Рукавишникова. Нет, он, пожалуй, ничуть не изменился. Тот же крутой лоб, густые белесые брови да шрам на виске — след давнишней мальчишеской драки. Только Матвей стал шире в плечах, завел усики, да светлые глаза смотрят внимательнее и строже.
— Так как же, Матвей? — заговорила Аграфена. — Надолго к нам-то? Или проездом?
— Теперь, думаю, надолго... — Матвей сощипнул с грядки стрелку зеленого лука, надкусил крепкими белыми зубами. — Хватит, побродил по белу свету.
— А не сжуют снова тебя, как вот этот лучок зеленый? — осторожно заметил Дорофей Селиверстов. — Зубастые-то у нас еще не перевелись.
— Не сжуют — подавятся, — усмехнулся Матвей. — Я теперь жесткий стал... горький.
Среди собравшихся прошел сдержанный смешок. Они вновь, и теперь уже с нескрываемым любопытством, смотрели на Матвея.
Кто из них не помнил Мотьку Рукавишникова? Мальчишкой он был первым озорником — ни одна драка без него не обходилась. Он водил ребят конец на конец, деревня на деревню, чистил чужие сады и огороды.
Но больше всего доставалось садам и посевам богатеев Шмелевых, Глуховых, Ереминых.
«Грабь награбленное», — вычитал Мотька в какой-то книжке, и с этим кличем он водил свою компанию на штурм чужих садов.
Не раз на Мотькину компанию составлялись суровые акты «о нанесении убытков культурным крестьянам» и дело передавалось в суд. Приходилось потом родителям за озорство детей выплачивать штрафы.
С тех пор так и повелось. Что бы ни случилось в Кольцовке— околела собака, завалился забор, пропал хомут, оборвали яблоки в саду, — за все был в ответе Мотька Рукавишников.
Егора, старшего брата Мотьки, замучили штрафами, вызовами в сельсовет, в милицию.
Потом Мотька уехал в город и поступил в педагогический техникум. Через четыре года он вернулся в родную деревню с дипломом учителя начальной школы. Жители Кольцовки отнеслись к нему с недоверием: что можно ждать от такого учителя! Ребятишки звали его Матвеем Петровичем, а для взрослых он по-прежнему оставался Мотькой.
Но Матвей Рукавишников стал другим.
С первых же дней приезда в родную деревню он затеял переписку с уездным начальством, потом не раз ездил в область и добился того, что старый помещичий дом, арендованный кулаком Шмелевым у сельсовета для своей торговой лавки, отдали под школу. По вечерам в школе собиралась молодежь, пела песни и ставила спектакли. Спектакли были не совсем обычные. На сцену выходили ряженые комсомольцы и школьники, а зрители, сидящие в зале, очень быстро узнавали своих земляков: здесь были и кулак Глухов со своими тремя батраками, и торговец Шмелев, спаивающий сельсоветчиков, и знахарка Спиридониха, за яйца и сало врачующая кольцовских крестьян от всех болезней.
Школьные спектакли завоевали широкую известность.
Вскоре Матвей организовал в Кольцовке пионерский отряд — в школе зазвучал голосистый горн, посыпалась дробь барабана. Часто пионеры выходили в поле и помогали многодетным вдовам-беднячкам убирать хлеб, копать картошку, возить из лесу топливо на зиму.
На уроках Матвей рассказывал ребятам, что старой крестьянской жизни приходит конец, что скоро мужики будут трудиться вместе. И потом, когда в Дубняках возникла первая сельскохозяйственная коммуна, Матвей вместе с комсомольцами ходил по избам и уговаривал мужиков не отставать от дубняковцев.
На стенах изб появились плакаты и лозунги, призывающие крестьян записаться в коммуну. Но охотников войти в коммуну было немного. Мужики недоверчиво посматривали на молодого учителя, все реже пускали его в избы и даже стали забирать из школы своих детей.
Председатель школьного родительского комитета Никита Еремин написал жалобу и, собрав подписи родителей, отвез ее в уездный отдел народного образования. Оттуда приехал школьный инспектор, и Матвею было предъявлено обвинение в том, что он отошел от школьной программы и учит детей не тому, чему нужно.
Все припомнилось учителю: и то, как он, засучив штаны, лазил с ребятами по болоту, и как играл с ними в лапту, бегал наперегонки, и как ставил оскорбительные для местных жителей пьесы, и как в осеннюю непогоду водил детей в поле.
Вспылив, Матвей обозвал инспектора кулацким прихвостнем и выгнал, из школы.
А через неделю молодого учителя отстранили от работы.
— Ну вот, Мотя, и выжили тебя! Не ко двору пришелся... — с горечью сказал ему Егор. — С нашими тузами лучше не связываться — с потрохами сгложут.
Матвей заявил, что он от своего не отступится и поедет разыскивать правду.
— Поезжай, поезжай! — напутствовал его брат. — Смотри только не заблудись.
Добиться возвращения в Кольцовку Матвею не удалось. Тогда он поступил на курсы повышения квалификации, а потом уехал учительствовать на Кубань — хотелось своими глазами увидеть, как начинается коллективизация.
И вот сейчас Матвей вновь вернулся в родную деревню и намеревался работать здесь учителем.
— Порасскажи, Матвей, о Кубани, — обратился к брату Егор. — Что там слышно?
— Что же вам рассказывать — сами, наверно, читали, — заговорил Матвей Петрович. — Поднялись станичники... Знаете, как в ледоход... Стоит лед, побурел, весь в трещинках, в полыньях, а все еще стоит, как будто зима в разгаре. А весна все же свое берет. Шевельнулась одна льдина, другая, затрещало все кругом, и пошло... Как уж зима ни пыжься, а ледоход не удержишь. Вот и у нас скоро так будет...
— Так уж и будет? — недоверчиво переспросила Аграфена. — Сам помнишь, как ты мужиков в коммуну звал записываться. А кто пошел? Так и теперь каждый в своем закутке сидит да за свою полоску держится.
— Будет, тетя Груня, ледоход, будет! — убежденно сказал Матвей Петрович. — В коммуну мужик не пошел, рано было, а в артель двинется, непременно двинется... Другие времена теперь. На помощь селу город идет, машины посылает, технику. Сколько уж тракторов «Красного путиловца» на полях работает! Одних рабочих двадцать пять тысяч в деревню едет. Будут помогать крестьянам колхозы строить...
Матвей Петрович оглянулся и, заметив, что у изгороди, кроме взрослых, собралось немало ребят, знаком пригласил их подойти поближе, словно хотел сказать: «Слушайте и вы! Вам это тоже знать надо», и принялся рассказывать дальше:
— Довелось мне попасть на Кубани на первый краевой съезд по коллективизации. Съехалось тысячи две делегатов. Выслушали доклад, начались прения. И каждому захотелось выступить, рассказать, как у них лед тронулся. Триста записок в президиум поступило. Прения на две недели можно растянуть. А тут кто-то и предложил: «Покажите нам тракторный завод». И всем это по душе пришлось. Подали специальный поезд. Приехали делегаты в Сталинград на тракторный завод. Завод огромный — за день не обойдешь. И уже совсем к пуску готов. Вошли мы в цех, а с конвейера пробный трактор сходит. Прогрохотал мимо нас, вышел за ворота и хоть сейчас в поле... Тут мы и представили, сколько же тракторов будет выпускать этот завод. И все это для колхозов. И такой на делегатов силой повеяло, слов не подберешь! И каждый, наверно, подумал: «Да, перед такой силой ничто не устоит».
И долго еще Матвей Петрович рассказывал о кубанских станицах, где люди начинают новую жизнь, о тракторных колоннах, что уже работают на колхозных полях.
— Артельная жизнь — дело нелегкое. Сама собой не явится, — продолжал он. — Кулачье, конечно, сопротивляться будет, мешать всячески. На Кубани они такую агитацию развели против колхозов — и слухами людей пугают, и огнем, и убийствами! Да еще хлебозаготовки саботируют. Государству хлеб нужен, надо рабочих кормить, Красную Армию, а кулаки придерживают зерно, скрывают хлебные излишки, прячут их, не продают государству: посадим, мол, Советскую власть на голодный паек... Кстати, как у вас с хлебозаготовками?
— Совсем несознательный народ, — пожаловался Горелов, сидевший позади собравшихся. — Ходишь по избам, толкуешь, а хлеба продают с гулькин нос...
— Ты на народ не греши! — перебила его Аграфена. — Кто с совестью, так прошлой осенью еще хлеб продали. Сама помню — красным обозом в город возили, с флагами. А вот наши крепенькие попридержали хлебушек, а потом втридорога на базарах им торговали или бедноте под отработку роздали. Ты ведь, председатель, лучше меня об этом знаешь! Так зачем же шоры на глаза навесил и уши паклей заткнул?
— Ты меня не учи, как хлебозаготовки проводить! — огрызнулся Горелов. — Я в сельсовете не первый день.
— То ли сидишь, то ли место просиживаешь!
— Ну, ну, схватились! — остановил их Егор Рукавишников. — Здесь вам не сходка. Дайте о колхозе-то поговорить. Кубань нам пример, конечно, но у нас и поближе народ зашевелился. В Пустоваловке, говорят, уже в артель сходятся, в Снегирях — тоже... А про Дубняки и говорить нечего. Там колхоз пятый год здравствует. Начали с коммуны, теперь на артель перешли.
Степа, сидя позади взрослых, боялся пропустить хоть одно слово. Рука его лежала на кармане гимнастерки. Значит, твердое это дело — колхозы. И совсем не на песке замешано, как говорит Илья Ефимович, если люди верят в них и всё смелее начинают жить по-новому. Значит, и отец его не напрасно погиб за коммуну...
Степа даже не заметил, как достал из кармана газетную заметку и протянул ее Матвею Петровичу:
— Это про Дубняки...
Матвей с удивлением покосился на мальчика:
— А-а, бороновальщик!
— Не узнаешь? — спросил Егор. — Это крестник мой, Степа. Погибшего Григория Ковшова сынок. Первый, так сказать, коммунар в нашем селе...
— Знакомы уже, — улыбнулся Матвей Петрович.
Степа подумал, что сейчас он со смехом расскажет, как убежала лошадь с бороной. Но тот только подмигнул мальчику и, взяв заметку, принялся читать ее вслух.
Заметка была короткая, и в ней шла речь о том, каких доходов добилась дубняковская артель «Заре навстречу» — за один только прошлый год колхозники приобрели сорок племенных коров и купили трактор.
— Слышите, товарищи! — оживился Матвей Петрович. — Есть и вам у кого поучиться. Надо экскурсию в Дубняки устроить. Лучшей агитации за артель не придумаешь! — Он обернулся к Степе, вернул ему заметку и внимательно заглянул мальчику в глаза. — Давай руку, молодой Ковшов. Я твоего отца хорошо знал. Добрую он память о себе оставил...
Степа доверчиво вложил свою руку в широкую ладонь Матвея Петровича.
ХОМУТОВЫ СТРОЯТСЯ...
Вслед за сенокосом подошла жатва. Рожь на полосах покрывалась золотисто-бронзовым загаром, усатые колосья, отяжелев от зерна, клонились к земле. Спелые хлеба слились в одно просторное, большое поле, и казалось, что нет в этом поле ни межей, ни отдельных полосок.
Но вот началась жатва, в поле запестрели платки, картузы, фуражки, соломенные шляпы, и вскоре обнаружилось, что все поле, как лоскутное одеяло, состоит из узких полосок, кургузых клиньев и делянок. Проступили глубокие межи, разделяющие одну полосу от другой, поросшие лебедой, чертополохом, овсюгом.
Рожь убирали кто как мог: одни жали серпами, другие, у кого хлеб уродился тщедушный и неказистый, скашивали косой.
Илья Ефимович, на зависть соседям, пустил на полосу жнейку, которую только что приобрел в городе. Жнейка, запряженная парой лошадей, взмахивала крыльями, как большая степная птица, и легко состригала глянцево-желтые стебли ржи.
Жатва у Ковшовых шла быстро. Но в семье никто не сидел без дела. Там, где не могла пройти жнейка, Илья Ефимович заставил своих домочадцев жать рожь вручную.
Надо было, нагнувшись к самой земле, захватить в левую руку как можно больше стеблей и срезать их зазубренным, изогнутым в дугу серпом, так похожим на клюв злой, хищной птицы.
И нет числа этим поклонам земле. Распрямиться можно только на короткий миг, когда связываешь сжатую рожь в тугой сноп.
Уже к концу первого дня жатвы у Степы мучительно заболела поясница. Мальчику казалось, что он мог бы вытерпеть еще два сенокоса, только бы не гнуть на полосе спину.
Кряхтел и чертыхался от такой работы и Филька.
— Эх вы, мужики! — посмеивалась над ними Таня. — Мыли бы полы почаще — было бы легче.
На третий день Филька прихватил серпом палец. Порез был неглубокий, но крови вытекло много, и перепуганный Илья Ефимович освободил сына от жнитва. Филька принялся таскать из родничка воду и угощать запаленных жнецов. Глаза его при этом плутовато поблескивали, и Степа почти был уверен, что Филька нарочно подставил под серп палец. Он даже сказал об этом Фильке.
— А кто тебе мешает? — фыркнул Филька, — Возьми да отхвати полруки! Что, брат, кишка тонка? Ну так и помалкивай в тряпочку, не рыпайся!
На четвертый день на соседнюю с Ковшовыми полосу вышли Хомутовы. Отец, мать и Афоня жали рожь серпами, а Никитка подносил воду; скручивая перевясла, подтаскивал снопы. Работали Хомутовы жадно, быстро, почти не разгибая спины, полдневали самую малость и к вечеру почти сжали всю полосу.
— Ну и работаете вы! — с восхищением сказал Степа Афоне. — Как жнейки, садите. Неужели у вас спины не болят?
— Ого! Еще как! — признался Афоня. — Жнитво — оно хуже каторги. Ты смотри, что мы с батькой придумали! — И он показал на колено, обмотанное тряпками. — Встанем на правое колено и двигаемся.
На другой день Степа попробовал работать по примеру Хомутовых, и ему стало немного легче. И все же он с большой радостью встретил день окончания жатвы — можно было распрямить спину.
Потом, когда снопы в поле подсохли, стали легкими и ломкими, началась молотьба.
Как-то раз Степа с Таней поехали на дрогах в поле за снопами.
Все полосы были заставлены шеренгами желто-бурых поставков — небольших округлых шалашиков, сложенных из снопов ржи и прикрытых сверху тоже снопом, превращенным в своеобразную шляпу. Одни шляпы сидели прямо, другие были сдвинуты набекрень или сбиты ветром на землю; издали казалось, что все поле заполнено подгулявшими и неизвестно куда бредущими людьми.
Отыскав полосу Ковшовых, Степа остановил лошадь около поставков. Обжигая руки о колючий жабрей, застрявший в снопах, он осторожно отделял из поставков сухие, теплые от солнца снопы и подавал их Тане.
Снопы потрескивали, брызгали зерном.
Сестренка стояла на дрогах и, приняв сноп в руки, бережно, как спеленатого ребенка, укладывала его на возу колосьями внутрь, колючим гузом наружу.
На соседнюю полосу на огромных скрипучих дрогах въехал Афоня Хомутов с братишкой Никиткой.
Приглядываясь к кольцовским мальчишкам, Степа обнаружил, что никто из них так много не работает в поле и дома, как Афоня.
Он поднимался чуть свет, раньше других ребят шел в табун за лошадью, быстро запрягал ее и выезжал вместе с отцом в поле или на луг.
На первый взгляд Афоня казался медлительным, вялым, нерасторопным, но любую работу он выполнял быстро и споро, стараясь опередить других. Если косил, то косой размахивал со всего плеча, прокос делал широкий, под стать здоровому мужику. Если грузил на дроги сено, то воз у него получался высокий, как дом, и лошадь еле тащила его по дороге.
От любой работы кольцовские ребята не прочь были убежать на речку, или на вырубку за ягодами, или просто поваляться где-нибудь на траве.
Не то было с Афоней. Работал ли он с отцом, с матерью или один, он все равно продолжал гнуть спину и трудился до тех пор, пока рубаха на спине не покрывалась солью и не вставала жестким коробом.
И даже в воскресные дни, когда ребятам обычно давалась передышка, Афоня был занят делами.
Сейчас, заметив Степу с Таней, Афоня помахал им рукой:
— Э-ей, Ковши! Давайте на спор, кто больше снопов увезет! — И, спрыгнув на землю, он сразу принялся за дело.
Степа оживился — почему бы не поспорить!
— С Хомутом не вяжись! — предупредила Таня. — Его никто не перегонит.
Но Степу уже заело.
Он торопливо кидал сестренке сноп за снопом, и она еле успевала укладывать их на возу. Порой снопы летели так, как и полагалось — колосьями вперед, но чаще всего, перевернувшись в воздухе, они падали в руки Тани колючим гузом. Колосья ударялись о край воза, и из них брызгало тяжелое зерно.
— Не срамись хоть перед Афоней! — взмолилась Таня. — Посмотри, как он работает.
Степа оглянулся.
Афоня осторожно отделял из поставка каждый сноп и подавал его на воз колосьями вперед. Потом, когда воз поднялся выше головы, Афоня достал маленькие двузубые вилы с длинным черенком. Как острогой, он пронзал снопы вилами, бережно проносил их по воздуху и плавно клал к ногам Никитки, так что ни одно зернышко не падало в жнивье.
Степа завистливо вздохнул: ничего не скажешь, ловко работает Афоня. И вилы-двузубцы он прихватил очень кстати.
Возы все росли и росли. Степе уже стало трудно подавать снопы наверх, и Таня сказала, что воз пора «гнетить». Делалось это так: поверх воза клали тяжелую гибкую слегу — гнет и при помощи веревки подтягивали его к снопам.
Потратив немало усилий, Степа с Таней наконец «загнетили» воз, выехали с полосы на дорогу, а Афоня все еще подавал братишке снопы.
— Да он что, зараз все снопы увезти хочет? — вслух подумал Степа и закричал Афоне: — Ладно, кончай, тебя не переспоришь!
— А он не для спора, — сказала Таня. — Такая уж у них порода, у Хомутовых: всегда чтобы полно да много было.
Степа еще с минуту задержался на дороге: интересно, как-то Афоня «загнетит» такой возище.
Стараясь поймать брошенный снизу сноп, Никитка слишком близко подошел к краю воза. Неожиданно снопы поползли вниз, Никитка плюхнулся и вместе со снопами съехал на щетинистое жнивье.
— Ах ты, малявка! Бестолочь! Зачем воз развалил? — свирепо заорал Афоня и, замахнувшись, ударил братишку черенком вил по затылку.
Взъерошенный, перепуганный Никитка отскочил в сторону И захныкал.
Степа бросился к Афоне и выхватил у него из рук вилы:
— Ты что малолетних бьешь?!
Афоня оторопело развел руками:
— Больно ты грозный! Отдай-ка вилы...
— Не отдам! Сам виноват... Зачем такой воз навьючил?
Чуя недоброе, к мальчишкам подбежала Таня и протиснулась между ними:
— Расчепитесь! Как вам не стыдно!
— Он же не больно... Он только замахивается, — подал голос Никитка. — Он у нас добрый, Афоня...
— «Добрый, добрый»! — забурчал Афоня. — А зачем на край стал? Лезь вот обратно.
Но Таня уже опередила Никитку. Она вскочила на оглоблю, потом на спину лошади и оттуда прыгнула на воз:
— Подавайте. Я сама уложу.
В четыре руки Афоня и Степа быстро покидали снопы Тане, потом «загнетили» воз и вывели его на дорогу. На каждом бугорке и повороте он угрожающе покачивался, телега поскрипывала, оси в колесах тяжело сопели.
— Ничего, дотянем! — успокоил Афоня. — У нас телега без износу.
Заморившийся за день Никитка еле волочил ноги и, поднимая с дороги столбы пыли, жадно поглядывал на воз.
— Экий ты мужик малосильный! — упрекнул его Афоня. — А ну, полезай на снопы!
— Дойду... Пегашке и так тяжело, — рассудительно отказался Никитка.
— Ладно, садись тогда на закорки, — сжалился Афоня и присел на корточки.
Никитка взгромоздился брату на спину, обхватил его руками за шею, и Афоня легко потащил его.
Степа с удивлением покосился на братьев.
— Вы что? — вполголоса спросил он. — Тоже, как батраки, робите.,. Ни вздоха, ни отдыха. С ног валитесь.
— Тю! — обиделся Афоня — «Батраки»! Скажешь тоже... Не-ет! Мы люди вольные, на себя стараемся. — Он вскинул повыше сползшего со спины Никитку и широко улыбнулся: — А что робим здорово, это правильно! Так мы всей семьей — отец и мать и мы с Никиткой. Про нас так и говорят: «Хомутовы с цепи сорвались... гору своротят». Батька — так тот день и ночь косой может махать или цепом бить.
И Афоня, ставший на редкость словоохотливым, принялся рассказывать. Раньше Хомутовы жили не ахти как — не было лошади, отцу приходилось кланяться соседям, подрабатывать у богатеев. Теперь стало много лучше. Отцу в районе дали ссуду, и они купили лошадь. Правда, Пегашка — маленькая, пузатая, мохноногая, но зато сильная и старательная. Вот как усердно она тянет воз со снопами, как ловко обходит каждую выбоину на дороге!
А самое главное то, что Хомутовы строятся. Старый дом вот-вот совсем завалится, стены вспучило, матица прогнулась, и под ней уже стоят три дубовые подпорки. Зато рядом вырос новый сруб из чистых сосновых бревен, с широкими окнами.
И теперь все, что Хомутовы ни делают, — всё ради нового дома. Надо побольше намолотить хлеба, запасти сена, побольше накопать картошки, чтобы на вырученные от продажи деньги купить доски, дранку, тес, гвозди, стекло, кирпич.
— Отец и говорит: «Голые будем ходить, а в новый дом въедем». Правда, он стал как помешанный. Ночью почти не спит, воскресных дней и праздников не признает, ворочает за двоих-троих да и нас заставляет работать так, что у всех кости трещат. Суров стал отец, несдержан, резок на руку — чуть зазеваешься, убежишь на речку или пойдешь с мальчишками поиграть в футбол, в лапту, так зараз получишь добрый подзатыльник или солдатского ремня во всю спину.
— Глядя на батьку, и ты по чему ни попадя младших лупишь? — спросил Степа.
Афоня смущенно покосился на Никитку, который уже дремал за его плечами.
— Да нет... Я тихонько, для острастки. — Он остановился, вздохнул и с надеждой произнес: — Скоро в новый дом въедем — тогда уж отдышимся...
— Давай понесу, — кивнул Степа на Никитку.
— Пожалуй... — Афоня бережно взвалил братишку Степе на спину и перевел дыхание. — А ты нашего дома еще не видел? Приходи — покажу.
Степа молча кивнул головой. Спокойный, неунывающий Афоня все больше и больше привлекал его к себе.
После этого случая Степа частенько заглядывал к Хомутовым, но Афоню никак не мог застать. То он теребил с отцом и матерью мох на болоте для конопатки нового дома, то возил бревна из лесу, то пас на лугу Пегашку.
Наконец Степе повезло — Афоня оказался дома. Он лежал в старой избе на широкой деревянной кровати и по-стариковски кряхтел и охал.
Около брата хлопотал Никитка, наваливая на него одеяла и шубы.
— Что с ним? Простудился? — вполголоса спросил Степа.
— Надорвался чуток, спину повредил, — объяснил Никитка.
Сегодня утром Афоня с отцом грузили в лесу бревна. Бревна перед этим только что ошкурили, и они были скользкие и верткие. Никитка сам видел, как отец с Афоней подняли тяжелый белый комель, чтоб положить его на грядку телеги. Неожиданно отец поскользнулся, упал, и его ноги могло придавить бревном. Всей своей неимоверной тяжестью комель повис на руках Афони. Он покачнулся, но отец крикнул ему: «Держись, паря!», и Афоня, судорожно обхватив комель, прижал его к груди, пока отец, вскочив на ноги, не принял всю тяжесть на себя.
Но в пояснице у Афони словно что оборвалось — он еле добрался домой и слег в постель.
— Ты отцу-то сказал об этом? — встревоженно спросил Степа.
— Зачем? — отмахнулся Афоня. — Только сердить его. Он вот как не любит, когда кто хворает! И сам про любую болезнь молчит.
— А вдруг ты позвоночник повредил, чудо-юдо? В больницу же надо...
— Ништо мне... Отлежусь — и все дела. Заживет до свадьбы. Да и Митяй обещался полечить.
И верно, вскоре пришел Митя Горелов.
Он сбросил с Афони все шубы и одеяла, заставил его лечь на живот и обнажить спину. Потом, достав из кармана бутылку, он налил себе на ладонь густой темной жидкости и принялся растирать Афоне поясницу. Афоня застонал, заскрипел зубами, засучил ногами, но Митя старался на совесть: тер поясницу своими жесткими ладонями и вдоль, и поперек, и вкруговую.
— Чем это ты врачуешь? — поинтересовался Степа.
— Муравьиный спирт, — объяснил Митя. — У бабки Спиридонихи выпросил. Здорово помогает! — И он принялся расхваливать чудодейственную силу спирта. Потом обратился к Афоне: — Хорошо бы тебя к живым муравьям отнести...
— Это зачем?
— А лег бы ты голой спиной в муравьиную кучу и полежал бы с полчасика. Сразу полегчает... Мой дедушка всегда так лечился.
— А на осиное гнездо лечь не прикажешь? Нет уж, сам так лечись! Мне и этого довольно, — отказался Афоня.
Наконец втирание было закончено, и ребята вновь закутали Афоню в одеяла.
Он полежал, успокоился и, кивнув через окно на белые стены сруба, попросил Никитку показать Степе их новый дом.
— Я уже видел, — сказал Степа. — Где там дом! Ни крыши, ни пола нет. Одни стены. Пока до нового дома доживешь, еще пять раз надорвешься.
— Ничего, выдюжим, — вздохнул Афоня. — К зиме обязательно переселимся. На окна наличники резные повесим. Палисадник перед домом поставим.
— Когда-то да что-то! А жили бы вы, скажем, в колхозе, собрались бы сейчас все артельщики: «Раз-два взяли, сама пойдет!» — вот вам и новый дом. Живи, Хомутовы, не надрывайся.
Степа принялся рассказывать о дубняковской артели, куда Матвей и Егор Рукавишниковы недавно ездили с группой крестьян, и о том, что скоро в Кольцовке «начнется ледоход» — мужики будут вступать в колхоз.
— Не-ет! Мой батька в колхоз не пойдет, — покачал головой Афоня. — Зачем нам? Он говорит, у кого голова на плечах да кто не лентяй, тому сейчас и без артели жить можно. Мы-то уж на ноги встанем как пить дать!
МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ
В полдень, проезжая с возом снопов мимо рукавишниковского овина, Степа услышал лязг железа. Сказав Тане, что он отлучится всего лишь на минутку и тотчас догонит ее, Степа заглянул в полутемный старый овин. Гумно было уже приготовлено к молотьбе — очищено от травы и мусора, притоптано и утрамбовано.
В углу овина, около молотилки, возились Егор Рукавишников, Матвей Петрович и Шурка. Они уже сняли с вала побитые шестеренки, барабан со ржавыми, погнутыми зубьями и сейчас рассматривали искривленный железный вал, соединяющий молотилку с конным приводом.
— Запустили вы машину, запустили! — попенял Матвей Петрович, осматривая поврежденные части молотилки и постукивая по ним молотком.
— Починить — руки не доходят... Да и умельца нет, — сконфуженно объяснил Егор. — Не кланяться же Еремину или Шмелеву...
И он кивнул в сторону ереминского овина, откуда доносилось завывание работающей молотилки.
— Кланяться, конечно, не надо, но такое добро бросать тоже не годится, — заметил Матвей Петрович. — Все же машина не чета цепу. Работает чисто, споро. Можно за одну неделю всей бедноте хлеб обмолотить. И не надо будет людям к Еремину да Шмелеву на поклон идти. Да к тому же и к артельной жизни народ попривыкнет.
— Так-то оно так, — согласился Егор. — Да вот как к машине подступиться теперь?
— Надо барабан в кузницу отвезти, попробовать новые зубья поставить, — посоветовал Матвей Петрович и спросил, согласится ли кузнец помочь ремонтировать молотилку.
— Он-то с охотой. Только ему все показать да растолковать нужно...
— Это уж как-нибудь сообразим, — успокоил Матвей Петрович и послал Шурку за подводой.
Шурка позвал с собой Степу. По дороге Степа спросил приятеля, откуда у них собственная молотилка.
— Это не наша, общая.
И Шурка рассказал. Несколько лет назад группа маломощных кольцовских крестьян приобрела эту молотилку в рассрочку через машинное товарищество. Молотилка проработала одно лето, потом полетели зубья на барабане, разладился привод, и мужики, махнув на машину рукой, вновь перешли на молотьбу цепом.
Дядя Матвей, узнав про машину, вызвался ее отремонтировать.
— А он кто — слесарь-ремонтник, механик? — спросил Степа.
— Да как тебе сказать... — лукаво прищурился Шурка. — Он на Кубани в таком колхозе работал, где всякие машины были. Вот дядя Матвей и подучился. Он даже трактор умеет водить.
— Трактор?
— Ага! В чемодане-то у него все больше книжки по тракторному делу да инструмент. Сам видел!
Степа задумался. В эти годы кругом много говорили о тракторах. О них писали в газетах, в книгах, вспоминали на собраниях, рисовали тракторы на плакатах, но Степа еще ни разу толком не видел этой машины, которая и пашет землю, и боронит ее, и может заменить сеяльщика. Тем более было интересно поближе познакомиться с человеком, который уже умеет управлять трактором.
Шурка со Степой пригнали к овину подводу, погрузили части молотилки и вместе с Матвеем Петровичем отправились в кузницу.
Через неделю машину удалось отремонтировать.
За эти дни Матвей Петрович тесно сблизился с кольцовскими мальчишками. Он несколько раз ходил с ними на рыбалку, потом по грибы и показал такие дивные и заповедные места, о каких мальчишки и не подозревали.
Однажды Матвей Петрович заявился к мальчишкам в ночное. Вынырнул незаметно из темноты, оглядел потухающий маленький костерок, дремлющих ребят и вдруг гулко гукнул филином. Все всполошились.
— Скучный вы народ!. — засмеялся учитель. — Разве ж это ночное? Ни костра настоящего, ни картошки... А ну, поднимайся!
Мальчишки оживились, притащили из леса сухого валежника, и вскоре у них запылал жаркий костер. Появилась картошка — Матвей Петрович искусно испек ее в горячей золе.
Потом завязалась беседа.
В другой раз Матвей Петрович вызвался играть с мальчишками в лапту. Он разулся, скинул рубаху, с хеканьем бил лаптой по резиновому мячу, как оглашенный бегал с ребятами по зеленой лужайке за околицей.
— А он все тот же, Мотька Рукавишников, — осуждающе покачивая головами, говорили мужики. — Кружил, кружил по белу свету, а в голове опять сквозняк да ветер.
Недели через две Матвей Петрович неожиданно исчез из Кольцовки, и ребята искренне заскучали по нем.
Степе казалось, что лучшего учителя им теперь не найти. С Матвеем Петровичем можно было поговорить обо всем на свете, вспомнить об отце, поделиться своими сокровенными думами.
И Степа очень хотел, чтобы Матвей Петрович поскорее вернулся к ним в Кольцовку.
Однажды при ребятах он сказал об этом вслух.
— Разевай карман шире! — засмеялся Филька. — Разве учителя такие бывают?
И он принялся расхваливать Федора Ивановича Савина. Вот это учитель! Пройдет по селу — все мужики ломают шапки, бабы кланяются, на уроках у него мертвая тишина, мальчишки на улице стараются не попадаться ему на глаза. А Рукавишников — это же смех один: играет с ребятами в лапту, поет песни, а во время жнитва он даже ругался с мужиками в поле и чуть ли не полез в драку.
— Не было никакой драки! — заспорил Степа. — Он за тетю Груню заступился...
— Все равно он Мотька Шалопутный, — твердил Филька.
— Ты говори, да не заговаривайся! У человека полное имя есть. И постарше он тебя.
— Ах, ах, извиняйте! Больше не буду! — осклабился Филька и, помедлив, добавил: — А только к нам в школу его не допустят как пить дать.
— А вот будет он учителем! Будет! — взорвался Степа. — И ты не каркай...
— Поспорим? — предложил Филька.
— На что угодно, хоть голову мне потом снимай! Филька заявил, что голова колониста ему ни к чему, ее не продашь, не заложишь, а вот на покрышку футбольного мяча он готов поспорить.
Степа согласился.
В качестве свидетелей были приглашены несколько ребят, Степа с Филькой ударили по рукам и разошлись.
А Матвей Петрович все еще не приезжал.
Степа почти каждый день забегал к Рукавишниковым и спрашивал Шурку, что стало с его дядей и куда тот запропастился.
— В район уехал... насчет работы.
— А почему так долго не возвращается?
Шурка пожимал плечами — откуда ему знать о таких делах? Может, дядю совсем не пустят работать в Кольцовку. Насолил он многим, а приедет — еще больше насолит.
Прошла еще неделя.
Однажды утром к Ковшовым забежала Нюшка Ветлугина и, вызвав Степу и Таню на улицу, сообщила, что Матвей Петрович вернулся из города. Что у него и как, Нюшка пока ничего не знает, но она видела, как Матвей Петрович сошел с попутной подводы с большим тюком книг и направился домой. А сейчас они вместе с Шуркой пошли в школу.
— Учитель веселый такой... И Шурке все чего-то рассказывает, — добавила Нюшка и, высунув кончик языка, обратилась к Фильке, который стоял на крыльце и прислушивался к разговору: — Проспорил покрышку-то, давай ее сюда!
— Это еще по воде вилами писано! — Филька насмешливо оглядел Нюшку и Таню. — А вам-то какая печаль насчет учителя? В школу вам не ходить, с учителями не знаться.
— Подумаешь, грамотей на всю деревню! — с обидой буркнула Нюшка.
Таня вспыхнула и молча опустила голову.
Степа перехватил грустный взгляд сестренки — ему тоже стало не по себе. Вот он старший, а до сих пор не подумал, почему Таня перестала учиться. Да и Нюшка тоже...
— Они, наверно, и читать-то разучились, — продолжал Филька. — Где там «а», где «б» — начинай мочало сначала...
— Хватит об этом! — недовольно перебил его Степа и, сказав Нюшке и Тане, что он сейчас все выяснит, побежал к ШКМ.
У школы он застал Шурку, Митю и Афоню Хомутова. Мальчишки сидели в садике на скамейке и поглядывали на закрытые окна директорского кабинета.
— Интересно, зачем Матвей Петрович к директору пошел? — спросил Степа.
— Да уж, конечно, не чаи распивать, — лукаво подморгнул Шурка. — Соображать надо...
— Значит, у него направление? Учить нас будет? — обрадовался Степа.
— Сиди, сиди... скоро узнаешь!
И все же Шурка не утерпел и рассказал, что ему было известно. Дядя Матвей приехал не один, а с уполномоченным по хлебозаготовкам. Уполномоченный — рабочий из города, слесарь, коммунист. Он поселился пока в доме у Рукавишниковых, и Шурка слышал, о чем он разговаривал с отцом и дядей. В Кольцовке и соседних деревнях очень плохо обстоит дело с заготовкой хлеба. Кулаки и зажиточные крестьяне не хотят продавать кооперации излишки зерна, придерживают его, чтобы потом сбыть хлеб по спекулятивным ценам на базаре.
— Дядя Матвей тоже по хлебозаготовкам будет работать. Ему такое задание по партийной линии дано. А уполномоченный говорит, что весь народ поднять надо, чтобы люди сами за кулаками следили, не давали хитрить им, изворачиваться, лишний хлеб скрывать. А кое-кого из крепеньких, наверно, твердым заданием обложат, как вот Еремина в прошлом году: сдай столько-то пудов, и весь разговор.
— Так им и надо! — подала голос Нюшка. — А то издеваются они, спасу нет. Позавчера на сходке агитатор из города два битых часа мужиков уговаривал хлеб сдавать, а толстомордый Шмелев потом поднялся и говорит: «Спой петухом, парень, — дам два пуда хлеба».
Из школы вышел Матвей Петрович. Ребята поднялись ему навстречу.
— Матвей Петрович, будете нас учить? — спросил Степа.
Учитель окинул ребят взглядом — так вот они, его будущие ученики! Как-то он с ними поладит, сойдется? Увлечет ли их, поведет ли за собой или оставит их ко всему равнодушными и безучастными?
— С вами, ребята, с вами! — помолчав, сказал учитель. — Зачислен в штат школы. Буду преподавать обществоведение...
— А Филька-то, выходит, проспорил! — шепнул Степе Митя Горелов. — Ты обязательно у него покрышку забери. Имеешь полное право!
— Какую покрышку? Кто проспорил? — насторожившись, спросил учитель.
Митя растерянно посмотрел на ребят, но они сделали вид, будто не слышали его шепота.
— Та-ак! — усмехнулся Матвей Петрович. — С первого же дня и секреты.
— Какие там секреты! — Шурка, запинаясь, объяснил учителю про спор Степы и Фильки.
— Значит, на футбольный мяч спорили? Не очень-то дорогой заклад за учителя.
— Степа голову закладывал, а Филька не захотел, — пояснил Митя. — Футбол ему дороже.
— Ну, если голову, тогда можно еще помириться, — засмеялся Матвей Петрович.
Ребята перестали хмуриться. Митя, расхрабрившись, спросил учителя, будет ли он теперь играть с ними в лапту и ходить на рыбалку.
— Посмотрим, как дела в школе пойдут, — сказал Матвей Петрович. — Можно и в лапту сыграть. Да и рыбалка вещь неплохая...
Он усадил ребят рядом с собой на скамейку.
— А теперь шутки в сторону. Поговорим о другом. Напомните-ка мне, кто из кольцовских ребят не ходит в школу. Я вот знаю: Таня Ковшова не кончила шестого класса и сидит дома, Нюра Ветлугина не учится...
— Тимка Карпухин второе лето с дедом скотину пасет, — сказал Шурка.
— Фенька Заглядова дитё у Ереминых нянчит, — добавил Митя. — А Мишку Суслонова мать к сапожнику отдала.
— А еще кто? Еще? — выспрашивал Матвей Петрович, торопливо записывая в записную книжку названные фамилии.
Набралось человек двенадцать.
— А зачем это вам, Матвей Петрович? — спросил Митя, кося глазом на записную книжку.
— А как вы думаете? Что бы вам больше по душе пришлось: в пастухах ходить или в школе учиться?
— А если не каждый может учиться? — заметил Степа.
— Не может или не хочет?
— Всякое бывает... Вон Нюшке Ветлугиной перво-наперво стипендия нужна.
— Вот нам и надо сделать так, чтобы все могли ходить в школу, — объяснил Матвей Петрович. — И я рассчитываю на вашу помощь. Поговорите с теми, кто не учится, выясните, что с ними. А насчет стипендий я буду беседовать с директором.
В УЧЕНЬЕ
Расставшись с учителем, Степа твердо решил сегодня же поговорить с Таней.
Дома Степа застал сестру вместе с Нюшкой. Они сидели у кровати заболевшей бабушки.
— Ну как, выиграл? — вполголоса спросила Нюшка, встретившись со Степой глазами.
— Наша взяла! Плакал теперь его футбол, — ответил Степа.
— Чего вы там шушукаетесь? — прислушавшись, сказала бабушка и слабым голосом попросила внука посидеть с ней и рассказать, что делается на белом свете.
Присев у кровати, Степа сообщил, что Матвей Петрович вернулся из города и будет у них учителем.
— Мотя приехал, Рукавишников? — обрадовалась Евдокия Захаровна. — Это хорошо! Справедливый человек, в обиду ребят не даст...
— Не даст, — уверенно согласился Степа. — Он уже списки ребят составляет и говорит, что все должны ходить в школу... Да, бабушка, Тане тоже надо учиться. Зачем ей от других отставать? И Нюшке надо...
Девочки переглянулись.
— Так-то оно так... — Бабушка вздохнула- и покосилась на внучку. — Мы уж с ней говорили об этом. И не один раз...
— Ну и что? — насторожился Степа.
Наступило молчание. Бабушка лежала, полузакрыв глаза. Таня растерянно теребила рукав кофточки.
Степа кинул на сестренку подозрительный взгляд и строго спросил:
— Может, ты учиться не хочешь?
Таня вскинула на Степу недоумевающие глаза.
— Что же ты молчишь?
Таня опустила голову и отвернулась. Плечи ее задрожали. Вдруг она вскочила, распахнула дверь, выбежала в сени и принесла оттуда матерчатую сумку.
— Вот... смотри, — глотая слезы, забормотала она и принялась вытаскивать из сумки учебники и тетради. — Учусь я, все время учусь! И книжки читаю, и задачки делаю. А ты говоришь...
— Уж чего-чего, а лентяйкой внучку не назовешь, — поддержала бабушка. — Они с Нюшкой до ученья вот какие охотницы...
Из сумки выпал старенький, щербатый пенал, открылась крышка, и по полу покатились карандаши, ручки, рассыпались перья.
Степа бросился собирать.
— Ну, будет тебе, будет, — сконфуженно бормотал он. — Я же не знал... сгоряча бухнул.
Сложив в пенал карандаши, ручки и перья, Степа подошел к сестренке, взял ее за руку и подвел к столу:
— Тогда знаешь что... Раз такое дело, садись и пиши.
— Чего писать? — не поняла Таня.
— Заявление в школу. В шестой класс... И ты, Нюшка, пиши.
Таня покачала головой:
— Не-ет... Дядя меня все равно не пустит.
— Как это — не пустит? — удивился Степа. — Я учусь, Филька учится. А ты что же, хуже других?
— Толковала я с Ильей, — сказала бабушка. — А он знай свое твердит: и так полным-полно грамотеев в доме.
Степа нахмурился.
— И мне в школу не ходить, — с грустью сказала Нюшка. — Ни обувки на зиму нет, ни одёжки...
— А тебе стипендия будет! Вот увидишь! Всем беднякам и батракам полагается. По закону, — принялся уверять Степа, подталкивая девочек к столу. — Садитесь и пишите! Кому говорю? А с дядей я сам потолкую.
— Потолкуй, внучек, потолкуй, — вздохнула бабушка. — Не давай сестрицу в обиду.
Таня посмотрела на Степу. Он стоял решительный, строгий и показался ей большим и сильным.
Девочка вырвала из тетради два чистых листа бумаги — себе и Нюшке — и села писать заявление.
К вечеру из города вернулся Илья Ефимович.
Он был оживлен и весел. На базаре хорошо торговалось, и, кроме того, удалось завести знакомство в сапожной мастерской — там согласились взять Степу в ученики.
Илья Ефимович раздал всем домашним подарки: дочерям платки и полушалки, жене — отрез на платье, Тане — туфли с галошами, Фильке и Степе — новенькие ранцы, обтянутые золотистой в черных разводьях тюленьей шкурой.
Ворон, правда, считал, что племяннику ранец теперь ни к чему, но на базаре продавали их по дешевке, и он решил, что не разорится, если купит два ранца.
Филька деловито обшарил оба ранца, потянул желтые хрустящие ремни, проверил, хорошо ли действуют блестящие замочки, и благодушно предложил Степе поделить ранцы по-братски — кинуть жребий.
— Выбирай без жребия. Мне все едино, — отмахнулся Степа и покосился на Таню.
Сестренка не сводила с подарков глаз.
Филька еще раз потрогал ремни, выбрал тот, что был посветлее, и принялся набивать его тетрадями.
Помедлив с минуту, Степа взял второй ранец и вдруг сунул его в руки сестренке:
— Бери. Это тебе!
— Ей-то для какой надобности? — удивился Илья Ефимович. — К коровам да к свиньям бегать?
Он только что умылся и сейчас, стоя перед зеркалом, расчесывал на косой пробор смоченные водой волосы.
Степа оглянулся по сторонам, встретился взглядом с бабушкой и, одернув гимнастерку, подался к Илье Ефимовичу.
— Дядя... — сдавленным голосом произнес он. — Нам поговорить надо...
— Ну, ну, попробуй! — усмехнулся Илья Ефимович.
— Таня тоже будет учиться. Она уже заявление в школу написала...
— Что? — обернулся Илья Ефимович. — Кто это надоумил ее?
— Да вот уж надоумили, — уклончиво ответил Степа. — Матвей Петрович всех ребят переписал, какие не учатся.
— А-а! — догадался Илья Ефимович. — Рукавишников приехал. Теперь пойдет булга да заваруха...
— Ты же опекун, Илюша, — подала голос бабушка. — Расти детей как положено — и корми и учи.
— Так разве я обижаю девчонку? — развел руками Илья Ефимович. — Обута, одета. И к делу ее приучаю. Вот и подарок не забыл! — Он кивнул на туфли с галошами.
Потом дядя присел к столу и, усадив рядом с собой Степу, примиряюще заговорил:
— Пойми, голова садова! Филька учится, ты в школу собираешься. Хотя, к слову сказать, не худо бы кому-нибудь из вас в мастеровые пойти. Теперь вот Таньку в ученье потянуло — наберется полон дом умников да грамотеев. Куда мне вас — сушить, вялить да на кол пялить? А кто по хозяйству соображать будет? Да Танька и сама к ученью не очень рвется. Девочка все же... Подрастет — замуж выдадим. Так, что ли, Татьяна?
Девочка осторожно поставила на лавку школьный ранец и, опустив голову, принялась разглядывать свою ладонь.
— Видали? — продолжал дядя. — Она и слова сказать не может. Куда уж ей в ученье...
Степа с досадой посмотрел на сестру: и что за тихоня! Всего боится, робеет, слова в свою защиту не скажет.
— Затюкали вы ее, запугали, вот она и дрожит, — вырвалось у Степы. — Кто она вам? В батрачки, что ли, нанялась? И не имеете права в школу не пускать!
— Вот ты как заговорил! — поднялся с лавки Илья Ефимович. — Дядя кровь из вас сосет, жилы тянет... Нечего сказать, получил благодарность за хлеб-соль да ласку!
— Не надо, Степа... — умоляюще шепнула Таня.
Илья Ефимович возбужденно заходил по избе, отшвырнул сунувшегося под ноги ленивого кота и чуть не опрокинул с лавки ведро с водой. Потом распахнул дверь в сени и столкнулся с Матвеем Петровичем.
— А я к вам, Илья Ефимович, — здороваясь, заговорил учитель.
Дядя не очень охотно вернулся обратно к столу.
— Присаживайтесь. С приездом вас...
Обменявшись еще несколькими незначительными фразами с Ковшовым, учитель объяснил, что пришел поговорить по поводу Тани.
— Был уж разговор об этом в нашей семье, — сдержанно ответил Илья Ефимович. — Ну что ж... пусть учится, не препятствуем. Уже и заявление написано... Татьяна, передай-ка его Матвею Петровичу.
Недоумевая, девочка достала из кармана сложенное вчетверо заявление и протянула учителю.
Матвей Петрович прочитал, исправил две ошибки и вернул заявление Тане обратно.
— Очень хорошо, — сказал он. — Перепиши заново, без ошибок, и завтра отнеси в школу.
— Она принесет, — подтвердил Илья Ефимович, провожая учителя за дверь. — Раз способности есть, мы девчонке дорогу к школе застить не будем. Пусть учится...
Степа с удивлением смотрел в широкую дядину спину.
На другой день Таня и Нюшка понесли в школу свои заявления. Степа вызвался было пойти с ними вместе — ему все казалось, что девочки передумают или не сумеют как надо поговорить с директором. Но Нюшка сказала, что они не маленькие и все сделают в лучшем виде.
Из школы девчонки вернулись довольно быстро. Вид у них был подавленный.
Оказалось, что директор школы без особых расспросов зачислил девочек в шестой класс, но в стипендии Нюшке Ветлугиной отказал.
— Вот и походила в школу! — усмехнулась Нюшка. — Куда уж нам, босоногим...
— Погоди, погоди! — опешил Степа. — А справку из сельсовета ты захватила, что мать у тебя беднячка, вдова многодетная?
— Да директор и так знает, какие у нас достатки. Степа принялся уверять, что, наверное, они не сумели как следует поговорить с Савиным.
— А сам как поговорил? — напомнила Нюшка. — Тоже без стипендии остался.
— Мое дело десятое. Я все же у дяди живу, — буркнул Степа. — Да ты стой, не уходи... Давай подумаем...
— А чего думать? Что мы сделаем? — сердито фыркнула Нюшка. — Может, Филечка от стипендии откажется в мою пользу? Разевай рот шире валенка! Ладно! Я свое отучилась. Завтра лен пойду теребить.
И, с деланной беззаботностью тряхнув волосами, она направилась к дому.
Степа растерянно посмотрел ей вслед.
— А знаешь что? — вздохнув, сказала молчавшая до сих пор Таня. — Я тоже без Нюшки в школу не пойду. Вместе ведь собирались...
— Еще чего! — рассердился Степа. — Только посмей...
Он с маху ударил палкой по репейнику и сбил его колючую шапку. Вот ведь как все нехорошо получилось! Раздразнил Нюшку ученьем, заставил ее написать заявление, и вдруг такой поворот! Как он теперь будет смотреть Нюшке в глаза?
— Таня, — обратился Степа к сестре, — а где Нюшка лен теребит?
— Да у нас, вместе с матерью. Ворон их каждый год нанимает. А что тебе?
— Да так, — неопределенно ответил Степа.
В сумерки Степа зашел к Рукавишниковым и рассказал Матвею Петровичу про Нюшку.
— Знаю, Степа, знаю... — задумчиво ответил учитель и, в свою очередь, сообщил, что из десяти ребят, которые пожелали вернуться в школу, кроме Нюры Ветлугиной, остро нуждаются еще трое. Но стипендий действительно больше нет.
Матвей Петрович умолчал только об одном. Вчера он заходил к директору школы и вел с ним разговор о том, как быть с новыми учениками, особенно с детьми бедняков.
Савин только пожимал плечами — что он может поделать? Все стипендии давно распределены, а новых ждать не приходится. Он уже писал насчет увеличения стипендий в район, но оттуда ответили категорическим отказом.
— А все же нельзя лишать материальной помощи детей бедноты, — заметил Матвей Петрович. — Получается, что мы закрываем перед ними двери школы. Возвращайтесь, мол, ребята, обратно в батраки, в пастухи, в няньки, ученье не для вас.
— Понимаю, Матвей Петрович, все понимаю, — сокрушенно качал головой директор. — Положение очень печальное, но мы не в силах что-либо изменить...
Матвей Петрович, стоя спиной к окну, искоса наблюдал за директором. Что он за человек? В районе о Савине отзывались как об опытном педагоге и умелом администраторе, в деревне его считали строгим и взыскательным учителем, который умеет навести в школе порядок и прибрать ребятишек к рукам. Но жил он замкнуто, ни с кем из крестьян особенно не сходился, проводил все дни в школе или у себя дома.
— А мне кажется, что изменить кое-что можно, — осторожно заговорил Матвей Петрович. — Вот хотя бы для начала проверить списки распределения стипендий.
— Что вы, собственно, имеете в виду? — переспросил Савин.
Матвей Петрович объяснил. Сегодня он смотрел списки и, к своему удивлению, обнаружил, что наряду с детьми из бедняцких хозяйств стипендией пользуются Филя Ковшов, Петя Зеленцов и еще несколько сыновей обеспеченных родителей.
Федор Иванович продолжал неторопливо разбирать папки с бумагами. Наконец он согласился, что пересмотреть списки, конечно, можно, хотя он не видит в этом большого смысла. Списки утверждены в роно, и вряд ли там согласятся что-либо изменить.
Разговор с Савиным ни к чему не привел, и учитель ушел от директора с чувством неудовлетворенности...
— Матвей Петрович, — вновь заговорил Степа, — а если бы Филькину стипендию да Нюшке? По справедливости было бы?
Учитель отвел глаза в сторону.
— Все не так просто, Степа. Надо обдумать...
Расставшись с учителем, Степа вышел на улицу и столкнулся в переулке с Шуркой и Митей. Мальчишки упражнялись на турнике.
— Покрутись, покажи номерок, — попросил Митя.
Степа отмахнулся и, помявшись, рассказал про Нюшку.
— Как бы ее выручить?
— Как же выручишь? — с недоумением спросил Митя. — Стипендию мы ей все равно не достанем.
Степа пожал плечами — о стипендии он уже не говорит. Хотя бы помочь Нюшке как следует обуться и одеться. Не побежит же она в школу босая и без пальто.
Вот если бы Нюшка жила в колонии, ребята, конечно бы, выручили ее. Только подай клич. Когда однажды у Степы во время купания пропали костюм и башмаки, то колонисты-комсомольцы, собравшись вместе, три дня пололи в пригородном хозяйстве овощи, заработали деньги и купили ему новую обувь и одежду.
Но здесь, в деревне, все не так, как в колонии. Есть вроде и комсомольцы и пионеры, но летом никто ничего не делает, голоса их не слышно.
Секретарь ячейки Ваня Селиверстов с самой весны нанялся в пастухи в соседнее село, и Степа до сих пор не может встать на комсомольский учет.
Нет, кольцовских ребят не раскачаешь! Каждый занят домашними делами, думает только о своем...
— Чего ты наших ребят оговариваешь! — обиделся Шурка. — Не все у нас такие.
— Да-да, — поддержал его Митя. — Ты нас не задирай. Вот говори, что делать, — сразу поднимемся.
Усмехнувшись, Степа пристально посмотрел на приятелей:
— Я скажу... Только, чур, назад не пятиться.
И, обхватив ребят за плечи, он объяснил. Нюшка с матерью нанялись у Ворона теребить лен. Если ребята соберут большую артель и приведут ее на полосу, то сколько можно будет за один день убрать льна? Вот и помощь Ветлугиным...
— Ох, и башка у тебя! — обрадовался Митя. — Так давай командуй, когда ребят собирать. Завтра, что ли?
— Не горячись! — остановил его Шурка и высказал свои сомнения.
Если родители узнают, что ребята помогают Ветлугиным, то они могут и не пустить их в поле. Надо делать все тайно, без огласки и для начала выйти теребить лён через два дня, в воскресенье. Ребята скажут дома, что отправляются в Субботинскую рощу за грибами, и будут помогать Ветлугиным хоть целый день.
— А у тебя тоже башка! — похвалил Митя. — Если грибы да тайна, мы такую артель соберем — разлюли-малина!
Степа охотно согласился с приятелями, что теребить леи лучше всего в воскресенье. Они договорились, что в артель позовут только самых надежных кольцовских ребят, и направились в обход по избам.
«АРТЕЛЬЩИКИ»
Воскресное утро выдалось туманное, пасмурное.
Степа и Таня проснулись чуть свет, когда Филька еще спал. Они взяли два кузовка, краюху хлеба, соль, огурцы и сказали дяде и тетке, что идут в Субботинскую рощу за грибами.
— Зачем же в такую даль! — заметил Илья Ефимович. — Сходили бы в Замызганки — и грибов полно и близко.
— А мы груздей хотим набрать, — отведя глаза в сторону, объяснил Степа.
— Ну, если за груздями — тогда топайте. Груздь, он не везде родится, — согласился Илья Ефимович.
Степа и Таня поспешно вышли на улицу и задами пробрались за околицу к старой раскидистой иве. Ребят никого еще не было.
— Эх, подведут друзья-приятели! — вздохнул Степа.
— Да нет, — не очень уверенно сказала Таня. — Раз обещали — должны быть...
Ждали минут двадцать. Наконец из тумана вынырнули Митя Горелов и Афоня с огромной плетеной корзиной.
Митя признался, что он проспал, и пожаловался на Афоню:
— Видали, какую корзинищу прихватил! Воз грибов войдет.
Афоня пожал плечами — он тут ни при чем. Во всем виноват отец: узнал, что сын идет за грибами, и навязал ему самую большую корзину, какая была в доме, да при этом еще наказал: «Без полной и домой не заявляйся!»
— Тогда и шастай сразу за грибами! — с досадой сказал Митя. — Забыл, зачем мы собрались?
— Ладно, не цапайтесь, — остановил их Степа.
Вскоре во главе с Шуркой подошли еще несколько мальчишек и девчонок.
— Трудовой артели привет! — Шурка помахал всем рукой и обратился к Степе: — А ты это здорово придумал — ребят собрать!
Степа повел «трудовую артель» в поле. Ребята прошли мимо опустевших полос с колючим ржаным жнивьем, пересекли широкую луговину, где на молодой, сочной отаве паслись коровы и телята, и, миновав редкий осинник и заросли лозняка, увидели льняную делянку Ковшовых.
Лен был посеян на залежной земле и вырос на славу. Густой, ребятам почти по пояс, он стоял ровной, плотной стеной, выкинув вверх свои круглые, словно точеные, слегка побуревшие коробочки.
На дальнем конце делянки уже работали Нюшка с матерью. Ребята подошли ближе.
— А-а, грибники! — разогнув спину, улыбнулась Аграфена. — Да на такую ораву и грибов в лесу не хватит.
— А мы не по грибы, — деловито сказал Степа. — Мы к вам на подмогу... — И он объяснил, что придумали ребята.
Нюшка бросила быстрый взгляд на Степу и без слов поняла, кто придумал эту «артель». Она покраснела и, нагнувшись, принялась торопливо теребить лен.
— Ну и ну! — заговорила Аграфена. — Вот вы какие! А я думала, только озоровать и повесничать горазды. — Но она тут же спохватилась: — А Илья Ефимыч вас на полосе увидит? В шею же турнет!
— А мы ему не покажемся, — объяснил Степа. — Заляжем в кустах — и нет нас. Будто вы с Нюшкой вдвоем на полосе работаете.
— А с грибами как быть?
— Наберем попозже, — сказал Митя.
— А лен теребить вы умеете? — допытывалась Аграфена.
— Это пара пустяков, — заверил Шурка.
Аграфена только развела руками:
— Ну что ж, попробуйте, коли охота!
— Становись! — скомандовал Степа.
Ребята положили на землю кузовки и корзины, сняли пиджаки и куртки и, развернувшись цепью, принялись теребить лен.
Вначале работа показалась совсем несложной — надо было набрать в руку побольше мягких зеленых стеблей льна и выдернуть их из земли. Потом выдернуть второй пучочек, третий, четвертый, сложить их вместе и связать прядкой льна в небольшой снопик.
Аграфена внимательно следила за помощниками. Старались они на совесть, но от спешки то и дело пропускали стебли льна и заминали их ногами.
— Э-э, нет, теребильщики! Так дело не пойдет, — сказала Аграфена. — Меня Илья Ефимыч за такую работу не похвалит. Смотрите-ка сюда... — И она показала, как надо теребить лен: плавно, без рывков, небольшими пучками, низко наклоняясь к земле.
Особенно не ладилась работа у Степы. Чтобы не отстать от других, он захватывал руками как можно больше стеблей льна и рывком выдергивал их из земли. Снопики у Степы получались неровные, лохматые.
К нему подошла Нюшка.
— Ты раньше-то лен теребил? — вполголоса спросила она.
— Нет, не приходилось.
— Оно и видно... Ты не спеши, полегче дергай. И обеими руками за лен берись, да пониже... — Нюшка вдруг разогнула спину и вгляделась в сторону перелесков. — Мама, гляди: Ворон кружит.
В перелесках действительно мелькнула какая-то фигура.
— А ну, артельщики, прячься кто куда! — распорядилась Аграфена. — А то с Ковшовым разговоров не оберешься.
Ребята подхватили свои пиджаки и кузовки и, пригнувшись, побежали к кустам.
Тревога оказалась напрасной: через перелесок прошел Прохор Уклейкин. Он так был поглощен поисками грибов, что даже не заглянул на льняную делянку.
Аграфена позвала ребят обратно.
Небо прояснилось, выглянуло солнце и начало припекать затылки и спины. Руки у ребят горели, плечи и поясницу заломило. Хотелось распрямиться, полежать на межнике, сбегать к речке.
Но нет, нельзя: Нюшка с матерью об отдыхе пока не думают, на солнышко не смотрят, да и ребята сюда пришли не затем, чтобы нежиться на траве. Работать так уж работать!
Наконец Аграфена объявила передышку.
Перекусив и напившись воды из родничка, «артельщики» вновь принялись теребить лен.
Вот уже солнышко поползло к горизонту, из леса потянуло прохладой, совсем недалеко осталось до конца делянки, а ребята все еще кланялись земле.
— А грибы? — вспомнил вдруг Афоня, посмотрев на солнце.
— Да-да! — встревожилась Аграфена. — Что вы дома-то скажете? Отправляйтесь-ка в лес. Мы тут с Нюшкой без вас дотеребим.
Ребята с довольным видом поглядели на тугие снопики с курчавыми головами, которые в беспорядке лежали на земле.
Нет, они сегодня совсем неплохо потрудились.
Степа спросил у тети Груни, где она будет работать в следующее воскресенье.
— Наверное, к Еремину наймусь...
— А можно, мы опять придем? — сказал Степа, посмотрев на ребят. — Всей артелью.
— Спасибо, артельщики, — улыбнулась Аграфена. — Смотрите только, как бы вам дома не досталось. — И она погнала ребят за грибами.
Но лес на этот раз их не выручил. То ли другие грибники еще утром собрали все грибы, то ли ребята за день устали, но грибы попадались совсем редко.
Ребята приуныли. Как-то они пойдут теперь с неполными кузовками через всю деревню и что скажут дома?
— Не до жиру, быть бы живу, — невесело пошутил кто-то из мальчишек и предложил собирать все, что попадется под руку.
Делать было нечего, и «артельщики», принялись бросать в кузовки и корзины опята, маслята, тощие сыроежки, горькие «скрипухи», истекающие молочным соком, невкусные «арины» — в другое время на такие грибы они и смотреть бы не стали.
Потом Степа вспомнил про Афоню Хомутова — ему же никак нельзя возвращаться домой без полной корзины — и первый поделился с ним грибами.
Помогли Афоне и другие ребята.
До деревни грибники добрались уже в сумерки. У околицы они неожиданно столкнулись с Матвеем Петровичем.
Учитель шел размеренным шагом, опираясь на длинную суковатую палку.
— Откуда это он? — шепотом спросил Степа у Шурки.
— В город ездил, насчет стипендий. Увидев ребят, Матвей Петрович обрадовался:
— Ого! Массовый поход за грибами! Ну и как? С удачей? Он заглянул в кузовки и корзины и покачал головой:
— Что это вы? Старья набрали, ерунды всякой... Неужели разучились в грибах разбираться?
— Мы пошли поздно, — пробормотал Шурка. — До нас, видать, все грибы повыбирали.
— Матвей Петрович, — осторожно спросил Степа, — вы с поезда? В город ездили, насчет стипендий?
— Хлопотал... — вздохнул учитель. — Но утешительного мало. Стипендий нам не прибавят...
— Как же теперь?
— Надо что-то самим предпринимать, — задумчиво проговорил Матвей Петрович. — Я вот шел и думал: не собрать ли нам комсомольцев и пионеров... Наймемся к мужикам побогаче копать картошку, заработаем денег. Создадим вроде как фонд помощи детям бедноты...
— Матвей Петрович! — крикнул Степа. — А мы уже сегодня работали. Видали, какая артель собралась...
И он рассказал, как ребята помогали Нюшке с матерью теребить лен.
Учитель замедлил шаг.
— Вот какие вы грибники! — засмеялся он. — Так сказать, первая артель в деревне. Поздравляю, артельщики! Только зачем же хорошее дело в секрете держать? Давайте завтра всем ребятам объявим!
БЕЛЬМО НА ГЛАЗУ
Бабушке становилось все хуже. Она не могла подниматься с постели, не могла выйти на улицу, и Илья Ефимович решил про себя, что мать уже больше на свете не жилец.
Он освободил Таню от молотьбы и приказал ей сидеть дома — присматривать за больной.
Как-то раз, когда Степа работал на молотьбе, в овин прибежала Таня и позвала брата к бабушке.
— Что с ней? — испугался Степа.
— Проститься с тобой хочет... Она сегодня со всеми прощается.
Степа помчался к дому. Евдокия Захаровна попросила внука сесть поближе, жалостливо посмотрела ему в лицо:
— Ухожу, внучек, скоро преставлюсь... Как вы теперь, сироты-горемыки, жить будете?
— Что ты, бабушка, еще поправишься...
— Молчи, слушай... Я свое отжила, — перебила бабушка Степу и с трудом продолжала: — Ты, главное, не сгибайся... по-отцовски живи. И помни отца — он правильно шагал, честно. Худое про него скажут — не верь никому. И Таньку в обиду не давай... — Она сделала попытку потрогать Степины волосы, но не дотянулась, и темная, высохшая рука как плеть упала на одеяло.
У Степы сжалось сердце.
Закрыв глаза, бабушка долго лежала молча, потом вновь посмотрела на внука:
— Ну, иди по своим делам, иди! А мне уж недолго...
Умерла Евдокия Захаровна на другой день, под утро.
Ее похоронили тихо, неприметно и довольно быстро — шла молотьба, и Илья Ефимович дорожил каждым часом.
Дольше всех на кладбище задержались Таня и Степа.
Таня с опухшим от слез лицом все еще стояла перед могилой, а Степа обложил глинистый холмик зеленым дерном и посадил рядом с могилой молодую березку.
Потом они направились домой. Шли медленно, молча, позади усадеб, стараясь никого не встречать.
В доме у Ковшовых происходили поминки. Поп с дьячком, отпевавшие бабушку, родственники Евдокии Захаровны, какие-то старики и старухи старательно пили, ели и довольно шумно переговаривались. Степа вдруг почувствовал, что теперь, когда не стало бабушки, ему совсем не хочется входить в дядин дом.
— Посидим... переждем поминки, — предложил он Тане.
Брат и сестра прошли на огород и сели на «бабушкино место» около старой бани.
...Жить в доме Ковшовых становилось все труднее.
После смерти бабушки Илья Ефимович еще более недоверчиво стал посматривать на племянника.
Степа не раз слышал, как дядя многозначительно говорил жене, что нет ничего хуже, когда в стаде заводится одна паршивая овца. И Степа понимал, что речь идет о нем.
Как-то раз Илья Ефимович завел с племянником разговор о сапожной мастерской. Степа сказал, что он подумает, но большой охоты идти в сапожники у него не было.
— Навязался на нашу шею коммунаров выродок! — жаловался Илья Ефимович своим домочадцам. — Что в доме ни скажи, что ни сделай — зараз все по деревне растрезвонит! — И он советовал им держать с колонистом ухо востро.
Степа чувствовал на каждом шагу, как Ковшовы начали его сторониться.
Уходя ка работу, Пелагея закрывала дом на замок и не говорила племяннику, куда прячет ключ. Когда Степа приходил к обеду или ужину, разговоры за столом обычно прекращались. Все ели молча, словно на поминках, и мальчик спешил поскорее вылезти из-за стола.
Не забыл дядя напомнить и о «грибном походе», о котором отцу донес всезнающий Филька, и о других делах «артельщиков», помогавших детям бедноты.
— Скажи на милость, артель затеяли! — удивлялся он. — Работают на чужого дядю с тетей, а обедать к матке с батькой бегут. Ну, и бессребреники!..
Но особенно изощрялся в насмешках и донимал Степу Филька. Он придирался к нему по всякому пустяку, чуть ли не каждый день спрашивал, как поживает Нюшка, сколько она уже накопила приданого, и величал братца «ветлугинским зятьком».
Степа бледнел от злости, бросался на Фильку, и они схватывались драться.
Филька старался бить так, чтобы на теле у Степы не оставалось никаких следов, а сам с удовольствием размазывал по лицу кровь из расквашенного носа и орал на всю улицу, что колонист его убивает.
Илья Ефимович выходил из себя, топал на Степу ногами. Таня принималась плакать.
Как-то раз, когда Степа вернулся с поля, где он вместе с другими школьниками помогал Ветлугиным копать картошку, Филька язвительно спросил его:
— Может, ты к Ветлугиным не только работать, но и обедать будешь ходить? У них там, поди, разносолов полно... Вот уж откормишься!
— Не хнычь! — стиснув зубы, ответил Степа. — Ваш хлеб не трону. Уйду куда-нибудь.
— Давно бы пора. А то навалился на нашу шею, голь-моль перекатная! Корми тебя, обувай, а ты всякие пакости чинишь. Да и тесно нам в одном доме. А ну, говори: когда уйдешь?
— Мое дело. Докладывать тебе не стану.
— Смотри, колонист, не прохлаждайся! — погрозил Филька. — Все равно я тебя из дома выживу.
Степа только пожал плечами — все идет к одному. В доме он помеха и нахлебник, ненужный, лишний человек, бельмо на глазу.
Хорошо бы перебраться в школьное общежитие — много ли ему надо! Топчан в углу, матрац, набитый сеном, одеяло. Но как быть со стипендией? В школе ее не получишь, а дядя то и дело жалуется, что трех грамотеев ему кормить накладно. А на днях он еще раз предложил Степе определить его в сапожную мастерскую. Может, и в самом деле согласиться на это?
Деревня с утра загуляла — мужики ходили по гостям, пили вино, орали песни. А вечером веселились парни и мальчишки. По старинному обычаю, в этот осенний праздник разрешалось бесшабашное ухарство и озорство.
Мальчишки бродили по усадьбам, снимали с петель калитки, ворота, закрывали соломой печные трубы, запрягались в плуги и пропахивали вдоль улицы мелкие кривые борозды. Они утаскивали бороны, телеги, поленья дров, хворост, бревна и все это громоздили на дороге при въезде в деревню — попробуй потом разберись, кому что принадлежит!
Около Желвакова дома собралась большая ватага «артельщиков». Они только что укатили у Тимофея Осьмухина две пустые бочки и сейчас были возбуждены и шумливы.
— А видали на том конце деревни — какую баррикаду построили! Ни пройти, ни проехать! — оживленно сообщил Митя Горелов. — Давайте и мы что-нибудь еще сотворим!
К мальчишкам подбежал Семка Уклейкин. Обняв Митю и Шурку за плечи, он предложил им увезти телегу у Ильи Ковшова — сам Ворон пьет вино у Игната Хорькова, Филька гуляет с парнями, а ковшовская телега без всякого присмотра стоит около сарая. Шурка отстранился и подозрительно оглядел Уклейкина.
Голенастый, вертлявый и ослепительно рыжий Семка Уклейкин был, пожалуй, самым опасным мальчишкой в деревне. Он врал без зазрения совести, выдумывал всякие нелепые истории, у всех одалживал и никому ничего не отдавал. Подружившись с кем-нибудь, он служил товарищу, как верный пес, был у него на побегушках, клялся в верности, а через неделю так же легко заводил новую дружбу. Уклейкина так и звали в деревне «Сума переметная» да еще «Рыжий глист-оппортунист».
— Чего ты нас на Ворона науськиваешь? — недоверчиво спросил Шурка. — Вы же с Филькой дружки-приятели... в обнимочку ходите.
— «Приятели»! — фыркнул Уклейкин. — На одном солнце портянки сушим... Да вы что, Фильки с отцом боитесь? Эх вы, сосунки, ягнятки!
— В самом деле, насолим Ворону! — хорохорился Митя.
— Насолим! — завопили ребята и побежали к дому Ковшовых.
Выездная телега с резным передком стояла у сарая. Тут же валялись дуга, хомут и вожжи.
Захваченные озорным весельем, мальчишки впряглись в оглобли — трое коренниками, остальные пристяжными, — натянули вожжи, кто-то нацепил на грудь ошейник с бубенцами, и телега лихо выкатилась на вечернюю улицу.
Мальчишки время от времени ржали, как добрые кони, а Уклейкин, забравшись на телегу и потряхивая вожжами, кричал:
— Э-эй! Доро-о-гу-у!
Гулявшие по улице парни и девки шарахались в сторону и от души хохотали — так похоже на Илью Ковшова кричал Уклейкин.
Степа с Нюшкой встретили телегу посреди деревни. Заметив среди коренников Шурку и Афоню Хомутова, Степа загородил «артельщикам» дорогу:
— Да вы что!.. С ума сошли? Да ведь это же дичь... глупость!
Но его сразу перебило несколько голосов — сегодня можно, прощается, все равно все озоруют.
Нюшка не выдержала, шепнула дружку:
— А правда... давай и мы покатаемся!
И не успел Степа опомниться, как мальчишки подхватили его, и он вместе со всеми уже мчал телегу по улице.
— Эй вы, соколы! Царя возили! — кричал Уклейкин. Сделав по деревне еще один круг, мальчишки вывезли телегу за околицу и оставили около пруда.
— А давайте еще кому-нибудь насолим! — раззадорившись, предложил Шурка. — Богачам нашим... Им стоит!
«Артельщикам» эти слова пришлись по душе. Вскоре тяжелые дроги Якова Глухова были выкачены на берег реки и спрятаны в зарослях лозняка. Рессорную тележку Кузьмы Шмелева ребята поставили около дома Глухова. Дошла очередь до Никиты Еремина.
Мальчишки долго сидели в засаде, пока Шурка с Афоней не раздобыли мясных костей и не утихомирили свирепого ереминского пса.
Телегу Никиты Еремина они укатили далеко за деревню и остановили перед крутым спуском к мосту.
— Теперь сама пойдет! Садись! — скомандовал Уклейкин. Ребята повернули телегу оглоблями назад, подтолкнули ее и попрыгали на сиденье. Виляя из стороны в сторону, телега с грохотом покатилась вниз.
— Вот это катание! Как на масленице! — радовались ребята, обхватив друг друга руками.
— Не телега — машина! Самоходом прет!
— Как трактор!..
На какой-то колдобине телега вдруг резко накренилась, и мальчишки беспорядочной кучей повалились на землю. Кто-то завизжал, кому-то придавило ногу, а Шурка дурашливо возвестил, что произошла авария.
— Станция Березай! Кому надо, вылезай!
— Вот узнаете теперь аварию, поганцы паршивые! — неожиданно послышался сердитый сиплый голос, и чья-то рука схватила Шурку за плечо.
— Спасайсь, ребята! — взвизгнула Нюшка. — Сам пророк Еремей!
Но было уже поздно. Еремин, а с ним еще несколько мужиков окружили мальчишек и потащили к деревне.
В суматохе кому-то удалось вырваться и убежать. Шурка, как рыба в неводе, яростно бился в руках Никиты Еремина, но остальные ребята, ошарашенные случившимся, покорно и молча плелись за мужиками.
Митю, скрутив ему руки за спиной и то и дело награждая тумаками, вел Фома-Ерема.
— Иди, иди, председателев сын! — торопил он. — Вот сейчас сдадим всех в сельсовет.
Степу держал за шиворот высокий гривастый старик Шмелев. Другой рукой он тащил за собой упиравшуюся Нюшку.
Степа был зол на себя. Почему он не отговорил ребят от этой глупой затеи? И что теперь сделают с ними мужики? Неужели в самом деле доставят в сельсовет? Вот уж позор на всю деревню! Лучше бы накостыляли им по шее — и делу конец. Да вот еще Нюшка попалась с ними. Мальчишкам-то получить по шее не так уж страшно, а вот каково девчонке?
— Иди, иди, коза упрямая! — прикрикнул на Нюшку Шмелев. — Пропишем и тебе ижицу для памяти.
— Ой, дяденька! Пустите! — взмолилась Нюшка.
Степа не выдержал. С силой рванувшись из рук Шмелева, он вдруг бросился ему под ноги.
Старик споткнулся, выпустил Нюшкину руку и упал, придавив мальчишку своим тяжелым телом.
— Нюшка! Беги! — закричал Степа. Девочка скрылась в темноте.
— Ах ты, крапивное семя! — поднимаясь и крепко держа Степу за шиворот, выругался Шмелев. — Ну, погоди ж! Вдвойне получишь! И за себя и за девчонку!
Мужики привели мальчишек к усадьбе Никиты Еремина и в темноте по одному втолкнули в сарай.
Шурка вновь принялся буйствовать: рвался из рук, плевался, кричал, что кулаки не имеют права сажать их под замок.
— Ведите нас в сельсовет, мы сами все объясним! — требовал он.
Но Никита Еремин не собирался уступать ребятам.
— Дайте, детки, срок — будет вам и белка, будет и свисток! — ласково пропел он и, наподдав Шурке коленом в зад, швырнул его в сарай.
Ворота захлопнулись.
— Сколько их там? — спросил Шмелев.
— Семь душ, — ответил Еремин. — Девчонку ты сам выпустил.
— Ничего, мы ее и утром защучим.
Еремин повесил на ворота тяжелый замок, щелкнул ключом, и мужики ушли.
В сарае было темно, как в подземной пещере, пахло свежим сеном, березовыми вениками, тесом.
Шурка отыскал в темноте какую-то палку и яростно принялся колотить по воротам:
— Откройте! Выпустите! Кулачье проклятое! Чтоб вам треснуть! Землей подавиться!
Степа подполз к приятелю и тронул его за руку:
— Уймись! Плетью обуха не перешибешь. — И он обратился к невидимым в темноте ребятам: — А ну, объявляйся, кто здесь?
Мальчишки по очереди назвали себя: Шурка, Митя Горелов, Афоня Хомутов, Колька Осьмухин...
— А где же Уклейкин? — спросил Митя и, помолчав немного, присвистнул: — Эге, да он, никак, смотался! Ловкач-стрекач!
Шурка высказал подозрение, что тут дело нечисто — уж очень Уклейкин настойчиво тянул их катать телеги.
— Кинули наживку, а вы сразу и клюнули. Эх, караси-окуни! — упрекнул приятелей Степа и тут же осекся: он ведь и сам оказался не догадливее других. Теперь вот сиди всю ночь в темном сарае, жди утра, и неизвестно, что будет потом.
Степа принялся ощупывать стены сарая, пока не опрокинул ящик с пустыми бутылками, какие-то ведра и листы старого кровельного железа. Поднялся шум, грохот.
— Кто еще здесь? — вскрикнул Митя.
— Да я это, я! — с досадой ответил Степа. — Хотел лазейку найти...
— Это дело! — обрадовался Шурка. — Бежать надо! Мальчишки обшарили весь сарай: стены новые, прочные,
без единой лазейки, крыша тесовая — не проколупаешь; под стены подкопаться нечем— нет у ребят ни заступа, пи лома, ни топора.
— Как тюрьма — не вырвешься! — уныло заключил Митя.
— Эй, заключенные! — послышался вдруг шепот. — На волю хотите? Это я — Нюшка. И Танька со мной...
Мальчишки бросились к воротам.
Нюшка сообщила: у них есть топор и заступ, в доме Ереминых темно — видимо, все легли спать, а собаке они кинули большую краюху хлеба.
— Тогда сбивайте замок поскорее! — приказал девчонкам Шурка.
Но его перебил Афоня Хомутов: лучше сделать под стену подкоп — так будет тише.
Кряхтя и посапывая, Нюшка с Таней принялись копать землю. Это было не легко, то и дело попадались битый кирпич, гнилушки.
Мальчишки, прижавшись к воротам, сидели в сарае и терпеливо ждали.
Неожиданно у крыльца Ереминых хрипло затявкала и загремела цепью собака.
— Ой! — встревожилась Таня. — Мало мы ей хлеба дали...
— Просто бессовестная тварь. Вся в Еремина. Ты копай, а я ей еще брошу — есть у меня немного.
И Нюшка, оставив заступ, направилась к крыльцу. Но дойти она не успела — от дома к сараю, освещая переулок фонарем «летучая мышь», двигались две фигуры. Нюшка быстро вернулась обратно.
— Никита со своим красавчиком шастает, — шепнула она мальчишкам. — Вы потерпите... Мы опять вернемся.
Захватив топор и заступ, Нюшка с Таней юркнули за угол соседнего амбара.
Никита Еремин обошел сарай, потрогал, цел ли замок, и, заметив подкоп у стены, развел руками:
— Ах, христопродавцы! Да их тут целая шайка-лейка! Гляди да гляди!
— Надо Полкана с цепи спустить, — посоветовал Фома-Ерема.
— Надо, — согласился Никита. — Да я и сам покараулю.
Они ушли. Вскоре к сараю подбежала собака. Она обнюхала свежевырытую землю у стены и злобно зарычала на ворота — оттуда несло незнакомыми и подозрительными запахами.
Приунывшие мальчишки повалились на сено.
— Впрямь как тюрьма, — произнес Афоня. — И замок, и тюремщики, и собака...
— А мы вроде злодеи какие, арестанты, — в тон ему сказал Митя.
— Какие там злодеи! Каждый год на телегах катались, и ничего. А тут на́... Очень уж расходился этот Еремин!
— Шурка, может, назло ему песню спеть? — предложил Митя. — Как это там — «богачи-кулаки»...
Невидимый в темноте Шурка приподнялся на сене и хрипловатым голосом затянул на мотив «Марсельезы»:
Богачи-кулаки жадной сворой Расхищают последний наш труд, Нашим по́том жиреют обжоры И последний кусок у нас рвут...Нестройно, разноголосо, но пели все.
За воротами затявкал Полкан.
Песне стало тесно в душном сарае, и она, словно обретя крылья, вырвалась наружу и разнеслась по деревне. В ближних избах просыпались люди, выглядывали в окна и никак не могли понять, откуда это в такой поздний час доносится песня и почему так яростно тявкает собака.
НА КАЗЕННЫЙ ХАРЧ
Как все это произошло, было известно только Фильке да Семке Уклейкину.
Втравив, по наущению Фильки, Степину компанию в историю с телегами, Уклейкин успел вовремя скрыться и не попал в руки Никиты Еремина.
После этого в дело вступил Филька.
Прихватив с собой Уклейкина, он повел его по деревне и потребовал показать те места, куда были угнаны телеги.
— Зачем тебе? — поинтересовался Уклейкин.
— Да так... полюбоваться хочу.
Уклейкин показал. Первая телега, принадлежащая Филькиному отцу, была запрятана в ветлах около пруда, за околицей.
Филька предложил столкнуть ее в воду.
— Да ты что! — удивился Уклейкин — Свою же телегу — и в пруд! Такого уговора не было.
— Подумаешь — телегу укатили! — фыркнул Филька. — Это каждый год бывает. Что тут такого? И ребятам ничего не будет. Подержат их ночь в сарае, а утром поругают и выпустят. А вот ежели телегу в пруду найдут или еще где — это уж не забава. Всыплют тогда артельщикам по первое число! Соображаешь?
— Ну и жлоб ты! — покачал головой Уклейкин. — Чего только придумал!
Понатужившись, Филька и Семка столкнули ковшовскую телегу в пруд, сплошь заросший зеленой ряской.
Рессорную тележку Кузьмы Шмелева они пригнали к дому вдовы Карпухиной и привязали веревкой к крыльцу. В деревне все знали, что старик частенько захаживает к молодой вдове.
Дроги Якова Глухова мальчишки нашли на высоком берегу, над омутом. Перевернув дроги вверх колесами, они вытащили чеки, сняли колеса с осей и одно за другим спустили с обрыва вниз. С тяжелым звучным плеском колеса разбили черную гладь омута и, как поплавки, закачались на воде.
Наконец добрались до ереминской телеги. Разохотившийся Уклейкин предложил сбросить ее в реку.
— Что-нибудь поновее надо, — заметил Филька и, сняв с пояса одноручную пилу, принялся подпиливать ось.
Приятель обомлел:
— Это уж ты чересчур... За такое по головке не погладят.
— Балда! Лоб чугунный! — фыркнул Филька. — Не твоя ж голова в ответе. Пусть артельщики плачутся... Пили́ вот.
Но Уклейкин продолжал упрямиться:
— На темное дело подбиваешь.
— Струсил, сума переметная! А зачем я тебе рубль чистоганом выложил?
— Оси за рубль подпиливать — такого уговора не было. Если хочешь, плати еще два целковых.
— Да я тебе рожу растворожу! — пригрозил Филька. — Зуб на зуб помножу!
Уклейкин отскочил в сторону.
— Будешь драться — три запрошу. А то и пять... Ось-то все равно подпилена. Я ведь могу и рассказать кому...
Филька понял, что сейчас ссориться с приятелем ему никак нельзя.
— Ладно, выжига! — согласился он. — Еще полтинник набавлю. Пей мою кровь!
— Сам выжига!.. Полтора целковых — последняя цена. И весь разговор.
Мальчишки долго торговались и наконец сошлись на том, что Филька платит приятелю еще один рубль и уступает на две недели в безвозмездное пользование футбольный мяч, а Уклейкин хранит на всю жизнь гробовое молчание про то, что было сегодняшней ночью.
Подпилив две оси и одну оглоблю, мальчишки разошлись по домам.
Утром Никита Еремин, Илья Ковшов, Шмелев и Глухов разыскали свои телеги.
Но то, что они увидели, превзошло все их ожидания.
Рассвирепевший Глухов заявил, что он своими руками выпорет всех озорников, сидящих в сарае, и навек отучит их устраивать такие безобразия.
— Зачем же своими! — остановил его Никита Еремин. — Свершим все по закону. Пригласим свидетелей, представителя власти. Актик составим. Тем более, что улик вполне достаточно. И телеги пока трогать не будем — как-никак вещественное доказательство.
Мужики согласились с Ереминым.
Один лишь Кузьма Шмелев попросил не вмешивать его в эту историю. Он быстро отвязал свою телегу от крыльца вдовы Карпухиной и задами, хоронясь от любопытных глаз, потащил ее к дому.
— Кузьму можно и не вмешивать, — засмеялся Еремин. — Дело у него щекотливое.
Мужики подняли на ноги председателя сельсовета Горелова, собрали родителей «артельщиков», что сидели в сарае под замком, и повели их к телегам.
— Радуйся и веселися! — ласково сказал Никита Еремин, подводя Горелова к пруду, в ржавой воде которого торчала телега Ильи Ковшова.
Из омута мужики долго вылавливали намокшие колеса и тащили их по обрыву вверх, к перевернутым дрогам.
Но особенно поразили мужиков подпиленные оси и оглобли ереминской телеги.
— Это уж не потеха ради праздника, а чистое хулиганство! — покачал головой Василий Хомутов, внимательно рассматривая подпиленные оси.
— Вот-вот! — согласно закивал Еремин. — Так дальше пойдет — и лошадь вилами могут пырнуть, и дом подпалят, и дверь в амбаре высадят.
— Это кто же дошел до такого разбоя? — спросил Егор Рукавишников. — Наши парни с пьяного угара или пришлые какие? — И он осведомился у Горелова, какие принимаются меры к розыску хулиганов.
— Разберемся! Найдем следы! Сегодня же найдем, — ответил председатель. — Милицию из города затребуем.
— Что там милиция! — вздохнул Никита Еремин. — Они и без того в сарае у меня сидят. С поличным вчера захватили. Пойдемте, покажу!
Он привел мужиков к сараю, открыл замок и распахнул ворота:
— Вот они, голуби сизокрылые!
Сжавшись от утреннего холодка и прильнув друг к другу, мальчишки сладко спали на сене.
Первым открыл глаза Афоня Хомутов.
Он быстро вскочил, смахнул прилипшие к рубахе сенины и виновато взглянул на отца.
Лицо у Василия побагровело, на скулах выступили тугие желваки. Потом он медленно расстегнул широкий лоснящийся ремень. В тишине отчетливо звякнула железная пряжка. Сложив ремень вдвое, Василий молча кинул сыну на открытые ворота.
Афоня, втянув голову в плечи, медленно зашагал к выходу.
— Дядя Вася, не надо! — бросился к Хомутову Степа, — Я все объясню... Не виноват...
Он не договорил — Илья Ефимович схватил его за руку и потянул к себе:
— Вот как! Вы еще и святы! Может, и ты не виноват?..
А кругом мужики уже расправлялись со своими сыновьями. Стегали ремнями, драли за волосы, кричали на них, грозили. Горелов, как веником, хлестал Митю рыжим брезентовым портфелем. Егор Рукавишников, расстроенный не меньше Шурки, таскал сына за уши и все приговаривал, что Шурка зарезал его без ножа.
— Ну что же вы? — выкрикнул Степа, не в силах унять охватившую его противную дрожь. — Лупцуйте! Чего от других отстаете?
— За такое не лупцевать... голову оторвать надо, — сквозь зубы процедил Илья Ефимович. — Будь ты мне родным сыном, я бы с тебя три шкуры спустил. А ваше благородье тронуть не смей. Зараз жаловаться побежишь! — Он брезгливо оттолкнул племянника, вышел из сарая и направился к дому.
Степа с недоумением посмотрел ему вслед. Потом догнал его и глухо спросил:
— Может, мне из вашего дома уйти? Вы прямо скажите.
— А это уж как знаешь, племянничек дорогой! Сам смекай— не малолетка, — не замедляя шага, сухо бросил Илья Ефимович.
Все утро Степа провел на огороде у Ковшовых, стараясь не попадаться никому на глаза. Здесь его и разыскала Таня.
Встревоженная и заплаканная, она рассказала, что дядя сильно разбушевался и кричит на весь дом, что Степка стал первым хулиганом в Кольцовке, опозорил семью Ковшовых и он, Илья Ковшов, ничего не может с ним поделать.
— Ой, Степа! — всхлипнула вдруг Таня. — Не любит тебя дядя Илья. Совсем ты чужой в доме...
— Уйду я... в сапожники... теперь уже твердо, — мрачно заявил Степа.
Таня расплакалась. Вот и опять она останется одна с дядей1 да с Филькой. Снова тяни лямку, ухаживай за поросятами, мой полы. Пожалуй, и в школу ей не удастся пойти.
— Ладно, будет тебе! — принялся утешать сестру обескураженный Степа. — Я еще пока никуда не ушел. Ты лучше покорми меня.
Пробравшись во вторую половину дома, Степа поел вчерашних щей, попил молока, потом отоспался и к вечеру направился к Рукавишниковым — надо было навестить Шурку,
Приятеля он увидел в переулке. Вместе с отцом Шурка пилил дрова. Острозубая пила с хрустом врезалась в сухой березовый кряж, брызгала розовыми опилками.
Увидев Степу, Шурка бросил на него быстрый взгляд, свободной левой рукой сделал какой-то таинственный жест, а правой резко дернул пилу, так что та изогнулась и тоненько запела.
— Легче дергай! Пилу порвешь! — прикрикнул на Шурку отец.
— Здравствуйте, дядя Егор! — невпопад сказал Степа.
— Здорово, храбрец-удалец! Только мы будто встречались сегодня... — не очень любезно ответил Рукавишников. — Если ты к Шурке, так проходи мимо. Нечего к нему.,,
Степа растерянно затоптался на месте. На крыльцо вышел Матвей Петрович,
— Ладно, Егор, — обратился он к брату. — Смени гнев на милость. Надо же нам еще одного арестованного послушать. Ну-ка, Степа, расскажи, как вы вчера погуляли.
— Знаешь, что про нас плетут? — хмуро сказал Шурка, когда Степа подошел ближе. — Будто мы оси подпиливали...
— Какие оси?
— У телеги Никиты Еремина. И оси и оглобли... — Шурка передал все, что узнал от отца.
Степа побледнел. Так вот почему мужики так свирепо расправились с ребятами! Глупые они, караси-окуни, попались-таки на приманку, И неужели все это сделал Уклейкин? Недаром он сбежал раньше других. Но зачем ему это все понадобилось?.. А может, тут замешан Филька Ковшов?
— Что, крестничек, молчишь? — подозрительно покосился на Степу Шуркин отец.
— Матвей Петрович! Дядя Егор! — возбужденно заговорил Степа. — Слово даю... комсомольское! У нас и в мыслях такого не было, чтобы оси... — Он умолк и зачем-то оглянулся по сторонам. — Это, наверно, Филькина работа. Он мне давно сказал: «Выживу я тебя из дома».
— А Уклейкин ему помогал, — подхватил Шурка. — Вот это верно... Недаром он нас все подзуживал телеги катать... Ну погоди же, Рыжий глист! — И он с силой толкнул ногой отпиленный березовый кругляк.
Матвей Петрович посмотрел на брата:
— Слышишь, Егор! Все это, возможно, не так-то просто. Слишком ты легко Еремину доверился и зря ребят в хулиганы записал. Мне думается, что они не врут, Я в свое время тоже телеги катал, но пакость зачем же делать,,,
— Вот и я говорю ему! — пожаловался на отца Шурка, подмигивая Степе. — А он разошелся, все уши мне пообрывал. А теперь вот еще под арестом держит. Две недели от дома не отлучись и с ребятами не знайся.
Егор озадаченно покрутил головой.
— Скажи на милость, какую паутину раскинули! А мы в нее как мухи попались... — И он кивнул сыну: — Ладно, снимаю с тебя наказание. Только от Ереминых держись подальше — не ровен час, опять заарканят.
Потом дядя Егор обратился к Степе:
— А у тебя, крестник, какие дела дома?
— Ухожу я от дяди, — помолчав, вполголоса признался Степа.
— Да-да, слышал уже об этом, — нахмурился Шуркин отец. — Танька сегодня жаловалась... Не к месту ты, видно, пришелся, коммунаров сын... поперек горла родному дяде стал. Только вот зачем же в город уходишь? На кого сестренку бросаешь?
Отвернувшись, Степа молчал. Над его головой стремглав пронеслась ласточка и юркнула под застреху. «Вот и у нее есть гнездо, — подумал он. — А где же мое гнездо, мой дом?»
— Понимаю... Ни стипендии у тебя, ни угла. И у дяди жить невмоготу!.. Матвей, ты слышишь? — обратился Егор к брату. — Парень гол как сокол, можно сказать — первый бедняк на селе, а ему никакого пособия. Что ж это у вас за порядки такие в школе?
Матвей Петрович признался, что порядки действительно странные. Сколько он ни доказывал директору школы, что необходимо пересмотреть списки стипендиатов, Савин отвечает одно и то же: изменить ничего невозможно. В районе же директора всячески поддерживают. Прямо какая-то круговая порука.
— А может, нашей бедноте в это дело вмешаться? — спросил Рукавишников. — У нас глаз острый, мы многое что в деревне примечаем.
Учитель обрадовался — это было бы очень кстати. Он и сам уже думал об этом.
Матвей Петрович подозвал к себе Степу и попросил его написать директору школы заявление.
— О чем, Матвей Петрович?
— Напиши, что ушел от дяди и нуждаешься в стипендии. Заявление передашь мне.
На другой день утром к Ковшовым зашел директор школы. В деревне знали, что Савин посещал крестьянские избы только в том случае, когда кто-нибудь из ребят совершал в школе лихую проделку. Разговор с родителями у него обычно был короткий, решительный. После ухода директора ученик получал хорошую порку и наутро вел себя в школе тише воды, ниже травы.
Илья Ефимович был не на шутку встревожен посещением директора.
«Неужели Филька что-нибудь набедокурил? — подумал он. — Да нет, не должно. Это, верно, по поводу Степки».
Встретив Савина на крыльце и введя его в дом, Илья Ефимович кивнул жене на самовар.
— Увольте, Илья Ефимович, не охотник до чаепитий, — предупредил Савин и, покосившись на жену Ковшова, вполголоса добавил: — Кое о чем поговорить надо.
Савин снял полотняную фуражку, вытер платком взмокший лоб, на котором от фуражки остался красный след.
— Недоволен я вами, Илья Ефимович, — сухо сказал он.
— Каюсь, Федор Иванович, просмотрел.:, совсем исхулиганился племянник,., Не сумел его к рукам прибрать.
— Не о том речь, — поморщился Савин. — Вы куда племянника устроить собирались? В город, в мастерскую?
— К тому, кажется, и дело идет. Вчера сам мне заявил, что думает уходить.
— Могу сообщить, что он уже ушел от вас, — насмешливо сказал директор. — Только не в город, а в школьный интернат.
— Как — в интернат?
— А вот так!.. Зеваете, Илья Ефимович! Родного племянника просмотрели. А теперь по вашей милости я должен принять его в общежитие и зачислить на стипендию.
Илья Ефимович ничего не понимал.
Савин заговорил тише. Вчера к нему заявилась группа бедняков во главе с братьями Рукавишниковыми. Они решительно потребовали пересмотра списка стипендиатов. Пришлось с ними согласиться, кое-кого из учеников стипендии лишить. Попал в это число и Филя Ковшов.
— Эх, дела! — с обидой крякнул Илья Ефимович. — И так меня налогами донимают, а теперь еще вы нажимаете...
— Да поймите вы, — не скрывая своего раздражения, продолжал Савин, — нельзя сейчас на рожон лезть! Чувствуете, что в деревне начинается? Только и разговоров, что о колхозе. Беднота голову поднимает. Нельзя не считаться. А вы о какой-то стипендии жалеете! Лучше подумайте, как бы чего другого не потерять.
— А что такое? — встревожился Ковшов.
— Большие события назревают... Боюсь, что крепко вас потрясут, культурных-то хозяев. — Савин взялся за фуражку. — Заходите вечерком, потолкуем. А насчет стипендии, я надеюсь, вы меня правильно поняли, Илья Ефимович.
Ковшов молча кивнул головой и, забыв проводить директора, долго еще сидел за столом.
Вечером он пригласил к ужину Степу:
— Садись-ка с нами. Для тебя новость есть.
Степа неловко примостился у края стола.
Илья Ефимович оглядел притихших домочадцев и сообщил, что у него состоялся серьезный разговор с директором школы.
— Крупно мы с ним поспорили. Но я на своем настоял. Ты, сирота, бывший колонист, имеешь все права на общежитие и стипендию. И братья Рукавишниковы меня поддержали. Так что теперь дело решенное. Учись, старайся, стипендия тебе будет. Филька свою отдает... Так сказать, в пользу родного брата.
— Я... Степке? — Удивленный Филька даже отложил ложку. — Вот уж не подумаю...
— А ты помолчи! — оборвал его отец. — Постарше тебя люди думали — им виднее. Надо ж по справедливости жить, с уважением.
Ничего не понимая, Филька пожал плечами, вновь взялся за ложку и потянулся к общей миске с мясными дымящимися щами.
Илья Ефимович кинул на Степу быстрый, настороженный взгляд:
— Хлебай щи, племяш, наедайся! Скоро ведь на казенный харч перейдешь.
Степа поискал глазами ложку — ее около него не было: как видно, позабыли положить.
— Спасибо, я уже сыт, — усмехнулся он и, поднявшись из-за стола, быстро вышел за дверь.
Степа переночевал в доме дяди еще одну ночь, а утром собрался в общежитие.
Обошел усадьбу, забрал из сарая свои вещички, заглянул в огород, посидел на «бабушкином месте» и потом направился к школе.
Его провожали друзья.
Каждый хотел чем-нибудь помочь мальчику. Шурка нес рюкзак, Митя Горелов — чемоданчик, Таня с Нюшкой поделили между собой Степины книжки.
И много ли надо было пройти до школьного общежития— только пересечь наискось улицу да повернуть за околицей направо, к старому парку, — но ребята шагали с таким видом, словно провожали Степу в невесть какой дальний путь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«ЧЕРТОВА ДЮЖИНА»
Нет, в интернате было, пожалуй, не так уж плохо.
Вытянутое в длину, с подпорками в середине, с высоко поднятыми узкими окнами (все-таки бывшая конюшня), помещение общежития было выбелено внутри и заставлено двумя рядами топчанов. Окна обращены в южную сторону, и в солнечные дни в общежитии светло и даже уютно.
— Выбирай себе стойло, — вводя Степу в общежитие, сказал ему коротконогий, безбородый дядя Петя, комендант общежития, он же и школьный сторож. — Здесь раньше коняги жили, а теперь вы... стригунки.
На правах первого жильца Степа облюбовал лучшее место — подальше от двери с визгливой пружиной, рядом с приземистой свежепобеленной печкой.
Получив у дяди Пети полосатый тиковый матрасник и наволочку, он туго набил их сеном, водрузил на топчан, застелил серым ворсистым одеялом, а простыню, по старой колонистской привычке, выложил поверх одеяла в форме треугольника.
— Тумбочка на двоих, — предупредил дядя Петя. — Сноровка есть — можешь и сам смастерить.
Степа раздобыл досок, гвоздей, молоток, на скорую руку сколотил шкафчик и, пристроив его около топчана, разместил в нем все свое немудрое хозяйство.
Вот он и дома!
Вскоре пришли Нюшка и Таня.
— А мы к тебе на новоселье, — заявила Нюшка.
— Милости прошу! — Степа подвел девочек к своему «стойлу» и с недоумением покосился на сестренку: никогда он не видел ее такой толстой.
Забравшись на постель, Нюшка попрыгала на округлом, необмятом матраце, потискала жесткую подушку и кивнула Тане. Та вытащила из-под куртки перьевую подушку и передала Степе:
— Возьми, мягче будет. Я из дому унесла.
— И это тебе! — Нюшка достала из кармана новенькую деревянную ложку, расписанную золотом и чернью. — В столовой-то не зевай, торцуй шибче.
Затем девочки занялись совсем уж ненужными делами. Принесли тяжелую гроздь пунцовой рябины и повесили ее над топчаном; в крынку с отбитым краем сунули пучок серебристого ковыля, шкафчик застлали газетой, вырезав по краям ее затейливые узоры.
— Да ну вас! — запротестовал Степа. — Вы еще открытку с голубками повесьте... Это же не девчачья комната... Все равно выброшу.
Но Нюшка с Таней обиженно заявили, что тогда больше не придут в общежитие, и Степа, чтобы не ссориться с ними, согласился наконец оставить над топчаном рябину, решив про себя, что ребята в первые же дни охотно ее сжуют.
За день до первого сентября начали съезжаться школьники из других деревень — Заречья, Ольховки, Торбеева, Малых Вязем. Они вваливались в общежитие с самодельными сундучками, с желтыми фанерными баулами, похожими на спелую тыкву, с увесистыми заплечными котомками.
Тихое в течение всего лета общежитие сразу наполнилось шумом, гомоном, смехом. Мальчишки спорили из-за топчанов, тумбочек, делились и обменивались пирогами, яблоками, морковью, репой — всем тем, что насовали им в баулы и котомки заботливые руки матерей и бабушек.
Но интереснее всего были разговоры. Степа переходил от одного топчана к другому и жадно прислушивался к рассказам мальчишек о том, как они провели лето. Но о чем бы мальчишки ни говорили — о рыбалке, о ночном, о купании, — разговор неизменно переходил на колхоз.
В Ольховке крестьяне не только сошлись в артель, но даже собрали деньги и к весне собираются купить трактор.
В Заречье мужики вот уже вторую неделю ругаются до хрипоты, даже дрались несколько раз, а договориться ни до чего не могут.
В Торбееве записались в артель сразу пятьдесят хозяйств. Колхоз назвали «Бурелом», председателем выбрали бывшего лавочника, а попа поставили его помощником. Потом в газете было написано, что торбеевский колхоз — кулацкий, лжеколхоз, и его быстро распустили.
«Правильно Матвей Петрович говорил, — думал Степа. — Пошло́, все равно пошло́. Лед тронулся, теперь не остановишь». И ему было немного неловко перед мальчишками, что у них в Кольцовке до сих пор нет колхоза.
Не утерпев, Степа как-то раз спросил об этом Матвея Петровича.
— Тебя бы агитатором поставить, — улыбнулся учитель. — Глядишь, сразу бы народ расшевелил.
— Я серьезно спрашиваю, — обиделся Степа. — Чем же Кольцовка хуже других?
— Так вот серьезно и отвечаю: скоро и у нас начнется, — сказал учитель.
И верно, через неделю кольцовские крестьяне были созваны на собрание.
Ради такого случая Матвей Петрович получил у Савина разрешение занять в нижнем этаже школы пустующий класс.
Степа с приятелями встревожились: пустят их на собрание или нет? К счастью, для ребят нашлось дело: дядя Петя попросил помочь ему подготовить помещение. И мальчишки постарались: раздобыли скамейки, табуретки, стулья, накрыли стол кумачом, притащили из учительской бумагу, чернила, графин с водой и даже внушительных размеров школьный колокольчик, звук которого обычно был слышен далеко за пределами школы.
Крестьяне сходились на собрание неторопливо, небольшими группами, и Степа с приятелями дважды обегал деревню и напоминал мужикам, что их ждут в школе.
Наконец собралось человек сто.
Люди забили класс до отказа: стояли в проходах, сидели на подоконниках, толкались в коридоре. Горелов занял место за столом, залпом выпил стакан воды и встряхнул колокольчик. Тот зазвенел так, что сидящие на первых скамейках зажали уши.
— Хорош звоночек! — одобрил Горелов. — В самый раз горлопанов глушить. Так начнем, граждане!.. — Но тут председатель заметил в дальнем углу класса скромно притулившихся друг к другу Митю, Степу, Шурку и Нюшку. — Да, один вопрос в порядке ведения... Имеются на собрании несовершеннолетние. Полагаю, что им пора на нашест. А ну-ка, ребята, марш по домам!
Ребята умоляюще посмотрели на Матвея Петровича.
— А мы дежурные, — нашелся Степа. — Скамейки таскали.
— Да-да, они дежурные, — подтвердил учитель. — Даже звонок принесли.
— Пусть остаются, — махнул рукой Егор Рукавишников. — Выгоним — все равно под окном торчать будут.
Горелов без всякой нужды еще раз потряс колокольчиком и зычным голосом объявил, что доклад о колхозе и о новой жизни сделает их земляк и учитель товарищ Матвей Рукавишников.
Одетый в новую синюю сатиновую рубаху, с зачесанными назад, слегка смоченными водой волосами (на «политзачес», как говорили ребята), Матвей Петрович подошел к столу. Аккуратно разложил перед собой какие-то книжки и брошюры с хвостиками бумажных закладок, открыл толстую клеенчатую тетрадь, потер руки, налил стакан воды.
— Как поп к обедне готовится, — раздался сзади шепоток. — Только дьячка с кадилом не хватает.
— А чем он не поп! — ответил другой голос. — Сейчас всего насулит: и манны небесной, и кущ райских.
— Эй, вы! У меня чтоб не мешать! — строго прикрикнул Горелов. — Зараз выводить буду! — И он погрозил пальцем в угол, где какой-то старичок устраивался на лавке подремать. — И не дрыхнуть раньше сроку! Здесь не заезжий дом.
Матвей Петрович строго оглядел собрание. Лицо его было чуть бледное, напряженное, на скулах проступили тугие желваки, белесые усики, казалось, топорщились. На занятиях Степа никогда не видел его таким.
Наконец Матвей Петрович заговорил. Но слова шли у него тяжело, учитель часто оговаривался, не находил нужных выражений.
«Волнуется... все же не перед ребятами», — подумал Степа, стараясь оправдать учителя.
Матвей Петрович вдруг схватился за спасительную книжку с закладками и монотонно принялся читать.
В классе послышались зевки.
— Цитирует... Когда доклад делаешь, это так полагается, — шепотом пояснила Нюшка матери, довольная тем, что на днях узнала новое слово. Аграфена вздохнула:
— Матвей Петрович, да что ты как псаломщик бубнишь! Свои-то слова у тебя есть?
Учитель умолк, вытер ладонью взмокший лоб и потом, словно сообразив, что лез до сих пор через глубокий сугроб, тогда как рядом вьется торная дорожка, заговорил проще и мягче. Рассказал о кубанских колхозах, о распаханных межах, о выгодах артельной жизни, о тракторах, что скоро сплошным потоком пойдут с конвейера Сталинградского тракторного завода и двинутся на колхозные пашни.
Потом, выискав глазами кого-нибудь из мужиков, он оборачивался к нему лицом и разговаривал с ним так, как будто остался один на один.
Вот у порога, прислонившись спиной к стене, в лохматой бараньей шапке, похожей на грачиное гнездо, сидит на корточках бородатый Хомутов. Здравствуй, Василий Силыч! Матвей Рукавишников хорошо знает твою жизнь. Ты — великан, силач, умеешь работать за троих, способен поднять за грядку телегу со снопами. А много ли ты нажил богатства за свою жизнь? Завел, правда, придурковатую кобылу да худоребрую коровенку, которая больше съедает корма, чем надаивает молока... Да вот еще какой уже год строишь новую избу, вкладываешь в нее все свои сбережения, экономишь каждую копейку, отказываешь во всем ребятам, а конца стройки так и не видно. И даже страшную баранью шапку и дремучую бороду, которыми все привыкли пугать в деревне малых ребят, ты носишь не от больших достатков. Забросил бы и шапку, сбрил бы и бороду, если бы в кармане завелся лишний рубль. Так вот и бьешься всю жизнь как рыба об лед. Где ж тебе, Василий Хомутов, развернуться, как не в артели, объединившись с такими же, как ты сам, маломощными середняками!
Или вот ты, Игнат Хорьков!
И тебя Матвей Рукавишников знает неплохо. Веселый ты мужик, Игнат Трофимович, затейливый, неугомонный. И где только не носило тебя по белу свету! Работал ты и на железной дороге, и сплавлял лес на Каме, и пас чужой скот, пока наконец не потянуло к земле, к родному дому. Начитался ты, Игнат, книжек по агрономии и недолго думая решил одним махом поправить свое хозяйство. Засеял турнепсом и брюквой полосы в поле и думал, что с корнеплодов корова зальет тебя молоком. Но турнепс уродился плохо. Тогда переметнулся ты на птицу. Накупил уток, гусей, индюшат — и опять вылетел в трубу. Птица наполовину передохла, наполовину разворовали. Сейчас ты носишься с жеребцом. Лошадь, конечно, на загляденье, одно имя чего стоит — Красавчик, но что будет дальше?
Зимой без овса она у тебя отощает, летом заездишь ее на пашне да бороньбе, и станет Красавчик самым захудалым конягой. А ты уже и сейчас в долгах, как в шелках. Бегаешь к богатеям за пудиком хлеба, выклянчиваешь мешок сена. А ведь нового урожая еще ждать да ждать! Нет, Игнат Хорьков, и тебе без колхоза жизни не видать!
В классе одобрительно зашумели. Ловко же учитель раскусил Игната и Василия!
— Прямо на лопатки уложил! — восхищенно шепнул ребятам Шурка. — Теперь зараз в артель пойдут!
А Матвей Петрович обращался все к новым и новым мужикам, поговорил с молчаливым, стеснительным Дорофеем Селиверстовым, со вдовой Карпухиной, высказал немало горьких слов Прохору Уклейкину и Тимофею Осьмухину. Потом очередь дошла до Нюшкиной матери.
— Меня уговаривать не надо! — перебила Аграфена учителя. — И слов не тратьте! Насиделась без хлеба в своем закутке. А на миру, говорят, и смерть красна. Только от нашего дела кулаков подальше держать надо. — Она поднялась и, взмахнув рукой, крикнула Горелову: — Открывай список, председатель! Первая пишусь...
— Вот это почин! — обрадовался Горелов, вытаскивая из портфеля лист бумаги.
И Степа уже представил себе, как сейчас вот всколыхнется все собрание, мужики повалят к столу, станут в очередь. Он даже привстал со скамейки, чтобы не пропустить этого торжественного момента.
Но собрание почему-то молчало.
Мужики полезли за кисетами, усиленно задымили самокрутками, бабы сдержанно зашептались, кто-то перебрался с передних скамеек на задние.
— Подходи, граждане, не робей, записывайся! — приглашал Горелов.
А шепот все нарастал... Так бывает летом, когда издали с глухим шумом приближается тяжелая, плотная завеса дождя.
Первыми нарушили тишину женщины. Они поднялись сразу в двух или трех местах и, перебивая друг друга, высокими, звенящими от раздражения голосами закричали о том, что как это можно совместно пахать землю и сеять хлеб, когда испокон веков их деды и прадеды сидели на разделенных межами полосках и работали каждый сам на себя, за свой страх и совесть, кто как мог и как умел. И как можно поравнять разных людей, заставить их дуть в одну дуду, если каждый привык жить на свой лад и манер: один степенный, трудолюбивый, встанет до зорьки, ляжет по-темному, а поле свое уходит, как невесту к свадьбе, а другой — сумятный, ленивый, на работу идет, как на каторгу, думает об утехах да удовольствиях, и в голове у него сквозняк и ветер.
Да что там люди — скотина и та разная. Одна корова только и знает, чтобы боднуть кого рогом да сбежать из стада, другая — золотая удойница, покладистая, тихая, сущий клад в хозяйстве. Про лошадей и заикаться нечего.
Аграфене Ветлугиной — той легко говорить: своего добра не нажила, а лезет в артель с четырьмя детьми на всё готовенькое, на чужое. А каково-то им, бабам справным, хозяйственным, когда каждая вещь в доме полита потом, кровью, выстрадана всей жизнью?
К женщинам присоединились мужчины. Размахивая руками, они кричали на Аграфену, что она корыстная и расчетливая, зарится на чужое добро и потому первая хочет пролезть в артель.
— Да что вы! Мужики, бабы!.. — Аграфена растерянно озиралась по сторонам. — Я же всем добра хочу... вместе работать будем.
Горелов тряс колокольчиком, стучал стаканом по графину, требовал тишины и порядка, но в классе уже ничего нельзя было разобрать.
Собрание бурлило, как река на перекате.
Игнат Хорьков схватился ругаться со своим соседом, с которым вот уже какой год враждовал из-за межи на усадьбе.
Василий Хомутов, потрясая своей бараньей шапкой, наступал на Прохора Уклейкина и кричал ему, что лучше пойдет по миру, а не станет работать в артели на лодырей и бездельников. Он так сильно размахивал шапкой, что даже зацепил «молнию». Лампа закачалась, огонь в стекле вытянулся, заморгал, и Горелов угрожающе потряс колокольчиком.
Степа никогда не думал, что мужики и бабы могут так галдеть, свирепо ругаться и оскорблять друг друга.
«И чего им надо, чего надо? — с недоумением и обидой думал он. — Матвей Петрович все объяснил. Понятно, толково, как на уроке. В артели им только лучше будет...»
К полуночи все устали, охрипли, сипели, как простуженные, и, ничего не решив, начали расходиться по домам. В чадном, прокуренном классе остались только кольцовская беднота и актив.
Горелов, запарившийся, с расстегнутым воротом гимнастерки, запихал в портфель бумаги, надавил на него коленом и, щелкнув замочком, с досадой сказал:
— Ни к чему вы, Матвей Петрович, с мужиками душевный разговор завели! С ними пожестче надо... И припугнуть не мешало бы...
Учитель с удивлением посмотрел на Горелова.
Савин тоже осуждающе покачал головой и нравоучительно сказал, что артель — дело добровольное, но при этом заметил, что кольцовский мужик, как видно, еще не созрел для новой, колхозной жизни и с собраниями придется повременить.
— Да ну ее, артель эту! — устало отмахнулась Аграфена. — Только-только забрезжило, а уж измолотили меня, как сноп на гумне. От одних слов кости болят...
— Молотьбы еще на наш век хватит, — сказал Матвей Петрович. — В колхоз пойти — не в рощу за грибами сбегать, не дров нарубить. Тут вся жизнь переворачивается, до самого корня. Вот крестьянин и размышляет.
— Справедливые слова, — согласился Прохор Уклейкин. — Как говорится, семь раз примерь, раз отрежь.
— Куда там, поднимай выше! — усмехнулся Горелов. — Сейчас наш мужик семьдесят семь раз примеривать будет.
Из-за стола поднялся Егор Рукавишников.
— А все-таки нам, бедноте, не годится так, — заговорил он. — Без нас артель зачинать некому. Хотим новый дом строить — закладывай фундамент. Потом и стены вырастут, и крыша.
Егор взял чистый лист бумаги, оглядел собравшихся, громко сказал:
— А ну, граждане! Тронулись! И тут он заметил Степу.
Мальчик, встав коленями на заднюю скамейку и держась за Шуркино плечо, смотрел на всех настороженными, ждущими глазами.
— Иди-ка сюда, коммунар! — Улыбаясь, Егор поманил к себе Степу и протянул ему лист бумаги: — Садись за стол и записывай: у кого-кого, а у тебя рука должна быть счастливая.
Степа на мгновение замер, но отказаться от столь заманчивого поручения не мог. Он присел к столу, схватил ручку, почистил о рукав пиджака перо и придвинул поближе к себе чернильницу. От волнения его бросило в пот.
— Готов, писарь? — спросил Егор. — Пиши теперь. Только чтоб чисто, без мазни. — И он принялся диктовать: — «Список членов сельскохозяйственной артели деревни Кольцовка. 1929 года, 27 октября». Написал?
— Очень вы быстро, дядя Егор! — взмолился Степа.
— Экий ты, право! Ну, так и быть, повторю... — Егор продиктовал еще раз. — Слушай дальше. Ставь цифру один.
— А какую — римскую или арабскую?
— Это уж ты сам смекай. Главное, чтоб в списке видно было нумер первый. Кто у нас впереди-то пойдет? Пожалуй, ты, Ветлугина... твой зачин был.
— Пиши, — вздохнула Аграфена. — От других не отстану, буду держаться.
Степа словил Нюшкин взгляд и с удовольствием написал: «Ветлугина Аграфена...» — и запнулся. Никто в деревне тетю Груню по отчеству не знал, не помнил этого и Степа.
— Сер-ге-ев-на, — подсказал Егор и, уперев ладонь в стол, сказал: — Ничего... Поживем, на ноги станем, будут и нас по батькам величать... Теперь нумер два. Рукавишников Егор Петрович.
Потом пошел номер третий, четвертый, пятый. Мужики и бабы вставали с места или поднимали руку, как школьники на уроке, и называли свою фамилию, имя, отчество. Степа еле успевал записывать и с опаской поглядывал на строчки — как бы они не стали загибаться книзу. Был у него такой грех. Но строчки на этот раз ложились прямо и аккуратно.
— Номер тринадцатый, — объявил Степа. — Кого записываю?
— Ой, чертова дюжина! Не будет нам проку! — вскрикнула высокая, краснощекая вдова Карпухина, но все же назвала себя: — Карпухина Марья Власовна.
— Ты раньше времени не каркай! — нахмурился Егор и сказал, что они на «чертовой дюжине» не задержатся. — Где тут Прохор Уклейкин?
— Выдуло Прохора, — сказала Аграфена. — Смотался под шумок.
— Интересно, каким это ветерком выдуло! — пробурчал Егор и потянулся к Степе за списком.
— Дядя Егор, — вполголоса сказал мальчик, удерживая список, — а меня в члены нельзя записать? Четырнадцатым... Тогда и чертовой дюжины не станет.
В классе засмеялись: если писать всех малолетних, то в артель больше и звать никого не надо. Кто-то спросил, велико ли у Степы хозяйство.
Но Егор не засмеялся.
— Тут дело особое... — сказал он. — Мальчишка уже пожил артельной жизнью. Другой у него и быть не может. Да и сирота он... Вот школу кончит, мы его по всем правилам в члены примем. — Егор обратился к Степе: — А пока считай, что ты наш питомец... молодой артельщик.
Вздохнув, Степа отдал Егору список.
— Ну что ж, граждане... С колхозом вас, с новой жизнью! — улыбнулся Егор. — Запись мы не заканчиваем. Зовите народ, убеждайте... Двери всем открыты.
Он бережно сложил список и сунул его за пазуху, в нагрудный карман.
ХЛЕБ
Начались затяжные осенние дожди. С утра из-за леса наползала серая хмарь, затягивала небо, и мелкий, точно просеянный сквозь частое сито дождь припускал на целый день.
Повсюду хлюпало, чавкало, журчало, земля раскисла, стала податливой и скользкой, все канавы и колдобины наполнились мутной водой, стены изб потемнели от сырости, крыши курились паром, словно их снизу подогревали.
Березы, липы и клены сбросили последние листья, и только ивы, усыпанные бисерными каплями дождя, продолжали хранить свой зеленый наряд.
В один из дождливых вечеров, когда в доме Ковшовых все уже легли спать, Илья Ефимович услышал троекратный стук в боковое стекло. Стук был осторожный, но властный и требовательный.
Илья Ефимович вздрогнул, набросил на плечи полушубок, зажег фонарь и вышел на крыльцо.
У окна он увидел Савина. Мокрый брезентовый дождевик с капюшоном стоял на нем коробом, высокие охотничьи сапоги были густо заляпаны грязью.
— Потушите фонарь! — приглушенным шепотом приказал Савин.
Ковшов покорно привернул фитиль, язычок огня раз-другой моргнул и погас.
— Стряслось что-нибудь? — встревоженно спросил Илья Ефимович.
— Не в гости же я заявился по такой погоде, — сухо ответил Савин.
Он коротко объяснил, что сейчас на собрании бедноты шел разговор о хлебопоставках. Было решено обложить пять крепких хозяйств твердым заданием — Еремина, Шмелева, Глухова, Зеленцова.
— А пятый кто же?
— Пятый — вы, Илья Ефимович! Новенький, так сказать...
— Я? Твердозаданец? — Ковшов, тяжело опираясь на перила крыльца, сошел вниз. — Кто же это поусердствовал?
— Советская власть поусердствовала — сами должны понимать. Ей сейчас без мужицкого хлеба не прожить. И городу он нужен, и Красной Армии... Только вот взять его не так-то просто... — усмехнулся Савин. — А на собрании, между прочим, о вас многие говорили. Особенно Ветлугина. Все ваши посевы вспоминала и урожай подсчитала. И братья Рукавишниковы ее поддержали.
— Вот откуда ветер подул! Беднота голову поднимает, руку заносит. Ну, погоди ж, Грунька!.. А Горелов чего молчал?
— Выступал и председатель. Говорил, что вы культурный крестьянин, аккуратный налогоплательщик. Но это мало кого тронуло. Все сошлись на том, что вы имеете излишки хлеба и можете сдать государству сотню пудов.
— Сто пудов! — ужаснулся Илья Ефимович. — Да они что, голота, к кулакам меня приписали? А то, что я землю по-культурному, по-научному обихаживаю, почетные грамоты да дипломы от Советской власти имею — это все насмарку пошло, паршивому псу под хвост?
— Туго вы соображаете, Илья Ефимович, — сказал Савин. — Кончилось ваше золотое времечко. Дипломы да грамоты вас больше не вывезут.
— Как хотите, Федор Иванович, — Ковшов с силой рванул перила крыльца, — а моего хлеба им не видать! Лучше я амбар подпалю или в навоз зерно втопчу...
— А может быть, в яму закопаете, как вот Еремин в прошлом году? — перебил его Савин. — Глупо и вызывающе. Яму найдут, зерно конфискуют, а вас под суд... Ну что ж, если вам это улыбается, испробуйте.
— Так что же делать? — растерянно спросил Ковшов. — Подскажите!
— Жить надо по-другому... Умом пораскинуть.
Савин вполголоса изложил свой план. Извещение о сдаче хлеба Илья Ефимович получит через несколько дней. Так пусть он не теряет времени и завтра же вывезет все сто пудов на приемный пункт. При этом Ковшову не мешает сказать хорошие слова о том, что он осознает трудности с хлебозаготовками и от души желает помочь Советской власти.
— Так ведь хлеб-то как в прорву канет! — взмолился Илья Ефимович. — А я ж его по́том, кровью...
— Можете не говорить. Я-то знаю, как он вам достается, — перебил его Савин.
В переулке, хлюпая тяжелым выменем, показалась корова. За ней с хворостиной в руке плелась Таня.
Илья Ефимович заслонил Савина спиной и спросил девочку, где ее носило до сих пор.
— Пеструха от стада отбилась! — пожаловалась Таня. — Еле нашла в озимях. Совсем избаловалась корова.
— Все вы избаловались! — буркнул Илья Ефимович. — Загоняй скотину — и спать...
Таня прошла мимо. Илья Ефимович и директор школы завернули за угол дома.
— Надеюсь, вы меня поняли, — сказал Савин. — Потеряете сто пудов — выиграете больше. Вы не школьник, и повторять вам больше незачем. — Он спрятал голову под капюшон и скрылся в темноте.
Постояв немного у дома, Илья Ефимович прошел переулком к амбару. Это была добротная постройка на четырех высоких столбах, с дубовой резной дверью и двумя замками: один деревянный, с «секретом», другой — железный и тяжелый, как утюг.
За прочными стенами в высоких сусеках лежало сухое, провеянное зерно ржи и пшеницы. Хлеб, который дороже всяких денег, который дает власть и силу!
Попридержи его до весны, и на базаре за каждый пуд заплатят втридорога. Нужно тебе прибрать к рукам человека, сделать его преданным и услужливым — и хлеб поможет тебе!
А вот теперь Илью Ефимовича хотят лишить этой всемогущей силы. Но есть своя правда и в словах Савина.
Думай же, Ковшов, думай, взвесь все, пораскинь умом!
...Через три дня рано утром Илья Ефимович оглушительно забарабанил в окно к Аграфене Ветлугиной. Плохо закрепленная половинка стекла выпала из рамы и со звоном разбилась о мерзлую землю на завалинке.
— Груня... соседка... проснись! — звал Ковшов.
Аграфена всполошенно подняла от подушки голову.
— Ты, Илья, в себе? — в сердцах сказала она. — Стекла бить... Загулял, что ли?
Накинув на плечи полушубок, заспанная и сердитая, Аграфена подошла к окну.
Ковшов стоял по другую сторону окна у завалинки и, пригнувшись, заглядывал в избу. Был он без картуза, волосы взлохмачены, рубаха не подпоясана.
— Беда у меня! — хрипло сказал он. — Хлеб украли!..
— Хлеб?! — вскрикнула Аграфена.
Окно было маленькое, низкое, и она, чтобы лучше видеть Ковшова, тоже пригнулась.
— Вчистую замели... без зерна, бандюги, оставили! Иди вот, будь свидетелем! — Илья Ефимович выпрямился и, покачиваясь, пошел к своему амбару.
«Что это он? Хитрит, бес лукавый, или и впрямь беда?» — подумала Аграфена, отыскивая платок.
С печки спустилась Нюшка и принялась обувать свои новые башмаки.
— А тебя кто зовет? — недовольно спросила мать.
— Так хлеб же украли, я слышала! — удивилась Нюшка. — Как же не пойти...
Аграфена сказала, что это не ее забота искать хлеб да к тому же к девяти часам надо поспеть в школу.
Мать ушла, а Нюшка задумалась: пойти или не пойти? Свадьбы, похороны, скандалы при разделе хозяйства, пьяные драки по праздникам — это она уже видела в деревне не раз, а вот такое, что случилось сегодня с Вороном, ей еще наблюдать не доводилось. Нет, усидеть сейчас дома — это было выше ее сил. Выскочив из избы, она побежала к амбару Ковшовых. По дороге вспомнила про Степу — ему ведь тоже интересно посмотреть — и повернула к школьному интернату. Но она опоздала. Таня уже успела разбудить брата, и сейчас они шли навстречу Нюшке.
На улице подмораживало. Лужи покрылись голубоватым ледком, грязь на дороге затвердела, и колеса проехавшей мимо ребят телеги гремели по ней, как по мостовой. Отава на огуменниках была покрыта изморозью, словно ее слегка присыпали солью.
Нюшка, Степа и Таня подошли к амбару. Здесь уже толпился народ.
Илья Ефимович с мрачным видом ходил вокруг амбара, одну за другой курил цигарки из самосада и с нетерпением поглядывал в сторону сельсовета.
Пелагея, повалившись на приступок амбара, выла и причитала, как на похоронах. Обступившим ее бабам она жаловалась, что злые люди оставили Ковшовых на всю зиму без хлеба и что не миновать теперь ходить по миру и просить милостыню.
— Цыц! Нишкни! — прикрикнул на жену Илья Ефимович. — Без того тошно! — И, подозвав к себе нахохлившегося Фильку, он послал его за председателем сельсовета.
Пелагея смолкла, высморкнулась и словоохотливо принялась рассказывать о краже.
Вчера она с дочерьми трепала лен, все изрядно умаялись, рано легли спать и заснули как убитые. А утром, когда пошла на огород, чтобы набрать теленку капустных листьев, она увидела около амбара следы колес и рассыпанные зерна ржи. Испугалась, разбудила мужа. Бросились они в амбар, а сусеки пустые. Только в полу светятся круглые дырки, пробуравленные буравом. Через них все зерно из амбара и вытекло, да, видимо, прямо в мешки, которые ловкие люди подставили под дырки.
Бабы заохали, стали креститься, а Нюшка со Степой, заинтересованные столь необычным воровством, полезли было под амбар, чтобы посмотреть отверстия в полу, но Илья Ефимович погнал их прочь, сказав, что они могут замять следы. Вскоре подошли Горелов и двое понятых — Василий Хомутов и Прохор Уклейкин.
— Прошу, граждане, оследствуйте все, — попросил Ковшов, подавая Горелову тяжелые ключи от амбара. — Небывалое же воровство, редкое!.. Вот и Аграфену еще пригласите, пусть она от бедноты будет.
Горелов с понятыми осмотрели амбарную дверь, замки, пустые сусеки; потом, встав на четвереньки, все полезли под амбар.
Пелагея вновь повалилась на приступок и заголосила. Илья Ефимович больше ее не останавливал — обхватив голову руками, он сидел на бревне и прислушивался к разговору под амбаром. Но голоса звучали глухо, неясно.
Степа, Нюшка и Таня молча стояли около изгороди.
— Степа, а мне жалко дядю, — призналась сестра. — Он все утро как помешанный ходит...
— А что у него, и хлеба больше не осталось?
— Есть в ларе... Только на зиму все равно не хватит. Это ведь самое страшное, когда хлеб украдут или дом сгорит...
Степа не знал, что сказать. Подошел Филька.
— Что, колонист, радуешься, что нас обчистили? — строго спросил он.
— С какой это стати? — удивился Степа.
— А чего тогда примчался? И вот Нюшка еще! Спектакль вам здесь дармовой? Шли бы себе...
— А это уж наше дело! — Степа отвернулся от Фильки и увидел, что Горелов вылезает из-под амбара.
— Ах, расшиби их гром, как же ловко зерно-то выкрали! — разведя руками, заговорил Прохор Уклейкин. — Да и вор какой-то особенный пошел — смекалистый, головастый. Дверей не тронул, замков не посшибал.
— Да-а, работа чистая, — хмуро согласился Василий Хомутов. — Попользовался кто-то даровым хлебушком. Не пахал, не сеял, а урожай огреб.
Поднявшись, Илья Ефимович вопросительно посмотрел на председателя сельсовета.
— Я так думаю, дело ясное, — заговорил Горелов, как веником обмахивая портфелем мусор с пиджака. — Обидели Илью Ефимовича, ни за что наказали. Можно, пожалуй, и акт составлять... Ты как, Ветлугина?
— Ясное-то оно, ясное, — помялась Аграфена, — да вот как-то чудно́ все...
И, обернувшись к Ковшову, она спросила, сколько тот засыпал в амбар ржи.
— Да был хлебушек, — уклончиво ответил Илья Ефимович. — Все собирался излишки в заготовку сдать... Я же сознаю, хлеб нашей власти вот как нужен!
— Собирался, говоришь? — вполголоса переспросила Аграфена. — А про то не слыхал, что тебя твердым заданием обложили?
— Шутки шутишь, соседка! — Илья Ефимович отступил даже назад. — Я с Советской властью рука в руку иду, и нате — твердое задание!.. За что же обида такая?
— А ты сам кого обижал — поди, не спрашивал: каково-то им, — усмехнулась Аграфена.
— Вот ты к чему подъезжаешь! — побагровел Илья Ефимович. — Богатей Ковшов, мироед, хлеб от государства прячет, зерно в ямах гноит!
Он вдруг бросился в амбар, вынес оттуда заступ и швырнул его к ногам Аграфены:
— Копай вот! Зараз все ямы укажу... И под соломой зерно преет, и во дворе спрятано... А можешь меня и самого арестовать! Как же, уголовник, хлеб скрываю!
— Охолонись, Илья, зря горячку порешь, — остановил его Василий Хомутов. — А ты, Аграфена, не заезжай куда не следует. У человека хлеб выкрали, а ты на него напраслину возводишь.
Хомутова поддержали бабы и мужики. Они громко заговорили, что у Ковшовых несчастье, какое не доведись испытать никому, человека надо пожалеть, помочь всем миром, а не травить ему душу.
— Сердца у тебя нет! — визгливо закричала на Аграфену сноха Прохора Уклейкина. — Илья Ефимович тебя по-соседски в любой час готов выручить, а ты ему вон чем платишь!
Аграфена растерянно подалась назад и посмотрела на старика Прохора. Но тот сделал вид, что ничего особенного не происходит, и, присев на корточки, продолжал заглядывать под амбар.
— Цыц вы, галки перед дождем! — прикрикнул на расшумевшихся женщин Василий Хомутов и обратился к Горелову: — Чего там тянуть, председатель! Пиши акт о краже. Свидетелей полно, все подпишемся...
Горелов пригласил Илью Ефимовича и понятых пройти с ним в сельсовет.
Толпа у амбара поредела.
Аграфена, приотстав, нерешительно брела вслед за понятыми. Ее догнала Нюшка и потянула за рукав:
— Мамка, и ты подпишешься?
Аграфена оглянулась по сторонам и шепотом спросила дочь:
— Ты ночью ничего не слышала? На улицу не выходила?
— Нет, спала я... — призналась Нюшка.
— Вот и я как убитая, — сказала мать. — Ох, дочка, не знаю, что и делать! Темно что-то с этим хлебом.
К ней подошел Прохор Уклейкин:
— Пойдем, Аграфена... Надо же по совести жить! Такая беда у человека...
Вздохнув, Аграфена поплелась за Прохором.
ПРОПАЛ МИТЯ
В этот день Митя Горелов не пришел в школу. Первой это заметила Таня — она сидела с Митей за одной партой.
Вначале Митино исчезновение не очень обеспокоило Таню. Она знала, что у Мити хлопот полон рот: надо нарубить дров, приготовить обед, накормить Серегу, убрать избу, — и мальчик нередко опаздывал на первый урок.
Но прошел второй час занятий, третий, начался последний урок, а Мити все не было.
Получив от Георгия Ильича, преподавателя математики, отметку в журнале «пос», что значило «посредственно», и едва досидев до конца урока, сердитая и перепачканная мелом, Таня побежала к Гореловым.
На калитке висел замок. Девочка потрогала холодный железный пробой и не знала, что подумать.
Старуха соседка сказала Тане, что председатель еще утром уехал в город.
— И Серега с Митей с ним? — спросила Таня.
— Зачем же ребят баловать? Тихон Кузьмич этого не любит! — Старуха пожевала сухими, бесцветными губами и объяснила, что Серегу с Митькой отец вчера вечером отправил к тетке Матрене Осьмухиной. А вот где Митька сейчас, она не знает. Наверно, убежал на Торбеево озеро за карасями, он давно туда собирался.
Таня разобиделась еще больше. Хорош дружок! Ничего не сказав, ушел на рыбалку и даже тетрадь с задачками не вернул. Получай тут из-за него от учителей «посы» да строгие замечания!
На другой день Митина половина парты опять оказалась пустой.
«Карась несчастный!» — в сердцах подумала Таня и решила обо всем рассказать Степе — пусть тот приберет его к рукам. Но тут девочка вдруг представила себе, как рыболов Митька сваливается с берега в воду, долго барахтается в ледяной воде, кричит истошным голосом, и никто у пустынного Торбеева озера его не слышит.
Таня так живо нарисовала себе эту картину, что даже вздрогнула и не заметила, как вскрикнула: «Ой!»
Все обернулись и понимающе хихикнули: опять Мишка Охапкин колется булавкой.
Федор Иванович Савин, объяснявший ученикам правописание гласных, подошел к рослому, веснушчатому Охапкину, что сидел позади Тани, и потребовал сдать «колющее» оружие.
Охапкин, недоумевая, заморгал глазами, но, зная непреклонный нрав директора, покорно выложил на парту новенькую английскую булавку.
— Федор Иваныч, он не кололся, — покраснев, призналась Таня. — Это я просто так ойкнула.
— Очень хорошо! — Савин склонил голову набок. — Один «просто так» носит в школу булавки, другая «просто так» вскрикивает на уроках. У вас, я вижу, есть что-то общее. А раз так, пожалуйте вместе в коридор.
Охапкин и Таня вышли из класса.
— Дура! — мрачно сказал Охапкин. — Я тебя еще не уколол, только на третьем уроке собирался. А ты — ой!
На глазах у Тани выступили слезы:
— Закричишь тут... А если человек тонет?
— Какой человек? Где? — всполошился Охапкин.
Но Таня только отмахнулась от него и в перемену рассказала о Митином исчезновении Степе и его приятелям.
— Вот хитрюга! Один ушел! — с досадой вскрикнул Шурка. — Вместе же собирались... А карасей, ребята, в Торбеевом озере — как в праздник мяса во щах! Жирные, ленивые, только выгребай из тины.
— А озеро холодное. В нем, говорят, и дна не достанешь, — вслух раздумывала Таня. — И людей кругом — никого...
— Ну и что? — спросил Степа.
— А вот и то. Митя уже второй день пропадает.
— Ништо ему, Дубленому! — беззаботно махнул рукой Шурка. — Митяй — он такой: в огне не горит и в воде не тонет.
— Доведись тебе два дня на озере пропадать, — с обидой сказала Таня, — что б тогда отец с матерью подумали? — Она вдруг шмыгнула носом и отвернулась, — Караси вы... жирные да ленивые! Вот вы кто!
Мальчишки неловко потоптались на месте. Таня — это не Нюшка, которая за словом в карман не полезет, и если уж она обругала их жирными да ленивыми карасями, значит, действительно с Митей неладно.
— В самом деле, как бы Митька не того... — заметил Афоня.
— А ты не каркай! — нахмурился Степа. — Вот соберемся и двинем на Торбеево озеро... Мешок бы только не забыть— Митьке рыбу нести поможем. — И он искоса поглядел на сестренку: она, оказывается, не такая уж тихоня.
После уроков мальчишки условились, что соберутся у школьного общежития, и разошлись по домам обедать.
По дороге домой Таня еще раз заглянула к Гореловым — может быть, Митя уже вернулся с озера или дядя Тихон приехал из города.
Но на калитке по-прежнему висел замок. По шатким ступенькам Таня осторожно спустилась с крыльца и не успела сделать и пяти шагов, как кто-то хлестнул ее прутиком по ногам. Хлестнул не очень больно, но это было так неожиданно, что девочка по привычке вскрикнула: «Ой!» — и отпрянула в сторону. Потом, переведя дыхание, она посмотрела вниз, и глаза ее округлились.
Из маленького окошечка в нижнем венце избы (такие окошечки обычно делают в крестьянских избах, чтобы в подполье проникал свежий воздух) высовывался жидкий, обхлестанный прутик от старого веника. Прутик двигался то вправо, то влево, словно кого-то нащупывал. Тане даже показалось, что в окошечке мелькнула чья-то рука.
— Кто это балуется? — сдавленным голосом спросила девочка.
— Таня, это я... я, Митька! — послышался из окошечка шепот. — Я тебя сразу узнал, по чулкам. Нагнись ко мне.
Забыв все страхи, Таня опустилась на колени и припала к окошечку — величиной оно было с половину носового платка.
— А мы думали, ты на озеро ушел... И еще всякое думали... Ох, и перепугались! А ты вон где... Зачем же в подполье залез? Для смеха, что ли? Да? Эх ты, чудик! — с обидой сказала девочка.
— Нет, я не сам... Меня здесь закрыли! — Голос у Мити был хриплый, прерывистый. — Выбраться не могу... Два дня воды не пил.
После этих слов что только не полезло Тане в голову! Наверно, ночью к Гореловым забрались воры. А может, на дядю Тишу напали какие-нибудь злые люди, отняли сельсоветовскую печать, самого председателя ранили или убили, а Митьку избили и бросили в подполье.
— Ой, Митя, — с дрожью в голосе спросила Таня, — покалечили тебя? Руки, ноги целы?.. А голова?
— Целы, целы!.. Я потом все расскажу... Выпусти скорее! — взмолился Митя. — Пить хочется. Там во дворе лазейка... Иди через огород.
Таню уже не надо было просить. Она стремглав кинулась в огород; обстрекавшись об крапиву, пролезла через пролом в задней стенке двора и очутилась в сенях. Привыкая к темноте, она постояла здесь немного; но нет, в сенях все было в порядке. Девочка осторожно открыла дверь в избу. Здесь тоже все как будто обычно. Недометенный пол, неубранная посуда, на лавке раскиданы штаны и рубахи. Совсем ничего страшного. Вот только на столе пустая бутылка с зеленой наклейкой, куски хлеба и сморщенные соленые огурцы в чашке — наверно, дядя Тихон пил с кем-нибудь водку.
Да еще вот сундук!
Старый, огромный, с добрую кровать, обитый крест-накрест ржавыми полосами железа, он обычно стоял около порога, а сейчас почему-то переместился к печке и закрыл собой лаз в подполье.
Тане стало не по себе. Она наклонилась к полу и постучала в половицу кулаком:
— Митя, я уже здесь!
— Выпускай скорее! — глухо донесся из подполья Митин голос. — Чего там на лаз навалили?
— Сундук! Кованый... На котором ты спишь...
— Ого! — озадаченно произнес Митя. — Сдвинь его в сторону немного. Сможешь?
Таня бросилась к сундуку. Еще бы не суметь, если Митька два дня сидит в подполье без воды и пищи! Да пусть хоть она надорвется и у нее лопнут все жилы — все равно она сделает что нужно.
Девочка уперлась руками в верхний край сундука и, поднатужившись, принялась толкать его от себя, как толкают железную бочку. Сундук даже не шелохнулся.
Тогда Таня схватилась за угол сундука и начала тянуть его на себя. И опять то же самое.
— Ну как, подается? — донесся из подполья голос Мити.
— Сейчас, сейчас! Немножко сдвинулся! — бодро крикнула Таня, мечась по избе.
Взгляд ее упал на пеньковую веревку, что свешивалась с печки. Девочка привязала веревку к сундучной скобе и, перекинув другой конец через плечо, всем телом подалась вперед. Она делала рывки, пыхтела, вставала на четвереньки. Лицо ее покраснело от натуги, в ушах зазвенело, но сундук по-прежнему стоял на месте.
Он был как тот серый камень-валун, что лежал у дороги при въезде в деревню, и мужики никак не могли сдвинуть его ни в одиночку, ни скопом.
— Еще сдвинулся? — допрашивал из подполья Митя.
Таня молчала.
«У-у, сундучище проклятый!» Глотая слезы, она в бессильной злобе пнула сундук ногой.
Нет, как ни тужься, а придется говорить правду.
— Митя! Он какой-то заколдованный. Чуток сдвинулся, и больше никак. Ты подожди, я сейчас с улицы кого-нибудь позову...
— Что ты! — испуганно и одновременно угрожающе закричал Митя. — Не смей никого звать! Нельзя, чтоб меня в подполье видели. Слышишь, Танька! — И он сердито забарабанил в половицу.
Девочка вновь припала к полу — она была удивлена и обижена.
— Ладно же, Митька, ладно! Какую-то тайну завел... Скрываешь от меня...
— Сказал, что потом все узнаешь! — плачущим голосом взмолился Митька. — Ну, выпусти ты меня, потолкай еще сундук... Эх ты,слабосильная!
Таня еще раз призналась, что она ничего не может сделать с этим стопудовым сундуком и надо звать кого-то на помощь. Может, мальчишек покликать?
— Так они разболтают, а мне потом голову снимут, — вновь возразил Митя.
— А я не всех позову, только Степу, Шурку, Афоню. Ты же им доверяешь?
В подполье долго молчали.
— Ладно, — наконец согласился Митя, и Тане послышалось, что он даже тяжело вздохнул. — Зови Степу И больше никому ни слова!
Таня выбралась на улицу и тут же помчалась к школе.
Мальчишки уже давно поджидали ее около общежития.
Не обращая внимания на их недовольный вид, Таня сказала, что Митя вернулся с озера целый и невредимый, но рыбы принес самую малость — даже кошку не накормишь.
— Так и есть, Митяй блаженный! — махнул рукой Шурка. — Надо было ему со мной идти.
Дождавшись, когда Шурка с Афоней ушли по домам, Таня потащила брата к дому Гореловых. По дороге она пыталась рассказать ему про таинственный плен Мити, про тяжелый сундук над лазом в подполье, но делала это так сбивчиво и путано, что Степа толком ничего не понял и только прибавил шагу.
Через двор они пробрались в избу Гореловых, но и вдвоем не смогли сдвинуть злополучный сундук с места.
Тогда Степа сказал, что надо применить законы физики, и принес со двора еловую слегу и березовый гладкий кругляш.
Слегой, как рычагом первого рода, Степа с Таней приподняли край сундука, подсунули под него кругляш и откатили сундук на старое место, к порогу.
Таня бросилась к лазу, ухватилась за железное кольцо и рывком подняла половицу.
Дневной свет хлынул в лаз.
Митя неловко выбрался из подполья.
Лицо его посерело, осунулось, губы запеклись, на волосы налипла паутина.
Пошатываясь, мальчик подошел к ведру, зачерпнул полный ковш воды и, обхватив его обеими руками, поднес к губам.
Пил он долго, большими глотками, обливая подбородок и грудь. И Таня видела, как под рубашкой ходуном ходили тонкие Митины ключицы. У девочки перехватило горло.
— За что тебя так? Кто? — шепотом спросила она. Митя молчал.
Он присел к столу, диковатыми глазами оглядел избу, будто видел ее впервые. Заметив бутылку из-под водки, чуть приметно поморщился и поспешно сунул ее под лавку. Потом, схватив тряпку, принялся вытирать стол.
Степа сидел на лавке и внимательно следил за приятелем.
— Молчишь? — тихо заговорил он. — И нам с Таней не доверяешь?
Вздрогнув, Митя выронил тряпку и долго стоял, опустив голову, словно что-то обдумывал. Потом глухо выдавил:
— Вам доверяю... Кому ж мне еще!
Он вдруг достал из печурки коробку спичек и шагнул к лазу в подполье.
— Лезьте за мной! Покажу...
Степа и Таня спустились в темное подполье. Здесь пахло сухой землей, плесенью, квашеной капустой. Под ногами перекатывалась и сочно хрустела картошка.
Пригнувшись, ребята пробрались в дальний угол.
Митя чиркнул спичкой. Тусклый коготок огня царапнул темноту и осветил пузатые мешки, сложенные один на другой. Они занимали добрую треть подполья.
— Узнаете? — Митя зажег вторую спичку.
— Ой, это же мешки дяди Ильи! — вскрикнула Таня. — Вот и белые латки на них... я сама пришивала... Степа, как они попали сюда?
— Всё понятно, — сказал Степа и первый вылез из подполья.
ОТЕЦ
За день до того, как у Ковшовых хитроумно выкрали из амбара хлеб, к Горелову пришел Илья Ефимович. Дело было в сумерки.
Горелов сдвинул к краю лавки ребячью одежду и книги и пригласил Ковшова присаживаться.
Илья Ефимович, поведя бровями, показал на Митьку, который сидел за столом и готовил уроки.
— Сынок! — негромко позвал отец. — Иди-ка погуляй с Серегой. Да под окном не торчите, как ветлы...
Митя недовольно оторвал голову от задачника. Вот и всегда так: только он сядет заниматься, как в избу обязательно кто-нибудь ввалится и отец гонит его на улицу. И все же Митя не спешил уходить. Он неторопливо собрал тетради и учебники, аккуратно сложил их на полку, долго затыкал бумажной пробкой пузырек с лиловыми чернилами. А глазом косил на Ковшова — левый карман его суконного пиджака оттопырен, и из-за отворота высовывается какой-то сверток.
«Опять пить будут», — догадался Митя и сделал вид, что вспомнил про кошку. Подошел к печке, налил из крынки в щербатое блюдце молока и принялся ласково звать:
— Кис, кис, кис...
Кошки нигде не было. Митя заглянул под кровать, за сундук, потом принялся шарить кочергой под печкой, словно шуровал в топке паровоза.
Илья Ефимович с усмешкой поглядел на председателя.
Горелов придвинул к себе счеты, зачем-то щелкнул костяшкой, похожей на спелый глянцевый желудь, и, тяжело задышав, обернулся к сыну:
— Ну! Кому сказано?
Митя уже по опыту знал, что после этого «ну» в избе лучше не задерживаться.
В сердцах хлопнув дверью, он вышел в сени.
— С норовом растет? — Илья Ефимович понимающе кивнул на дверь. — У меня свое такое лихо было... Слова в доме не скажи. Насилу отвязался.
— Глуп еще, сосунок! Да я при случае и припечатать могу! — Горелов сделал выразительный жест рукой.
— Это в аккурат... Отцовская рука — владыка! — согласился Ковшов и, приоткрыв дверь, заглянул в сени.
— Подслушивать не будут. Ребятня дрессированная, — успокоил Горелов и задернул на окнах занавески — Выкладывай, зачем пришел-то?
Илья Ефимович поставил на стол бутылку водки, разложил закуску и сказал, что перед настоящим мужским разговором не мешает пропустить по маленькой.
Горелов не отказался. Вскоре в груди у него потеплело, язык развязался, а гость все еще помалкивал да лениво жевал корочку хлеба.
Наконец, когда бутылка опустела, Илья Ефимович постучал ногтем по ее пузырчатому мутному стеклу и хитровато поглядел на председателя:
— А ты ведь у меня в долгу, Кузьмич...
Горелов виновато развел руками:
— Это что баранью ляжку к празднику брал? Так уплачу, за мной не пропадет. Дай вот с деньжатами собраться.
— Ляжка что — копейки, — ухмыльнулся Илья Ефимович. — А я счет на рубли веду, а то и повыше!
И он заговорил о том, что многим Горелов обязан ему, Ковшову. Не он ли горячо ратовал и убеждал мужиков, что бывшего красного партизана Горелова непременно надо избрать председателем сельского Совета? Не он ли поддерживал нового председателя на всех сельских сходах, когда крикуны и горлопаны старались повернуть сход в свою сторону? Не Ковшов ли в любую трудную минуту выручал Тихона Кузьмича по хозяйству, отпускал семена до нового урожая и давал сена, картошки? И никогда Илья Ефимович не требовал за это ни фальшивых справок, ни ложных удостоверений, как, к слову сказать, не раз делали Никита Еремин или Шмелев.
Да они и не нужны Ковшову, эти справки. Он всегда жил честно, справедливо, как настоящий крестьянин-труженик, никому не желал зла и не виноват, что его собираются так несправедливо обидеть.
— Это ты о чем?.. О твердом задании, что ли? — спросил Горелов.
— Дошло наконец-то! — облегченно вздохнул Илья Ефимович и в упор посмотрел в лицо председателю. — Пять мешков хлеба хочешь заработать?
— Откуда бы? — удивился Горелов. — Не воровать ли пойти?
— Зачем воровать... Другие на дом доставят. И подвезут, и внесут. Сам и рук не натрудишь.
И, наклонившись, Илья Ефимович вполголоса объяснил, что он хотел бы сегодня ночью перевезти хлеб из своего амбара к Горелову. Лучше всего мешки упрятать во дворе или на чердаке. Никому и в голову не придет, что председатель сельского Совета в собственном доме скрывает чужой хлеб.
Горелов поднялся. Одутловатое лицо его стало мучнисто-белым.
— На уголовщину толкаешь? — прохрипел он. — Хочешь, чтоб за решетку меня посадили?
— Сядь! — дернул его за руку Илья Ефимович. — Ты уж и так замаранный. Рыльце давно в пушку. А умненько все обделаем— комар носа не подточит. — Он помолчал, потом похлопал председателя по плечу и сказал, что за страхи набавляет ему еще один мешок зерна.
Горелов, обхватив голову руками, уставился на пустую бутылку.
— Молчишь?.. Мало?.. Получай тогда семь мешков! — рассердился Илья Ефимович.
Горелов продолжал молчать.
Илья Ефимович щелчком сбил со стола рыжего таракана, гулко вздохнул, поднялся и направился к двери.
— Ну что ж, на нет и суда нет... Цену даю божескую. Не берешь семь мешков — больше потеряешь. Ты ведь у меня вот где сидишь! — Он раскрыл ладонь, посмотрел на нее, потом медленно собрал пальцы в кулак. — Зажму — и не пикнешь! — и взялся за скобку двери.
— Стой! — взревел Горелов, ударив ладонью по столу. — Заарканил ты меня, чертов Ворон! Над головой кружишь! Грудь терзаешь! Ладно, плати десять!..
Илья Ефимович вернулся к столу.
— Вот это другой разговор... хозяйский.
Они сошлись на восьми мешках.
Заметив, что Ковшов ушел, Митя с братишкой вернулись в избу.
Семья села ужинать. Ели остывшие постные щи. Еще вчера вместе с Митькой их приготовила тетка Матрена, старшая сестра Горелова, жившая на другом конце деревни.
Щи подкисли. Горелов сделал глоток, другой и отложил ложку:
— Ты чего ж, кухарь, таким зельем нас кормишь?
— Так печку сегодня не топили... Остыли щи, — пояснил Митя.
— А я все ем, я солощий! — похвалился семилетний Серега, с облепленным болячками подбородком. — Мы сегодня рябину жевали, потом кочерыжки... Ох и скусно!
Потом он с обожанием посмотрел на старшего брата и принялся его расхваливать. Обычно Митьку не дозовешься гулять, а сегодня он сам играл с ним в чижики, гонял по замерзшей луже скользкую ледышку и даже забрался за ягодами на самую высокую рябину.
— Он у нас умник, когда не с левой ноги встанет! — похвалил отец и, поглядев на ребят, вздохнул: — Запаршивели вы у меня, пообносились... Ну, погодите вот... Я вас, как на убой, откормлю. Обновки справлю.
— А с чего, папаня? — спросил Серега. — Неразменный рубль нашел?
— Нашел, — усмехнулся отец и сказал ребятам, чтобы они шли ночевать к тетке Матрене: завтра ему надо ехать в город.
После ужина ребята отправились на другой конец деревни, к Осьмухиным.
Тетка Матрена устроила их спать на печи.
Митя не любил теткин дом. Здесь всегда было шумно, бестолково, Матрена часто ссорилась с мужем, визгливо кричала на своих ребятишек, а главное, очень плохо отзывалась о Митином отце. Вот и сейчас, стоя посреди избы и расчесывая густые, длинные волосы, Матрена на все лады корила богоданного братца.
По ее словам выходило, что хотя Тихон и председатель сельсовета, но живет он неправильно. Было бы куда лучше, если бы он поменьше пил с мужиками водку, а тянул бы с них натурой: с кого — хлебом, с кого — салом и вкладывал бы все это в дом. Да и в кооперативе, из уважения к Тихону и его родне, могли бы отпускать товары подешевле, в первую очередь и с хорошим привесом.
— Что вы, тетенька! — свесив голову с печки, удивленно сказал Митя. — Как можно? Папаня же председатель...
— Вот я и говорю, — подхватила Матрена. — Начальство, шишка! Пришел куда, ногой топнул, бровью повел— вот и прибыль в доме. И вы бы не ходили такими оборванцами...
— А мы... мы и так ничего живем, — заявил Митя, хотя и не очень уверенно. — Всего у нас вдоволь.
— Уж ты лучше помолчи! — с досадой отмахнулась тетка и опять принялась бранить Тихона.
И что это за манеру взял братец — чуть ли не каждую неделю присылает к ней Серегу и Митьку! Они ведь не ангелы, не духи святые, их надо поить, кормить, а Тихон не дает ни хлеба, ни молока, ни картошки. А у нее и своя орава немалая. Одной картошки съедают за день два чугуна. И молоко на исходе, корову вот-вот запускать придется.
Перебравшись через спящего Серегу, Митя молча слез с печки.
— Куда это на ночь глядя? — удивилась тетка.
— Домой... Картохи вам принесу, хлеба.
— Чу, скаженный! Я же так... к слову пришлось. Залазь к Сереге, дрыхни.
— Нет, я принесу, — продолжал стоять на своем Митя и вышел на улицу.
Морозило. Высоко над головой холодно поблескивали звезды. На ветру тревожно поскрипывали старые, дуплистые липы.
Митя шел, зябко втянув голову в плечи, и думал о том, что вот принесет он сейчас тетке продукты, а завтра заберет с собой Серегу, уйдет домой и попросит отца никогда больше не посылать их к Матрене.
Попросит! Митя горько усмехнулся. Мало ли о чем просил он отца! Просил, чтобы тот не загуливал, не пил вина, не тратил зря деньги, когда они появлялись в доме.
Да что там — просил! Умолял отца со слезами, хватал за руки, заглядывал в глаза.
А какой из этого прок?
Отец по-прежнему жил, как удалой парень перед рекрутчиной, — где-то по ночам гулял, днем отсыпался, забывал про ребятишек, про свои дела.
Митя постоянно был настороже. Вечером он не мог заснуть до тех пор, пока отец не возвращался домой. Достаточно было ему услышать, что председатель загулял, как он бросал все дела и очертя голову мчался разыскивать отца.
Он находил его в любой компании и с трудом уводил домой; если же пьяный отец сваливался по дороге в канаву или под забор, сын терпеливо сидел около него, поил холодной водой и прикрывал от солнца лицо зелеными лопухами.
Сколько раз Митя подбирал отцовский портфель и прятал сельсоветовскую печать!
А как он искусно научился врать и обманывать людей, чтобы хоть немного уберечь доброе имя отца!
Когда Горелов отлеживался после пьянки на печи, сын обычно никого не пускал в избу и всем с важным видом сообщал, что председателя срочно вызвали в райисполком. В деревне до сих пор не могут без смеха вспомнить, как Митя прятал отца от районного уполномоченного. Заметив уполномоченного на улице, Митя примчался домой и принялся забрасывать лежащего на печи отца шубами, одеялами, пустыми мешками.
«Из района приехали. Лежи, не дыши! — приказал он. — От тебя же водкой разит на сто верст».
Тихон покорно затаился.
Уполномоченному Митя сказал, что отца по важному делу вызвали в область, а он, Митя, должен немедля идти на сенокос.
Все закончилось бы вполне благополучно, если бы отец не разразился громовым «апчхи» и не высунул из-под шуб и одеял свое опухшее лицо.
Но вот отец протрезвлялся, и сын почти не узнавал его. Тихон ходил грустный, виноватый, во всем соглашался с ребятами, с жадностью набрасывался на работу. Ехал в поле, на луг, принимался чинить калитку огорода, запасал дров на зиму, как с большим, советовался с Митькой насчет ремонта избы.
Мите было жалко отца и радостно, что тот может быть таким добрым и работящим.
«Папаня, а пусть всегда так будет... как вот сейчас... — говорил он, просительно и робко заглядывая отцу в глаза. — Как при мамке».
«Попробуем», — вздыхал Тихон, и глаза его туманились.
И у Мити точно вырастали крылья. Он готов был сделать для отца что угодно: стирал ему рубаху, портянки, чистил сапоги, взбивал мыльную пену для бритья.
По вечерам, сидя на бревнах около Желвакова дома, Митя без конца мог рассказывать мальчишкам о прошлых боевых заслугах красного партизана Тихона Горелова. Тихон был и лихим конником, и бесстрашным разведчиком, и умелым пулеметчиком. Ведь это он, пробравшись в лагерь белых, два дня отсиживался в речке, дышал через камышовую трубочку и все же потом захватил «языка» и приволок его к партизанам.
«Ты это из какой книжки рассказываешь? — смеялся кто-нибудь из мальчишек. — Читал я где-то такую байку».
«И совсем не из книжки! — вскакивал Митя, готовый броситься на обидчика. — С папаней было. В точности! У него и справка есть, с печатями...»
«Справка с печатью — это теперь для вас плевое дело. Любую сварганите», — вскользь бросал кто-нибудь из мальчишек, намекая на то, что отец якшается с кулаками и выдает им ложные справки.
Митя бледнел, сжимался, и у него пропадала всякая охота рассказывать о партизанской славе отца.
«Враки все это, враки! — убеждал он самого себя. — По злости на него наговаривают».
Проходила неделя, другая, и отец вновь срывался, начинал пить.
А хуже всего было то, что по вечерам, ближе к ночи, к нему приходили какие-то незнакомые люди, и отец почему-то отправлял Митьку с Серегой ночевать к тетке Матрене.
Зачем они являлись к отцу, о чем разговаривали, Митя не знал.
Как-то раз, искушаемый любопытством, он спрятался за печкой, чтобы подслушать, но был сразу же замечен отцом и получил от него такой силы «леща», что у мальчика, кажется, до сих пор горит щека.
У Осьмухиных обычно Митя почти не спал, в голову ему лезли всякие страшные мысли, а наутро он возвращался домой серый, с запавшими глазами, словно после тяжкой болезни.
«Маешься, председателенок! — жалели его соседки. — Поди, вся душа изболелась...»
Митя не знал, где у него душа и как она может изболеться, но ему и в самом деле казалось, что в груди у него что-то ноет, сжимается, кровоточит...
ПЛЕННИК ПОНЕВОЛЕ
Войдя в дом, Митя, к большой радости, никого не обнаружил. Не было ни чужих людей, ни пьяного отца.
Мальчик отыскал в сенях старое ведро, взял коробок спичек и полез в подполье. Пригнувшись, он пробрался в дальний угол, где была свалена картошка, и быстро наполнил ею ведро.
Потом полез обратно. Не успел он высунуть из подполья голову, как услышал шаги в сенях и приглушенный говор. Дверь открылась, и в избу вошел отец, а с ним еще кто-то, двое или трое. Митя, не вылезая из подполья, прикрыл лаз половицами и замер.
— Куда складывать будем? — донесся до него сверху отрывистый голос, и Митя сразу узнал голос Ильи Ковшова.
— Тащите в подполье, — ответил отец. — Места много, да и надежнее будет.
В ту же минуту в щель между половицами пробился желтый свет — должно, в избе засветили фонарь или лампу.
— Сгружай, ребята, неси мешки! — скомандовал Ковшов, и Митя почувствовал, что дядя Илья остановился около лаза в подполье и принялся нашаривать железное кольцо в половице.
Половица приподнялась, на Митину голову и плечи посыпался мусор, и мальчик едва успел отползти в угол.
«Мешки... подполье... Зачем все это?» — пронеслось в голове, и вдруг его пробил холодный пот. Он понял: отец прячет чужой хлеб! Так вот зачем его с Серегой отсылали из дому!
Лаз между тем открылся, и Ковшов с фонарем в руках спустился в подполье.
Митя, как мышонок, притаился за бревенчатой клеткой, что служила фундаментом для печки. Лицо его было залеплено густой паутиной, в горле першило от пыли.
В лаз спустили первый мешок с зерном, за ним второй, третий... Ковшов, выбрав свободный от картошки угол, принялся волоком оттаскивать туда мешки. Они были толстые, пузатые, как откормленные боровы.
Митя не сводил с мешков глаз.
Что же ему делать?
Вылезти сейчас из подполья, броситься к отцу, умолить его прогнать Ковшова и всех мужиков, которые таскают мешки с зерном, — и пусть они увозят свой хлеб куда хотят. Ведь папаня же председатель, ему нельзя заниматься такими делами. И согласился на это он лишь потому, что его опоили вином. А протрезвится — и сам не рад будет.
Но нет, отец, кажется, не так уж пьян. Он поторапливает мужиков, сам подает мешки в подполье.
Тогда, может, выскочить из подполья, распахнуть окно и закричать на всю улицу? Пусть знают, что делается у них в доме! Сбежится народ, хлеб заберут, а Ковшова и его отца арестуют.
Ворону — тому так и надо! А вот какими глазами он, Митя, будет смотреть на людей? И как они с Серегой будут жить без отца? Митю охватила противная дрожь, и он еще глубже забился в угол.
Вот если бы выскользнуть из подполья незаметно, как невидимка, убежать к тетке Матрене, залечь на печь — будто он ничего не видел, ничего не слышал. Но как убежишь, когда тут и Ковшов, и отец, и мужики?..
— Шабаш! — отдуваясь, сказал Ковшов, заталкивая в угол последний мешок. — Попомни, Кузьмич: шестьдесят четыре мешка под тобой. Твои восемь... Любые... — Он вылез из подполья и закрыл лаз.
— Не прикажете ли расписочку выдать? — насмешливо спросил Горелов.
— Обойдемся и так. Мы с тобой и без расписки крепко спутаны... — Ковшов долго отряхивался от паутины, потом спросил: — А ребятня твоя не пронюхает?
— Голову оторву! — мрачно заявил Горелов.
— Голова головой, а лучше бы забить подполье-то. Или вот сундук на лаз передвинуть.
— Можно и сундук, — согласился отец.
Митя бросился к лазу и толкнул руками половицы. Но было уже поздно. Над его головой со скрипом и визгом протащили по полу сундук, и он прижал половицы.
Мите показалось, что он сейчас вот-вот закричит и позовет отца. Но мальчик сдержал себя — он слишком много узнал за этот час. Митя прикусил палец и ткнулся в угол, на сухую землю...
Забыв про налипшую на волосы паутину, Степа молча сидел на сундуке. Теперь, после рассказа Мити, ему все стало окончательно ясно.
Так вот куда попал хлеб дяди Ильи!
А как Ворон искусно разыграл спектакль с похищением зерна из амбара, как ловко разжалобил он мужиков и опутал понятых, как по-правдашнему плакала и причитала тетка Пелагея! И даже Филька в то утро показался Степе таким несчастным и пришибленным.
«Сколько же лиц у людей, — думал Степа, — и как понять, какое лицо настоящее и какое поддельное, какое слово верное, а какое лживое и черное?»
И он вспомнил бабушкину сказку про оборотня. Был тот оборотень злой и коварный, но всегда являлся к людям с ласковой улыбкой и добрым словом.
А как трудно жить, когда тебя обманывают! И кто скажет Степе, сколько еще оборотней встретится на его пути и как научиться разгадывать их сразу, не мучаясь и не ошибаясь?
Молча сидели на лавке и Митя с Таней.
— Что ж теперь будет-то? — спросила девочка, когда молчание стало тягостным и почти невыносимым.
— Оборотень он! — как бы про себя проговорил Степа.
— Кто оборотень? — не поняла Таня.
— Дядя наш... Ворон... И надо его на свежую воду вывести! — Степа поднялся. — Пойдемте вот к Рукавишниковым... Или к уполномоченному.
И тут случилось неожиданное.
Митя, сидевший на лавке с понуро опущенной головой, вдруг подбежал к Степе и бестолково замахал перед его лицом руками:
— Ага! Жаловаться пойдешь? Доносить? А про меня с Серегой ты подумал? Папаню заберут — как мы жить будем? Я тебе тайну доверил, а ты вон что... Еще друг называешься!..
Опешив, Степа чуть отступил назад. Возбужденный Митя кинулся к двери, набросил на петлю крючок, обеими руками ухватился за скобу и выкрикнул:
— Не пущу! Не смей! Никуда не пущу!..
Степа долго смотрел на приятеля.
— Пойми ты... Тут такое дело... Нельзя нам скрывать...
Митя вдруг обмяк, выпустил дверную скобу и, скривив лицо, опустился на порог:
— Меня же папаня со свету сживет...
— Никто тебя не тронет, — поморщившись, успокоил его Степа.
— Ой, Степа, ты не шути! — шепнула Таня. — Дядя Тиша, он такой... особенно во хмелю... Может и покалечить!
Она с тревогой и жалостью посмотрела на Митю: мальчик сидел на пороге, и слезы текли у него по щекам. И это Дубленый, Митька Горелов, который не плакал даже тогда, когда насквозь пропорол ржавым гвоздем ступню!
— Давай помолчим пока, — попросила Таня. — Там видно будет.
У Степы сжалось сердце. Как все сложно и запутанно! Выведешь на свежую воду Ворона — невольно разоблачишь Горелова. А ведь у него ребята — Митька и Серега. Матери у них нет, заберут отца, и они совсем осиротеют. А уж он-то, Степа, знает, как горька сиротская жизнь!
— Ладно... помолчим, — с трудом выдавил Степа, отводя глаза в сторону.
Он вздохнул, прошелся по избе, постоял перед тяжелым сундуком и потом попросил Таню и Митю помочь ему передвинуть его в сторону.
— Зачем это? — спросила сестренка.
Степа объяснил: они поставят сундук на лаз, Митя сейчас же уйдет к тетке Матрене, и отец будет в полной уверенности, что сын ничего не знает о хлебе в подполье. А там что ни случись — никто Митьку ни в чем не заподозрит.
Втроем ребята довольно легко передвинули сундук, убрали веревки, слегу и кругляш, поставили на стол пустую бутылку и покинули дом Гореловых.
ТИХАЯ ЧИТАЛЬНЯ
В общежитии Степа сел за уроки.
Но позаниматься ему не пришлось. Прибежала Нюшка и напомнила, что сегодня они дежурят в читальне.
Школа в эти осенние дни стала самым притягательным местом в деревне. В сумерки сюда сходились мужики. Как куры на нашесте, они рассаживались на школьном крыльце, мешая проходить учителям и ребятишкам, или толклись в скверике перед школой, до блеска засиживая скамейки и замусоривая окурками клумбы.
С легкой руки Матвея Петровича, в пустующем классе нижнего этажа школы открылось что-то вроде избы-читальни.
Учитель раздобыл несколько газет и журналов, выпросил у скупой библиотекарши с десяток потрепанных книг и наладил в читальне дежурство школьников.
Нюшка и Степа пришли на дежурство, когда уже совсем стемнело.
Они зажгли лампу-«молнию» с широким жестяным абажуром, покрашенным белой краской, проветрили помещение, разложили на столах газеты и журналы. Вернее, все это проделала Нюшка, потому что Степа, как только вошел в читальню, опустился на лавку и сидел, ко всему безучастный и равнодушный.
— Ты что как в воду маканый? — с удивлением спросила Нюшка. — Дежурить неохота?
Степа молчал.
— И разговаривать не хочешь! — обиделась девочка. — Тогда уходи — я одна подежурю.
Степа поднял голову. А может быть, все же поделиться с Нюшкой? Рассказать ей про хлеб в подполье, про Митьку Горелова — она же ему друг и, наверно, подскажет, как надо поступить.
Но рассказать Степа не успел: мужики, продрогнув на морозе, без всякого приглашения повалили в теплое помещение читальни.
Нюшка стала в дверях, стараясь пропускать мужиков по одному, и строго напоминала каждому, что в читальне нельзя ни курить, ни шуметь, ни выражаться бранными словами.
И мужики слушались строгую дежурную. Долго вытирали ноги о веник у порога, входили в читальню на цыпочках, чинно усаживались за столы и аккуратно брали книги и газеты.
Пробирались сюда и школьники. Им бы полагалось быть дома, готовить уроки на завтрашний день, но как не заглянуть в читальню, куда каждый вечер, как на сходку, набивается так много мужиков и всегда может случиться что-нибудь интересное!
Нюшка ухватила за шиворот Сему Уклейкина, пытавшегося было проскользнуть за спиной деда Прохора в читальню, и заявила, что вход ему воспрещается.
— Другим можно, а мне почему запрет? — заартачился Уклейкин.
— Ты дикарь... картинки из книжек вырываешь, — напомнила Нюшка.
— Пускай посидит, — вмешался Степа. — Может, ума прибавится и совести.
Вначале все шло чинно и по порядку.
Игнат Хорьков, которому досталась прошитая по корешку суровой ниткой книга «Путешествие на Луну» Жюля Верна, обратился даже к Нюшке за разъяснением: зачем это в книгах обманывают людей, когда всем старым и малым известно, что на Луне никто и никогда не был?
Девочка долго втолковывала Игнату, что «Путешествие на Луну» — это пока что фантазия, по-другому сказать — выдумка, но может статься, что через сколько-то лет люди и впрямь полетят на другие планеты.
— А зачем нам на Луну зариться, — допытывался Игнат, — ежели и на грешной Земле полная чехарда и неустройство?
На этот хитрый вопрос Нюшка не нашлась что ответить и сказала, что про устройство Земли они будут проходить только во второй половине года.
Хорьков крякнул, почесал затылок и полез в карман за кисетом.
— Дядя Игнат, выведу! — прикрикнула Нюшка, желая показать, что она все-таки дежурная. — И не чадите лучше своим самосадным зельем!
Но было уже поздно. То в одном углу, то в другом задымились цигарки, и мужики завели шумные разговоры.
Говорили о колхозах, что вырастали по округе, как грибы, о зиме, которая обещает быть холодной и снежной, о том, что в соседнем селе у твердозаданцев нашли пять ям с прелым, засолодевшим хлебом.
— Вот что, ироды, делают! — вздохнул старик Курочкин. — Ни себе, ни людям...
— А наши-то богатеи тоже, видать, хлеб попрятали, — сказал Игнат Хорьков. — Кузьме Шмелеву полтораста пудов сдать полагалось, а заглянули в амбар — и полсотни не наскребли. И куда только хлебушек подевался?
— Поди, тоже где-нибудь в яме преет.
— Наши крепенькие — не простаки. С дешевого козыря не пойдут...
«Что же все-таки делать, что делать? — думал Степа, прислушиваясь к разговорам. — Смолчать про дядин хлеб, пожалеть Горелова и Митьку или все же пойти к Матвею Петровичу и дяде Егору и сообщить им обо всем?»
Но Рукавишниковы, как Степа знал от Шурки, уехали в Заречье «агитировать за колхоз» и вернутся только ночью. Тогда, может быть, разыскать уполномоченного по хлебозаготовкам Крючкина?.. Но как быть с Митькой? Он же доверил ему свою тайну, и Степа почти поклялся приятелю, что будет молчать. А разве можно предать товарища, нарушить честное слово?
Степа не находил себе места. То перебирал журналы, то задумчиво смотрел в окно, то поглядывал на дверь.
— Ты дежурный или кто? — зашипела на него Нюшка. — Курят все, шумят... Это тихая читальня или сходка? Скажи им построже...
— Да дежурю я, дежурю! — отмахнулся Степа и без особого воодушевления крикнул: — Тише, граждане! И не курить!
В читальню вошла Таня. Степа бросился к ней навстречу, схватил за руку и, утащив в коридор, спросил, где сейчас находится Митька Горелов.
— К тетке Матрене пошел, — ответила сестра. — Зачем он тебе?
Степа зашептал о том, что им никак нельзя молчать о спрятанном хлебе. Надо срочно разыскать Митьку и упросить, чтобы тот разрешил раскрыть тайну и вывести всех на чистую воду.
— Но ты же Митьке слово дал! — испуганно напомнила Таня. — Обещал молчать пока...
— Это так, — согласился Степа и, вздохнув, торопливо и сбивчиво принялся объяснять, что Митькин отец связался с кулаками, скрывает чужой хлеб, обманывает Советскую власть. Какой же он председатель сельского Совета после этого? Так что же важнее и дороже — честное слово перед другом или подлинная правда, так нужная людям?
— И худо же с Митькой будет, если с отцом что случится, — жалобно сказала Таня.
— Знаю, — нахмурился Степа. — И Митька пусть знает... Мы его в беде не оставим, помогать будем. Так ему и скажи... Ну, иди, иди, поговори с ним. В читальню его позови...
— Ладно, схожу, — вздохнув, согласилась Таня, направляясь к двери.
В школьный коридор с улицы вошел Василий Хомутов. Заметив Степу, он спросил его, куда запропастился Афонька. Степа кивнул на читальню и открыл перед Хомутовым дверь.
Мужики встретили Василия шумными восклицаниями:
— Эге! Барсук из норы вылез!
— Замшел дома-то, Василь Силыч? На огонек потянуло?
— Может, в шашечки сразимся? — А вот газетка свеженькая!
— Ни к чему мне эти утехи! — Хомутов хмуро окинул взглядом читальню, выискал глазами Афоню, который играл в шашки с Семкой Уклейкиным, и кивнул сыну на дверь. — Порядка не знаешь? Нарочного за тобой посылать!
Сделав последний ход, Афоня с недовольным видом вылез из-за стола.
За последнее время его отец стал совсем невозможным. Не ходил ни на одно собрание, вечно держал калитку на запоре и всем уполномоченным и агитаторам, желавшим его навестить, отвечал через дверь чужим голосом, что мол, Василия Хомутова нет дома.
«Чего там штаны просиживать! — объяснял он свое поведение Афоне и жене. — Там, как река в половодье, — крутит, тянет. Не заметишь, как и на стремнину вынесет. Лучше уж на бережку отсидеться, в затишье».
Афоне отец строго-настрого наказал: нигде после уроков не задерживаться и сразу же являться домой. '
Сейчас, взяв сына за руку, Василий молча повел его к двери.
— Да присядь ты, Барсук Иваныч! — остановил его Игнат Хорьков. — Я для тебя новость припас.
Василий насторожился. Хорьков чуть приметно подморгнул мужикам и протянул Василию кисет с табаком:
— Новые артельщики тебя к себе прочат...
— Чего? — опешил Василий.
— Егор Рукавишников так и говорит: «Душа из меня вон, если я Барсука не сагитирую в колхоз войти!» Как же иначе! Лошадь у тебя добрая, сбруя справная, семян в достатке, сам чертоломишь за троих. Да ты для них клад бесценный!
Василию стало жарко. Он сорвал с головы лохматую баранью шапку и с размаху вытер ею взмокшее лицо.
— Что, брат, припекло? — ухмыльнулся Хорьков. — Истинную правду говорю... Вот хоть любого артельщика спроси.
Отмахнувшись, Василий толкнул дверь и нос к носу столкнулся с Аграфеной. В читальне засмеялись: вот и артельщица легка на помине!
Подойдя к Нюшке, Аграфена вполголоса спросила, скоро ли дочь вернется домой. Ей надо ехать в Заречье на собрание, а дома никого нет.
— Ступай, если надо, — шепнул Степа Нюшке. — Я и один подежурю.
Мужики обступили Аграфену.
Посмеиваясь и лукаво переглядываясь, они принялись расспрашивать ее, как поживает молодой колхоз, правда ли, что члены артели скоро сведут вместе всех коров, поросят и кур, а сами поселятся в одном доме, будут есть из общей чашки и даже спать на общей кровати. По слухам, в артели уже шьют стометровое одеяло и набивают соломой такой же матрац.
— А вы уши-то настежь держите— еще не то услышите! — нахмурилась Аграфена. — Шептунов на ваш век хватит...
— Ладно! Одеяло там, матрац — это дело десятое, — заговорил Василий, остановившись у двери. — Ты, Аграфена, лучше о деле скажи... Тринадцать хозяйств в вашей артели, а лошадей четыре штуки, да и те от ветра качаются. Вот и скажи: на чем весной пахать будете? Сами, что ли, в плуг впряжетесь? Егор, скажем, коренником, ты — в пристяжных...
— Не в чужой стороне живем, — помолчав, ответила Аграфена. — Раз власти к хорошему нас зовут, без подмоги не оставят...
— Вот как! — раздраженно перебил ее Василий. — Собрались Тюха, Матюха да Колупай с братом и опять думаете на дармовщинку прожить! Власть даст, власть поможет! А нам, выходит, опять налоги плати да заготовку вози... Нет, вы попробуйте своей кишкой все вытянуть!
— Гляди, и вытянем. За тем и в артель сошлись! — почти весело сказала Аграфена. — Начнем с малого, а там и другие пристанут. Вот хотя бы ты, Силыч... Как ни отсиживайся в своей берлоге, а от артели тебе никуда не деться. Дорожка у нас одна — прямая, накатанная.
— А я что говорил? — Хорьков толкнул Василия в бок. — Считай, что ты уже в артели...
Хомутов ошалело оглядел мужиков.
Потом в сердцах сплюнул на пол, по-мальчишески сложил заскорузлые, с черными ногтями пальцы в кукиш и сунул его под нос Аграфене:
— А дулю не хочешь?
— Да ты в уме ли, Силыч! — Аграфена подалась назад. — С кулачищами лезет!
— И плеваться нечего! — прикрикнула на Василия обиженная за мать Нюшка. — Читальня все-таки!..
— Нет, мне с вашей братией не по пути! И не цепляйте меня! Не пойду! — Хомутов вновь шагнул к двери.
— А с кем тебе по пути? — насмешливо спросила Аграфена. — С Никитой Ереминым? Или, может, с Ильей Ковшовым?
— Что Ковшов, что? — загорячился Василий. — Чего ты его поносишь на каждом шагу? Я ему ни сват, ни брат, а скажу по совести: зря вы его к кулакам пишете. Илья Ефимович человек умственный, с головой, землю понимает. Дай ему простор, не стреножь его, так он вас всех хлебом завалит!
— Завалил хлебом — прямо по горло! — усмехнулась Аграфена. — Что было в амбаре, и то словно сквозь землю провалилось.
Хомутов сокрушенно развел руками:
— Вчера человека облыжно оговорила и ныне тоже. Да случись с тобой такая беда, как с Ковшовым...
— Добрая ты душа, Василий Силыч! — вздохнув и понизив голос, сказала Аграфена. — Что покажут на ладошке, тому и веришь. А вот чует мое сердце: не было и не было никакого воровства. Все это для отвода глаз придумано.
— Опять булгу да смуту заводишь! — вскипел Василий. — И что ты за человек, Грунька! Как змеюка какая. Ползаешь, шипишь, жалишь всех...
Нюшка с испугом посмотрела на мать, потом на Степу.
— За что же так, Василий? — побледнев, спросила Аграфена, словно от удара подаваясь назад.
Степа не помнил, как он очутился перед Афониным отцом.
— Вы... вы не обзывайте ее! — запальчиво выкрикнул он. — Тетя Груня правильно говорит... И не было никакого воровства! Обман все это!
И вдруг Степа осекся — от порога на него в упор смотрел директор школы.
В читальне стало тихо.
Попрятав в рукава цигарки, мужики расступились, пропуская директора вперед.
Федор Иванович потянул носом чадный, прокуренный воздух, поморщился и открыл форточку.
— Да, атмосфера! Надо же иметь уважение, граждане! Все-таки это школа, здесь дети учатся, — упрекнул он мужиков, взглянув на ручные часы. Потом обратился к Степе: — А ты, Ковшов, поднимись ко мне в кабинет.
Мужики один за другим стали выходить из читальни. Бросив на Степу недоумевающий и встревоженный взгляд, последними удалились Аграфена и Нюшка.
ОБЫСК
Федор Иванович молча провел Степу на второй этаж, в свой кабинет.
Голова у Степы шла кругом, уши пылали. Мальчик ждал, что Савин заставит его стоять посреди кабинета, а сам сядет за стол, спиной к теплой кафельной печке, и долго будет донимать его вопросами.
Нет, не лежит у Степы душа к директору! Уж если кому рассказать, так лучше Матвею Петровичу или дяде Егору.
Но Федор Иванович не спешил с вопросами. Плотно прикрыв дверь, он опустился на старенький клеенчатый диван и усадил рядом с собой Степу.
Потом заговорил. Заговорил мягко, спокойно. Он понимает Степу. Мальчику на самом деле нелегко жилось в доме Ковшовых, он ожесточился против дяди и сейчас из мстительных побуждений готов обвинить его в чем угодно. Все это так. Но месть плохой советчик, она мутит голову, ослепляет человека, толкает его на клевету.
— Я не клеветник! — вспыхнул Степа. — Я сказал правду.
— Если так, значит, ты знаешь, где находится дядин хлеб? — осторожно спросил Федор Иванович.
— Знаю, — глухо выдавил Степа.
— Где именно, где? — торопил директор. — Говори же до конца.
И Степа наконец решился. Будь что будет! Дядя, конечно, никогда не простит ему этого поступка, и Мите Горелову, наверно, станет очень плохо жить на свете, но Степа не может больше молчать.
— Федор Иванович! — возбужденно зашептал он, хватая его за рукав. — Пойдемте к Горелову!.. Вот сейчас же, немедля... Хлеб у него! В подполье... Шестьдесят четыре мешка...
— Ясно! — негромко произнес директор.
Отстранив руку Степы, он поднялся с дивана и подошел к темному окну. Да, ему все было ясно! Илья Ковшов оказался все-таки упрямым бараном. Не послушал его совета, пожалел хлеб и теперь может серьезно за это поплатиться. А ведь Ковшов нужен ему, очень нужен...
Директор вдруг обнаружил, что пальцы его нервно барабанят по холодному стеклу.
Спокойнее, Савин, спокойнее!
Он обернулся к Степе и спросил, кто еще знает о спрятанном в подполье у председателя хлебе.
— Больше никто... один я, — чуть запинаясь, ответил Степа.
— А сыновья Горелова?
— Они... они ничего не видали. Отец их к тетке услал.
Савин бросил на Степу подозрительный взгляд:
— А ты что же, следил все эти дни? И за дядей, и за Гореловым?
Отведя глаза в сторону, Степа молчал.
— Так, так, следил, значит... — Савин вновь забарабанил по стеклу и тут же с досадой сунул руки в карман. — А ты молодец, молодой Ковшов! Глаз у тебя зоркий. Хвалю! Настоящий комсомолец!
— Федор Иванович, так пойдемте к Горелову! — вскочил Степа. — Я все покажу...
— Нет, нет, — остановил его Савин. — Сегодня ничего предпринимать не будем. Уполномоченного по хлрбозаготовкам нет дома. Он вернется к утру, и я обо всем сообщу ему. Пригласят свидетелей. У Горелова сделают обыск, хлеб заберут. Виновные, конечно, будут привлечены к ответственности... — Директор с таинственным видом наклонился к Степе: — Но теперь все зависит от тебя. Будешь молчать — разоблачим саботажников, разболтаешь — хлеб могут перепрятать.
— Что вы, Федор Иванович! — испугался Степа. — Я никому...
Директор отослал его спать.
Но сон не шел... Степа представил себе завтрашний день — мужики вытаскивают из подполья мешки с зерном и грузят их на подводу. Тетка Пелагея хватается за мешки и вопит на всю деревню. Дядя Илья ненавидящими глазами смотрит на Степу. У Горелова отбирают сельсоветовскую печать и увозят его в район. Серега с плачем прощается с отцом, а Митя, столкнувшись со Степой, отворачивается и проходит мимо.
Забылся Степа только под утро. Разбудила его Таня. Она крадучись пробралась в общежитие и, растолкав брата, испуганно шепнула:
— Вставай! К дяде Тише комиссия пошла! Тебя зовут.
Через минуту Степа с сестренкой уже шагали к дому Гореловых.
— Я знаю... Ты уже все рассказал, — вымолвила Таня.
Степа хмуро кивнул головой и спросил сестру, состоялся ли у нее вчера разговор с Митькой.
— Говорили мы. Он ни в какую... боится! — Таня тяжело вздохнула. — Засудят теперь дядю Тишу.
— Может, и не засудят. Он же не кулак какой... в партизанах был, с белыми дрался... — И, чувствуя, что говорит не то, Степа с болью выкрикнул: — Ну нельзя нам молчать! Тут такое заварилось... Нельзя! Понимаешь?
— Понимаю, — еле слышно произнесла сестренка.
Степа прибавил шагу и вскоре догнал комиссию. Были тут уполномоченный по хлебозаготовкам Крючкин, высокий, сутулый мужчина в поношенной, в желтых пятнах кожаной куртке, директор школы, Аграфена и Василий Хомутов.
Заметив запыхавшегося Степу, Савин кивнул ему головой и что-то шепнул Крючкину. Тот пристально оглядел мальчика и, вдруг замедлив шаг, взял его за плечи и крепко встряхнул:
— Ошибки не будет? Часом, не померещилось тебе?
— Что вы, товарищ Крючкин! — обиделся Степа. — Своими глазами видел.
— Ну, ну, — сумрачно сказал уполномоченный. — Веди тогда, показывай.
Комиссия подошла к дому Горелова. Крючкин постучал в калитку.
Долго не отвечали. Потом звякнула щеколда, и председатель с заспанным лицом, в нижней рубахе и обгорелых валенках приоткрыл калитку.
— Разбудили, Тихон Кузьмич? — чуть помедлив, заговорил Крючкин. — Побеспокоить вас придется.
— В чем дело? — недовольно спросил Горелов.
— Кое-какие сигналы на вас поступили... Будто вы чужой хлеб прячете...
— Я? Чужой хлеб?! — Председатель отступил назад. — Это какая же тварь меня дегтем мажет?
— Вы уж извините, а придется проверить, — сухо сказал Крючкин, жестом приглашая членов комиссии войти в сени.
Горелов вдруг широко распахнул калитку, с грохотом открыл крышку ларя, толкнул ногой дверь в чуланчик, зачем-то опрокинул пустую кадку.
— Шарьте! Обыскивайте! — дрожа от бешенства, бормотал он.
— Дядя Тихон, вы лучше подполье покажите, — негромко заметил Степа. — Зачем вы лаз сундуком загородили?
— Подполье? — переспросил Горелов таким тоном, словно он не понимал, зачем сюда попал какой-то мальчишка. Затем он устало махнул рукой и открыл дверь в избу: — Можете хоть весь дом перевернуть...
Вместе с Крючкиным Степа вошел в избу, огляделся и обмер: кованый сундук стоял на своем обычном месте, у порога.
Степа даже протер глаза. Нет, ему не привиделось: лаз в подполье действительно ничем не был заставлен.
Оправившись от удара, Степа наконец решил, что это еще ничего не значит. Просто Горелов, чтобы не вызывать подозрений, передвинул сундук на старое место, а лаз, наверно, заколотил гвоздями.
Степа подскочил к лазу, схватился за кольцо и с силой рванул половицу. К его удивлению, она приподнялась без особых усилий. Значит, гвоздей не было.
Боясь взглянуть на Крючкина, Степа спустился в подполье и на четвереньках пополз в угол. Он полз, останавливался и, вытянув вперед руки, старался нащупать в темноте тугие, округлые туши мешков, наполненных зерном. Но руки касались то сухой земли, то бревенчатых подпорков, покрытых мягкой паутиной, то шероховатой картошки. И Степа, холодея и тяжело дыша, вновь и вновь кружил по подполью.
В лаз с фонарем в руках спустился Крючкин и подполз к Степе.
— Где мешки? — спросил он, освещая фонарем то один угол, то другой.
— Здесь были... в этом углу. Своими глазами видел... — Степе показалось, что он прокричал эти слова во весь голос, но Крючкин услышал только неясное, сдавленное бормотание.
Кряхтя и чертыхаясь, он полез вон из подполья.
— Нашел хлеб? Много? — нетерпеливо спросила Аграфена.
Крючкин сконфуженно развел руками и, отряхнув пыль с колен, подошел к Горелову. Тот, опустив голову, сидел на сундуке.
— Прощения просим, Тихон Кузьмич! Ошибка получилась. Ничего, кроме картошки, в подполье нет. Мальчишка всех попутал... — И он раздраженно обернулся к Савину: — Что же вы, товарищ директор, так школяров распустили? На председателя сельсовета клевету возводят...
— Ничего не понимаю, — в свою очередь, развел руками Савин. — Вчера Степа Ковшов чуть не переполошил всех мужиков в читальне... — Он обернулся к Аграфене: — Вы, кажется, тоже выражали свое подозрение?
— Было дело, — ответил за нее Василий Хомутов.
Аграфена покачала головой, потом, взяв фонарь, подошла к лазу и спустилась в подполье.
— Вот чертова баба, ничему не верит! — сказал Хомутов.
Горелов вдруг поднялся с сундука и решительно подтолкнул Хомутова и директора школы к лазу в подполье:
— Все забирайтесь! Проверяйте, ищите!
Хомутов и Федор Иванович неохотно полезли в подполье. Через несколько минут, тяжело отдуваясь, они выбрались обратно. Впереди себя Хомутов вытолкнул Степу и, схватив его за шиворот, потащил на середину избы:
— А ну, нечистая сила, держи ответ!
Степа, поеживаясь от цепкой руки Василия, огляделся кругом.
Горелов смотрел на него злыми, колючими глазами. Савин, вздыхая и покачивая головой, вполголоса что-то объяснял Крючкину. Аграфена стояла к Степе спиной и, хлопая платком, выбивала из него пыль. В дверь заглядывали школьники: Шурка, Нюшка, Афоня... У Тани по щекам текли слезы.
— Что же ты молчишь, бесов сын? — прикрикнул на Степу Хомутов. — Привиделись тебе мешки или как?
В дверях показался Матвей Петрович.
Степа вспыхнул и попытался освободиться из рук Хомутова, но тот продолжал крепко держать мальчика за шиворот.
— Отпустите, Василий Силыч, — негромко сказал учитель. — Не годится так.
— Я ему отпущу!.. — погрозил Хомутов.
И не успел он еще что-то сказать, как раздался отчаянный мальчишеский крик:
— А все равно был здесь хлеб! Был!
Не помня себя от стыда и унижения, Степа, как затравленный зверек, вырвался из рук Хомутова, растолкал в дверях школьников и выбежал на улицу.
ГДЕ ОН?
До самого обеда Шурка и Афоня дежурили около общежития и поджидали Степу — должен ведь он когда-нибудь вернуться!
Вот дядя Петя уже подал сигнал на обед, интернатцы налегке, без пиджаков и шапок, пробежали в столовую, а Степы все еще не было.
Шурка с Афоней подсчитали: пошел уже четвертый час после того, как их приятель убежал из дома Горелова. Где он мог так долго пропадать?
Конечно, после такой истории, как обыск у председателя сельсовета, Степе нелегко показаться людям на глаза, но не может же он столько времени бродить по лесу! Все-таки холодно и есть захочется.
Шурка посмотрел в сторону леса.
— Слышь, Афоня? — с тревогой сказал он. — А ты заметил, куда он побежал? Прямо в сторону Замызганок!
— Ну и что?
— Вот и «что»... Может, Степка на станцию подался. Возьмет да и уедет обратно в колонию.
— От такого дела хоть куда сбежишь, — вздохнул Афоня — Батя говорит, что председатель может Степку к суду привлечь. За наговор, за клевету...
— Так он же несовершеннолетний еще! Какой тут суд!
— Это так, — согласился Афоня. — А вот в школе ему не учиться... Пожалуй, исключат!
— Да ты что, зла ему желаешь? — загорячился Шурка, наседая на приятеля. — Из школы выгнать?! А куда Степка пойдет? Где жить будет, кормиться?
— Дурной! — обиделся Афоня. — Мне, думаешь, Степку не жалко? Еще вот как! Только он бешеный какой-то... Болтает почем зря, мутит всех. Нынче председателя очернил, завтра директора школы оговорит, потом — батьку твоего...
— Про батьку он худого не скажет, — в замешательстве возразил Шурка и принялся носком сапога долбить вмерзшую в землю ледышку.
Как бы он хотел защитить сейчас Степу, доказать Афоне, что их друг ни в чем не повинен! Но как защитишь, если все оборачивается против колониста! Кто только не убедился сегодня утром, как Степа запутался и опозорил себя, — и директор школы, и уполномоченный по хлебозаготовкам, и дядя Матвей... И даже Нюшкина мать не смогла ничего сказать, чтобы поддержать парня.
А отец? Шурка слышал утром, как тот сказал дяде Матвею: «Горячая голова у парня, а думать еще не научился».
— Чего ж теперь делать будем? — Шурка тоскливо посмотрел на Афоню. — Может, в лес пойти, поискать...
— А может, Степе и впрямь лучше уехать, — задумчиво сказал Афоня. — Не пропадет он в городе. А здесь затаскают его, замытарят... — Он посмотрел на тускло проступающее сквозь облака солнце и заторопился домой — и так ему достанется от отца.
Побрел к своему дому и Шурка.
...Матвей Петрович сидел за столом и проверял ученические тетради. В другое время Шурка присел бы с книжкой на другом конце стола и, скосив глаза, не преминул бы понаблюдать, какие отметки дядя ставит за конспекты по обществоведению, чтобы потом сообщить об этом своим дружкам.
Но сегодня было не до того.
Сбросив пиджак и шапку, Шурка сообщил Матвею Петровичу, что Степа до сих пор еще не вернулся в общежитие.
Учитель отодвинул в сторону тетради и спросил Шурку, почему же он в таком случае раздевается, а не идет разыскивать товарища.
— А может, Степа в город уехал, — неуверенно сказал Шурка. — Чего ему здесь позориться...
— Ты хочешь сказать, что он сбежал? — помолчав, спросил Матвей Петрович.
По правде говоря, он и сам был сбит с толку всем случившимся. С одной стороны, страстный выкрик Степы: «А все равно был здесь хлеб! Был!», а с другой — его неожиданное бегство из избы Горелова, осуждающие разговоры мужиков, директора школы, Крючкина — все это было странно и загадочно.
Сегодня все утро учитель с нетерпением ждал, что Степа вот-вот явится к нему и обо всем чистосердечно расскажет. Но мальчик как в воду канул.
— Так вот ты какого мнения о нем! — задумчиво продолжал Матвей Петрович. — А может, подождем на нем крест ставить. — Он поднялся, убрал тетради. — Ты говоришь, что Степа побежал к Замызганкам... А почему бы его не поискать?
— Пойдемте! — обрадовался Шурка, хватаясь за пиджак. — Я сейчас ребят соберу.
Не успели они выйти за дверь, как в сенях послышался говор и в избу ввалились Нюшка, Таня, Митя и позади — Аграфена.
Девочки подтолкнули Митю к Матвею Петровичу.
— Ну, говори же... будь человеком, — шепнула Мите Нюшка.
Митя стянул с головы красноармейский шлем, взлохматив белесые волосы, и настороженно оглянулся.
— Только одному вам... — обратился он к учителю. — По секрету.
— А нам не доверяешь? — упрекнула его Нюшка. — А еще друг-приятель!
— Митя, так мы почти всё знаем. И про Степу, и про тебя, — сказала Аграфена. — Таня рассказала... Чего же скрывать-то?
— Все равно не могу всем говорить, — упрямо твердил Митя, теребя руками подкладку шлема.
— Пойдем тогда, поговорим одни. — Матвей Петрович кивнул мальчику и вышел за дверь.
Шурка было кинулся за ним следом, но дядя вернул его обратно в избу. Здесь Шурка набросился на Нюшку и Таню. И что они за девчонки! Знают что-то важное и молчат, тогда как со Степой, может, случилось что-нибудь страшное... Значит, нет в их компании ни настоящей дружбы, ни полного доверия.
— В самом деле, что же вы Шурку обходите? — вступилась за него Аграфена. — Свой же человек, болтать не будет,
И девочка коротко рассказала Шурке о дяде Илье, о Горелове, о Митькином плене. Когда сегодня утром Таня узнала, что мешки с хлебом из подполья Горелова исчезли, она была поражена не меньше Степы. Страшась за брата, девочка побежала к Ветлугиным и сообщила все, что знала о хлебе.
— Вот так Степан!.. — раздумчиво произнесла Аграфена. — Смельчак, большому не уступит. Надо нам выручать парня.
...Нюшка, не меньше матери гордясь за Степу, побежала за Митей Гореловым и вскоре привела его в избу к Ветлугиным.
Перепуганный всем случившимся, Митя упрямо твердил, что он ничего о хлебе не знает, ничего не видел и не слышал.
— Трус, заячья душа! — обозвала его Таня. — Кто тебя из подполья вызволил? Не Степка ли?.. А ты правду сказать боишься! — И девочка горько расплакалась.
— А может, ты сам отца предупредил! — вырвалось у Нюшки. — А тот Ворона... Вот они хлеб-то и перепрятали!
— Я... предупредил?! — Митя весь задрожал и покрылся потом. — Выходит, я заодно с ними... Да за кого вы меня... Вот пойдемте к Матвею Петровичу, все скажу! — выкрикнул он.
...Вскоре учитель и Митя вернулись с улицы.
Матвей Петрович был хмур и озабочен. Оглядев ребят, он сказал, чтобы они Митю ни в чем плохом не подозревали, а главное, хранили самую строжайшую тайну обо всем, что знают.
— Почему, Матвей Петрович? — опросила Нюшка. — Кулаков же надо на чистую воду выводить?
— И хлеб искать надо... везде перешарить! — возбужденно заявил Шурка.
— Надо, ребята, надо, — согласился учитель. — Только они тоже не простачки: кто прятал, на виду не положил, следов не оставил. Перехитрили, как видно, нас. И наши подозрения никого ни в чем пока не убедят. Придется и нам быть хитрее. Ну, да об этом после... А сейчас пошли искать Степу.
В ЛЕСУ
Выскочив из гореловской избы, Степа кинулся в проулок, пересек огуменник и мимо глянцевито-черных, обугленных столбов (это все, что осталось от недавно сгоревшего овина Игната Хорькова) побежал к Замызганкам.
Вот и заросли лозняка. Теперь уже Степа не в поле, не на виду у людей... Перебегая от одного куста к другому, он может добраться хоть до самой Субботинской рощи.
Присев за куст, мальчик перевел дыхание и посмотрел в сторону деревни — его никто не преследовал.
Чего же он так перепугался?
Степа поморщился и потрогал шею. Кажется, он до сих пор чувствует железные пальцы Василия Хомутова, который, как клещами, ухватил его за шиворот. Какой же это был позор! А как смотрели на него мужики, Крючкин, Матвей Петрович, ребята... И что только не говорят сейчас о нем в избе Горелова! О, Степка Ковшов, клеветник, путаник, начитался всяких побасок о злых и хитрых кулаках и, потеряв стыд и совесть, мутит деревню.
Степа зябко поежился. Нет, от таких слов сбежишь и подальше Замызганок!
А все-таки где же хлеб? Не померещились же ему, в самом деле, мешки с зерном в подполье у Горелова? Ведь он видел их своими глазами, трогал, пересчитывал. Да и не он один — с ним были Митька, Таня. Значит, хлеб успели перепрятать!
Но кто же предупредил дядю Илью и Горелова? Может, он, Степа, проговорился кому-нибудь в общежитии? Нет, он молчал, как и обещал Федору Ивановичу.
Может, тетя Груня своими подозрениями подняла на ноги дядю Илью?
Степа ничего не мог понять. Что бы там ни было, но оборотни сделали свое дело — хлеб исчез.
Теперь вот кусай себя за локти и попробуй убедить кого-нибудь, что мешки с зерном ему не померещились.
Подняв воротник пальто и нахохлившись, Степа побрел лесом. Куда же податься сейчас? Вернуться в общежитие? Но там, верно, как на сходке у мужиков: ребята шумят, спорят, перемывают его косточки.
Пойти к Рукавишниковым или к Нюшке? Но как Степа докажет, что он не врун и не клеветник?
Нет, лучше пока побыть одному, походить по лесу.
Под ногами шуршали ворохи пестрой листвы, потрескивал валежник. Все кругом умирало, никло к земле — пожухли тронутые морозом последние зеленые листья подорожника, полегла на землю сухая трава. Лес стоял грустный, поредевший, уже не скрывая никаких неожиданностей, как это бывает летом, — лужайку с цветами, курень грибов, заросли земляничника.
Сиротливо дрожали голые сучья осин, покачивались на ветру тонкие ветви берез, бестолково кружили над Замызганками галки.
Ничего не замечая, охваченный своими невеселыми мыслями, Степа брел все дальше и дальше. Не заметил он и Фильку с Фомой-Еремой, которые чуть было не наскочили на него, но вовремя успели присесть за куст.
Мальчишки только что отвели на озимое поле лошадей и сейчас, подпоясанные уздечками, неторопливо возвращались домой.
— Смотри-ка, братец твой! — шепнул Фома-Ерема.
— Молчи... вижу! — дернул плечом Филька.
Степа прошел мимо ребят, остановился, нагреб сухих листьев, собрал немного валежнику и развел небольшой костерок.
Присев на корточки, вытянул к огню озябшие руки и, словно оцепенев, уставился на бледные языки пламени.
— Чего это он как в воду маканый? — вновь шепнул Фома-Ерема.
— Ему очухаться надо, — усмехнулся Филька. — Знаешь, что утром было? Он Горелова под обыск подвел... ну, и сел в лужу.
— Слыхал... — протянул Фома-Ерема и хитро скосил на Фильку глаза. — А чей хлеб у Горелова был спрятан? Случаем, не твоего бати?
— Что ты! Какой хлеб? — забормотал Филька. — Никакого хлеба не было! Это колонист все наплел... Ему дурная голова покоя не дает...
— Еще кому расскажи! — Фома-Ерема покровительственно потрепал Фильку по плечу. — Мой папаша не дурее твоего... тоже кое-что смекает. Зауздали вы председателя! Теперь только понукай — на рысях катать будет.
Он достал из кармана еще теплый пирог, завернутый в тряпицу, и, разломив его, протянул половину Фильке. Мальчишки занялись пирогом.
— А все же насолит он вам, — вновь заговорил Фома-Ерема, поглядывая на Степу. — Раз уж следить начал, обязательно вынюхает, куда вы мешки перепрятали.
— Да какие мешки? — взмолился Филька. — Обалдел ты...
— Ладно, жуй пирог, меньше врать будешь! — сердито перебил его Фома-Ерема. — Думаешь, о вас только забота. Подсидит колонист Горелова — это и нам не в прибыль. Итак нас к стенке жмут, а без председателя совсем труба. А вас Степка как пить дать выследит.
Филька с тревогой посмотрел на Фому-Ерему.
Почти такие же слова он слышал сегодня ночью, когда к ним в дом неожиданно нагрянул директор школы. Тот был раздражен и ругал отца, как провинившегося школьника.
Догадывается ли Ковшов, спрашивал директор, что родной племянник следит за каждым его шагом и уже знает про спрятанные у Горелова мешки с хлебом?
«Степка?! Колонист? Да я ему шкуру спущу... Да я его...» Отец бестолково заметался по избе, стал зачем-то будить жену, дочерей.
Но Федор Иванович, прикрикнув на отца, заставил его быстро одеться и увел за собой.
Вернулся отец только под утро. Он сказал, что хлеб перепрятан в надежное место, и завалился спать.
А Филька лежал в постели и никак не мог заснуть. Ему все чудилось, что Степка-колонист ходит вокруг его дома, заглядывает в окна, прислушивается у калитки.
«А ведь правда, вынюхает про надежное место. Он такой...» — подумал сейчас Филька, наблюдая за Степой.
Тот вдруг поднялся, затоптал сникший костер и оглянулся по сторонам.
Филька и Фома-Ерема, как по сговору, припали к земле.
Степа выломал палку, резким, с оттяжкой, ударом сбил ею несколько сухих дудок и побрел дальше.
— Чего он прогуливается тут? — поднимая голову, с досадой сказал Фома-Ерема. — Вздуть его надо по первое число, чтоб другим неповадно было!
— Что там — вздуть! Шкуру спустить мало! — мстительно подхватил Филька. — Шпион, ищейка!
Мальчишки понимающе поглядели друг на друга, поднялись и, прячась за кустами, двинулись следом за Степой.
Они шли и всячески себя распаляли. Вот подбежать бы сейчас к Степке сзади, сбить с ног и намять ему бока! Но этот чертов колонист тоже не из теста слеплен. Знает бокс, умеет крепко бить в челюсть и неплохо дает подножку. К тому же у него в руках палка.
Мальчишки на всякий случай решили вооружиться: Филька подобрал увесистую дубину, а Фома-Ерема вырезал дубовый дрючок с загогулиной. После этого они принялись торговаться, кто первый должен напасть на Степку. Филька сказал, что это должен сделать Фома-Ерема — он сильнее и кулак у него бьет, как пудовый молот.
Фома-Ерема ответил, что Степка куда больше насолил Ковшовым и пусть Филька покажет свою удаль.
Ни до чего не договорившись, мальчишки решили, что нападать в открытую глупо и опасно. Не лучше ли забежать вперед, засесть в кустах и ждать, когда Степка приблизится? А тогда в голову ему можно запустить и дубинку, и дубовый дрючок с загогулиной.
А еще лучше, если бы Степка подался влево и вышел к крутому обрыву над рекой. Разберись потом, почему колонист свалился с кручи и насажал себе синяков и шишек...
Пока Филька и Фома-Ерема строили всякие планы, Степа мало-помалу забирал вправо и вскоре вышел на опушку леса. От нее тянулся извилистый овраг, заросший кустарником.
Степа постоял на краю оврага, поглядел на низкое, свинцовое небо — от него веяло холодом, и казалось, что вот-вот посыплется снег. Потом он порылся в карманах пиджака, наскреб хлебных крошек и, кинув их в рот, размашисто зашагал вдоль оврага.
«Проголодался, — подумал Филька. — Ну ничего! Мы тебя сейчас накормим... С лихвой!» И он поторопил Фому-Ерему.
КРАСАВЧИК
Вскоре овраг пересекла накатанная проселочная дорога. Она тянулась от самой Кольцовки и уходила далеко в поле, к озимям, на которых паслись лошади. Степа свернул на дорогу и пошел к деревне.
Навстречу ему вели коней — кто верхом, кто на поводу. Озимые посевы этой осенью хорошо разрослись, зеленели, как вешний луг, и после морозов каждый хозяин старался подкормить свою лошадь сочной зеленью.
Вот мимо Степы с топотом проскакал? верхом на лошадях ватага мальчишек. Схваченная морозом, окаменевшая земля звенела под копытами. Понукаемые свистом, гиканьем, ударами поводьев, лошади старались вовсю: мол, так и быть, лихачи-наездники, потешим вас напоследок.
Степа с завистью проводил мальчишек глазами. Неплохо бы и ему прокатиться. Скоро зима, выпадет снег, и не будет больше ни поездок в ночное, ни скачек наперегонки.
Филька остановился и сердито дернул приятеля за рукав:
— Упустили!.. Из-за тебя все! Растопшонник!
Это было любимое ругательство отца, хотя Филька и не понимал, что оно значит.
— Сам ты тюхтя, Купидон пузатый! — огрызнулся Фома-Ерема. — Любите вы с батей чужими руками жар загребать! Мы, мол, чистенькие, наша хата с краю...
— А вам... вам бы только на свечках в церкви наживаться, барышничать да самогон гнать!
— А ты видел, как мы самогон гоним?
Мальчишки, наверно, не на шутку бы поссорились, если бы Филька не показал в сторону деревни:
— Смотри!
Прихрамывая, по дороге шел Игнат Хорьков. В поводу он вел молодого саврасого жеребца Красавчика. Жеребец приплясывал, рвался из рук, искал глазами табун и заливисто, нетерпеливо ржал. Игнат оборачивался к Красавчику и грозил ему кулаком.
Повстречавшись со Степой, Хорьков остановился, и они о чем-то заговорили — по-видимому, Игнат просил колониста отвести жеребца на озимь.
— Ездок тоже! — пренебрежительно заметил Филька. — На лошади, как девчонка, трухает.
Степа тем временем подошел к жеребцу и ухватился за гриву. Игнат помог ему забраться на лоснящуюся, сытую спину лошади, дал в руки повод и шлепнул Красавчика по заду. Жеребец взбрыкнул, рванулся вперед и сразу же перешел на размашистый галоп.
Степа судорожно сжал ногами горячие бока лошади, намотал сыромятные поводья на руки и попытался попридержать резвого коня. Но застоявшийся жеребец, почуяв свободу (Игнат забыл вложить ему в рот удила), упрямо выгнул шею и только прибавил шагу.
— Теперь ему Красавчик даст жару! — фыркнул Филька, и его вдруг осенила догадка: вот она, желанная минута! Не надо ходить по следам колониста, подкарауливать, ждать...
Филька толкнул приятеля в бок.
Словно угадав его мысли, Фома-Ерема спросил:
— Пугнем? Да?
Мальчишки присели за куст. Филька торопливо снял с себя уздечку.
Жеребец приближался. Стало слышно, как у него звонко ёкает селезенка.
Упоенный скачкой и ничего не замечая вокруг, Степа пригнулся к шее лошади. Поводья были крепко намотаны на его руки.
Красавчик уже совсем рядом. Фома-Ерема, сунув пальцы в рот, оглушительно свистнул, а Филька, встав на колено, швырнул под ноги лошади звякнувшую кольцом уздечку. Жеребец шарахнулся в сторону и тяжело споткнулся. От толчка Степа перелетел через голову лошади. Сыромятные поводья намертво затянули кисти Степиных рук, и он поволочился по земле.
Храпя и кося глазами на непривычный груз, жеребец скакнул в сторону, перемахнул через канаву и бешено помчался по ржаному жнивью.
Мальчишки за кустом оцепенели.
В ту же минуту кто-то, неожиданно здесь появившийся, схватил их за плечи и яростно встряхнул:
— Негодяи! Вы что?!
Это был директор школы. Он стоял над мальчишками в высоких охотничьих сапогах, с ружьем за плечами — возвращался с охоты — и, тяжело дыша, в упор смотрел на них своими пронзительными глазами.
— Мы... мы не хотели... Зачем он руки поводом замотал... — залепетал Филька. — Ездить не умеет...
— Уздечку это не я бросил... Это Филька, — принялся оправдываться Фома-Ерема. — Я только свистнул раз... попугать хотел...
— Заберите уздечку! — холодно распорядился Федор Иванович. — И марш домой! Оврагом идите... Чтобы вас ни один человек не видел!
Филька поднял уздечку, махнул рукой Фоме-Ереме и, испуганно озираясь на директора, затрусил к оврагу.
Федор Иванович проводил их взглядом, вытер платком взмокшее лицо и вышел на дорогу. Огляделся. Со стороны деревни тянул за повод свою худоребрую клячу Прохор Уклейкин. Федор Иванович поспешил ему навстречу.
— Несчастье, Прохор Семенович! — поравнявшись со стариком, сказал директор. — Ковшов с Красавчика свалился. Поводьями ему руки захлестнуло... Одолжите мне вашу лошадь... Попытаюсь догнать.
— Да возьмите, возьмите! — Уклейкин протянул поводья. — Я в деревню побегу — людей скличу. Ах ты, беда какая! Теперь всю душу из мальчишки вытрясет.
Федор Иванович сел на лошадь и, свернув с дороги, погнал ее через поле.
Игнатова Красавчика он заметил у леска, на перелогах. Взмыленный конь стоял, настороженно прядая ушами. Вытянув затянутые поводом руки, Степа плашмя лежал рядом. Издали было видно, что он пытался встать. Но при каждом его движении жеребец испуганно всхрапывал и шарахался в сторону.
Федор Иванович спешился и, ведя Прохорову лошадь за повод, осторожно пошел навстречу жеребцу. Вытянув руку и нежно называя жеребца Красавчиком, он долго подманивал его и наконец ухватил за узду. Потом наклонился над Степой, освободил его руки от повода и невольно покачал головой. Лицо мальчика, поцарапанное колючим жнивьем, кровоточило. Пиджак был измазан землей, располосован, штаны на коленях порваны, по ногам текла кровь.
— Идти можешь? — Федор Иванович помог Степе подняться.
Мальчик сделал небольшой шаг, болезненно вскрикнул и опустился на землю:
— С коленкой что-то... Наверно, копытом ударило... Савин огляделся, снял уздечки с лошадей и пустил их к озимям. Потом подошел к Степе и, пригнувшись, подставил ему спину:
— Садись!
— Что вы, Федор Иваныч... — растерялся Степа — Вы идите! Я сам как-нибудь...
— Садись! Не разговаривай! — повторил Савин.
Степа неловко обхватил шею директора, и тот, подняв его, потащил в деревню.
ПРИТИХНИ!
Илья Ефимович садился обедать, когда через окно заметил подходящего к крыльцу Савина с необычной ношей за спиной.
Он быстро вышел навстречу директору школы и спросил, что случилось.
— Потом, потом объясню! — бросил Савин и приказал уложить искалеченного племянника в постель.
Ничего не понимая, Илья Ефимович провел Савина во вторую половину дома. Степу уложили в постель и оказали ему первую помощь.
Вскоре к Ковшовым зашел Матвей Петрович с ребятами. Он посоветовал перенести Степу в общежитие или отправить в зареченскую больницу, но Савин сказал, что мальчика в таком виде тревожить нельзя и надо срочно послать за доктором.
— Запрягите лошадь! — приказал он Илье Ефимовичу. Ковшов покорно заложил лошадь в легкую тележку, и Матвей Петрович погнал ее в Заречье. Через час оттуда приехал старик фельдшер.
Фельдшер промыл Степе спиртом многочисленные царапины и ссадины, потом забинтовал руки, ноги и лицо.
Савину и Матвею Петровичу фельдшер сказал, что царапины и ссадины на молодом теле быстро заживут; хуже дело с левым коленом, которое посинело и распухло от удара лошадиным копытом.
— Словом, молодой человек покатался в свое удовольствие, теперь придется ему и полежать, — невесело усмехнувшись, заметил на прощание фельдшер.
Все разошлись. За Степой осталась присматривать Таня.
В этот же день, но уже поздно вечером, к Илье Ефимовичу вновь зашел Савин. Он хмуро посмотрел на Фильку, и тот догадался, что сейчас директор обо всем расскажет отцу. Значит, не миновать сегодня хорошей выволочки.
Он с надеждой посмотрел на дверь — хорошо бы сейчас смотаться куда-нибудь...
— Выйди, Филя, погуляй! — строго сказал Савин. Филька не заставил себя просить и выскочил на улицу. Савин прошел вперед, не дожидаясь приглашения, присел к столу и забарабанил пальцами по столешнице.
— Опять чем-то недовольны, Федор Иваныч? — покосился на него Ковшов и вдруг, что-то вспомнив, ухмыльнулся: — Подумать только, Степку на закорках тащили! Через всю деревню. Вот уж действительно любящий директор!
— Будешь тут любящим! — отозвался Савин, убирая со стола руки. — А все по милости вашего сынка.
И он рассказал, что Филька сделал сегодня со Степой.
— Ну сынок! Лихо начинает! — покачал головой Илья Ефимович и, подумав, добавил: — А может, и поделом ему, колонисту! Пусть не шпионит, не выслеживает. Можно, пожалуй, и еще добавить!
Савин с досадой посмотрел на Илью Ефимовича. Опять ему нужно все растолковывать, как школьнику. Да, колонист — помеха, бельмо на глазу. Но какая польза от того, что Филька с Фомой-Еремой изобьют его еще раз? Только навлекут на себя подозрение и втянут в неприятную историю самого Ковшова. А ведь тому надо жить сейчас как можно тише и со всеми в ладу. И если Илья Ефимович хочет себе добра, он должен немедля внушить сыну, чтобы тот не распускал рук и не смел трогать Степу даже пальцем.
— Вот навязался, проказа на мою шею, покоя нет! — закряхтел Ковшов. — Хоть бы вы его, Федор Иванович, из школы убрали.
— Как то есть «убрали»? — переспросил Савин.
— Ну, исключили вроде или перевели куда. Только бы от Кольцовки подальше...
— Ага! Дошло наконец-то! — не без торжества заметил Савин. — А что я вам говорил в свое время? Отправьте племянника обратно в город, пока он вам в горло не вцепился. Задним умом крепки, Илья Ефимович!
— Что говорить, дал маху... — сокрушенно согласился Ковшов. — Но вы же директор школы, и всё в вашей власти. Исключите Степку... Так, мол, и так — за плохое поведение, за клевету на председателя сельсовета. И делу конец!
Савин покачал головой — он уже думал об исключении. На первый взгляд это очень соблазнительно. Он едет в район и добивается перевода Степы в какую-нибудь другую школу или в детский дом. А когда его не будет перед глазами, станет легче жить и работать. Конечно, с мальчишкой справиться нетрудно, но он, к сожалению, не один, на его защиту всегда может стать Матвей Петрович. А этого нужно опасаться...
— Нет, нельзя исключать... пока нельзя, — недовольно сказал Савин. — Опять начнутся разговоры о спрятанном хлебе, поиски, слежка. А нам нужно сделать так, чтобы история с хлебом забылась как можно скорее.
Он все больше и больше раздражался. Слишком уж много времени отнимает этот маленький Ковшов. У них есть дела и поважнее.
Савин принялся расспрашивать, как у Ильи Ефимовича проходят «беседы» с мужиками, что те думают о колхозе.
— Захожу кой к кому, — сдержанно доложил Ковшов. — Больше всего на хозяйственные вопросы напираю. Мол, ералаш в артели начнется, бестолковщина, через год все голышом ходить станут. Не колхоз получится, а голхоз...
— Правильно, — согласился Савин. — Еще о руководителях подбросьте мыслишку. Внушайте крестьянам, что колхозом будут управлять назначенные из города уполномоченные, что они введут казарменную дисциплину, лишат членов артели всяких прав. Но говорить надо умно, сплеча не рубить... чтобы слеза чувствовалась, боль...
— Стараюсь, Федор Иваныч! Я тут Игнату Хорькову до того сердце разбередил, что он даже за топор схватился. «Лучше, кричит, я своего Красавчика жизни лишу, чем на общий двор сведу». Насилу успокоил. — Ковшов нахмурился. — Только вот Никита Еремин со Шмелевым подчас мешают. Такой завалью мужиков пугают — уши вянут. Тут и всякие церковные бредни, и одеяло на сто метров, и общие жены...
— Ничего, пусть пугают. Это тоже кое на кого действует, — заметил Савин и спросил Ковшова, как ведет себя Хомутов.
— Тугой мужик, — вздохнул Илья Ефимович. — На собрания ходит редко, окопался в доме. Но чую, мужик ко всему прислушивается. Я уж до него через жену стараюсь дотянуться.
— Смотрите у меня! — погрозил Савин. — Хомутова держите крепко. По нему многие будут равняться, Надо будет — припугните.
— Это в каком смысле?
— Без кровопускания, понятно, — поморщился Савин. — Письмишко ему подбросьте, записку там с парой теплых слов... Учи вас! — Он зевнул, посмотрел на часы и направился к двери. — За племянником присматривайте, лечите его. Не мешает с ним и примириться. А сыну скажите твердо, как он себя вести должен.
— Скажу, — согласился Илья Ефимович.
Перед сном он подозвал Фильку и, погрозив ему пальцем, вполголоса выругался:
— Остолоп! Растопшонник! Глупостями занимаешься!.. Лошадей пугаешь!
— Так, тятька... — забормотал сын. — Я же не знал, что он в поводьях...
— Молчи! Слушай! — перебил его отец. — С завтрашнего дня держи себя на людях тише воды, ниже травы. О колхозах ни слова ни с кем... ни смешка, ни подначки. И Степку не задирать!
— Он же ищейка, шпионит за нами! — удивился Филька. — По следу ходит...
— Вот и не тронь его, не дразни. Филька ничего не понимал.
— Что ж мне, замириться с ним? — насмешливо спросил он. — В обнимочку ходить? «Ах, братик, голубчик!» Да лучше я...
Что «лучше», Филька не договорил: отец пребольно щелкнул его по голове согнутым в крючок пальцем и зашипел:
— Молчи, дурень! Я тебе еще толковать должен?! И замирись, если отец говорит. В струнку вытянись, притихни! Значит, так надо... Рано тебе еще своим умом жить. Да нам всем, может, землю грызть придется, на коленях ползать...
Филька на всякий случай отскочил в сторону. Но отец драться не собирался. Он только махнул рукой и подвернул фитиль в лампе.
— Спи давай! И чтоб завтра был как шелковый!
Потирая голову, Филька отошел к своей кровати. Это бывало не часто, чтобы отец щелкал его по затылку. «Замирись... притихни... так надо». Видно, отцу сейчас приходится туго.
Вздыхая, Филька полез под одеяло.
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Степа открыл глаза от мягкого белого сияния и повернул голову к окну. За окном валил снег. Он уже прикрыл ржавую, окаменевшую дорогу, застывшую грязь и лужи, затянутые грязным, захоженным льдом, мусор и щепки около бревен. Улица выглядела чистой и белой, как вымытый и выскобленный к празднику пол в горнице, который еще не успели заследить.
Тяжелые, влажные хлопья снега падали густой завесой и ложились всюду, где они только могли задержаться: на черные слеги изгороди, на бревна, на поленницу дров, на скамейку в палисаднике, на ступеньки крыльца и даже на желоб колодца.
«Зима... пришла-таки», — улыбнулся про себя Степа, и ему вдруг захотелось первому пройти по заснеженным ступенькам крыльца.
Он пошевелил ногами, толстыми и неуклюжими от белых марлевых повязок, и приподнялся на локтях.
В избе никого не было.
На стене тикали часы-ходики, на табуретке, около кровати, стояла крынка с молоком, лежал хлеб; на лежанке дремала кошка.
Степа кинул взгляд на отрывной календарь на стене — вот уже восьмые сутки, как он лежит в доме у дяди.
Но почему именно здесь? Почему Савин не притащил его в общежитие или не отправил в больницу? И что ему нужно, дяде Илье? Он уже несколько раз заходил в избу и заводил разговор о том, что Степа ему все-таки племянник, родная кровь, и он, дядя, его в беде не оставит. Да и вообще, говорил он, им надо помириться, забыть про старое, жить в ладу и согласии. Пусть племянник так и останется в этой избе вместе с Танькой.
В забытьи Степе начинало казаться, что, может, и в самом деле ему незачем враждовать с дядей, в чем-то подозревать его. Но, приходя в себя, мальчик готов был крикнуть дяде в лицо, что он не верит ни одному его слову и сейчас же уйдет из этого дома.
Когда Степа делал попытку подняться с постели и вскрикивал от боли, Илья Ефимович успокаивал его:
— Ты лежи, поправляйся. Мы еще поговорим...
И Степа вынужден был лежать. В первые дни все тело саднило, горело, мучительно хотелось пить, и, забываясь на короткое время, он несвязно бормотал что-то про лошадей, про мешки с хлебом, Митю Горелова...
Приятели не забывали Степу. Они забегали утром до школы, приходили после занятий, лезли в избу, но Илья Ефимович строго-настрого наказал Тане никого не пускать к больному.
Только Нюшка, минуя все запреты, пробиралась в избу и вместе с подругой ухаживала за Степой.
Мальчишки же обычно присаживались на завалинку и гадали, останется их приятель хромым или нет. Афоня Хомутов смастерил даже костыли и принес показать их девчонкам.
— Да ты что, смеешься над ним! Хочешь, чтобы Степка колченогим остался? — накинулась на Афоню Нюшка и забросила костыли в огород.
— Да я так... на всякий случай, — сконфуженно развел руками Афоня.
Но чаще всего заходил к Ковшовым Митя Горелов. Он приносил рябину, моченые яблоки, заглядывал в окно, стараясь рассмотреть больного, или, упросив Таню с Нюшкой, пробирался в избу и подолгу сидел у порога.
Маленький, тщедушный, он был похож в своем красноармейском шлеме с опущенными отворотами на пришибленную, нахохлившуюся птицу.
Еще в воскресенье, когда Митя увидел изувеченного приятеля, у него словно что-то оборвалось внутри. Директор школы всем рассказывал, что Степа затеял лихую скачку и упал с лошади, а Мите почему-то казалось, что все это не так, что со Степой свел счеты дядя Илья или Филька, а может быть, и его отец.
А ведь такое могло случиться и с ним, с Митькой Гореловым. Но Степа все принял на себя и вот теперь лежит как пласт, изуродованный, в бинтах и повязках.
— Ну, чего ты сидишь, чего глаза мозолишь? — сердилась Таня. — Степе же легче не будет.
— Это ему из-за меня попало... Из-за меня, — бормотал Митя. — Надо бы нам вместе держаться...
Как-то раз к Ковшовым заглянул Матвей Петрович. Он долго смотрел на забинтованное лицо Степы, потом спросил, как к нему относится Илья Ефимович, хочет ли помириться.
— Хочет... — вполголоса ответил Степа. — А только зачем это?
— Все же он тебе дядя, родня...
Мальчик беспокойно заворочался в постели и, откинув одеяло, приподнялся.
— Рано еще вставать, — остановил его учитель.
— Матвей Петрович, — не слушая его, торопливо заговорил Степа, — не верите вы мне! Думаете, я нарочно на дядю наговорил, выдумал все? А вот нет... Голову на отсечение даю!
— Почему ты думаешь, что я тебе не верю? — в свою очередь, спросил учитель и уложил его в постель. — Не волнуйся... Мне Митя и Таня обо всем рассказали. И я не могу не верить. Выдумать это невозможно. Тут, друг мой, другая загадка: куда Ковшов с Гореловым перепрятали мешки с хлебом?
— Это я во всем виноват, — со вздохом признался Степа;— Надо бы сразу заявить о хлебе, а я тянул.
— Да, кстати... кому ты первому сообщил о мешках в подполье? — спросил Матвей Петрович.
— Федору Ивановичу.
— В воскресенье утром?
— Нет... Накануне вечером.
— А почему обыск проводили утром?
— Федор Иванович сказал, что надо подождать Крючкина. А вечером Крючкина не было в деревне.
— Странно! А мне Крючкин сказал, что он весь вечер сидел в сельсовете, — пожал плечами Матвей Петрович.
Он пытался разобраться в событиях последних дней: загадочное исчезновение хлеба, падение Степы с лошади, необычная забота о нем Федора Ивановича, желание Ильи Ковшова примириться с племянником. Но какая же связь между всем этим?
— Матвей Петрович, а вы что думаете? — осторожно спросил Степа.
— Нет-нет, ничего особенного! — поспешил успокоить его учитель, но про себя подумал, что Степе следует быть настороже: он слишком много знает о проделках дяди, и ему может не поздоровиться. «Надо будет Шурку предупредить, чтобы он Степу одного не оставлял».
— Матвей Петрович, я в общежитие хочу, — сказал Степа. — Чего мне здесь валяться...
— Это верно, — согласился учитель. Матвей Петрович попрощался и ушел.
Степа остался один. На душе у него было тревожно и тоскливо.
Почему Федор Иванович сказал ему неправду про Крючкина? Если бы они пошли с обыском к Горелову в субботу вечером, хлеб никуда бы не исчез. Зачем только директор оттянул обыск до утра? И почему он всегда так пристально смотрит на Степу? Может быть, он... Нет-нет, Степа не смеет об этом даже и подумать. Он хороший человек, Федор Иванович. Если бы не он, что сделал бы со Степой Красавчик! А кто тащил Степу на спине до самой деревни, кто посылал за фельдшером?
...Сейчас мальчик еще раз оглядел избу, прислушался и, осторожно спустив с постели ноги, встал. Тихонько сделал первый шаг.
Что-то отдалось в правом колене, но терпеть можно. Придерживаясь рукой за стенку, Степа добрался до двери, сунул ноги в какие-то опорки, накинул на плечи пиджак и вышел на крыльцо.
Вот и молодой снежок на ступеньках! Как он вкусно скрипит под ногами!
Степа подобрал палку у крыльца и, опираясь на нее, пошел чистым, светлым переулком. За ним сразу пролегли четкие черные следы, проступила земля — так еще тонок и слаб был слой первого снега.
Из-за угла вышли Шурка, Нюшка и Таня.
— Посмотрите только! — испуганно зашептала Таня, готовая броситься за братом. — Кто ему позволил?
— Погоди, — улыбаясь, удержал ее Шурка. — Пускай походит... Он почти и не хромает.
— А давайте считать, сколько он шагов сделает! — предложила Нюшка.
Считая вполголоса Степины шаги, Шурка с девочками тронулись вслед за приятелем.
А Степа шел и шел. Он миновал амбар, старый, неприглядный сарай с похорошевшей от снега крышей, выбрался на огуменник и, расхрабрившись, даже забыл опираться на палку.
— Сто двенадцать шагов! — громко сказала Таня. — Эй, Степа! Хватит!
Мальчик обернулся и счастливо засмеялся. Подбежали опоздавшие Афоня и Митя.
— А я тебе костыли... — начал было Афоня, но Нюшка погрозила ему кулаком, и мальчик, нагнувшись, набрал полную пригоршню снега и поднес к губам. — И вкусный же снег в этом году!
Всей компанией ребята вернулись в избу, заставили Степу, как он ни упирался, снова лечь в постель и принялись наперебой сообщать ему новости.
Позавчера в школе состоялся педсовет. Нюшка с Шуркой два часа просидели в пустом классе по соседству с учительской и услышали, о чем говорили учителя. Говорили о многом, но об исключении Степы из школы не было сказано ни слова. И больше того, Федор Иванович спрашивал ребят о здоровье больного и просил передать Степе привет.
Об обыске у Горелова кое-кто из школьников еще вспоминает, но уже редко. Теперь разговоры идут главным образом о колхозе. Его уже больше не зовут «чертовой дюжиной» — в артель вошло еще десятка два мужиков. Артель назвали «Передовик», а председателем правления избрали Егора Рукавишникова. В школе началась запись в драмкружок, Ребята сами будут сочинять про колхоз пьесы, стихи и частушки и выступать с ними перед крестьянами.
— Руководить будет Матвей Петрович, — сказала Нюшка. — Мы тебя тоже записали. Согласен?
Степа кивнул головой: какой может быть разговор! Вот только поскорее бы снять надоевшие повязки и вернуться в школу.
В сенях кто-то затопал, дверь приоткрылась, и в избу вошел Филька Ковшов.
Степа поднял голову!
— Тебе чего?
Прижимая к груди что-то округлое, завернутое в тряпицу, Филька неловко потоптался у порога. Потом подошел к Степе и поставил перед ним на табуретку глиняный горшочек, завязанный марлей,
— Мед это... Мать прислала. Поправляйся вот. А отец сказал: если хочешь, оставайся у нас в доме...
— Спасибочки! — насмешливо поклонилась Нюшка. — Он уже поправился.
— Все равно у нас лучше. Чего ему по чужим людям околачиваться?
Степа вспыхнул, с неприязнью оглядел Фильку:
— Уходи ты со своим медом! И знаешь куда...
— Подумаешь!.. Заелся на казенных харчах, — буркнул Филька, отступая к двери.
— Давай, давай! Скатертью дорожка! — Нюшка сунула ему в руки горшочек и подтолкнула к двери. — Не оступись, Филечка, медок не пролей! Он денежку стоит...
— И чего ему надо? — покачал головой Шурка, когда Нюшка, выпроводив Фильку, закрыла за ним дверь,
— Я знаю, чего... — тихо и многозначительно сказал Митя, сидевший у порога. — Подсластить Степку хотят, чтобы всякие думки в голову не лезли.
— Какие думки? — не понял Степа.
— А вот какие! — Митя помолчал, оглянулся на дверь, — Скажи, ты помнишь, как с лошади падал?
— Ну, помню... Разогнал Красавчика... Он споткнулся... Я и полетел через голову...
— На ровном-то месте — и споткнулся? — недоверчиво хмыкнул Митя. — А ты знаешь, что Филька с Фомой-Еремой в то утро тоже лошадей на озимя водили?
— И что? — Степа с недоумением посмотрел на приятеля.
— А может, они встретили тебя да и пуганули Красавчика. Вот лошадь и споткнулась... Филька, он такой, всякое умеет.
— Погоди, погоди! — остановил его Степа. — А ты видел кого-нибудь на дороге, когда я на Красавчике ехал?
— Откуда мне видеть? Я в деревне был.
— Так чего же ты выдумываешь? — рассердился Степа.
Митя горестно развел руками. Потом вдруг вскочил, сорвал с головы шлем и, размахивая им, заговорил сбивчиво и возбужденно.
Ну как Степка не понимает! Ведь он знает о Филькином отце такое, за что тот, наверно, готов сжить его со света. И уж кто-кто, а Филька за своего отца постоит горой, и ему ничего не стоит не то что пугнуть лошадь, но избить Степу смертным боем или проломить ему кирпичом голову.
— Да ну тебя! — отмахнулся Степа. — Выдумываешь всякие страсти.
— Ничего не выдумываю! — Митя почти кричал на приятеля. — Хочешь, чтобы тебя со света сжили! — Он вытер шлемом вспотевшее лицо и с тоской посмотрел на ребят: — А вы чего молчите?
Нюшка и Таня зябко поежились.
— А пожалуй, и верно, — хмуро согласился Шурка. — Дядя Матвей тоже об этом говорил. Ты, Степа, на рожон не лезь... В самом деле, может не поздоровиться. — И он деловито принялся излагать свой план: Степе надо быть поосторожнее, от Филькиной компании держаться подальше и по вечерам одному не ходить. Неплохо также на всякий случай иметь при себе увесистую палку.
— Вот-вот! — обрадовался Митя.
— Я тебе свинчатку достану, — шепнул Афоня. — Или болтик хороший... Карман не тянет, а может пригодиться.
— Будет вам! — взмолился Степа. — Вы еще охрану ко мне приставьте.
— А ты слушай! Кому говорят! — прикрикнула на него Нюшка. — С волками жить — по-волчьи выть... Охрана не охрана, а ходить давайте кучно, все вместе. И чуть что — сигнал подавать друг дружке. Вот хотя бы так... — И она, сложив ладони коробочкой, с силой подула в щелочку между большими пальцами и гукнула филином. — Все так могут? А ну, попробуйте!
Изба огласилась протяжными, воющими звуками, словно ребята дули в пустые бутылки. Не получилось только у Тани, но Митя сказал, что он обучит ее гукать филином не хуже Нюшки.
— Игру затеяли! — фыркнул Степа. — Тоже мне детки-малолетки. Вы бы лучше за дядей Ильей смотрели. Кровь с носу, а хлеб найти надо...
— А мы уже смотрим! — с таинственным видом сообщил Шурка. — Как тебя покалечило, мы слово дали: выведем Ворона на чистую воду, разоблачим его компанию. Это вроде как на войне — противник хитрит, петли вяжет, ну да мы тоже не лопоухие, смотрим в оба...
— И что же высмотрели? — нетерпеливо спросил Степа.
— Да пока тихо все, ничего особенного. Видно, затаился Ворон, выжидает. С Гореловым он почти не видится... Только вот к нему директор школы часто заходит.
— Зачем это?
— Если бы знать! — вздохнул Шурка.
— А надо знать, — хмуро сказал Степа, оглядев ребят. — Приятного, конечно, мало по следам ходить, да что делать! Зевать нельзя. Ухо держать приходится востро. И чуть что — тревога, сбор по сигналу. — И он, к немалому удовольствию Нюшки, гукнул филином.
НАЧЕКУ
Пролежав у Ковшовых еще четыре дня, Степа наконец вернулся в школу.
Здесь творилось что-то несусветное.
В любой час — утром, до начала уроков, в большую и малую перемены и особенно после занятий — ребята заводили бесконечные разговоры, и все об одном и том же — о колхозе.
Во всех подробностях они вспоминали последнее собрание взрослых — а собрания теперь проходили чуть ли не каждый день и кончались обычно под утро — и разыгрывали в лицах особо острые и забавные сцены, происходившие на этих собраниях. А сцен было более чем достаточно. То женщины устроили на собрании такую перебранку, что не дали говорить Матвею Петровичу. То Прохор Уклейкин заснул на задней лавке, а кто-то швырнул его шапкой в лампу, разбил стекло и потушил свет. То Василий Хомутов поцапался с женой, когда та пыталась увести его с собрания. В перепалку родителей вмешался Афоня, и ему изрядно досталось и от отца, и от матери.
Сегодня Афоня пришел в школу с поцарапанным носом.
— Жертва новой жизни и колхозного строя! — с хохотом встретил его Сема Уклейкин. — Расскажи, как ты вчера батьку с мамкой разнимал.
— Да ну их! — Афоня сконфуженно прикрылся ладонью. — Мать — та вконец против артели. «Одна, говорит, останусь, на корове буду пахать, а в голхозию не пойду». А батька и туда и сюда кренится. То дома отсиживается, слушать никого не хочет, то на собрание бежит. Вчера мать его валенки в сундук спрятала, так батя ее новые полусапожки на босу ногу надел и давай ходу в школу. Только мать все равно уследила — и вдогонку за ним. «Иди домой, кричит, отдавай обувку!» Тут они и схватились... Ну, а дальше сами видели...
Ребята от души посмеялись над незадачливым приятелем.
— А все же, за кого твой батька? — спросил Степа. — За артель или против?
— А кто его знает... И хочется, и колется...
— И мамка не велит, — подсказал Шурка.
— И то верно. Матка у нас такая ли набожная стала, чуть не каждый день к попу бегает. И все отца святыми пугает: один, мол, святой его за колхоз пристукнет, другой — языка лишит, третий — еще что-то...
— А что отец все-таки про колхоз говорит? — допытывался Степа.
Афоня помялся.
— Ежели бы работящий народ подобрался, да с достатком, да еще бы трактор заиметь, тогда бы и в артели жить можно. А сейчас, говорит, все равно, что шило на мыло менять. Из десятков кляч трактора не соберешь.
— Это так... — вздохнул Шурка. — Хорошо бы нашей артели железного конягу завести!
— Где они — тракторы? — спросил Митя. — Помните, Матвей Петрович про завод в Сталинграде рассказывал. Чего ж машины так долго не едут к нам?
И мальчики принялись мечтать о железном коне.
Провести бы несколько субботников или собрать побольше железного лома, чтобы на вырученные деньги купить для артели трактор. Какой это был бы праздник в деревне! Смотришь, новенький трактор с броской надписью на радиаторе: «От кольцовской ШКМ — колхозу «Передовик» — с грохотом катится вдоль улицы, останавливается у дома Василия Хомутова: «Смотри, Барсук, смотри, рак-отшельник, какой теперь у нас железный коняга!» — потом проходит мимо изб других единоличников и выезжает в поле.
И «барсуки» выползают из своих нор и спешат записаться в члены артели.
В школе все мальчишки делились на многочисленные группы, в зависимости от того, как в эти дни вели себя их родители.
Были «артельщики-коллективисты» — Степа, Шурка, Митя, Нюшка; были «барсуки», «подлипалы-подкулачники», «КВД», что означало «куда ветер дует». В эту группу входили те ребята, отцы которых то записывались в члены артели, то выходили обратно.
По примеру взрослых мальчишки спорили азартно, до хрипоты, не скупясь на соленые словечки, били шапками о землю и порой хватали друг друга за грудки.
Нередко споры начинались даже на уроках. Школьники одолевали учителей многочисленными вопросами: как люди будут работать в артели, как станут делить хлеб, молоко, навсегда ли эти колхозы или только на время, будут ли покупать ребятам обновки и какие — одинаковые или разные?..
Учителя, сами еще многого не зная, пытались что-то отвечать, путались, сбивались и потом с ужасом обнаруживали, что на эти вопросы и ответы убита добрая половина урока.
Они шли к Федору Ивановичу и жаловались, что занятия превращаются в какие-то ребячьи сходки и они, педагоги, ничего не могут поделать со своими учениками.
— Прошу не отвлекаться... — требовал Савин. — Школа есть школа, и мы должны придерживаться программного материала.
— Школа есть школа, — соглашался с ним Матвей Петрович. — А раз так, мы должны объяснить ребятам, что сейчас происходит в деревне.
— Может, вы по этому вопросу обратитесь в органы народного образования? — снисходительно усмехнулся Савин. — А пока прошу вас не нарушать школьных порядков.
Но порядки все равно были уже не те, что раньше.
Смолкал последний школьный звонок, ребята бежали по домам или в общежитие, наспех обедали и затем вновь возвращались в школу. В зале собирали драмкружок. Школьники разучивали стих, репетировали пьесу, мастерили и расписывали красками декорации. В учительской уже были свалены притащенные ребятами из дому полушубки, шапки, пахнущие дегтем сапоги, лапти, глиняные миски, льняные усы и бороды — все, что необходимо для очередного спектакля.
В угловом классе раз в неделю занимался комсомольский политкружок. Руководил им Матвей Петрович.
Однажды на занятиях кружка Степа заметил преподавателя математики Георгия Ильича Шумова. Добродушный, мешковатый, в старомодной толстовке, с выбритой до воскового блеска головой, Георгий Ильич сидел рядом с Митей Гореловым и внимательно слушал рассказ Матвея Петровича о пятилетке, о коллективизации, о классовой борьбе, о том, что происходит сейчас в деревне.
Степа знал, что ребята звали преподавателя математики «Добряк Шум» и нередко проделывали на его уроках немало озорных шуток.
И верно, Георгий Ильич многого умел не замечать: шумели ребята в классе, а он продолжал невозмутимо вести урок; озорничали на улице — учитель спокойно шел своей дорогой.
Казалось, что он и очки носит только затем, чтобы поменьше видеть вокруг себя. Посмотрит учитель сквозь толстые стекла на какую-нибудь расшалившуюся компанию, улыбнется, словно хочет сказать: гуляйте, мол, бегайте, озоруйте, пока молоды, а у меня свои дела, — и пойдет дальше.
— Чего это Шум к комсомольцам присоединился? — вполголоса спросил Степа у Шурки.
— А он политуровень повышает, — улыбнулся Шурка и сообщил, что Георгий Ильич записался в артель — у него есть свое небольшое хозяйство: корова, несколько полосок земли, — и сейчас заделался самым рьяным агитатором за колхоз. Ходит с Матвеем Петровичем по деревням и убеждает мужиков записываться в артель.
— Ты заметил, что у дяди Матвея рука перевязана, а Георгий Ильич железной тростью обзавелся?
— Ну, заметил...
— А про грамотных собачек слыхал?.. Нет? Ладно, расскажу потом.
После политкружка Степа узнал историю с «грамотными собачками». Неделю назад Матвей Петрович и Добряк Шум проводили собрание в Малых Вяземах. Когда они возвращались обратно, за околицей на них напала свора собак. Собаки были лютые, цепные и, видимо, давно не кормленные. Учителя отбивались от них шапками, ногами, звали на помощь, но в селе никто не отозвался. Собаки порвали Георгию Ильичу шубу, Матвея Петровича укусили за руку, и им пришлось бы совсем худо, если бы не уполномоченный Крючкин, который возвращался из района. Тот выстрелил из револьвера в воздух, и собаки разбежались.
На другой день Крючкин зашел в школу и, собрав комсомольцев, рассказал им о том, как кулаки пытались затравить учителей собаками, и предложил ребятам организовать охрану агитаторов.
— Вот мы теперь и ходим за учителями следом, — сообщил Шурка. — Они на собрание, и мы за ними...
— А я что говорил! — обрадовался Степа. — Давно бы так надо.
— Вот только оружия маловато, — пожаловался Шурка. — Палки да свинчатки. Да еще один самопал.
Степа спросил, когда у учителей намечен следующий выход в деревню.
— Кажется, в субботу, — ответил Шурка.
И действительно, в субботу под вечер «сторожевой отряд», как комсомольцы называли сами себя, отправился в Торбеево, куда Матвей Петрович и Георгий Ильич ушли еще в сумерки.
Ради такого случая Степа положил в карман свинчатку, что ему подарил Афоня, а из плетня выломал здоровенную сучковатую палку.
Возглавлял отряд бывший ученик ШКМ, кряжистый, краснощекий здоровяк Ваня Селиверстов, секретарь деревенской ячейки комсомола.
Сейчас Селиверстов, окинув взглядом вооруженных палками ребят, с усмешкой заметил, что они похожи на повстанцев Емельяна Пугачева, не хватает лишь железных вил, кольев да рогатин.
— А ежели случится что... — заспорил было Шурка.
— Ладно, складывай дрова, там видно будет, — распорядился Селиверстов. — Чинно пойдем, тихо.
Через час пути они были в Торбееве.
Собрание крестьян проходило в просторной пятистенной избе.
Все было, как и в Кольцовке: из дверей валил пар, в сенях возились и схватывались бороться торбеевские мальчишки, в избе до хрипоты спорили мужики.
Матвей Петрович, как обычно, говорил горячо, возбужденно и потом, не сдержав себя, начал кричать, что на собрание затесались подкулачники и их необходимо удалить.
В избе загалдели.
К столу подошел Георгий Ильич.
Он заговорил размеренно, неторопливо, потом достал из кармана мелок и, как на классной доске, принялся писать на столешнице цифры и подсчитывать выгоды артельной жизни: «Нуте-с, решим задачку...»
Мальчишки из сторожевого отряда сидели у порога или разминались в сенях, дожидаясь конца собрания.
Оно закончилось около полуночи. Выйдя на улицу, учителя натолкнулись на знакомых школьников.
— Позвольте! — удивился Георгий Ильич. — И вы здесь? Что вам, собственно, нужно?
— А мы слушали... Интересно очень, — неуверенно пояснил Шурка.
— Непорядок это — по ночам не спать! Непорядок! И в какой уж раз... — сокрушенно покачал головой учитель и спросил Матвея Петровича, как он к этому относится.
Матвей Петрович промычал что-то неопределенное — он уже догадывался, зачем школьники ходят за ними следом.
— Идите-ка вы домой, — посоветовал он ребятам. — Да побыстрее. А мы с Георгием Ильичом прогуляемся, воздухом подышим...
Мальчишки покосились на Ваню Селиверстова. Тот махнул рукой и повел их к деревне. Шурка и Степа зароптали: какой же они сторожевой отряд, если оставляют учителей ночью одних?
Выйдя за околицу, Селиверстов свернул в сторону от дороги, к омету соломы, и только тогда объяснил, что незачем им мозолить глаза учителям. Охранять их, конечно, нужно, но не так назойливо.
Мальчишки присели за стогом.
Светила тонкая, зазубренная, как серп, луна. Поле было слегка припорошено снегом. Вдали смутно чернел лес.
По дороге, негромко разговаривая, прошли Матвей Петрович и Георгий Ильич. Потом фигуры их растворились в ночной мгле.
Селиверстов подал ребятам команду следовать позади учителей.
Но не успели они выйти из-за стога, как со стороны деревни показались четыре дюжие мужские фигуры. Они размашистым шагом прошли мимо омета, и ребята услышали приглушенный отрывистый разговор:
— Опоздали небось!
— Ничего, догоним...
— Отобьем охоту в Торбеево ходить!
Мальчишки замерли. Вот оно, начинается!.. А у них ни палок, ничего. Вот так сторожевой отряд! У этих же, что устремились вперед, вслед за учителями, наверно, есть и ножи, и обрезы за пазухами...
У кого-то из мальчишек застучали зубы. Кто-то предложил вернуться в Торбеево и поднять на ноги комсомольцев.
— Один пусть вернется, — согласился Селиверстов. — А остальные за мной.
Не зная еще, к чему все это приведет, мальчишки пошли следом за незнакомцами, стараясь не выпускать их из виду.
Дорогу обступил лесок. Стало темнее, таинственнее и страшнее.
Незнакомцы, почуяв сзади людей, прибавили шагу. Шурка вдруг заявил, что он должен пальнуть из самопала — пусть идущие впереди знают, что у них тоже оружие.
— Тебе все игрушки! — отмахнулся Селиверстов и, подумав, сказал: — Давайте лучше пошумим.
Мальчишки принялись громко разговаривать, свистеть, аукаться, перекликаться. Обернувшись, Селиверстов на весь лес кричал: «Эй вы, не отставать! Прибавь шагу!» — словно сзади шла еще добрая сотня ребят.
— А давайте споем! — предложил Степа, когда ребята вдоволь накричались. — Шурка, начинай!
И Шурка, как никогда охотно и звонкоголосо, затянул свою любимую: «Кулаки-богачи жадной сворой...»
Возбужденные ночной темнотой и близкой опасностью, готовые вот-вот броситься на выручку учителям, мальчишки не заметили, как кончился лес. Кругом посветлело, и они увидели, что навстречу им движутся две фигуры.
— Хотят нас задержать, — шепнул Шурка. — Держись, ребята!
— Что это вы распелись среди ночи? — услышали мальчишки удивленный голос Георгия Ильича. — И почему домой не пошли?..
Ребята бросились к учителям и огляделись — незнакомцев нигде не было.
— А... а тут четверо за вами гнались, — запинаясь, сказал Шурка. — Где они?
Георгий Ильич ответил, что он никого не заметил, и еще раз спросил, ради чего ребята затеяли такой ночной концерт. Мальчишки, помявшись, объяснили.
— Это уже ни на что не похоже! — сказал Георгий Ильич. — Фантазия какая-то... игра воображения. Я тридцать лет в селе работаю! Да кто меня может обидеть? За что?.. Как хотите, Матвей Петрович, а ребятам надо запретить сопровождать нас.
И опять Матвей Петрович ничего не сказал. Но, расставаясь с ребятами в Кольцовке, он признался им, что действительно заметил четверых незнакомцев, шедших следом, хотя ничего и не сообщил об этом Георгию Ильичу.
«ФОРДЗОН»
Разговоры ребят о сборе утиля не забылись и на очередном комсомольском собрании вспыхнули с новой силой.
Матвей Петрович сказал, что дело это весьма стоящее и уже проводится во многих деревнях и селах.
Собрание назначило Шурку Рукавишникова ответственным за сбор утиля. Шурка подобрал надежную команду и не без поддержки Матвея Петровича добился от директора школы разрешения пользоваться шекаэмовской лошадью Царицей.
Затем началась подготовка к выезду. Шурка не спал две ночи, пока не сочинил частушки про утиль и трактор и вместе с Нюшкой разучил их.
Через неделю Царица, запряженная в широкие розвальни, вышла в первый рейс. Грива и хвост лошади были украшены кумачовыми лентами, под дугой трезвонил медный колокольчик, а над передком саней возвышался фанерный щит с надписью: «Сдадим утиль — получим трактор!»
— Утиль берем! Старье берем! — голосисто выводил Шурка, подражая старикам тряпичникам и понукая лошадь.
Остановив Царицу у очередной избы, Шурка с Нюшкой во весь рост вставали в санях и под задористый перебор Митиной балалайки, не щадя голосов, исполняли свои частушки.
Крестьяне охотно слушали, улыбались, посмеивались, потом спрашивали, какие у сборщиков расценки на утиль.
Тогда Степа разражался пламенной речью в защиту трактора и призывал собравшихся быть бескорыстными и щедрыми.
Иногда мужики и бабы бросали в сани кое-какую мелочишку, но чаще всего говорили, что трактор им ни к чему — от него хлеб только воняет керосином.
Правда, выручали свои люди — школьники. Пока Шурка с Нюшкой распевали частушки, а Степа произносил речь, они заглядывали в сени, на свои чердаки, в чуланы и вытаскивали на улицу смятые, перекошенные самовары, надтреснутые чугуны, печные дверцы и вьюшки, рваные галоши, бутылки, старую одежду.
Но матери довольно быстро раскусили хитрость ребят, и столь ценные вещи стали редко попадаться в сани сборщиков утиля.
А спустя несколько дней, завидев лениво бредущую Царицу, бабы, не сходя с крыльца, обычно кричали: «Бог подаст!.. Проваливайте!»
Шурка начинал терять веру в затеянное дело и однажды на расспросы Матвея Петровича об очередном выезде ответил довольно мрачно:
— Три часа ездили... Намерзлись, голоса надорвали, а утиля — кот наплакал. На две гайки к трактору не собрали. Пустая это затея...
— Ничего, ничего! — успокоил Матвей Петрович. — Я слышал, как вы сегодня выступали. Всё же слушают вас люди. И хорошо слушают. А что утиль не сдают — это понятно. Хозяйке всегда кажется, что в доме любая бросовая вещь пригодится,
И тут учителю пришла в голову новая мысль. Не посадить ли школьный драмкружок на колеса, вернее — на сани? В школу на спектакли и концерты собирается не так уж много народу, а на санях ребята могут разъезжать по деревням, добраться до каждой избы. Кстати они могут развозить брошюры, газеты, плакаты.
Новый план учителя школьникам пришелся по душе.
На санях оборудовали что-то вроде крошечной сцены: поставили фанерные стенки, натянули занавес из мешковины, и агитсани принялись курсировать по Кольцовке и соседним деревням.
На улице лютовал мороз, березы стояли в искристом серебре, Царица, как попоной, покрывалась пушистым инеем, у школьников мерзли пальцы на руках и белели носы, но юным агитаторам сразу становилось теплее, когда их острое слово и озорная шутка вызывали раскатистый смех собравшихся.
Но не все проходило гладко.
Однажды перед окнами Василия Хомутова школьники разыграли сценку про барсука и барсучиху, которые отсиживались в норе и задыхались без свежего воздуха.
Мужики дружно захохотали и принялись вызывать Василия на улицу, чтобы он посмотрел сам на себя. Василий отмолчался, будто его не было дома, зато из сеней выскочила Катерина и с такой яростью огрела Царицу хворостиной по спине, что та, рванув сани, вскачь понеслась по улице.
Артисты попадали в снег, потом, вскочив на ноги, попытались закончить представление, но Катерина уже подбегала к ним с ведром воды. Ребята сорвали с себя барсучьи маски и бросились наутек.
В другой раз, когда агитсани возвращались поздним вечером из Заречья в Кольцовку и школьники задремали под тулупом, кто-то остановил Царицу на дороге, перерубил топором гужи и, вскочив на лошадь, умчался.
Пришлось агитаторам везти сани до школы на себе.
Отощавшую Царицу они отыскали только через неделю, километров за тридцать от Кольцовки у сторожки лесного объездчика.
После этого ребята решили, что неприлично лошади, пострадавшей за колхозное дело, носить такую старорежимную кличку, и переименовали Царицу в Гражданку.
Всё же школьники не забывали и про утиль. И там, где мужики и бабы довольно радушно встречали агитсани, Шурка не терялся и выступал со своими частушками.
Куча утиля в школьном сарае мало-помалу пополнялась, но и теперь, по Шуркиным расчетам, ее хватило бы не больше, чем на колеса к трактору.
И вдруг ребятам повезло.
В Малых Вяземах, где они выступили с особенным успехом, а Нюшку, Шурку и Митю за песенку о кулаках даже вызывали на «бис», к школьникам подошел юркий, сухонький старичок и, пожав всем руки, признался, что он и сам заядлый песельник и балалаечник.
— Записали бы вы мне на бумажку куплеты свои, — попросил он. — Очень уж у вас хлестко получается. А я на это кулачье племя вот как зол! За эти песни я вам не знаю что отвалю...
— А утиль у вас есть? Лом железный? — деловито осведомился Шурка.
Старик задумчиво поскреб подбородок:
— Что-то такое есть на примете... Гляньте вот.
Он вывел ребят за деревню, к пустующему хутору, и, приоткрыв скрипучие ворота, впустил их в сарай.
Здесь были свалены грабли, цепы, бороны, ржавые плуги, поломанная жатка; в углу, притрушенный соломой, стоял трактор и рядом с ним, вмерзнув в землю, лежал тракторный мотор.
Ребята завыли от восторга — это же клад, целое богатство! Да такое и во сне не приснится!
Шурка показал ребятам кулак и с деланным спокойствием сказал:
— Утиль как утиль. И нечего тут визжать.
Потом он спросил старика, кому все это принадлежит.
— Ведерникову, кулаку здешнему. Только он за темные делишки в тюрьму сел. Хлебом толстосум спекулировал. А семья его в город сбежала. — И, заметив горящие от нетерпения глаза школьников, старик раздобрился: — Да берите, берите этот хлам! Все равно другие растащат. А вы, я вижу, хлопцы правильные...
«Правильные хлопцы» не заставили себя упрашивать. Подогнали к сараю сани и принялись нагружать их железным ломом. Шурка сразу же нацелился на тракторный мотор. С помощью ваги его оторвали от мороженой земли и, немало попыхтев, взвалили на сани. Хотели увезти и самый трактор, но потом сообразили, что Царице, теперешней Гражданке, его никак не стронуть с места.
В Кольцовку ребята возвращались в самом радужном настроении. Помогая лошади тянуть тяжелый воз, они всю дорогу занимались подсчетами и вычислениями. Выходило, что еще две-три таких находки, как ведерниковский утиль, и на собранный железный лом можно будет приобрести в городе новый трактор.
На это кто-то трезво заметил, что такие счастливые находки, как сегодня, случаются не каждый день и, видимо, к весне трактора в Кольцовке не будет.
— Чего ж мы тогда стараемся, утиль ищем? — вслух подумал Шурка и, задержав Степу, шепнул ему: — Знаешь, чего я надумал?..
— Скажешь — буду знать.
— Да нет! — отмахнулся Шурка. — Смеяться будешь... Блажь одна! — Кинув взгляд на мотор трактора, он помолчал, потом постучал по нему палкой. — Ты как думаешь, очень он сношенный?
— Кто его знает! — Степа тоже постучал по мотору. — У нас в детдоме механическая мастерская была. Как-то раз движок туда привезли. Такое старье, глядеть не на что. И ничего, подправили его ребята.
— Стой! — просияв, заорал Шурка. — Так это и есть моя думка! Чего ж ты раньше молчал?
Остановившись посреди заснеженного поля, ребята открыли чуть ли не митинг. Кричали, радовались, спорили, строили самые невероятные планы, но в конце концов сошлись на том, что надо просить городских комсомольцев помочь отремонтировать трактор, который так нужен молодому колхозу. А для этого следует отправить в Степкину колонию делегацию школьников.
Чем ближе подъезжали ребята к Кольцовке, тем все более крепла их уверенность, что городские комсомольцы не откажут в помощи и к весне трактор непременно будет пахать в Кольцовке землю.
— Погодите вы, торопыги! — остановила мальчишек Нюшка. — Пусть хоть Матвей Петрович мотор посмотрит... Он же работал на тракторе.
Учитель долго осматривал привезенный мотор.
— Американская марка... «Фордзон». Старье несусветное, — заметил он, но по поводу ребячьих планов ничего определенного не сказал.
В этот же день Матвей Петрович пригласил в школьный сарай деревенского кузнеца, Егора Рукавишникова, учителя математики Шумова и даже уполномоченного по хлебозаготовкам Крючкина.
Шуркин отец, увидев мотор, так и припал к нему: вот если бы его отремонтировать да пустить весной в поле! Какое бы это было подспорье для артели!
— А это уж как рабочий класс скажет! — Матвей Петрович лукаво посмотрел на Крючкина.
— Я, конечно, мало что в тракторах понимаю, — осмотрев мотор, признался уполномоченный. — Не приходилось еще нашему заводу с такими машинами дело иметь. Но кое-какие детали мы для вас, пожалуй, изготовить сумеем...
— Выручай, друг! — принялся упрашивать Егор. — Подними там своих хлопцев, растолкуй им. Один, мол, трактор в поле — он десяти агитаторов стоит.
— Матвей Петрович, — спросила Нюшка, — а если трактор починят, кто его водить будет? Вы?
— Да, Матвей, — обратился к нему Егор, — тебе тоже придется для артели поработать — с весны за руль сядешь. Не искать же нам тракториста невесть где!
— Да вот же они, трактористы, — засмеялся учитель, показывая на ребят. — И все первого класса. Степан Ковшов, Александр Рукавишников, Афанасий Хомутов, Дмитрий Горелов... Полным-полно трактористов.
Мальчишки хотя и не совсем понимали, в чем дело, но, услышав свои имена, невольно вытянулись и замерли.
— Не шутуй, Матвей, — нахмурился Рукавишников. — Ребятам, конечно, спасибо, что они мотор разыскали, но сейчас нам не до шуток.
— А я не шучу, — заговорил Матвей Петрович. — Ты, Егор, сам вдумайся. Через год-два сколько тракторов на колхозных полях будет работать? Тысячи, десятки тысяч. А кому же их водить, как не сегодняшним школьникам? Это же их будущее, завтрашний день. А к завтрашнему дню надо готовиться сегодня, сейчас вот, немедленно.
— Ты к чему это речь клонишь?
— Спроси вот самих ребят.
— Тятька, — сказал Шурка, — мы трактор изучать собираемся.
— Вот именно, — подтвердил Матвей Петрович. — Пора уже ребятам к технике привыкать, за мотор садиться.
И он, обернувшись к Шумову, спросил, не поможет ли тот наладить с ребятами изучение мотора. Кое-кто из ребят давно уже занимался этим, но сейчас, когда появился мотор, можно обучение наладить более обстоятельно и даже организовать кружок юных трактористов.
Разведя руками, Георгий Ильич признался, что видит трактор впервые и ничего в нем не понимает.
— Это дело наживное, — сказал Матвей Петрович. — Вы же физик, Георгий Ильич, вам и карты в руки...
— С превеликой охотой помогу, — согласился Шумов. — Но для начала мне самому придется поучиться.
Шурка достал бумагу, карандаш и предложил сейчас же произвести запись в кружок трактористов.
Мальчишки окружили Шурку. Нюшка с Таней стояли в стороне — про них словно забыли.
Степа наклонился к Шурке и, кивая на Нюшку, что-то шепнул ему. Тот отмахнулся:
— Да ну тебя, Ковшик, не смеши... Куда им, свиристелкам! Это не сивку-бурку погонять.
Нюшка закусила губу и, схватив подругу за руку, сердито растолкала мальчишек.
— Записывай! — бросила она Шурке. — Ветлугина Анна... Ковшова Татьяна.
Кто-то из мальчишек фыркнул. Шурка прикрыл ладонью список и с недоумением посмотрел на Матвея Петровича.
— Всех мальчишек перебрали — трактористы первый класс! — с обидой сказала Нюшка учителю. — А мы, значит, девчонки-свиристелки, не годимся.
— Да нет, почему же, — опешил Матвей Петрович. — Если желаете, пожалуйста... Запиши, Шура.
Шурка, тяжело вздохнув, послюнил карандаш и склонился над списком.
На другой день на санях, запряженных парой лошадей, из Малых Вязем привезли остов «Фордзона», а еще через день кружок юных трактористов приступил к занятиям.
АГИТАТОРЫ
В воскресенье Степа, Шурка и Нюшка отправились агитировать Афониного отца. Вернее сказать, побеседовать с Хомутовым наедине было поручено преподавателю физики и математики Шумову, а ребята увязались с ним за компанию.
Ради такого случая Георгий Ильич надел праздничную дубленую шубу с расшитой узорами грудью и лисью шапку с острым суконным верхом.
Учитель шел неторопливо, степенно, и ребята с нескрываемым уважением посматривали на своего бригадира. Им было чем гордиться. Не в пример другим учителям, Георгия Ильича охотно принимали в крестьянских избах, и ему уже удалось вовлечь в артель двух упрямых мужиков. И недаром Матвей Петрович и Егор Рукавишников направили Шумова к такому барсуку, как Афонин отец.
Была и еще причина, почему ребята увязались за Георгием Ильичом. Афоня Хомутов за последнее время стал хуже учиться, часто пропускал занятия и сторонился приятелей. На все вопросы Степы и Шурки отвечал что-то невразумительное и после уроков спешил поскорее уйти домой.
— Георгий Ильич! — попросил сейчас учителя Степа. — Поговорите вы заодно с Афоней. Чего он от всех бегает... И учится еле-еле, словно из-под палки.
— Да-да, это заметно, — кивнул Георгий Ильич. — Жалуются на него учителя...
Добравшись до дома Хомутовых, агитаторы долго стучали в калитку.
Наконец из сеней послышался голос Афони:
— Кто там? Если к батьке, так его нет. Он в лес уехал.
— Это я, Георгий Ильич, — ответил учитель. — И ребята со мной. Мы к тебе в гости пришли...
В сенях замолчали — видимо, Афоня соображал, как ему поступить. Затем он ушел в избу, вскоре вернулся и, молча открыв калитку, пропустил агитаторов в избу. Здесь было тепло, пахло стружкой, свежим деревом, столярным клеем.
Афонин отец, широко расставив ноги, стоял за самодельным верстаком и утюжил тяжелым фуганком сосновый брусок. Кремовая длинная стружка со свистом вырывалась из фуганка и змейкой обвивалась вокруг волосатой руки Василия.
Георгий Ильич поздоровался, обвел взглядом старую, низкую избу, прогнувшуюся матицу, дубовую подпорку под ней.
— Когда ж, Василий Силыч, новоселье справлять думаете?
— И хотел бы в рай, да грехи не пускают! — Хомутов отложил фуганок, снял с руки стружку и, сдержанно усмехнувшись, пригласил учителя пройти к столу. — Агитировать пришли! Просвещать! Мне уж давно сказывали — сам Георгий Ильич по домам ходит. Значит, и до меня черед дошел. Ну что ж, давайте по-быстрому, пока жена из церкви не вернулась... Ну-ка, Афоня, распорядись.
Стараясь не смотреть на ребят, Афоня быстро снял с лавки заготовленные, видимо, для рам бруски, смахнул с табуреток стружку и поставил их к столу.
— Вы, я вижу, с подкреплением. — Василий обратил внимание на ребят. — Ну, что скажете, молодые уговаривальщики?
— Мы вам книжки достали, — сказал Шурка, вытаскивая из-за пазухи пачку брошюр. — Насчет колхозов. Очень понятные. Почитайте вот.
— Читал, поди. — Василий отстранил брошюры. — Афоня их немало из школы таскает.
— А еще плакат принесли... — Нюшка вскочила и повесила на стену большой лист серой бумаги с крупными печатными буквами: «Без артели крестьянину из нищеты не выбраться».
— Видал, знаю. — Василий кивнул сыну: — Сними, мать увидит — в клочья порвет... Ну, а ты с чем? — обратился он к Степе.
Тот пожал плечами и посмотрел на Георгия Ильича.
— Василий Силыч, уважаемый, — неторопливо начал учитель, — я вам речей говорить не буду. Не люблю, и не мастер... Давайте лучше подойдем к вопросу, так сказать, с цифрами в руках. — Он достал остро очиненный карандаш и записную книжку. — Нуте-с, что мы имеем? У вас в хозяйстве три десятины пахотной земли. В этом году вы намолотили шестьдесят пудов хлеба, накопали двадцать мешков картошки. Правильно? Овса еще собрали пудов пятнадцать, так? А вот у меня и другие данные есть. — Георгий Ильич перебросил две странички. — Сельскохозяйственная артель объединяет сорок хозяйств. Пахотной земли у них сто семь десятин. Хлеба колхозники собрали три тысячи шестьсот пятьдесят пудов, картошки — тысячу двести семьдесят мешков. В прошлом году члены артели построили новый скотный двор, два овощехранилища, купили конную молотилку. Вот давайте и решим задачку, Василий Силыч, кому вольготнее живется на Руси: вам или члену артели?
Василий беспокойно заерзал на табуретке:
— Что это за артель такая хваленая?
— Артель называется «Заре навстречу». Находится в селе Дубняки. Не так уж далеко от нас.
Степа вздрогнул и с недоумением посмотрел на учителя — откуда он знает про Дубняки?
— Вы сами-то бывали там? — спросил Василий.
— Лично не довелось, — признался Георгий Ильич. — Списался с ними, они мне и прислали все данные.
— Бумага все терпит, — недоверчиво хмыкнул Василий. — Можно и прихвастнуть ненароком.
— Допустим, вы сомневаетесь. Тогда приведу другой пример, — заговорил учитель, вновь берясь за карандаш.
— Подождите, Георгий Ильич... — поморщившись, сказал Василий, подходя к двери и прислушиваясь. — Кажется, ходит кто-то... Посидите тут, я сейчас... — И он вышел в сени.
Георгий Ильич и ребята остались ждать.
На стене мерно тикали часы-ходики с чугунной гирькой, отлитой в форме еловой шишки. По столу несколько раз бойко пробежал рыжий таракан. Кошка дважды спускалась с печки и тыкалась мордой в пустое блюдце.
Георгий Ильич, постукивая карандашом, то и дело поглядывал на дверь.
— Скоро он там? — вполголоса спросил Степа у Афони. Тот молчал. Потом подошел к двери и нажал на нее плечом. Дверь не подавалась.
— Так и есть, — виновато признался Афоня, — Ушел батя... И дверь запер.
Степа и Шурка вскочили из-за стола и по очереди толкнулись в дверь. Она действительно была чем-то снаружи приперта.
— Батя всегда так, — пожаловался Афоня, — Как надоест кого слушать, так и уходит.
— Да-с, положеньице! — усмехнулся Георгий Ильич, не проявляя особого беспокойства.
Шурка заявил, что это неслыханное издевательство над агитаторами, и предложил высадить дверь.
— Зачем же так? — остановил его учитель. — Посидим, подождем. Да!.. А не заняться ли нам, между прочим, математикой? Нуте-с, присаживайтесь...
Афоня оделил всех бумагой, карандашами, достал учебник, Георгий Ильич спросил его, что было задано по математике на завтра. Афоня неуверенно открыл учебник и показал задачу.
— Э-э, нет, братец, это уже пройденный этап, — заметил учитель. — Да ты, Афанасий, вчера опять, кажется, не был на занятиях?
— Не был, — признался Афоня.
Георгий Ильич пытливо посмотрел на мальчика:
— Послушай, дружок... Это как же понимать? Тебе что, ученье не по душе? Видно, придется мне о твоем поведении с батькой поговорить.
— Ни к чему это, — вяло сказал Афоня. — Он и слушать не будет...
— То есть как это «слушать не будет»? — начал сердиться учитель и по привычке постучал ногтем по ободку очков. — Он родитель тебе или нет? Василий Силыч всегда интересовался твоими успехами. В школу заходил... И вдруг пожалуйте...
Афоня молча опустил голову.
Георгий Ильич погрозил ему пальцем и поднялся из-за стола.
— Тут, братец мой, что-то не так. Я сейчас же должен все выяснить. — Он толкнулся в дверь, но, вспомнив, что та закрыта, с досадой махнул рукой и вновь обратился к Афоне: — Так-с! Школьник Хомутов, не желая учиться, перекладывает свою вину на родного отца. Очень похвально!
Лицо у Афони пошло пятнами.
— Георгий Ильич! — вскочил он. — Это... это неправда! Вы знаете, что с батькой делается? Знаете? — Он вдруг сорвал с гвоздя на стене школьную холщовую сумку, порылся в ней и, вытащив какую-то бумажку, протянул ее учителю: — Вот... смотрите.
Георгий Ильич отошел к окну. Прочтя бумажку, он дернул головой, потом снял очки, зачем-то протер стекла, еще раз пробежал бумажку глазами и озадаченно покачал головой:
— Вот оно как бывает!
Степа, Нюшка и Шурка с любопытством вытянули шеи — что там за бумажка? Она была кургузая, с неровными краями, затертая, с кусочками засохшего хлебного мякиша по углам.
Учитель посмотрел на ребят.
— Слушайте и вы! — И он вслух прочел: — «Хомутов! Колхоз не для таких, как ты. Хочешь носить голову на плечах — сиди дома, как барсук в норе. Не дорожишь собой — пожалей семью! Твои доброжелатели».
Ребята невольно сжались и пригнулись к столу, словно их прибило холодным колючим дождем.
— Где ты нашел эту записку? — спросил у Афони учитель.
— К калитке была приклеена... Хлебом, — объяснил Афоня. — И другие записки были. В сарай подбрасывали, под дверь подсовывали. Вот батька и мечется. Злой стал, не подступись. Он из деревни уехать хочет... Куда глаза глядят. А мне, говорит, и учиться незачем... — Афоня тоскливо посмотрел на учебники, на тетради, потом взял из рук учителя записку.
— Оставь, — сказал Степа. — Надо ее Матвею Петровичу показать или Крючкину...
— Нет, нет! — испугался Афоня. — Батька никому не велел показывать. Еще хуже будет. Это я только вам... — Он сунул записку в сумку и умоляюще посмотрел на учителя: — Георгий Ильич, не ходите вы к батьке, не уговаривайте... Он и так как больной. За нами же следят.
— Ну-ну, Афанасий! Нельзя так... Будь посмелее! — Учитель потрепал мальчика по спине и обратился к ребятам: — О записке непременно сообщить надо. Видали, как враг-то орудует! Последние дни чует — вот и беснуется. Где пулю, где слушок пустит, где записку подбросит... Вот вам и урок обществоведения...
В сенях раздались шаги, дверь распахнулась, и Василий с женой вошли в избу.
— Вот все и обошлось! — усмехнулся Афонин отец, заметив, что ребята с учителем, обложившись тетрадями, сидят за столом. — Я дров нарубил, и вы, видать, делом занялись.
Катерина, высокая, сухая, в черном платке, поджав губы, недружелюбно оглядела школьников, Георгия Ильича и прошла за перегородку,к печке.
Учитель поднялся из-за стола.
— Не обессудьте, Георгий Ильич, — сказал Василий. — Поговорить нам не удалось... — Он покосился на перегородку, за которой жена ожесточенно гремела посудой, и, понизив голос, признался: — Занозистая задачка мне досталась... Голову ломаю, а решить не могу...
Ребята вышли вслед за учителем.
В сенях Степа замедлил шаги. Ему показалось, что он чего-то не доделал, не досказал. Он вдруг повернул обратно, вошел в избу и бросился к Афониному отцу:
— Дядя Вась! Если вы боитесь чего... Моему отцу тоже грозили... А он все равно смелый был. И вы не бойтесь! — Степа вытащил из кармана заветную заметку и сунул Василию в руку: — Почитайте вот... — и выбежал за дверь.
БЕГСТВО ВАСИЛИЯ
К концу недели Василий Хомутов исчез из деревни.
Случилось это, видимо, очень рано утром, когда в доме Хомутовых все еще спали.
Проснувшись, Катерина решила, что ее беспокойный муж ни свет ни заря уехал в лес за хворостом. Но, выйдя во двор, Катерина увидела на привязи у яслей заиндевелую лошадь, в переулке приметила запорошенные снегом сани, и сердце ее замерло.
Она вбежала в избу и растолкала Афоню:
— Сынок! Отец-то наш...
Афоня вскочил, как от крика: «Горим!»
И без того в последние дни Хомутовы жили тревожно, ночью просыпались от каждого стука, калитку в сенях, кроме того, что закрывали на засов, припирали еще тяжелым дубовым чураком.
Заметив встревоженное лицо матери, Афоня с деланной сонливостью зевнул:
— Он, должно, к Маркелу в Заречье пошел. Двери выторговывать для нового дома...
— В такую-то рань! — не поверила мать. — Еще черти на кулачки не сходились.
Все же они решили подождать отца до полудня.
Чтобы еще больше успокоить мать, Афоня даже отправился в школу. Но на первом же уроке выяснилось, что он положил в сумку не те учебники, какие были нужны, и забыл дома пенал с карандашами и ручкой. Учителям он отвечал невпопад и, не расслышав, о чем его спрашивали, просил повторить вопрос. На уроке обществоведения Афоня занял за партой Шуркино место — оно было у окна, — продышал в опушенном игольчатым инеем стекле круглый «глазок» и все время смотрел на улицу: дорога из Заречья проходила мимо школы.
— Может, тебя срочные дела ожидают? — спросил Афоню Матвей Петрович.
— Ага! — кивнул Афоня, посмотрел на учителя отсутствующим взглядом и вновь припал к «глазку».
Но отец не показывался. Афоня вспомнил, что тот еще на прошлой неделе разругался с Маркелом, который заломил за двери несусветную цену.
Тогда пришло на ум другое: подметные письма, записки с угрозами. Афоня вздрогнул и принялся торопливо собирать учебники.
Матвей Петрович вновь прервал урок.
— Дела, я вижу, не только срочные, но и весьма важные, — шутливо сказал он. — Тогда, сделай одолжение, иди!
— И то пойду! Нужно мне, — согласился Афоня и, провожаемый удивленными взглядами учителя и ребят, вышел из класса.
В перемену Матвей Петрович, отозвав Степу и Шурку в сторону, попросил их сходить к Хомутовым — не иначе, у них в доме что-то случилось.
Переглянувшись с Шуркой, Степа рассказал учителю о записке «доброжелателей», которую получил Афонин отец.
— Почему раньше мне не сказал? — рассердился Матвей Петрович. — Такие дни, а вы в молчанку играете...
— Так Афоня же просил... — сконфуженно признался Степа. — Он за отца боится.
Матвей Петрович попросил учителя математики позаниматься с ребятами вместо него и, пригласив Степу с Шуркой, отправился к Хомутовым.
Там уже билась в слезах Катерина. Ее утешали соседки, говоря, что Василий где-нибудь загулял и к ночи непременно притащится домой. Да и как не загулять от такой жизни, когда все кругом трещит, рушится, полно слухов и недомолвок!
За крыльцом Афоня прилаживал к валенкам широкие, с круто вздернутыми носами лыжи.
— Матвей Петрович, вы-то зачем? — удивился он, увидев учителя и ребят.
«А дела-то действительно серьезные», — подумал Матвей Петрович и спросил Афоню, где он думает разыскивать отца.
Мальчик поспешно наклонился и зачем-то стал развязывать ремешок на валенке.
— Не знаю... — глухо ответил он. — Метет в поле... Никаких следов не видно.
Вернувшись в школу, учитель вызвал с уроков еще четверых комсомольцев, и вскоре небольшой отряд лыжников вышел на поиски.
В поле посвистывала позёмка. Сыпучий сухой снег с шорохом скользил по возвышенным местам, курился в низинах, оседал острогранными сугробиками у каждой сухой былинки.
Лыжники заглянули в пустые, холодные овины, обшарили все овраги, прочесали по-зимнему убранные Замызганки, просмотрели заснеженную реку — нет ли где на ней свежей проруби или не затянутой льдом полыньи.
На другой день на поиски вышли Егор Рукавишников, Аграфена, Игнат Хорьков и еще несколько взрослых.
Но Василий Хомутов исчез бесследно.
Афоня почернел от горя, еле передвигал лыжи, и ребята запретили ему выезжать с ними на поиски.
Катерина бегала то к попу, то к гадалке, дома жгла лампадки и во весь голос причитала, что этот колхоз погубил ее мужа и сделал детей горемычными сиротами.
На третий день, утром, к Хомутовым заехал незнакомый мужик в оранжевом тулупе, долго крестился на угол с иконами, потом, выпросив чарку водки, сообщил Катерине, что привез ей от хозяина поклон. Он видел Василия в Пустоваловке, километров за двадцать пять отсюда; тот сидел в сельской чайной, уплетал яичницу и о чем-то толковал с мужиками.
Василий просил передать, что он жив, здоров, но домой вернется еще не скоро — надо ему побродить по округе, поговорить с людьми.
Катерина решила, что муж, перепугавшись неизвестной артельной жизни, совсем рехнулся и сбежал из дому. Она принялась собираться в Пустоваловку.
— Уж я его разыщу... пропишу ему яишенку, чай с сахаром! — грозила она.
— Мама, а давай я съезжу, — предложил Афоня. — Дома же у тебя скотина, Никитка...
Мать подумала и согласилась, посоветовав сыну прихватить с собой для смелости кого-нибудь из приятелей.
Афоня вспомнил про Шурку и Степу — кого из них взять? Шурка, как и Афоня, никуда не выезжал из деревни, а Степа — парень бывалый, тертый калач.
И Афоня пригласил Степу. Тот не колебался ни минуты. Да и Матвей Петрович согласился, что Афоне нужен провожатый.
Шурка уступил Степе свои валенки, Нюшка незаметно сунула ему в карман теплые варежки, Катерина дала ребятам немного денег и строго наказала хоть с милиционером, но непременно доставить беглого отца домой.
Распрощавшись со всеми, Афоня и Степа тронулись в путь.
Идти было легко. Метель утихла еще накануне, в лицо светило невысокое зимнее солнце, и мороз вел себя совсем сносно: не кусал щек и ушей, не забирался нахально в рукава и за спину.
Накатанная, вощеная дорога с черными вешками по сторонам поднималась с увала на увал, поворачивала вправо и влево, и каждый раз перед ребятами что-нибудь открывалось.
Вот неоглядное снежное поле, кое-где пропоротое бурыми веточками бурьяна и острыми кинжальчиками осоки. Через поле бежит чистая, белая лыжня, а по обеим сторонам ее — ровные, круглые лунки пробитого палками снега; по такой лыжне только бы скользить да скользить...
Уходит вдаль многоярусная изгородь из черных длинных слег, и кажется, что на снегу кто-то отпечатал нотные линейки. Одиноко стоит на равнине рыжий стожок сена; прикрытый пышной соболиной шапкой. За излучиной дороги чернеет частый ольшаник, а перед ним словно застланная лебяжьим пухом лощина, кое-где тронутая сизо-зелеными проплешинами. Подойдешь ближе и видишь, что в проплешинах струится вода и от нее курится парок — речушка все еще не хочет сдаваться морозам.
Все это знакомо, видано сотни раз, но в пути почему-то кажется ребятам новым и привлекательным.
Или вот лес по сторонам дороги. Весь он с проседью, подбит серебром и проглядывается куда лучше, чем летом. Видны сушняк, бурелом, старые пни без коры, мелкие оголенные кустики. Стволы осин нежно-фисташкового цвета, березы без своего летнего наряда кажутся тоньше и легче, и только ели, отягощенные лапами голубого снега, как всегда зимой, стоят картинно-нарядные, величавые.
Нет, шагать по зимней дороге было куда как интересно! Вот только иногда мешали встречные подводы. Пропуская их, Степа и Афоня сходили с дороги и по пояс проваливались в глубокий, рыхлый снег. Приходилось снимать валенки, выбивать из них снег и перематывать на ногах портянки. Потом Степа захромал — Шуркины валенки оказались малы и натерли ногу.
В сумерки мальчишки добрались до большого села Пустоваловки. Отыскали сельскую чайную и принялись расспрашивать продавца о Василии Хомутове: высокий такой, плечистый, с черной бородой, в мохнатой бараньей шапке.
— В шапке, говорите? С бородой? — переспросил продавец. — Кажется, сиживал такой чудак. На чай налегал крепко...
— Чай он любит! — обрадовался Афоня. — В жару ведерный самовар выпивает.
— Тогда он самый! Все с мужиками спорил. О нашем колхозе их допытывал: что да как. Потом по хозяйству ходил, примеривался ко всему.
— Это батя мой, — окончательно уверился Афоня. — Где он сейчас?
— Собирался в Дубняки податься.
— В Дубняки?! — обрадовался Степа.
— «Я, говорит, не я буду, а в Дубняках побываю». Это верст за сорок отсюда, — пояснил продавец.
— И зачем ему в такую даль переть! — пожаловался Афоня приятелю. — Мать и без того ругается. Теперь вот шлепай за ним. А ты еще ногу натер...
— Это же здорово! — Степа потряс Афоню за плечи. — Помнишь, Георгий Ильич про Дубняки отцу рассказывал и цифры всякие приводил? Помнишь? Давно бы дяде Васе в Дубняки сходить надо.
— Ну, и сходит, — махнул рукой Афоня, — пощупает, понюхает. А потом опять в берлогу да лапу сосать. Знаю я своего батю!
— А ты тоже хорош... Хомутов-второй! — упрекнул его Степа.
— Уж какой есть! — буркнул Афоня.
Немного досадуя друг на друга, мальчишки почти без сна провели ночь в чайной, а утром отправились дальше.
В деревнях, что встречались по пути, они старались узнать, не пил ли у кого чай высокий бородатый мужчина в бараньей шапке. И люди нередко подтверждали, что действительно такой мужчина у них чаевничал и все расспрашивал дорогу на Дубняки.
«Правильно идем, по следу», — думал Степа, и у него сжималось сердце. Ведь скоро Дубняки, которые ему никогда не забыть!
ДУБНЯКИ
На второй день, поднявшись на увал, мальчишки увидели черные стены изб на белом снегу, раскидистые ивы при въезде в село, на пригорке голый парк.
Это были Дубняки.
Степа на минуту приостановился, перевел дыхание и, подхватив Афоню под руку, прибавил шагу.
— Дай хоть отдышаться! — взмолился Афоня. — Сам ведь хромаешь.
Дядю Василия мальчишки нашли не сразу. Сначала им сказали, что «ходок из Кольцовки», как здесь уже прозвали Василия Хомутова, осматривает коров.
Степа с Шуркой пошли на скотный двор. Черно-белые, одна в одну, коровы стояли в стойлах и, шумно вздыхая, жевали сено.
Шла обеденная дойка. Доярки сидели около коров на низеньких, словно игрушечных, скамеечках. Струйки молока со звоном ударялись в жестяные подойники, и казалось, что в коровнике кто-то трогает балалаечные струны.
В углу, бренча цепью, возился сытый, гладкий бык, лениво толкая бревенчатую стенку страшным, как дубовый заостренный кол, рогом. Почуяв посторонних, бык выгнул шею, отчего кожа на ней собралась в гармошку, скосил на ребят лиловый, как слива, глаз и вдруг протяжно и трубно замычал.
Мальчишки шарахнулись в сторону.
— Э-эй, кто там Кузнечика дразнит? — раздался голос, и к ребятам, катя перед собой тачку с навозом, подошел скотник в кожаном фартуке. — Опять на ферму самопером пробрались... без учителя? Сказано вам, бычина посторонних не любит, аппетиту лишается. А вы ему, поди, морковь притащили, брюкву... сочный корм, так сказать. А Кузнечику этого нельзя, у него сегодня с животом непорядок... — И он вдруг распорядился: — А ну, очищайте карманы, сдавайте корма!
Степа сказал, что у них нет никаких сочных кормов и они совсем не из местной школы, а из Кольцовки и пришли сюда, чтобы найти Василия Хомутова.
— Шут вас угадает! — развел руками скотник. — Все вы, мальчишки, на одну колодку. А ваш, кольцовский, был здесь, был. Два часа по коровнику лазил. Как ревизор какой. Коровам все хвосты перещупал. Сам удои замерял. Еле отвязались от него.
— А где он теперь? — спросил Афоня.
— За лошадей, поди, взялся, — сказал скотник.
Ребята отправились на конюшню.
— Чудак какой-то! — вспомнил про скотника Афоня. — Пристал тоже с сочными кормами...
— А Кузнечик-то каков! — улыбнулся Степа. — Еще бы Букашкой назвали!
На конюшне они узнали, что «ходок из Кольцовки» уже заходил сюда, устроил коням полный осмотр, а сейчас председатель артели повел его смотреть машины.
В машинном сарае Афониного отца тоже не оказалось.
Но сразу уходить отсюда ребятам не хотелось. Вдоль стен стояли смазанные дегтем плуги, прикрытые брезентом сеялки, жатки, сенокосилки...
— Кольцовка-то побольше Дубняков будет, — заметил Афоня. — А собери все машины — и то столько не наберется.
В углу сарая мальчишки увидели приземистый трактор с высокими задними колесами, с широкой грудью радиатора, похожей на пчелиные соты.
Подтолкнув Афоню к трактору и немного щеголяя своими познаниями, Степа принялся объяснять, что этот трактор уже не американский, а наш, советский, ленинградского завода «Красный путиловец», мощность его пятнадцать лошадиных сил, и он может тянуть два плуга.
— А что с вашим «Фордзоном»? — спросил Афоня. — Так утилем и останется?
— Обещали починить шефы, — сказал Степа. — Ждем вот... А ты почему в тракторный кружок не записался?
— Не до того мне, — вздохнул Афоня.
Не утерпев, Степа забрался на холодное железное сиденье трактора и потрогал застывшую баранку:
— Газануть бы сейчас!
— Тебе газанут! — Афоня оглянулся по сторонам. — Слезай скорее!
Наконец ребятам повезло: они нашли Василия Хомутова в колхозном амбаре. Подвернув рукава шубы, Василий загребал из сусеков полные пригоршни ржи, овса, гречихи, пересыпал зерно с ладони на ладонь, наклонялся к нему, чтобы лучше рассмотреть, вдыхал его запах.
Особо заинтересовало Афониного отца льняное семя. Скользкое, золотистое, оно вытекало из ладоней, как вода, и Василий вновь и вновь погружал в сусек руки.
— Доброе зерно, отменное! — бормотал он. — Я, пожалуй, возьму на разживу щепоточку.
— Сделай одолжение! — Председатель артели, пожилой бритый мужчина в полушубке, свернул из газеты фунтик и, наполнив его льняным семенем, с улыбкой протянул Хомутову.
Василий убрал фунтик в карман. И тут в дверях амбара он заметил Афоню и Степу.
— Вас откуда принесло?
— А мы тебя ищем! — с обидой сказал Афоня. — Ушел, ничего не сказал... Мамка с ума посходила...
И он, подмигнув Степе, принялся расписывать, как кольцовские мужики и ребята всей деревней разыскивали отца по лесам и оврагам. Ради такого случая из города вызвали даже милиционера с собакой-ищейкой. Не забыл Афоня рассказать, как они со Степой всю дорогу до Дубняков шли пешком, сбили ноги, поморозили носы, истратили последние деньжонки.
— Ну, ну... — сконфуженно затоптался на месте Василий. — Я ж передавал — жив, здоров. Зря там переполошились.
— И совсем не зря! Уйди я или мамка — ты что бы стал делать? — продолжал донимать отца Афоня и наконец строго спросил: — Когда домой тронем?
— Теперь можно и домой... — Василий покосился на председателя артели, еще раз окинул взглядом сусеки с зерном и чуть приметно улыбнулся. — Теперь можно...
Из амбара все пошли к правлению колхоза. Степа шагал позади всех и вглядывался в знакомые места. Все ему здесь было памятно и дорого. Вот старый парк, где он бегал с сестренкой, вот сквозь деревья виден бывший помещичий дом... В нем когда-то находилось правление коммуны. Степа помнит, как отец, с молотком в руках поднявшись по лестнице, прибивал к стене дома железную вывеску и кричал ему: «Эй, коммунар, смотри вверх! Правильно прибиваю, не перекосил?»
А вот и она, железная вывеска.
Только надпись на ней немного другая:
Правление дубняковской сельскохозяйственной артели «Заре навстречу».
Но последние два слова те же, что и при отце, — написаны крупными красными буквами и хорошо заметны издали.
Перед домом на заснеженной поляне, заслонив полнеба, одиноко высится могучий раскидистый дуб. Он жестко шелестит бурой, пожухлой, еще не успевшей облететь листвой, словно зовет мальчика подойти поближе.
Степа поискал глазами тропинку и, не найдя ее, полез к дубу прямо через сугроб. И сразу же ноги его выше колен провалились в рыхлый снег.
— Куда тебя понесло? — оглянувшись, спросил Афонин отец.
Но Степа ничего не слышал.
Придерживая валенки за голенища и с усилием вытаскивая их из сугроба, он как одержимый шаг за шагом вспарывал снежную целину. «Забыли... никто и не ходит», — подумал мальчик.
Но вот ноги его нащупали что-то твердое — тропинка!
Узенькая, припорошенная мягким снежком и почти неприметная для глаза, она тянулась от дороги к дубу через весь сугроб.
Степа выбрался на тропинку — как же он ее не заметил раньше. Значит, ходят люди, помнят...
Мальчик, притопнув валенками, стряхнул снег и с облегчением прибавил шагу.
Председатель артели понял Степу.
— Пойдемте, Василий Силыч, — позвал он Афониного отца и свернул на тропинку. — Это вам тоже посмотреть надо.
А Степа был уже около дуба.
У подножия дерева, до половины занесенный снегом, виднелся невысокий дощатый обелиск. На верху его была укреплена пятиконечная звезда, вырезанная из жести.
Степа притоптал снег вокруг обелиска и поправил прислоненный к нему заиндевевший снопик ржи.
Искристый колючий иней покрывал обелиск, мешая разобрать надпись.
Степа наклонился, смахнул варежкой иней, потом несколько раз провел голой теплой ладонью по дощатой стенке обелиска, и на ней четко проступила надпись:
Здесь похоронены убитые врагами народа первый председатель сельскохозяйственной коммуны «Заре навстречу» Григорий Ефимович Ковшов и его жена.
К могиле подошли председатель артели и Афоня с отцом. Прочтя надпись на обелиске, Василий медленно снял шапку и посмотрел на Степу. Тот стоял, плотно сжав губы, устремив глаза в одну точку, забыв надеть на закоченевшую руку варежку.
— А ведь это сынок Григория Ефимовича, — шепнул Василий председателю артели, показав глазами на Степу. — У нас живет, в Кольцовке.
ТРОНУЛИСЬ!
Утром председатель артели распорядился запрячь в возок лучшую лошадь и доставить Василия Хомутова с ребятами в Кольцовку. Всю дорогу Василий дремал или, молча потягивая самокрутку, вглядывался в накатанную до блеска дорогу, в синие дымки над избами, в снежную слепящую светом даль за очередным увалом.
Ехали быстро и первую остановку сделали только в Пустоваловке. Пока ребята закусывали в чайной, Василий куда-то исчез и вернулся минут через двадцать. Волосы у него были подстрижены «под кружок», борода и усы аккуратно подправлены.
— Так-то вот... ходоки! — Василий загадочно усмехнулся. — Живем, значит, хлеб жуем...
Степа хотел было спросить, как понимать эти слова, и кстати напомнить о шапке: почему бы дяде Васе не сменить это грачиное гнездо на новую ушанку? Но Афоня вовремя успел толкнуть приятеля в бок и шепнул ему:
— Не мешай батьке! На него такой час накатил. Молчит, молчит, а потом ка-ак сказанет! Словно обухом вдарит.
Так всю дорогу и ехали молча.
Домой вернулись на другой день в сумерки.
Несмотря на грозные окрики жены, Василий затопил баню.
— Ты не уходи... побудь с нами, — попросил Афоня Степу.
Василий попарился, переоделся в чистое белье и послал ребят узнать, когда будет сельский сход.
— Да уж сходуют, поди... — насторожившись, ответила Катерина. — Вчера до полуночи галдели. И ныне опять за то же.
Василий надел полушубок, перекрестился на киот с иконами, что с ним случалось довольно редко, и, отстранив вцепившуюся в рукав жену, шагнул к двери:
— Пойду, Катерина! Не обессудь! Надо и нам к твердому берегу прибиваться.
Катерина с воплем кинулась за мужем.
Афоня и Степа, который задержался у Хомутовых, попытались уговорить ее и увести домой.
Но Катерина, распалившись, сорвала с головы тяжелую шаль и принялась стегать мальчишек. Им пришлось отступить.
Так и шли вдоль улицы. Позади Афоня со Степой, посредине — Катерина, которая жаловалась всем встречным, что ее беглый муженек не иначе как рехнулся, а впереди Василий Хомутов — строгий, высокий, прямой, победно выставив вперед свою круглую подстриженную бороду.
Появление Василия на собрании было замечено сразу. Заглушив речь какого-то нового уполномоченного из города, мужики и бабы разразились веселыми восклицаниями и выкриками. Василию вспомнили его неожиданное бегство из деревни, страхи жены, сына, обратили внимание на его аккуратно подстриженную бороду, праздничную, новую рубаху и высказали предположение: не собирается ли Василий обвенчаться с какой-нибудь городской кралей?
— Всё? Выговорились? Прочистили горло? — Василий строго оглядел собрание и, сняв шапку, шагнул вперед. — Теперь я скажу.
— Василий Силыч... уважаемый, — остановил его Савин. Он вел сегодня собрание. — Товарищ из города еще не закончил своего доклада. Нельзя ли в порядке очереди?..
— Нельзя ему ждать! — неожиданно выкрикнул от порога
Афоня и, испугавшись своей смелости, спрятался за чью-то спину.
Степа сжал приятелю локоть и шепнул:
— Правильно, Афоня... — И, чувствуя, что сейчас произойдет что-то необычное, вытянул шею, чтобы лучше видеть дядю Василия.
Савин пошептался с уполномоченным, с Егором Рукавишниковым, которые сидели рядом с ним за столом, и снисходительно кивнул Хомутову:
— Так и быть, говорите. Сделаем для вас исключение. Только, пожалуйста, к столу...
Василий развернул плечи, откашлялся, но к столу не пошел.
— Поездил я по округе, мужики, посмотрел, — как бы раздумывая вслух, заговорил он, — в Дубняках побывал. Есть там такая артель, «Заре навстречу». Я у них все выглядел. Справно люди живут, в согласии, дело ведут с умом. К слову сказать, зачинал ту артель наш земляк, — Василий кивнул на Степу, — вот его батька, Григорий Ковшов. Сами знаете, что с ним стало... Постоял я на его могиле, подумал: «Погиб человек, а колхоз живет, здравствует. Значит, правильно зачинал Григорий, от хорошего шел». — Он оглядел мужиков с таким видом, словно хотел сказать, как говорил обычно весной или летом: «Потеплело, мужики, пора и сеять», «Дошла ржица, можно и жнитво начинать». — И вот вам мой сказ: нас Советская власть не к плохой жизни толкает. Болтаться, как дерьмо в проруби, нам вроде и не пристало. Надобно прибиваться к какому-то берегу. А твердый берег у нас один...
— Да не слушайте вы его, беглого греховодника! — закричала Катерина, проталкиваясь к мужу.
— Помолчи! — прикрикнул на нее Игнат Хорьков. — Дай послушать. — И он попросил Василия побольше рассказать о дубняковской артели.
Кто-то дернул Катерину за полу шубы и усадил рядом с собой.
Василий оживился, потрогал бороду и охотно заговорил о коровах, лошадях, о машинном сарае, об амбаре с полными сусеками зерна. Потом, достав фунтик с льняным семенем, разрешил мужикам заглянуть в него и потрогать семя пальцами — но не больше. А еще таинственно, словно по секрету, сообщил о том, что лен — золотая жила в артели «Заре навстречу» и что дубняковский председатель не прочь ссудить урожайными семенами кольцовских мужиков, если они, конечно, станут колхозниками.
— А ты оборотист, Василий! — заметил Хорьков. — Не зря, выходит, ноги трепал.
— Коль на артель поворот, пора и о хозяйстве подумать, — разведя руками, согласился Василий.
Катерина все еще порывалась помешать мужу говорить, обзывала его чумовым, бессовестным, рехнувшимся, грозила: «Вот я тебя дома...», но ее почти не слушали, да и сама она вскоре умолкла и, сняв с головы шаль, принялась вытирать распаренное лицо.
К удивлению Степы, мужики, как обычно, не кричали. Они собирались группами, закуривали, вполголоса переговаривались.
«Ну, что вы топчетесь, чего ждете? — хотелось подтолкнуть их Степе. — Все же ясно. Идите записывайтесь поскорее».
За столом президиума Егор Рукавишников о чем-то переговаривался с уполномоченным из города.
— Тише, граждане! — постучал по графину Федор Иванович. — Сейчас товарищ уполномоченный продолжит свой доклад.
Уполномоченный поднялся и заявил, что он от продолжения доклада отказывается и предлагает сразу перейти к прениям.
— Что там к прениям! — подхватил Егор Рукавишников. — Василий Силыч яснее ясного доложил. Давайте поддержим его... Да подружнее, всем миром!
Первым отозвался Игнат Хорьков. Он поднялся над головами мужиков, как верстовой столб, и с такой силой шлепнул шапкой по ладони, что выбил из нее облачко пыли.
— Эх, была не была! Раз Хомутов передом пошел, оно и нам не так страшно. Пиши, Егорий, иду следом!
И мужики тронулись.
Один за другим они поднимались со скамеек и подходили к столу, где Егор Рукавишников, достав старый, памятный Степе список, заносил в него новых членов артели.
Егор явно не справлялся с непривычным делом — слишком часто клевал ручкой в чернильницу, перо брызгало, рвало бумагу.
Степа поднялся с места и хотел уже было вызваться помочь, но Егор не заметил его и попросил вести список Федора Ивановича.
Не успел Савин приступить к делу, как из задних рядов попросил слова Илья Ефимович.
Степа с удивлением покосился на дядю — на собраниях тот обычно молчал и до конца не досиживал. О чем же дядя собирается сказать сегодня?
— Покаюсь, граждане! — заговорил Ковшов, подходя к столу. — Я ведь тоже, как Хомутов, на перепутье стоял, колебался... Все думал в Дубняки поехать, посмотреть, что там после моего брата осталось. Да вот не удосужился. Опередил меня Василий Силыч. Но я ему верю. Человек он справедливый, совестливый, хозяин что надо... И раз на артельную жизнь повернул, не годится и нам отставать.
— Прикажете записать? — подняв голову, спросил Савин.
— Согласен... Вступаю! — почти торжественно заявил Ковшов. — Всей семьей. И других хозяев зову... Пусть все видят, какие мужики в Кольцовке! Мы с нашей властью всегда заодно. — И он кивнул Савину: — Записывайте, Федор Иваныч! Чего там других задерживать...
— Скажи на милость, и Ковшов тронулся! — не то удивленно, не то недоверчиво произнес кто-то в углу.
Федор Иванович, обмакнув ручку в чернильницу, склонился над списком, но его остановил Егор Рукавишников.
— Подождите, — вполголоса сказал он. — Пусть раньше люди скажут...
— Семью в колхоз, а коровок с лошадьми куда? — подала голос Аграфена, обернувшись к Илье Ефимовичу.
— Как по закону полагается! — с достоинством ответил Ковшов. — Все в артель сдаю. Всю живность, все постройки... Хоть сейчас забирайте.
— А с хлебом как быть? — спросил Егор.
— Сам знаешь, обидели меня злые люди. Но я голеньким в артель не приду. Разорюсь, последнее продам, но семена на посев раздобуду. — Ковшов мельком скользнул взглядом по фигуре Рукавишникова и обратился к собранию: — Решайте, граждане! Если неугоден Илья Ковшов, можете, конечно, и воздержаться. Только я от чистой души прошусь. Вижу, что настоящий мужик в артель пошел, работяга, будет с кем хозяйство вести...
— Так какое же ваше мнение, граждане? — выдержав паузу, спросил Рукавишников.
— Не худо бы пока и воздержаться, — сказала Аграфена, но ее голос сразу потонул в гуле возмущенных выкриков.
Опять эта Грунька мутит людей! Илья Ефимович готов записаться в артель, отдает все свое хозяйство, а перед ним закрывают двери, подозревают в каких-то грехах. А кто из мужиков без греха, если поглубже покопаться?
Василий Хомутов сердито доказывал Аграфене, что такого серьезного и умственного хозяина, как Илья Ковшов, следует не только что принять в артель, но даже избрать в члены правления.
Игнат Хорьков через головы мужиков кричал Егору, что артель дело добровольное, командовать тут не годится, а надо слушать, что говорят люди.
Егор развел руками:
— Ваша воля, граждане... Принять так принять. Записывайте, Федор Иваныч...
Степа зябко поежился и прижался к стене. Ему показалось, что скрип пера под рукой Федора Ивановича отозвался у него в самом сердце. Что же это такое? Всю жизнь дядя Илья смеялся над его отцом и считал, что тот жил неправильно. Ворон без зазрения совести набивал добром свое хозяйство, нанимал батраков и вдобавок спрятал неизвестно куда хлеб — только бы он не достался Советской власти. И вот теперь Ворона принимают в артель, как равного.
Нет, Степа ничего не мог понять.
И почему дядя Егор, всегда такой правдивый и смелый, так легко согласился с собранием? Почему молчит тетя Аграфена? Где Матвей Петрович? Где Крючкин?
Степа тоскливо оглядел мужиков и, протолкавшись к двери, вышел из класса.
ПОЖАР
Ночью Степа проснулся от далекого тревожного звука — где-то отрывисто, резко и часто били в чугунную доску.
— Пожар! Школа горит! — истошно закричал кто-то в углу общежития и босой, в нижнем белье выскочил за дверь.
Началась суматоха. Школьники забегали, закричали. С грохотом упал опрокинутый бачок с водой. Встав на табуретку, кто-то торопливо чиркал спичками и тянулся к лампе.
Наспех обувшись и на ходу вдевая руки в рукава пиджака, Степа выбежал на улицу.
Теперь набат доносился явственно и четко — били в чугунную доску около пожарного сарая.
Никакого пожара в школе не было. Горело где-то в деревне. Над заснеженными крышами домов поднималось багровое зарево; порозовели стекла в окнах, на фоне зарева проступили высокие голые деревья, и над ними всполошенно кружила галочья стая.
Плохо разбирая дорогу и часто оступаясь в сугроб, Степа вместе с другими школьниками — товарищами по общежитию — помчался вдоль деревни.
Пожар свирепствовал у Хомутовых. Многоцветное воющее пламя со всех сторон охватило старую избу, как шубой закутанную на зиму соломой. Шипящие языки огня пробивались сквозь крышу, вырывались из чердачного окна, лезли под застреху.
Хлопья огненного пепла, как сказочные птицы, легко поднимались вверх и летели во все стороны. У соседних изб с ведрами воды стояли бабы и девки, кропили стены мокрыми вениками, сбивали и тушили огненные хлопья.
У горящей избы Хомутовых толпились мужики, парни, мальчишки. Они носили ведрами от колодца воду, плескали на огонь, растаскивали баграми пылающую солому.
Всем распоряжался Егор Рукавишников.
Из окна с выбитой рамой летели табуретки, чугуны, тазы, обувь, одежда. Сквозь клубы дыма Степа заметил в проеме окна Василия Хомутова и Матвея Петровича.
Афоня с группой мальчишек подбирал выброшенные вещи и относил их в сторону от горящего дома, где уже в беспорядке валялись стол, сундук, кровать, постель, шкаф с разбитыми стеклами.
На вещах, прижимая к груди подушку, сидела Катерина и тупо смотрела на огонь. Рядом с ней стоял бледный, трясущийся Никитка. Неожиданно Катерина покачнулась, бросила на снег подушку и с воплем кинулась к крыльцу.
Афоня ухватил мать за полу шубы. '
— Рушник там... на гвоздике... Еще валенцы Никитины... чесанки... новые, — бормотала Катерина, пугливо косясь на огонь.
Афоня усадил мать на вещи и, заметив Степу, поманил его к себе:
— Присмотри за ней... Я сейчас! — И, нахлобучив на глаза шапку и прикрыв лицо варежкой, он бросился сквозь дымную завесу, окутавшую крыльцо, в избу.
Вскоре на крыльце появился Матвей Петрович. Одной рукой он тащил Афоню, другой придерживал самовар. Вслед за ним с ворохом одежды выскочил Василий. Он бросил одежду к ногам жены и погрозил кулаком в сторону пруда, где пожарники суетились около пожарного насоса.
— Василий... рушничок там... на гвоздике. И валенцы еще, — забормотала Катерина, хватая мужа за руку.
Василий крякнул, потер слезящиеся от дыма глаза и, пригнувшись, снова шагнул к крыльцу.
— Остерегись!.. Завалить может! — удержал его Матвей Петрович.
И как раз кстати: в сенях что-то обрушилось — видимо, прогорели стропила, взметнулось облако крупных горящих искр, затем из калитки повалил густой, черный дым, и наконец языкатый огонь забушевал с новой силой.
Василий попятился.
Разматывая брезентовый рукав, к горящей избе подбежали пожарники. Игнат Хорьков, одетый в брезентовую куртку и в блестящей пожарной каске, надел на конец рукава медный брандспойт и нацелился на огонь.
Потом, обернувшись в сторону пруда, свирепо закричал: — Вода! Где вода? Качай живее!
Плоский рукав постепенно начал оживать. Он вздрогнул, округлился, и наконец вода с треском вырвалась из брандспойта и белой шипучей струей ударилась в пылающую стену.
Василию показалось, что Хорьков слишком далеко стоит от огня. Он вырвал у него из рук брандспойт и, подтянув пожарный рукав, почти вплотную подошел к горящей избе.
Подул ветер, пламя перебросилось на сруб нового дома — загорелась щепа, стружки, а вскоре занялись и смолистые стены.
В старой избе прогорел потолок, рухнула крыша, жаркое пламя охватило сухие бревна, и изба стала похожа на плавящуюся золотую коробку.
От нестерпимого жара Василий отпрянул назад, бестолково направляя струю воды то на один, то на другой угол избы.
Но огонь было уже не унять.
Егор Рукавишников отобрал у Хомутова брандспойт:
— Отойди, Василий! Без тебя управимся... Надо сруб спасать, а не это старье. — И он принялся сбивать пламя с нового сруба.
Потом передал брандспойт Хорькову, а сам, схватив багор, скомандовал:
— Багорники, за мной!
С криками: «Раз-два — взяли!» — мужики и парни зацепляли длинными баграми верхние пылающие бревна старой избы, вырывали их из гнезд и оттаскивали в сторону. Здесь мальчишки заливали бревна водой и забрасывали снегом. Бревна шипели, чадили, стреляли угольками. Работы хватало каждому. Матвей Петрович не отпускал от себя ребят.
Мальчишки то качали пожарный насос у пруда, то таскали от колодца ведрами воду, то тушили горящие бревна снегом. Они были мокрые, черные, пропахли дымом, брови у них были опалены.
— Ты не знаешь, как загорелось? — спросил Степа Шурку, столкнувшись с ним у колодца.
— Разное говорят... — неопределенно ответил Шурка.
Мальчишки вздохнули. Кто не знает, какая большая беда для хозяйства пожар! Теперь Хомутовым придется скитаться по чужим углам, собирать на погорелое место, залезать в долги, кланяться мужикам, чтобы помогли отстроиться заново. А ведь Василий и без того замучился с новым домом. Теперь, пожалуй, он и в артель не пойдет — не до того ему. Наконец пожар потушили. На месте старой избы осталась груда черно-красного кирпича, куча чадящих досок и бревен Да вытаявшая земля. Рядом высился потемневший от копоти сруб с мокрой обугленной стеной.
Над горизонтом забрезжил рассвет. Крикливая галочья стая все еще кружила над крышами домов.
Пожарники скатывали в круг брезентовый рукав, выталкивая из него воду. Мужики, поглядывая на пепелище, вытирали шапками опаленные лица.
Василий все еще бродил вокруг сгоревшей избы, зацеплял багром то кусок половицы, то обломок бревна и тащил в сторону.
— Хватит тебе! — остановил его Игнат Хорьков, отбирая багор. — Что сгорело, то сгорело.
Пошатываясь, к пепелищу подошла Катерина. Она перекрестилась в сторону церкви, обвела глазами мужиков.
— Вот и покарал господь, наказал за грехи... — забормотала она. — А все через ваш колхоз хваленый! Заманили Василия, опутали...
— Не убивайся, Катерина! — остановил ее Егор Рукавишников. — Что покарали — это верно. Только богу теперь не до нас. Тут другие божки орудуют — местные, деревенские... — И он обратился к Василию: — Ты лучше скажи, с чего пожар начался? Фонарь во дворе оставил или за лампой недоглядел?
— Какой там фонарь! — Василий вяло махнул рукой. — Пожар снаружи вспыхнул... В трех местах солому запалили.
— Погоди, погоди... — Пораженный услышанным, Хорьков даже снял шапку. — Подожгли, выходит? С умыслом? Нарочно?
Хомутов молча развел руками.
— Василий Силыч, вы про записочки расскажите, — шепнул ему Матвей Петрович.
Мужики обступили Хомутова.
— Это что ж, граждане! — озираясь по сторонам, зло заговорил Хорьков, когда Василий рассказал об угрозах «доброжелателей». — Вражина зубы показывает! Огнем нас пугает! Да мы кто? Овцы бессловесные? Тля капустная? — Он вдруг погрозил шапкой вдоль улицы. — Повымести их отсюда к бесовой матери, чтобы землю не поганили!
— Все корни им порубить! — подхватила Аграфена.
— Так оно и будет... теперь уж скоро, — вслух подумал Егор Рукавишников.
Мужики обернулись в сторону двухэтажного дома Никиты Еремина. За ним смутно проступала изба Шмелева.
Черные от гари и копоти лица мужиков были сумрачны, белки глаз сверкали, и Степе показалось, что мужики вот-вот тронутся вдоль деревни, поднимут богатеев на ноги, притащат их к пожарищу. Смотрите, мол, что натворили ваши подлые руки! И расправятся с ними так, как это бывает в деревне с ворами и конокрадами.
— Да помолчи ты! — прикрикнул Хорьков на Катерину, которая принялась уговаривать мужа поскорее, пока не случилось новой беды, выписаться из артели. — Никуда Василий не уйдет. Некуда ему больше податься... Так, что ли, Силыч?
Василий молчал.
— Где мы теперь жить будем? Где? В сарае, на улице? — Катерина обхватила за плечи подошедших Афоню с Никиткой и запричитала: — Отец у них чурбан бесчувственный, и им ничего не остается, как надеть котомки и пойти по деревням собирать на погорелое место!
— Да не вой ты, не вой! — замахал на нее руками Игнат. — Не пойдете вы по миру... Сообразим что-нибудь.
— Верно, Игнат, — поддержал его Рукавишников и, пошептавшись о чем-то с мужиками, подошел к Хомутову: — Уйми ты свою половину. А мы тебе вот что скажем, Василий. Здесь почти все артельщики. И вот наше слово: завтра же начнем тебе новый дом достраивать...
— Мне? Новый дом?! — опешил Василий.
— Как же иначе! У врагов расчет простой. Запугать одного, другого, посеять панику, артель развалить. Нет, нам теперь всем вместе надо держаться. Волк тогда и нахален, когда стадо в разброде...
— А пока строить будем, можешь у меня пожить, — сказал Игнат Хорьков.
Его поддержали другие артельщики — места у всех хватит. Женщины окружили Катерину и принялись уговаривать, чтобы она не очень убивалась — люди помогут.
Степа во все глаза смотрел на мужиков. Вот они какие! Значит, не только умеют горланить да ругаться.
— А ты к нам в интернат перебирайся, — шепнул он Афоне. — Вместе спать будем... Топчан у меня широкий.
Василий, тиская бороду, диковато озирался по сторонам. Потом снял шапку и низко поклонился мужикам!
— Спасибо, мир честной! Век не забуду!
ОБЩИЙ ДВОР
В воскресенье Степа долго валялся в постели.
Утро выдалось морозное. Общежитие за ночь выстыло, дверь покрылась шершавым инеем, от окон тянуло пронизывающим холодом. Интернаты давно поднялись и ушли завтракать, а Степа все еще продолжал лежать. На душе было тоскливо.
Вчера комсомольцы работали на Хомутовском участке, расчищали пожарище. Потом пришли колхозные плотники, врыли в землю дубовые столбы и венец за венцом принялись укладывать на них бревна нового дома.
Вместе с другими колхозниками явился на стройку Илья Ковшов. И это более всего поразило Степу: ему казалось, что после собрания колхозники все же одумаются и не допустят Ворона в артель. Но дядя работал на стройке, как равный с равными, тесал топором бревна, курил с мужиками, рассказывал какие-то побаски.
«Присосался, клещ, — вздохнул Степа, закутываясь с головой в одеяло. Идти ему никуда не хотелось. — Вот просплю весь день, — вяло подумал он, — все и забудется». Да и какое ему до всего этого дело? Ну, приняли Ворона в артель — и приняли. Они же взрослые, у них свои головы на плечах, а он всего лишь мальчишка, школьник, залетная птица в деревне. В конце концов, ему здесь и жить-то недолго. Кончит седьмой класс, уедет в город, поступит куда-нибудь в мастерскую или учеником на завод.
Его размышления прервал Афоня Хомутов. Все эти дни после пожара он жил в общежитии и даже питался в школьной столовой. Сейчас Афоня вернулся после завтрака и поставил на тумбочку возле Степиного изголовья полную миску с гречневой кашей-размазней, выложил хлебную пайку и крошечный бумажный фунтик с сахарным песком.
— Заболел, что ли? — спросил он. — Ешь вот — двойную порцию тебе раздобыл... А жалко, что заболел. Такой день сегодня...
Степа высунул голову из-под одеяла:
— Какой такой?
— Лошадей на общий двор сводят! — оживленно пояснил Афоня. — Колхозники-то за дело берутся. Теперь артель не только на бумаге числится... — Он поглядел в окно и заторопился: — Ты лежи, ешь, а я побегу. Мне к отцу надо. Сейчас лошадь к Ковшову поведем.
— Это зачем? — насторожился Степа.
— Ну и дрыхнешь ты знатно! Так все на свете проспать можно! — засмеялся Афоня и рассказал, что вчера на собрании, когда Степа уже ушел, колхозники решили обобществить лошадей, и Илья Ковшов предложил до постройки новой конюшни свести лошадей к нему во двор.
— К Ворону?! — вскрикнул Степа. — И все согласились?
— А что ж такого? Он теперь член артели, дядя Илья. И двор у него просторный, теплый...
Степа сбросил с себя одеяло, схватил штаны и рубаху.
— Куда? — удивился Афоня. — Раз болен, лежи. Чаю могу принести...
— Нет уж, — сказал-Степа, торопливо одеваясь. — Сам говоришь, такой день сегодня...
— Ну, как знаешь, — пожал плечами Афоня.
Они вышли из общежития вместе. Афоня направился к избе Игната Хорькова, где сейчас жили его отец и мать, а Степа зашагал к дому своего дяди.
У двора с распахнутыми настежь воротами толпились взрослые и ребятишки. Снег кругом был истоптан ногами людей и лошадей, исполосован полозьями саней.
Из ворот доносился стук топоров, пофыркиванье пил — плотники заканчивали мастерить для лошадей коновязь и кормушки.
То и дело ко двору подъезжали на санях члены артели.
Егор Рукавишников, Аграфена и Илья Ковшов осматривали лошадей, сани, сбрую и все это записывали в толстую конторскую книгу.
Сначала Степе показалось, что во дворе всем распоряжается его дядя. Шумный, оживленный, в заношенном пиджаке, он ловким движением открывал лошадям рты, осматривал десны, зубы, проверял копыта, щупал кости в коленях и показывал колхозникам, куда поставить лошадь или повесить сбрую.
Почти каждому колхознику Илья Ефимович делал замечания. Одного стыдил, что тот заморил лошадь, другого корил за сбитую седелкой спину, третьему совал в руки скребницу и заставлял вычистить лошадиные ляжки и брюхо, покрытые ошметками засохшего навоза.
— Не куда-нибудь конягу привел — на общий двор! Совесть надо иметь! — громко говорил он.
Приняв от старика Курочкина, известного в Кольцовке своей скупостью, сбрую, Илья Ефимович подозрительно оглядел старый хомут, прелую, порыжевшую шлею, веревочные в узлах вожжи и брезгливо бросил сбрую к ногам старика:
— Заваль в артель сбываешь! Старье, шурум-бурум. Негоже так, Никодим Семенович! Набожный ты человек, а сразу грех на душу берешь.
— Так чем богаты... — начал было старик.
— Я-то знаю, чем вы с сынком богаты. Мы с ним вместе новую сбрую в городе покупали. А ну-ка, Федор, не поленись! — кивнул он рослому, бородатому сыну Курочкина. — Доставь сюда сбрую. Она у вас в чулане висит. Полный набор. Новенькая. И дегтем, поди, смазана...
Колхозники кругом засмеялись:
— А ведь в аккурат... Насквозь видит!
— Я ж говорил, папаша, надо по совести, — буркнул Федор и, забрав старую сбрую, направился к дому.
Степа отыскал в толпе Шурку с Нюшкой и вполголоса спросил, почему Ворон всем распоряжается.
— Так уж вот, — неохотно ответил Шурка. — Старшим конюхом назначили... начальником...
— А моя мать — за помощника у него, — со вздохом добавила Нюшка. — Только они все равно зараз поцапаются.
Степа зябко поежился, поднял воротник пиджака и заглянул во двор. Ему нестерпимо захотелось подбежать к Аграфене или к дяде Егору. Ну как они не понимают! Кому они доверили артельных коней?
Но Аграфена и Егор были заняты своими делами и не заметили Степу.
В дальнем углу двора, сердито фыркая и подозрительно косясь друг на друга, уже стояло с десяток лошадей, а рядом с ними толпились их хозяева. Они оглаживали своих лошадей по спинам, расправляли гривы, подбрасывали в кормушки сена.
— Хватит, граждане! Разнюнились тут! — прикрикнул на них Илья Ефимович. — Не сына на чужбину провожаете. Лошадям здесь плохо не будет... Напоим и накормим... — И, видя, что слова его не действуют на колхозников, он пожаловался Егору Рукавишникову: — Скажи им, председатель! Приемку только задерживают.
— Не мешайте конюхам, граждане! — попросил Егор. — Сами же их назначили.
Колхозники молча и неохотно вышли за ворота.
Ко двору приближался необычный обоз. Коротконогая, вислобрюхая лошаденка с трудом тащила широкие сани-розвальни, позади саней, скрипя немазаными колесами, тянулась телега. На телеге лежали два запасных колеса, новая ось, моток веревок и даже ведерко с дегтем.
В санях, то и дело оглядываясь назад, сидел Василий Хомутов и погонял лошадь.
— Вот это снарядился! — одобрительно заметил кто-то в толпе. — С полной выкладкой... Ничего не утаил.
Илья Ефимович первый подошел к остановившемуся обозу:
— Ай, Силыч! Да с тебя только пример брать! — И он назидательно обратился к колхозникам: — Вот как в артель надо входить... от чиста души...
— Принимай, не задерживай! — перебил его Василий и вновь оглянулся.
Ко двору, тяжело дыша, подбежал Афоня и шепнул отцу, что сюда идет мать, а с нею трое соседок.
— Выпрягай! Живо! — Василий передал сыну вожжи, а сам размашисто направился к дому.
Афоня рассупонил хомут, стащил его с шеи лошади, снял со спины остро пахнущую по́том седелку, аккуратно смотал вожжи и передал всю сбрую Илье Ефимовичу. Потом ввел лошадь во двор, привязал к коновязи и, достав из кармана кусок посоленного хлеба, сунул его в мягкие губы лошади.
— Что, молодой Хомутов, жалко расставаться-то? — подходя к Афоне, участливо спросил Рукавишников.
— Жалко! — признался Афоня. — Мы за ней знаете как ухаживали...
— Погоди, Афанасий... Через год-другой на трактор сядешь. Сразу двадцать пять лошадиных сил поведешь!
— Это когда еще будет! — возразил Афоня. — И все равно машина — она железная, мертвая. И слов не понимает. А Пегашка с понятием...
— «С понятием»! — усмехнулся Егор. — А сколько вы через нее натерпелись? То в борозде ляжет, то из стада убежит... Только и утешение, что свое, хотя и горбатенькое. Ох, уж эта жалость! Долго она еще нам ноги будет путать. — Он вздохнул и выглянул на улицу.
На дороге показался Игнат Хорьков. Стоя на коленях в санях с высоким резным передком и туго натянув вожжи, он во весь опор гнал своего Красавчика.
Точеная, красивая голова жеребца была высоко вздернута к дуге, лоснились сытые бронзовые ляжки, от задних копыт летели тяжелые ошметки снега.
Подъехав к ковшовскому двору, Игнат с ходу осадил Красавчика и уже собрался было вылезть из саней, но вдруг раздумал и махнул рукой:
— А ну, ребятня! Садись — прокачу! В последний раз. Мальчишки не заставили себя долго просить и полезли в сани.
Игнат шевельнул вожжами, гикнул и, завернув жеребца, пустил его вдоль улицы машистой рысью.
Прохожие с испугом шарахались в стороны; на поворотах сани заносило, мальчишки с визгом вываливались в снег, но Игнат, ничего не замечая, гонял лошадь из одного конца деревни в другой.
Наконец он остановил Красавчика около ковшовского двора, бросил Илье Ефимовичу вожжи и, ссутулившись, молча пошел к дому.
СЛЕДОПЫТЫ
К полудню тридцать две лошади уже стояли на общем дворе. Колхозники разошлись по домам.
Илья Ефимович искоса посмотрел на Аграфену, что хлопотала около коней: задавала им корм, поила из ведра, трепала по губам, гладила шеи, ласково называла по именам.
— Ишь, разгулькалась! — снисходительно усмехнулся Ковшов. — Хотя понять можно. Раньше ты и за конячий хвост не держалась, а теперь целая конюшня у тебя под началом. Как говорится, из грязи да в князи...
— Да и ты, Ефимыч, не прогадал, — в тон ему ответила Аграфена. — Ходишь аккуратно, через порожки не спотыкаешься...
Илья Ефимович поспешил перевести разговор на другое — кони, мол, для начала ухожены неплохо, и им, конюхам, пора отдохнуть.
— Можно и отдохнуть, — согласилась Аграфена и, оглядев лошадей еще раз, пошла домой.
Нюшка кормила сестер и братишек обедом. На столе был водружен пузатый закопченный чугун. Нюшка доставала из него горячие, как угли, картофелины; ожесточенно дуя и перекидывая с ладони на ладонь, очищала их и подкладывала ребятишкам, приговаривая при этом: «Петьке дала, Маньке дала...»
Малыши обмакивали картофелины в блюдце с льняным маслом, посыпали солью и уничтожали с такой быстротой, что Нюшка начала даже сердиться: «Чего как на пожар гоните! Остепенитесь!»
На лавке у бокового окна, молчаливый и насупленный, сидел Степа.
— Чего ж гостя не угощаешь? — заметила Аграфена дочери.
— Я звала... он говорит, что сытый, — сказала Нюшка, кинув на Степу вопросительный, жалостливый взгляд. Потом спохватилась и строго добавила: — Сидит как истукан! Хотя бы картошку помог лупить... Видит, что не поспеваю.
Степа поднялся и молча подошел к столу.
В доме Ветлугиных, куда Степа часто заходил в последнее время, он многому научился. Научился готовить мурцовку — незатейливую еду из воды, хлеба, лука и нескольких капель льняного масла, сучить варовину и подшивать валенки, которые «просили каши», искусно ставить заплатки на одежду, почти без мыла стирать белье, мастерить из обыкновенных дощечек и чурок презабавные игрушки для ребятишек. И все это он делал охотно, с интересом.
Вскоре малыши были накормлены и занялись своими делами.
Аграфена, вымыв руки, села за стол и усадила рядом с собой Степу:
— Ешь, не чванься. Чего-чего, а картошки хватит. — И, помолчав, спросила: — Ты чего во дворе у Ковшова смотрел на меня так? Спросить хотел о чем-нибудь?
— Да нет... вам показалось, — уклончиво ответил Степа, давясь обжигающей картошкой.
— Не юли, не обучен еще! — погрозила ему Аграфена. — Знаю, о чем спрос. О дяде, о Вороне. Зачем его в артель записали? Зачем коней доверили? Так ведь?
— Так, мамка, так! — поспешно закивала головой Нюшка. — Степка так и сказал: дядю Илью к коням допустить — все равно, что волка в овчарню...
Степа с досадой покосился на Нюшку, и Аграфена поняла, что ребята до нее уже обо всем переговорили.
— Вот и я под стать тебе думаю, — помолчав, хмуро заговорила Аграфена, обращаясь к Степе. — Не нашего он поля ягода, Ворон этот. Ластится, льнет к нашему делу, а чую — не к добру. Надо бы его подальше от артели держать. Мы с Матвей Петровичем так Егору об этом и сказали. И даже поругались с ним. А Егор свое твердит: у Ворона, мол, полно родни в деревне, кумовья да сваты всюду. Отпугнем его — он других от артели потянет. Вот и приходится его терпеть.
— А все равно коней ему зря доверили, — упрямо сказал Степа. — Будет, как с хлебом... А там ищи-свищи...
— Ну уж нет! За коней я головой отвечаю. Мне так Егор и наказал: «За конями гляди в оба, да и с Ворона глаз не спускай». — Аграфена густо посолила картошку, но есть не стала, задумалась. — Вот если бы нам тот хлеб найти! Мы бы тогда Ворону руки укоротили! Заказали бы ему по нашей дорожке ходить...
— Мы искали... все закоулки обшарили, — вполголоса призналась Нюшка.
Степа вздохнул. Это верно, в начале зимы ребята еще кое-что делали. Забирались в сараи, овины, погреба. Острыми кольями пронзали ометы соломы и стога сена, старались нащупать мешки с зерном. Подолгу бродили по лесу, зорко высматривая, нет ли где следов свежевыкопанной земли. Подозрительно осматривали каждую кучу хвороста. А хлеб словно сквозь землю провалился...
— Плохо мы искали, — признался Степа.
С этого дня присматривать за Вороном стали еще пуще.
То и дело Шурка и Степа появлялись около дома Ковшовых, заглядывали во двор, где стояли лошади, запоминали, кто и куда выезжает на них, кто приходит к Ковшовым.
Илья Ефимович не раз наталкивался во дворе на ребят и с досадой говорил, что школярам на артельной конюшне делать нечего.
— А у нас задание от комсомольской ячейки. Конюхам помогать, — торопливо объясняли Шурка и Степа и принимались чистить лошадей или вытаскивать со двора навоз.
— Пусть стараются, — заступалась за мальчишек Аграфена. — Нам же легче.
Следили за Вороном и Нюшка с Таней.
Начиная с сумерек, девчонки уже были наготове.
Выходил Илья Ефимович к лошадям, шел в сарай или амбар, отправлялся к кому-нибудь из знакомых или родственников — Таня молниеносно вызывала Нюшку и они как тени следовали за Вороном.
Ничего теперь не укрывалось от глаз девчонок. Они все примечали: кто приходил к Ковшовым пешком, кто приезжал на подводе, долго ли гость сидел у дяди Ильи, что привозил и увозил с собой.
Девочки всё ждали, что вот-вот дядя Илья как-нибудь поздно вечером направится к избе Горелова, вызовет его таинственным стуком на улицу, потом, забрав лопаты, они, крадучись и воровато озираясь, пойдут в какой-нибудь овраг или старую ригу, вскроют яму и долго будут проверять, не сопрело ли зерно. И тогда-то Нюшка с Таней подадут сигнал тревоги...
Но ничего подозрительного они не замечали.
К Горелову дядя Илья не заходил, словно забыл дорогу к его дому, а все больше посещал крестьянские избы или сидел с мужиками в чайной, пил крепкий чай, заказывал яичницу на сковородке и вел мирную беседу.
Таня с Нюшкой заглядывали в окна; коченея от холода, топтались у крыльца и ждали, когда дядя Илья выйдет из чайной.
— Да ну его! — жаловалась Таня. — Я ноги поморозила. Побежали домой?
— Нельзя, — удерживала ее Нюшка. — Нам Степа что наказал?.. Давай в петуха сыграем, погреемся. — И, поджав одну ногу, она, как петух-забияка, принималась прыгать вокруг подруги и толкать ее плечом.
Иногда к девочкам присоединялся Степа. Как-то раз поздним вечером они заметили, что Илья Ковшов направился к дому Никиты Еремина. Подошел со стороны огорода к старой бане и постучал в дверь. Ему долго не открывали. Илья Ефимович постучал сильнее. Наконец из предбанника раздался голос Фомы-Еремы:
— Кто там? Чего надо?
Илья Ефимович назвал себя и сказал, что ему надо повидать Никиту Силантьевича по важному делу.
За дверью еще немного помедлили, потом дверь со скрипом приоткрылась, и Илья Ефимович, пригнувшись, пролез в баню.
Нюшка высказала предположение, что Ворон, как видно, не зря пришел к Никите Еремину.
Сам Никита хлебозаготовку выполнил сполна, с обыском к нему никто не пойдет, и ему тем удобнее и безопаснее укрывать чужой хлеб. К тому же у Никиты на усадьбе столько чуланов, сарайчиков и всяких пристроек, что спрятать мешки с зерном ничего не стоит. Может быть, хлеб закопан даже в бане, под полом.
— Может, и так, — согласился Степа. — А как докажешь? Надо наверняка бить...
Степа и девочки подошли к бане. Единственное оконце было закрыто ставнями. Сквозь узкие щели пробивался желтый свет. Все припали к щелям и замерли. Но вскоре Нюшка призналась, что она ничего не видит, хотя и поцарапала о шершавую ставню всю щеку.
Зато Степе повезло. Рядом со щелью оказалась дырка от выпавшего сучка, и через нее Степа увидел склонившееся над корытом лицо Никиты Еремина, его руки и часть змеевидной трубки.
— А мы, кажется, с уловом! — шепнул Степа девчонкам и дал им заглянуть в дырку.
— Это же змеевик! — обрадовалась Нюшка. — Вот так пророк Еремей! Судили его, в милицию таскали, а он опять самогонку гонит. Надо сообщить кому следует...
Переступив порог черной, продымленной бани, Илья Ефимович сразу догадался, что Еремин готовится гнать самогонку. У печки лежали сухие березовые дрова, в большой кадке пузырилась темная, остро пахнущая гуща, а сам хозяин прилаживал над корытом длинную змеевидную трубку.
— Промышляешь, Силантьич? Божью слезку собираешься гнать? — спросил Илья Ефимович.
— Хоть душу залить. Все равно жизнь поломатая! — буркнул Еремин и подозрительно покосился на Ковшова: выбритый, сытый, в добротной шубе, тот, казалось, совсем не унывал. — Зачем пожаловал-то... колхозничек?
— А-а, ты вот о чем! — улыбнулся Илья Ефимович. — Можешь поздравить — полноправный член артели «Передовик». И облечен к тому же доверием — конями ведаю. За такое дело не грех и чарку пропустить...
— Присосался к чужому телу! — не скрывая неприязни, проговорил Еремин. — Ну, и оборотень же ты, Илюха! Так, гляди, и в коммунисты пролезешь.
— Ха, в коммунисты! — хохотнул Ковшов. — Да нет, мне и того, что есть, хватает пока. А там поживем — увидим... — Он опустился на скамейку и, посерьезнев, спросил: — Хомутову «красного петуха» подпустили — твоя со Шмелевым работа?
— А ты что, дознание пришел снимать? — насторожился Еремин.
— Поздно спохватились, только народ обозлили. Понимать надо! Теперь его ничем не остановишь — валом в колхозы попер. — Илья Ефимович оглядел вытянутое лицо Еремина, его клочковатую бороду. — Вот что, Силантьич... Тебя уже в список занесли, раскулачивать будут. Уезжай-ка, пока не поздно. Ночью, по-темному, да подальше. Затаись там, пересиди эту булгу...
— Откуда про список знаешь?
— Есть добрые люди, просвещают иногда, — уклончиво ответил Илья Ефимович. — Сейчас с вашим братом круто повернут. В Сибирь могут выселить. Не упрямься, Силантьич, дело говорю... Я старую дружбу не забываю.
У Еремина задрожали руки.
— Спасибо хоть за это! — сказал он сдавленным голосом и, не успев приладить к печке змеевик, швырнул его в угол и, как подстегнутый, заметался по тесной бане. — Бежать, говоришь, ночью, тайком... А добро куда? Хлеб? Скотину? Так и оставить чужим на поживу?
— Зачем же чужим? — спокойно заметил Илья Ефимович, выждав, когда Еремин успокоился. — Чего сам не увезешь, мне откажи. Вот хлебушек, к примеру...
Еремин с удивлением поднял голову:
— Закружил, Ворон, почуял добычу!
— Твоя ж наука, Силантьич. Как видишь, впрок пошла... Да ты не убивайся! Я хлеб в такой ли тайник схороню... — Илья Ефимович не договорил — снаружи раздался настойчивый стук.
Фома-Ерема выскочил в предбанник и припал к двери. Стук повторился.
— Скажи, что моемся, — шепнул сыну Еремин.
— Чего надо? Мы банимся! — крикнул Фома-Ерема.
— Открывай, открывай! — потребовал из-за двери чей-то голос. — Мы из сельсовета, по делу.
— Влип ты, Силантьич... Вот уж некстати! — встревожен-но шепнул Илья Ефимович. Да он и сам не хотел, чтобы сельсоветчики застали его в бане у самогонщика.
Стук в дверь усилился. Еремин убрал корыто, забросал змеевик соломой. Потом прикрыл рогожей кадку с гущей, достал веник, шайку, налил в нее воды из ведра и принялся раздеваться.
— Прячься под полок! — приказал он Ковшову. — А я вроде как мыться буду.
— Да кто же в холодной воде моется! — рассердился Илья Ефимович. — Лезь тогда в барду, она еще теплая.
— Смеешься, Илюха! Добро-то поганить...
— Лезь, не кочевряжься! Скажешь, что ревматизм замучил, прогреваешься...
Сбросив штаны и рубаху, Еремин, кряхтя и охая, полез в кадку с гущей. Илья Ефимович спрятался под полком и прикрылся рогожей.
Фома-Ерема открыл дверь. В баню вошли член сельсовета и Ваня Селиверстов с комсомольцами.
С болезненным выражением лица Никита Еремин принялся им жаловаться на ревматизм.
Наклонившись над кадкой, комсомольцы вдохнули острый спиртной запах гущи. Член сельсовета пошарил в углу и вытащил из-под соломы змеевик.
— Так где актик будем писать? Насчет ревматизма-то? — усмехаясь, спросил он. — Здесь или в избу пойдем?
Еремин мелко закрестился и забормотал, что такого богохульства — не дать человеку прогреть больные кости — бог никому не простит.
Давясь смехом, комсомольцы помогли Еремину выбраться из кадки.
НОЧНОЙ СТОН
Кружок юных трактористов собирался каждую неделю. Матвей Петрович и Георгий Ильич проводили занятия то в классе, то в школьном сарае прямо у трактора.
Занимались все с интересом, особенно Нюшка. Она не расставалась с учебником по тракторному делу, вызубрила названия всех частей и без конца упрашивала ребят «погонять ее по трактору».
Нюшке очень нравились новые и такие звучные слова, как «карбюратор», «магнето», «жиклер», и она без конца, к месту и не к месту, употребляла их в разговоре.
— Нюшка на тракторе! Вот это картина будет! — потешался Уклейкин. — Трактор стоит в борозде, а Нюшка бегает кругом, порет его хворостиной и верезжит на все поле.
— Ладно, ладно! — отмахивалась Нюшка. — Сунешься мне под колеса — потрохов не соберешь!
По вечерам около «Фордзона» возился Матвей Петрович с кружковцами, приходил в школьный сарай Георгий Ильич, иногда заглядывал Егор Рукавишников. Он с опаской поглядывал на мотор, на сложное и загадочное переплетение трубочек и проводов, разводя руками:
— Мудрено все очень... легче блоху подковать.
Потом приехал из города Крючкин с тремя слесарями. Они привезли с собой набор запасных частей, жили в колхозе три дня, перебрали весь мотор и окончательно нарушили покой кольцовских мальчишек. А кружковцы — те просто не могли спокойно сидеть на уроках и все время настороженно прислушивались, не загудит ли в сарае тракторный мотор.
На четвертый день Крючкин и его помощники довольно неожиданно уехали, а трактор как стоял, так и продолжал стоять в сарае, холодный и недвижимый.
— Утиль, значит? Не будет мотор работать? — огорченно допрашивали кружковцы Матвея Петровича.
Учитель объяснил: все, что можно, слесари сделали, теперь дело упирается в такие запасные части, которые вручную изготовить нельзя. Нужно достать новые поршневые кольца, свечи, магнето, карбюратор и еще кое-что. Правление колхоза уже послало в район письмо с просьбой обеспечить трактор запасными частями, а Крючкин обещал где следует протолкнуть это письмо.
— Бумага ходит, контора пишет, а мы без дела сиди! — обиделась Нюшка.
— Дело найдется, — сказал Матвей Петрович. — Начнем с первой заповеди тракториста — мытье и чистка.
И кружковцы принялись за работу. Притащили тряпки, ведра с горячей водой, керосин.
Как-то само собой получилось, что мойкой и чисткой командовала Нюшка. Она доводила до блеска все, что только могло блестеть в машине, и не без удовольствия обличала мальчишек в том, что они грязнули и неряхи.
Потом возникла мысль покрасить машину. Тут уж в каждом мальчишке проснулся прирожденный художник, и они принялись изощряться в выборе колеров. Большинство высказалось за революционный красный цвет, но красной краски хватило только на колеса, а остальные части машины пришлось покрасить оранжевой.
На капоте нарисовали пятиконечную звезду и перекрещенные серп и молот, а на железных крыльях крупно написали: «Колхоз «Передовик».
Своей работой мальчишки остались вполне довольны, хотя Нюшка сказала, что от такой огненной машины будут шарахаться все лошади.
Вскоре из района пришло извещение, что колхоз «Передовик» может получить запасные части.
Рукавищников направил за ними Ваню Селиверстова.
В воскресный день, когда Ваня отправился пешком на станцию, за околицей его догнали Степа и Шурка и заявили, что они едут с ним в город.
— Это еще зачем? — удивился Ваня.
— Да так... — многозначительно сказал Шурка. — Всякое может случиться. Один — это один, а трое — трое...
Ваня, пожав плечами, заметил, что, на худой конец, он и один справится с кем угодно, но, если ребятам лень готовить уроки, они, конечно, могут с ним поехать.
Степа и Шурка постарались пропустить последние слова мимо ушей.
Не успели ребята отойти и километра от Кольцовки, как их нагнала Нюшка и упрямо заявила, что она тоже желает поехать в город.
— Хороши, нечего сказать! Только себя и считают трактористами, а девчонки, мол, для виду в кружок записались. А я вот поеду с вами, и вся недолга!
— Нет уж, хватит мне сопровождающих! — рассердился Селиверстов и приказал всем поворачивать обратно.
Шурка обозвал девочку вредным сучком и двинулся было на нее с кулаками.
— Ладно, — примиряюще заявил Степа. — Идите вы с Нюшкой. Я останусь.
К обеду Ваня Селиверстов, Нюшка и Шурка добрались до города, взяли на складе запасные части для трактора, потом зашли на завод к Крючкину, получили еще кое-какие детали и только в сумерки поехали обратно.
От станции к Кольцовке возвращались уже поздно вечером. Было темно, дорога шла то лесом, то полем.
Запасных частей набралось немало, и Ваня с Шуркой, чередуясь, тащили тяжелый мешок; Нюшка несла мешок полегче.
— Ну и нагрузил Крючкин! — отдуваясь, сказал Шурка Селиверстову. — А ты еще нас с собой брать не хотел.
— Тащи знай! — буркнул Ваня. — Трактористу жаловаться не положено.
У Замызганок на поваленной ветром сосне ребята присели отдохнуть. Шурка стал поддразнивать Нюшку Степой: вот это парень так парень, ради подружки готов на все, даже в город не поехал.
— А может, ему и не хотелось? — возразила Нюшка.
— Говори мне! А кто задачи для тебя решает, изложения пишет? Третьего дня Степка так запутался, что вместо своей твою тетрадку учителю подсунул. А тот возьми да объяви: «Ветлугина Нюша, к доске». Весь класс как грохнет. Семка Уклейкин от смеха даже икать начал.
— Ну и дурак! — сердито бросила Нюшка.
— Уклейкин-то?.. Есть малость.
— Ты дурак!
Шурка опешил:
— Ох, Нюшка, и горазда же ты ругаться! Как тебя Степка только выносит...
— Погодите вы! — шикнул на них Ваня Селиверстов. — Стонет кто-то.
Ребята прислушались. Откуда-то из-за кустов действительно доносился приглушенный, слабый стон. Вскоре он замер, потом вновь повторился.
— Может, заболел кто? — поднимаясь, шепнула Нюшка. — Или замерзает? Пошли посмотрим...
Ваня велел девочке сидеть около мешков, а сам вместе с Шуркой направился в ту сторону, откуда слышался стон. Нюшка осталась одна.
Прошло несколько минут, и за кустами вновь жалобно застонали, но теперь уж совсем в другой стороне. Нюшка крикнула Ване и Шурке, что они не туда пошли, но ребята были уже далеко и не расслышали ее. Тогда девочка, сгорая от любопытства, сама полезла за кусты. Стон повторился еще раз, но опять-таки довольно далеко от нее.
Так Нюшка и перебегала от куста к кусту, пока не догадалась, что ее кто-то дурачит. Она плюнула и вернулась обратно. Каковы же были ее удивление и испуг, когда она не обнаружила около поваленной сосны мешков с запасными частями!
На крик Нюшки примчались ребята. Ваня только за голову схватился: что-то теперь скажут дядя Егор и Матвей Петрович?
Шурка набросился на Нюшку с упреками: как она смогла отойти от мешков? Да и вообще, когда девчонки лезут не в свое дело, жди какой-нибудь беды.
В другой раз Нюшка нашлась бы что ответить на такие нахальные слова, но сейчас, чувствуя свою вину, она только зашмыгала носом:
— Ладно... Сама дяде Егору признаюсь. И пусть меня...
— Все мы хороши! — сердито перебил ее Ваня. — Развесили уши, попались на крючок... Пошли лучше мешки искать.
Ребята долго ходили по Замызганкам, шарили в кустах, но все было безуспешно.
Мрачные, злые, направились они в Кольцовку. В темноте показалось здание школы.
— А знаете что! — горячо зашептала Нюшка. — Давайте все же ребят поднимем. Да побольше. Всю местность прочешем... Найдем мешки, должны найти!
Ваня согласился — иного выхода не было, — и ребята повернули к общежитию.
В это время из стога сена, что стоял в ложбине около реки, осторожно выбрались трое — Фома-Ерема, Филька и Уклейкин. Они прислушались и, убедившись, что кругом все спокойно, вполголоса заговорили.
— Ну, Семка, и ловко же ты стонать умеешь! — фыркнул Филька. — Зараз артельщиков подсидели. Теперь уж они не покатаются на своем тракторе — кишка тонка!
— Отец говорит, теперь всегда так будет, — сказал Фома-Ерема. — Все в тартарары полетит у этих колхозников. Сено будет гореть, скот дохнуть, зерно пропадать... Раз руку на нас занесли, пусть и сами пощады не просят!
Он обвел глазами темнеющие за рекой овины, сараи, ометы соломы, словно прицеливался, что бы еще такое сотворить напоследок, потом ткнул кулаком в стог сена:
— Это чье? Артельное, нет?
— Хватит тебе! — испугался Филька, угадывая мысли Фомы-Еремы. — Еще влопаемся. Давай следы заметать. — И он спросил, куда девать мешки с запасными частями.
— А пусть Семка забирает, — расщедрился Фома-Ерема. — Чем не чаевые! Хочет — меняет, хочет — продает.
— Спасибочки! — заартачился Уклейкин. — Чтобы меня сцапали за эти железки? Сами лопайте! А мне выдавай, что обещано.
— За нами не пропадет, — успокоил Филька и предложил утопить мешки в реке.
На другой день Степа, Шурка и Нюшка подняли по сигналу тревоги всех «артельщиков» и вывели их на поиски пропавших запасных частей.
По твердому насту ребята обошли Замызганки, обшарили все овраги, овины, просмотрели ометы соломы и стога сена — мешков нигде не было.
Поиски продолжались и на другой день, и на третий...
Нюшка извелась, ходила виноватая, жалкая, стараясь не глядеть ребятам в глаза.
Только на четвертый день, бродя по замерзшей реке, Афоня и Степа наткнулись на прорубь во льду, и их осенила догадка. Они пошарили в проруби багром и достали со дна реки два тяжелых, громыхающих металлом мешка.
СЛЕД ПОТЕРЯЛИ...
Через три дня чуть свет Шурка прибежал в общежитие и, разбудив Степу, сообщил ему новость: сегодня ночью исчезли из Кольцовки Еремины.
Они угнали своих коров, лошадей, вывезли все добро из сундуков, хлеб из амбара, и сейчас на ереминском доме висит тяжелый замок, а у крыльца на цепи бродит лютый Полкан и никого не подпускает к дому.
Отец Шурки, Матвей Петрович и еще несколько колхозников оседлали лошадей и верхами поехали догонять Ереминых.
— Драпанули, значит! — обрадовался Степа. — Туда им и дорога. Другим мешать не будут.
— А это видал? — Шурка достал из-за пазухи листок бумаги. — Послание нам... У себя на крыльце нашел.
«Степке Ковшову и всем его собакам-ищейкам, — прочел Степа. — Живите да оглядывайтесь! Мы еще встретимся на узкой дорожке и за все посчитаемся!»
Подписи под запиской не было, но Шурка принялся уверять, что почерк с такими загогулинами может быть только у Фомы-Еремы.
— Ну как, дрожишь? — осведомился он. — Страшно?
— Дрожу — печку не натопили, — усмехнулся Степа, натягивая рубаху. — А так вроде ничего.
— А знаешь что? — предложил Шурка. — Возьмем лошадей на конюшне — и тоже в погоню. Посмотрим, как Ереминых захватят. Да еще Фоме-Ереме накостыляем, чтобы не грозился.
Мальчишки недолго думая направились на конюшню, но Илья Ефимович резонно заявил, что без разрешения председателя он коней не даст, тем более несовершеннолетним школярам.
Не поддержала ребят и Аграфена.
Пришлось Шурке и Степе отправиться на занятия.
Весь день поглядывали они в школьные окна, поджидая, когда же вернутся из погони колхозники.
Те приехали только к вечеру. Впереди всадников двигалось двое саней, груженных пятью тушами убитых коров и телок, а за ними, сгорбившись, шел Никита Еремин с женой и дочерью. Но Фомы-Еремы и его старшего брата Оськи среди них не было.
Оказалось, что, когда погоня стала настигать ереминский обоз, Оська пострелял из обреза всех коров и телок, потом вместе с Фомой-Еремой они выпрягли из саней лошадей и, вскочив на них, скрылись в лесу. Старика Еремина колхозники застали около мертвых коров в неутешном горе. Он проклинал душегуба-сына и требовал, чтобы того поскорее нагнали. Тут же выяснилось, что сани были набиты разным домашним скарбом, но в них не было ни одного мешка семенного зерна.
— Нечего мне увозить было. Все на заготовку сдал до зернышка. Хоть верьте, хоть нет, — упрямо твердил Еремин.
А еще через несколько дней в Кольцовке началось раскулачивание. Кулацкие хозяйства были выселены из деревни. У них отобрали лошадей, коров, запасы зерна, сельскохозяйственный инвентарь, машины и все эта передали молодому колхозу.
Выселили из деревни и Никиту Еремина. Перед отправкой в район он ходил по избам без шапки, всклокоченный, в шубе нараспашку, падал перед мужиками на колени и слезно умолял простить его прегрешения... Вот жил он, Никита Еремин, карабкался вверх, как глупая букашка по травинке, а подул ураган — и он сброшен вниз, втоптан в грязь, и даже собственные сыновья бросили его на произвол судьбы.
Еремин все пытался повидать Илью Ефимовича, лез к нему в избу, но Ковшов упорно отсиживался во второй половине дома. Все эти дни он жил в тревожном ожидании, что гроза может разразиться и над ним. И только через Фильку Ковшов решил сообщить Еремину, что его хлеб скрыт в надежном месте.
Наконец раскулачивание закончилось, деревня приутихла, и Илья Ефимович облегченно вздохнул — грозу пронесло.
Но сегодня, вернувшись из школы, Филька передал отцу, что директор школы просит его вечером зайти к нему на квартиру. ,
«Опять дела да наказы...» — чуть было не сказал Илья Ефимович, но, покосившись на сына, сдержался.
— Попозже велел зайти, — повторил Филька. — И чтобы не очень приметно...
— Времени хватит — схожу! — недовольно буркнул отец.
Поужинав, он вместе с Аграфеной задал коням корму, переждал еще немного и часам к десяти вечера отправился к школе.
После того как Савин перестал заходить в дом к Ковшовым, Илья Ефимович даже обрадовался: меньше будет беспокойства, тревожных разговоров, всяких неожиданных поручений.
Но Савин не забыл Илью Ефимовича. Он то приглашал его к себе на квартиру, то передавал с Филькой записки, то присылал школьного сторожа.
Задания и поручения росли с каждым днем. Особенно ошеломило Ковшова последнее поручение— поддержать на собрании Василия Хомутова и записаться самому в члены артели. Сначала Илья Ефимович наотрез отказался от этого: лучше он бросит все хозяйство и уедет в город, чем станет работать бок о бок со всякой голытьбой, вроде Груньки Ветлугиной и Егора Рукавишникова.
Илья Ефимович до сих пор помнит тот вечер, когда об этом зашел разговор. Савин кричал на него, топал ногами. Он доказывал, что хотя Ковшов и считается умным человеком, но сейчас действует глупо, опрометчиво, под стать Еремину и Шмелеву. Бежать в город Илье Ефимовичу уже поздно; скорее всего, он попадет под раскулачивание, лишится всего своего добра, и его, помимо воли, выселят из деревни. Выход остается только один — сделать искусный ход и вместе со всеми пойти в колхоз.
Осторожненько напомнил Савин и о спрятанных мешках с хлебом: достаточно ему, директору, сказать хоть одно слово, и Ковшову явно не поздоровится.
Схватившись за голову, Илья Ефимович, в свою очередь, закричал, что директор вьет из него веревки, превратил в своего подчиненного, но в конце концов вынужден был согласиться.
— Вот и договорились! — улыбнулся Савин. — Значит, так на собрании и скажете — умненько, душевно...
А после вступления Ковшова в колхоз произошли еще более неожиданные вещи.
На собрании членов артели, когда зашла речь об обобществлении лошадей, Савин предложил занять двор Ковшова, а самого Илью Ефимовича, как человека грамотного и хозяйственного, назначить старшим конюхом. Директора школы поддержали Игнат Хорьков и Василий Хомутов: «Послужи обществу, Ефимыч... Ты в конях толк понимаешь».
Пораженный, Ковшов начал отказываться, но, поймав сверлящий взгляд маленьких свинцовых глаз директора, махнул рукой: «Раз общество просит — уважу!»
«И зачем я ему снова понадобился? — раздумывал сейчас Илья Ефимович, шагая вдоль улицы. — Неужто Савин что-нибудь новенькое придумал? Может быть, еще лошадей голодом морить заставит или сапом заразить. С него станется... Школой заведует, детей учит, а сам, как матерый волчище, вцепится в горло — не оторвешь. И откуда только такой забежал в Кольцовку?..»
Клейкий пот выступил у Ильи Ефимовича на спине. Он остановился, расстегнул верхний крючок дубленой шубы. А может, не ходить к директору? Это ведь верная гибель, если он, Ковшов, начнет пакостить на конюшне. За ним и так во все глаза смотрят. Недаром председатель артели приставил к нему вторым конюхом Аграфену.
Да еще эти чертенята-ребятишки, Степкины ищейки, следят за каждым его шагом. И как только ему удалось переправить ереминский хлеб и ни на кого не нарваться! Прямо повезло! Да и Филька молодец, научился на карауле стоять. Надо будет ему обновку справить, побаловать парня...
Илья Ефимович воровато оглянулся — нет, сегодня, кажется, никто за ним не смотрит.
Но что это? Мимо палисадников крадутся две фигуры. Они то остановятся в густой тени, что отбрасывают избы, то стремглав перебегают через голубую лунную прогалину и опять затаиваются.
Илья Ефимович прибавил шагу и перешел на противоположную сторону улицы. Фигуры сделали то же самое. Илья Ефимович дошел до конца деревни, где дорога поворачивала к школе, и, оглянувшись, присел за омет соломы.
Вскоре фигуры поравнялись с ометом, замедлили шаг, и Ковшов услышал их разговор.
— Куда же он подевался?
— Должно, к школе повернул, к директору... — И зачем он ходит к нему?
— Кто его знает... Раньше все Федор Иваныч к дяде заглядывал, а теперь почему-то дядя к директору бегает...
«Скажи на милость, и девчонки ищейками заделались!» — подумал Илья Ефимович, узнав по голосам Таню и Нюшку.
Первой его мыслью было нагнать девчонок, отодрать их за уши и отослать домой. Но потом мелькнуло другое...
Илья Ефимович снял шубу и вывернул ее шерстью наружу.
Таня и Нюшка, пройдя еще немного по освещенной лунным светом зимней дороге, замедлили шаг и вскоре повернули обратно.
Когда же они поравнялись с ометом соломы, в ноги им с хриплым рычанием бросился огромный лохматый зверь.
Обмерев от страха, девчонки завизжали, шарахнулись в сторону и, увязая по колено в сугробах, побежали к деревне.
И только когда они добрались до первой избы, Нюшка догадалась, что их перепугал не кто иной, как Илья Ковшов.
— А я сапог потеряла! — испуганно призналась Таня, обнаружив, что на левой ноге у нее нет валенка.
Нюшка всплеснула руками. Мало того, что подруге попадет теперь за валенок, дядя Илья, наверно, еще догадался, что они шли за ним следом.
— Ах ты, невезучая... вроде Митьки Горелова! — упрекнула Нюшка и полезла искать в снегу валенок.
Таня как цапля, поджала ногу и, растирая ее руками, осталась на дороге. Подруга долго не возвращалась. Она шла по старым следам, рылась палкой в снегу, но валенка нигде не было видно.
— Нюш, у меня нога коченеет... — позвала ее Таня.
Нюшка поняла, что с морозом шутки плохи. Она перестала копаться в снегу, сорвала с головы платок и обмотала им замерзшую ногу подруги.
— Бежим в общежитие... тут близко.
Вскоре девчонки были в теплом, натопленном общежитии. Степа первый бросился навстречу сестренке:
— Кто тебя?
— Потом, потом... Неси снегу! — приказала Нюшка.
Сгорая от любопытства, интернатцы обступили девчонок и забросали вопросами. Любопытно было знать, от кого это Таня так улепетывала, что потеряла валенок.
Никому ничего не объясняя, Нюшка усадила Таню и до красноты растерла ей ногу. Только после этого, отведя Степу в сторону, она вполголоса рассказала ему, при каких обстоятельствах Таня потеряла валенок.
— А куда Ворон пошел? — спросил Степа.
— Не знаю... Мы его след потеряли...
— Тогда вот что... — подумав, распорядился Степа. — Возьми Афоню и иди с ним искать валенок. А я побуду у школы...
ВО ФЛИГЕЛЕ
Перепугав Таню и Нюшку, Илья Ефимович обогнул кругом школу и отыскал калитку, ведущую в сад. Привычным движением он нажал щеколду, прошел мимо заснеженных деревьев и цветочных клумб к флигелю и как дятел постучал в боковое окно.
Вскоре на крыльце показался Савин.
— Поздновато, Ковшов! Ждать себя заставляете, — заметил он, вводя Илью Ефимовича в полутемную комнату.
— Так дела же, Федор Иванович, обуза! — пожаловался Илья Ефимович. — Двадцать пять коней во дворе. А я как-никак старший конюх... по вашей милости.
Савин, казалось, не заметил недовольного тона Ковшова.
— Обуза обузой, а от ночной работы не отказались... ереминский хлеб-то прибрали.
— Зачем же добру пропадать...
— Жадность одолевает... Опасную игру ведете, — холодно заметил Савин.
— И верно, опасную, — вздохнул Илья Ефимович. — Знаете, почему я еще задержался? Ребятишки по пятам ходят. Степка, как видно, целую компанию сколотил. — И он рассказал о встрече с Таней и Нюшкой.
— А они, случайно, за вами не увязались? — встревоженно спросил Савин, внимательно выслушав Ковшова.
— Да нет... Я их здорово припугнул... Убежали, — усмехнулся Илья Ефимович. — А вообще долго ли до беды... От этого колониста жизни не стало. Зря вы осенью тогда из школы его не убрали. Очень уж момент был подходящий.
Через окно Савин посмотрел в сад, залитый лунным светом. Как будто здесь все тихо и спокойно. Тянутся черные тени от деревьев, мерцает снег, к окну прильнули раскидистые ветви яблони.
Савин кивнул на вешалку, на которой висело несколько шуб и полушубков:
— Раздевайтесь!
— А что, разве надолго? — немного опешив, спросил Илья Ефимович.
— Сколько нужно, столько и задержитесь.
Савин провел его в соседнюю комнату.
Здесь было светло, с потолка свисала лампа-«молния», на полу лежала огромная медвежья шкура.
У стен, на венских стульях, поджав ноги, чтобы не наступать на шкуру валенками, сидели шесть или семь мужиков. Илья Ефимович почти всех узнал с первого взгляда. Кто был из Больших Вязем, кто из Торбеева, кто из Заречья.
— Надеюсь, вы знакомы! — Савин кивнул мужикам на Ковшова. — Садись, Илья Ефимович, послушай...
Ковшов осторожно присел на краешек стула.
— Так продолжим наш разговор, дорогие гости, — заговорил Савин, подходя к столу. — То, что вы раньше делали — всячески удерживали крестьян от вступления в колхозы, — было правильно. Но времена меняются. Как ни говорите, а мужик тронулся с насиженного места. Удержать его сейчас уже невозможно. А потому надо быть ловчее. Идите в колхоз вместе со всеми, не плетитесь в хвосте. Вступайте сами в артель и зовите туда других. Да что там — зовите!.. Сейчас кричат о сплошной коллективизации. Вот вы в лад и подыгрывайте. Пустите слушок: кто не запишется в артель, будет раскулачен. Припугните мужиков выселением из деревни, Сибирью...
— Чудно́ говорите, Федор Иваныч! — сумрачно перебил его большеголовый, горбоносый мужик из Торбеева. — Нам эти колхозы как кость поперек горла, а вы нас туда же заталкиваете... А зачем, спрашивается? Для мебели, что ли, для виду?
— Наоборот, Сидор Карпыч, — обернулся к нему Савин. — Вы в колхозах первыми людьми должны стать. Пробирайтесь в члены правления, в завхозы, в бригадиры, занимайте, как они говорят, командные посты. А там поворачивайте хозяйство, как вам будет угодно. — Савин кивнул на Ковшова. — Берите пример с Ильи Ефимовича. В артели без году неделя, а уже старший конюх, ведает всем колхозным тяглом.
— Навалилось на мою шею это тягло, — пожаловался Ковшов, — разорваться впору! Хоть бы пооколевала половина конюшни...
— Ничего, привыкайте, нужно это, — перебил его Савин. — И не вздумайте пока лошадей морить. Ухаживайте за ними по совести, чтобы люди вам поверили. А там... все в ваших руках.
— Федор Иваныч, гляньте сюда, — вполголоса позвал Савина горбоносый мужик из Торбеева, сидевший ближе всех к окну. — Кто-то снаружи вроде скребется...
Савин обернулся.
За окном, царапая верхнее стекло рамы, слегка покачивалась яблоневая ветка. Савин прижался к темному холодному стеклу, прикрыл глаза ладонями, чтобы свет лампы не отражался в окне, и вперил взгляд в ночную темноту. И тут совсем близко от себя он увидел настороженные, неморгающие глаза и приплюснутый к стеклу мальчишеский нос.
«Ковшов! Колонист!» — мелькнуло у Савина.
На какое-то мгновение взгляды их скрестились, потом глаза за окном исчезли, что-то глухо треснуло, и ветка закачалась быстрее. Затем все стихло.
Колючий холодок пробежал по спине Савина. В кои веки он собрал у себя на квартире «гостей», и этот мальчишка успел уже все высмотреть. И что ему надо, молодому Ковшову?
А Илья Ефимович, пожалуй, прав. Зря Савин в свое время не убрал Степку Ковшова из школы. Момент был действительно подходящий. А теперь вот расплачивайся...
С трудом сдерживая себя, Савин отошел от окна и встретил вопросительные взгляды «гостей».
— Кто там? Девчонки, что ли? — вполголоса спросил его Илья Ефимович, приподнимаясь на стуле. — Я вот уши им оборву, будут знать...
— Племянник твой балуется, — сдержанно ответил Савин. — Чересчур любопытен стал.
— Ах, собачья кровь! — выругался Ковшов. — Теперь разнесет по белу свету: то-се, собрание в ночь-полуночь, разговоры потайные...
— Накличешь ты нам беды, директор, подведешь под монастырь! — сердито сказал горбоносый мужик, поднимаясь со стула. — А ну, граждане, расходись, пока нас не зацапали...
Мужики устремились в соседнюю комнату и, толкая друг друга, принялись срывать с вешалки шубы и полушубки.
— Тихо! К порядку! — властным шепотом прикрикнул на них Савин и постучал карандашом по столу. Потом быстро подошел к двери, повернул ключ в замочной скважине и опустил его в карман. — Срам, позор! Серьезные люди — и кого испугались? Школьников, баловников. А ну, садись по местам...
Мужики, не выпуская из рук одежды, вновь заняли стулья.
Не скрывая брезгливой усмешки, Савин принялся объяснять, что через двойные рамы никто их разговора подслушать не мог и не может, а прийти к нему на квартиру мужики могли по любому поводу: побеседовать о школе, о своих детях, да мало ли еще о чем. На то он и директор школы.
— Да ведь время-то какое... всякое могут наговорить, — опасливо заметил кто-то из мужиков.
Савин покосился на темное окно. Вновь представилась качающаяся ветка, настороженные глаза Степы.
«Убрать его, убрать надо. И как можно скорее...»
— Тогда вот что, — сказал он. — Кое-кто из вас ходил ко мне раньше в хоровой кружок. Давайте-ка споем во избежание всяких кривотолков. Спевка и спевка — никаких подозрений не может быть.
— Верно, — согласился горбоносый. — Только маловато нас... да и баритона нет... Осужден по сто седьмой статье за сокрытие хлеба.
— Ничего! — усмехнулся Савин. — Илью Ефимовича попросим подтянуть. У него вроде тоже баритон... Так с чего же начнем? С нашей любимой?
Он достал камертон, щелкнул ногтем, поднес к уху, прислушался. Потом взмахнул руками и глуховато запел:
Ты гуляй, гуляй, мой конь, Пока ты на воле.Высоким, почти женским голосом его поддержал горбоносый, потом, недоуменно переглядываясь, не в лад, разноголосо, подхватили песню еще несколько человек, и позже всех натужным голосом принялся подпевать Илья Ефимович.
А в это время на улице, под окном, стояли Степа и Нюшка. Забраться еще раз на яблоню и заглянуть через верхнее стекло во флигель Степа больше не решился. Прижав ухо к окну, он все пытался подслушать, о чем директор школы разговаривает с мужиками.
Но голоса звучали глухо, отдаленно, и Степа с Нюшкой ничего не могли разобрать. Но вот во флигеле запели.
— Спевка у них, — догадалась Нюшка. — Фис это любит.
— А разве Ворон тоже в хору состоит? — спросил Степа. — У него же никакого голоса нет...
— Это так... От его голоса лошади шарахаются, коровы молока не сдают.
— Так зачем же Ворон на спевку пришел? Да еще ночью?
Нюшка пожала плечами и потянула Степу за рукав:
— Ох, уж и поют мотивно, слушать противно!.. Пошли отсюда...
Часто останавливаясь и поминутно озираясь на флигель, Степа побрел вслед за Нюшкой.
КЛЮНУЛО
Урок у Георгия Ильича шел, как обычно. Сначала учитель увлеченно объяснял очередную теорему по геометрии. Он размашисто рисовал на доске чертеж, звонко стучал мелком, так что летели белые брызги.
Потом Георгий Ильич перешел к опросу. Тут он спуску ученикам не давал. Спрашивал придирчиво, обстоятельно, «докапываясь до корня», как он выражался, и не жалея язвительных словечек для тех, кто отвечал путано и сбивчиво. «Так-с, молодой человек, пенки снимаете, шкварки выковыриваете, — обычно говорил он. — На халтурку хотите проехать?»
И надо сказать, что школьники побаивались острого языка учителя.
Сема Уклейкин, только позавчера попавший Георгию Ильичу на зубок, вел себя на уроке тише воды, ниже травы. Опустив голову, он лег грудью на парту и старался не попадаться на глаза учителю, хотя и чувствовал, что вызова к доске ему не миновать.
Уклейкин вздохнул и, толкнув в бок соседа по парте — Фильку Ковшова, признался ему, что он не приготовил урока по геометрии:
— Выручай!.. Сейчас в лужу сяду.
— Да я и сам не успел, — шепнул Филька. — Прогулял вчера.
— А Шум уже поглядывает на нас... Как кот на сало. Сейчас спросит, поди... Вот уж осрамит! — И тут Уклейкин решил применить свой излюбленный прием — заговорить учителя и затянуть время. Он тряхнул рыжей шевелюрой и поднял вверх длинную руку. — Георгий Ильич, можно спросить?
Учитель кивнул головой.
Уклейкин, громыхнув крышкой парты, поднялся, шмыгнул носом и спросил Георгия Ильича, где мягче климат: в Сибири или в Соловках.
— Позвольте! — удивился учитель. — Какое это, собственно, имеет отношение к геометрии? Если уж угодно, так спросите об этом на уроке географии.
— Имеет, Георгий Ильич, — невозмутимо пояснил Уклейкин. — Мужикам знать надо, куда лучше ехать — в Сибирь или в Соловки.
Степа оторвал глаза от тетради и переглянулся с Шуркой — они сидели за одной партой. Уж какой раз Уклейкин начинает на уроках вот такие разговорчики. И почему только Георгий Ильич терпит?
— Мужики, Сибирь... О чем ты говоришь? — пожал плечами учитель.
— А вы разве не знаете? — продолжал Уклейкин. — Сейчас такой закон вышел: кто в колхоз не пойдет, того, значит, из деревни в дальние края выселят. Могут даже к Ледовитому океану отправить, к белым медведям.
— Что за глупости, Уклейкин! — рассердился Георгий Ильич. — Садись!.. И давайте заниматься делом.
Лукаво подморгнув своим приятелям, Уклейкин опустился за парту. А приятели, сообразив, что урок может пройти без вызова к доске, принялись забрасывать учителя вопросами. Правда ли, что семена, которые засыпают сейчас в общий амбар, потом отвезут в город для отправки за границу, а колхозных лошадей угонят на живодерку и забьют: мясо пойдет на конскую колбасу, а из кожи пошьют городским дамам модные туфельки.
— Это же брехня кулацкая! — заливаясь краской, выкрикнул Степа.
— Самая что ни на есть отборная! — поддержал его Митя Горелов.
— Эй вы, бражка! — Шурка исподлобья посмотрел на компанию Уклейкина. — Не мешайте урок слушать.
— А мы не мешаем, — невинным голосом сказал Уклейкин. — Мы вопросы задаем. Пусть Георгий Ильич нам по правде все скажет.
Озираясь по сторонам, Степа выискал глазами комсомольцев:
— Ребята, что же вы... Запретить им! — И он прикрикнул на Уклейкина: — Ты... подлипало! Замолчи сейчас же!
— Вот уж и подлипало! Что ж теперь, нам и спросить нельзя?
— Может, еще нас голоса лишите? — поддержали Уклейкина приятели.
— К белым медведям сошлете?..
— Привыкли тут комиссарить!
— Начальники! Голытьба!
И класс забурлил. Мальчишки повскакали с мест, размахивали руками, кричали друг на друга, стучали крышками парт.
И только Филька неподвижно сидел на своем месте. Как ни хотелось ему ввязаться в перепалку с «артельщиками», но он, помня наказ отца, ни в какие споры о колхозах не лез, держал себя в руках.
Все-таки странная у него жизнь, у Фильки. Дома говори что душе угодно, ругай колхозы, Рукавишниковых, Аграфену, Степку-колониста, а на улице или в школе веди себя паинькой, помалкивай. С каким бы удовольствием Филька подстерег Степку где-нибудь в темном переулке и намял бы ему бока, чтобы колонист не следил за Ковшовыми! Отец же говорит: нельзя!
А неделю назад он дал Фильке совсем уж странное поручение — раззадорить Степу, вызвать на драку, но самому его не бить; сделать так, чтобы вся вина пала на колониста. Милое дельце! Тебя будут дубасить, а ты стой и облизывайся. Хорошо еще, что на свете есть Семка Уклейкин, который за деньги сделает все, что угодно. Семка, конечно, ободрал Фильку как липку, но дела до сих пор почему-то не начинает.
Сейчас Филька исподтишка наблюдал за распалившимся Степкой и Уклейкиным. Пожалуй, драки сегодня не миновать. Хоть бы перемена поскорее...
— Прекратите! Сейчас же! Я кому говорю! — взывал Георгий Ильич, стуча карандашом по столу. — Что это такое, спрашивается? Урок в классе или деревенская сходка? Уклейкин, Ковшов! Да вы скоро за грудки друг друга схватите...
Класс наконец угомонился, но было уже поздно: прозвенел звонок.
Георгий Ильич вытер взмокшее лицо и, расстроенный, вышел из класса.
Степа бросился к Уклейкину:
— Ты что, нарочно урок сорвал? Издеваешься над Георгием Ильичом?
— А тебе какая забота? — с вызовом ответил Уклейкин. — Подумаешь, коммунар приблудный! Заявился невесть откуда, командует тут...
— Гнида ты! — брезгливо сказал Степа. — Да тебе за такое дело...
Филька затаил дыхание: лучшего момента для драки и быть не может. Колонист разъярен, не помнит себя, кругом полно свидетелей.
Филька надавил приятелю на ногу: действуй!
Уклейкин вылез из-за парты, расправил грудь, вплотную подошел к Степе и толкнул его плечом:
— Стукнуться хочешь?.. А ну, тронь попробуй. Покажи свой бокс.
Степа отпрянул назад, глаза его сузились, все тело напряглось. Он уже не помнил себя от гнева.
Но драке помешали Шурка с Митей. Они отвели Степу к двери и вытолкали в коридор.
— Дурной, с кем вяжешься? — сердито зашептал Шурка. — Уклейкина не знаешь? Сейчас хай поднимет на всю школу, жаловаться побежит...
Тяжело дыша, Степа засунул руки в карманы и отошел в конец коридора.
И препротивный же у него характер! Сколько раз Матвей Петрович предупреждал его, чтобы он сдерживался, не лез на рожон! Но как тут сдержаться, если слышишь такие подлые слова!..
Тем временем в опустевшем классе Филька сердито отчитывал Уклейкина:
— Телок, размазня! Колониста не мог подначить.
— Видал? Боится он меня! — похвалился Уклейкин. — Задний ход дал.
— Кому нужна твоя храбрость? Забыл, чему я тебя учил?
— Помню, помню... — отмахнулся Уклейкин. — Ладно, он еще у меня клюнет.
Весь день Уклейкин обдумывал, как бы ему раззадорить колониста. Может, подставить ножку или толкнуть в узком коридоре... Но ничего путного в голову не приходило.
В большую перемену Уклейкин заглянул в школьный зал. Когда-то здесь была барская гостиная, и до сих пор сохранились следы былой роскоши: лепные потолки с амурами, потертый фигурный паркет, камин, выложенный цветной майоликой, и огромное, чуть ли не во всю стену, полукруглое окно, застекленное толстым зеркальным стеклом, через которое так хорошо видны школьный парк, речка, а еще дальше холмистое поле и дорога, уходящая на станцию.
В зале прогуливались девочки, мальчишек было немного. Они предпочитали проводить большую перемену в нижнем коридоре, подальше от дверей учительской и кабинета директора, которые, как нарочно, выходили в школьный зал.
По примеру девчат Уклейкин принялся чинно прохаживаться по залу. У окна, достав из кармана маленькое круглое зеркальце, Таня Ковшова расчесывала гребенкой короткие волосы.
«Вот Степка на кого клюнет — на сестрицу!» — мелькнуло у Уклейкина.
Улыбаясь своей догадке, он подкрался к девочке, выхватил у нее из руки гибкую, прозрачно-желтую гребенку и, сжав ее, как пружину, пустил вверх.
Гребенка ударилась о лепной потолок, потом о паркетный пол, подпрыгнула, и не успела Таня схватить ее, как Уклейкин, словно мяч, уже гнал гребенку по залу.
Мальчишкам игра пришлась по душе. Гребенка летала из угла в угол, скользила по паркету и никак не давалась Тане в руки.
— Эй, мужики, пас на меня! — войдя в азарт, командовал Уклейкин и под одобрительный смех приятелей ловко обводил девочку: что там ни говори, а он не последний футболист в Кольцовке.
— Отдай гребенку! — со слезами в голосе просила Таня, гоняясь за Уклейкиным. — Как не стыдно! Я вот Степе скажу...
Но и без Тани кто-то из девочек уже успел позвать Степу. Тяжело дыша, он влетел в зал и шагнул к Уклейкину: — Забавляешься?
Уклейкин остановился, гребенка лежала у его ног.
— Ага! — весело ухмыльнулся он. — Можем сыграть!
— Подними! — глухо приказал Степа.
Уклейкин сделал вид, что хочет нагнуться, но потом, кряхтя и скоморошничая, потер поясницу:
— Ох, прострел у меня... Спина не гнется.
Мальчишки кругом засмеялись.
Степа побледнел. Стиснув зубы, вдруг схватил Уклейкина за шиворот и, собрав всю силу, словно переломил его в пояснице, наклонил к полу:
— Поднимай, говорю!
Пыхтя, Уклейкин принялся сопротивляться, но Степа все ниже пригибал его к паркету. Вот уже руки Уклейкина коснулись гребенки. Мальчишки вновь засмеялись — в этот раз, пожалуй, не над Степой.
Чувствуя, что драка опять может не состояться, Уклейкин, изловчившись, изо всей силы ударил Степу под ложечку.
У мальчика потемнело в глазах. Выпустив Уклейкина, он отступил назад, жадно глотнул воздух, потом ринулся вперед. Он уже не помнил, как дрался: боксом или сплеча, он просто наносил удар за ударом во что-то большеротое, испуганное, хрипло орущее.
— Караул! Убивают! — истошно, на всю школу, вопил Уклейкин, пятясь назад и размазывая по лицу кровь из разбитого носа.
Вот он натолкнулся на стремянку, что стояла недалеко от окна. Не зная, куда деться от частых ударов, Уклейкин принялся карабкаться на стремянку. Степа полез следом, схватил Уклейкина за грудь и потащил вниз.
Стремянка покачнулась. Девчонки завизжали и шарахнулись в сторону.
Описав дугу, стремянка, как подрубленное дерево, упала на окно и верхним концом ударилась в стекло.
Сцепившиеся мальчишки свалились на пол.
Оглушительный звон стекла сразу отрезвил драчунов.
Оттолкнув Уклейкина, Степа поднялся, бросил взгляд на окно... и замер.
Большое стекло было исполосовано причудливыми трещинами, в середине зияла пробоина с острыми, зубчатыми краями, и из нее несло холодом.
Из учительской, приоткрыв дверь, на Степу смотрел директор школы.
А на полу валялась Танина гребенка...
«ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ»
Педсовет состоялся в этот же день.
Савин коротко доложил о дикой, беспримерной в истории школы драке, которую учинил ученик седьмого класса Степан Ковшов.
Голос Савина звучал болезненно, устало — побаливало горло, шея была обмотана шарфом. Всем своим видом директор школы как бы говорил, что вопрос о Ковшове предельно ясен и его можно было бы не обсуждать, но что поделаешь, такова уж судьба учителей.
— Я не сторонник таких крайних мер, как исключение из школы, — сказал под конец Савин, — но в данном случае иного выхода не вижу... Тем более, что за Ковшовым немало и других проступков.
Матвей Петрович, сидя у окна, вел протокол педсовета. Он с трудом сдерживал себя. Конечно, Степа Ковшов подросток не из спокойных, резок, угловат, порой несдержан, но он честен, смел, любознателен, хороший товарищ и неплохой ученик. Так почему же сейчас, в конце учебного года, его надо исключать из школы? И почему обычная школьная драка, в которой еще неизвестно, кто больше виноват — Ковшов или Уклейкин, так раздувается и превращается в чрезвычайное происшествие?
Потом Савин попросил учителей высказаться.
Первой заговорила преподавательница географии, дородная, флегматичная Клавдия Мартыновна. Ковшов, по ее наблюдениям, плохо влияет на товарищей, на уроках от него одно беспокойство, и будет куда лучше, если мальчика удалят из школы.
Преподаватель столярного дела Хромцов заявил, что давно пора принять решительные меры — ведь всем известно, что Ковшов оклеветал председателя сельсовета, своего родного дядю, непочтителен к учителям.
Матвей Петрович, усмехаясь, спросил, как это понимать: «непочтителен к учителям». Уж не в том ли дело, что Степа Ковшов написал в школьную стенгазету заметку о Хромцове, который на уроках неодобрительно отзывался о колхозах?
— Прошу прекратить! — побагровев, закричал Хромцов, обращаясь к Савину. — Какой-то мальчишка подрывает авторитет учителя, а товарищ Рукавишников потакает этому... Когда же будет положен конец?! Немедленно требую исключить из школы и написать в характеристике, что он собой представляет...
— Это что же, вроде волчьего паспорта мальчишке выдать? — покачав головой, переспросил Георгий Ильич.
— Понимайте как угодно! — запальчиво бросил Хромцов. — Такие, как Ковшов, способны разложить всю школу...
— Это уж вы чересчур хватили! — недовольно перебил его Савин. — Все-таки Ковшов только еще подросток, к тому же сирота — и нам надо подумать о его дальнейшей судьбе. Я бы так сформулировал наше решение: считать дальнейшее пребывание в кольцовской школе крестьянской молодежи ученика Ковшова, как трудновоспитуемого, невозможным и просить роно определить его в исправительно-трудовую колонию... Записывайте, Матвей Петрович, — обратился он к Рукавишникову.
— Нет... этого я записывать не стану. — Учитель отложил ручку в сторону.
— Что с вами? — Савин с удивлением вскинул голову. — Вы не согласны с большинством?
Матвей Петрович поднялся:
— Да, не согласен... Назвать ученика «трудновоспитуемым» — это все равно что поставить на нем клеймо. Позорное клеймо! Я не верю, что Степа Ковшов такой. Да вы и сами в это не верите...
Матвей Петрович вдруг вспомнил странные столкновения Степы с директором школы, его рассказы о подозрительных встречах Савина с Ильей Ковшовым. «Быть может, в этом-то все дело?» — мелькнуло в голове.
— Мне... мне кажется, что вы пристрастны к Ковшову, — глухо заговорил он, в упор глядя на директора. — Создается впечатление, что он вам в чем-то мешает и вы задались целью во что бы то ни стало удалить его из школы...
В учительской стало очень тихо.
— Это вы мне... мне говорите? — побледнев, вполголоса спросил Савин.
Он поднялся, схватился за сердце и, обведя всех грустным взглядом, вновь опустился на стул.
Учителя бросились к директору. Клавдия Мартыновна поднесла графин с водой. Кто-то вырвал у Матвея Петровича стакан.
Раздались возмущенные восклицания: «Неслыханно!», «Безобразие!», «Мы должны протестовать!»
Савин отпил глоток воды и слабым голосом попросил проголосовать за его предложение.
Преподаватели подняли руки: пятеро за исключение Степы и двое — Матвей Петрович и Георгий Ильич — против.
— Другие вопросы обсудим завтра, — сказал директор. — Идите по домам, прошу вас...
Матвей Петрович первым вышел из учительской. На лестнице его догнал Шумов.
— Это уж вы зря погорячились! — ворчливо заметил он. — И наговорили бог знает чего. Савин вам этого не простит... Завтра же поедет куда нужно...
— Ну что ж... — усмехнулся Матвей Петрович. — Как веревочке ни виться, а кончику быть... А за Степу, Георгий Ильич, спасибо вам большое.
Весть об исключении Степы Ковшова из школы молниеносно разнеслась среди ребят и обросла, как это часто бывает, небылицами и досужими домыслами.
О хулиганстве Степы передавались самые невероятные истории. Рассказывали, что Ковшов держит в страхе весь класс и способен сорвать любой урок, что преподаватели ходят перед ним на цыпочках, а Клавдия Мартыновна замирает от одного взгляда Степы и всегда ставит ему в журнале только отличные отметки.
Нюшка, Митя и Афоня лезли из кожи, доказывая всем, что все это враки, а Шурка в азарте даже поколотил одного болтливого шестиклассника. Пользы это никакой не принесло. Наоборот, в школе пошли разговоры, что дружки у Степы Ковшова такие же драчуны и забияки, как и он сам, и их тоже невредно бы отправить в исправительно-трудовую колонию.
Вновь всплыли на поверхность слухи о том, что Степка-колонист постоянно носит в кармане острую финку и тяжелую свинчатку и в драке применяет такие диковинные и свирепые приемы, что лучше с ним не связываться.
Ученики младших классов с опаской посматривали на Степу и на всякий случай обходили его стороной.
Шагая улицей, Степа не раз слышал, как мальчишки кричали ему вдогонку: «Ребята, тикай! Трудновоспитуемый идет!»
От злости Степу бросало в жар, он сжимал в карманах кулаки и, с трудом сдерживая себя, проходил мимо.
По утрам, как обычно, он приходил на занятия. Преподаватели, которые голосовали за исключение, делали вид, что не замечают его присутствия в классе.
Как-то раз Клавдия Мартыновна вызвала отвечать урок Шурку Рукавишникова.
Шурка, кинув взгляд на Степу, подошел к географической карте, взял указку и начал было рассказывать о реках Сибири, но потом неожиданно умолк.
— В чем дело, Рукавишников? — спросила учительница. — Уже выдохся?
— Да нет... мы вчера со Степой здорово подготовились... — Шурка помялся. — Клавдия Мартыновна, вызовите Ковшова. Чего он, как неживой, сидит!
— Я спрашиваю тех, кто учится в моем классе, — сухо заметила учительница. — А Ковшов, как известно, человек здесь посторонний...
— Лафа колонисту, раздолье! — посмеиваясь, шепнул Уклейкин. — Никаких тебе уроков! Сиди, в окошечко поглядывай. Хочешь, в носу ковыряй. Нам бы так...
Не дождавшись конца урока, Степа выскользнул из класса, ушел в общежитие и, швырнув на тумбочку книжки, повалился на топчан.
— Это по какому праву с урока улизнул? Кто такой? — сердито закричал заглянувший в общежитие школьный сторож. — А-а, колонист! Ну, тебе можно... Лежи, отдыхай останные дни. Не прижился, значит, в нашей школе, буйный нрав помешал... Ничего, в колонию попадешь — там тебя ошкурят, приберут к рукам... Да ты ладно, не убивайся, — пожалел дядя Петя мальчика, заметив, как у того дрогнули плечи. — Все равно из деревни-то уходить. Родни у тебя здесь немного, да и та не очень привечает... И на артель особо не надейся — она долго не проживет.
— Чего ты мелешь, Емеля! — Степа зло посмотрел на сторожа. — Иди вот, звонок на перемену давай!
Спохватившись, сторож выбежал из общежития.
В перемену к Степе зашли Таня, Нюшка, Шурка и принялись уговаривать его вернуться в школу.
— А зачем? — вяло пожал плечами Степа. — Я ж пустое место в классе. Меня, верно, и в списках нет.
— А ты... ты плюнь! И не думай ничего плохого. Учись себе и учись, — пыталась утешить его Нюшка.
— Матвей Петрович сказал, что он за тебя до последних сил драться будет, — сообщил Шурка. — И комсомольская ячейка вступится... Да ну же, Стенька Разин, не кисни!
Но в этот день в школу Степа так и не пошел.
В сумерки в общежитии побывал Матвей Петрович. Он сказал, что Степа поступил очень неразумно, уйдя самовольно с занятий. Это только лишний повод, чтобы Савин и другие преподаватели смогли обвинить его в озорстве и недисциплинированности. К тому же вопрос о его исключении будет еще утверждаться в роно. Комсомольцы уже написали в район письмо, а на днях Матвей Петрович сам поедет туда и сделает все возможное, чтобы отстоять Степу.
— Понимаю, тяжко тебе, — вздохнул учитель. — Но что делать? Ходи все-таки на уроки...
Наутро скрепя сердце Степа отправился на занятия.
Дней через десять после педсовета директор школы вызвал Степу к себе в кабинет. Он сказал, что все устраивается даже лучше, чем предполагалось. Районный отдел народного образования уже подыскал для Степы место в одной из исправительно-трудовых колоний. Колония старая, благоустроенная, имеет мастерские и подсобное хозяйство. Так что по части обучения Степа, пожалуй, только выиграет.
У мальчика сжалось сердце. Он с трудом поднял голову и поймал на себе взгляд Савина. Маленькие свинцовые глаза директора смотрели на него пронзительно и выжидающе. Но это длилось всего лишь одно мгновение.
— За что вы меня так, Федор Иваныч? — горестно и растерянно спросил Степа.
— При чем, собственно, я? — Савин поспешно отвел глаза в сторону и пожал плечами. — Пеняй на свой характер. Ты ведь почти всех педагогов восстановил против себя... — И он попытался ободряюще улыбнуться.
Пусть Степа не огорчается, что ему приходится оставлять кольцовскую ШКМ. Это даже не исключение, а просто перевод в другое место для его же, Степиной, пользы. Мальчик поживет в новом коллективе, подтянется, изменит свое поведение.
Степа, опустив голову, молча смотрел себе под ноги.
— Ну что ж, Ковшов, — вздохнул Савин. — Будем прощаться. Получай документы, стипендию за месяц. Все тебе уже заготовлено... — Он поднялся из-за стола и, подойдя к Степе, сунул ему в руку небольшой пакет. — На новом месте тебе хуже не будет...
Что-то сильно, словно клешнями, сдавило Степе горло, и он, не помня себя, выбежал из кабинета директора.
В школе стояла тишина — в классах шли уроки. Тяжелый медный колокольчик покоился на камине. Полукруглое окно в школьном зале было забито фанерой.
«Вот и все, отучился», — сходя с лестницы, подумал Степа. Его выгоняют из школы, разлучают с сестрой, с ребятами... Да еще как выгоняют! С позорной славой: хулиган, трудновоспитуемый. А за что? Кому он встал здесь поперек дороги? В раздевалке Степа отыскал свой пиджак и шапку, зачем-то оделся, хотя и сам еще не знал, куда он должен сейчас пойти.
С лестницы осторожно спустилась Нюшка. Взглянув на Степу, она без слов поняла, что случилось.
— А это что у тебя? — Нюшка кивнула на пакет, который мальчик до сих пор держал в руке.
— Документы, стипендия за месяц... — вяло ответил Степа. — Сейчас директор вручил...
У Нюшки округлились глаза. И зачем только он взял этот пакет! Ведь Матвей Петрович еще позавчера уехал в роно, и он, конечно, докажет там, что Степу совсем не за что исключать из школы.
— Эх ты, простота-доброта! — упрекнула Нюшка. — Стоял бы на своем: «Не имеете права исключать!» — и вся недолга. А ты уже и раскис!
Степа с недоумением посмотрел на пакет: в самом деле, зачем он взял документы и деньги? Может быть, с приездом Матвея Петровича все еще изменится. Нет, Нюшка определенно права. Раскис Степа перед директором... А вот он возьмет да и вернется сейчас к Савину, отдаст ему пакет и скажет, что ни в какую колонию не поедет. Может, кому-нибудь и очень нужно, чтобы Степа исчез из Кольцовки, но он уезжать не собирается, он будет учиться только здесь. У него есть еще дела в деревне, и надо распутать кое-какие узелки...
— А когда Матвей Петрович приедет? — с надеждой спросил Степа.
— Сегодня должен. — Нюшка украдкой поглядела на осунувшееся лицо мальчика. — А может, он уже и приехал. Вот пошли к Рукавишниковым...
— У тебя же уроки, прогул запишут.
— Ах, прогул!.. — Нюшка махнула рукой и сорвала с вешалки свою куртку.
В ОСАДЕ
Они вышли из школы.
— А на воле-то как хорошо! — зажмурившись от солнца, вскрикнула Нюшка.
И верно, весна уже давала о себе знать. Солнце пригревало вовсю, снег осел, дороги и тропки побурели, с крыш частой серебряной дробью стучала капель, завалинки у изб вытаяли, и на них уже хозяйничали горластые куры и петухи.
Степа и Нюшка прошли липовой аллеей и, свернув на улицу, направились к Рукавишниковым.
В деревне царило необычное оживление.
У пожарного сарая стояла кучка стариков и что-то бурно обсуждала.
У колодца собрались женщины. Размахивая руками и потрясая коромыслами, они тоже о чем-то спорили. Потом, забрав пустые ведра, женщины пошли к дому Никиты Еремина, в котором помещалось теперь правление артели.
— Что за собрание сегодня? — спросил Степа.
— Да нет, вроде не должно... — озадаченно сказала Нюшка. — Артельщики в рощу ушли. Лес рубят для новой конюшни.
— А смотри, сколько народу собралось, — показал Степа в сторону правления, откуда доносились шум и крики. — Ясное дело, собрание будет. И, видно, важное. Давай послушаем...
Нюшка хотела было напомнить Степе, что они и так идут по важному делу, но как тут не послушать, о чем будут говорить колхозники...
И она вслед за Степой свернула с дороги.
У правления толпилось человек пятнадцать мужиков. Ругаясь и выкрикивая угрозы, они осаждали Ваню Селиверстова, который стоял перед ними на ступеньках крыльца в распахнутом ватнике и в сбитой набок кепке. С первых же дней артельной жизни Ваню как комсомольца и грамотея выдвинули работать в правление колхоза: он был и счетоводом, и учетчиком, и делопроизводителем.
— Граждане! Я вам русским языком поясняю, — тяжело дыша, говорил Селиверстов, — ну нет Егора Петровича. В район уехал, на совещание... А другие члены артели вместе с сознательными колхозниками в роще бревна пилят... для артельной конюшни стараются. А вы в такой день от работы отлыниваете да еще бузу поднимаете...
— Ты, Ванька, нас не учи! И зубы не заговаривай! — пьяно покачиваясь, закричал на него голенастый, сухой, как жердь, Тимофей Осьмухин. — Мы теперь вольные казаки. Выдавай бумагу — и баста!
— Чего ему надо? — недоумевая, спросил Степа.
— Назюзюкался, вот и несет околесицу! — фыркнула Нюшка.
— Ну, ну! — прикрикнул на нее Прохор Уклейкин. — Укороти язычок-то, балаболка! Сидите там в школе, не знаете ничего. Колхозы-то распущаются...
— Как это? — опешила Нюшка. — Что ты, дядя Прохор?
— Вот тебе и дядя-тетя! — фыркнул Уклейкин. — Из Москвы такой приказ пришел. От самой партии. Во всех газетах пропечатано. Расходись, мужики, живи, как жилось...
Степа и Нюшка даже подались от Прохора в сторону. Кому ж не известно, что старик Уклейкин, как и его внук Семка, способен наговорить такое, в чем потом и за неделю не разберешься!
— Вот народ и выходит из артели, — кивнул Уклейкин на мужиков, осаждающих Ваню Селиверстова. — А теперь лошадей требуют...
— Выдавай бумагу, Ванька! — орал Осьмухин, напирая грудью на Селиверстова и все выше загоняя его по ступенькам крыльца.
Осьмухина поддержал Никодим Курочкин. Тыча Селиверстову пальцем в грудь, он все пытался втолковать ему, что раз мужики не согласны жить в артели, никто не имеет права задерживать их лошадей на общем дворе. И пусть Ванька сейчас же напишет распоряжение, поставит артельную печать, и они пойдут на конюшню за своими лошадьми.
— Да вы кто — дети малые? Младенцы грудные? — силился образумить мужиков Селиверстов. — Как можно? Я же прав таких не имею... Это правление должно решить.
— Да что с ним болты болтать! — Осьмухин махнул мужикам рукой. — Айда до конюшни!
Широкое лицо Селиверстова покрылось потом.
— Это... это знаете как называется! — задохнулся он, расталкивая мужиков. — По закону отвечать будете... Я вот в сельсовет...
— Нет уж, милок, подожди! — Курочкин крепко схватил его за плечо и подмигнул мужикам. — Посиди пока в чуланчике, не мешай нам...
Ваня ухмыльнулся, потом неожиданно присел, вырвался из рук Курочкина и, спрыгнув с крыльца, метнулся в сторону.
Но мужики быстро нагнали его, сбили с ног и, скрутив за спину руки, потащили в сени.
— Что вы делаете? Не смейте! Отпустите! — в один голос закричали Степа и Нюшка, бросаясь к мужикам.
Услышав знакомые голоса, Ваня обернулся.
— А-а, шекаэм! — обрадовался он. — Бегите в сельсовет! Или нет... лучше к Аграфене... — Ваня не договорил — его втолкнули в сени. — Пусть ворота закроет... ворота! — донесся его голос уже из-за стены.
— Сунуть и этих за компанию, что ли... — услышал Степа голос, и к нему потянулась чья-то рука.
Не раздумывая, он отпрянул в сторону и помчался вдоль деревни. Рядом бежала Нюшка.
Они влетели в ковшовский двор и едва не сбили с ног дядю Илью. Аграфены во дворе не было.
— Мужики идут!.. — хрипло крикнул Степа. — Лошадей забирать!
— Кыш ты, оглашенный! — замахал на него руками Илья Ефимович. — Опять тебе мерещится?
— Да нет же... Вот Нюшку спросите!.. Закрывайте ворота!..
Во двор с полной плетенкой сена за спиной вошла Аграфена. Нюшка бросилась к матери и коротко рассказала о том, что произошло у правления.
— Мужики? Осьмухин, говоришь? Пьяный? — побледнев, переспросила Аграфена.
Она быстро закрыла ворота, заложила их тяжелым засовом и спросила Илью Ефимовича, нет ли поблизости какого-нибудь бревна или доски, чтобы для большей прочности припереть ворота.
— А может, уйти нам подобру-поздорову... — начал было Илья Ефимович, но, заметив злой взгляд Аграфены, замялся: — Есть подпорки, есть... достану сейчас.
Он толкнул дверцу, ведущую со двора в сени, и скрылся.
Аграфена кинула взгляд на Степу и Нюшку и велела им уходить домой.
— Что вы, тетя Груня! — заспорил Степа.
А Нюшка сделала вид, что не расслышала слов матери. Она заглянула под сени и, обнаружив там старые, облепленные паутиной доски, закричала:
— Смотри, да здесь полно подпорок!
Аграфена с ребятами принялась подтаскивать к воротам доски. Не успели они поставить третью подпорку, как снаружи донеслись возбужденные голоса и в ворота забарабанили тяжелые кулаки.
— Илья, выдавай лошадей! Правление приказало! — закричал Осьмухин. — Бумагу на руках имеем.
— Врешь, Тимофей, нет у тебя никакой бумаги! — отозвалась Аграфена. — Самоуправством занимаешься.
— Это ты, Грунька? — узнал ее Осьмухин. — Честью просим— не супротивничай, открывай ворота!
— И я по-хорошему прошу — не ломись, отойди от артельной конюшни.
— Да пойми, дурья твоя голова, весь народ из колхоза выходит...
— Все не уйдут! — засмеялась Аграфена. — А кто и шарахнется, так тоже вроде тебя... Жалеть не будем! Ну, кто там еще с тобой?.. Прохор Уклейкин да Никодим Курочкин. Эти тоже из тех, «куда ветер дует», ни рыба ни мясо.
— Грунька! — вновь закричал Осьмухин. — Последний раз говорю... Не доводи до остервенения... Ворота высадим!
Аграфена сжалась, схватила острые железные вилы, ударила ими по стене. Вилы зазвенели.
— Только посмейте! — хрипло погрозила Аграфена. — Вилы в ход пущу!.. Вот те крест, пропорю!..
— А-а, стращать нас! — взревел Осьмухин. — Навались, мужики!
Ворота затрещали, заходили ходуном на железных петлях. По ним дубасили кулаками, кольями, ногами.
Лошади во дворе насторожились, запрядали ушами, застучали копытами. Красавчик протяжно заржал.
«Как с цепи сорвались! — подумала Аграфена. — Не ровен час, и высадят ворота. И куда это Илья подевался?» И она приказала ребятам принести еще досок...
Степа и Нюшка полезли под сени.
— Ты как думаешь — выстоим? — блестя глазами, шепнула Нюшка.
— Должны вроде... если, конечно, ворота выдержат, — ответил Степа.
Напор на ворота между тем начал ослабевать, крики и брань снаружи утихли.
Нюшка бросилась к воротам и припала к щели.
— Мамка, они уходят! — восторженно завопила она. — Наша взяла!
Но тут в сенях послышался топот, возня, загремело пустое ведро и раздался возмущенный голос Ковшова:
— Разбой, насилие! Я жаловаться буду!
Потом дверца из сеней распахнулась, и с высокого приступка прыгнул во двор Тимофей Осьмухин. Он бросился к воротам и принялся вытаскивать засов. Аграфена вцепилась в Осьмухина, стараясь оттащить его.
Но было уже поздно — двор наполнился мужиками. Они оттеснили Аграфену в сторону, посбивали все подпорки и, распахнув настежь ворота, начали выводить на улицу лошадей. Кое-кто прихватывал даже хомуты, вожжи и седелки.
Аграфена бегала по двору, хватала лошадей за поводья, заворачивала их обратно в стойла, отнимала у мужиков сбрую, уговаривала их не разбойничать.
Вот она вновь столкнулась с Осьмухиным, который, выведя свою лошадь из стойла, начал взбираться ей на спину. Изловчившись, Аграфена с криком ухватила его за ногу. На помощь ей подбежали Степа с Нюшкой и совместными усилиями стащили Осьмухина с лошади.
Обозленный Тимофей бросился на Аграфену и, нехорошо выругавшись, с силой толкнул ее в грудь. Аграфена отлетела в угол, ударилась головой о кормушку.
Глаза у Нюшки загорелись злым огнем.
— Мамку бить! — воинственно завопила она и, схватив метлу, начала яростно охаживать Осьмухина и других мужиков по спинам.
Не отстал от нее и Степа. Зачерпнув из кадки ведро воды, он принялся обливать мужиков, словно тушил пожар. Ребят отталкивали, хлестали поводьями...
ГЛУХАЯ СТЕНА
Наконец все утихло.
Аграфена, держась за голову, прошлась по двору, пересчитала оставшихся лошадей — не хватало одиннадцати. Из сеней выглянул Илья Ефимович.
— Отсиделся? — насмешливо встретила его Аграфена.
— Озверел народ... Под руку не попадайся! — Он покачал головой, оглядел растрепанную Аграфену, поредевший ряд лошадей, разбросанные по двору метлы и ведра. — Чисто Мамаево побоище!
Кинув на Ковшова подозрительный взгляд, Аграфена спросила, зачем он пустил мужиков во двор через сени.
— Что ты, окстись-перекрестись! — Илья Ефимович обиженно замахал руками. — Я-то при чем! Мужики силой ворвались, нахрапом... Слышала, как я кричал? — Он поднял опрокинутые ведра, поставил в угол метлы, вилы, потом сказал Аграфене, что им надо немедля пойти в правление и заявить, как все случилось. А то, не ровен час, еще подумают, что они в чем-то виноваты.
— Иди заявляй! — отвернувшись, бросила Аграфена. — И как в сенях отсиживался — тоже не забудь сказать.
Сделав вид, что не расслышал последних слов, Илья Ефимович поспешно ушел.
Аграфена обернулась к Нюшке и Степе.
Не глядя друг на друга, мрачные, нахохлившиеся, они сидели молча на соломе.
— Идите-ка вы по домам... Чего уж здесь... — устало сказала Аграфена.
Степа медленно поднялся, поправил шапку, посмотрел за ворота...
«По домам!» Легко сказать, а где он, его дом? У дяди, что ли? Или в школе... Да вот и с артелью что-то не ладится. Сколачивали ее долго, трудно, и вдруг все зашаталось, поползло... За что же ему держаться теперь, где жить? Может, и в самом деле послушать Савина да и уехать в колонию? Будет крыша над головой, учение, товарищи, новые дела...
— Да, как у тебя со школой-то? — вспомнила Аграфена, заметив, что Степа чем-то удручен.
— Да так... по-старому все.
— «По-старому»! — с горечью отозвалась Нюшка. — А у самого уже все документы в кармане. Завтра его и в столовой больше не накормят. И в общежитие не пустят.
— Вытряхнули, значит? Вчистую? — пораженная тем, что услышала, Аграфена подалась к Степе, желая по-матерински привлечь его к себе. — Ах ты, сирота-горемыка! И заступиться некому! Что же это Матвей Петрович молчит? Ведь он обещал...
— Ждем вот... на него вся надежда, — ответила Нюшка и, вскочив, виновато всплеснула руками: — Ой, мы и забыли! Нам же к Рукавишниковым надо...
На улице послышались голоса. Аграфена выглянула из ворот. Ко двору приближалась большая группа колхозников. Многие были с топорами и пилами — видно, только что вернулись из рощи.
Впереди всех шагал Егор Рукавишников. Справа от него шел Илья Ефимович, слева — Ваня Селиверстов.
— Ну как, артельщики, живы? — встревоженно спросил Егор, подходя к воротам. — Крепко досталось?
Аграфена только махнула рукой: лучше не спрашивай.
— Им от нас тоже перепало, — буркнула Нюшка и, заметив лукавый взгляд Селиверстова, улыбнулась.
— Знаю, знаю, — кивнул Егор. — Илья Ефимович уже доложил. Осаду, однако, вы держали неплохо...
— Держали, да не выдержали, — вздохнула Аграфена. — Одиннадцати коней как не бывало... Моя вина, Петрович...
— Погоди, не убивайся, — остановил ее Рукавишников. Колхозники зашумели. Раздались голоса, что надо сегодня же собрать общее собрание артели и потребовать, чтобы «самоуправщики» привели лошадей обратно.
— Да что с ними цацкаться, с бузотерами! — сказал Илья Ефимович. — Пойти да забрать коней силой. А такого, как Осьмухин, за бесчинство и в милицию отправить не грех...
— Ну нет, горячку пороть не будем, — хмуро перебил его Рукавишников.
— Дядя Егор, а это правда, что колхозы распущаются? — переглянувшись со Степой, негромко спросила Нюшка.
Рукавишников поморщился, вытащил было кисет, но тут же снова сунул его в карман.
— Слыхали, какие разговорчики пошли! — обратился он к колхозникам. — Враги уже поработали, постарались... За каждую ошибку цепляются. На любую подлость готовы... — Он достал из нагрудного кармана затертый номер газеты и, развернув ее, показал собравшимся: — Смотрите вот. Постановление Центрального Комитета нашей партии. Сегодня людей соберем, читать будем... Горькое постановление, но, как говорится, не в бровь, а в глаз. Зарвались многие низовые работнички, головы у чих закружились от успехов. Про главное забыли, про святое святых — про добровольное вступление в колхозы. Нажимать на людей стали, командовать. За цифрами погнались. Кое-где вместо артелей на коммуны начали перескакивать, принудительно мелкий скот обобществляли, курей, жилые постройки... Ну, и люди, конечно, недовольны. А кулачье и их подголоски раздували все это — любая провокация хороша, только бы честных людей с Советской властью поссорить. Вот партия и призывает нас — перегибы надо исправлять. И заметьте: враги и тут зацепились. Не успело еще постановление до людей дойти, а они уже слушок подбросили: «Колхозы распускаются, можно, мол, из артели лошадей забирать, коров, семена». Вот и в Кольцовке кое-кто клюнул на эту удочку...
— Что ж теперь с самоуправщиками-то делать? — спросил Василий Хомутов.
Не успел Рукавишников ответить, как ко двору подъехала осьмухинская пегая лошадь. Верхом на ней сидели двое мальчишек— впереди Митя Горелов, а сзади, обхватив его за живот руками, — Колька Осьмухин. Мальчишки сползли со спины лошади.
— Берите обратно... она уже здесь привыкла, — деловито сказал большеглазый худенький Колька Осьмухин, протягивая Аграфене поводья.
Аграфена недоверчиво посмотрела на мальчишек:
— Вы что, тоже самовольно лошадь увели? А Тимофей прибежит, скандал поднимет...
— Не прибежит. Его тетка Матрена не пустит больше, — объяснил Митя. — У них дома перепалка идет. Тетя Матрена два горшка от злости расколола. «Веда, кричит, лошадь обратно, хочу в артели жить, надоело тебя слушать, суму переметную!» А дядя Тимофей свое твердит: теперь никаких колхозов на свете не будет. И тоже— бац горшком об пол!.. Пока они там горшки бьют, мы с Колькой на лошадь да сюда... Колхозники засмеялись.
Аграфена вопросительно посмотрела на Рукавишникова: принимать или не принимать осьмухинскую лошадь?
— Пожалуй, примем, — улыбнулся Егор. — Я так думаю, Матрена теперь обломает своего хозяина. — И он обернулся к Нюшке, Степе и другим ребятам, которых уже немало собралось у двора: — Слышали, о чем разговор? И плюньте тому в глаза, кто про колхозы зазорное скажет. Нет, теперь их никакая сила с нашей земли не вырвет!
— Ну вот, как гора с плеч, — облегченно вздохнула Аграфена. — А то ведь, пока в осаде сидела, всякое передумала...
Колхозники начали расходиться. Рукавишников задержался с Аграфеной около лошадей.
Степа подошел к нему и спросил, не вернулся ли из района Матвей Петрович.
— Да, у меня ведь с тобой разговор! — вспомнил, роясь в карманах, Рукавишников. — Матвею пришлось задержаться. Но он тебе написал кое-что. Правда, утешительного пока мало...
Дрогнувшей рукой мальчик взял записку.
«Степа, — прочел он, — твое исключение в роно утвердили. Дело запуталось и осложнилось. Буду драться. В трудовую колонию пока не выезжай, переходи жить к нам. Крепись!
Матвей Петрович».
Поднявшись на цыпочки и заглядывая через плечо Степы, прочла записку и Нюшка. Потом, боясь взглянуть в лицо мальчику, она взяла записку у него из рук и дала прочесть матери.
— Что же это, Петрович? — в сердцах сказала Аграфена. — Так и отдадим парня на съедение? Вытурили ни за что ни про что, а мы и сделать ничего не можем...
— Да, дела на белом свете... — удрученно протянул Егор. — Матвей говорит — стена глухая в этом роно, не пробьешь. А Савину там почему-то полная поддержка... Признаться, Матвею и самому туго приходится...
— Что с ним? — встрепенулась Аграфена.
Егор помялся, искоса поглядел на ребят — стоит ли при них говорить об этом, но потом решился:
— Жалоба в роно поступила. Матвей, дескать, учеников на учителей натравливает, директора оскорбил, порядки нарушает. Ну, вот Матвея и переводят в другую школу... от Кольцовки подальше.
— А кто пожаловался-то, дядя Егор? — спросила Нюшка.
— Ваши же преподаватели. Коллективное заявление... пять подписей.
Степа, не моргая, невидящими глазами смотрел в угол двора.
Вот и еще один удар — прогоняют учителя, к которому он так привязался. Теперь уж не будет ни разговоров по душам, ни волнующих воспоминаний об отце, ни поездок в ночное, ни долгих вечеров у старенького «Фордзона»... А главное, Матвей Петрович верил ему всегда и во всем. А ведь это так дорого, когда тебе верят...
— Степа, что же теперь?.. — еле слышно спросила Нюшка.
— Я, пожалуй, в колонию, — глядя в сторону, глухо произнес мальчик. — Все равно уж где учиться...
— Вот ты как решаешь! — не скрывая обиды, заговорил Егор. — Тут такой ли клубок распутывать надо, а ты подальше куда уходишь. Нажали на тебя — ты и лапки кверху. Ухожу, мол, не мешаюсь, дорогу не загораживаю — творите что хотите. А вот Матвей пишет: он драться будет. Да и твой отец так же бы поступил...
Степа с тоской поднял на Егора глаза.
— Да будет тебе строжить парня-то! — вступилась Аграфена. — Не чужой он нам — роднее родного... И никуда он от нас не уйдет.
ЭКЗАМЕН
На другой день Степа перенес к Рукавишниковым свои вещички.
В маленькую комнату за дощатой перегородкой, где спал Шурка, Егор втиснул еще один топчан, его жена приготовила постель, а Шурка вбил в стену огромный гвоздь для одежды приятеля и освободил для его книг часть своей полки.
— Твоя законная половина. Занимай и властвуй.
— А зачем мне? — удивился Степа. — Я же теперь не учусь. Книги можно и в чемодан убрать.
— Это ты зря! — насупился Шурка. — Пробросаешься ученьем-то!
И он принялся доказывать, что учиться вполне можно и дома. Он, Шурка, будет рассказывать Степе, о чем говорили на уроке учителя, потом они вместе занимаются, потом Шурка гоняет приятеля по всем вопросам и может даже проставлять ему оценки.
В конце концов Степа решил заниматься, как советовал Шурка. Но это было непривычно и странно: сидеть одному в пустой избе, не слышать ровного рабочего гула в классе, не ждать с нетерпением звонка на перемену.
И занятия плохо шли на ум.
К тому же постоянно находились какие-нибудь дела: то надо помочь Шуркиной матери вытащить из печи тяжелый чугун с картошкой, то сбегать на колодец за водой, то наколоть дров.
Потом нельзя же не заглянуть в правление артели— теперь это было самое оживленное и шумное место в Кольцовке.
Здесь постоянно толпились люди, шли споры о семенах для сева, о плугах, боронах, телегах, сбруе...
В просторной горнице бывшего ереминского дома пахло сыромятной кожей, овчинами, дегтем, на подоконниках лежали горки зерна.
Егор Рукавишников, сидя на широкой лавке с резной спинкой, выписывал колхозникам наряды на работу.
Получив наряд, колхозники не спешили уходить. Как куры на нашесте, они присаживались на корточках около стен, дымили самокрутками и с любопытством поглядывали на оставшиеся после Еремина фикусы с толстыми, словно кожаными, листьями, на венские стулья с тонкими ножками, на зевластую трубу граммофона, на высокое, от пола до потолка, зеркальное трюмо.
— Вот жизнь пришла! Смотрись — не хочу! — говорил кто-нибудь из колхозников, прихорашиваясь перед зеркалом.
— Граждане! Красавцы! Может, вам еще граммофон завести? — сердился Рукавишников и прогонял их на работу.
Как-то раз под горячую руку председателя попал и Степа:
— Ты что здесь околачиваешься?
— Дядя Егор, а можно и мне на работу? — попросил Степа.
— Ну что ж... — подумав, согласился председатель. — Раз у тебя такое дело... простой со школой — можно и наряд. — И он послал Степу к амбару, где колхозники сортировали зерно. — Ваню Селиверстова сменишь. Он мне в правлении нужен.
После сортировки семян председатель направил Степу к землеустроителям, которые нарезали колхозу полевые угодья.
Степа таскал на плече тяжелую геодезическую линейку с черными делениями, помогал делать промеры, ставил вешки.
Уже определялись границы просторных земельных угодий артели.
Они вбирали в себя десятки и сотни узких, горбатых полосок, и Степа даже жалел, что ребята не видят вместе с ним, как закладывается общее поле. Вот уж будет где развернуться «Фордзону»! Да что там «Фордзон» — пускай сюда хоть десяток тракторов, всем хватит места.
Дня через три, когда землеустроительные работы закончились и Степа вернулся домой, его встретил Шурка:
— Степану Григорьевичу наше вам! Где пропадаешь?
— Срочная, понимаешь, работа. Колхозу землю нарезали... — с достоинством пояснил Степа.
— Ого! Совсем артельщиком заделался... — Шурка не без зависти оглядел тронутое первым загаром лицо приятеля, его загрубевшие руки, заляпанные грязью сапоги, подвернутые рукава куртки. — Незаменимый, значит... А ученье вроде побоку?
— Да нет... — слегка смутился Степа. — Засяду вот сегодня... наверстаю. И чего это Матвей Петрович вестей не подает?
— Есть вести, — нахмурился Шурка и сообщил, что знал. — Сегодня дядя Матвей прислал отцу записку — дела у него неважные. В восстановлении на старой работе ему отказали, а в новую школу он ехать не согласился. Сейчас дядя Матвей в область отправился... стенку пробивать, — сказал Шурка. — До Москвы, пишет, дойду, а своего добьюсь.
Вечером Егор Рукавишников спросил ребят, работает ли у них тракторный кружок.
— С теорией покончили, теперь практическое вождение началось. Только без Матвея Петровича страшновато за руль садиться, — признался Шурка.
— А вы все-таки поторапливайтесь, — попросил Егор. — Время не терпит, скоро ведь весна, сев... На худой конец, Георгия Ильича раскачайте.
Степа и Шурка задумались. По теории Георгий Ильич объяснит что угодно, а вот водить трактор он не умеет.
— А знаешь что? — предложил Степа. — Давай самостоятельно заниматься. Тихо будем ездить, осторожно... Все-таки практика.
Шурка согласился.
На другой день после занятий члены кружка собрались у школьного сарая. Залили мотор водой, заправили керосином и принялись крутить заводную ручку.
Трактор молчал.
В сарай заглянули любопытные интернатцы.
Наконец мотор, словно сердясь, что ему не дают покоя, зафыркал, дал серию холостых выстрелов и, окутав всех черным, вонючим дымом, затрясся как припадочный.
— Спасайся кто может! — дурашливо закричали интернатцы. — Сейчас взорвется!
Степа сделал вид, что ничего не слышит.
— Начинаем! Чья очередь водить трактор? — обратился он к кружковцам и, заглянув в тетрадь, вызвал Нюшку.
Девочка подошла к «Фордзону».
Шурка кинул на приятеля выразительный взгляд.
— Опять наколбасит, — шепнул он. — Пусть первым хоть Афоня едет.
Степа покраснел и, не глядя на Нюшку, скомандовал:
— Ветлугина, за руль!
Нюшка ловко вскарабкалась на железное сиденье трактора. Степа и Шурка в роли инструкторов примостились за ее спиной, на крыльях.
Подавшись вперед и вцепившись в баранку, так что побелели пальцы на сгибах, Нюшка вывела трактор из сарая, развернулась и направила его к школьному огороду.
Наклонившись, Степа крикнул, чтобы Нюшка не горбилась, но девочка ничего не слышала и с отчаянным лицом кружила по огороду.
Все шло довольно благополучно, если не считать того, что Нюшка слегка зацепила забор перед флигелем директора школы и раздавила старую бочку, которой вообще было не место в огороде. Но все это были сущие пустяки по сравнению с тем, что выделывала Нюшка на первых занятиях по практическому вождению трактора.
Степа не без торжества покосился на Шурку и разрешил Нюшке проехать еще полтора круга сверх положенных пяти. Потом по очереди водили «Фордзон» остальные кружковцы. Они останавливали трактор, трогали вновь, переключали скорости, делали развороты направо и налево, старались провести машину как можно прямее, чтобы весной в поле «борозда пролегла, как по шнуру».
Степа сел за руль самым последним.
— Эх, плужок бы прицепить да в поле! — вслух подумал он, поглядывая на вытаявшие черные пригорки.
— Теперь уж скоро! — мечтательно отозвался Шурка, сбив на затылок шапку и глубоко вдыхая теплый воздух, что волнами накатывался с поля.
Степа, сделав два круга по размешанному серому снегу, повел трактор вдоль изгороди, да так близко от нее, что Шурка даже оторопел: не иначе приятель решил поозоровать и позлить директора. Но нет, трактор не зацепил ни одного столба, ни одной тычинины. Потом Степа обогнул на тракторе школу, ловко лавируя между старыми, толстыми деревьями, пересек парк и выбрался в липовую аллею.
— Ты куда? — спросил Шурка.
— По деревне разок проедем... Пусть люди на трактор посмотрят.
Шурка хотел было предупредить, что мотор у трактора с норовом, может забарахлить, а они в технике не так еще сильны, но искушение показать трактор в деревне было столь велико, что он лишь махнул рукой:
— А ну, давай! Газуй!
Степа переключил мотор на третью скорость.
Кружковцы, догадавшись, куда направились ребята, побежали следом за трактором. Нюшка сорвала с головы красную косынку, привязала ее к палке и, догнав «Фордзон», бросила флажок Шурке.
Разные звуки слышала деревенская улица. По утрам неистово перекликались петухи, вечерами наяривала шальная гармошка и горланили задорные песни девчата; ранней весной, с первыми теплыми днями, трубно мычали во дворах коровы и заливисто ржали лошади, в летние дни жестко стучали о затвердевшую землю колеса телег, звенели отбиваемые косы; зимой в мороз визжали железные подрезы саней, в праздники над улицей плыл тягучий колокольный звон, а во время пожаров всех пугал тревожный набат.
Но сегодня до слуха людей дошел новый, непривычный звук. Деревня впервые услышала железный голос мотора.
И все, кто был в избах, стар и мал, высыпали на улицу.
Так вот он, железный коняга, о котором так много было разговоров в деревне! Вот он без заминки идет вперед — крепкогрудый, горячий, попыхивает синим дымком, глубоко вдавливается в зимнюю дорогу шипами своих широких колес. Попробуй-ка останови его!
Значит, все это не пустые слова, не болтовня ребятишек — доказали-таки свое школьники!
Колхозники, еле поспевая, шагали за трактором, махали Степе и Шурке руками. Малыши забега́ли вперед и с восторженными криками кидали вверх шапки.
Василий Хомутов бросил под колеса трактора горбыль и, пропустив машину мимо себя, долго рассматривал, во что он превратился.
Какая-то старуха, повстречавшись с трактором, испуганно и часто закрестилась, а потом побежала вслед за толпой.
Степа и Шурка встретились глазами и не могли скрыть улыбок — вот это агитация! Покрепче любого слова.
— Маши флагом, маши! — приказал Степа приятелю. Проехав под окнами правления, он лихо развернулся и выписал трактором замысловатую восьмерку.
Но тут случилось то, чего больше всего боялся Шурка.
Мотор, гудевший до сих пор ровно и басовито, вдруг захлебнулся, неприятно затарахтел и вскоре заглох.
Степа и Шурка спрыгнули с сиденья и принялись с ожесточением крутить заводную ручку. На помощь им бросились кружковцы. Но мотор, словно решив, что на сегодня он и без того изрядно поработал, упрямо молчал.
Подняв капот, Степа и Шурка с сосредоточенным видом склонились над мотором.
Их бросило в жар: вот и всегда так с этим «Фордзоном»! То бегает, как молодой, то встанет ни с того ни с сего, а они ломай голову, в чем тут загвоздка. Похуже любой каверзной задачи по алгебре.
Вот и сегодня задача оказалась нелегкой. К тому же ее надо решать в присутствии доброй сотни людей, которые со всех сторон уже обступили трактор.
— Ребята, быстрее! Не срамитесь! — шепнула им Нюшка, озираясь на толпу.
Мальчишки проверили свечи, зажигание, продули топливопровод, еще раз покрутили ручку, но мотор по-прежнему не заводился.
— С придурью машина-то! — послышались возгласы.
— Лошадь — ту хоть кнутом да криком поднять можно. А эту железяку чем?
— А в борозде трактор встанет?.. Так и кукуй до вечера, грейся на солнышке.
— Эх вы, мастаки-механики! Кататься умеете, а чинить да править — чужого дядю кликать надо.
— Может, знахаря позвать... он поколдует.
Обливаясь потом, Степа с Шуркой ползали вокруг машины, забирались под мотор, суетливо хватались за разные инструменты, мешали друг другу и под конец начали злиться и препираться.
— Граждане! — упрашивал толпу Егор. Рукавишников. — Ну, застопорило машину, заело. Что за беда! Дайте же одуматься хлопцам. Расходись по домам! — И, пробравшись к мальчишкам, он просительно зашептал: — Да ну же, сынки! Выдыбайте, поднатужьтесь!
Мальчишки готовы были провалиться сквозь землю.
Проехать с форсом по деревне, собрать столько людей, а теперь сидеть посреди улицы и слушать, как зубоскалят колхозники— это ли не срам! А Матвей Петрович еще гордился ими, как лучшими кружковцами.
— Может, за Георгием Ильичом сбегать? — шепнула Нюшка.
— Беги! — выдохнул Шурка.
Но Степа удержал ее. Что ж, так они и будут при всякой неполадке бегать к учителям да старшим? Грош цена, в таком случае, молодым трактористам.
Он обтер разгоряченное лицо снегом и вновь полез под капот. Главное, как учил Матвей Петрович, не суетиться, осмотреть все, начать с самого простого...
— Стоп, Шурка! — закричал Степа. — Вот же она, заковыка! Никакой поломки нет. Смотри, провод отошел... Ах, дубье мы стоеросовое!
Почем зря ругая себя, кружковцы наконец завели мотор, и «Фордзон» тронулся в обратный путь.
У школы их встретили Георгий Ильич и Савин.
— Что у вас там случилось? — с тревогой спросил Шумов. — Почему меня не позвали?
— Справились, Георгий Ильич, — улыбнулся Шурка. — Вы же не всегда нас за ручку водить будете.
— Молодцы, молодцы! — похвалил Савин, кинув взгляд на возбужденные лица кружковцев. — Первый выезд прошел неплохо... Колхозники очень довольны школой. — И он обратился к Шумову: — А вам я думаю благодарность объявить. Хорошему вы делу ребят обучили...
— Не привык, чтобы меня за других хвалили, — сухо ответил Георгий Ильич. — Вы бы лучше Матвея Петровича вспомнили. Его же затея.
— Да-да, может, вы и правы, — поспешил согласиться Савин. — К сожалению, не сработался с нами товарищ Рукавишников. Неуживчивый, знаете, характер... — Он заметил около «Фордзона» Степу: — Ковшов?! Ты почему у трактора? Почему в колонию не уехал?
Стиснув зубы, Степа рывком открыл капот трактора к склонился над мотором, хотя в этом сейчас не было никакой надобности.
— Напрасно задерживаешься, Ковшов, напрасно, — продолжал Савин. — Можешь потерять место в колонии. Советую поторопиться.
Степа продолжал молчать. Казалось, скажи он хоть слово, и ему уже не сдержать себя — так люто ненавидел он сейчас директора школы.
— Странная, между прочим, манера отмалчиваться... — Савин вздохнул и, взяв под руку Георгия Ильича, отошел с ним в сторону.
— Видали Лису Патрикеевну! — шепнула ребятам Нюшка. — Съел учителя да еще облизывается! Теперь Степку догладывает...
Зло проглотив слюну, она скатала крепкий, как камень, снежок и, размахнувшись, врезала им в ворота сарая, метрах в двух от Савина.
— Что это такое? — Директор подозрительно покосился на девочку и направился к школе.
— Так бы вот и запустила! — буркнула ему вслед Нюшка. — Фис треклятый!
Митя Горелов вдруг поманил ребят к себе и вполголоса сказал, что неплохо бы объявить Фису это самое... Он долго стучал себе по лбу, забыв нужное слово.
— Бойкот? — подсказал Афоня.
— Это что? — не поняла Нюшка. — В глаза ему наплевать?
— А видали, как Степка сейчас... — пояснил Митя. — Не отвечает Савину, и все тут. Будто и не видит его. Вот давайте и мы так. Не разговаривать с Фисом, не здороваться...
— Он того стоит. Я — «за»! — решительно поддержал Шурка, обведя всех глазами. — И пусть каждый еще пять человек подговорит.
— Можно и уроки Фису не отвечать! — обрадованно добавила Нюшка. — Я вот учить буду, а отвечать — ни за какие коврижки! Скажу, что зубы болят.
ГУДИ, НАБАТ!
Загнав трактор в сарай, ребята пошли по домам.
Над далекой волнистой грядой леса навис багровый закат.
Ему уже пора было угасать, но солнце, опустившееся за горизонт, так причудливо окрашивало облака, что они казались раскаленными, огненными, обжигающими. Вскоре запылала почти половина неба.
Недобрый, красноватый отблеск заката падал на снег, на избы, на стволы деревьев, и все кругом казалось необычным и тревожным.
Ребята с опаской поглядывали на закат и прибавляли шагу — почему-то хотелось поскорее попасть домой.
— Словно пожар в небе, — вполголоса сказала Нюшка, переводя взгляд с неба на Степу и почти не узнавая его — такой он был медно-красный, непривычный.
— Должно, ветер будет... — ответил Степа. — И похолодает.
— А мне страшно чего-то! — помолчав, призналась Нюшка и, заметив удивленный взгляд приятеля, торопливо заговорила: — Ты не видел, как давеча Фис на тебя посмотрел? Ух! Такому ночью лучше и не попадайся... Ой, Степа, сделает он что-нибудь с тобой!
— Он уже сделал, — усмехнулся Степа. — Большего не придумаешь.
Они замолчали, шагая плечом к плечу по красноватому снегу.
Нюшка заметила, что все ребята разошлись и они со Степой остались на улице вдвоем.
Вот показался и дом Рукавишниковых, но Степа к нему не свернул, а шел все дальше и дальше. Ему совсем не хотелось расставаться с Нюшкой. Что греха таить, он любил возвращаться из школы вдвоем с девочкой, когда можно поговорить по душам, рассказать о своих планах, спросить совета...
В другой раз Нюшка, наверно, забеспокоилась бы, побежала домой одна, но сейчас ей, как никогда, тоже хотелось подольше побыть со своим другом. Наверно, Степа все же скоро уйдет из Кольцовки, раз Матвей Петрович не шлет никаких добрых вестей.
«Ну и пусть смотрят, пусть! Хоть последний разок пройдусь...» — с вызовом подумала девочка, косясь на окна изб, и даже выше вскинула голову.
Закат отгорел, облака померкли, стали пепельными, тусклыми, на улице потемнело.
Степа и Нюшка подошли к избе Ветлугиных, остановились у крыльца.
— Степа, — осторожно заговорила девочка, — а если Матвей Петрович не отстоит тебя?.. И сам не вернется?.. Ты ведь уйдешь отсюда, правда?
Степа вздрогнул:
— Да что ты меня отпеваешь!
— Надо же тебе доучиться где-нибудь! — пояснила девочка и совсем уже робко спросила: — Ну, а потом, позже... когда выучишься... ты приедешь опять в Кольцовку? А? Степа? Тогда уж здесь совсем по-другому будет... Колхоз на ноги встанет. Ворона разоблачат, выгонят... И с Фисом, наверно, что-нибудь сделают... Вернешься, Степа?
— Вот как!.. На готовенькое, значит. Приезжай, мол, Степочка, у нас все тихо, ладно, мир-гладь, божья благодать! — Голос у Степы стал злым, полез вверх. — Эх ты, человек... Да я с тобой... — Он с презрением махнул рукой и бросился прочь от крыльца.
Из сеней выглянула Аграфена:
— Опять не поладили? Чем ты его допекла?
— Ой, мамка! И озлился же он... — каким-то необычным голосом сказала Нюшка.
Аграфена подошла к дочери и заглянула ей в лицо. Нюшка смотрела вдоль улицы, в темноту, куда исчез Степа, и счастливо улыбалась.
Когда Степа вернулся с улицы, у Рукавишниковых уже поужинали и ложились спать.
Шурки дома не было. После поджога избы Хомутовых комсомольцы установили ночное дежурство в деревне. Они присматривали за правлением колхоза, за конюшнями, амбарами, сельсоветом и школой. Сегодня как раз подошла очередь дежурить Шурке.
Степа поел картошки, запил молоком и только было собрался лечь спать, как за окном гукнули филином — сигнал тревоги.
Степа поспешно вышел.
У крыльца стоял Митя Горелов.
Озираясь по сторонам, он шепотом сообщил, что в деревне появился Фома-Ерема.
— Померещилось тебе, — не поверил Степа.
— Своими глазами видел. Иду сейчас мимо правления колхоза, а у палисадника трое стоят... Закуривают. Двоих-то я сразу узнал — Филька Ковшов да Уклейкин. А третий... вроде Фомы-Еремы.
— Вроде Володи, а зовут Акулькой, — усмехнулся Степа. — Что же ты как следует не разглядел?
— Не успел, — виновато признался Митя. — Только хотел послушать, о чем они говорят, а Филька с Семкой как схватят меня, повалили и давай лицо снегом натирать. «Это, говорят, мы тебя умываем — чтобы румяный был да красивый». Чуешь, и сейчас щеки горят... А когда я вырвался, Фомы-Еремы у палисадника уже не было...
Степа сокрушенно покачал головой. С тех пор как его помял жеребец Красавчик, Митя Горелов вбил себе в голову, что Степу надо всячески охранять. Он то и дело предупреждал Степу, что ему хотят устроить «темную», поднимал на ноги ребят и каждый раз попадал впросак. И все же он не успокоился, хотя ему за это и доставалось. Филька с Семкой всячески потешались над ним: наминали ему бока, «загибали салазки», «ставили банки» и «жали из него масло». А сегодня прибавился еще и новый номер — растирание снегом.
— Эх ты, Дубленая кожа! — с жалостью сказал Степа. — Опять досталось...
— А Фома-Ерема не зря приехал, — вновь заговорил Митя. — Написал же он тебе: «Живи да оглядывайся». Смотри вот — устроит «темную».
— Опять за свое! — отмахнулся Степа. — Ты же сам говоришь, это не Фома, а вроде... Да и откуда ему быть? Он же в бегах с братом.
— Нет, это Фома... Я видел, — упрямо твердил Митя.
— Знаешь что? — Степа начал сердиться. — Иди-ка ты спать. Завтра видно будет...
Буркнув что-то под нос, разобиженный Митя ушел, а Степа вернулся в избу. Быстро разделся и лег в постель, И сразу, словно на крыльях, его куда-то понесло, закачало. Промелькнули улица, толпа колхозников у трактора, красный флажок в руках у Шурки. Потом все ушло вдаль, завесилось туманом...
Проснулся Степа от грохота. Оказывается, из школы вернулся Шурка и опрокинул в темноте табуретку.
— Уже утро? Отдежурил? — подняв голову, спросил Степа.
— Да нет... еще только первый час, — смущенно признался Шурка. — Мы там малость всхрапнули на дежурстве. А Савин нас разбудил и говорит: «Если уж спать, так лучше дома».
— Вы и обрадовались?
— Так теперь все спокойно... Да и сторож там поглядывает... Ох, и спать я хочу! — Шурка сладко зевнул и юркнул под одеяло. — А знаешь, что ребята говорят: будто они Фому-Ерему на улице видели.,.
— Фому?!
— Ага, — сонным голосом ответил Шурка. — Завтра пошукаем его...
Опершись на локоть, Степа приподнялся на кровати. Значит, Митьке не померещилось, Фома-Ерема действительно в Кольцовке. И что ему здесь надо? Может, он не один заявился, а с целой компанией?.. Фома-Ерема ходит по деревне, выглядывает все, как разведчик, а остальные раскулаченные прячутся где-нибудь в овинах или за ометами соломы и ждут сигнала.
— Шурка! — позвал он.
Приятель, посапывая и чмокая губами, уже спал. Степа невольно покосился на окно.
А вдруг стекла порозовеют от зарева пожара и на улице ударят в набат?.. Но окна были черны, как деготь, и кругом стояла тишина.
Степа усмехнулся и опустил голову на подушку. Право же, он стал мнительным, как Митька.
Но сон все-таки не шел. Опять полезли в голову всякие мысли. Степа наконец поднялся. Шурку он, пожалуй, будить не станет, а на улицу выглянуть все же не мешает. Осторожно оделся и вышел на крыльцо.
Дул пронзительный, холодный ветер, посвистывая в застрехе; тоскливо скрипела в переулке старая, дуплистая липа, над головой яростно метались ветви берез, словно хлестали темное небо.
Степа наугад побрел к дому Ковшовых. В окнах темно, ворота во двор закрыты, в переулке никого. Степа постоял за крыльцом, прислушался. Тихо, нигде ни звука, только во дворе, за стеной, шумно вздыхают лошади.
Степа пошел к правлению колхоза. И здесь ничего подозрительного.
Куда же идти дальше? Может, к школе?
Вот и ШКМ. Здесь тоже все спокойно. И даже сторожа не видно на ступеньках крыльца, где он обычно сидит, закутавшись в тулуп, похожий на большой, туго набитый мешок с сеном. Наверно, сторож забрался на кухню и дрыхнет около теплой плиты.
Как видно, напрасны твои подозрения, молодой Ковшов! Ночь есть ночь, и люди сейчас спят, набираются сил к завтрашнему дню. Пора и тебе вернуться домой и досмотреть последние сны.
Так Степа, пожалуй, и поступит.
Он завернул за угол школы, сделал несколько шагов и вдруг услышал впереди себя легкое пофыркивание и позвякивание уздечки. Степа вгляделся. В узком проезде, отделяющем школу от огорода, смутно проступали лошадиная морда, дуга, оглобли... Лошадь запряжена в сани. Степа одним прыжком очутился около саней, вытянул руки. Сверху жесткий, залубеневший от сырости брезент, под ним — мешки. Тугие, полные мешки с зерном!
У мальчика перехватило дыхание.
За первой подводой вторая, третья, четвертая... И в каждых санях мешки. И откуда столько хлеба? Может быть, это тот самый хлеб, который Степа так давно разыскивает? Но что с ним делают — прячут или увозят? Впереди мелькнул тусклый свет фонаря. Кто это может быть?
Прижимаясь к стене, Степа продвигается дальше... Еще минута — и ему все станет ясно.
Будто из-под земли поднимаются одна за другой фигуры людей, скрюченные под тяжестью мешков. Они сбрасывают мешки в сани. Так вот откуда хлеб! Из школьного, забытого всеми подвала. А ведь на нем всегда висел ржавый замок, и дверь наполовину была завалена мусором.
До Степы доносится приглушенный голос:
— Живей, живей! Не задерживайтесь!
Мальчик подается назад, сердце у него проваливается куда-то вниз — он узнает голос Савина. Да-да, Савина, директора школы, и никого больше!
— Много еще? — нетерпеливо и отрывисто спрашивает тот же голос, и теперь Степе кажется, что он звучит у него над самым ухом.
— Зачищаем... Можно ехать, — деловито отвечает другой голос.
Это говорит Ворон, но Степу уже ничего не удивляет.
«Теперь бежать, бежать!» — мелькает у него в мозгу.
Но сразу бежать нельзя. Пригнувшись, Степа крадется обратно к углу школы.
Только бы проскользнуть мимо подвод, завернуть за угол, а там его ничто не остановит.
И вот уже спасительный угол совсем близко, как вдруг на Степу набросился кто-то гибкий, сильный, свалил с ног и прижал к земле.
— Попался, ищейка!.. Теперь не уйдешь!
«Это же Фома-Ерема!» — догадывается Степа. Вот и встретились на узкой дорожке. Хорошо, что Фома-Ерема один.
Степа делает вид, что и не думает сопротивляться, и, когда Фома-Ерема немного расслабляет руки, он резко вывертывается и оказывается наверху.
Но уже поздно. Подбежали Илья Ефимович и сторож дядя Петя. Они схватывают Степу за плечи и, встряхнув, ставят на ноги.
— Пустите! — кричит Степа, — пытаясь вырваться из железных рук Ворона. — Караул! Хлеб увозят! Кара-у...
— Замолчи! Ты! — свистящим шепотом приказывает Илья Ефимович и, сорвав со своей головы шапку, затыкает Степе рот.
Из темноты выступает рослый парень и заглядывает мальчику в лицо. Степа узнает в нем старшего брата Фомы-Еремы — Оську.
— А-а, колонист! — ухмыляется тот. — Выследил все-таки... И Степа слышит, как Оська спрашивает Илью Ковшова, что же теперь делать с его племянником.
Тяжело дыша, Ворон некоторое время молчит.
— Слушай, Степка! — наконец хрипло заговорил он. — Какая ни на есть, а родня ты мне... По-хорошему прошу... Молчи, что видел... Забудь!.. Тебе же лучше... Ну, долго не думай, говори. — Илья Ефимович отнял шапку и наклонился, чтобы лучше услышать, что ответит племянник.
Тот молчал.
— Ерунда, глупости! — брезгливо сказал Савин, подходя к Илье Ефимовичу. — Все равно эта дрянь всех нас выдаст. — Он отвел в сторону Оську и властно сжал ему локоть. — Поздно с ним церемониться. Свяжи его и забирай с собой. В дороге сообразишь.
— Да говори же!.. Я кого спрашиваю!.. Будешь молчать или нет?.. — Дядя яростно встряхнул Степу за плечо.
Степа усмехнулся. Молчать о том, что он видел? Молчать, когда узел так удачно распутался и все стало ясным? Да за кого Ворон его принимает?
Сейчас Степу терзала только одна мысль — как бы вырваться из рук дяди и добежать до деревни. Выходят же люди из всяких трудных положений, а неужели он ничего не способен придумать?
Может, ударить Ворона головой в живот? Или выскользнуть из пиджака? Ребята в колонии применяли этот прием, когда надо было от кого-нибудь удрать.
Верхняя пуговица на пиджаке была уже расстегнута. Степа осторожно расстегнул еще две нижние.
— Ефимыч! — раздался из темноты голос Оськи. — Давай сюда колониста.
«Чего они там задумали?» — похолодел Степа. Он вдруг резко распахнул полы пиджака, рванулся вперед, словно прыгнул с кручи, и, оставив пиджак в руках Ильи Ефимовича, бросился бежать.
Пожалуй, никогда в жизни Степа не бегал с такой быстротой, как сейчас. Без пиджака, подгоняемый в спину холодным ветром, он легко перескакивал через канавы и рытвины, скользил по обледеневшей за ночь дороге, спотыкался, падал, вновь вскакивал и мчался дальше...
Несколько пар ног с тяжелым топотом гнались за мальчиком следом. Но преследователи быстро выдохлись. Остался один лишь Оська. Но и ему, в тяжелых сапогах и полушубке, не так легко было соперничать со Степой. На бегу Оська пошарил за пазухой и выругался: обреза не было — он оставил его в санях, под мешками.
А мальчишку надо задержать во что бы то ни стало! Оська напряг все свои силы.
Степа между тем влетел в деревню.
Скорей, скорей к Рукавишниковым! Но до них еще далеко. Он бросился к первой избе, забарабанил кулаками в окно.
Никто не отозвался. Степа побежал дальше. Все слышнее сзади тяжелый топот.
— Кара-ул! Хлеб увозят! Караул! — истошно завопил он.
А деревня все еще спит, в окнах ни одного огонька, даже собаки молчат в подворотнях.
Что же делать? Кто услышит тебя, Степа Ковшов?
Посредине улицы у самой дороги темнеет приземистый пожарный сарай. А около него — Степа это хорошо знает — столб с чугунной доской, к веревке привязан железный шкворень.
Степа нашарил шкворень и, как молотом, часто и ожесточенно принялся бить в чугунную доску. Гуди, набат, поднимай людей!
Но быстро захлебнулся тревожный зов чугунной доски. И уже нет шкворня в руках у Степы. Что-то тяжелое, тупое обрушилось ему на голову, и мальчик, теряя сознание, полетел в бездонный омут...
БОЛЬШАЯ ВЕСНА
Только через месяц Степа Ковшов оправился после тяжелого ранения, и его выписали из больницы.
Встречать приятеля ребята отправились вместе с Матвеем Петровичем. Они запрягли школьную лошадь и к десяти часам утра поехали в Заречье, где находилась больница.
Но еще задолго до этого туда прибежали Нюшка и Таня.
Они прохаживались по садику, заглядывали в окна палаты и очень досадовали, что Степа не может поскорее выписаться.
Наконец он появился на крыльце больницы. Был он худой, вытянувшийся, коротко остриженный.
Девочки бросились было к крыльцу, но потом приостановились и жалостливо-растерянно посмотрели на Степу.
— Да живой, живой... — кивнул мальчик. — Подходите, не бойтесь. Можно и за руку поздороваться. — И, шагнув к Нюшке и Тане, он крепко пожал им руки.
Девочки сдержанно улыбнулись. Кажется, все страшное прошло: Степа ходит, в руке появилась сила, голова без повязки и глаза смотрят ясно и весело.
А ведь сколько было тревог и опасений, как свежа в памяти та холодная ночь, когда Степу нашли у пожарного сарая с пробитой головой! Хотя Оська Еремин и оглушил его железным шкворнем, но набат все же сделал свое — всполошил и поднял на ноги колхозников. Они захватили Оську, Илью Ковшова и не дали увезти ни одного мешка зерна. Скрылся неизвестно куда только один директор школы Савин.
Степа потом две недели лежал в больнице без сознания, и врачи сильно опасались за его жизнь. Но теперь все страшное, кажется, прошло...
Нюшка усадила Степу на скамейку и развязала перед ним узелок с пирогами и ватрушками:
— Угощайся вот... мамка прислала.
— Да я же выписываюсь... ни к чему это.
— Все равно ешь, нагуливай силы... нужно это! — приказала Нюшка и, оделив пирогами Степу и Таню, принялась сообщать новости.
Теперь Степе никуда не надо уезжать — роно отменило решение педсовета о его исключении из школы. К тому же в ШКМ назначен новый директор— Матвей Петрович. Он говорит, что с осени в школе прибавятся два класса — восьмой и девятый. Теперь ребятам будет где учиться.
А над Ильей Ковшовым и Оськой Ереминым скоро состоится суд. Жаль только, что скрылся Савин — он, верно, тоже из их компании. Ну да ничего, на суде все распутается... Суд будет проходить прямо в колхозе, при всем народе, и Степе, конечно, придется выступать первым свидетелем.
— Ты не бойся, — шепнула Таня. — Знаешь, сколько у тебя теперь друзей на свете?
— Каких друзей? — не понял Степа.
Таня рассказала. После того как в газете была напечатана заметка о том, как школьник Степа Ковшов разоблачил кулаков, в адрес кольцовской ШКМ со всех сторон посыпались письма. Пишут комсомольцы, пионеры, колхозники, молодые рабочие. Они справляются о здоровье Степы, предлагают ему свою поддержку, собираются приехать на суд...
К больнице подъехали на телеге Матвей Петрович, Афоня и Митя.
Заметив Нюшку и Таню, мальчишки только развели руками — значит, все новости Степе теперь уже известны!
— Да нет, не все, — сказал Матвей Петрович. — Главного-то, пожалуй, никто из вас еще не знает.
И он сообщил, что на днях арестован бывший директор школы Савин. Как оказалось, он не только помогал кулакам в их темных проделках, но был врагом куда более опытным и опасным. Белый офицер в прошлом, Савин обманом пробрался в школу, связался с врагами и всячески вредил организации колхозов.
Учитель пристально посмотрел на Степу:
— Как это ни горько, но тебе нужно знать все до конца. Савин жил под чужой фамилией. И он совсем не Савин, а Аигин, сын помещика из Дубняков.
— Аигин! — крикнул Степа. — Это там, где коммуна... где отец?
— Да-да... Как выяснилось, Савин-Аигин и был одним из убийц твоего отца... Враги думали задушить первую коммуну, запугать людей. Но нет, это им не удалось. Ледоход прошел, большая весна началась...
У Степы перехватило горло. И он жил рядом с убийцей своего отца, ходил с ним по одной земле, дышал одним воздухом и не мог схватить его за черную руку!
Учитель привлек мальчика к себе:
— Да ну же, Степа, крепись! Ты смело шел по следу врага, и ты многое сделал. Отец тобой был бы доволен...
...В Кольцовку возвращались молча.
Сначала Степа сидел на телеге, потом спрыгнул и зашагал вместе со всеми полевым проселком.
Земля мягко пружинила под ногами, дышала теплом.
Стоял солнечный майский день. Голубая чаша неба была широка и просторна и, казалось, до краев наполнена живыми весенними соками.
Молодо зеленели березы на опушке леса, в низинах буйно пробивалась трава, расцвеченная желтыми первоцветами; бурная в недавние дни половодья, речка теперь угомонилась, и берега ее уже были чинно оторочены кудрявым лозняком.
В поле шла пахота. Артельные лошади, запряженные в плуги, ходили гуськом, и пахари задорно покрикивали на них. Все больше и больше становилось вспаханной земли. Только что поднятая плугом, она выглядела сочной, ярко-коричневой, а подсушенная солнцем и ветром, серела, как будто покрывалась пеплом.
Чуть поодаль, чтобы не пугать лошадей, пахал землю оранжевый школьный «Фордзон». За рулем сидел Шурка. На радиаторе, как огонек, горел красный манящий флажок.
Степа вспомнил первую коммунарскую весну в Дубняках, вспомнил отца, трепещущее на ветру кумачовое полотнище, которое он нес впереди колонны пахарей...
Тогда пахарей было совсем немного, а сейчас далеко окрест раскинулись поля — кольцовские, зареченские, торбеевские, а еще дальше поля сотен и сотен других сел и деревень, и повсюду люди пашут землю вместе, одной дружной семьей.
Так вот она, большая весна на земле, о которой мечтал отец Степы!
Трактор развернулся и пошел навстречу ребятам, переворачивая маслянистые, тяжелые пласты земли.
— Эх, если бы тракторов побольше! — вслух подумала Нюшка. — Мы бы всю землю подняли, всю ширь перепластовали... До самого некуда!
— Будут вам машины, будут! — улыбнулся учитель. — Ваше от вас не уйдет.
Нюшка заглянула Степе в лицо:
— Хочешь порулить? Мы уж тут все по очереди водили...
Степа кивнул головой.
Нюшка замахала руками и, когда Шурка остановил «Фордзон», сказала ему, что надо иметь совесть и уступить место другому,
Степа сел за руль и тронул трактор. Ребята и Матвей Петрович остались ждать его у края загона.
Заливались в небе жаворонки, припекало весеннее солнце, как живые, извивались под отвалами плугов черные пласты земли, острые лемеха разрывали старые межи, сливая узкие полосы в один широкий, неоглядный массив, а Степа все кружил и кружил по полю, крепко сжимая руль трактора.
Оживала земля, гудело поле...
ЗЕМЛЯ МОЛОДАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАССЫЛЬНАЯ
Правление колхоза «Передовик» заседало уже третий час. Сквозь дощатую перегородку, отделявшую кабинет председателя от просторной горницы, доносились голоса, взрывы смеха, кашель, пробивался сизый дымок самокруток, словно в кабинете жгли лапник.
Рассыльная правления колхоза Нюша Ветлугина, приземистая скуластая девушка лет семнадцати, болтая ногами, обутыми в сапоги с короткими голенищами, и лузгая каленые подсолнухи, сидела у дверей кабинета и прислушивалась к голосам за перегородкой.
Говорили о многом: о семенах к весеннему севу, о кормах для коров и лошадей, о телегах, веревках, хомутах, мостике через Гремучий ручей, который еще осенью тайно разобрали какие-то ловкачи и тем самым отрезали путь к Калиновому полю.
И, хотя из кабинета порой доносились то яростные выкрики, то тяжелый стук кулака по столу (это, наверное, председатель дядя Вася призывал к порядку схватившихся в споре бригадиров), Нюша была довольна.
Что бы там ни судачили недруги о молодой кольцовской артели, какие бы слухи ни распространяли, но она живет, дышит и совсем не похожа на гиблое болото.
Рассыльная зорко охраняла порядок в правлении. Дважды приносила заседавшим холодной воды в ведре — пусть охладятся немножко горячие головы; сдерживала колхозников, желавших срочно переговорить с Василием Силычем. Когда же звонил телефон, Нюша приглушенным голосом отвечала, что председатель занят и не может подойти.
— Нельзя, граждане, не приемный час, — заявила она пожилым супругам Ползиковым, которые чуть ли не каждую неделю приходили в правление с жалобой друг на друга. — Да и не дяди Васино это занятие сводить-разводить вас. Шли бы в сельсовет или загс.
— А это не твоего ума дело, — огрызнулась жена Ползикова. — Молода еще... Поживи вот с наше-то...
— Да, не твоего, — согласился с ней муж. — Раз мы избрали Василия Силыча с полным единодушием, так должен он вникать во все наши неустройства.
И супруги Ползиковы в ожидании председателя сели на ступеньках крыльца, повернувшись друг к другу спинами.
Зато колхозного конюха Тихона Горелова Нюша пропустила на заседание без всякой очереди:
— Знаю, дядя Тихон, знаю... Ты по вызову... насчет тягла. Заходи, будь ласков...
— Я им скажу... Я им объявлю ноту! — с угрозой заявил конюх. — Не раздобудут кормов, всю солому с крыш посдираю... — И он, расправив плечи, шагнул в кабинет с таким видом, словно шел с рогатиной на медведя.
...Рассыльной в правление колхоза Нюшку Ветлугину назначили месяца три тому назад.
Работа ей пришлась по душе: целый день на людях, слышишь разные разговоры, узнаёшь все колхозные новости, да и сама не последняя спица в колеснице — рассыльная! То Нюшка бежала кого-то разыскивать, то передавала кому-нибудь поручение председателя, то скликала на собрание людей. Все это она проделывала быстро, сноровисто и аккуратно.
— Ты как курьер-фельдъегерь при дворе его величества, — посмеивался дед Анисим Безуглов, любивший частенько заглядывать в правление колхоза. — И скачешь, и гонишь без передышки. Тебе только перекладных не хватает.
— Ты уж, дедушка, ляпнешь по-старорежимному, — обижалась Нюша. — Какой же здесь двор его величества! Просто правление колхоза.
— Тогда по-другому скажем — ты вроде связного при штабе.
Это больше нравилось Нюше. Шумное правление молодого колхоза ей и в самом деле чем-то напоминало боевой штаб: она читала об этом в книжках.
В правлении постоянно толпились люди. Одни получали задания, другие докладывали о том, что сделано, или сообщали о неудачах и провалах. Нередко около правления останавливались подводы, ржали кони, звенели сгружаемые с подвод железные бороны, плуги, сеялки.
Председателем правления колхоза после отъезда на учебу первого организатора артели «Передовик» Егора Рукавишникова был избран Василий Силыч Хомутов, человек хозяйственный, но медлительный, осторожный и недоверчивый. С утра до ночи он был на ногах, дотошно въедался в каждую артельную мелочь, все старался сделать своими руками. От непомерной работы председатель за последнее время похудел, осунулся.
— Дядя Вася, что вы все сами да сами, — удивлялась Нюшка. — Вы бы по-военному — дали команду, засекли время, а потом спрашивайте да проверяйте.
— Эх ты, молодятина, трава зеленая... — покачивал головой Василий Силыч. — Наше артельное дело по команде «ать-два» не делается. Тут терпежом надо брать, усердием.
И все же Нюшка, жалея председателя, старалась чем могла помочь ему.
Приметив, что дядя Вася стеснялся вызывать бригадиров к себе и обычно сам шел разыскивать их по деревне, рассыльная научилась быстро находить бригадиров и приводила их в правление: «Срочно к дяде Васе... на утреннюю перекличку».
Когда в правлении собирались колхозники, желавшие побеседовать с Василием Силычем, Нюшка ставила их в очередь и просила говорить с председателем коротко и только о деле.
На двери кабинета, где Василий Силыч обычно принимал людей, рассыльная написала часы приема председателя и развесила надписи: «Время — деньги», «Говорите только о деле», «Рукопожатия отменяются».
— Ты что! — рассердился Василий Силыч. — Осрамить меня перед людьми хочешь! — и сорвал надписи.
— Так, дядя Вася, — взмолилась Нюшка, — они ж вас с потрохами съедят, если без порядка... У вас забот-то сколько...
А забот действительно было по горло, и Нюшка целый день бегала по деревне с поручениями председателя. Не в ее характере было только передавать людям наказы дяди Васи да спрашивать, как идут дела. Во все Нюшка влезала с неуемным азартом и горячностью, ввинчивалась, как штопор.
Как-то раз председатель велел ей срочно разыскать кузнеца Маркела Свиридова. Нюшка заглянула в кузницу и обнаружила там с дюжину колхозников. Дымя самокрутками, они грелись у горна, мешали Маркелу работать и вели неторопливую беседу.
Нюша, достав бумажку и карандаш, с серьезным видом принялась переписывать всех колхозников в алфавитном порядке.
— Это зачем? — удивились люди.
— Дядя Вася велел. Для учета и контроля. Вернувшись в правление, рассыльная приклеила бумажку на крыльцо. А в самом низу сделала приписку:
«Берите с них пример. Кузница — лучшее место для отдыха. Тепло, светло и мухи не кусают».
Нюшкина бумажка «с учетом» вызвала немало разговоров. Разобиженный Маркел не стал больше пускать в кузницу охотников погреться, а колхозники, собиравшиеся во время рабочего дня поболтать, завидев Нюшку, спешили разойтись.
В другой раз Василий Силыч послал рассыльную на конюшню за подводой. Старший конюх Тихон Горелов запряг в возок вислобрюхую пегую кобыленку с грязными, в ошметках навоза боками и ляшками. Нюшка критически оглядела лошадь и заявила, что на такой лошади дядя Вася никуда не поедет — не только люди, даже куры засмеют. Горелов вывел другую лошадь, но Нюшка забраковала и эту. То же самое случилось и с третьей лошадью, и с четвертой...
Кончилось все это тем, что Василий Силыч, не дождавшись подводы, сам пришел на конюшню и, узнав, о чем спорит Нюшка с конюхом, заставил его чистить лошадей.
Да и кому только не доставалось от Нюшки Ветлугиной! Она утаскивала у спящих на посту ночных сторожей их колотушки и берданки, не давала покоя опаздывающим на работу колхозникам, подбирала забытые людьми лопаты, веревки, вилы и все это выставляла в правлении для всеобщего обозрения.
В колхозе стали поговаривать, что Нюшка-рассыльная «превышает свои полномочия», «много на себя берет» и что ее надо сместить с должности.
— Это ничего, что превышает, — защищал ее Василий Силыч. — Мне ж одному за всем не углядеть... А у нее глаз молодой, вострый!.. Вот пусть и ходит вроде как в заместителях у меня.
С тех пор Нюшу Ветлугину стали звать в колхозе «зампред».
Стихшие было в кабинете председателя голоса зазвучали с новой силой. Спор шел о Поповой пустоши, раскорчеванной прошлой осенью комсомольцами. Колхозный бригадир Ширяев, как Нюшка узнала по голосу, доказывал, что пустошь надо весной вспахать и засеять пшеницей. Ему возражал Тихон Горелов, ссылаясь на заморенных, отощавших коней, которые и без того едва ли справятся с весенней пахотой.
— Так мы же трактор скоро получим... технику, — вмешался в спор член правления Игнат Хорьков. — Вот нам и подмога...
— А это еще на воде вилами писано... то ли будет, то ли нет, — возразил Горелов.
Спорили долго, пока Василий Силыч не предложил поставить вопрос о пустоши на голосование.
Нюшка быстро припала одним глазом к щели в перегородке, чтобы увидеть поднятые руки, но, к ее досаде, щель загородила чья-то широкая спина.
— Пятеро — «за», двое — «против», — объявил наконец Василий Силыч, подсчитав поднятые руки. — Выходит, большинство за пустошь. Значит, будем ее пахать по весне.
«Ага, все же наша взяла», — удовлетворенно подумала Нюшка.
Неожиданно затарахтел телефон. Громоздкий, неуклюжий, похожий на скворечню, он висел в простенке между окнами. Чтобы вызвать кого-нибудь, надо было долго крутить ручку.
Нюша бросилась к телефону, прижала трубку к уху и, подняв воротник кожушка, громким шепотом объяснила, что дядя Вася заседает.
В трубке гремело, потрескивало, наконец раздался далекий, слабый голос:
— «Передовик»? «Передовик»? Это колхоз «Передовик»?
— Он самый! — с досадой ответила Нюша. — Сказано же вам — занят председатель. И вы не тарабаньте зря.
— Примите срочную телефонограмму... Примите телефонограмму, — продолжал тот же голос.
Нюшка догадалась, что звонят из города. Она схватила со стола карандаш, лист бумаги и, прижав телефонную трубку плечом к уху, примостилась у подоконника.
— Ага! Слушаю! Диктуйте... только пореже.
«Районный земельный отдел предлагает вам, — записывала она, — срочно направить своего представителя на курсы... а... а... техники».
В трубке опять что-то зашипело, затрещало.
— Ничего не слышу! На какие курсы?.. — закричала Нюшка. — Повторите еще раз!
— Курсанты обеспечиваются общежитием, — вновь зазвучал в трубке далекий голос, — питание за счет колхоза. Телефонограмму передал Сидоркин. Кто принял?
— Да я приняла, я... Ветлугина, рассыльная. Повторите погромче... на какие курсы? Какой техники? Да чего вы там мямлите! — рассердилась Нюшка.
Она с ожесточением подула в трубку, подождала еще немного — трубка продолжала молчать — и с досадой повесила ее на крюк. Вот так приняла телефонограмму! Не знает даже, на какие курсы вызывают человека...
И вдруг Нюшка спохватилась. Раз «срочно направить», так это, наверное, на курсы трактористов. Как же она сразу не догадалась?
Еще в конце прошлого года колхозу было разрешено купить трактор «Путиловец». Колхозники собрали деньги и послали Василия Силыча в город за машиной. Целую неделю деревня ждала возвращения председателя, девчата и парни то и дело бегали за околицу, надеясь, что вот-вот из-за пригорка выползет новенький трактор и подкатит к правлению колхоза.
Но Василий Силыч вернулся из города один, без машины, и сообщил, что, пока у них в колхозе не будет своего умелого тракториста, трактор им не продадут.
Что было делать? Правление стало добиваться, чтобы послать на курсы трактористов двух-трех колхозных парней.
После долгих ожиданий из города сообщили, что колхозу «Передовик» предоставляется на курсах одно место. Из десятка желающих стать трактористами правление наметило Степу Ковшова — парень развитой, грамотный, давно тяготеет к технике. И Степа со дня на день ждал вызова на курсы.
А вот сейчас долгожданная телефонограмма находилась в руках у Нюшки.
Не раздумывая, она влетела в кабинет председателя.
— Кончай, Силыч, — услышала рассыльная умоляющий голос Игната Хорькова. — Поясницы разломило, мозги задубели... Отпусти ты нас воздухом подышать...
— Терпение, граждане, не помрете, — остановил его председатель. — Тут еще бумажки да предписания всякие обмозговать надо. Смотрите, сколько их набралось, — с полфунта будет.
— Дядя Вася, новости! — Нюша протянула председателю телефонограмму. — Степу на курсы вызывают.
Василий Силыч прочел телефонограмму вслух, и лицо его просветлело.
— Раскачались все-таки, тронулись. Слышали, граждане? Какие суждения будут?
— А что ж тут судить? — сказал Игнат Хорьков. — Курсант у нас давно заготовлен. Выдать ему на довольствие что полагается, и пусть едет на здоровье.
Кто-то заметил, что Ковшов сейчас секретарь комсомольской ячейки.
— Вот и хорошо, что секретарь, — проговорил Хорьков. — Учиться прилежнее будет. С вожака потом и спрос больше.
— Значит, так, — подытожил Василий Силыч. — Посылаем на курсы Ковшова... Супротив никого? Пошли тогда дальше.
— Дядя Вася! — шепнула Нюша. — Можно его известить... Степу-то?
— Можно, — кивнул председатель. — Поторопи его там. Ему ж выезжать срочно надо...
КОВШОВЫ
Не чуя ног, Нюшка вылетела из правления, спрыгнула с высокого крыльца и помчалась к дому Ковшовых. Нет, что там ни говори, а Степке здорово повезло — из всех парней только одного его правление решило послать на курсы. Может, это потому, что Степа с юных лет считался в деревне трактористом, изучал трактор в школьном кружке, начал даже работать на нем в поле, пока старый «Фордзон» не развалился в борозде.
Была и еще одна причина, почему Нюшка так горячо хотела, чтобы Степа Ковшов стал трактористом. Всех его одногодков, здоровых и сильных ребят, прошлой осенью призвали в Красную Армию, и теперь парни служили кто в пехоте, кто в танкистах, кто в морском флоте.
Не повезло лишь одному Степе. Изувеченный кулаками в начале коллективизации, он стал плохо видеть, и медицинская комиссия не допустила его к военной службе. «Белобилетник»! Степа жестоко переживал это, но не меньше страдала и Нюшка.
Она до крови кусала губы, наблюдая, как подруги провожали своих дружков в армию, обещали ждать их, дарили им вышитые кисеты, платки. Всем сердцем завидовала она девчатам, когда те получали письма с воинским штампом и долгими зимними вечерами отвечали на них.
Сейчас посылка Степы на курсы трактористов казалась Нюшке чем-то вроде призыва в Красную Армию.
Распахнув полы своего кожушка, она бежала по улице.
— Вот гонит рассыльная! — покачивали головой встречные колхозники, — Срочные, видно, дела у председателя!
И как Нюшка ни спешила, она не могла не поделиться с ними новостью...
Степа Ковшов, его сестра Таня и их дальняя родственница Пелагея жили в половине просторного дома своего дяди, Ильи Ефимовича, раскулаченного и высланного из Кольцовки. Во второй половине дома разместился сельсовет.
Нюша по привычке проникла в сени через двор, нашарила в полутьме скобу двери и вдруг остановилась. На цыпочках подошла к маленькому оконцу, достала из кармана круглое зеркальце и, поднеся его к лицу, увидела свои большие зеленоватые глаза, редкие белесые брови, широкие скулы, короткий, чуть вздернутый нос, родинку на подбородке. Девушка убрала выбившуюся на лоб прядь светлых волос, смочила языком пересохшие губы и поправила шапку-ушанку. Теперь, кажется, все в порядке! Можно входить.
— Здравствуйте вам! — сдержанно сказала Нюшка, переступив порог и всем своим видом подчеркивая, что она явилась сюда не просто так, а по сугубо служебному делу.
— А-а, зампред! — Степа Ковшов, большеголовый, стриженый, в темно-синей косоворотке с белыми пуговицами, поднялся из-за стола.
Нюшка с любопытством оглядела избу.
На подоконниках в железных противнях, глиняных плошках и чайных блюдцах прорастали семена пшеницы, ржи, овса, на стенах висели пучки сухих луговых трав, снопики клевера, гречихи, гороха, на лавках в беспорядке были свалены газеты и журналы.
Окончив школу крестьянской молодежи, Степа Ковшов страстно увлекся сельским хозяйством. Он раздобывал всевозможные брошюры по земледелию, выписывал журнал «Сам себе агроном», жадно следил за агрономическими новинками. Целыми днями бродил он по кольцовским полям, брал образцы почв, собирал семена особо урожайных злаков и трав, ставил опыты над растениями: зимой — в избе, летом — на огороде.
Когда в Кольцовке организовался колхоз, Степа не пропускал ни одного заседания правления и каждый раз выступал с каким-нибудь новым агрономическим предложением. Он ратовал и за ранний сев, и за сортовые семена, и за глубокую вспашку, и за снегозадержание. Слушали его терпеливо, хотя многие при этом думали: «Не ко времени затея. Это у нас не привьется».
Потом члены правления взяли в привычку во время очередной речи Степы выходить на крыльцо. «Нашего доморощенного агронома не переслушаешь... Перекурим это дело».
Когда же Степу избрали секретарем комсомольской ячейки, он перенес свои агробеседы на молодежные собрания. Он приносил в избу-читальню мешочки с семенами, ящики с образцами почвы, пакетики с минеральными удобрениями, рассказывал парням и девушкам о жизни растений, о плодородии, о культурной пахоте.
И нередко после таких собраний молодежь выходила сортировать семена, собирать золу и куриный помет или расставлять в поле пучки хвороста для снегозадержания.
— Как тут у тебя?.. — спросила Нюша, кивая на всходы в противнях и плошках. — Все растет и зеленеет? Сад-виноград еще не развел?
— Учусь, Нюша! — засмеялся Степа.
— А ты знаешь, — вспомнила Нюша, — наша все же взяла. Весной Попову пустошь пахать будут. Сейчас на правлении решили.
— Раскачались-таки правленцы, — обрадовался Степа. — Давно бы пора. Таня, ты слышишь?
Из-за ситцевой занавески, отделяющей горницу от кухни, вышла худенькая девушка.
— Совсем ты нас забыла, — упрекнула она подругу. — Словно мы и не соседи больше... Проходи же, садись! Степа, приглашай!
Близоруко щурясь, Степа торопливо снял с лавки кипу газет, отодвинул в сторону книги и освободил место.
— Некогда мне рассиживаться, — сказала Нюша. — Я ведь по делу. Тебя в правление требуют... — обратилась она к Степе. — Срочно!
— Что там такое?
Нюша как можно спокойнее сообщила о вызове на курсы трактористов.
— Это правда? — вскрикнула Таня и обернулась к брату. — А ты на них и рукой махнул...
— А я и сейчас сомневаюсь, — сдержанно заметил Степа. — Трактор нам все равно не дадут...
— Это еще почему? — перебила его Нюша.
— Газеты надо читать... за политикой следить, — слегка усмехнулся Степа. — А у вас все вечерки да танцульки... Машины теперь другими путями в деревню будут поступать... Через машинно-тракторные станции. Надо бы знать об этом...
Нюшка переглянулась с Таней. Было ясно, что секретарь комсомольской ячейки намекал на их девичью компанию, которая не очень-то любила ходить ни на собрания, ни на лекции. А совсем недавно, когда Степа проводил в избе-читальне громкую читку газет, Нюшка с подругами подняла такую возню и смех, что разгневанный секретарь выгнал всех девчат на улицу и пригрозил поговорить о них на собрании. Но отступать было не в Нюшкиных привычках.
— Не желаешь на курсы — и не надо, — с вызовом вскинула она голову. — Прижился тут в своей избе-читальне — дождь не мочит, ветер не дует, ну и сиди себе, раздавай книжечки, подшивай газетки. А на курсы другие поедут. Вон хоть Митя Горелов или Семка Уклейкин. А то можно кого и от девчат послать...
— Нюшу Ветлугину, например, — подсказал Степа.
— А что?.. У меня не заржавеет! Не как у некоторых...
— Ладно. Пошли в правление. — Степа поспешно стал одеваться. — Узнаем, что там за курсы такие.
— Ты иди, мы с Нюшей тебя догоним, — сказала Таня, задерживая подругу.
Они остались вдвоем.
Таня — маленькая, веснушчатая, с острым носиком и жидкими косичками, перевязанными цветными тряпочками, — казалась тихой, забитой, безответной, и трудно было понять, что связывало с ней решительную, горячую Нюшку. Но подруги они были давние, с малых лет. Еще в школе Нюшка сидела с Таней на одной парте, вместе с ней готовила уроки и не раз вступала в драку с мальчишками, если те осмеливались тронуть подругу. Таня была предельно честна, застенчива, не умела фальшивить, притворяться, никогда ни на что не жаловалась. Может, за это и любила ее Нюшка. Богатые мужики охотно нанимали Таню в няни или в батрачки и, пользуясь ее скромностью, нередко безбожно обсчитывали. И здесь Нюшка не давала ее в обиду. Она бегала в сельсовет, добивалась, чтобы с Таней заключили трудовой договор, в день расчетов сама проверяла полученное подругой жалованье.
Сейчас Таня внимательно посмотрела на Нюшку.
— Чего ты с ним так? — спросила она. — Не видишь Степу неделями, а встретились — поперечничаешь ему во всем и разыгрываешь без конца. Обещала третьего дня на вечерку прийти — обманула. А он ждал тебя, ждал, проморозился весь...
— Сама не знаю почему, — призналась Нюша и, вздохнув, добавила: — Чудной он. Все молчит и молчит, слова не дождешься. И смирный стал. А ведь раньше какой был! Напролом шел, ничего не боялся.
— Нет, он такой же, как и прежде... Только вот вырос, серьезнее стал.
— Где там, такой же! Дорогу всем уступает. Назначили его бригадиром в колхозе — почему он отказался?
— Говорит, что он еще в земле мало чего понимает... Учиться ему хочется. Вот только с глазами у него плохо, — с грустью сказала Таня.
— Надо Степку к бабке Ульяне сводить, — сказала Нюша. — Знаешь у нее какие травы есть! От любой хворости помогают: от грыжи, от тошноты, от слепоты...
— Ну что ты болтаешь, — обиделась Таня. — Секретарь комсомольской ячейки — и вдруг пойдет к знахарке...
— Правда, некрасиво это, — согласилась Нюша. — Тогда давай дядю Васю попросим... Пусть колхоз Степу к лучшему доктору пошлет.
— Разве его уговоришь...
— А мы в райком напишем. Пусть его заставят... в порядке комсомольской дисциплины. Он же любит других дисциплиной стращать.
Подруги задумались. Потом Нюшка, обхватив Таню за плечи, принялась вслух мечтать о том, что будет через несколько месяцев. Степа кончает курсы трактористов, с отличием сдает экзамены, получает в городе «Путиловец» и возвращается в Кольцовку. Они с Таней обязательно встретят его первыми, украсят машину цветами и лентами, прикрепят к трубе красный флажок, и трактор с ревом и грохотом пройдет через всю деревню. И жители Кольцовки выйдут встречать Степу-тракториста, а он, красивый, сильный, рослый, выведет машину в поле и под восхищенный гул толпы пропашет первую борозду, прямую и ровную, словно отбитую по шнуру.
А потом, когда Степа станет работать на тракторе изо дня в день, он, уж конечно, не забудет Таню с Нюшкой и научит их управлять машиной. Первые девушки-трактористки в деревне — это же очень здорово!
— Да ну тебя, Нюшка! — отмахнулась Таня. — Ты уж загадаешь... Куда нам так высоко.
— А я и хочу высоко... чтоб дух захватывало, — зажмурилась Нюша и, вдруг спохватившись, заторопилась в правление.
Увязалась с ней и Таня. На улице они встретили Степу.
— Ну как? Едешь? — спросила его сестра.
— Еду! Послезавтра! Вызов и так на два дня запоздал.
— Ой, так сразу! — удивилась Таня. — Да тебя же собрать надо!
— Это дело недолгое. — Степа с деловым видом оглядел Таню и Нюшу. — Вот что, девчата. Не в службу, а в дружбу. Обойдите всех комсомольцев и скажите, что сегодня вечером экстренное собрание. Явка строго обязательна!
— Это зачем? — насторожилась Нюшка. — Меня с девчатами будешь пропесочивать? Что ж, нам теперь и посмеяться нельзя, будто мы мощи какие или старухи беззубые...
— Да нет, — отмахнулся Степа. — Не о вас речь. Будем избирать нового секретаря.
Нюшка с Таней понимающе переглянулись и разошлись в разные концы деревни.
НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
На собрание сошлись часам к восьми вечера.
Первой в избу-читальню явилась Феня Осьмухина, рослая, большерукая девушка с добрым, обветренным до красноты лицом.
Читальня помещалась в просторной, осевшей в землю избе. Хозяева ее давно уехали из Кольцовки, разбрелись по свету, и старая изба считалась ничейной. В первые же дни после организации артели комсомольцы починили пол, рамы, оклеили стены обоями, собрали откуда могли несколько десятков книг, выписали газеты, и кольцовская изба-читальня широко открыла для всех свои двери.
Избачом комсомольцы избрали Степу Ковшова, а дежурить в избе-читальне договорились по очереди.
Сейчас Феня зажгла фонарь и принялась наводить порядок. Затопила железную печку, заправила керосином две лампы-«молнии», вычистила ламповые стекла, побрызгав пол водой, подмела мусор, в чинном порядке расставила скамейки. И вот уж, казалось, все было сделано, но Феня находила все новую и новую работу: перебрала газеты, смахнула пыль с подоконников, потом принялась расставлять книжки на полках.
В читальню с гомоном и смехом ввалилась ватага девчат во главе с Нюшей.
— Ой, Феня! — всплеснула руками Таня. — Что ты наделала? У Степы же книги по разделам подобраны... Зачем ты их, как солдат, по росту поставила?
Девчата засмеялись. Аккуратница Феня не раз попадала впросак.
— Я ж как лучше хотела, — сконфуженно забормотала девушка, отходя от полок. — Когда по росту, так больше книг влезет.
Девчата расселись по скамейкам.
— А чего будет? Опять лекция или громкая читка? — спросила Зойка Карпухина, юркая курносая девушка с мелкими кудряшками. — Пошли бы лучше в Заречье — там в клубе танцы до упаду.
— Тебе же сказано, — напомнила Нюшка, — Степан на курсы трактористов уезжает. Надо нового секретаря выбрать.
— Ну, теперь до вторых петухов преть будем, — вздохнула Зойка, оделяя подружек семечками.
— А ты не мусорь, не лузгай здесь, — строго сказала Феня, показывая на устрашающий плакат работы местного художника: «Табак и семечки — враги культуры и здоровья». Под этими словами в левом углу был нарисован высохший, почерневший парень, изо рта которого, как из фабричной трубы, валил густой дым, а в правом углу — девица, заплевавшая подсолнечной лузгой избу-читальню почти до самой крыши.
— Ладно тебе, тетя Феня! — отмахнулась Зойка и, покосившись на плакат, показала подругам на свой карман: — Лузгайте сюда...
Парней между тем все еще не было. Заскучав, Зойка зевнула, вытянула ноги, полюбовалась на свои новые сапожки, подбитые стальными подковками.
— А давайте тогда здесь топнем... Хоть одну кадрильку пройдем! Мне обувку обновить надо. — И она с надеждой посмотрела на Нюшку.
— Сиди, тебе говорят! Чего это мы всухую выкаблучивать станем. — Нюша повела бровями и покосилась на дверь: куда же запропастился гармонист?
Наконец в дверях показался скуластый, приземистый Митя Горелов, не по сезону одетый в легкий пиджачишко. Он деловито прошел к печке и, присев на корточки, поднес к самому огню окоченевшие, красные, как гусиные лапы, руки.
Вслед за Митей в избу-читальню ввалился долговязый, мрачноватый Семка Уклейкин. Шея его была обмотана ярким, как павлиний хвост, шарфом, на груди висела видавшая виды гармошка.
Девчата переглянулись.
— Сёмчик! Ненаглядный наш! — ласково пропела Зойка. — Где ты пропадаешь? — И, вскочив со скамейки, она выбила сапожками частую дробь.
Девчата мигом сдвинули в стороны скамейки, разбились на пары. Уклейкин устроился на табуретке и, повернув голову в сторону, заиграл кадриль...
Когда Степа Ковшов с группой парней вошел в избу-читальню, девчата веселились, как на доброй вечерке. Они то сходились вместе, то расходились в стороны, кружились, обменивались «кавалерами». Зойка упоенно выкрикивала команды, а Феня Осьмухина, забыв обо всем на свете, с аппетитом лузгала семечки и, улыбаясь, следила за танцующими.
— Товарищи! Граждане! — заглушая гармошку, закричал Степа. — Опять семечки, опять танцульки! Это черт знает что! — и он обратился к белобрысому мужчине в кепке и в городском пальто, только что вошедшему вместе с ним в читальню: — Матвей Петрович, куда это годится? Мы начали борьбу с посиделками и вечерками... А девчатам хоть кол на голове теши. Они и в читальне вечерки заводят. Кадрили да тустепы...
Гармонь умолкла. Уклейкин перебрался поближе к Мите Горелову. Девчата, как провинившиеся школьницы, сгрудились у стены.
Нюшка нахмурилась. Пожалуй, зря они так развеселились. Сейчас Степа опять начнет внушать им, что изба-читальня святое место, очаг культуры. И пусть бы внушал, девчата уже привыкли к этому, но зачем же это делать при Матвее Петровиче. Он же как-никак бывший их учитель, а сейчас работает инструктором в райкоме партии.
— Послушай, Степан, — заговорил Матвей Петрович. — Я вот одного не пойму — зачем же вам с вечерками бороться?
— А как же! — удивился Степа. — Старый быт... нездоровые влияния... И прочее там...
— Да-а, дело, конечно, серьезное, — покачал головой Матвей Петрович. — Выходит, что песня и танцы тоже старый быт... и подлежат искоренению... — Он шагнул к девушкам. — Ну, здравствуйте, красавицы... Давненько я вас не видал... Что ж вы кадриль-то закончили?
— Да шут с ней, — с досадой сказала Нюшка. — У нас же собрание сейчас...
— Насколько я понимаю, в кадрили требуется проделать еще три круга. А ну-ка, Семен! Поработай на пользу обществу! — обратился Матвей Петрович к гармонисту и галантно протянул руку Нюше.
Девчата фыркнули.
— Что, сомневаетесь? А я когда-то неплохо танцевал.
В глазах у Нюшки вспыхнул озорной огонек.
— Давай! — кивнула она Уклейкину и, покосившись на Степу, подхватила под руку Матвея Петровича.
Через несколько минут кадриль была закончена по всем правилам.
Матвей Петрович церемонно поклонился Нюше, вытер взмокший лоб и обернулся к Ковшову:
— Теперь можно начинать деловую часть.
Надувшийся Степа, стараясь не смотреть в сторону девчат, объявил собрание открытым.
Выбрали председателя. Степа выпил стакан воды, разложил перед собой бумаги, словно приготовился произнести часовую речь, но потом махнул рукой и сказал всего лишь несколько слов:
— О чем собрание — сами знаете. Уезжаю на тракторные курсы... На несколько месяцев. Вот и нужно выбрать нового секретаря...
— Погоди, погоди, — остановил его Матвей Петрович. — Ты не торопись. Расскажи о курсах поподробнее...
— А что ж тут рассказывать. Пришел вызов из города... вот правление и посылает меня.
— Это же большое дело — первый тракторист на селе! — раздумчиво заговорил Матвей Петрович. — Сначала ты, Степа, один будешь, потом за машину сядут десятки твоих товарищей. И надо вам знать, что трактор сейчас — это не просто машина, которой можно вспахивать землю. Вам предстоит поднимать целину новой жизни, корчевать все старое, негодное, сопротивляющееся... И, если кто по натуре не боец, тому лучше и не садиться за руль трактора. Конечно, вам нелегко придется, испытаний будет немало. Надо быть ко всему готовым. Вы, наверное, слышали историю комсомольца Петра Дьякова?
— Это где-то в Сибири случилось, — подсказала Нюша.
— Да, да... В Тюменской области. Там в одной из деревень комсомольцы во главе с Петром Дьяковым создали колхоз и отобрали у кулаков трактор. На нем стал работать Петр Дьяков. Все это разожгло злобу и ненависть кулаков. Они подстерегли тракториста ночью, стащили с машины, избили до полусмерти, а потом облили керосином и подожгли.
— И он погиб, Петр Дьяков? — вполголоса спросила Таня.
— Нет, к нашему счастью, выжил. Долго болел, но теперь опять работает в колхозе. Его так и прозвали «Огненный тракторист». Про него даже песню сочинили... Вот послушайте... — И Матвей Петрович негромко запел:
По дорожке по ровной, по тракту ли, Все равно нам с тобой по пути. Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати...— Хорошая песня! — вскрикнула Нюшка. — Нам бы ее записать, Матвей Петрович!
— Обязательно запишем. Вы эту песню еще не раз вспомните. Только потом, потом. А сейчас продолжайте собрание.
— Так надо секретаря ячейки выбрать, — сказал Степа, обращаясь к комсомольцам. — Выдвигайте, кто вам по нраву... Хоть самого развеселого...
— Уж если самого развеселого, тогда давайте Нюшку! — выкрикнул из угла Уклейкин.
— Молчи ты... пустобрех. — Нюша сердито поглядела на парня.
Выбрать нового секретаря оказалось не так просто. Комсомольцев в ячейке было немного, к тому же одни еще учились в старших классах школы, другие были в отъезде или совсем недавно вступили в комсомол.
Собрание придирчиво перебрало всех ребят и девчат.
Митя Горелов, скажем, комсомолец со стажем, но он вот-вот уйдет из деревни; Уклейкин — парень озорной, хулиганистый, и его никто слушать не будет; Феня Осьмухина — дивчина грамотная, развитая, но держится особняком ото всех; у Зойки Карпухиной на уме только одни наряды, женихи да гулянье; подошла бы Таня Ковшова, да уж очень она робка и застенчива.
Вернулись к кандидатуре Нюши Ветлугиной.
— А я что говорил... — вновь подал голос Уклейкин. — Она же на все руки от скуки. Видали, как она зампредом работает... Всем вкалывает! Кому нужно, любому наскипидарит!
Комсомольцы, вспомнив Нюшины проделки на посту рассыльной, дружно засмеялись.
— Верно, давайте Нюшку! — сказала Зойка. — По крайней мере хоть весело будет. Она и поет и пляшет!..
— Молчи! — зашипела Нюша, пребольно ущипнув подругу. — Не справлюсь я, да и не хочу!
Против нее решительно выступил Степа Ковшов. Согласившись, что энергии у нее хоть отбавляй, он сказал, что Ветлугина еще не доросла до понимания комсомольской дисциплины, что на каждом шагу из нее выпирает стихия и анархия и что по своему политическому развитию она еще стоит на уровне ученика пятого класса. Для примера Степа даже привел тот случай, когда брошюру «Кто такие империалисты?» Нюша читала два месяца, а потом оказалось, что ничего в ней не поняла.
Укрывшись за спины подруг, Нюша исподлобья следила за Степой. Казалось, что она могла быть довольна: после таких слов ее никто, конечно, не станет выдвигать в секретари. Но в то же время ей почему-то стало не по себе: «Не доросла... выпирает из меня... И все-то он меня учит, все учит...»
— Значит, кандидатура Ветлугиной отпадает, — заключил председатель собрания. — Как политически незрелая...
— Почему ж отпадает? — поднялся со скамейки Матвей Петрович. — Раз выдвинули, надо будет поставить на голосование... И если позволите, то я должен кое в чем возразить Степе Ковшову. Это верно, Нюша Ветлугина еще не очень грамотная. Но и все вы здесь не лекторы, не профессора, не академики. Вы затем и в комсомол вступили, чтобы учиться, расти, набираться ума-разума. И надо судить по главному. Нюша — дивчина смелая, боевая, с характером. Энергии у нее предостаточно. Вспомните, как она воевала с кулаками, как помогала взрослым создавать колхоз...
— Ты слушай, слушай... — наклонилась к подруге Таня. — Как он тебя поднимает-то...
Втянув голову в плечи и затаив дыхание, Нюша старалась не шевельнуться. Что ж это такое? Когда парни и девушки, дурачась, назвали ее имя, это было понятно. И, когда Степа пропесочивал ее, это тоже было не в диковину. А теперь вдруг сам Матвей Петрович говорит серьезные слова и предлагает ее в комсомольские вожаки. Да нет, это какой-то подвох, шутка. Какой же она вожак! С первого же дня нашумит, накричит, перессорится со всеми. Да ее самое надо еще вести за руку, то подталкивать, то сдерживать, чтобы она не вылезала из колеи.
— И лучше не говорите, Матвей Петрович! — вскочив, умоляюще выкрикнула Нюшка.
— Дисциплина, Ветлугина! — перебил ее председатель собрания. — Проси слова в порядке очереди.
— Все равно не буду секретарем!.. Не буду и не буду! Вот и весь сказ!.. — Перешагивая через скамейки, Нюша пробралась к двери и схватилась за скобку.
— Нет уж, сиди, — задержала ее Феня. — Привыкай к порядку-то.
Собрание между тем шло своим чередом. Когда все желающие высказались, председатель приступил к голосованию.
— Смотри, за тебя руки тянут! — шепнул кто-то Нюше. Обхватив пылающую голову руками, она опустилась на порог у двери — только бы ничего не видеть и не слышать. Как сквозь стену донесся до нее размеренный голос: «Пять... шесть... девять... одиннадцать», потом председатель собрания что-то объявил, затем все поднялись, задвигали скамейками, захлопали в ладоши.
— Вставай... — толкнула Нюшу Феня. — Заголосовали тебя! Большинством! — И, схватив за рукав, она потянула ее к столу.
Нюша вырвалась и стремглав выбежала из избы-читальни.
ПРОВОДЫ
Утром Нюшка как ни в чем не бывало пришла в правление колхоза и занялась своими обычными делами: подмела пол, убрала со столов окурки, затопила печь, присыпала песком заледеневшую дорожку перед крыльцом.
Пришли счетовод с завхозом, потом Василий Силыч.
Они принялись что-то обсуждать, подсчитывать и не обращали на рассыльную никакого внимания.
«Значит, ничего они о вчерашнем собрании не знают», — решила Нюша. Если бы знали, то счетовод обязательно бы заговорил с ней о «младом племени», о международных новостях, о пограничных инцидентах, как это он обычно делал со Степой Ковшовым.
«А может, меня и не избрали в секретари-то, — спохватилась Нюшка. — Взяли да и переголосовали, когда я убежала... Оно и к лучшему... Еще не доросла я, как говорит Степа».
В правление вошел высокий, рыжеватый старик Прохор Уклейкин.
— Честь имею! — по-военному отрапортовал он. — Я от старшего конюха, от Тихона Кузьмича... Кормов требует... Уль... уль... ультимативно... — Он с трудом выговорил трудное слово. — Так и просил передать... «Не обеспечат, мол, в срочном порядке, слагаю с себя всякую ответственность за конское поголовье».
— Скажи на милость — ультимативно! — покачал головой Василий Силыч. — Нет чтобы самому зайти, так нарочного посылает. Тоже мне персона! — И он обратился к Нюше: — Сходи-ка проверь. Я вчера Осьмухиным да Ползиковым наряд дал, чтобы они солому к конюшне подвезли...
— Есть, дядя Вася! — козырнула Нюша и, прихватив свою знаменитую суковатую «палочку-выручалочку», которой она отбивалась от собак, отправилась по деревне.
С кого же начать? Пожалуй, с Осьмухиных. Нюша недолюбливала эту семью. Осьмухины, особенно шумная, крикливая Матрена, больше всех поносили молодой колхоз, вступили в него позже других семей, успев до этого разбазарить почти все свое хозяйство, да и сейчас продолжали жить словно единоличники.
«Сквалыги... притворщики», — подумала Нюша, осторожно пробираясь через темные сени, заставленные ларями, кадушками, ящиками.
Она с трудом открыла тяжелую, тугую дверь, переступила высокий порог, и ее сразу обдало жаром — прямо против двери топилась печь.
Засучив рукава, раскрасневшаяся дородная тетка Матрена пекла блины. Она наливала тесто из опарницы на сковородку, ловко орудуя сковородником, задвигала ее в жаркую печь, поближе к огню и тем же сковородником вытаскивала другие сковородки с уже готовыми блинами. Быстро поворачивалась, подносила шипящую сковородку к столу, сбрасывала блин в глубокую миску, и затем все повторялось сначала. Вид у Матрены был решительный, строгий, будто она по меньшей мере была кузнецом и стояла у наковальни.
За широким столом молча ели блины муж Матрены Тимофей, узколицый, небритый мужчина, неуловимо чем-то похожий на суслика, и ее дочь Феня.
Заметив Нюшку, Феня едва не поперхнулась блином и, взглянув на стенные часы, поднялась из-за стола.
— Кончай, мама... На работу пора. И так опаздываешь.
Она поспешно оделась и вышла за дверь.
— А ну еще по парочке, — сказала Матрена, круто поворачиваясь к столу и сбрасывая со сковородки в миску горячие блины.
Нюша обратилась к Тимофею:
— Дядя Тимоша! Скажите вы тетке Матрене...
— А-а, рассыльная! — засмеялся Тимофей, придвигая к себе сметану. — Блинов хочешь? Гречневые... с пылу-жару. Мы тут с Фенькой наперегонки схватились, кто больше умнет.
— Вы почему не на работе? — спросила Нюша. — Почему солому не возите?
Матрена, сделав вид, что не замечает дивчину, вновь загремела сковородником:
— Тимофей, кого это бог принес?
— Нюшка Ветлугина заявилась... — лениво отозвался Тимофей.
— А я думала, что ее будущий отчим пожаловал, сам старший конюх...
— Тихон Кузьмич, поди, только что похмеляется. После вчерашнего сватовства у него головка болит... Аграфена ему сейчас на особинку жарит-парит.
Нюшка растерянно посмотрела на Осьмухиных. Ох уж этот Горелов! Сколько недобрых разговоров вызвало его сватовство к Нюшкиной матери.
— Тетя Матрена! Дядя Тимофей! — умоляюще заговорила она. — Почему вы за соломой не поехали? Вам же дали вчера наряд!
Отложив сковородник, Матрена уперла руки в бока:
— Да разве же это работа — гнилую солому из-под снега выкапывать? Додумались тоже, начальнички!.. Профукали корма-то, а теперь людьми помыкают! Ты что об этом понимать можешь? Да кто ты такая, чтобы наставлять меня?..
— А она, Матрена, зампред! — вытирая ладонью масленые губы, ухмыльнулся Тимофей. — Ко всем дыркам затычка...
— Так не пойдете на работу? — с трудом сдерживая себя, спросила Нюшка.
— И не подумаем! — бросила Матрена. — Какая уж тут работа! Собрались в артели Тюха с Матюхой, Колупай с братом — вот теперь и трещит все по швам...
— А я... я говорю... пойдете! — взорвалась Нюшка. — Я вот председателя кликну... Он вам...
Она бросилась к двери и чуть было не опрокинула ведро с водой. И тут ее словно бес попутал. Не помня себя, Нюшка схватила ведро и с размаху выплеснула воду в печь, на горящие дрова. Огонь с шипением потух, из печного чела повалил густой чадный дым.
— Ах ты... затычка! Бес лукавый! — завопила Матрена.
Нюшка выронила из рук ведро, бросилась в сени, спрыгнула с крыльца и помчалась вдоль деревни. А следом за ней, воинственно размахивая сковородником, тяжело топала Матрена и на всю улицу проклинала басурманку Нюшку.
Из домов высыпали любопытные, откуда-то появились вездесущие мальчишки.
— Айда, ребята! — кричали они.
— Нюшка Ветлугина чужие блины съела!
— Ее сковородником бить будут!
Нюшка понимала, что бежать вот так вдоль всей улицы, на глазах у людей, смешно и глупо, но остановиться уже не могла и только свернула в переулок. И тут она неожиданно налетела на Матвея Петровича, дядю Васю и Степу Ковшова.
— Бег на дальнюю дистанцию! — Матвей Петрович, усмехаясь, задержал Нюшу. — Очень интересно!
Размахивая сковородником, подбежала запыхавшаяся Осьмухина.
— Помилуйте, Матрена Силантьевна. — Матвей Петрович отобрал у разгневанной женщины сковородник. — Что за спешка?
— И это девки пошли! Да я жаловаться буду... До суда дойду! — продолжала вопить Матрена.
Подошли колхозники.
Матвею Петровичу наконец удалось немного успокоить Матрену и узнать от нее, что Нюшка, как разбойник, ворвалась к ней в дом, залила водой огонь в печи и не дала допечь блины.
Кругом весело засмеялись:
— Это лихо!
— Нюшка, она может!
— Гляди, скоро и печки крушить начнет! И двери высаживать!
Нюша густо покраснела. Потом, заметив, что Матвей Петрович с удивлением покосился на нее, а Степа прыснул в кулак, она вдруг вплотную подошла к Матрене:
— Вы уж все говорите... по правде! Пусть люди слышат. Почему вы с Тимофеем на работу не ходите? Почему дома отсиживаетесь?.. Полдень скоро, а вы блины печете...
— Да кто ты такая? — вновь взбеленилась Матрена. — Уборщица при правлении, девка на побегушках, а тоже во все нос суешь...
— А это не так уж плохо... — заметил Матвей Петрович. — Она ведь колхозница, за артельное дело болеет. Да к тому же с сегодняшнего дня Нюша еще и секретарь комсомольской ячейки.
— Секретарь! — удивилась Матрена. — Так зачем же блины губить?.. Ты меня убеди, сагитируй!
— Уж я ли тебя не агитировал вчера, — покачал головой Василий Силыч. — Семь потов спустил. И так и этак обхаживал.. А ты все ж на работу не вышла. Совесть надо иметь!..
— «Совесть, совесть»... Как люди, так и я, — забормотала Матрена и, провожаемая смехом и шутками собравшихся, поспешила удалиться.
— Неужто все блины погубила? — фыркнув, спросил Матвей Петрович.
— Молодец деваха! — подал голос кто-то из колхозников. — Так Матрене и надо.
Не мог сдержать улыбки и Василий Силыч:
— Ну-с, истребительница блинов!.. Все же придется тебе ответить за такую агитацию. Несдержанна ты очень...
— Ну и прорабатывайте! — буркнула Нюшка. — А все равно Осьмухины лодыри и сквалыги. И колхоз им чужое место. Плюют они на все с высокого дерева и посмеиваются.
Колхозники начали расходиться по домам. К Нюшке подошел Степа.
— Ну, так как? Приступаешь к работе, секретарь? — улыбаясь, спросил он.
— Можно считать, что она уже приступила, — заметил Матвей Петрович.
— Тогда принимай дела, — сказал Степа. — Мне завтра уезжать надо.
Вздохнув, Нюшка посмотрела на Матвея Петровича, на девчат, потом на Степу.
— Пошли... приму!..
На другой день Нюшка выпросила на конюшне у Горелова лошадь, запрягла ее в сани и, подъехав к дому Ковшовых, постучала в окно. На крыльце с рюкзаком за плечами показался Степа. Вслед за ним вышла Таня.
В широких санях-розвальнях на соломе сидели разодетые по-праздничному девчата и Уклейкин с гармошкой. Под дугой позванивал колокольчик, в гриву и в хвост лошади были вплетены кумачовые ленты.
Степа переглянулся с сестрой, потом покосился на Нюшу:
— Зачем это?
— Садись! На станцию тебя отвезем.
— Один доберусь... пешком.
— А ты не кобенься, — прикрикнула Нюша, подталкивая парня к саням.
Пожав плечами, Степа вместе с сестрой сел в сани. Нюша взялась за вожжи и тронула лошадь.
Перед правлением колхоза, где уже собралась порядочная толпа колхозников, подвода остановилась. Василий Силыч сказал Степе несколько напутственных слов, попросил его учиться на курсах как следует и вернуться в Кольцовку вместе с трактором к весенней пахоте.
Потом вышел вперед дед Анисим:
— Ты уж, Степаха, того... в грязь лицом не шлепнись... Будь там попровористей... С машиной на короткую ногу сойдись... Зауздай ее, как конягу доброго, чтоб она потом не брыкалась... Без машины нам теперь и податься некуда... — И он пространно принялся рассказывать, как мужики когда-то оконфузились с паровым локомобилем для мельницы.
— Регламент деду! — крикнула из саней Зойка, и колхозники, оттеснив Анисима в сторону, начали прощаться со Степой.
По Нюшкиному сигналу Уклейкин растянул мехи гармошки, и девчата затянули полюбившуюся им песню об «огненном трактористе — Петре Дьякове». Только вместо «Прокати нас, Петруша...» они спели: «Прокати, Ковшов Степа, на тракторе, до околицы нас прокати».
— Вот это песню выискали... — заговорили в толпе. — Прямо как на заказ.
— Да ты что, Нюшка! — сердито сказал Степа, когда подвода тронулась дальше. — Нарочно все придумала?.. В песню меня зачем-то вставила... Еще митинг этот? Зачем звону столько?
— А что ж такого! — ухмыльнулась Нюшка. — В кои веки пария в трактористы провожаем — почему бы не отметить! — И она заговорщицки переглянулась с девчатами. — А потом, может, это у нас мероприятие такое... коллективные проводы по плану ячейки.
— Уж будь ласковый, подчиняйся новому-то секретарю, — смеясь, заметила Зойка и запела частушки о миленке-трактористе, который оседлал железного коня и перепахал все поля на белом свете.
Девчата подхватили высокими срывающимися голосами. С песнями они доехали до конца Кольцовки и только здесь умолкли. Но, как только показались избы следующей деревни, девчата снова запели. Так, привлекая всеобщее внимание, они проехали несколько деревень.
Лошадь уже еле тащила тяжелые розвальни.
— Ну хватит! — взмолился наконец Степа. — Лошадь замучили... Да и петь вам больше нечего... Поезжайте обратно. — И он, кивнув Тане, решительно выскочил из саней и принялся прощаться с девчатами.
И тут Таня заметила, что, когда очередь дошла до Нюшки, брат с особой осторожностью взял ее шершавую руку и довольно долго держал в своей ладони.
— Ты с комсомольцами посматривай тут, — заговорил он на прощание. — За конями в первую очередь, за амбарами, за всем прочим. О комсомольской пустоши тоже не забывай. Пусть семена для сева не забудут приготовить, удобрения. Ясно тебе? Если чего не знаешь — ты спрашивай... или пиши там... Я, конечно, отвечу...
— Ясно, — выдохнула Нюша, медленно поворачивая лошадь обратно.
— Нюш, а ты ж о членских взносах ничего не спросила, — напомнила догадливая Таня.
— Ох, верно, совсем забыла! — спохватилась Нюша и сунула вожжи в руки Зойке. — Поезжай, я вас нагоню.
Переглянувшись, девчата тронули подводу к дому, а Нюша, Таня и Степа пошагали к станции.
— Степ, а Степ, — осторожно спросила Нюша, стараясь шагать с ним в ногу. — Ты выведай там... на курсах-то. Может, и девчат принимают. Ну хотя бы на потом, на будущий год.
Степа повернул голову к Нюше, взгляды их встретились, и он без слов понял, о чем она думает.
— Ладно... — кивнул он. — Узна́ю.
...Светило солнце, радуя своим теплом Небо по-весеннему было белесо-голубое, но снег в полях лежал еще по-зимнему чистый и пышный. По нему пролегали бесчисленные тропки, лыжни, следы зайцев, собак и терялись в голых прозрачных перелесках. Кое-где в поле виднелись стожки сена, прикрытые горностаевыми шапками, вдоль дороги чернели вешки, в перелесках несмело насвистывали птицы, оповещая о еще не близкой, но неизбежной весне.
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
Нюша с трудом открыла глаза, подняла с подушки тяжелую голову и долго не могла понять, где она находится. Над головой нависал темный от старости, точно просмоленный, потолок, ноги упирались в кирпичную шершавую трубу, пахнущую сухой пылью, а вместо сенника спину согревали теплые мешки с рожью.
Рядом с Нюшей, сжавшись калачиками и вкусно посапывая, спала молодая ветлугинская поросль — Клава и Ленька.
«Мы ведь на печке вчера заснули. У нас же новый человек в доме», — сообразила наконец Нюшка, и что-то неприятно царапнуло ей сердце.
Она раздвинула легкую ситцевую занавеску, прикрывающую печь, и окинула взглядом избу.
На сдвинутых впритык столах остатки еды, пустые бутылки, опрокинутые стаканы и рюмки — следы вчерашнего свадебного гулянья.
В горшках с геранью груды окурков, пол затоптан, замусорен сеном, соломой, горшечными черепками. А в углу, на широкой деревянной кровати, где обычно спала Нюшкина мать с Клавой и Ленькой, сейчас похрапывает Тихон Горелов, новый человек в ветлугинской семье.
И только матери не было — как видно, она уже ушла на работу.
Смачно зевнув, проснулся Ленька, свесил с печи голову, оглядел избу и лукаво покосился на старшую сестру.
— Нюша, Нюш! А ты вчера тоже шибко гульнула...
— Как все, так и я...
— Я и говорю, — ухмыльнулся Ленька. — Такие ли частушки пела... А потом на перепляс с Гореловым схватилась. Уж и выкаблучивала ты! Он, бедненький, упрел весь, аж жар пошел, как от чугунка с картошкой. Оно и правильно: знай наших. Только вот каблук зря сломала... Мамка будет ругаться.
— Ладно тебе... глазастый! Все уже высмотрел, — отмахнулась сестра. — Будешь теперь размалевывать... На то и свадьба, чтоб погулять.
Но в душе Нюшка была недовольна свадьбой. Правда, в Кольцовке уже давно поговаривали, что вдовец Тихон Горелов «неровно дышит» к Аграфене Ветлугиной, но Нюшка считала, что все это досужие слухи и пустые разговоры. У матери трое детей, нелегкая жизнь, крутой и неуступчивый характер, к тому же она бережно хранит память о первом муже, умершем незадолго до коллективизации. И Нюшка верила, что мать никогда не введет в дом нового мужа, тем более такого запивоху и гуляку,как Горелов.
И, когда на улице языкастые бабы или девки, показывая на подгулявшего Тихона, говорили: «Уважь, Нюша, батюшку-отчима, доведи его до мягкой постельки», Нюшка вспыхивала и резко отвечала, что они такого отчима и на порог не пустят.
И вдруг ни с того ни с сего, как казалось Нюшке, Горелов заслал к Аграфене сватов.
Мать проплакала две ночи, потемнела в лице, похудела, а как-то раз, оставшись с дочерью наедине, заговорила о своей тяжкой вдовьей доле, о бедности, одиночестве, о недалекой безрадостной старости:
— Ты ведь у меня старшая... разумница... Ты пойми и не осуди... И чего худого не подумай, я вас, большеротых, не кину, всех на ноги поставлю... А только я сейчас как в голом поле живу, на юру. Все ветра меня просвистывают, все дожди секут. А с Тихоном все же какое да ни есть укрытие в жизни будет...
— Он же шалопутный, мама... — попыталась возразить Нюшка. — Пьет да гуляет.
— Так ведь тоже не от сладкой жизни... Тоже на юру живет. Вдовый он, бесприютный... Ну, да мы его приструним вчетвером-то... Всю коросту соскоблим.
— Тебе жить, мама, тебе и решать!.. — сдержанно ответила Нюшка. — Смотри, чтоб потом не каяться...
Мать умоляюще заглянула дочери в глаза:
— Только я тебя об одном прошу, доченька. Девка ты нравная, строптивая и с Тишей в перепалку не вяжись. А то такой дым-чад в доме пойдет, хоть караул кричи. И младших придерживай.
— Батюшкой или там тятенькой я его, пожалуй, величать не смогу. Язык не повернется. Но и войны между нами из-за пустяков не будет... — скрепя сердце пообещала Нюша.
И мать согласилась стать женой Горелова.
Свадьбу Тихон закатил на удивление всей деревне.
Задарил Аграфену с ребятами подарками, для пиршества закупил чуть ли не всю самогонку у шинкарок, наварил браги, домашнего пива, зарезал двух баранов и теленка, созвал на свадьбу всех своих близких и дальних родственников, многочисленных дружков и приятелей.
Гости съехались со всей округи, гуляли в ветлугинской избе трое суток, без меры пили и ели, орали на всю Кольцовку песни и плясали так, что дом ходил ходуном, а около порога даже осели половицы.
Денег на свадьбу Горелов не жалел — зазывал всех встречных и поперечных, угощал щедро, требуя на совесть «замочить» его брак с Аграфеной, чтобы он никогда не рассохся.
«Ну и Горелов-Погорелов, — покачивали головой сельчане. — Такой свадьбы со времен царя Гороха не бывало. Всего с верхом. Прямо как купец первой гильдии разгулялся!»
И впрямь, свадьба прошла по всем правилам — с дружкой, со свахами, с девками-величальницами. Гости сорили в избе сено, солому, били об пол горшки, посуду, заставляли невесту чище мести, швыряя при этом под веник бумажные деньги, кричали молодым «горько».
Нюшка сначала сидела за праздничным столом строгая, насупленная, следила за Ленькой и Клавкой, чтобы их не забыли посадить за стол или не задавили в толпе, а потом пригубила браги, охмелела и, к радости матери и Горелова, веселилась всю ночь.
Сейчас у Нюшки тупо ныло в висках, язык был сухим и шершавым, словно наждак, мучительно хотелось пить, и, главное, было почему-то неловко за свое веселье.
— Нюш, а Нюш! — шепотом спросил Ленька, не сводя глаз со спящего Горелова. — Он теперь так и будет храпеть каждую ночь... с присвистом, с переливами... Словно птиц приманивает.
— Будет тебе, Ленька... Храпит и храпит, что ж тут такого...
— А как мне его теперь называть? — не унимался братишка, и в голосе его послышалась недетская озабоченность и тревога.
— Если можешь, кличь тятей, — посоветовала Нюша. — Все же он отчим тебе. А трудно без привычки — зови дядей Тихоном.
— Нет, я его лучше Горелов-Погорелов кликать буду... — подумав, заявил Ленька.
— Почему Горелов-Погорелов?
— А его все так зовут. Был он председателем сельсовета — погорел... В колхозе его старшим конюхом назначили — опять горит.
— Много ты знаешь...
— Не много, не мало — самую середину... Сам слышал, как его дядя Вася ругал. «У тебя, говорит, не кони, а одры царя небесного... На ногах не стоят... На чем мы только пахать будем?»
— А дядя Тихон что ответил?
— «Конь, говорит, отмирающее животное. Рухлядь истории! Для колхоза не годится. Скоро все на автомобилях да тракторах будем ездить».
Нюшка с любопытством покосилась на братишку: и когда он только успевает все приметить и услышать!
— Ладно, Алексей, — примирительно сказала она. — Кони конями, а будешь звать отчима дядей Тихоном.
— Попробую, — согласился братишка, поудобнее устроился на мешках и, закрыв глаза, добавил: — А Митька-то Горелов так и не пришел на свадьбу.
— Да, — сказала Нюша, вспомнив вчерашнюю невеселую, встречу с Митей.
Заметив его в сенях в толпе, глазеющей на свадебное веселье, она бросилась к парню и потащила к праздничному столу.
— Нет уж, уволь, — отказался Митя. — Еще схватимся с папашей почем зря.
— Хоть немножко за столом посиди. Мы же теперь родичи с тобой как-никак.
— Лучше бы нам через это и не родниться, — усмехнулся Митя. — Не того вы человека в дом принимаете... Хлебнете с ним горюшка. — И, махнув рукой, он ушел домой.
В сенях раздались шаги, распахнулась дверь, и в избу вошла Аграфена.
Нюшка едва не ахнула. Вчера мать сидела за столом нарядная, в белом платье, лицо разрумянилось, глаза блестели, на губах блуждала счастливая улыбка. А сейчас в своем обычном, до блеска засаленном полушубке, в тяжелых обсоюженных валенках, в темном платке, завязанном под горлом, она казалась какой-то будничной, посеревшей и как будто даже меньше ростом.
«Так, наверное, всегда бывает после праздников», — подумала Нюшка, опуская ситцевую занавеску.
Аграфена окинула взглядом неубранную избу и нахмурилась. Потом, подойдя к кровати, осторожно тронула мужа за плечо:
— Тиша, проснись!
— Ась! Что такое? — Горелов очумело поднял лохматую голову.
— Вставай, Тиша... Очнись! Пора. Уже давно свет в окнах. Попраздновали, погуляли — пора и честь знать.
Горелов, одутловатый, худощавый, с хрустом потянулся и, спустив босые ноги на пол, сел на кровати.
— Башка, Груня, трещит... Рассольцу мне бы...
Аграфена зачерпнула из кадушки с капустой кружку рассола и подала Тихону:
— Тебя там на конюшне ждут... мужикам лошади требуются. Хомутов сказал, чтобы я поторопила тебя... Собирайся, Тиша, ступай.
— «Хомутов, Хомутов» — только и слышу! — недовольно буркнул Горелов. — Приставил меня к колченогим рысакам, а теперь понукает да командирит. А чем я этих одров царя небесного кормить буду... Ни сена, ни соломы. Хоть крыши раскрывай...
Он залпом выпил острый рассол, поморщился, сплюнул и, взглянув на ходики, неторопливо принялся одеваться.
— Ты бы, Груня, того... яишенку справила. Целый же день в бегах буду.
Аграфену не надо было и просить. Скинув полушубок, она прибрала стол, замела к порогу мусор и, разведя на шестке небольшой огонь, принялась готовить на сковородке любимую Тихоном яичницу с салом.
Через дырку в занавеске Нюша следила за матерью и удивлялась: мать, как молодая, сновала от печки к столу и находила все новые и новые закуски. Кроме скворчащей, вкусно пахнущей яичницы, на столе появились и холодец, и маринованные грибки, и соленые огурчики, и даже солидная стопка мутноватой самогонки.
— Распоследняя, — пояснила Аграфена, показывая пустую бутылку. — Добивай, и чтобы ее, окаянной, больше и в помине не было. Да ты кушай, Тиша, поправляйся! Ишь ты, худущий какой, одни маслаки да кожа... Словно тебя по этапу гнали. — Мать при этом заискивающе заглядывала Тихону в лицо, говорить старалась вполголоса, двигалась бесшумно, то и дело бросала на печку вороватые взгляды, словно совершала что-то запретное и постыдное.
«А ведь и впрямь она его на особинку будет кормить», — подумала Нюшка, вспоминая досужие разговоры соседок, что Горелов женился на Аграфене только потому, что ему надоела одинокая жизнь, еда всухомятку и нестираное белье.
Нюшке стало тоскливо и пусто. Вот, пожалуй, и кончилась веселая, дружная жизнь малой ветлугинской «артели», где никто не хныкал, не жаловался, когда все умели обходиться одной парой сапог, одним полушубком, когда чугун разваристой картошки заменял любые разносолы на столе и когда каждое событие становилось достоянием всей семьи.
Выпив стопку самогонки, Горелов посмотрел на пустую бутылку и с сожалением вздохнул.
— Груня, пошарь там... Еще бы малость для нормы...
— Хватит, Тихон... — остановила его Аграфена. — Останную выдала. Да и на конюшне тебя ждут.
— Ничего... лошади не взыщут, — отмахнулся Горелов и, поднявшись из-за стола, направился к лазу в подполье. — У меня там чекушка запрятана... заветная. Прикончим ее, треклятую, и концы!
Он приподнял за железное, высветленное кольцо широкую половицу и полез в прохладное, дохнувшее запахом земли и плесени подполье.
Аграфена с досадой принялась убирать со стола. Неожиданно за окном, выходящим в переулок, мелькнула фигура председателя колхоза. Он пошаркал сапогами о лапник, положенный около крыльца, и толкнул дверь в сени.
Аграфена заметалась по избе, как подбитая птица. Схватила пустую бутылку, сунула ее под лавку, потом нагнулась над лазом в подполье и встревоженно зашептала:
— Тиша, Хомутов идет... Небось за тобой! Что сказать-то?
— Вот дьявол его забери! — донесся из подполья приглушенный голос. — Скажи... нет, мол, меня... на работу ушел...
Дверь распахнулась, и через порог переступил Василий Силыч. В ту же секунду Аграфена с силой захлопнула лаз в подполье и в замешательстве обернулась к председателю.
— Здравствуй, Василь Силыч!
— Доброго здоровья! — снимая шапку, довольно неприветливо отозвался Хомутов. — Да мы вроде уже виделись сегодня... А где же супружник твой? Все еще нежится после свадьбы? — Он придирчиво осмотрел избу, потом, приподняв занавеску, заглянул на печь. Нюша закрыла глаза.
— А он... он ушел!.. — Аграфена вновь закрутилась по избе. — Чуть свет... Еще петухи не кричали. Сказал, что по делам. И даже перекусить не успел...
— Занятное дело, — хмыкнул Василий Силыч. — Уйти ушел, а на конюшню не пришел. Что ж это он? Или после пира-гулянья дорогу к лошадям не найдет?
— Может, он в больницу завернул?
— Какая же хворь на него напала? Лодырит или там воспаление хитрости.
— Ну что ты, Силыч, — покраснев, забормотала Аграфена. — Сам видишь, какой Тихон лядащий... Все жалуется — под ложечкой у него сосет.
— У одного сосет, у другого печет, — в сердцах заговорил председатель. — Не колхоз — богадельня какая-то! Что ж мне теперь, самому лошадей кормить? И коров доить самому... И телеги к весне ладить, и в кузнице лемехи отбивать тож самолично. Я вроде и швец, и жнец, и на дуде игрец!
Он с размаху надел на голову шапку, вывернув зеленую подкладку, и шагнул к двери.
— Дядя Вася! — Нюшка, босая, в коротком помятом платье, соскочила с печи и, придерживая гибкой, как пружина, гребенкой короткие светлые волосы, остановила председателя. — Я могу коней накормить!
— А это уж ваше дело, внутреннее, — устало махнул рукой Василий Силыч. — Хошь ты, хошь мать. Раз приняли к себе в дом такого забубённого конюха, вот и отвечайте за него всей артелью.
Председатель ушел.
Аграфена, стараясь не встречаться с дочерью глазами, молча открыла лаз в подполье.
— Пронесло на первый раз... Вылезай!
Сказано это было с таким видом, словно у Аграфены заболели зубы.
Из подполья, облепленный седой паутиной, показался Горелов.
— Слава тебе... — перевел он дыхание. — Этот Василий язва, а не человек стал.
Плеснув на лицо из рукомойника холодной водой, Нюшка быстро оделась и шагнула к двери. Потом обернулась и в упор посмотрела на Горелова:
— Вот что, папаша-отчим! Мама как знает, а я тебя первый и последний раз покрываю. Понятно?
— Ладно, Нюша... Замнем это дело... — миролюбиво отозвался Горелов и потянулся за пиджаком и шапкой. — Пойдем-ка вместе на конюшню.
— Сиди уж ты... больной! Или ложись лучше, — неожиданно прикрикнула на него Аграфена. — Не срами нас нынче... Не лезь на глаза людям. И без тебя управимся.
Аграфена набросила на плечи полушубок и вместе с дочерью вышла из дома.
ДЕНЬ ТРЕВОГ
Прошло уже несколько дней, как Степу проводили на курсы, а от парня не было ни слуху ни духу. А ведь он обещал писать, «держать в курсе» и даже звонить по телефону. «Все они, видно, парни, такие!» — подумала Нюша.
Как-то раз она заглянула к Тане Ковшовой.
— Ну, как там братуха твой поживает? — спросила она. — Уехал, как под лед нырнул...
— Разве он тебе не пишет? — удивилась Таня.
— Все еще собирается, деньги на марку копит... Забурел наш курсант.
— А мне вот... написал, — вполголоса призналась Таня и как-то странно посмотрела на подругу.
«Для сестры нашел время, а мне — недосуг», — с обидой подумала Нюша и, круто повернувшись, бросила через плечо:
— Отпиши там курсанту, коль место в письме останется: мол, совесть надо иметь.
— Да ты подожди! — остановила Таня Нюшку. — Письмо-то тебя касается... Сердится на тебя Степа. Читай вот.
Нюша поспешно развернула сложенный вдвое листик бумаги. Письмо было короткое и написано торопливо.
«Таня! — прочла Нюша про себя. — Ни на какие курсы трактористов я не попал. Да их и в помине нет. Людей из колхоза вызывали на курсы агротехников. И откуда только Нюшка взяла про тракторные курсы? Или это ее очередная выдумка? Словом, скажи ей— некрасиво получилось. А за проводы Нюшке спасибочко — век буду помнить! Теперь хоть в колхоз не показывайся! Степа».
Нюшу бросило в жар, и она поспешно оглянулась по сторонам — не наблюдает ли кто за ней.
— А правда? Как все это вышло? — осторожно спросила Таня.
— Ты ж знаешь, какой у нас телефон дохлый... — смущенно призналась подруга. — Хрипит, трещит. Я слышала, что на курсы техники вызывают, а какой техники — не разобрала... Лучше бы его и не было, этого телефона!
— Что ж теперь Степе-то делать?
— Пусть домой едет, — не очень решительно сказала Нюша. — Будет опять избачом... И секретарство с меня снимет.
— Да как он в деревню покажется после таких проводов! На смех же поднимут.
— Это так, — вздохнула Нюша, возвращая Тане письмо. — Ты помолчи пока... может, уладится. — И она пошла в правление колхоза.
Но там и без нее обо всем уже знали — только что из города по телефону звонил сам Ковшов, рассказал об ошибке с телефонограммой и просил разрешить ему остаться на курсах агротехники.
— Ну и рассыльная, ну и зампред! — заливистым смешком встретил Нюшу счетовод. — Услужила своему дружку... Мы ему удостоверение выписали, командировочные. Парня честь по чести на учебу в город отправили, а он теперь чаи там попивает, по панелям прогуливается... Как хотите, Василий Силыч, — обратился он к председателю, — а с рассыльной взыскать придется... За ложную, так сказать, тревогу...
— Ну и взыскивайте! — буркнула Нюша.
— Ты погоди, Семеныч, — отмахнулся от счетовода председатель и, топорща свои пегие, прокуренные усы, сердито показал Нюше на скамейку: — Сядь вот! Это что ж получается? Мы тебе поверили, послали человека на курсы... И все прахом пошло. Отвечай, говорю!..
— Остынь, Василий, — остановил председателя Игнат Хорьков. — Нюшка-то здесь при чем?.. Она ж курсами не ведает. Чего ты ее словно на скамью подсудимых усадил?
Василий Силыч вытер взмокшую шею и покачал головой.
— Какой-то круг заколдованный, — пожаловался он. — Курсы трактористов не состоялись, машину без тракториста нам не дают... На чем же мы пахать по весне будем?..
Нюшка искоса наблюдала за дядей Васей. Она помнит, как он умел работать на лугу, на пашне, на молотьбе. Большой, сильный, он, казалось, никогда не уставал, был всегда спокойный, ровный, чуть медлительный, и люди при нем старались работать лучше и чище... А вот теперь в колхозе дяде Васе очень трудно. Люди тянут в разные стороны, не всегда подчиняются, и ему приходится без конца бегать, кричать, уговаривать. Вот взять хотя бы эту историю с трактором...
— Дядя Вася, а пошлите меня на курсы трактористов, — неожиданно сказала Нюша.
— Какие курсы? Где? — опешил Василий Силыч.
— Я найду... В другой район поеду. Или в совхоз. Там машин много. Я научусь, смогу. Вы только мне справку от колхоза выдайте.
— Нет, вы видали! — прыснул в кулак счетовод. — Девки, девки-то куда загребают! Чего там на трактор, Ветлугина, просись сразу на народного комиссара.
Василий Силыч устало отмахнулся от Нюшки, давая понять, что просьбу ее он всерьез не принимает.
— Ты не бойчись, девка. Сиди уж при правлении. Хватит нам и одного хваленого тракториста. — И он обратился к Хорькову: — Как с Ковшовым-то порешим?
— Я уже говорил тебе, — ответил Игнат. — Раз парня в город проводили, пусть он и учится. Агротехники в колхозе нам тоже пригодятся.
— Правильно! — обрадованно поддакнула Нюша. — Зачем ему обратно-то ехать!
Василий Силыч, почесав в затылке, сказал счетоводу, чтобы тот выписал Степану Ковшову новое удостоверение и выслал его в город, на курсы. Потом обернулся к Нюше:
— А ты разувай уши-то, когда телефон слушаешь. Не куролесь больше. Да вот еще что, предупреди-ка бригадиров — завтра семена сортировать начинаем. И своих девчат собери. Разом на работу и навалитесь!
Нюша вышла из правления и, зачерпнув у крыльца горсть пушистого снега, приложила к лицу. Хорошо, что дело со Степой хоть как-нибудь да уладилось. А все же, наверное, он здорово на нее сердится и никогда этого ей не простит. Надо будет сегодня же написать Степе большое-пребольшое письмо. Так, мол, и так, ты не расстраивайся, учись, старайся. Агротехники, они в колхозе тоже пригодятся.
Приняв такое решение, Нюша несколько успокоилась и направилась домой обедать.
Матери и отчима в избе не оказалось, а братишка с сестренкой азартно спорили о каких-то листах бумаги, вырванных из тетради. Нюшка прислушалась и догадалась, что речь шла об общей толстой тетради в коленкоровом переплете, которую Горелов подарил Клавке перед свадьбой. В нее девочка записывала любимые стихи и песни.
— Бессовестный ты!.. — со слезами на глазах кричала Клава на брата. — Мне бы на целый год ее хватило, а ты зараз вон сколько выдрал!
— Как же тебе не стыдно! — упрекнула Нюша Леньку и взяла у Клавы из рук тетрадь: бумага в ней была толстая, глянцевая, кремового оттенка и разлинована частыми голубыми линейками.
— Да не вырывал я ничего... Лопни мои глаза! — поклялся Ленька.
— Еще скажешь — Нюшка взяла?.. Или мамка? — наступала Клава.
— А может, Горелов... Он вчера в твоих тетрадях копался.
— Ему-то зачем?
— А я почем знаю.
Нюшка задумалась. Странную жизнь вел в их доме Горелов. Домой он возвращался обычно за полночь и навеселе, будил Аграфену и начинал пространно рассуждать о том, что на артельной работе нет ему полного разворота, что по его натуре ему положено жить в районном центре или в городе и занимать какой-нибудь руководящий пост.
— Да спи ты, уймись, — шепотом уговаривала его Аграфена и с опаской косилась на печку, где спали Нюшка, Клава и Ленька. — Завтра поговорим.
«Вот лоботряс свалился на нашу шею, — с обидой думала Нюша. — Я теперь хоть и дома не живи — лишняя стала».
Сейчас, с трудом помирив братишку с сестренкой и наспех перекусив, Нюша пошла собирать девчат на сортировку семян.
В первую очередь она заглянула в избу к Карпухиным.
Зойка сидела за столом у низко спущенной с потолка лампы и штопала старую юбку. На лавке лежала куча белья.
Нюша села на широкий, окованный железом сундук, вытянула натруженные за день ноги, сняла сапоги и, покосившись на подругу, спросила, уж не готовит ли она себе приданое.
— Мамка велела залатать кое-что, — смущенно ответила Зойка.
Нюшка подошла к столу и, подняв жестяной круг над лампой, осветила Зойкино лицо.
— Выкладывай все! Не спрячешься!
Но не успела она ничего сказать, как в избу вошла Феня Осьмухина. Заметив в избе Нюшку, она почему-то тоже смутилась и деревянным голосом спросила Зойку, где тетя Даша.
— Мне у нее опарницу надо взять...
— Ладно уж, — махнула рукой Зойка. — Говори все по правде...
— Я тетю Дашу спросить хотела, — осторожно начала Феня. — Сколько сухарей надо запасать...
— Сухари, белье... — насторожилась Нюша. — Да вы что, девки? Уезжать собрались? Секреты от меня завели?
— Ну и собрались, — призналась наконец Зойка. — А ты будто сама не видишь, что люди из колхоза уходят. Вот и моя мать выписалась. На торфоразработки решила податься. И меня с собой забирает.
Нюшка обернулась к Фене:
— И ты туда же?
— Не могу я больше с отцом и матерью жить, — помолчав, глухо заговорила Феня. — В колхоз они вошли самыми последними... упирались, артачились, всё чего-то ждали. Прожили в артели год — и опять назад. Заладили одно: «Хотим сами хозяиновать, по своему норову... Пусть только нам землицы прирежут побольше». Замучилась я с ними...
— Когда же твои из колхоза выписались? — спросила Нюша.
— Отец вчера заявление подал, — призналась Феня. — Вот я и решила с тетей Дашей в отход податься. Хоть поживу по-людски. Поработаю летом на торфу, а потом к брату в совхоз уеду. Он ведь теперь трактористом заделался!
— Кто? Антошка ваш?
— Ага! Курсы закончил... Живет что надо... И меня к себе приглашает.
В сенях раздался смех, говор, дверь широко распахнулась, и в избу ввалилась ватага девчат. Вслед за ними вошла Зойкина мать — Дарья, еще моложавая, подвижная женщина с пухлыми задорными губами.
— А ну, торфушки, рассаживайся! Сейчас все и обговорим, — бойко заговорила она. — Эге, да здесь уже ждут нас! И зампред пришла... Это и кстати...
— Тетя Даша, да вы что задумали-то?.. — спросила Нюша.
— Задумка верная. Я такую ли бригаду сколочу, ахнут на торфоразработках. В ударницы всех выведу. Пусть знают кольцовских девок...
Дарья Карпухина уже не раз собирала девичьи бригады и водила их на сезонные работы то в совхоз, то на кирпичный завод. Она умела постоять за девчат, они обычно неплохо с ней зарабатывали и возвращались домой довольные и переполненные впечатлениями.
— Нюшка не может с нами, — шепнула матери Зойка. — Она же секретарь комсомольский... вместо Степы Ковшова.
— А что ж, секретарям на торфу и работать нельзя? — удивилась Дарья. — Вот Степке тоже секретарь, а надо было — отпустили. А Нюшка — девка непужливая, настырная, сделаю ее своей первой помощницей...
— А колхоз? — растерянно спросила Нюша. — Нам же завтра семена сортировать... Да и кто вас отпустит?
— Здоро́во живешь, приехали! — усмехнулась Дарья. — Колхоз — дело полюбовное. Желаешь — вошел, желаешь — вышел. Я вот уже отчислилась, заявление подала. Да оно, видать, все к одному идет. Почти год прожили в артели, а ладу да согласия нет и нет. Мужик с мужиком на одном поле что кошка с собакой. Сколько за год ссор да дрязг накопилось! Вот люди и хотят каждый по своему норову жить, по-вольному. Может, так поскорее разбогатеем. Теперь кулаков-захребетников нет. Пусть нам, у кого мозоли на руках да поясница натружена, землицы побольше прирежут да тяглом помогут... Вот и жизнь пойдет справная.
«Все хотят по своему норову жить», «Пусть нам землицы побольше прирежут», — мысленно повторила Нюшка и вздрогнула. А ведь и Феня Осьмухина только что произнесла эти же самые слова.
Нюша в упор посмотрела на Карпухину:
— Тетя Даша! Это же не твои слова насчет колхоза. Ты чужое повторяешь.
— Что ж, я сама и додуматься не могу? — нахмурилась Дарья. — Совсем пустоголовая, по-твоему? Я ведь как лучше хочу... и себе, и Зойке с Петькой. — Она примиряюще посмотрела на Нюшку. — Шла бы ты с девками на торфоразработки... хотя бы до осени. Деньжат бы подзаработала, приоделась.
— Верно, Нюша, пойдем с нами, — умоляюще шепнула Зойка. — Своя бригада у нас, все вместе жить будем. Хорошо, дружно.
— И чего тебе за дом цепляться? — сказала Феня. — У матери новый муж, и ты теперь в семье что пятая спица в колеснице.
— Да вы что, девчата? Рехнулись? — принялась уговаривать подруг Нюшка. — Сами же меня секретарем заголосовали и теперь бежать... А я с кем останусь? Да нет... Никуда вы не уйдете!
— Ну хватит, секретарь! — остановила ее Дарья. — Ты мне девок не расхолаживай. У нас уж дело решенное, все на мази. Сухари сушим, белье готовим... На днях и тронемся. Лето поработаем, булгу переждем, а к осени, может, и вернемся.
— Ах, вот как! — возмутилась Нюшка. — Булгу переждать!.. Отсидеться! И не стыдно вам!
Она в замешательстве кинулась к порогу, потом, вспомнив про сапоги, быстро обулась, пристукнула каблуками и, обернувшись к девчатам, выкрикнула почти с угрозой:
— А вот не отпустим! И все тут. И весь сказ! Назначаю комсомольское собрание. Срочное. Завтра же. Там поговорим! — и выскочила за дверь.
ПОД ДИКТОВКУ
На улице потеплело, валил липкий, влажный снег, застилая застекленевший наст белым руном. Хлопья снега падали на разгоряченное лицо, забирались за воротник, таяли, но Нюша ничего не замечала.
«Секретарь тоже... тюхтя, недотепа. И зачем только выбрали такую?» — мысленно ругала она себя.
И в самом деле, не прошло и недели после ухода Степы, а добрая половина комсомольцев уже бежит из деревни. Да и как бегут — тихо, тайком, и она до сих пор ничего об этом не знала. И даже лучшие ее подруги уходят. Вот так вожак Нюшка! Это тебе не песни запевать на гулянках, не «русского» отплясывать, не парней разыгрывать.
Надо что-то делать. Знает ли о сборах девчат дядя Вася, члены правления? Хорошо бы обо всем посоветоваться с матерью. Была у них такая добрая привычка — после ужина уложить в постель Леньку и Клавку, а самим, привернув свет в лампе, посидеть у железной печки и обо всем по душам поговорить — о колхозных делах, о парнях и девчатах, об обновках ребятам.
Только вот с появлением в доме Горелова эти разговоры у печки как-то прекратились: то матери было недосуг, то в избе торчал отчим, а при нем у Нюшки не было охоты разговаривать.
Сейчас увидеть мать надо во что бы то ни стало. Но домой Нюшка попала не скоро. По дороге ее догнала Феня и сообщила, что тетя Дарья очень торопит девчат со сборами на торфоразработки.
— И кто ее только наскипидарил, эту Дарью? Вот бы вызнать, — вслух подумала Нюша и покосилась на Феню. — Ты ничего не знаешь?
Феня кинула быстрый взгляд в сторону своего дома, зябко поежилась, потом потянула Нюшу за руку:
— Пошли к нам... Может, чего и вызнаешь.
Свернув с дороги на узкую тропинку, девчата подошли к дому Осьмухиных. Встав на завалинку, заглянули в боковое окно и поверх занавески увидели, что в горнице, кроме хозяев дома, находилось еще человек десять колхозниц.
Посреди избы на табуретке сидел Тихон Горелов и, поглаживая колени, что-то неторопливо рассказывал. Время от времени в разговор вмешивались Тимофей Осьмухин и Матрена.
— Что это за сходка такая? — с недоумением спросила Нюша.
— Да так вот... собираются... вроде как на посиделки, — нехотя ответила Феня.
— И дядя Тихон заходит?
— В последние дни частенько. Девчата вошли в избу.
— Здравствуйте, люди добрые, — приветствовала собравшихся Нюшка.
Разговор оборвался. Горелов, поймав подозрительный взгляд падчерицы, поднялся с табуретки и осторожно поставил ее в угол.
Поднялся из-за стола и Тимофей Осьмухин.
— Здравствуй, активница, — ухмыльнулся он. — Все в бегах да хлопотах. Ну, как там в конторе дела-делишки?
— Дела идут... — ответила Нюша. — Завтра на очистку семян выходим. Вот только вас, дядя Тимофей, не хватает. Сортировку крутить некому...
Тимофей закряхтел:
— Поясницу чего-то прихватило... мочи нет.
— А мы вам снадобье готовим... Так ли разотрем — зараз полегчает.
— Задубел я в болезнях, мне уж ничто не впрок. — Тимофей с опаской посмотрел на девушку, потом чуть приметно кивнул колхозницам.
Те потянулись к двери. Вслед за ними вышел и Горелов.
— Что же вы расходитесь так рано? — деланно удивилась Нюша. — А мы вас послушать пришли.
— А чего нас слушать... Сидим болтаем, переливаем из пустого в порожнее, — уклончиво сказала Матрена и с досадой обернулась к дочери: — Ужинать-то будешь?
— Не хочу! — буркнула Феня, стаскивая с плеч полушубок и бросая его на сундук.
— Корми ее, мать, корми, — сказал Тимофей. — Совсем забегалась девка. — И он обратился к Нюшке: — А ты чужаком на меня не смотри. Я человек компанейский: и поговорить люблю и послушать. Вот люди и ходят на огонек.
— А все же... о чем у вас разговор был? — допытывалась Нюшка.
— Да так... о всякой всячине. Тихон Кузьмич о восемнадцатом годе вспомнил, как он землю у помещика отбирал.
— Вы бы лучше рассказали, что тут о колхозе болтаете, — в сердцах вырвалось у Фени. — Развели тоже сходки-посиделки...
— Что ж нам теперь и о себе не подумать? — встрепенулась Матрена. Она опустилась на лавку и принялась сокрушенно жаловаться: — Зашла я вчера на скотный двор, Милку проведать. Стоит, бедненькая, у самых ворот, на сквозняке, ляшки навозом обросли, запаршивела вся, глаза тоскливые, словно ее на убой ведут. Увидела меня да как замычит, а мне так и послышалось: «Домой хочу! До-мой!..» Хотела я ее накормить, а все корма уже расхватали. Каждая хозяйка постаралась своей корове лишний клочок сунуть. Пришлось мне из дома плетюху сена тащить...
— Труба, одним словом! — мрачно выдохнул Тимофей. — А я о чем говорил?.. Не вяжись, Матрена, с артелью, повремени. В такое ли болото залезем — по маковку засосет.
— Ну, да теперь дело решенное, — облегченно вздохнула Матрена. — Выпишемся — и все тут. Получим свою корову, лошадь — и сами себе слуги, сами хозяева.
Нюша растерянно смотрела то на Матрену, то на Тимофея. Что же все-таки делается в деревне?
Вот уже более года, как в Кольцовке родился колхоз «Передовик». Кулаков из деревни давно выселили, мужики свели на общий двор лошадей и коров, засыпали в амбар семена, свезли вместе плуги, бороны, сохи. Казалось, что теперь наступил полный лад и мир, можно спокойно работать, пахать землю, сеять хлеб. А на деле совсем не то. В молодом колхозе все бурлит и кипит, как в котле, полно разных слухов, пересудов, кривотолков.
— Так это правда, что вы из артели уходите? — спросила наконец Нюша.
— Господи боже мой! — всплеснула руками Матрена. — Опять ты своим носом повсюду буравишь! Тебе-то какая забота? Ты уж лучше мамашу свою попытай...
— При чем здесь мать? — насторожилась Нюша.
— При том вот. Она хоть и активница, а тоже от ворот поворот... Не приглянулось ей в артели.
Нюша испуганно замахала руками:
— Да что вы, право... это же курам на смех.
Матрена пожала плечами и отошла к печке:
— Догони вон отчима да спроси. У них с матерью, видать, по всем статьям согласие...
Нюша выскочила из избы и помчалась к дому.
Неужели и впрямь сбываются слова соседок о том, что Горелов расклинит ветлугинскую семью, а Аграфену поведет за собой, как телушку на веревочке. И это ее, Нюшкину мать, которая так отважно воевала с кулаками, раньше других записалась в артель, первая свела свою корову на общий скотный двор! Не может этого быть!
Около правления колхоза Нюша натолкнулась на Василия Силыча и Игната Хорькова.
— Чего это летишь, как на пожар? — удивился председатель. — Зайди-ка на минутку в правление. Дело есть.
— И мне сказать надо, — призналась Нюша, тяжело дыша.
Втроем они вошли в правление. Нюша засветила лампу.
Василий Силыч тяжело опустился на стул и окинул взглядом Хорькова:
— Ну-с, чем порадуешь?
Отведя глаза в сторону, Игнат Хорьков запустил руку в бездонный карман пиджака и извлек оттуда несколько смятых листиков бумаги.
— Вот, Василий Силыч, в том же духе, что и вчера, — заговорил он. — Я уж целый день беглецов уговаривал: не шарахайтесь, одумайтесь. А они знай свое: «Отпишите из колхоза... Хотим сами по себе хозяиновать». Ну что тут скажешь!
Василий Силыч достал из ящика стола еще несколько заявлений и принялся разглаживать их тяжелой негнущейся рукой.
— Та-ак! Уже за дюжину перевалило. И смотри только, какой народ вспять пошел. Осьмухин, Ползиков, Горелов, Карпухина... А это вдова-то с двумя детьми! Еще вдова — Курочкина, Прохор Уклейкин... Ах, старый хрыч! Этому-то чего в артели не сидится? Прямо диво какое-то. Написаны заявления разными почерками, а слова одни и те же. Словно кто диктовал, как учитель школьникам, а другие писали... Да и бумага по виду одинаковая, глянцевая, плотная, в линеечку.
Нюшка вгляделась в листы бумаги, на которых были написаны заявления, и ее осенила догадка — листы были из Клавкиной тетради.
— Дядя Вася, дядя Вася! — испуганно зашептала она. — Я, кажется, смекаю...
— Чего еще?
— Да, да, все понимаю. — И, пригнувшись к столу, Нюшка рассказала про сходки в доме Осьмухиных, про Горелова, про вырванные из тетради листы бумаги.
Игнат Хорьков с любопытством посмотрел на дивчину.
— Пожалуй, так оно и есть, — заметил он. — Не иначе Горелов с Осьмухиным диктанты диктуют.
Председатель ожесточенно поскреб затылок:
— Ну и дела на белом свете. Вот и от Ветлугиной заявление. Погоди, погоди! Это уж не от Аграфены ли? Так и есть... «Прошу отписать меня из колхоза и вернуть мою корову. А. Ветлугина».
Василий Силыч строго посмотрел на Нюшку:
— Вы что ж это? Вместе с мамашей такую цидулю сочиняли или как?
— Что вы, дядя Вася! — оторопев, вскрикнула Нюшка и, подавшись к столу, выхватила из рук председателя заявление матери. Текст заявления был написан твердым, размашистым почерком Горелова, а вместо подписи стояла замысловатая закорючка. — Это не мамина рука, — сказала Нюша, покачав головой. — Не могла она такое подписать.
— Могла не могла, а заявление — вот оно! — с досадой заявил Василий Силыч. — Разберись тут попробуй!
— Дядя Вася, а пойдемте к нам... Все и выясним, — предложила Нюша. — Мать, она по-честному скажет...
Василий Силыч подумал и согласился.
Аграфена с Гореловым садились ужинать, когда Нюша с председателем вошли в избу к Ветлугиным.
Василий Силыч завел разговор о конюшне и, как бы между прочим, дал понять Горелову, что членам правления хорошо известно о сходках в осьмухинской избе.
— О чем речь? Какие сходки? Да это поклеп! — заартачился было Горелов, но быстро осекся.
От порога на него пристально смотрела Нюшка.
— Нечисто работаешь, Тихон Кузьмич: следы оставляешь, — усмехнулся Василий Силыч и достал из кармана заявления женщин о выходе из колхоза. — Смотри вот, все цидули на один лад написаны.
— Да и бумажка знакомая. Из Клавкиной тетради вырвана, — заметила Нюша.
Горелов захлопал глазами.
Василий Силыч показал Аграфене ее заявление:
— Твоя подпись?..
Аграфена, подойдя поближе к лампе, прочла заявление и, схватившись за грудь, пораженная, уставилась на Горелова. Нюшка с надеждой смотрела на мать.
— Это как же так?! Без моего ведома в беглецы меня зачислил, в отступницы! — заговорила Аграфена. — Подпись подделал. — И она опустилась на лавку и беззвучно заплакала.
— Я же как лучше хотел... — забормотал Горелов. — Для семьи старался... Разговоры всякие об артели пошли, смущение в народе.
— И что ты за человек, Тихон? — устало произнесла Аграфена и, порвав заявление на мелкие клочья, бросила их на пол. — Вот так и знай. Уходить собрался — один уходи. А мне бежать некуда.
— Так, мама, так, — облегченно шепнула Нюша.
— Что ж, Тихон Кузьмич, — заговорил председатель, — артель— дело добровольное. Можешь в любой час выписаться. А только вам с Осьмухиным как первым агитаторам за выход из колхоза придется на собрании ответ держать. Уж объясните людям, чем вам артель не мила.
— Нет, зачем же объяснять, — встревожился Горелов. — Раз Аграфена в колхозе остается, я тоже пока задержусь. — И он попросил Василия Силыча вернуть ему заявление о выходе из артели.
Наутро взял обратно свое заявление и Тимофей Осьмухин.
Вечером состоялось колхозное собрание. Василий Силыч положил на стол перед собой пачку заявлений и, нацепив на нос очки, неторопливо заговорил:
— Теперь, значит, такой вопрос: о наших беглецах и отступниках... Всего просятся на выход одиннадцать человек. Двое из них — Горелов и Осьмухин — уже забрали свои заявления обратно. Они, так сказать, образумились и осознали.
— Кто, кто образумился? — переспросил чей-то удивленный голос.
— Могу повторить! — невозмутимо продолжал Василий Силыч. — Осознали свое заблуждение Тихон Кузьмич Горелов и Тимофей Никитич Осьмухин. Люди они, как всем известно, грамотные — вот и образумились. Да они и сами могут подтвердить.
— А кто же остальные беглецы? — спросил дед Анисим.
— Остальные отступники все больше женский персонал, — пояснил председатель, — вдовы да многодетные матери. И мы тут на правлении так подумали: коли артель им не по нраву, могут свободно отписаться. Препятствий чинить не будем. Нарежем им землю, вернем инвентарь, скотину. Нехай богатеют, пускай живут вольными хлебопашцами. На собрании воцарилась тишина.
Нюша заметила, как женщины-отступницы, сидевшие все вместе в углу, растерянно поежились и стали оглядываться по сторонам, отыскивая глазами Горелова и Осьмухина. Тихон Кузьмич, дымя цигаркой, сидел у порога, а Осьмухина нигде не было.
— Это как же так? — недоумевая, заговорила Дарья Карпухина. — Горелов с Осьмухиным первые же заводилы были. «Уходите, бабы, отписывайтесь...» А теперь, выходит, они остаются, а нас из артели вытуривают! Тихон Кузьмич, чего молчишь? Чего к порогу прилепился? Не ты ли нам заявления диктовал? И даже чистой бумажкой оделил — только пишите! Заботник! А теперь в кусты полез...
Одна за другой женщины поднимались с места и изобличали Горелова и Осьмухина.
Пришлось Тихону Кузьмичу подняться и объяснить собранию, что на него, как видно, нашло затмение, но теперь, все обдумав, он понял свою ошибку и просит оставить его в артели.
— Граждане! Бабоньки! — закричала вдруг Дарья Карпухина. — Они же нас предали, уговаривальщики эти самые! Заманули и бросили! Сами остаются, а нас по их милости из артели гонят. А мы вот несогласные!.. Несогласные, и все тут!
— Раз несогласны — так оставайтесь! — предложил Василий Силыч. — Только больше ветру не кланяйтесь да под чужую диктовку не живите.
Покричав еще немного на Горелова, женщины взяли свои заявления обратно, и на этом собрание закончилось.
СТАРШИЙ КОНЮХ
Горелов остался в колхозе, но на конюшне по-прежнему работал спустя рукава.
Он часами просиживал в колхозной чайной, болтал с дружками, заглядывал в лавку сельпо, в правление колхоза и только к полудню добирался до конюшни.
Все лошади были уже разобраны на работу, и Горелов, натаскав в дежурку сена, заваливался спать.
Здесь его обычно и находила Аграфена.
— Ох, Тиша, — вздыхала она. — И что ты за хозяин на конюшне. Насмешка одна. Прогонят тебя в три шеи.
— Я за место не держусь, — отвечал Горелов. — Могу хоть сейчас дела сдать.
— Отстрани ты его, Силыч, — попросила как-то раз Аграфена председателя. — Ну какой он конюх?.. Видимость одна.
— Это так... пустое место, — согласился Василий Силыч. — А где ж ему замену найдешь, когда все люди в расходе... Да и охотников нет за таких одров отвечать, как наши. — Он задумчиво покрутил головой, по привычке пощипал мохнатую шапку и пообещал: — Поищем, конечно, нового конюха, постараемся. Ну и вы тоже на него воздействуйте... А то у Горелова что ни день — разгуляй да запивоны. Куда это годится? Вы, мать с дочерью, — женский актив, можно сказать, а мужика от самогонки отвадить не можете.
— Отвадишь его, бочку бездонную, — махнула рукой Аграфена. — Пусть сначала сельсовет шинкарок прижмет да самогонщиков.
Время шло, Горелов продолжал числиться конюхом, по ухаживать за конями приходилось больше Аграфене.
— Пойдем, Нюша, накормим лошадей, — обычно просила она дочь. — Не околевать же им из-за нашего бедолаги...
— Домашний срам прикрываешь, — выходила из себя Нюшка. — Да я бы на твоем месте...
— Что делать, дочка? Кто знал, что все так обернется, — вздыхала Аграфена, и Нюша, охваченная жалостью к матери, отправлялась с ней на конюшню.
С кормами становилось все хуже и хуже. Скрепя сердце Василий Силыч распорядился пустить в ход последние запасы сена, которые приберегались к весне.
Аграфена несколько раз напоминала Тихону, что надо съездить за сеном, но тот почему-то не спешил.
— Успеется. Продержимся еще немного и на соломе.
Наконец Аграфена не выдержала, снарядила двое розвальней и вместе с Нюшкой, Ленькой и Зойкой Карпухиной отправилась на Малые лужки, где еще с лета был сметан стог сена.
Они проехали километра три лесной дорогой, пересекли вырубку и выбрались на заснеженную луговину, поросшую молодым дубняком.
Поодаль, у раскидистой елки, высился стог сена и около него стояла подвода и сновали какие-то люди.
— Это еще что за новость такая? — нахмурилась Аграфена. — Не ими кошено, не ими стожено, а понаехали...
— Мама, а ведь это зареченские, — вглядевшись в людей, узнала Нюшка.
Подъехав ближе, Аграфена вылезла из саней и подошла к стогу. И верно, здесь хозяйничали зареченские.
Взобравшись на самый верх стога, дюжая, носатая женщина сбрасывала оттуда сено вниз. Тощий, с взъерошенной бородой старик, кряхтя, поддевал его острозубыми деревянными вилами и укладывал на розвальни. На возу утаптывала сено глазастая девка в рыжей шубе. В стороне стояла вторая подвода.
Аграфена узнала дюжую женщину сразу — это была зареченская знахарка и шинкарка Спиридониха.
— Вы что ж, соседушки? — спросила Аграфена. — Среди бела дня и такое непотребство затеяли!
— Что там «непотребство»! — выскочила вперед Нюша. — Прямо сказать — воровство!
— Ну, ты! — прикрикнул на нее старик. — Прищеми язычок-то. Мы сеном законно пользуемся. За него с лихвой уплачено, по красной цене.
— Как — уплачено? Кому? — насторожилась Аграфена.
— Кому следует, тому и уплачено... — замялся старик.
— Нет, вы уж начистоту говорите, — допытывалась Аграфена. — Кто вам наше артельное сено запродал?
— Что ты к нему прицепилась, как репей: кто да кто? — раздраженно заговорила со стога Спиридониха. — Начальство ваше запродало... старший конюх Горелов. «У нас, говорит, сена в избытке, до этого стожка и руки не дойдут». Вот мы у него два воза и выторговали...
— Мама, — задохнувшись, шепнула Нюшка. — Что ж это?.. Позорище-то какой...
Лицо у Аграфены передернулось, губы побелели.
— Ну вот что... соседушки, — глухо выдавила она. — Давайте-ка по-хорошему разойдемся. Конюх вам сена не продавал, а вы его не покупали. И поезжайте, откуда приехали...
— Еще чего! — насмешливо сказала Спиридониха. — Мы не чужое берем — свое, купленное. Если надо, у нас и свидетели найдутся. Ермолай, да шугани ты их вилами!.. — приказала она старику.
— А ну, кому сказано! — выкрикнула Нюшка. — Уезжайте отсюда!
Она вдруг схватила хворостину и, подбежав к лошади, ударила ее по спине. Лошадь резко рванула вперед, и навьюченное на сани, но еще не увязанное веревками сено свалилось на снег. Девка в рыжей шубе вместе с сеном полетела вниз.
Старик бросился догонять подводу.
Спиридониха с воинственным воплем сползла со стога и, схватив вилы, нацелила их в Аграфену и девчат.
— Не подходи! Сбру́шу! — и, потеснив их назад, крикнула старику, чтобы тот вернул подводу обратно.
Аграфена принялась уговаривать Спиридониху не забирать сено. Горелов завтра же вернет ей должок, а сено им в колхозе и самим нужно до зарезу.
— Ага, за муженька хлопочешь, — ухмыльнулась Спиридониха. — Ну уж нет, с твоего Горелова-Погорелова взятки гладки. И мы без своего сена не уедем.
Старик наконец догнал лошадь, взял ее под уздцы, подвел к стогу сена и заново принялся навьючивать розвальни сеном. Спиридониха стала ему помогать. Девка в рыжей шубе полезла на воз.
— Прямо разбой какой-то! Хоть караул кричи, — всплеснула Аграфена руками и, бросившись к лошади, потянула ее за повод. — А все равно не допустим!..
Спиридониха резко обернулась и толкнула Аграфену деревянными вилами в грудь.
В тот же миг раздался пронзительный мальчишечий крик:
— Не смейте мамку!..
И в лицо Спиридонихе ударился снежный комок. Женщина ахнула, выронила вилы и прикрыла лицо варежкой.
— Так, Ленька, гвозди их!.. — вскрикнула Нюшка и, слепив тугой снежный шарик, она ловко запустила его в старика. — Зойка, пали! Чего с ними церемониться?
И начался обстрел.
Снежки, маленькие и большие, тугие и рыхлые, летели к стогу со всех сторон. Старик, получив несколько внушительных ударов в грудь, спрятался за сани. Девка в рыжей шубе, у которой уже пылало от снежка ухо, спрыгнула с воза. Спиридониха, потрясая вилами и свирепо ругаясь, помчалась за Ленькой, но тот был неуловим, осыпал ее снежками и только хохотал от восторга:
— По захватчикам огонь! Залпом пли!..
Улучив удобный момент, Нюшка снова хлестнула лошадь, и та затрусила прочь от стога.
— Да уйми ты своих золоторотцев! — набросилась Спиридониха на Аграфену. — Не то вилами поколю...
— Добром же просили — уезжайте.
И зареченским пришлось отступить. Взяв вилы, они сели в розвальни и скрылись в перелеске.
— Ну и лихой вы народ! — покачала головой Аграфена, оглядывая раскрасневшихся девчат и Леньку. — До побоища дошли!
— Им бы еще и не так надо... — сказала Нюшка. — Живоглоты...
— А мы по-честному воевали, — засмеялся Ленька, — трое на трое...
Аграфена с девчатами навьючили розвальни сеном и к полудню доставили к конюшие.
О Горелове мать с дочерью не обмолвились ни словом.
Возвращаясь с конюшни домой, Нюша с Ленькой встретили при въезде в деревню подводу. По талой рыхлой дороге пегая лошадь тащила возок с резным передком.
Повод развязался, вожжи волочились по грязному снегу; лошадь то и дело замедляла шаг, вытягивала шею и мягкими губами подбирала с обочины дороги редкие сенины.
«А ведь это Пегая с нашей конюшни... И возок наш, председательский, — узнала Нюшка. — А где же возница?»
Вместе с Ленькой она подбежала к подводе и заглянула в возок.
На соломе, лицом вверх, раскинув руки и приоткрыв рот, с сочным храпом спал Горелов. От него попахивало вином.
— Опять нализался, — плачущим голосом сказал Ленька и принялся трясти отчима за плечо.
Горелов замычал, зачмокал и, повернувшись на бок, продолжал храпеть.
Глаза у Нюшки потемнели, сузились. Ленька вопросительно смотрел на сестру — не побрызгать ли на пьяного холодней водой.
— Оставь его! — сказала Нюша и огляделась по сторонам.
У правления толпились колхозники, у колодца судачили женщины, посредине улицы, у большой лужи талой воды, мальчишки брызгались водой.
Нюша вдруг взяла Пегую под уздцы и потянула к луже. Завела лошадь по колено в воду, выпрягла из возка и, подобрав вожжи, повела ее к конюшне.
Горелов, пригреваемый солнцем, продолжал безмятежно спать в возке на соломе. Вскоре около лужи начали собираться колхозники. Узнав председательский выездной возок, они принялись гадать, как он мог сюда попасть.
Но потом, когда увидели в возке Горелова, все стало понятным. Раздался смех, веселые восклицания:
— Эге! Да ведь это наш старший конюх храпака задает!
— По медицине живет человек! Выпил, закусил, а теперь сон на свежем воздухе...
— Эй, Кузьмич, проснись! Полдничать время!
— Да его теперь набатом не разбудишь!
Кто-то из женщин побрызгал на храпящего конюха холодной водой. Горелов наконец открыл глаза, очумело выскочил из возка и оказался по колено в воде.
Смех на берегу стал еще громче.
Сконфуженно озираясь по сторонам, Горелов пересек лужу и направился к дому.
— Вот это старший конюх! — вновь раздались иронические замечания. — Дошел до ручки...
— И чего только правление терпит!
В сумерки, вернувшись домой, Нюшка сообщила отчиму, что его вызывают на заседание правления.
— Это еще зачем? — насторожился Горелов.
— Там узнаешь... Соскучились, видать, по тебе...
— Можно и показаться, коли соскучились, — ухмыльнулся Горелов, не спеша собрался и ушел.
Аграфена, втянув голову в плечи, сидела у печки.
Что ж это такое? — раздумывала она. Ввела в дом мужа, надеялась, что он станет ей опорой, помощником, кормильцем, а в доме ни складу ни ладу. Ребята сторонятся отчима, смотрят на него дичками, а Нюшка, так та вроде войну объявила Тихону.
— Что с ним будет, с Тишей-то? — тихо спросила Аграфена.
— Снимают его наконец с конюхов...
Аграфена пристально посмотрела на дочь.
— Так это ты постаралась... в лужу его завезла?
— Откуда ты знаешь?
— Бабы сказывали.
Нюша кивнула головой.
— Зачем это, дочка? — У матери на глазах показались слезы. — Как мы теперь жить-то будем?
— Да разве это жизнь! — вырвалось у Нюши. — Все на нас пальцем показывают. Ветлугины конюшню развалили... колхоз в убыток ввели... — Она села рядом с матерью, заглянула ей в глаза. — Берись ты за эту конюшню... Ты же совестливая, работящая, все можешь. Помнишь, как ты коней отстаивала, когда мужики хотели их по домам развести. Целую осаду выдержала. Ты и сейчас вроде как старший конюх. Вот пусть тебя правление по всей форме и назначит...
— Окстись, Нюшка, чего ты болтаешь! Женское ли это дело за лошадьми ходить?
— Твое это дело, твое. Я так и сказала на правлении: «Назначайте маму старшим конюхом... Она согласная». А мы тебе помогать будем... Всей ячейкой.
В избу вошла запыхавшаяся Дарья Карпухина:
— Аграфена! Тебя в правление кличут.
Аграфена растерянно посмотрела на дочь.
— Иди, мама, зовут же... — просительно сказала Нюша.
Аграфена помялась, вздохнула раз-другой, покосилась на дочь, потом накинула полушубок и отправилась вслед за Карпухиной в правление.
А минут через сорок, с грохотом опрокинув что-то в сенях, в избу ввалился Горелов. Под руку его поддерживала Матрена Осьмухина:
— Входи, братец, входи. Через порожек не оступись, высоконько тут...
— Уже оступился... брякнулся. — Горелов тяжело присел у стола и, размахивая рукой, принялся пьяно декламировать: — Лежу повержен в прах, растоптан, уничтожен... — Он заметил выглянувшую из-за перегородки Нюшку. — А, дочка разлюбезная!.. Подсидела-таки отчима, дала зацепочку правленцам. Сняли меня с работы — радуйся и веселися.
— Давно бы пора, — буркнула Нюша. — Просись теперь в полевую бригаду — тебе это сподручнее будет.
— Нет уж, спасибочки! Я свое в колхозе отработал. Пропади оно пропадом, это болото. Теперь я вольный казак... — Горелов обернулся к Матрене: — Ты мне, сестрица, с работенкой помоги. По торговой части куда-нибудь или на склад. У тебя же в городе везде заручка есть.
— Ох, Тихон, опасаюсь! Губит тебя это самое... — Матрена выразительно щелкнула себя по горлу.
— Зарок даю, — нахмурился Горелов. — Крепиться буду.
— Ну, ну, — покровительственно улыбнулась Матрена. — Подумаем... что-нибудь и подыщем.
— Бежишь, значит, — насмешливо спросила Нюша. — Нашкодил — и в кусты. А мать как же?
Горелов вскинул голову:
— Что — мать? Куда иголка, туда и нитка. Сначала я в город подамся. Найду работенку. Зарплата пойдет. Будут щи, будет и приварок. А потом и мать с Ленькой да Клавкой ко мне переберутся.
— Болтай больше, — усмехнулась Нюша. — Никуда мать отсюда не уедет.
— Да кто она мне — жена или нет? — заартачился Горелов.
В сенях затопали, дверь распахнулась, и на пороге показалась Аграфена. За ней — Василий Силыч.
Нюша бросилась к матери.
— Поздравь ее, Нюша, — сказал председатель. — Назначили мы твою мамашу старшим конюхом. Надеемся на нее. И на твою с комсомольцами подмогу тоже рассчитываем. — И, обратившись к Горелову, он предложил ему с завтрашнего же дня сдать конюшню Аграфене.
Пораженный Горелов поднялся из-за стола:
— Белены не объелась? Ты в уме, Груня?
Аграфена молча переглянулась с дочерью и, подойдя к Горелову ближе, твердо сказала ему:
— В трезвой, Тихон Кузьмич, и в ясной памяти. Раз уж насорил, надо кому-то и мусор выметать. Люди-то с Ветлугиных спросят...
ОЖИДАНИЕ
Работу на конюшне мать с дочерью начали с большой уборки, словно они въехали в старый запущенный дом.
Нюша собрала комсомольцев на субботник и с их помощью три дня выгребала из стойл навоз и вывозила его на поля. Потом пришлось чинить кормушки, сажать на петли незакрывающиеся ворота, разбирать хлам, что скопился около конюшни.
Нюша хоть и вспоминала свою прежнюю должность рассыльной при правлении, но не в ее привычках было тяготиться и скучать по старому. Да и новая работа пришлась ей по душе.
Вскоре Нюша уже знала клички всех лошадей, знала их особенности, повадки, причуды; одна лошадь привередлива к еде, другая — солодча и неприхотлива, третья — постоянно скалит зубы, к четвертой — не подходи сзади, может ударить копытом.
Вместе с дочерью Аграфена завела на конюшне строгие правила. Лошадей отпускали колхозникам только по нарядам председателя или бригадиров и совсем не так, как при Горелове: бери запрягай какая приглянется. Новые конюхи дотошно расспрашивали, куда колхозник едет, на какое время, какой груз везет, и только после этого решали, какую лошадь запрячь в подводу. Легкую на ногу Лиску можно направить в город, медлительного широкозадого Чернеца лучше всего использовать на вывозке бревен из рощи.
— Кумекайте, женский персонал, — посмеивались колхозники, когда Аграфена с дочерью начинали обсуждать качества лошадей. — А мы пока перекурим да вздремнем.
А еще новые конюхи взяли в привычку проверять упряжь.
— Куда у тебя дуга завалилась? — кричала Нюша на ездового. — Почему шлею под хвост не заправил? А седелка как лежит? Хочешь спину лошади сбить? — И она принималась заново перепрягать лошадь. — Ты колхозную марку не порть. Едешь мимо людей, так вроде на все пуговки застегивайся... А то еще скажут, кольцовские лошадей запрягать не умеют.
Вечером, принимая подводы, Нюша пристально осматривала каждую лошадь: не взмылена ли она, не хромает ли, не потерта ли спина.
На воротах конюшни Нюша даже повесила фанерную дощечку и на ней отмечала, кто из ездовых как относится к лошади. А потом эти фанерки передавались в правление колхоза.
— Ну и дошлый конюх эта Нюшка! Чистый тебе контролер-инспектор! — покачивали головой колхозники и старались так пройти «Нюшкин смотр», чтобы не попасть на фанерную дощечку.
Но и сами они становились требовательнее.
— А упряжь какая? А хомуты? — наступали колхозники на конюхов. — Гниль, старье... Все лезет и расползается. Какой с нас может быть спрос!
Аграфена тяжело вздыхала. Это верно — упряжь у них незавидная. Пришлось ей с дочерью раздобыть сыромятной кожи, войлока и сесть за ремонт сбруи. Но дело это оказалось непростым. Нюша узнала, что Митя Горелов когда-то работал учеником у шорника и упросила его помочь им.
— Тоже мне поручение — гнилую упряжь чинить, — фыркнул Митя, придя на другой день вместе с Уклейкиным на конюшню. — Ты бы лучше у мужиков в сараях пошарила: хорошую упряжь они попрятали, а в артель всякую заваль сбыли.
— Теперь шарить поздно, — заметила Нюша, выкладывая перед парнями перекошенные хомуты, рваные шлеи, чересседельники, уздечки.
Митя небрежно попинал их ногой, сплюнул, потом уселся на солнцепеке и принялся острым ножом нарезать из сыромятной кожи тонкие ремешки.
— Давай, Сема, работнем! — И он обратился к Нюше: — Уж только ради тебя с матерью... Ловко вы папашу моего разделали... Поделом ему.
Нюша с жалостью посмотрела на парня. С отцом он давно уже не знался — не мог простить ему ни пьянства, ни беспутной жизни, ни того, что Тихон спровадил его младшего братишку Серегу в детский дом.
После перехода Горелова к Ветлугиным Митя остался жить один в пустой, запущенной избе, сам готовил себе пищу, сам стирал белье.
В колхозе он работал где придется — то пас скот, то плотничал, то ходил в извоз.
— Да, Митя, — вспомнила Нюшка, — кузнецу помощник требуется. Пойдешь к нему на выручку? Там сейчас полно работы. А то ходишь в колхозе как неприкаянный. Ты подумай...
— А мы уж подумали, — ответил за Митю Уклейкин. — Сматываемся из деревни...
— Уходите? — удивилась Нюша. — Куда это?
— В эм-тэ-эс, — старательно выговорил Уклейкин. — Слыхала про такое? Будем на трактористов учиться.
— Митя, это правда?
— Как слышишь... А чего нам, малярам. Не посылает правление на курсы — сами к машине пробьемся!..
Нюша уставилась на парней. Что ж это такое? То девчата чуть не ушли из деревни, теперь Митька с приятелем навострили лыжи.
— Да вы что, хлопцы? Все в бок да в сторону. А кто же в артели будет?... Землю пахать, за лошадьми вот смотреть...
— А что мне артель? — усмехнулся Митя, ловко проколов шилом концы порванного чересседельника и продев в отверстие сыромятный ремешок. — Перекидывают тут с одной работы на другую, как мячик... Ни дела, ни чести. То ли дело в эмтээс: сяду на трактор, стану рабочим человеком. Пришлют меня, скажем, в Кольцовку на машине землю пахать, и никто мне здесь не указчик. Сам вспашу, сам посею — машина-то в моих руках.
— Мужики еще нам в ножки поклонятся, — подхватил Уклейкин. — Постарайтесь, мол, ребята, вспашите поглубже да посейте вовремя. И все от нас будет зависеть.
— Вон вы куда целите! — ахнула Нюша, почти с завистью оглядывая парней. — И везет же вам!
Сейчас почти в каждом районе возникали машинно-тракторные станции, людей охотно принимали на курсы трактористов, и парни словно с ума посходили. Они прощались со своими подружками и один за другим уходили из Кольцовки.
— Да, Нюша, — попросил Митя, — ты нам характеристику от ячейки выдай. Так, мол, и так — направляем ребят на курсы...
— Вы хотя бы обождали немного, может, у нас своя эмтээс будет. Здесь бы и поучились.
— Это еще когда будет, а нам ждать некогда, — решительно заявил Уклейкин. — Весна скоро. И ты нам бумагу не задерживай...
— Ладно, будет вам бумага, — вздохнув, согласилась Нюша.
Она понимала, что трактористы очень нужны колхозу, а все же ей было обидно. Почему это парням открыты все дороги, а девчата должны сидеть на одном месте, доить коров, кормить свиней или вот ухаживать за лошадьми?
ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ
Наконец-то от курсанта Ковшова пришло ответное письмо. Степа писал, что Нюша напрасно его утешает и так подробно доказывает ему пользу и значение агротехники. Он на нее совсем не сердится и даже рад, что попал на агротехнические курсы, где сейчас занимается с большим удовольствием.
А еще Степа сообщал, что в ближайшее время в Кольцовке будет создана своя машинно-тракторная станция и при ней откроются курсы трактористов. Он советовал Нюше не зевать и добиться от правления, чтобы на курсы направили побольше комсомольцев. «Думаю, что место на курсах найдется и девчатам, — писал Степа. — Надо вам только быть позубастее. Я уже купил для вас учебник по тракторному делу и сегодня высылаю почтой».
«Ага... не забыл все-таки нас», — обрадовалась Нюша.
В конце письма стояла подпись: «С комсомольско-товарищеским приветом. С. Ковшов».
Нюшка повертела письмо в руках, заглянула на оборотную сторону, пошарила в конверте — неужели Степа так ничего больше и не написал ей? Но конверт был пуст, а оборотная сторона письма чиста. И ей стало грустно.
«Сухарь, железяка, — подумала Нюша. — Слов ему жалко».
А насчет МТС Степа не ошибся.
Вскоре в Кольцовку приехали землеустроители из района. В стороне от деревни, за старыми завалившимися овинами, они отмерили участок земли для усадьбы МТС и остолбили его.
Потом из города пришли две грузовые машины с рабочими. Машины стали подвозить кирпич, бревна, а рабочие принялись строить помещение для конторы и мастерской.
Приезжие люди жили пока на квартирах у колхозников, а директор МТС со своими помощниками обосновался в правлении артели.
Не было только тракторов. Но они должны были прийти в самое ближайшее время своим ходом.
Как-то раз в полдень на конюшню прибежал Ленька и сообщил, что к Кольцовке приближаются тракторы.
— Уже? Так скоро? А сколько их? — спросила Нюша.
— Больше дюжины. Слышишь, как ревут?
Нюша закрыла ворота конюшни и вслед за братишкой побежала к околице деревни.
Колонна колесных тракторов с ровным басовитым гудением уже вступала в деревню. Крепкогрудые, маслянистые, покрашенные в защитный цвет машины неторопливо миновали хлипкий мостик через речку, без особых усилий поднялись на пригорок, попыхивая синим дымком, и тронулись вдоль улицы.
Клыкастые задние колеса оставляли на дороге глубокие следы, раскалывали темный заледеневший снег. От машины несло теплом, разогретым маслом.
Первые пять или шесть тракторов везли за собой автомобильные прицепы, нагруженные плугами, сеялками, дисковыми боронами, какими-то ящиками и тюками. Остальные машины тянули новенькие зеленые вагончики с окнами и дверьми.
Встречать тракторную колонну высыпала вся деревня.
Мальчишки бежали рядом с машинами, восторженно что-то вопили, хватались за крылья и умоляли трактористов прокатить их.
Девчата махали трактористам руками, парни провожали их ревнивыми взглядами и, наверное, завистливо думали о том, почему не они, а какие-то чужие люди ведут эти машины.
Пожилые колхозники стояли по сторонам дороги, покачивали головой, и Нюшка слышала, как они переговаривались:
— Да, ничего не скажешь — силушка! Таких чертоломов в борозде не остановишь, как конягу худоребрую...
— Ну, слава тебе!.. Теперь наша землица не запарует. Есть чем ее поднимать!
— Это еще не видно, как они в борозде себя покажут. Железяки все же мертвые, где им землю чуять.
— А трактористы зачем?.. Видал, как они за баранками сидят, словно влитые. Серьезные, похоже, ребята...
— А еще сказывают, после машины хлеб плохо родится и зерно керосином воняет.
— Это уж, кум, побаски с чужого голоса...
— Поживем — увидим!..
— А едут-то как! С жильем, с полным обзаведением. Должно, не в гости, не на постой собрались.
— Иначе и быть не может. Теперь уж прочно на земле осядут.
Нюшка не сводила глаз с тракторов. Так вот они, железные коняги!
С каким волнением встречала она первые машины на селе. Лет пять назад Никита Еремин приобрел в городе четырехконную молотилку. Ее установили в просторной риге, сделали привод, впрягли в него лошадей, и к осени, когда наступило время обмолачивать хлеб, в ереминской риге с пронзительным присвистом завыл молотильный барабан. Нюшка часами могла наблюдать, как таинственная пасть молотилки заглатывала сухие ломкие снопы, как с другой стороны машины веером вылетала измятая шелковистая солома и текло теплое бронзовое зерно. Управившись со своим урожаем, Никита Еремин охотно брался молотить хлеб другим односельчанам, отчисляя с каждого пуда обмолоченного зерна в свою пользу по пять фунтов.
«Хороша Маша, да не наша, — говорили мужики про ереминскую молотилку, — очень уж у нее хайло прожорливое!» И они предпочитали молотить хлеб по старинке — тяжелыми деревянными цепами.
Потом разбогатевший Илья Ковшов завел жатку-лобогрейку. В нее впрягали пару лошадей, и лобогрейка, мерно помахивая крыльями, словно огромная птица, с мягким стрекотанием двигалась по полю, низко, под корень, подрезала стебли ржи и собирала их в аккуратные снопы. Ковшов оказался не добрее Еремина — с сотни снопов он брал себе за услуги десять. Мужики и бабы с завистью посматривали на спорую машину и продолжали жать хлеб серпами.
«А теперь и машина посильнее, и Еремина с Ковшовым нету. Как-то оно пойдет все?» — думала Нюша.
Головную машину с красным флажком на радиаторе вел рослый парень лет двадцати. Небрежно держась одной рукой за руль трактора, другой он помахивал колхозникам и чуть ли не раскланивался, словно артист со сцены перед публикой после удачного выступления.
Заметив Нюшку, парень широко улыбнулся и, сорвав с головы кубанку, потряс ею в воздухе.
— Да ведь это Антошка Осьмухин... Сдобный, — сказала Нюша подбежавшим к ней Тане и Зойке. — Въезжает-то как! Прямо казак на коне...
Зойка толкнула подругу в бок:
— Смотри-ка, тебе особое внимание.
— Еще чего! А может, тебе, — фыркнула Нюша и помахала Антону рукой.
Свой парень, односельчанин, с которым она вместе бегала в школу, вместе вступала в комсомол — и вдруг уже тракторист! Будет теперь пахать землю в колхозе, сеять хлеб. Нет, тут было чему позавидовать!
Меся сапогами снег, девчата еле поспевали за машиной.
— Разве за ним угонишься! — с обидой сказала Нюша. — Хоть бы подвез чуток! — И она неожиданно выкрикнула: — Сдобный! Осьмуха! Прокати!
Таня сердито дернула подругу за рукав:
— Ну что ты, право... Какой он тебе Сдобный?..
Антон помотал головой, показал себе на уши, давая понять, что из-за рева моторов он ничего не слышит.
В свою очередь, принялась объясняться жестами и Нюша. Антон наконец понял, что́ от него хотят, остановил машину и, протянув руку, помог девчатам взобраться на площадку трактора. Затем с довольным видом он сел за руль и дал сильный газ.
Трактор затрясло, крылья забились мелкой дрожью, мотор угрожающе зарычал.
Нюша примостилась на железном крыле машины, Таня вцепилась в плечо Антона, Зойка пронзительно завизжала, правда больше по привычке, чем от страха.
Антон ничего не слышал. Он быстро оторвался от тракторной колонны, под смех колхозников прокатил девчат через всю деревню, потом развернулся и поехал обратно.
Искоса поглядывая на Антона, Нюша невольно отметила, как сильно он изменился. Это уже был не тот одутловатый, пухлощекий подросток с растерянным выражением лица, которого они в детстве звали Антошка Сдобный. За рулем сидел сильный, широкоплечий парень, с обветренным лицом, по-цыгански чернявый, с густыми, сросшимися на переносице бровями. Одет он был в кожаную куртку, на затылке залихватски сидела смушковая кубанка, на руки надеты перчатки с раструбами, какие Нюша видела у мотоциклистов.
«А это ему на пользу пошло, что он на стороне пожил, — подумала она. — Похорошел, приоделся».
Тракторная колонна миновала деревню, повернула к усадьбе МТС и остановилась у навеса.
Девчата попрыгали с трактора.
— Ну как, порастрясло малость? — со смехом спросил Антон, сходя с машины. — Ничего, привыкайте. Машина добрая. — Он по-хозяйски похлопал по горячему капоту. — Тридцать пять лошадиных сил. Своя, отечественная... Нашего тракторного завода.
Нюшке немедля захотелось расспросить Антона, сколько времени он учился, где работал, трудно ли водить машину.
Но не успела она и рта раскрыть, как к трактору подбежала Феня Осьмухина и бросилась к Антону:
— Братец приехал!
Потом подошли парни. Они шумно поздоровались с Антоном, поздравили с приездом и, окружив трактор, принялись его осматривать и ощупывать.
— Надолго к нам или только машину пригнал? — спросил Митя Горелов.
— Думаю, что надолго. Я ведь теперь в кадрах эмтээс. Буду вам хлеб добывать...
— А сумеешь?
— В совхозе не жаловались. Два сезона машину водил. Все марки тракторов знаю. И по ремонту работать пришлось.
Парни с уважением посмотрели на Антона.
— Выходит, утер ты нос своему батьке... — сказал Уклейкин. — Помнишь, он честил тебя — не крестьянин ты, отступник от земли.
Антон нахмурился:
— С батей у меня разговоры кончены.
Зойка Карпухина обошла Антона кругом, с неприкрытым любопытством оглядела его смушковую кубанку, перчатки с раструбами и даже потрогала пальцем скрипучую кожу на куртке.
— Это что? Спецодежда такая? — спросила она. — Всем трактористам выдают?
— Да нет, — ответил Антон. — Это я по случаю купил, на базаре. На свои кровные заработки.
— Какой ты ладный стал да пригожий, — умилилась Зойка. — И совсем на Сдобного не похож. Вот уж приглянешься кому. — И, подмигнув девчатам, она вполголоса запела: — «Мой миленок тракторист, кожаная курточка...»
— Да погоди ты, сорока! — перебил ее Митя. — Дай о деле поговорить.
В свою очередь, Антон принялся расспрашивать, что делают кольцовские парни и девчата, кто где учится, как живет комсомольская ячейка.
— Живем не помираем, — отозвался Уклейкин. — У нас теперь секретарь новый... — Он кивнул на Ветлугину.
— Ого! Растешь, значит! — улыбнулся Антон. — Поздравляю.
— Заголосовали вот... — призналась Нюша и вдруг вспомнила, что она закрыла конюшню на замок, а ключи унесла с собой. — Мне же коней принимать надо.
И она помчалась к конюшне. У ворот собрались колхозники с подводами и изрядно поругивали Нюшку:
— Что ей лошади! Так вот и будет бегать машины смотреть. Теперь они молодым слаще меда...
ДОМА
Фене надо было о многом порасспросить брата, и, когда девчата и парни разошлись, она осталась с Антоном около трактора.
— Давай я тебе помогу.
Антон открыл капот мотора и протянул сестре тряпку.
— Помогай, коли так. Эта скотина хоть и железная, а возни с ней тоже немало.
Протирая еще неостывший мотор, Феня настороженно поглядывала на брата.
— Что ж ты мне на последнее письмо-то не ответил? — наконец спросила она,
— Замотался, понимаешь... Машины принимали, то, се... Да что ты на меня так смотришь? Думаешь, пропал я без бати с мамашей? Как бы не так! — Антон с ухмылкой кивнул на трактор. — Видишь вот... конягу оседлал. Профессию освоил. Живу не тужу. И зарабатываю неплохо.
— Почему ж ты в деревню вернулся?
— А меня, понимаешь, как лучшего тракториста, в эмтээс направили... для укрепления кадров, — с важностью пояснил Антон. — Ну, а дома как? Отец по-прежнему сумасбродничает?
— Все как было, — пожаловалась Феня. — С ним хоть и под одной крышей не живи. На работу не ходит. С Тихоном Гореловым связался. Опять из колхоза собрался выписываться. Других за собой подбивает. И мать с ним заодно.
— Вот дуб стоеросовый! — выругался Антон. — Ничего его не берет, совсем задубел.
Скомкав в сердцах масленую тряпку, он невольно вспомнил сумасбродные выходки отца.
В свое время, когда кольцовские мужики собрались купить сообща локомобиль для паровой мельницы, отец Антона шумел больше всех, что локомобиль их разорит, пустит по миру. И к нему присоединилось немало крестьян, противников паровой мельницы.
Началась коллективизация, и Тимофей Осьмухин опять кричал больше всех, что артель — это чума для крестьян и она доведет людей до мора и глада.
Он горлопанил на всех сходках, повторял самые нелепые сплетни о колхозах, не давал говорить докладчикам и уполномоченным, и его не раз выводили с собрания под руки.
Антон сгорал от стыда за отца, пытался его утихомирить, пугал его тем, что за агитацию против колхозов его могут выслать из деревни, но Тимофей орал, что яйца курицу не учат, и хватался за ремень, чтобы проучить сына.
Антон был уже рослый, сильный парень, рукоприкладства не выносил, и в Кольцовке не раз наблюдали, как отец с сыном схватывались драться.
Потом отец все-таки вступил в колхоз, но первым делом он вырубил палисадник перед домом, выкорчевал сад, потом принялся резать скот. Ночью забил поросенка, полдюжины овец. Когда же очередь дошла до коровы и двух телок, Антон не выдержал и привел во двор председателя сельсовета и уполномоченного по коллективизации.
На Тимофея Осьмухина составили акт и дело передали в народный суд. Догадавшись, что это дело рук сына, отец проклял его и выгнал из дома. «Мне с доносчиком под одной крышей не ужиться. Пускай живет, как знает, хоть под забором валяется».
Антон понял, что мира с отцом не будет, забрал вещички, простился с матерью и сестрой Феней и ушел в совхоз, где вскоре стал трактористом.
— С отцом-то теперь замиришься или нет? — осторожно спросила Феня.
Антон задумался:
— Боюсь, опять у нас с папашей перепалка начнется. Дикий он какой-то! Понимать ничего не желает...
— А где ты теперь жить будешь?
— Без крыши не останусь. Я же теперь эмтээсовский... Должны общежитие дать, не то угол у кого сниму.
— Ой, Антоша, забрал бы ты и меня с собой... Муторно мне дома.
— Это дело! — согласился Антон. — Давай съедемся вместе. Проживем — зарабатываю я неплохо...
— Или так сделаем, — оживилась Феня. — Потребуем свою долю у отца с матерью, уйдем из дома. Свою избу построим...
К Антону и Фене подошел старший механик МТС Лощилин, высокий, сильный мужчина в треухе и в брезентовом дождевике поверх полушубка.
— Вот ты и дома, Осьмухин, — заговорил он. — И приятели тебя встречают... И девчата пригожие. — Лощилин покосился на статную, смуглую Феню.
— Это моя сестра, — сказал Антон. — Знакомьтесь Николай Сергеевич!
Лощилин протянул Фене цепкую промасленную руку:
— Очень приятно... Сразу видать, что осьмухинского рода... — И он опять обратился к Антону: — Ну что ж... Веди к себе домой. Знакомь с родителями.
Антон замялся:
— Вы же знаете, не в ладах мы с папашей...
— А ты, парень, не кочевряжься, — строго заметил Лощилин. — Отец есть отец, и надо его понять... Нечего тебе молодым петушком наскакивать на него. Вот сегодня же и навести родителей.
— Правда, Антон, приходи!.. Очень тебя мама ждет, — сказала Феня. — И вы приходите, — пригласила она Лощилина.
— Ладно... заглянем, — неохотно согласился Антон.
К вечеру, когда трактор был ухожен и поставлен под навес, Антон повел Лощилина к своим родителям.
Дом был тот же — приземистый, просторный, с потемневшими от времени стенами, но Антона сразу поразило непривычное запустение возле него. Палисадника с высокими заостренными кольями не было, сирень и рябины вырублены, в саду торчали пеньки.
Жалобно скрипели ступеньки крыльца, в сенях был навален хворост, дрова, мусор, в беспорядке громоздились пустые кадушки, ушаты, старые ведра, сверху свисали пропылившиеся березовые веники.
«Как в заезжем доме стало... мусорно, тоскливо», — подумал Антон.
Он нащупал в полутьме скобу тяжелой двери и на мгновение приостановился. Зачем все-таки он идет сюда? Как-то встретит его отец, о чем им говорить?
Но раздумывать уже было поздно, и Антон рывком распахнул дверь.
За столом пили чай отец, мать и Феня.
— Здравствуйте! — хрипловатым голосом поздоровался Антон, мельком оглядывая избу. Здесь было так же неуютно и неприбрано, как и снаружи.
Матрена бросилась навстречу сыну, обняла его за шею:
— Что ж ты так долго, Антоша?.. Ждали тебя, ждали... весь самовар выкипел.
— Дела, мама! — Он кивнул на Лощилина. — Знакомьтесь, вот... Николай Сергеевич из эмтээс... мой учитель.
— Присаживайтесь... гостем будете, — пригласил старший Осьмухин и покосился на Антона. — Вернулся-таки, блудный сын? — И он смахнул с лавки какое-то тряпье. — Ну садись, чадо, коли с покаянной пришел.
— Каяться мне не в чем, — вспыхнул было Антон, но, встретив умоляющие глаза Фени, замолчал и присел к краю стола.
Мать придвинула ему еду, налила чаю.
— Вы уж тут не цапайтесь с ним, — миролюбиво обратился Лощилин к Тимофею и принялся расхваливать Антона: парень молодец, с головой, выбрал отличную профессию, успешно закончил курсы и сейчас считается лучшим трактористом в МТС. — Не вам чета, Тимофей Никитич... За старое да рваное не цепляется... За главное держится. На стремнину выгребает. Понимает, как жить надо.
«И откуда ему известно, за что я цепляюсь», — с недоумением подумал старший Осьмухин.
— А отец, значит, олух царя небесного? — с досадой заговорил он. — Живет и ничего не смыслит... А я вот нутром чую— все равно завалится эта артель. Долго ли, коротко ли... Как овин старый. Уж лучше я загодя выпишусь да уеду куда-нибудь.
Лощилин раздумчиво покачал головой:
— А видали, какую из города технику в деревню двинули... машины, тракторы. Тут, пожалуй, любой Фома неверующий и рак-отшельник в артель потянется... А вы, Тимофей Никитич, вспять подались...
— Еще как вспять-то! — вступила в разговор Феня. — Это же прямо курам на смех... В Кольцовке только и разговору о папаше: четвертый раз из артели выписывается. Так мы всю зиму на узлах и сидим.
— А ты, свиристелка, помолчи! — оборвала ее мать. — Не прекословь отцу-то, побольше он тебя понимает.
— Понимает, да не совсем, — заметил Антон. — То мне жизнь портил, теперь — сестрице.
Феня переглянулась с братом — сейчас, пожалуй, самое время для откровенного разговора с отцом — и поднялась из-за стола.
— Вы, папаша, прямо нам скажите. Если уходите из колхоза, так других за собой не тяните.
— Кого это «других»? — настороженно спросил отец.
— Меня, скажем. Вот и Антон в деревню вернулся. И никуда мы с вами не поедем...
— Это верно, — поддержал сестру Антон. — Выделите нам с Феней долю в хозяйстве и живите как знаете. А мы в колхозе останемся...
Тимофей отодвинул чашку и уставился на сына с дочерью.
— Вот оно что! Вот ты зачем домой заявился!.. Раздела требуешь!..
Побагровев, он закричал о том, что не позволит разваливать хозяйство и пускать на ветер добро, которое наживал своим хребтом.
Казалось, назревал скандал, но в разговор вновь вмешался Лощилин:
— Опять вы шумите, Никитич... Долю свою они могут и по закону востребовать. А только зачем вам добро делить? Вы лучше умом пораскиньте да замиритесь с сыном. Парень он передовой, тракторист, заглавная фигура в деревне. Да и вам найдется красное место в артели.
— Какое такое красное место? — удивился Осьмухин.
— Ну, скажем, бригадиром вас могут поставить или завхозом. Человек вы с головой, грамотный, землю понимаете. Вот и будете с сынком первыми хозяевами в артели...
— Да зовут его давно в бригадиры, зовут, — вмешалась в разговор Феня. — А он упрямится, как невеста на выданье...
— Упрямство да обиды — плохие советчики, — продолжал Лощилин. — Только голову мутят. Вы, Тимофей Никитич, с сына пример берите.
Разговор затянулся. Старший Осьмухин больше не шумел, не скандалил, а, склонив голову, молчаливо слушал увещевания Лощилина.
— Ну, вот и миритесь на здоровье, — предложил механик Тимофею и Антону. — И делить вам ничего не потребуется.
— И впрямь, Антон, живи ты с нами, — обратилась к сыну Матрена.
Антон помялся, покосился на отца, на мать и, словив на себе взгляд Лощилина, невнятно буркнул:
— А мне где ни жить...
— Может, и вы у нас поселитесь, — пригласила Лощилина Матрена. — Я вам и сварю и постираю.
— Спасибо, — поблагодарил механик. — Я думаю к Ширяеву на квартиру устроиться. У него, говорят, попросторнее...
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
В тот же вечер Антон проводил Лощилина к Ширяевым.
В просторной, хорошо протопленной горнице было чисто, уютно. Пол застелен тряпичными половичками, на подоконниках — горшки с геранью, на стене в рамках под стеклом фотографии членов семьи, вырезанный из журнала портрет Карла Маркса и пожухлые от времени агрономические плакаты.
Нацепив на нос очки в железной оправе, хозяин дома, Павел Трофимович Ширяев, сидел за столом и читал газету. Его дочь, Любка, склонившись над ящиком детекторного приемника и прижав к ушам черные наушники, слушала радио.
— Видали, квартирка какая, — шепнул Лощилину Антон. — Прямо-таки изба-читальня, культурный очаг... — И он довольно развязно обратился к Ширяеву: — Павлу Трофимовичу, наше вам... Говорят, комнату сдаете... Я вам хорошего жильца привел.
Павел Трофимович отложил газету и поверх очков покосился на механика.
Из-за перегородки показалась жена Ширяева Елизавета, сутулая, прежде времени увядшая женщина.
— И так тесно у нас, — сухо сказала она.
— Да вы посмотрите, жилец-то какой! — принялся расхваливать Антон. — Старший механик в эмтээс... Можно сказать, правая рука директора... всем машинам начальство. Премного довольны будете!
— Может, Павел Трофимыч, и впрямь пустите, — обратился Лощилин к Ширяеву. — Хотя бы на время. Я человек одинокий, спокойный... Не обременю. Да и за ценой не постою.
— Сказано же вам — не пускаем жильцов... — повторила Елизавета.
— Погоди, мать, — перебил ее Павел Трофимович, пристально оглядывая Лощилина. — А может, все-таки уважим человека... Пустим его в пристройку.
— Там же у нас Любовь ночует.
— Она сюда перейдет, в горницу. Ты как, Люба?
— Могу и в горницу, — согласилась дочь.
— Ну, вот и ладно, — поднялся Павел Трофимович и, не обращая внимания на жену, пригласил Лощилина осмотреть пристройку.
Через сени они прошли в маленькую бревенчатую комнатушку с одним окном.
Беглым взглядом окинув помещение, Лощилин заявил, что комната ему подходит, и спросил о цене.
— Ну вот и рядитесь, — сказал Антон. — А я пойду...
Плотно закрыв за Антоном дверь, Лощилин выдержал небольшую паузу, потом подошел к Ширяеву и протянул ему руку.
— Ну что ж, Павел Трофимыч, будем знакомы... Теперь уж как следует, прочно и надолго. — И, заметив настороженный взгляд Ширяева, усмехнулся: — Да вы не опасайтесь. Я и есть тот самый жилец, кого вы ожидали.
— Путаете вы чего-то, товарищ механик, — строго отозвался Ширяев. — Никого я не ожидал. Просто вхожу в ваше бесквартирное положение.
— Эге! А вы стреляный, видать, воробей. На мякине не проведешь. А я ведь вам привет привез.
— Это от кого же?
— От Силаева, Петра Никитича. Знаете такого?
— Встречались... доводилось!
— Ишь ты, «доводилось»! — ухмыльнулся Лощилин. — А он вам, кстати сказать, письмецо прислал.
Механик достал перочинный ножик, вспорол подкладку пиджака и извлек бумажный конверт:
— Полюбопытствуйте!
Павел Трофимович неторопливо нацепил на нос очки и, вскрыв конверт, принялся читать письмо.
Оно действительно было от заведующего райзо Силаева. Бывший земский агроном, с которым Ширяева связывала давняя дружба, писал, что в Кольцовку в качестве старшего механика МТС едет Николай Сергеевич Лощилин и его надо устроить на квартиру. «Человек он надежный, — писал Силаев, — и ему можно вполне довериться».
— Прочли? — спросил Лощилин. — Уразумели что-нибудь?
— Теперь другое дело, — облегченно передохнул Ширяев. — Меня Силаев давно предупреждал о вашем приезде. Ждал я вас.
— Ну, то-то же. — Лощилин взял из рук Ширяева письмо. — А писульку-то лучше похерить. — Он порвал письмо на мелкие клочки и, открыв дверцу печки-подтопка, бросил их на тлеющие угли.
Павел Трофимович пригласил Лощилина поужинать.
— Спасибо... Уже заправился у Осьмухиных. Но если, конечно, горячительное найдется — не откажусь ради встречи.
— Так милости просим в горницу.
— Нет, нет. Лучше здесь. Нам ведь и поговорить надо. С глазу на глаз.
Павел Трофимович принес бутылку мутноватой самогонки, закуску и два граненых стакана.
Выпив залпом стакан, Лощилин поморщился, понюхал корочку хлеба и в упор посмотрел на Ширяева:
— Ну-с, докладывайте, какие дела в Кольцовке?
Павел Трофимович ответил не сразу. Похвалиться ему особенно нечем, но кое-что он все же делает. Вот уже третий месяц, как его избрали членом правления артели и назначили бригадиром полеводческой бригады.
Председатель колхоза относится к нему с доверием, прислушивается к его советам, да и колхозники считаются с его мнением.
— Место вы заняли неплохое, это бесспорно, — заметил Лощилин, — а Силаев все же недоволен вами... Мало полезной отдачи от вашего положения. Что у вас с выходом из артели получилось?
Павел Трофимович отвел глаза в сторону:
— Вначале дело неплохо шло. Семей двенадцать пожелали выписаться. А потом сорвалось... отговорили их краснобаи.
— А с конюшней?
— Тоже удачно началось. В прошлом году сенокос так завалили, что коней на зиму почти без кормов оставили... Довели их до того, что хоть на веревках подвешивай. Да вот, на беду, этого губошлепа, старшего конюха Горелова, с поста сместили. И все через это самое... — Ширяев кивнул на бутылку с самогонкой.
— Значит, плохо людей в руках держите, — с досадой перебил его Лощилин. — Пригрелись вы на теплом местечке. Тишь у вас тут, гладь, божья благодать. Того гляди, и совсем в артельную веру переметнетесь.
— Это уж вы оставьте! — зло тряхнул головой Ширяев и, поднявшись из-за стола, заходил по комнате.
Вспомнилась ему доколхозная жизнь, ухоженные полосы земли в поле, сытые лошади и коровы, двое батраков, живших у него круглый год под видом родственников.
В тридцатом году над Ширяевым нависла угроза раскулачивания. Павел Трофимович бросился к районному начальству, отыскал своего давнего приятеля Силаева, заручился бумажками, что он является культурным крестьянином, поборником передовой агротехники, и угроза раскулачивания его не коснулась.
Ширяев со своей семьей и хозяйством вошел в артель, заделался примерным колхозником, затаился, затих, но в душе продолжал верить, что былая жизнь вновь еще вернется.
— У меня через этот колхоз вся жизнь покореженная, — признался Павел Трофимович. — Тяжко мне... с души воротит. Чужое все здесь, постылое. Да еще всякая голь перекатная мною помыкает. Так бы все и пустил в тартарары... — Он замолчал, потом с мрачным видом обернулся к Лощилину: — Сказывайте, с чем приехали-то?
— Вот это деловой вопрос... Слушайте тогда. — Лощилин сделал знак Ширяеву, чтобы тот сел к столу и, покосившись на дверь и окно, вполголоса заговорил: — Стране нужен хлеб. Коммунисты возлагают все надежды на колхозы и совхозы, на механизацию сельского хозяйства, на тракторный парк. По всей стране создаются машинно-тракторные станции. Вот и в Кольцовке появились машины. Скоро весна, сев. Эта весна должна быть особенной, можно сказать, решающей. Сейчас надо действовать так, чтобы молодая кольцовская эмтээс работала из рук вон плохо, чтобы земля после машинной обработки заросла бурьяном и лебедой, чтобы люди возненавидели тракторы, увидели в них причину всех артельных бед и неудач. Тогда уж никакая сила не удержит их в колхозе.
— Да-а, это сильно задумано, — удовлетворенно протянул Ширяев. — Есть ради чего постараться. Неужто Силаев все обмозговал?
— Что там Силаев, — снисходительно усмехнулся Лощилин. — Поднимай выше. Теперь наши люди в каждом колхозе орудуют, в каждом районе, по всей стране. Вот и нам надо надежными людьми обрастать. — И он спросил, много ли в Кольцовке наберется колхозников, на которых можно во всем положиться.
— Есть, конечно, народишко, — подумав, ответил Ширяев, припоминая Горелова, Осьмухиных мужа с женой, счетовода Овсюкова и еще несколько человек.
— Вот и надо их к делу ставить, к прави́лу выдвигать.
— Как это — к прави́лу?
— А так... Проталкивать в бригадиры, в кладовщики, в трактористы. Чтоб зерном распоряжались, горючим, машинами, чтобы тон задавали в артели. Такие люди нам очень пригодятся...
— Трудненько это, Николай Сергеевич, — заметил Ширяев. — Вот тракторы, к примеру. Кто к ним ринется в первую очередь? Молодежь, комсомол. Лавиной попрут, ничем не остановить.
— Ничего... попридержим. Это в наших силах. Кстати сказать, я таких трактористов в эмтээс подобрал — все, что надо, сделают, только поверни их умеючи. Теперь понимаете, зачем я в Кольцовку приехал? Весна нам предстоит горячая... — закончил Лощилин, выливая себе в стакан остатки самогонки.
— Как не понять, — отозвался Ширяев и покачал головой. — Вы бы, Николай Сергеевич, не злоупотребляли этим самым...
— За меня будьте спокойны. Головы не потеряю... А когда нужно, и рука не дрогнет. — Лощилин опорожнил стакан и, с силой сжав шершавые промасленные пальцы в кулаки, придвинулся к Ширяеву. — Действовать будем заодно. Связь с Силаевым поддерживать только через меня. Все указания выполнять беспрекословно.
Павел Трофимович опасливо посмотрел на жилистого, большерукого механика. Такой, наверное, ни перед чем не остановится.
— Сами-то откуда будете? — осторожно спросил Ширяев. — с городу или из деревни? Чем же вас-то допекли наши правители?
— Свою автобиографию я вам докладывать не буду... ни к чему это, — помрачнев, ответил Лощилин. — Но главное скажу... Допекли меня почище вашего. Всю жизнь порушили... В грязь втоптали. И здесь так печет, — он скомкал на груди рубаху, — вам того и не снилось.
Лощилин резко поднялся и зашагал по тесной комнате. Потом остановился у темного окна и, приподняв занавеску, осведомился, куда выходит окно — на улицу или в переулок.
Ширяев ответил, что в глухой переулок, где летом растет одна крапива и никто не ходит.
— А зачем вам это?
— Так, на всякий случай, — отозвался Лощилин и, опустив занавеску, сказал, что он хочет спать.
ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД
На другой же день тракторы из МТС приступили к работе. Они возили бревна из рощи, песок из карьера, кирпич с соседнего завода.
В обычные деревенские звуки и шумы теперь настойчиво и часто врывался то рев мотора, то его мерное татаканье, то оглушительная стрельба из выхлопной трубы.
За тракторами неотступно следовали люди. Ребятишки убегали с уроков, и учителя, наказав беглецов, записывали потом в классном журнале: «Бегал смотреть трактор». Мужики вместо перекура и болтовни на бревнах собирались обычно у МТС и, окружив машины, подолгу занимали трактористов дотошными вопросами.
Даже женщины, улучив свободную минутку, оставляли домашнее хозяйство и выбегали на улицу. Они ахали, удивлялись, а дома в это время выкипали в печках щи, надрывались от плача малые дети и ругались мужья.
Трактористы из МТС стали первыми людьми в деревне. Их охотно принимали на квартиры, кормили на особинку, переманивали друг от друга. На них заглядывались девчата, наперебой зазывали на вечерки, мальчишки безотказно бегали для трактористов в лавку сельпо за папиросами.
Но, пожалуй, более других приход трактористов взбудоражил Нюшку Ветлугину. В ушах у нее стоял неумолчный гул моторов, словно она целый день простояла у барабана молотилки.
Ночью, когда Нюша лежала на печке рядом с братишкой, ей отчетливо виделась колонна зеленых машин, въезжающих в Кольцовку, виделись колеса со светлыми шипами, полукружья крыльев, радиаторы, похожие на пчелиные соты. Так бывало с Нюшкой в грибную пору. Находится она за день по лесу, а ночью, лежа в постели, никак не может заснуть, и перед глазами все время встают то темно-красные подосиновики, то огненные лисички, то цветные, как обмылышки мыла, сыроежки, а чаще всего белые толстокоренные грибы самых разных размеров: от крошечных, как желуди, малюток, только еще пропарывающих землю, до высоких «стариков» в набекрень сидящих огромных шляпах с желтой подпушкой. И все это представляется ясно, до мелочей, как наяву, при солнце: улитка присосалась к ножке гриба, острая травинка врезалась в шляпку или прилип пожухлый листок.
— Нюш, а Нюш! — шептал Ленька — он тоже почему-то не спал. — А ты знаешь, не все тракторы пришли. Скоро еще партию пригонят.
— Знаю, знаю... Ты спи, Ленька!
— Я сплю, — соглашался братишка, а через минуту снова подавал голос. — А мы летом прицепщиками на тракторах, будем работать...
— Кто это «мы»?
— Ну, ребята с нашего конца.
Нюшка молчала, делая вид, что спит, хотя сна не было ни в одном глазу.
Ее терзала досада. В деревне только и разговоров, что о прибывших тракторах, парни записываются на курсы при МТС и даже мальчишки лезут в прицепщики, а она по-прежнему командует «одиночными лошадиными силами на четырех ногах», как говорит Семка Уклейкин. И никто не хочет вспомнить, что Нюшка кое-что понимает в машине и даже когда-то водила школьный трактор.
Почти каждый день она оставляла конюшню и бежала к МТС, где обычно около тракторов толпились парни.
Вот и сегодня, сказав матери, что отлучится всего лишь на минутку, Нюша направилась в деревню.
Посреди улицы медленно двигался трактор, волоча за собой связанные цепями длинные, еще не ошкуренные бревна. Машину вел Антон Осьмухин. В этот раз он постарался и прицепил столько бревен, что их впору было увезти десятку лошадей.
За трактором шли колхозники. Впереди всех шагал дед Анисим с непокрытой головой и, весь подавшись вперед, напряженно вслушивался в сиплый вой мотора.
Нюша заметила в толпе подруг и, подойдя к ним, спросила, ради чего собралось так много людей.
Таня объяснила, что мужики затеяли с Антоном спор о мощности трактора. Антон сказал, что трактор увезет половину штабеля бревен, что были свалены около моста, а мужики уверяли, что машина надорвется. В спор втянулся даже сам Василий Силыч, а Игнат Хорьков поставил в заклад весь свой урожай табака с приусадебного участка.
Натужно пыхтя, трактор с бревнами наконец одолел взгорок, вошел в деревню и остановился перед домом Осьмухиных.
Антон вытер взмокший лоб и спрыгнул с трактора.
— А ну, тугодумы, уверовали теперь? — со смехом обернулся он к мужикам. — Раскошеливайся, плати проигрыш.
Дед Анисим несколько раз обошел трактор, заглянул под низ, пощупал горячие бока мотора и принялся придирчиво расспрашивать Антона, послушна ли машина, как много сжирает горючего, часто ли останавливается да ломается.
— Да что ты, дед, — засмеялся Антон. — Уж не на курсы ли трактористов собрался? Как раз тебе по годам... молодой, резвый, кудрявый.
Анисим не обратил внимания на зубоскальство Антона и обернулся к парням и девчатам:
— А трактор, видать, всем машинам машина... Надежная, могутная... Ежели к нему человека с умом да с добрыми руками приставить — дело пойдет наверняка.
Оставив трактор под окном, Антон отправился домой обедать.
К Нюше подошли Митя Горелов и Семка Уклейкин.
— Видала? — возбужденно заговорил Митя. — Вот она, техника-то, рядом, в своем колхозе. Нам теперь и уходить никуда не надо. — И он сообщил, что они с Семкой уже подали заявление на курсы трактористов.
— Вот таким манером, — подтвердил Уклейкин. — И прощай кони-лошади... Ты нам только характеристику поскорее приготовь. Да распиши там похлеще, чтобы нас в первую очередь на курсы зачислили! Не парни, мол, орлы, соколы! Как родились, сразу на трактор сгодились.
— Только вы о себе и печетесь, — с досадой сказала Нюша. — А другие, думаете, и на курсы не желают?
— А кто это «другие»? — спросил Уклейкин.
— Парни, конечно. Ну, и девчата есть... Надо нам на курсы побольше комсомольцев послать.
— Это уж ты оставь, — махнул рукой Митя. — Вашей сестре там делать нечего.
— Это почему же?
— Ты, Ветлугина, и так при месте: командир на конюшне, — засмеялся Уклейкин. — Там тоже лошадиные силы...
Нюша нахмурилась.
Опять начинается этот старый, извечный разговор, смешки да шуточки: нельзя, не девичье дело, знай свой шесток... Вроде не старики эти парни, а в голове у них тоже не мало всякой трухи и завали.
— Вы, значит, орлы, соколы, трактористы с пеленок, а мы так себе, пустое место... — язвительно заговорила Нюша.
— Нет, вы слыхали? — развел руками Уклейкин, обращаясь к парням. — На трактор захотели... Это девки-то!..
— А что — девки? Что — девки? — обиделась Феня. — Кто в жнитво вас обтяпал? А на копке картошки? Уж помалкивали бы в тряпочку, тихоходы завзятые.
— Так то ж бабье дело... — не сдавался Уклейкин. — А тут трактор, техника. Сила нужна, смекалка! Одну турбурацию раскусить чего стоит...
— Карбюрацию, а не турбурацию, — поправила Нюша.
— Или там мотор завести... зараз надорветесь.
Парни захохотали. Девчата покраснели и подались назад.
— Куда вы, стойте! — задержала их Нюшка и обратилась к парням: — Хвастуны вы! А сами в тракторе ни уха ни рыла... Ну кто из вас мотор заведет?
Парни замялись.
— Ни к чему это пока... все в свое время, — рассудительно сказал Уклейкин.
— Скажите прямо — гайка слаба, — бросила Нюша. Ее разбирала злость и досада. — Вот глядите, как надо!
Поплевав на ладони, она подошла к трактору и взялась за заводную ручку.
Таня схватила подругу за рукав:
— Что ты!.. Чужая ж машина... нельзя! Но Нюшу было уже не удержать.
Покраснев от натуги, она раз, другой повернула заводную ручку, и неостывший мотор заработал.
— Тоже мне турбурация... — кинула она Уклейкину.
Села на железное пружинящее сиденье и оглядела рычаги управления. Нет, кажется, все так же, как и у «Путиловца»! Нюша включила первую скорость, выжала сцепление, прибавила газ. Мотор взревел, машину неистово залихорадило, и она рывком тронулась с места.
«Газую чересчур, все перезабыла», — спохватилась Нюша, сбавляя подачу газа.
Мотор заработал ровнее. Нюша вырулила машину на дорогу и, судорожно вцепившись руками в железную баранку, повела трактор вдоль Кольцовки.
Парни переглянулись, пожали плечами, а девчата, не скрывая довольных улыбок, замахали подруге руками и побежали вслед за трактором.
Зойка даже уселась на волочащиеся за машиной бревна и показала Уклейкину «нос». Только Таня не могла успокоиться.
— Нюша, стой! Куда ты? Не надо! — кричала она. Нюша и сама понимала, что парни достаточно посрамлены и пора бы остановить машину, но в то же время неудержимо хотелось провести ее вдоль улицы.
«Еще чуточку проеду, — думала она. — Вон до той избы.. Еще немножко!»
Проплывала мимо одна изба, другая, третья, а трактор все шел и шел, волоча за собой связанные цепью бревна.
Показался конец деревни и наезженный поворот к МТС. И вновь Нюша решила остановиться, но потом сообразила, что нельзя загораживать трактором дорогу, и свернула к МТС.
Но свернула довольно круто, не рассчитав угла поворота, и длинные бревна с треском опрокинули хлипкую изгородь палисадника, помяли кусты сирени и, зацепив угол старой избы, обломали концы нижних венцов.
Девчата испуганно закричали, и Нюша, резко затормозив, остановила трактор.
Из избы выскочила простоволосая Дарья Карпухина.
С тех пор как мимо ее дома наторили дорогу к МТС, Карпухиным не стало покоя ни днем ни ночью. От тракторов дрожал весь дом, звенели стекла в рамах, по ночам свет фар будил ребятишек.
Увидев сейчас опрокинутую изгородь, помятые кусты, обломанный угол избы, а на тракторе Нюшку Ветлугину, Дарья на мгновение потеряла даже дар речи. Потом выломила жердь из изгороди и бросилась на самозванную трактористку:
— Держись, окаянная девка! Как сноп тебя обмолочу!.. Девчата схватили рассвирепевшую Дарью за руки и принялись умолять ее не гневаться на Нюшку.
— Антон идет! — вдруг сообщила Таня. — Ой, что-то будет! Нюшка, убегай...
Прикусив губу, Нюша поглядела вдоль дороги, но с трактора не сошла.
Сопровождаемый парнями, Антон, запыхавшись, подбежал к трактору. Узнав, что машину увела Нюшка Ветлугина, он развел руками:
— Ты?! Ты умеешь водить трактор?..
— Вспомнила... Вот только разворот не получился... бревна очень длинные... — смущенно призналась Нюша, спрыгивая с трактора.
Парни осматривали развороченный угол избы и прикидывали, в какую копеечку влетит теперь Нюшке ремонт дома и палисадника.
— Вот это завела трактор! — посмеивались они.
— Так дело пойдет — всю деревню порушить можно!
— Прощай заборы и палисадники!
— Ну и ладно! — вспыхнула Нюша и с вызовом посмотрела на парней. — А все равно мы свое докажем.. Будем тракторы водить! Будем! И вы не очень-то задавайтесь!..
— Куда нам!.. — хихикнул Уклейкин. — Женщинам дорогу, мужчинам тротуар!..
— А вот увидите... Пойдем в эмтээс, на курсы и запишемся. Еще как примут-то! Ручаюсь! Правда, Антон?
— Чего ж... могут и принять! — поддержал Антон, любуясь девушкой. Он вдруг сбил на затылок кубанку и строго прикрикнул на Дарью, которая все еще рвалась к Нюшке: — Ша, тетя! Хватит надрываться! Не видишь, учится дивчина... Практику проходит... А избу мы тебе починим... и изгородь поправим. Так, что ли, девчата?
Подруги Нюши согласно закивали.
НЕ ПОЛОЖЕНО
В этот день в Кольцовке только и было разговоров о том, как Нюшка Ветлугина самовольно увела эмтээсовский трактор, развалила у Дарьи Карпухиной палисадник и повредила избу.
Дома, за ужином, Горелов с ухмылкой сообщил Аграфене:
— Нюшка-то наша опять номера откалывает...
Покачав головой, Аграфена посмотрела на дочь:
— Зачем ты на машину-то полезла?
— Я, мама, на курсы пойду... трактористкой хочу быть.
— Трактористкой?! — ахнула Аграфена. — Да ты в уме, девка? Разве тебе за парнями угнаться?
— Ну что я поделаю, если мне учиться охота...
— Так учись, доченька! Учись! — подхватила мать. — Последнее отдам, ничего не пожалею. Хочешь, на докторшу пробивайся, хочешь — на учительницу...
— А меня вот к трактору тянет...
Аграфена с надеждой посмотрела на Горелова:
— Тихон, да скажи ты ей...
— Ну, ну, пусть скажет, — фыркнула Нюшка. — Он у нас тертый калач.
После отстранения от должности старшего конюха Горелов не раз ездил в город подыскивать работу, но ничего подходящего не находилось. Все чаще и чаще колхозники замечали его в чайных и закусочных в компании каких-то подозрительных собутыльников. И только неделю тому назад по рекомендации Ширяева Лощилин устроил Горелова работать в МТС кладовщиком на склад горючего. Тихона стали звать «главкеросинщиком», он ходил с важным деловым видом, каждый день являлся на работу, и это хоть как-то примирило с ним Аграфену.
— Что ж ей сказать? — заговорил Горелов. — Я вот каждый день в эмтээс тракторы вижу. Машины хитроумные, норовистые, кнутом их не погонишь. Начнут они в поле номера выкидывать, тут не то что девка — парень с головой на побегушках у машины будет.
— А я вот так хочу научиться, чтобы машина слушалась меня, чтобы ласковая была, добрая...
— Да где это видано, чтобы девка за машину садилась? — взмолилась Аграфена. — И не выдумывай, Нюшка, людей не смеши...
Разговор за ужином ни к чему не привел, и Нюша осталась при своем мнении.
В этот же вечер она собрала комсомольское собрание и сказала, что никакого доклада не будет, просто они поговорят о тракторных курсах и МТС. Попросила рассказать о тракторе Антона Осьмухина. Тот увлекся, проговорил минут сорок. Потом, как и полагалось, стали сочинять резолюцию. Кто-то внес предложение «принять трактор к сведению и руководству и считать комсомольцев мобилизованными на тракторный фронт».
— Как парням, так и девчатам, — добавила Нюшка и тут же открыла запись желающих поступить на курсы трактористов.
Записалось семь парней, а из девчат — Нюша, Таня, Зойка и Феня.
Через день Нюша решила пойти с подругами в МТС. Она проснулась чуть свет, достала из сундука новый шелковый полушалок, надела летние, кобеднешние туфли с галошами — это и были все ее обновки. Затем Нюша с грустью осмотрела свой видавший виды, заношенный, лоснящийся, точно натертый воском, кожушок — нет, в такой одежде идти, пожалуй, неудобно.
Она выглянула за дверь и, убедившись, что матери нет ни в сенях, ни на дворе, достала из чулана ее праздничную тонкого старинного сукна шубу и, быстро одевшись, выскочила на улицу.
«Я всего лишь на часок... мама и не узнает», — подумала Нюша, направляясь в избу-читальню, где должны были собраться девчата.
Первой пришла Таня, потом Феня Осьмухина. С большим запозданием явилась Зойка. Она сообщила, что ее мать уже узнала о походе девчат в МТС и не хотела ее никуда отпускать. Зойка еле вырвалась из дома.
— Ой, Нюшка, — шепнула она. — А может, не ходить в эмтээс-то. Все говорят, что с нами там и разговаривать не будут.
— Это еще что такое? — насупилась Нюша. — Чем мы парней хуже? Иль неполноправные какие, увечные... — И она повела девчат к усадьбе МТС.
Здесь было шумно и оживленно. Ревели моторы тракторов, урчали грузовики, звенело в мастерской железо, сновали рабочие. У конторы МТС толпились колхозные парни. Девчата вошли в длинный коридор. Пахло свежим деревом и лапником, что был настлан у порога. В углу стоял оцинкованный бачок с прикованной к нему на цепочке кружкой. Стены коридора оклеены разномастными бумажками: объявления, приказы, распоряжения, плакаты, лозунги. Где-то за стеной, как дятел по сухому дереву, стучала пишущая машинка.
— И впрямь, контора, — ахнула Зойка, вопросительно поглядев на Нюшу. — Нам-то к кому?
— Начнем с самого главного.
Нюша приоткрыла дверь с надписью «Директор МТС», просунула голову, спросила, можно ли войти, и, не получив ответа, потянула за собой девчат.
Директор МТС Репинский, пожилой, плотный мужчина с рыхлым бугристым лицом, одетый во френч защитного цвета, сидел за просторным столом и о чем-то разговаривал с механиком Лощилиным.
Между ними лежали густо смазанные тавотом шестеренки, втулки, кольца. Директор и механик брали их по очереди в руки, осматривали, затем клали обратно, и Лощилин начинал что-то писать, оставляя на бумаге маслянистые следы.
— Товарищ директор, мы к вам, — подала голос Нюша. Репинский поднял голову и мельком скользнул взглядом
по девчатам.
— А? Кто такие? По какому вопросу?
— Мы... мы кольцовские... из артели. Желаем на трактористок учиться.
— Что? Что такое? — переспросил директор. Нюша повторила свою просьбу.
Репинский с недоумением пожал плечами и покосился на механика:
— Слыхали, Николай Сергеевич? Девчата-то куда лезут. У нас что, парней на курсах не хватает?
— Что вы, Анатолий Лаврентьевич, — осклабился Лощилин. — С лихвой хватает... даже переизбыток. Я вам уже докладывал вчера. Кольцовская ячейка направила на курсы трактористов почти всех комсомольцев. А у нас и своих кадров достаточно. Так что многих парней приходится домой отсылать. О девчатах я уже и не говорю...
— Вы, девушки, не туда проситесь, — сочувственно сказал Репинский. — Вот если в уборщицы в контору или в истопницы — могу зачислить хоть сегодня же. А у трактора вам делать нечего!
— Как то есть нечего? — встрепенулась Нюша.
— А очень просто... Профессия эта исключительно мужская, для женщин никак не сподручна, и принять вас на курсы мы не имеем возможности.
— Вы еще скажете, что закон такой есть, чтобы девчат обижать?
— Закон не закон, а по инструкции не положено, — подтвердил Репинский.
Чувствуя, как заалело ее лицо, Нюша не посмела оглянуться на подруг. Ведь она же уверяла их, что им не имеют права отказать. И вдруг — какая-то инструкция... Нет, это не может быть... Нюша невольно подалась ближе к директору, и у нее хрипло вырвалось:
— А вы... вы покажите нам инструкцию эту самую.
— Что?! — удивился Репинский.
— Мы ж не какие-нибудь пришлые... — горячо и сбивчиво заговорила Нюша. — Мы насчет трактора на ячейке единогласно порешили! А вы нам про какую-то инструкцию... Покажите, и все тут... А то словно сговорились все: нельзя да не положено. Зачем же тогда хорошие слова на весь белый свет сказаны: женщинам дорогу! И еще товарищ Ленин про кухарку говорил, что она должна уметь государством править. А вы нас даже к машинам не подпускаете!
Лицо у Репинского вытянулось.
— Нет, вы только послушайте... — Он вновь обратился к механику: — Сейчас она нас за Можай загонит... Да ты что, барышня, поучать нас пришла, как эмтээс руководить да кого на курсы принимать? Не много ли на себя берешь...
— Иди-ка ты, деваха, отсюда, — с досадой отмахнулся Лощилин. — Нам работать надо.
— Да как же я уйду... — умоляюще начала было Нюша. Но в это время дверь распахнулась, и в кабинет директора ввалились ее мать, Дарья Карпухина и Матрена Осьмухина.
— Мама! — удивилась Нюша. — Ты зачем сюда?
— Так вот они где! — подозрительно оглядывая девчат, заговорила Дарья. — И Нюшка здесь непременно. — И она подтолкнула ближе к столу Аграфену: — Говори начальнику-то, выкладывай нашу заботу.
— Ты что же, заводиловка, делаешь-то? — набросилась на Нюшку Матрена. — Сама мужик мужиком растешь и девок за собой тянешь! В брюки скоро вырядишься, табак начнешь курить, а там, гляди, и к вину пристрастишься...
— Вы врите да не завирайтесь! — оборвала ее Нюша.
— В чем дело, гражданочка? — привстал из-за стола Репинский.
— Вы уж, товарищ директор, не слушайте ее, Нюшку-то мою, — с трудом заговорила Аграфена. — Она вот девок на курсы записывать привела... на трактористок. А только нет нашего согласия на это...
— Не желаем, чтобы девки прокоптились насквозь да керосином провоняли, — подхватила Матрена. — Кому они будут нужны такие?.. Всех женихов распугают...
— Позвольте, о чем разговор? — недоумевая, развел руками Репинский.
— О девках мы просить пришли, о дочерях, — пояснила Аграфена. — Не принимайте вы их на курсы. Не девичье это дело — за машину садиться...
— Да им так и сказано: девчат на курсы не принимаем... — пояснил Лощилин, догадавшись наконец, чего добиваются женщины. — Ведь так, Анатолий Лаврентьевич?
— Да, да... Не положено... — кивнул Репинский. — И пусть ваши дочери с таким вопросом больше меня не беспокоят.
— Вот спасибо, товарищ начальник, — поблагодарила Дарья. — С разумением рассудили, по совести. — И она махнула девчатам рукой: — Идите-ка вы по домам, чего тут мешаться.
Нюшка бросила на мать неприязненный взгляд и первая выскочила из кабинета директора. За ней, опередив женщин, вышли подруги.
Деревней они шагали торопливо, ссутулившись, стараясь не глядеть по сторонам — им казалось, что каждый встречный уже знает, как неудачно сходили они в МТС.
Распахнув полы материнской шубы и не замечая дороги, Нюша шла впереди девчат. Влажный ветер бил ей в лицо, остужал пылающие щеки. И как все это могло случиться? Сколько сил положила она, чтобы уговорить девчат пойти на курсы, а вот директор с механиком словно облили их ледяной водой. Да еще придумали какую-то инструкцию и это противное слово «не положено».
— Ну вот, — вздохнула Зойка. — Говорила я... не примут нас. Так оно и вышло.
— Да-а, — протянула Феня. — Получили от ворот поворот.
— Девки мы и есть девки! — продолжала Зойка. — Парням всюду дверь настежь, а нам и щелочки не осталось. Так и будем век вековать: кухарки да няньки... полы мой да с серпом спину гни. — И она вдруг дурашливо запела: — «А я баба глупая да неразумная...»
— Перестань! Чего ты голосишь! — прикрикнула на нее Нюшка и, помолчав, задумчиво сказала: — А давайте так учиться... без курсов... сами.
— Еще чего выдумаешь! — отмахнулась Феня.
— Серьезно говорю. Я книжки достану, плакаты. А если надо, и инструктор найдется.
— Это уж не Антошка ли Осьмухин? — фыркнула Зойка. — То-то он около тебя увивается... павлином ходит.
— А хотя бы и так... Чем он не инструктор? Лучший тракторист в эмтээс. Всегда помочь может... — Нюша оглядела подруг. — Ну, кто вместе со мной хочет заниматься?
Девчата молчали.
НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
Как-то вечером Нюша пришла на конюшню, чтобы сменить мать:
— Иди, я тут одна управлюсь, а дома ребят кормить надо.
— И то пойду, — согласилась Аграфена. — А ты что ж, опять на ночь здесь останешься?
— Надо, мама... Время ж такое.
— Ох, эти лошади, — вздохнула Аграфена. — Совсем они нас скрутили. Корми их, пои, да еще ночью за ними доглядывай.
— А мне здесь совсем не плохо, — принялась уверять Нюша. — Я и соснуть могу, и книжку почитать... — И она показала матери крохотную клетушку при входе в конюшню, где на топчане лежал набитый сеном мешок, а на ящике, накрытом газетой, книжки и фонарь. На стене висел плакат со схематическим разрезом трактора.
— Хоромы, лучше не надо, — усмехнулась мать и покосилась на плакат. — Опять ты со своим трактором... Зачем это? Ведь отказали ж тебе...
— Раз отказали, два откажут, а на третий... видно будет, — буркнула Нюша и, помолчав, в сердцах добавила: — А все равно нет такого закона, чтоб девчат к машине не пускать. Нет вот и нет!
Аграфена сокрушенно покачала головой — и куда только несет дочку, какая сила поднимает ее!
После истории в МТС Нюша не на шутку разобиделась на мать и несколько дней не разговаривала с ней. Но потом они объяснились, и Аграфена призналась, что пойти к директору МТС ее вынудили Матрена и Дарья.
— Ну, просилась бы на курсы одна, — говорила мать, — это еще понять можно: ты же скаженная, отпетая. Все у тебя не так, как у людей... Но зачем же девчат за собой тянуть, головы им кружить. Вот матери и взбеленились...
— Да пойми же, — старалась объяснить Нюша, — какую силищу-то в деревню двинули... техника, машины. А кто теперь к этой технике не липнет: и чужаки всякие, и лишенцы, и сынки раскулаченных. Летят, как мошкара на свет. Кому же, как не нам, на курсы идти?.. Вот и Степка о том же пишет — не отступайте, девчата...
— Это вроде и так, — соглашалась Аграфена, а про себя думала, что теперь, после столкновения с директором МТС, Нюшка успокоится и забудет о курсах.
Но дочь, к ее удивлению, раздобыла книги, плакаты, наставления по тракторному делу и засела вместе с девчатами за самостоятельную учебу.
Наказав Нюшке крепче запереть изнутри ворота, Аграфена отправилась домой.
Нюша задала лошадям корму, напоила их и, выйдя наружу, присела у ворот конюшни на скамеечке.
Стояла тихая апрельская ночь. Густой молочный туман висел над землей, съедал последние снега. С крыши свисали длинные острые сосульки. За углом конюшни, в овраге еле слышно булькал ручей.
Но обманчивая была эта тишина.
Совсем недавно в соседнем селе Заречье вот в такую же тихую, мирную ночь жарко запылал амбар с семенным зерном, а когда тушить пожар приехали пожарные машины, оказалось, что все рукава были перерезаны. Амбар сгорел дотла, и долго потом над округой стоял запах горелого зерна.
А в Торбееве чья-то злая рука отравила мышьяком дойных коров на ферме, и даже в Кольцовке было слышно, как голосили торбеевские женщины, отвозя трупы коров на скотное кладбище.
В Кольцовке поэтому решили не зевать. Василий Силыч повсюду выставил надежных сторожей, привлек к охране амбаров и ферм комсомольцев.
Нюше Ветлугиной он наказал не спускать глаз с конюшни и ни на минуту не оставлять ее без присмотра.
— За тягло вы мне с матерью головой отвечаете, — наставлял ее председатель. — И всяких там шатунов пришлых да подозрительных к конюшне на ружейный выстрел не допущай.
— Это я могу, — согласилась Нюша. — Только вы мне ружье дайте.
— Насчет ружья — это я для складу сказал. Откуда оно у меня? Ты больше на свой нюх да глаз надейся.
Но ружье Нюшка все же раздобыла. Подластилась к деду Анисиму, наговорила ему с три короба всяких страхов — будто на конюшню каждую ночь рвутся незнакомые люди в черных башлыках, — и старик, подобрев, вытащил из чулана старую-престарую берданку. Долго поучал, как надо с ней обращаться, как заряжать, целиться, а потом признался, что берданка вот уже с десяток лет как не стреляет.
— Все равно, дедушка, спасибо, — поблагодарила Нюша, забирая ружье. — Для острастки пригодится.
И с тех пор она почти каждую ночь дежурила на конюшне. Сначала было страшновато, и Нюша до утра не могла сомкнуть глаз — то ей казалось, что кто-то лезет в окно, то пытается открыть ворота или подкапывается под стену. Тогда она стала громко разговаривать с лошадьми, покрикивать на них, называла по именам — пусть тот, кто притаился по-воровски, знает, что Нюшка не спит, бодрствует и ко всему готова.
Но чаще всего Нюша коротала время за учебником по тракторному делу. Вот и сейчас перевалило уже за полночь, а она все еще сидела над раскрытой книжкой, пока не добралась до топливной системы трактора. Прочитав два-три абзаца, Нюша, по старой школьной привычке, закрывала глаза и пыталась мысленно повторить прочитанное.
Но с каждой минутой голова становилась все тяжелее, клонилась вниз, а веки начинали слипаться, словно их намазали смолой. Когда же лоб касался прохладных страниц учебника, Нюша ошалело вскакивала, продирала глаза и, встряхнув головой, словно после купания, снова погружалась в чтение.
А через несколько минут все повторялось сначала.
Нюша ущипнула себя за щеку и с досадой подумала, что ей, наверное, никогда не одолеть этой премудрости из учебника. Да и как ее одолеешь, если после рабочего дня ноет все тело, глаза слипаются, и сон наползает, как хмарь осенью.
Нюша даже позавидовала Степе — ему, поди, хорошо. Ночью он высыпается, утром приходит в класс со свежей головой, и ему не надо думать ни о кормах, ни о сбруе, ни о лошадях.
Нюша поднялась, вышла из конюшни, жадно глотнула острый воздух. На улице подмораживало. Потом, продавив в бочке тонкую ледяную корочку, ополоснула лицо холодной водой и снова вернулась в клетушку.
И только далеко за полночь сон окончательно сморил дивчину, и она уронила голову на раскрытую книгу. Во сне ей виделось, что она катит в гору что-то тяжелое, громоздкое и это что-то явно ей не под силу и грозит вот-вот столкнуть ее вниз.
Проснулась Нюша от подозрительного шума за тонкой стенкой клетушки: в конюшне, стуча копытами по деревянному настилу, всхрапывали лошади, приглушенно звучали голоса людей.
Нюша бросилась к двери. Но дверь не открывалась. Нюша навалилась на нее всем телом — так во сне она только что толкала в гору тяжелый груз. Но и сейчас дверь не подалась, должно быть, снаружи кто-то припер ее колом или наложил пробой.
Нюшу бросило в холодный пот.
«Проспала, фефела, — с презрением подумала она. — Коней воруют!»
— Эй, вы! — не своим голосом закричала Нюша, яростно барабаня в дверь кулаками. — Кто такие? Что надо?!
За перегородкой пошептались, потом раздался хрипловатый незнакомый голос:
— Сиди знай! Помалкивай!
— Откройте, говорю! Стрелять буду! — пригрозила Нюша, хватая Анисимову берданку.
— Пали давай! — согласился тот же голос. — Только вот из чего? Из палки или из метлы?
Нюша со злостью швырнула берданку в угол. «Все высмотрели, все знают, — мелькнуло в голове. — Кто же это? Неужели свои? И сколько их?»
Нюша рванулась к маленькому оконцу в стене клетушки, выбила локтем стекло и истошным девчоночьим голосом завопила в темноту:
— Караул!.. Коней воруют! Помогите!.. В дверь клетушки угрожающе постучали:
— Эй, девка, помолчи лучше! Хуже будет! — Хрипловатый голос был полон угрозы.
Нюша продолжала звать на помощь.
— Пусть вопит... Все равно никто не услышит, — донесся до нее другой, тоже незнакомый голос.
Затем раздалось пофыркиванье лошадей, топот копыт, и вскоре все утихло.
Нюша готова была рвать на себе волосы. И как же воры все ловко придумали! Выследили, когда она осталась на конюшне одна, как в мышеловке, захлопнули ее в тесной клетушке. И обо всем они, оказывается, знали: и про ружье, которое не стреляет, и про узкое оконце в стене клетушки, через которое даже самый худой мальчишка не пролезет. Что же теперь делать? Так и сидеть в этой мышеловке и кричать караул, когда до деревни почти полкилометра и никто ночью тебя не услышит. А коней тем временем угоняют все дальше и дальше.
Нюша металась в тесной клетушке, не зная, что придумать. Взгляд ее вновь упал на оконце. Ведь когда-то она не хуже мальчишек пролезала через любую дыру в изгороди. Главное, только бы просунуть голову. Эх, была не была!
Нюша нашла полено и с треском выбила им из оконца раму. Потом сняла с себя кожушок и, оставшись в одном платье, полезла в оконце.
Долго пыхтела, извивалась и, наконец, ободрав плечи и бедра, выбралась наружу. Открыла дверь клетушки, припертую тяжелым дубовым колом, схватила фонарь и вбежала в конюшню: в стойлах не хватало трех лучших лошадей. Только жеребец Красавчик, беспокойно прядая ушами, стоял на своем месте.
— Умник, пригожий ты мой! Не дался-таки ворюгам, — шепнула Нюша и, зауздав жеребца, вывела его за ворота.
Но не успела она сесть верхом, как к конюшне подбежал какой-то человек.
— Кто такой? Что надо? — испуганно вскрикнула Нюша.
— Это я, Лощилин! — отозвался человек. — В эмтээс дежурил... Слышу, кто-то караул кричит... Что случилось?
Нюша обессиленно прислонилась спиной к воротам.
— Трех лошадей украли... — призналась она.
— Украли?! — переспросил Лощилин. — Это перед севом-то... Да тебе теперь голову снимут...
— Знаю, — хрипло выдавила Нюша. — Они, ворюги, в клетушку меня заперли... Еле выбралась...
Преодолев минутную слабость, она встряхнула головой и попросила Лощилина подсадить ее на лошадь.
— Куда ты?
— Ворье проклятое! — выругалась Нюша. — Кровь с носу, а я их догоню... Не уйдут, гады!
— Ночью... одна против бандитов? — удивился Лощилин. — Они ж тебя с землей смешают.
— Все равно я их выслежу... Красавчик не подведет.
Нюша подвела жеребца к колоде и, ухватившись за холку, попыталась взобраться на спину лошади.
— Обожди, — остановил ее Лощилин. — Не девичье это дело за бандитами гоняться. — Он отобрал у Нюши поводья и легко вспрыгнул на Красавчика. — Куда коней погнали?
— Туда будто... на Заречье. — И Нюша показала на проселочную дорогу, что уходила к темной гряде леса.
— Тогда вот что, — распорядился Лощилин, — беги в колхоз, поднимай людей, а я попробую воров выследить. — И, хлестнув Красавчика, он помчался в сторону Заречья.
Конь шел легко, размашисто, без понукания. «Хорош жеребец, хорош... — подумал Лощилин. — На таком хоть черта догонишь».
Ветер был в спину и словно помогал коню.
Вскоре дорога вошла в лес. Тревожно шумели голые березы, осины и черные ели. Как живые шевелились округлые кусты можжевельника. Где-то надсадно скрипело дуплистое дерево. Лощилину стало немного не по себе. Он нащупал в брючном кармане холодящую сталь нагана. Интересно все же выследить, кто это увел лошадей из конюшни? Неужели начали действовать ширяевские люди? Не очень-то они осторожны. Можно бы все проделать и похитрее.
Во всяком случае, надо как-то предупредить конокрадов, чтобы они заметали следы.
Неожиданно за поворотом дороги Лощилин заметил смутный силуэт всадника. Лошадь, нелепо ковыляя на трех ногах, еле двигалась.
«Видно, ногу повредила, — сообразил Лощилин, вглядываясь в дорогу. Впереди никого не было видно. — Кажется, один ворюга остался... И жадный черт... Даже с хромой лошадью не расстается».
Механик хлестнул Красавчика и вскоре приблизился к всаднику.
— Стой! Откуда лошадь? — крикнул он.
Всадник пригнулся к шее коня и, яростно размахивая прутом, заставлял его бежать из последних сил.
«Ну нет, теперь не уйдешь!» — подумал разгоряченный Лощилин, пуская Красавчика в галоп. Он быстро опередил хромую лошадь, схватил конокрада за плечо и с силой рванул к себе.
Потеряв равновесие, тот вцепился в Лощилина, и они свалились на дорогу.
Механик был сильнее своего противника и довольно скоро подмял его под себя. Но конокрад не думал сдаваться. Он отчаянным усилием вырвался из-под Лощилина, вскочив на ноги, отпрянул назад и, когда механик вновь набросился на него, нанес ему сильный удар в скулу.
Острая боль пронзила Лощилина. Словно подхлестнутый, он захватил чужую руку, вывернул ее, опрокинул конокрада на дорогу и с бешеной силой принялся избивать его кулаками и ногами.
— Попался, ворюга! На, на... получай!
Конокрад тяжело задышал, но больше уже не сопротивлялся, а только прятал голову от ударов.
— Не убивайте, товарищ Лощилин! Сдаюсь, — взмолился он.
— Кто такой? Откуда меня знаешь? — Опешив, Лощилин умерил свою ярость и повернул к себе лицо конокрада. Оно показалось ему знакомым: одутловатое, с приплюснутым носом, с густыми усами. — Кладовщик?! Горелов?!
— Как видите... он самый... — Горелов привстал на колени и, запрокинув голову, попытался остановить хлещущую из носа кровь. — Ну и расходились же вы, товарищ механик. Так и убить недолго.
— Значит, новую профессию обрели? — усмехнулся Лощилин. — Лошадками промышляете?
— Ей-ей, впервые польстился, — забормотал Горелов. — Дружки попутали. Ну и показал им дорожку на конюшню.
— Вот и дурак! За кражу коней зараз пять лет схлопочете... со строгой изоляцией.
Горелов вдруг рухнул на колени:
— Пощадите, Николай Сергеевич! Не выдавайте! Век вам служить буду...
— Вы лучше скажите, для кого стараетесь? — помолчав, спросил Лощилин. — Кто вас на колхозных коней науськал?
— Сами, товарищ Лощилин... До всего сами дошли... — торопливо заговорил Горелов. — Деньжат не хватало, подзаработать решили.
«А он, кажется, не болтлив. Такой, может, и пригодится, — удовлетворенно подумал Лощилин и заставил Горелова подняться.
— Ну ладно... Пощажу я вас, Горелов, для первого раза.
Переминаясь с ноги на ногу, Горелов ошалело смотрел на механика:
— Николай Сергеевич, да я... Вы только прикажите!.. Что ни на есть для вас сделаю!
— А сейчас уходите, пока вас не задержали, — распорядился Лощилин, оглядываясь по сторонам. — Лошадь, конечно, мне оставите. Утром час в час явитесь на склад, на работу. И чтоб никаких подозрений на вас не было... Ну, что вы остолбенели? Действуйте, как сказано.
Часто оглядываясь на механика, Горелов свернул на боковую дорогу и вскоре растворился в молочном тумане.
Лощилин словил стоявших поодаль лошадей и, держа их за поводья, повел к Кольцовке.
При выходе из леса ему встретилась группа верховых. Впереди всех ехали Нюша, Митя Горелов, Игнат Хорьков и Василий Силыч.
Нюша первая заметила Лощилина:
— Лошадь отбили, товарищ механик? Ой, да она же хромает!
Лощилин передал председателю повод охромевшей лошади:
— Вероятно, ногу подвернула. Бросили ее по дороге. А конокрадов я так и не догнал. Видать, далеко уехали. Поздно ваш конюх тревогу забила.
— Так я ж говорила, что случилось со мной, — чуть не плача, сказала Нюшка.
— Да-а, опять нам удар в спину, — тяжело вздохнул Василий Силыч. — И это перед весной, перед севом...
— А все же поехали дальше, — махнул рукой Игнат Хорьков. — Может, еще и на след нападем.
Колхозники, тронув лошадей, устремились к Заречью.
ВЕСНА
Девчата продолжали учиться. Они собирались у Ветлугиных два раза в неделю, вслух читали учебник и разбирались на плакате в схематическом чертеже трактора.
— Ой, Нюша, — предупредила ее Аграфена, — опять ты девок захороводила. Матрена с Дарьей грозятся скандал тебе устроить...
— А ты возьми да помоги нам, — попросила Нюша.
— Как это?
— Ну, скажем, успокой их при встрече. Мол, девчата ни про какие курсы не думают... Просто так собираются, на посиделки.
— Так бабы вот-вот в дом нагрянут... все ваши курсы разгонят.
— А ты, мама, поглядывай... Как они на горизонте появятся, посигналь нам.
— Не затягивай ты меня в свои дела... — взмолилась Аграфена, но, хозяйничая у печки, то и дело поглядывала через окно на улицу.
И правда, женщины не раз заглядывали к Ветлугиным. Но, предупрежденные Аграфеной, девчата успевали вовремя убрать учебники, тетради и плакаты. Запевали протяжную песню и принимались вязать носки или варежки.
Как-то Нюша пригласила к себе в дом Митю Горелова с Уклейкиным и, усадив их за стол, заставила слово в слово повторить последнее занятие на курсах трактористов при МТС.
Митя пересказал все очень скупо и коротко, а Уклейкин же начал пороть отсебятину и так все запутал, что девчата схватились за головы.
— А мы-то думали, что вы нам поможете! — рассердилась Нюша. — Имейте в виду: засыплетесь на экзаменах — на ячейку потянем, спросим как надо. Зачем же мы вас на курсы посылали?
Парни ушли, а через несколько минут Митя вернулся обратно и, вызвав Нюшу в сени, озабоченно заговорил, что дело на курсах поставлено как-то странно: народу зачислили мало, учат кое-как, а к машинам почти не допускают. Чуть какая промашка — придираются, отчисляют.
— Не знаю, что у вас за курсы такие липовые, — расстроилась Нюша. — А мы-то на вас рассчитывали.
И ей пришлось пойти на поклон к Антону Осьмухину. Парня не надо было даже упрашивать — он сам охотно вызвался помогать девчатам.
Занятия с ними он начал как заправский преподаватель— объяснял устройство трактора по чертежам и схемам, заставлял вести записи в тетрадях, задавал уроки на дом.
— Правильно, Антоша, — похваливала его Нюша. — Ты с нами построже будь... учи как положено.
Уступая настойчивым просьбам Нюши, Антон раза три пригонял трактор на лесную поляну и втайне от начальства МТС обучал девчат водить машину.
За эти недели он стал частым гостем у Ветлугиных. Все свое свободное время Антон проводил у них в избе, помогал Клаве и Леньке готовить уроки, охотно беседовал с Аграфеной и Гореловым.
Когда же Нюша возвращалась с конюшни, Антон обычно приглашал ее на вечерку или в избу-читальню на танцы.
— Да мне еще третий раздел доконать надо... насчет зажигания — не очень твердо отказывалась Нюшка — Не успела я вчера...
— Иди, иди, погуляй! — говорил Горелов, многозначительно поглядывая на молодую пару. — Только и землю потрясти, пока молоды.
Нюша начинала собираться, потом, спохватившись, заглядывала в учебник по тракторному делу или в тетрадь с записями и умоляюще просила Антона:
— Сейчас пойдем... Вот только заковыка одна... недопонимаю я. Растолкуй что к чему.
Поглядывая на часы, Антон начинал торопливо объяснять, потом все-таки вытаскивал дивчину на вечерку.
А на танцах в избе-читальне Нюша вдруг принималась расспрашивать парня про карбюратор, жиклер, богатую и бедную смесь.
— Вот скаженная! — смеялся Антон. — А ты о чем-нибудь другом поговорить можешь?
— О чем это другом? — непонимающе спрашивала Нюшка и, поймав на себе пристальный взгляд Антона, вспыхивала и отворачивалась. — Пока за трактор не сяду, ничего знать не желаю...
— Насчет этого будь спокойна, — заверял Антон. — Будешь ты за рулем! Положись на меня.
Девчата стали поговаривать, что Антон Осьмухин неспроста так часто встречается с Нюшкой и все их занятия по тракторному делу — одна лишь видимость для отвода глаз.
Зойка не без зависти убеждала подруг, что Нюшка с Антоном без ума влюбились друг в друга, а Таня ходила молчаливая и подавленная.
— Ты что это, подружка, такая? — как-то спросила ее Нюша. — Иль мы с тобой не поделили чего?
— Нам делить нечего, — ответила Таня. — Ты бы лучше Степе отписала, как трактор изучаешь, да какой у тебя учитель объявился.
— Учитель справный... Очень я им довольна.
— Еще бы... — усмехнулась Таня.
— Вот ты о чем, — догадалась Нюша и засмеялась. — Ой, и дурные же вы, девчата. Ничего не понимаете. Мне бы только к машине прилепиться, а там хоть и трава не расти. А когда приспичит, и козлу поклонишься.
Весна нагрянула стремительно. Отгремели пенистые озорные ручьи в оврагах, снег с полей сошел за одну неделю, обнажив парящую влажную землю. Горизонт раздвинулся, небо стало высоким, просторным, теплые волны воздуха омывали всю округу.
По утрам Нюша выбегала на усадьбу, за сараи, и жадно вглядывалась в поле. Земля, шершавая, взъерошенная, только что освободившаяся от снега, раскинулась широкими темными полосами и ждала пахаря.
Нюша глубоко вдыхала напоенный запахами весны воздух, щурилась от солнца, потом, скинув сапоги, ступала босой ногой на непрогретую еще землю.
Она любила эту пору. На душе было неспокойно, куда-то тянуло, чего-то хотелось, а чего — она и сама не знала. То ей чудилось, что пора отправляться в дальний путь — шагать бы с котомкой за плечами полевой подсыхающей дорогой, спускаться в низины, подниматься на пригорки и так идти далеко-далеко, до самого синего горизонта. То ей казалось, что она непременно должна быть в поле, ладить плуг, обряжать лошадей или еще лучше — готовиться к пахоте вместе с парнями из МТС.
Занятия на курсах трактористов закончились, и парни начали сдавать экзамены.
Нюша с девчатами повторила все пройденное и уговорила Антона спросить их по тракторному делу. А наутро она отправилась к директору МТС и попросила допустить девчат вместе с парнями к экзаменам.
Репинский вспомнил первый приход дивчины, вспомнил переполох матерей и с досадой пожал плечами:
— У нас был уже разговор по этому поводу. Зачем же переливать из пустого в порожнее?
— Так мы же почти всю зиму занимались... Всю программу одолели. Вы только допустите...
— Что? — захохотал Репинский. — Сами занимались? Без руководителя, без всякой практики... Ну и потешный же вы народ!.. Иди, Ветлугина, не мешай. Без тебя работы полно. — И он выпроводил ее из кабинета.
Нюша медленно побрела к дому. Что же она теперь скажет девчатам? «Нет нам, девкам, ходу и не будет...» — вспомнились ей слова Тани. Неужто так и смириться с этим?
Около правления Нюша столкнулась с Василием Силычем.
— Чего пригорюнилась, красна девица? — спросил он. Помявшись, Нюша рассказала о своем разговоре с Репинским.
— А ты не журись... на парнячьи дела не зарься. У тебя и своих хватит! — успокоил ее Василий Силыч. Сменивший полушубок на пиджак, а мохнатую баранью шапку на приплюснутую кепку, он благодушно поглядел на белесо-голубое небо, на позеленевшие ветви деревьев, на шумливых грачей у дороги. — Весна-то, вот она... на пятки наступает. Скоро пахота, сев... — Председатель повеселевшим голосом сообщил, что дела у них в артели, как видно, налаживаются — на днях дал свое согласие работать бригадиром второй бригады Тимофей Осьмухин.
— Осьмухин? — удивилась Нюша. — Да ему же наша артель что кость в горле..
— Ничего... Прозрел мужик, одумался. Да и сынок у него, сама знаешь, приехал. Вполне сознательный, передовой...
— А Степа Ковшов с курсов вернется. Его куда поставите?
— Запаздывает Степан с приездом. Да и молодой он еще в бригадиры. А Осьмухин для нас клад сущий. Землю нутром чует...
И еще Василий Силыч сообщил, что МТС выделила для обслуживания кольцовского колхоза целую тракторную бригаду во главе с Антоном Осьмухиным. Сейчас в бригаду требуются прицепщики, кухарки, подвозчики воды и горючего. Он предлагал эту работу взрослым колхозникам, но те отказались. Обидно им ходить в подручных у зеленых юнцов, которые теперь будут пахать землю.
— Давай, комсомолия, выручай! — обратился председатель к Нюше. — Ваше дело молодое. Ты подбери-ка ребят понадежнее.
— Парни у нас все уже при деле, — ответила Нюша. — Вот если бы девчат...
Василий Силыч покачал головой:
— Боюсь, мамаши будут возражать. К тому же и Репинский против женского персонала. За мужчин ратует. Оно и справедливо — дело такое... машины, железо.
— И вы туда же, дядя Вася, — обиделась Нюша, но предложение председателя ей показалось заманчивым. Это же очень хорошо, если девчата всю весну и лето будут в поле, около тракторов. Присмотрятся к ним, привыкнут, поучатся водить. Попробуй тогда не допустить их к экзаменам. И как она раньше об этом не подумала!.. — Обязательно девчат надо, — загорелась Нюша. — Я сагитирую их, раскачаю...
— Ну что ж, попробуй... — согласился Василий Силыч. Разговор с девчатами состоялся в этот же день. Нюша сообщила им, что от правления колхоза получено боевое задание пойти на тракторы прицепщиками.
— Парни пахать, а мы на них поглядывать, — обиделась Зойка. — Нет уж, спасибочко, пусть сами выкручиваются.
Но Нюша с таким жаром принялась расписывать профессию прицепщика — он же первый командир над плугами, а плуги — это, в конце концов, самое главное при вспашке земли, — что подруги согласились пойти в тракторную бригаду.
Только никто не хотел стать кухаркой.
Нюша рассчитывала, что ей удастся уговорить Феню, которая неплохо умела стряпать, но та наотрез отказалась:
— Привереды они, эти парни... Разве на них угодишь! Лучше я в прицепщики пойду — к трактору поближе.
Нюша и сама хотела быть поближе к машине, но делать нечего — не оставлять же бригаду без кухарки.
— Так и быть! — скрепя сердце согласилась она. — Пойду в стряпухи. Кто еще со мной? Таня, может, ты?
И Таня согласилась.
НЮШКИНА ПРАКТИКА
Место для полевого стана тракторной бригады Антон выбрал на Руслановском взгорье.
За увалом раскинулась небольшая березовая рощица, внизу в овражке протекала речушка с круглыми бочагами.
Полевой стан соорудили за один день. Зеленый вагончик на колесах поставили под тенью берез, в отдалении сгрузили бочки с горючим, предварительно вспахав вокруг них землю. С другой стороны стана, поближе к речке, устроили кухню и столовую. Парни сделали навес, сколотили из досок стол, скамейки, сложили из камня-дикаря печку.
— Ну, стряпухи, ни пуха вам, ни пера, — сказал Антон Нюшке и Тане. — Корми́те на убой — аппетит у ребят зверский!
— А это уж по работе глядя! — ответила Нюша. Молодые кухарки привезли из колхоза продукты, топливо, принесли из речки воды, затопили печку.
— Чего для начала готовить будем? — спросила Таня, вопросительно поглядывая на подругу. — Я ведь стряпка-то никакая...
Для первого дня девчата постарались, не пожалели продуктов, простояли у печки более трех часов, и обед действительно получился на славу.
Трактористам был подан наваристый — ложку не провернешь— борщ, аппетитное — пальчики оближешь — жаркое, сладкий-пресладкий компот, и всего было вдоволь, так что любящий поесть Уклейкин трижды просил добавку и под конец задремал прямо за столом.
Парни в один голос назвали обед царским, пришли в благодушное настроение и на все лады расхваливали поварские таланты девчат.
— От лица бригады выношу кухаркам благодарность, — шутливо поблагодарил Антон. — Так держать!
— Есть так держать! — козырнула Нюша.
На второй и третий день обед был не хуже, с той только разницей, что компот был уже не такой сладкий — запасы сахара были на исходе.
А еще через два дня Таня с ужасом обнаружила, что продукты, отпущенные колхозом на неделю, подходят к концу. Вместе с Таней она отправилась в колхоз к кладовщику и, пожаловавшись на волчий аппетит у трактористов, выпросила у него еще продуктов. Но до конца недели их все равно не хватило бы. Нюшка завернула домой и прихватила толику крупы, сала и сахара. Не на голодный же паек ребят сажать! Чего доброго, они еще пахать перестанут.
Таня не выдержала и рассказала о Нюшкиной щедрости прицепщицам. Обозвав Нюшку транжиркой и мотовкой, девчата тоже тайно от матерей принесли продуктов. Так они подкармливали трактористов до конца недели, пока не получили из колхозной кладовой продукты на вторую неделю.
После этого девчата решили, что старшей кухаркой больше подходит быть Тане: она должна головой отвечать за продукты, бережно их расходовать, а Нюшка пусть будет при подруге за кухонного мужика.
Нюша не возражала. У нее в бригаде нашлись другие дела.
Она взяла за правило следить за порядком в вагончике-общежитии: подметала и мыла пол, стирала и чинила белье.
Чаще всего, оставив Таню у кипящего котла, Нюша брала жбан с холодным квасом и отправлялась в поле к трактористам.
Она подолгу брела за трехлемешным плугом, прицепленным к трактору, наблюдая, как острые лемехи рвали старые, заросшие сорняками межи, как светлые изогнутые отвалы вздыбливали маслянистые влажные пласты земли, переворачивали их и ровно укладывали на дно борозды.
Поле менялось на глазах. Неприглядное, по-весеннему неубранное, в проплешинах пробивающихся желто-зеленых сорняков, оно становилось ровно коричневым, словно искусный маляр проходил по нему своей великаньей кистью. Потом, подсыхая, поле чуть серело, покрывалось палево-пепельным налетом.
«Сколько бы сюда лошадей надо, плугов, пахарей, если бы не машины!» — думала Нюша, следя за ползающими по полю «СТЗ» и «Путиловцами».
Заметив Нюшку со жбаном на плече, тракторист останавливал машину, выпивал кружку холодного квасу, а она, пользуясь остановкой, забиралась на трактор.
— Прокачусь чуток с тобой? Можно?
— А чего ж нельзя, — благодушно разрешал тракторист и, приосанившись, трогал машину.
Нюша, встав за спиной парня, жадно вглядывалась, как тот подавал газ, увеличивая скорость, как на повороте выписывал петлю и вновь входил в борозду.
Каждый из трактористов работал как умел. Один вел машину словно по линейке, другой оставлял в борозде челноки и огрехи. У одного мотор работал ровно, без перебоев, у другого тарахтел, словно старая телега, чадил, вонял гарью или гулко стрелял из выхлопной трубы.
Разъезжая на тракторе, Нюша без конца задавала трактористу вопросы, всем интересовалась и про себя примеривалась, а как бы получилось у нее, если бы она сама села за руль. Потом, не выдержав, Нюша умоляюще трогала парня за плечо:
— Очень у тебя красиво все получается. Ты бы и меня поучил.
— Можно, — соглашается польщенный тракторист. — Только это дело такое...
Нюшка занимала место на железном пружинящем сиденье и осторожно бралась за руль.
Пройдя на тракторе два-три круга, она благодарила тракториста:
— Хорошо обучаешь! Спасибо! Я завтра еще приду! — и, сойдя с машины, отправлялась со жбаном кваса к другому трактористу. И там повторялось все сначала.
К полевому стану Нюшка возвращалась к самому обеду.
— Куда ты запропастилась? — сердилась Таня. — У меня тут подгорело все, перекипело...
— Ладно, я свое завтра отработаю, — блестя глазами, возбужденно шептала Нюша. — Зато я сегодня двенадцать кругов на тракторе сделала... Без единой остановки... Вот это практика!
Вскоре парни привыкли к Нюшкиной практике. Они охотно допускали дивчину к рулю, нередко просили подменить их на машине, если куда-нибудь надо было уйти, а кое-кто из любителей поспать даже заводил с ней такой разговор:
— Пройдись кружочка три, а я позагораю малость. Нюша соглашалась и на это.
Но чаще всего Нюшу зазывал на свой трактор Антон Осьмухин. Он усаживал девушку за руль, объяснял все тонкости вождения, и так они проделывали не один десяток кругов.
Утром Нюша помогала Антону заправлять его трактор водой и горючим, проводила осмотр, смазку, и трактористы, многозначительно переглядываясь, стали поговаривать:
— Бригадир-то наш напарницу нашел... Практикует ее.
Однажды, разнося трактористам квас, Нюша вышла к Поповкину оврагу. На суглинистом косогоре стоял притихший «Путиловец», на котором обычно работал Митя Горелов.
Сейчас Мити около трактора не было, а вокруг машины ходила Феня Осьмухина и старательно протирала мотор масленой тряпкой.
— Прицепщице привет! Пить хочешь? — Нюша кивнула на жбан. — Принесла вот...
— Не до питья тут... — в сердцах отмахнулась Феня. — Видишь — опять загораем...
— Поломка, что ли?
— Мотор забарахлил... Заело что-то.
Митя пошел механика искать.
— Кончил курс науки, а без няньки никуда, — усмехнулась Нюша. — Тоже мне тракторист с дипломом...
— Ты Митяя не тронь, — обиделась Феня. — Он вот как старается, из кожи лезет. А видишь, какую развалину ему дали. У других машины как машины, «СТЗ» новенькие, а у него телега старая. Вот и капризничает почем зря.
Оглядев трактор, Нюша раздумчиво покачала головой.
Машина, конечно, потрепанная, старая, но все же невелика честь числиться трактористом, а при всякой поломке бегать за бригадиром или механиком. Или в самом деле трактор у Мити никуда не годится? А что, если она попробует что-нибудь сделать...
Нюша достала из ящика гаечный ключ и подняла капот.
— Ты чего там... — насторожилась Феня. — Митяй сказал, чтобы никого не допускать...
— Да я так, гляну только...
Нюша осмотрела мотор, ощупала каждую деталь и никакой видимой поломки в машине не обнаружила. Тогда она стала вспоминать, по каким причинам мог заглохнуть мотор. Сначала осмотрела, как этому учили учебники, систему зажигания, свечи, магнето. Затем проверила подачу воды, масла, горючего. Кажется, все было в порядке. Вот только в карбюратор очень медленно поступало горючее. Нюша отвинтила тоненькую медную трубку, ведущую от бака к карбюратору, и продула ее.
— Видишь вот, засорилось.
Она поставила трубочку на место и, расправив плечи, провернула заводную ручку. Мотор заработал, но через минуту заглох. Нюша вновь схватилась за ручку. Ей стало жарко, ворот кофты расстегнулся, на висках проступил липкий пот, а мотор по-прежнему продолжал барахлить: то заработает, то заглохнет.
«Ну нет, миленький, я от тебя не отстану», — закусив губу, решила Нюша, и вновь склонилась над мотором. Она еще раз проверила подачу горючего, потом вывинтила свечи, прокалила их на огне, и только после этого мотор заработал без перебоев.
— Раскачала... скажи на милость! — удивилась Феня, с любопытством поглядывая на подругу, потом по-хозяйски потребовала: — Глуши давай!.. Чего горючее переводить.
— А может, пройдем кружочек? Для пробы... — сказала Нюшка.
Феня огляделась по сторонам — в поле никого не было.
— Ну, если кружочек... — согласилась она и полезла на железное сиденье над плугами.
Нюша осторожно тронула трактор.
Остро запахло свежеподнятой землей. Навстречу тянул теплый ветер, обдувал разгоряченное лицо, на горизонте струилось зыбкое марево.
Нюша доехала до конца поля, развернулась и, взглянув на прицепщицу, возбужденно крикнула:
— Пошло, Феня! Пошло! Пашем! — и вновь ввела трактор в борозду.
Так она сделала второй круг, третий, четвертый и не заметила, как, поднявшись из оврага, к вспаханному полю подошла группа людей.
— Глуши мотор! Глуши! — закричала Феня.
Нюша остановила машину.
Первым к трактору подбежал Митя Горелов:
— Кто починил? Когда?
— А вот они... — засмеялась Нюша, показывая на грачей, что крикливой стаей сопровождали трактор.
— Я делом спрашиваю...
Трактор окружили Антон, директор МТС Репинский и Матвей Петрович Рукавишников. Нюшка поднялась с сиденья:
— Матвей Петрович, откуда вы?..
— Здравствуй, Нюша, здравствуй, — кивнул тот. — Приехал вот эмтээс посмотреть... А ты, вижу, уже трактористкой стала.
— Да нет... Это я случайно. — Нюша смущенно слезла с трактора.
— Почему Ветлугина за рулем? Кто разрешил? — строго спросил Репинский.
— Не знаю... меня здесь не было, — растерянно признался Митя — Я механика пошел искать. — И он с досадой посмотрел на прицепщицу: — Я что наказывал?..
— Говорила я Нюшке, чтобы она в мотор не лезла, — вполголоса сказала Феня, — а она возьми да и почини... И совсем вроде неплохо... Пять кругов прошла.
— А что случилось с мотором? — с интересом спросил Матвей Петрович. — Серьезное что-нибудь?
— Топливопровод засорился, — объяснила Нюша. — И свечи забросало... Но сейчас хорошо тянет.
Антон завел мотор, прослушал его и согласился, что тот работает нормально.
— Видали, товарищ Репинский, — обратился Матвей Петрович к директору МТС— Чем не трактористка? А вы почему-то возражаете против девчат... К нам в райком уже письмо на вас поступило...
— Ах, вот что! — Репинский с досадой обернулся к Нюше. — Не мытьем хочешь взять, так катаньем. В дверь гонят, так ты в окно лезешь... Ну что тебе от меня надо?
— Я уже вам говорила... — сказала Нюша. — Допустите девчат до экзаменов... и дело с концом!
— Допустите, товарищ директор, — поддержала ее Феня. — Хотя бы одну Ветлугину для начала.
— Но она же при деле сейчас... — возразил Репинский. — Кухаркой работает.
— Какая там кухарка, — заметил Антон. — Она почти и к котлу не подходит... Все больше около тракторов...
— Напрасно упорствуете, товарищ Репинский, — сказал Матвей Петрович. — Надо допустить, раз такое рвение.
— Так дивчина же... слабый пол, — продолжал возражать Репинский. — Не положено ей к трактору, не под силу будет. Ни в одной эмтээс такого пока нет.
— Согласен — пока нет. Но должно быть. Вот вы и начните со своей эмтээс — первая девушка на тракторе. А насчет слабого пола — это старая песня. Зачем ее вспоминать?
— Хорошо, рискнем, — согласился наконец Репинский. — Устроим ей проверочку. Но без всяких там скидок...
В тот же день Антон пригласил Нюшу на свой трактор.
— Давай попрактикуемся еще разок... наведем, так сказать, последний лоск.
Нюша, по обыкновению, села на железное сиденье к рулю и тронула машину. Антон, наклонившись, стоял за спиной девушки, и руки его то и дело касались ее плеч.
— Ой, Антон, — отстранилась Нюша. — Ты лучше на крыло сядь. Жарко мне...
— Так я ж следить должен.
— Будто уж я так вожу плохо.
— Да нет... отменно водишь... классно! Хоть сейчас могу в напарники тебя взять.
— Мне бы только экзамены сдать, — вздохнула Нюша. — Боюсь я этого Лощилина... будет придираться.
— Сдашь! Я ручаюсь! — принялся уверять Антон. — А с механиком я поговорю... Не зверь он — не съест.
Антон вздохнул. И чем только она покорила его, эта Ветлугина! Маленькая, юркая, шумная, мальчишка в юбке, а не дивчина, а вот тянет к ней... Любка Ширяева и красивее, и фигурой взяла, и косы завидные, и глаза с поволокой, а тоскливо с ней, холодно, словно в пустой риге. Нюшка же как светлячок — светит, манит, а в руки не дается. Вчера вот обещала пойти на гулянье в Заречье. Антон приоделся, с добрый час ждал Нюшу у мостика, а вместо нее заявилась Любка Ширяева. Конечно, ни в какое Заречье Антон не пошел. А Нюша даже не вспомнила об этом и вообще ведет себя так, как будто ни о чем не догадывается. А над ним уж и приятели посмеиваются, и сестра — присох, мол, парень, на Осьмухина стал не похож.
Ну да погоди, довольно ему ходить телком на привязи!
— Ты почему к мостику не пришла? — недовольно спросил Антон.
— Это когда? — переспросила Нюша. — На прошлой неделе, что ли?
— Да нет... вчера. Мы же в Заречье собирались.
— Так я Любку Ширяеву прислала. А у меня банный день был. Мы с мамкой в печке мылись.
В это время из-за кустов, примыкающих к вспаханному загону, вынырнул Степа Ковшов. В руках у него была суковатая палка, за плечами — рюкзак: Степа возвращался из города с курсов. Свернуть с дороги и пробраться через кусты его заставил низкий ровный гул тракторного мотора. Начинались кольцовские земли, и парню не терпелось увидеть, кто же пашет на тракторе.
Колесный, почти новенький «СТЗ» прошел совсем недалеко от кустов, но Степу никто не заметил. Он вгляделся и замер— за рулем машины сидела не кто иная, как Нюшка Ветлугина. А за ее спиной стоял высокий парень в майке, с лоснящимися на солнце загорелыми плечами.
«Кто бы это? — подумал Степа. — Не иначе инструктор Нюшку практикует».
Обрадованный такой встречей, он готов был сорваться с места и догнать трактор, но тут облик «инструктора» показался Степе знакомым. «Да ведь это Антошка Осьмухин! Но почему он вместе с Нюшей? Зачем вдруг так низко наклонился над ней и положил ей на плечи свои руки?»
Провожая глазами трактор, Степа словно прирос к месту.
— Ой, Антон, — взмолилась Нюша, чувствуя на своем затылке дыхание парня. — Ты бы лучше сошел. Я и одна попашу. А то еще увидят нас да скажут ни на есть что.
— И пусть говорят, пусть! — забормотал Антон. — Чего мне скрывать!.. Я же извелся по тебе... Только скажи, хоть завтра сватов зашлю!..
— Да я... я и не думаю об этом... — растерялась Нюша. — Зачем мне?..
— А о ком думаешь? Уж не о Степке ли Ковшове? Ты что ж, зарок ему дала... словом связана?
— Да уж как полагается... — слукавила Нюша. — И кисет ему вышивала, и письма друг другу пишем...
— Вранье все это... придумки!
Он вдруг обнял Нюшку за плечи, запрокинул голову назад и попытался поцеловать. Нюшка выпустила руль трактора, и машина завернула влево, оставляя за плугами кривую борозду.
«Вот они как», — зажмурился Степа и, покраснев, как девчонка, ринулся обратно в кусты. Выбрался на дорогу и размашисто пошагал к Кольцовке.
Так ему и не пришлось увидеть, как Нюшка прикрыла ладонью свои сухие обветренные губы, вырвалась из рук Антона, крикнула ему: «Остолоп!» — и, отвесив звонкую пощечину, спрыгнула с трактора.
АГРОУПОЛНОМОЧЕННЫЙ
Домой Степа вернулся, когда уже стемнело. Бесшумно переступил порог, повесил на гвоздик у двери свой заплечный мешок и с таким видом приветствовал сидящих за столом сестру и тетку, словно отлучался всего лишь на неделю.
— Вот и я... Здравствуйте!
Таня от неожиданности поперхнулась чаем, закашлялась и, вскочив из-за стола, бросилась к брату:
— А мы тебя ждали, ждали...
— Задержался вот. После курсов на экскурсию в совхоз ездили.
Засуетилась и тетка. Прибавив огня в лампе, она пристально оглядела племянника и нашла, что у него остались одни мослаки да кожа.
— Заучился... высох... Сейчас я тебя кормить буду. Умывайся иди! — И она загремела в печи ухватом.
За ужином Таня искоса наблюдала за братом. Он сидел молчаливый, грустный, еле притрагиваясь к еде.
«Устал, видно, с дороги... Да и на курсах, видать, притомился», — подумала она и хотела спросить, что он теперь будет делать в колхозе.
Но Таню опередила тетка.
— Это как же, Степаша? — заговорила она. — Когда зимой на курсы уходил, так и проводы были, и гармошка, и песни, а с курсов вернулся — никто не встречает.
— Да нет... меня встретили. — Степа невесело усмехнулся. — Век не забуду такую встречу.
— Кто встретил? Когда? — насторожилась Таня. Степа промолчал.
— Да, наверное, все Нюшка Ветлугина, — вздохнула тетка. — Аккурат, как в песне: «Провожала — ручку жала, проводила — все забыла...»
— При чем тут Ветлугина, — с досадой перебила ее Таня. — У нее и своих дел полно... Она сейчас с поля не вылезает. Да, Степа, новость знаешь? Нюша завтра экзамен на трактористку сдает... Наконец-то допустили ее.
— Говорят, у нее опытный инструктор появился? — уперев глаза в столешницу, спросил Степа.
— Да уж наставник такой... — подхватила тетка. — По пятам за девкой ходит, глаз с нее не спускает... Про них даже песенку сложили: «Антон с Нюшкой поле пашут, объезжают белый свет...»
— Ну что вы, тетя, право... Заладили одно и то же... — взмолилась Таня. Ей очень не хотелось, чтобы с первого же вечера Степа узнал что-нибудь о Нюшке и Антоне.
— Чего уж там, — разошлась Пелагея, — инструктор-то этот совсем голову девке вскружил. Свататься к ней собирается.
Степа судорожно сжал в руке вилку:
— Я знаю... Мне Нюша писала об этом, — деланно спокойно сказал он.
Нюша действительно писала ему, что в Кольцовку вернулся Антон Осьмухин, что он очень веселый и интересный парень, хорошо знает трактор, много рассказывает девчатам о машинах и взялся обучать их тракторному делу.
— Писала?! — удивилась Таня. — А ведь она всегда говорила, что Антон для нее только инструктор, учитель и ничего больше!
— Хватит об этом. — Оборвав разговор, Степа поднялся из-за стола. — Мир да любовь ей, соседке.
Он накинул на плечи пиджак и вышел на улицу. Небо было выстлано мерцающими звездными самоцветами. Мягко, по-весеннему шумели верхушки покрывшихся молодой листвой берез. С низким басовитым гудением носились в воздухе майские жуки. Где-то вдалеке в поле урчал трактор.
За палисадником, сквозь кусты сирени, мягко светилось окно ветлугинской избы. Степа перегнулся через изгородь, раздвинул ветви сирени. Хорошо бы вот, как в прежние вёсны, кинуть в окно крошечным комочком земли, кинуть раз, другой и услышать подозрительный голос Леньки: «Нюш, а Нюш, это тебе сигналят!»
«Еще чего! — обычно фыркала Нюша. — Это майские жуки в стекло барабанят».
А Степа присаживался у палисадника, затаивался и зорко следил, как бы тетя Аграфена неожиданно не распахнула окно и не выплеснула на улицу ковш воды.
Нюшка же, как назло, ужинала на редкость неторопливо, степенно, после молока пила еще чай и только тогда выходила на улицу.
«А я думала, и впрямь жуки озоруют...» — с деланным удивлением говорила она, натыкаясь на затаившегося у палисадника Степу.
«Хочешь соку березового?» — предлагал Степа и вел Нюшу за огороды, где из толстого ствола березы по желобку уже натекла полная банка сладковатой, освежающей жидкости.
И не бог весть какой это напиток, березовый сок, но Нюша пила его с превеликим удовольствием. Потом они стояли на мостике через речку, укрываясь одним пиджаком, сидели на бревнах перед чьим-нибудь домом, о чем-то без конца говорили, как им казалось, об очень важном и значительном, и спохватывались только тогда, когда на деревне запевали первые петухи.
«Ой, — пугалась Нюшка. — Пора мне. Надо хоть Леньке с Клавой жуков наловить».
Но майские жуки уже спали, прилепившись к листьям деревьев. Тогда Степа тряс стволы лип и берез, и жуки падали на землю, точно желуди. Он наполнял ими спичечную коробку, и Нюшка убегала домой, а Степа, счастливо улыбаясь, еще долго слушал, как сонно гудят потревоженные жуки.
Вот и сейчас улыбка тронула его лицо. А может, вызвать Нюшку из дома, поговорить с ней, и все будет как прежде?
Степа нагнулся и набрал горсть мелких земляных орешков. Потом прислушался. Где-то за прудом лениво заиграла гармошка, девчата запели: «Антон с Нюшкой поле пашут, объезжают белый свет...»
Дальнейшие слова Степа не разобрал — помешал ветер, но в них почудилось что-то нехорошее.
Степа вздрогнул, комочки земли выпали у него из ладони.
Из-за угла избы показалась Аграфена.
— Кого это носит в такой час? — встревоженно спросила она и, узнав Степу, поздоровалась: — С приездом, сосед! Когда прибыл-то?
— Только что... в сумерки.
— К нам, что ли, собрался?.. Так дома одна я с ребятами.
— А где же остальные? — с трудом выдавил Степа.
— Тихон на складе кладовщиком работает, а Нюшка в поле, в бригаде у трактористов...
— Она что же, и днем там и ночью?
— Да вроде как приросла к этой бригаде, — с досадой сказала Аграфена. — Кухаркой заделалась. И варит, и жарит — белого света не видит. — Она подошла к Степе ближе, стараясь разглядеть его. — А ты с курсов, значит? Чему ж тебя обучили там? Кем в колхозе-то теперь будешь? Вроде как за агронома?
— Именно «вроде», — невесело усмехнулся Степа. — До настоящего агронома мне еще далеко. По документам я числюсь колхозным агроуполномоченным. По полеводству буду работать, хлеб выращивать, картошку, овес...
— Это бы хорошо, — обрадовалась Аграфена. — Люди с пониманием к земле да с совестью нам вот как нужны... Ведь похабничаем мы над землей почем зря! Пашем плохо, навоз вовремя не вывезли, семена мусорные... Где же тут доброго приплода от земли ждать? Люди так и говорят: «Вырастим хлеб, колос от колоса — не слыхать человечьего голоса». А все потому, мол, что такая земля неродящая.
— Это почему — неродящая? — удивился Степа. — Кольцовская земля не хуже, чем у других. А куда же правление смотрит, председатель?
— Да что там председатель! — Аграфена махнула рукой. — Закружили его наши крепенькие, закуролесили... Повылезли из всех щелей, заняли в артели все красные места — кто бригадир, кто животновод, кто кладовщик. И все кругом как нарочно сватья, кумовья да родственники. Ну, и вертят по-своему, как им сподручно да прибыльно. Вроде не артель стала в Кольцовке, а семейщина какая-то. Ох, Степа, в неурочный ты час приехал... Боюсь, не ко двору придешься...
— Приехал так уж приехал, — отозвался Степа. — Назад уезжать не собираюсь.
Аграфена тяжело вздохнула:
— Наговорила я тебе с три короба. Поживешь — сам увидишь.
На другое утро Степа отправился в правление колхоза. Василий Силыч встретил его с шумным радушием, усадил за стол и долго рассматривал выданное Степе на курсах удостоверение.
— «Агро-упол-но-моченный», — прочел он по складам. — Это значит — по земле уполномоченный, по посевам, по урожаю. Хорошо придумано!.. Да и честь немалая! Ну что же, уполномоченный, тебе и карты в руки. Ходи, посматривай, следи за порядочком в поле... Бригадирам помогай. Первую бригаду у нас Павел Трофимович возглавляет, вторую — Тимофей Осьмухин.
«И впрямь крепенькие мужички подобрались», — вспомнил Степа слова Аграфены.
— Да вот еще что... За трактористами доглядывай, — попросил Василий Силыч. — Небывалое это дело — машина на земле. Испокон веков мы землю собственноручно пахали... Встанешь на зорьке и ходишь по полосе с плутом из конца в конец. Каждый ты ком земли видишь, каждый пласт. А теперь что же выходит? Одно нам звание только и остается — мужик, землепашец, а землю пахать другие станут... пришлые да сторонние. Чудно́, право!
Договорившись, что он сегодня же приступит к работе, Степа вышел из правления.
На улице он столкнулся с сестрой. Таня сказала, что идет в МТС, где Нюшка Ветлугина сегодня держит экзамен на трактористку.
— А-а, вон что, — с деланным равнодушием протянул Степа. — Ни пуха ей, ни пера...
Таня вопросительно посмотрела на брата:
— Может, и ты придешь? Нюшка вроде за всех девчат экзамен сдает. Выдержит — и нам потом легче за руль будет сесть. Хоть на минутку загляни... Ну, братец!
Степа отвел глаза в сторону.
Ведь как они мечтали с Нюшей о совместной работе на тракторе, как шумно и озорно провожала она его на курсы в город, как он нетерпеливо ждал ее писем! И вот все получилось не так, как было задумано. Но Нюша все же добилась своего — сдает сегодня экзамен. Разве мог Степа не прийти?
ЗА РУЛЕМ
Экзамен проходил в усадьбе МТС. Преподаватель по тракторному делу долго проверял Ветлугину по теории, задавал десятки каверзных вопросов и, не найдя, к чему придраться, с удовольствием пожал ей руку:
— Разбираетесь хорошо! Парни могут позавидовать! Очень рад за вас! Теперь дело за практикой...
Практическое вождение проверял сам механик Лощилин.
Хмурый, насупленный, всем своим видом говоря, что его-то не проведешь и ничем не задобришь, он сел на крыло трактора и приказал Ветлугиной заводить мотор.
Нюша мельком окинула взглядом усадьбу МТС. Недалеко от трактора толпились девчата. Подруги кивали ей головой и пытались ободряюще улыбнуться.
Нюша взялась за заводную ручку. В это время в воротах эмтээсовской усадьбы показалась запыхавшаяся Таня с братом.
«Пришел все-таки», — подумала Нюша.
Она уже слышала о приезде Степы, но сама его еще не видела, не обмолвилась с ним ни одним словом и не представляла себе, как произойдет их встреча.
— Я сказал: заводить! — напомнил Лощилин. — О чем тут раздумывать?
Вздрогнув, Нюша с силой рванула заводную ручку. Но мотор, как видно, попался новенький, необкатанный, и ручка не провернулась.
— А в поле что будет? — не глядя на дивчину, спросил Лощилин. — За чужим дядей побежишь или как?
Кровь бросилась Нюшке в лицо. Кто мог знать, что на экзамене попадется такой трактор. А у нее, как на грех, ни ремня с собой, ни веревки, чтобы провернуть заводную ручку.
Нюша растерянно оглянулась по сторонам.
Подруги смотрели на нее встревоженно и жалостливо. Степа, не сводя с трактора глаз, отстегнул свой ремень и, свернув в кольцо, бросил его к ногам Нюши.
Лощилин продолжал смотреть в сторону и ничего не заметил.
Подняв ремень, Нюша прикрепила его к заводной ручке и, откинувшись всем телом назад, провернула наконец коленчатый вал. Мотор заработал.
— Скажи на милость, — ухмыльнулся Лощилин. — И откуда сила взялась!
Нюша сунула ремень в карман куртки, поднялась на сиденье и тронула машину.
С добрых полчаса механик гонял Ветлугину вокруг МТС. Он заставлял ее поворачивать трактор направо, налево, давать задний ход, глушить мотор, заводить его снова.
Девчата и Степа неотступно следовали за трактором.
Потом Лощилин приказал Нюше проехать вдоль Кольцовки. Из изб, с огородов высыпали женщины, старики, ребятишки.
Ленька прибежал домой и сообщил матери, что Нюшка катается на тракторе. Аграфена решила, что дочь вновь самовольничает, и, перепуганная, выскочила на улицу.
Но, как оказалось, на крыле, позади Нюшки, сидел сам механик Лощилин, и он-то, как видно, и заставлял ее выделывать всякие номера.
Вот дочь провела машину по крутому косогору над прудом, вот она перебралась через широкую буерачину, вот пересекла топкую низину.
— Не опрокинулась... не завязла... Прямо чудо какое-то! — шептала Аграфена, следя за трактором.
— Въезжай задним ходом! — распорядился под конец Лощилин, показывая на распахнутые ворота Хомутовского двора.
Нюша поежилась — ворота были узкие, едва лишь для телеги, да и столбы были поцарапаны концами осей. Но будь что будет — на то и экзамен.
Она принялась медленно подавать трактор назад.
Кругом все притихли. От колодца с ведрами воды подошла хозяйка дома, Катерина Хомутова. Увидев трактор, вползающий во двор, она завопила на всю улицу:
— Люди добрые, ратуйте! Ворота рушат!..
Но Нюшка уже ничего не слышала. Повернув голову назад и закусив губу, она неотрывно следила, как на нее наплывал темный проем распахнутых ворот. Одно неточное движение, и заднее колесо зацепит деревянный столб...
Нюшку прошиб холодный пот.
Но нет. Колесо, сделав еще пол-оборота, на ширину ладони прошло мимо столба, и трактор с рычанием въехал во двор.
— Вошел! Вошел! — обрадованно закричали девчата.
Заметались перепуганные куры, затявкала собака. Катерина, не зная, что делать, схватила ведро и с размаху облила Нюшку водой. Досталось и Лощилину.
Кругом захохотали.
Механик распорядился гнать трактор в МТС. В этот же день Нюша получила права на вождение трактора. Поздравить ее собрались все подруги.
— Ну и настырная ты, Нюшка! — не скрывая восхищения, сказала Зойка. — Как решила, так и вышло... А мы вот все еще на прицепе...
— Погодите... И вы со мной будете, — пообещала Нюша и посоветовала девчатам: — Вы, главное, на парней наседайте. Присматривайтесь, как они работают, за руль почаще садитесь. Это всяких курсов дороже.
Нюша пригласила Таню к себе на трактор прицепщицей.
— А кто парней кормить станет?
— Скажем дяде Васе. Найдет он какую-нибудь бабку-стряпку. А мы зато опять вместе будем. Согласна?
— Куда же я без тебя... — кивнула Таня. — Сама знаешь...
Когда Нюша сообщила матери, что она получила права трактористки и на днях сядет на машину, Аграфена и порадовалась и огорчилась.
— Дотянулась все же до высокого... Теперь, значит, на все лето в поле закатишься? И домой тебя не заманишь?
— Это уж по работе глядя, — ответила дочь и, обхватив мать, прижалась к ее плечу щекой. — Да ты не жалься... Не на войну ухожу. Здесь же буду работать, рядом с тобой, за овинами. Можешь рукой мне помахать, можешь горячих блинов принести на завтрак.
Аграфена задумалась. Ее Нюшка — землепашец! Будет поднимать машиной землю, сеять хлеб, выращивать его. А что она понимает в земле, если ей даже не довелось походить за сохой и за бороной, погнуть спину во время жатвы, до соленого пота на спине помахать тяжелым цепом в молотьбу?
И разве когда-нибудь было такое, чтобы молодые так храбро и рьяно брались за землю? Но, может, оно так и надо — ведь все кругом молодеет, меняется, наливается новой силой.
— Иди, дочка, паши! — напутствовала Аграфена. — Только по совести работай. Землю не порти, глубже паши! Вот и Степа Ковшов приехал. Одно вы с ним дело потянете, только с разных концов.
Степа! Теперь Нюша очень хотела его повидать. Что-то он собирается делать в колхозе, как отнесется к тому, что она стала трактористкой. Но Степа до сих пор почему-то так и не зашел к ним.
Нюша поэтому очень обрадовалась, когда в сумерки около избы-читальни она неожиданно встретила парня.
Чуть похудевший, в сатиновой косоворотке с белыми пуговицами, в зеленой фуражке, которая с трудом налезала ему на голову, Степа в замешательстве поклонился девушке.
— Заходил вот... в читальню, — объяснил он.
— Ну и как? — нетерпеливо спросила Нюша.
— Хорошо стало... Уютно, порядок.
— Да, Степа! Раз ты вернулся, бери секретарство опять на себя.
— А это уж как собрание...
— Так я все равно в поле буду... безвыездно, все лето.
— Я тоже на завалинке сидеть не собираюсь.
— Да, ты ведь теперь агроголова, — улыбнулась Нюша. Она достала из кармана ремень и протянула его Степе: — Спасибо! Выручил ты меня.
— Что ж тебя выручать, — усмехнулся Степа. — Сама до всего дошла. Машину ты здорово водишь... пожалуй, парням не уступишь.
— Это еще увидим... — заскромничала Нюша. — Вот поле покажет.
— Ты, можно сказать, первая теперь дивчина на тракторе... на всю страну. Это не шутка! Поздравляю, конечно! И желаю успехов! — Он замолчал и, неловко потоптавшись на месте, посмотрел в сторону. — В общем и целом ты, я вижу, неплохо тут жила... И трактор оседлала, и тракториста выглядела. Тоже, конечно, поздравляю!
— Как это — выглядела? — насторожилась Нюша.
— Обыкновенно... глазами. А может, тебя выглядели. Кто знает... Слух идет, женишок у тебя объявился...
— Ты что, с кумушками стал знаться? Сплетни всякие собираешь?
— Зачем с кумушками... — Степа чувствовал, что говорит не то, но сдержаться уже не мог. — Сам видел, своими глазами...
— Вот ты о чем! — Сузив глаза, Нюшка вспыхнула и, резко повернувшись, почти побежала к дому.
На другой день, захватив с собой Таню, Нюша пришла в МТС получать трактор.
Лощилин направил ее к заведующему мастерской, и тот показал ей старенький, видавший виды «Фордзон».
Наспех отремонтированный, небрежно покрашенный в грязно-зеленый цвет, он чем-то напоминал девчатам знаменитый школьный трактор, который, поработав немного, в конце концов развалился.
— Это мне? Такой дряхлый! — удивилась Нюша.
— Чем богаты... — невесело усмехнулся заведующий. — Новых машин для тебя не осталось.
Нюша с трудом запустила мотор. Он затарахтел, зачихал, в цилиндрах где-то подозрительно застучало.
— Да он же развалится в первой борозде!
— Все может быть, — согласился заведующий и чистосердечно признался, что трактор этот устаревший, американской марки, часто ломается, сожрал кучу денег на ремонт и сейчас годен только как учебное пособие на тракторных курсах.
— Послушай, деваха, — посоветовал заведующий мастерской. — Откажись ты от «Фордзона», мороки с ним не оберешься. Не понимаю, зачем его Лощилин на пахоту ставит.
— Ясно дело, откажись, — подхватила Таня. — Куда ты на такой тарахтелке поедешь!
Нюша расстроилась. А она-то думала, что ей дадут новую машину.
— Да он смеется, этот Лощилин, — обиделась Нюша. — Я вот поговорю с ним.
Оставив Таню у трактора, она побежала в контору. Механик выслушал ее с невозмутимым видом.
— Скажите на милость, — покачал он головой. — Парни работают как положено, а появилась дивчина — и сразу претензии. Но вообще-то я не настаиваю... Не нравится «Фордзон» — можешь подождать до новой партии тракторов.
— А сколько ждать?
— К лету, вероятно, будут. Или можем зачислить тебя в резерв, — продолжал Лощилин. — Сиди пока дома... А как кто из трактористов уволится — позовем тебя.
Нюша зло сверкнула глазами. «К лету, в резерв!» Это, пожалуй, похуже, чем старый «Фордзон». Зачем же она тогда корпела над книжками, зачем пошла работать кухаркой в бригаду, зачем сдавала экзамен? Да к лету все и забудут, что Нюша Ветлугина умеет водить машину.
— Нет уж, спасибочко! Ждать-выжидать не стану, — в сердцах бросила она и, не попрощавшись, ушла от Лощилина.
— Ну как? — встретила ее Таня. — Договорились?
И Нюшка бодрым голосом ответила, что все в порядке: пока она поработает на «Фордзоне», а потом получит новую машину.
В поле трактористы встретили Нюшкину машину веселыми восклицаниями — тарахтелка приехала, железный лом на колесах, музейная рухлядь...
— Списанный же трактор, непригодный, — с досадой сказал Нюше Антон. — Замучает он тебя... И зачем ты связалась с ним?
— Да так вот... пришлось, — смущенно призналась Нюша и попросила бригадира послать ее с «Фордзоном» куда-нибудь на отдаленное поле, подальше от любопытных глаз.
— А план кто выполнять будет?.. Норму? Ты же нас назад потянешь со своим тарантасом.
— Обвыкну как-нибудь...
Сокрушенно вздохнув, Антон отправил Нюшу с ее «Фордзоном» на самый дальний участок поля — на Малую гриву.
С первой же борозды трактор стал капризничать, останавливаться, и ей пришлось подолгу копаться в моторе. К вечеру на Малой гриве пролегла совсем небольшая полоска вспаханной земли.
— Пахать нам не перепахать, — жалостливо сказала Таня. — Проковыряемся теперь до морковкина заговенья...
Нюша молчала.
На другое утро, едва только девчата сделали на «Фордзоне» два круга, как к Малой гриве подъехал на тракторе Антон.
— Получай новую технику! — возвестил он, приветственно помахав рукой.
Нюша остановила свой «Фордзон» и недоверчиво покосилась на новую машину.
— Откуда это?
— Нашел вот... Постарался для тебя, — ухмыльнулся Антон. — Ты про трактористов-ударников слыхала?
— Еще бы.
— Нажмешь — и ты полторы-две нормы на этой машине будешь давать.
— Хотя бы одну вытянуть.
— Будут две нормы, будут... Я в тебя верю. Нет, ты только подумай! Первая дивчина на тракторе... Передовик, ударник! Понимаешь, какой шум пойдет. Всю нашу бригаду прославишь.
— Куда там!.. — нахмурилась Нюша.
— А мы вместе давай держаться, — перебил ее Антон, задорно блеснув глазами. — Зачем тебе на мелководье сидеть да небо коптить! Я ж твой норов вот как знаю...
Нюша с удивлением покосилась на парня. И что он за человек? Веселый и разбитной Антон, со всеми запанибрата, в работе удачлив и спор, начальство его ценит и уважает, с ней Антон предупредителен, заботлив, ни на что не сердится и балует ее подарками. На днях привез Нюшке из города комбинезон со множеством кармашков и пряжек и упросил ее садиться за руль только в этом костюме.
— Так я на тебя надеюсь, — продолжал Антон. — Не задерживай, принимай машину. Эта не подведет... — Он оценивающим взглядом окинул Нюшкину фигуру в новеньком синем комбинезоне и улыбнулся. — А ничего, приметная стала. Словно с картинки сошла...
— Ладно тебе, — вспыхнув, отмахнулась Нюша.
Она осмотрела трактор и осталась им вполне довольна.
— А все же, откуда он у тебя?
— Северьянов на нем работал... Помнишь, пожилой такой. Не приглянулась ему наша молодежная бригада, к старичкам ушел. Вот трактор и освободился.
Нюша запустила мотор и ввела трактор в борозду.
— Желаю успехов! Что случится — зови меня, не стесняйся! — крикнул ей вслед Антон и, забравшись на «Фордзон», погнал его к полевому стану.
С новой машиной дело пошло куда лучше. Она легко тянула трехлемешный плуг, работала без остановок, и вспаханной земли на Малой гриве с каждым днем становилось все больше и больше.
Нюша радовалась. Вот она и добилась своего! Самостоятельно ведет норовистую машину... Она ощущала, как, содрогаясь и завывая, трактор ползет по косогору, как, убыстрив ход, спускается в низину, врезаясь плугами в податливую, полную соков, весеннюю землю.
Было что-то непередаваемо упоительное в том, что машина чувствовала каждое движение ее рук, шла ровно и прямо, точно держась борозды, оставляя глубокий след широких клыкастых колес.
Нередко от радости Нюша начинала петь. То была песня без слов, как обычно поет табунщик в степи или пастух на пастбище — песня о земле и ветре, о солнце.
Поглядывая на Нюшу, Таня невольно улыбалась. Ей тоже было хорошо в поле — сиди себе на железном высоком сиденье, посматривай изредка на плуги да слушай, как поют над головой невидимые жаворонки и снуют над пашней стаи хлопотливых грачей и галок.
— О чем ты горланишь целое утро? — спрашивала Таня подругу, когда та останавливала трактор.
— А так... что в голову взбредет, — отвечала Нюша. — И ты пой... С песней время быстрее идет.
Полевая страда целиком захватила девчат. Домой ходить было некогда, и они ночевали в вагончике-общежитии или прямо в поле, около трактора, заранее натаскав из омета соломы.
День у девчат получался долгий-предолгий. Вставала Нюша чуть свет, когда парни еще сладко спали, осматривала трактор, заправляла его водой, горючим и, разбудив подругу, выезжала на Малую гриву. Работали они без передышки до полудня. Когда же наступало время обеда, Нюшка отправляла Таню в полевой стан за едой, а сама принималась осматривать трактор, подтягивала крепления, смазывала узлы, протирала тряпочкой мотор.
Возвращаясь с обедом, подруга неизменно заставала Нюшу у машины.
— И что ты ее вылизываешь, как корова теленка! — смеялась она. — Так и белого света не увидишь.
— А ты разве не знаешь, что машина любит смазку да ласку! — отшучивалась Нюша и спрашивала, что происходит в полевом стане.
— Там Доску почета завели. Каждый день выработку записывают, — сообщила однажды Таня. — На первом месте Антон идет... две нормы у него. А ты с четвертого места на третье передвинулась.
— Это правда?
— Вечером сама увидишь... Не зря, видно, Антон напророчил — быть тебе ударницей.
Нюша поторапливала Таню с обедом, заводила трактор и заканчивала работу поздно вечером, когда борозда уже становилась еле различимой в темноте.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В ПОЛЕ
Когда Степа пришел в бригаду к Ширяеву, тот с удивлением развел руками:
— Выходит — два хозяина на одно поле... Негоже так, молодой Ковшов!
Степа поспешил успокоить его — он в бригадиры не рвется, и попросил дать ему самую что ни на есть рядовую работу.
— Не к лицу тебе в рядовых-то ходить, — усмехнулся Ширяев. — Как-никак, а ты вроде ученый муж, агроном без малого... Сидел бы себе в конторе, бумажки строчил, цифирь складывал.
— До конторы охотников и без меня хватит.
— Тогда в огородную бригаду определяйся. Будешь капусту выращивать, морковь, петрушку там всякую. Тебе ж все едино, где ученость свою показать. И бригада там как на подбор: старухи да два деда с грыжами...
Степа нахмурился:
— Овощи не мое дело. На курсах я изучал только полеводство. — И он вновь спросил насчет работы в бригаде.
Ширяев задумался:
— Не знаю, куда тебя и приткнуть. Ведь с этой эмтээс все переиначилось... Трактористы теперь цари и боги, первые хозяева в поле. А мужик вроде и в поле не нужен...
— Может, меня сеяльщиком поставите?
— Куда там... Уже полный набор, — отмахнулся Ширяев и лукаво покосился на Степу, заранее уверенный, что тот откажется от его предложения. — Вот если воду к тракторам подвозить... Пока что этим делом Ленька Ветлугин заправляет. Да баловной он чересчур... Вчера колесо с водовозки потерял.
— Можно и воду... — с серьезным видом согласился Степа.
— Ну и ну... — оторопел бригадир.
На другой день Степа принял от Леньки Ветлугина подводу с бочкой. Ленька при этом только презрительно ухмыльнулся и произнес единственную фразу:
— Эх ты, агроуполномоченный — упал намоченный!
В новой роли Степу встретили по-разному: одни — с удивлением, другие — с насмешкой.
Новая работа совсем не огорчила Степу. Он мог теперь разъезжать по всем полям, знакомиться с трактористами, наблюдать за их работой.
Ему казалось, что если уж трактористам доверили самое дорогое и важное — пахать землю и сеять хлеб, так они должны жить и работать как-то по-особенному, отдавать делу весь свой пыл и рвение, почти не сходить с машин и стремиться только к одному — заслужить любовь и уважение людей. Но то, что он видел в поле, сильно его огорчало. Машины работали еще плохо: землю пахали мелко, часто ломались, подолгу простаивали в борозде, и колхозники, проезжая мимо, покрикивали:
— Эй вы, мастера-механики, опять загораете?! Или у вас перекур с дремотой?
Девчата уже распевали по вечерам язвительные частушки о незадачливых трактористах, а в деревне стали поговаривать, что на трактор надейся, а про коней не забывай.
«Что ж это такое? — с тревогой раздумывал Степа о трактористах. — Может, без привычки у них дело не ладится... Новую технику не могут освоить? Или еще почему?»
И ему было даже неловко вспоминать последнее собрание колхозников, на котором директор МТС заявил, что ручному и конному труду пришел конец и крестьяне могут положиться на механизаторов, как на каменную стену, — они и спашут, и посеют, и урожай соберут.
Все чаще в поле появлялся Василий Силыч. Он злым метровым шагом ходил по вспаханным участкам, замерял глубину вспашки, отмечал колышками те места, где плуги оставляли огрехи, и вступал с трактористами в яростную перебранку.
Потом, встретив Степу, он разражался жалобами, что поганцы мальчишки сорвут им посевную.
— Вот ведь какой поворот, — сокрушенно говорил председатель. — Думалось, что с этими тракторами заживем, как у Христа за пазухой, а выходит, и за ними глаз да глаз нужен. А ведь это и твоя вина, Степаха!
Степа недоуменно посмотрел на него.
— Да, да, — пояснял Василий Силыч. — Кто баранку-то крутит? Молодежь, комсомол, твои подопечные. А за порядком молодежь не следит, за делом недоглядывает...
Степа растерянно признавался, что большинство трактористов в бригаде пришлые, чужие, комсомольцев среди них мало, да и те в кольцовской ячейке на учете не состоят.
— Ишь ты! — ухмылялся Василий Силыч. — Не приписаны, значит? А я думал, совесть да радение их приписывать не требуется.
Были недовольны трактористами и колхозные бригадиры.
Когда Степа показывал Ширяеву или Тимофею Осьмухину плохо вспаханный и небрежно засеянный участок поля, те обычно посылали за Антоном и, не стесняясь посторонних, принимались на все лады костить трактористов:
— Вот же бригаду прислали на нашу шею. Собрались с бору сосенки... Не пахари вы, а землегады. Мы еще весной говорили — лучше бы на лошадях землю-то пахать.
Антон краснел, злился и, в свою очередь, кричал на бригадиров, что они отсталые, старорежимные люди, не любят машин и придираются к трактористам.
— «Старорежимные», — с обидой кряхтел Тимофей Осьмухин. — Еще монархисты скажешь! — И он жаловался Степе: — Вот ведь сынок какой... На отца взъедается.
Однажды утром, проезжая на водовозке позади усадьб, Степа услышал близкое тарахтение трактора. Оно доносилось с приусадебного участка Осьмухиных.
Остановив подводу, Степа перескочил через изгородь, заглянул на усадьбу и обомлел.
Тракторист Банкин, кряжистый, краснолицый парень, прославившийся в Кольцовке как пьяница и скандалист, сидел за рулем колесного трактора и вспахивал приусадебный участок.
Рядом, по густо унавоженной земле, вприпрыжку бежала Матрена и требовала, чтобы Банкин не жалел горючего и пахал глубже.
Степа, раскинув руки, шагнул навстречу трактору.
— Стой! Глуши мотор! — закричал он. — Стой, говорю!
Банкин в недоумении пожал плечами, сбавил скорость и нехотя остановил машину.
— Почему усадьбу пашешь? — спросил Степа.
— А ты зачем под колеса прешь? — неприязненно ответил Банкин. — Жить надоело? Раздавлю, как червяка, и не пикнешь.
— Весна — вот и пашет, — вступила в разговор Матрена. — Герасим — он нам не чужой... Почти сродственник. Харчуется у нас в доме. Чего ж ему не подмогнуть?
— Я спрашиваю, кто тебе разрешил пригнать на огород машину? — наступал на тракториста Степа. — Сейчас же посевная в колхозе.
— А трактор колхозу неподвластен, — лениво отозвался Банкин. — У нас своего начальства невпроворот. Тебе-то какая докука? Иль тоже к начальству лепишься?
— Он теперь у нас «упал намоченный» — долго не поднимется, — фыркнула Матрена и потеснила Степу в сторону. — Ладно, парень, не засти борозду... Тут и пашни-то с гулькин нос осталось.
Степа бросился искать бригадира. Когда он привел Павла Трофимовича на приусадебный участок к Осьмухиным, трактора здесь уже не оказалось, но земля была вспахана полностью.
— Что ж это, Павел Трофимыч? — в сердцах пожаловался Степа. — Земля в поле перестаивает, а трактористы чужие усадьбы за магарыч пашут?
— Наше дело малое, — отмахнулся Павел Трофимович, — У них в эмтээс свое начальство — пусть оно и взыскивает.
— Вот и надо сообщить в эмтээс. Наша же земля, колхозная. И мы ее трактористам не на откуп отдали.
— Сообщим, конечно, — вяло согласился Ширяев. — А только что с них взять — бедолаги, лодыри...
Степа с удивлением покосился на Ширяева. Что это с ним? То ли он постарел и ничего не замечает, то ли не хочет ссориться с трактористами.
На другой день, подвозя воду к Поповкину оврагу, где пахал землю Сема Уклейкин, Степа заметил на конце загона группу колхозников во главе с дедом Анисимом. Колхозники бродили по вспаханному полю и проверяли глубину вспашки. Потом они сошлись вместе, о чем-то возбужденно заговорили, еще раз замерили глубину борозды и с решительным видом пошли навстречу трактору.
Анисим, угрожающе взмахнул палкой, потребовал, чтобы тракторист остановил машину.
— Тебе чего, дед? — удивленно спросил Уклейкин, заглушив мотор.
— Слезай! — строго приказал Анисим. — И ты слазь! — кивнул он Зойке, сидевшей над плугами.
Тракторист и прицепщица подошли к колхозникам.
— Ты что ж, собачий сын, делаешь? — зашумел Анисим. — По какому такому праву десяти сантиметров недопахиваешь? А?
— У меня ж мотор малосильный, цилиндры сношенные. Надорваться может машина.
— Безобразник ты, Семка! Пакостник! Свою же землю поганишь! — с обидой сказал Анисим и обратился к подошедшему Степе: — Видал, как твои комсомольцы над землей измываются...
Уклейкин сослался на прицепщицу — наверное, та неправильно установила плуги.
— А ты не ври! — возмутилась Зойка. — Сам заглублял... Норму выгоняешь, вот и мельчишь, а на других собак вешаешь!
Уклейкин молча переставил деление на углубителе и с мрачным видом полез на трактор.
— Нет уж, милок, погоди! — задержал его Анисим. — Придется тебе с нами в метесе прогуляться.
— Это еще зачем?
— А вот начальству доложим... Пусть баньку тебе устроят, попарят с веничком.
— Верно, Иваныч, — поддержал старика Игнат Хорьков. — Нам такие пахари не нужны...
— Да вы что, смеетесь? — опешил Уклейкин. — Я же на работе... У меня еще смена не кончилась... Кто мне за простой ответит? — И он вновь направился к трактору.
Игнат Хорьков взял Уклейкина за плечо:
— По чести тебе сказано — пошли до начальника.
— Никуда я не пойду! — вырываясь, закричал Уклейкин. — И не цепляйте меня!
— Э-хе-хе! — вздохнул Анисим. — А душа-то у тебя заячья, Семка. Нашкодил — да и в кусты.
Степа приблизился к Уклейкину и вполголоса сказал:
— Иди, раз зовут... Будь же человеком. К спорящим подошел Павел Трофимович.
— Что за сходка в рабочее время? — спросил он.
Степа рассказал, что случилось.
Ширяев поморщился, принялся по привычке ругать трактористов, потом махнул на Уклейкина рукой:
— Отпустите вы его... что с такого возьмешь... Посадили неуча за баранку, вот он и портачит.
— Что-то ты чересчур добрый, Трофимыч, — заметил Анисим, — А случись такое на твоей единоличной полосе — ты бы за это человека в землю втоптал.
— Так тогда же в нас дурная кровь гуляла... А теперь мы в артели живем... сочувствие надо иметь, понимание.
— А в артели, значит, землю портить можно?.. — спросил Игнат Хорьков.
Ширяев нахмурился:
— Этого я, положим, не говорил.
— Надо акт составить, — предложил Степа. — И пусть Уклейкин заново участок перепашет.
Ширяев согласился. Степа написал акт на мелко вспаханную землю, все подписались, и Павел Трофимович отправился в МТС. Но, прежде чем передать акт Репинскому, он показал его Лощилину.
— Опасаюсь, Николай Сергеич, — признался Ширяев. — Круто мы берем... Люди примечать начинают. Ковшов этот, наш агроуполномоченный, парень глазастый!.. Старик Безуглов по полю шарит. Шуметь начинают — мол, плохо работает ваша эмтээс, землю портит. Вот и актик пришлось составить.
— Так это же нам на руку! — обрадовался Лощилин, пробегая глазами акт. — Разговорчики всякие, недовольство, жалобы на эмтээс — что и требуется. Надо, чтоб механизация лихом обернулась.
— Все же поосторожнее надо бы, — заметил Ширяев. — Слишком уж часто машины стали портиться. Больше в ремонте стоят, чем землю пашут...
— А вы постарайтесь переложить вину на трактористов. Мол, они недоучки, бракоделы, аварийщики. Пустите слушок насчет вредительства. А мы кое-кого с работы снимем, раздор в их ряды внесем. Словом, пусть в колхозе шумят побольше, пусть актики почаще составляют.
— А если до директора дойдет? Он же человек партийный...
— Надо знать нашего Репинского, — ухмыльнулся механик. — Шумит, суетится, сыплет приказами и сам тут же о них забывает. Ему бы только цифирь была. Чтобы побольше гектаров нагнать да горючего сэкономить. А как вспахать, как посеять — он в это дело особо не вникает. Понимает мало да и перед начальством козырнуть большой охотник. — Лощилин на минуту задумался. — А осторожность, Трофимыч, конечно, нужна. Ты нас поругивай, но тоже с умом, лишнего не перехватывай.
— Я уж и так кручусь как белка в колесе, — пожаловался Ширяев. — Вот и Осьмухин на меня в обиде. Кричит, что я отсталый человек, супротивник машинам. Да, кстати, что он за фигура, Антошка этот?
— Фигура подходящая, — успокоил Лощилин. — Я его недаром в бригадиры выдвинул. Податлив, как глина. Хоть черта лепи, хоть ангела. Парень монету зашибить любит, гектары нагоняет, в передовики лезет. А это тоже нам на руку. И вы, Трофимыч, не скупитесь... Где надо задобрите парня, завысьте ему выработку. К качеству вспашки не придирайтесь.
Ширяев спросил, как же быть с актом на тракториста Уклейкина.
— Скажи, что мы его оштрафовали за плохую работу. И заставь парня перепахать участок... Не полностью, конечно, а так, для вида...
СЫНКИ И ПАСЫНКИ
В полдень Степа привез воду на полевой стан и еще раз столкнулся с Уклейкиным — тот заправлял свой трактор горючим.
— Сердишься, Сема? — спросил он.
— А чего мне сердиться! — безразличным тоном ответил тракторист. — Такое твое дело секретарское — внушать да наставлять.
— Дурной ты! — обиделся Степа. — Пойми — не во мне тут дело... Тебя ж с трактора ссадили... И кто? Мужики, колхозники. Ты им, можно сказать, в душу плюнул. А Ширяев как о тебе отозвался: «неуч». Да другой бы после этого сквозь землю провалился... или хотя бы подумал кое о чем.
Уклейкин молчал. Степа с подозрением оглядел парня — был тот на редкость грязный, всклоченный, рубаха и штаны измазаны маслом.
— Ну и хорош ты! — Степа покачал головой. — Скоро тобой ребятишек в деревне начнут стращать — берегись, детки, Семка-тракторист едет!
— Что ж мне теперь, белый фартучек нацепить, — с досадой сказал Уклейкин, — или комбинезончик, как у Нюшки! Хорошо тебе у водовозки-то! Норма не жмет — тихо все, спокойно. А ты потрясись целый день на железяке!.. Все потроха отобьет. И ноги сводит...
— Погоди, — перебил его Степа. — А как же Антон Осьмухин? Машины у вас почти одинаковые, земля одна и та же, а он в передовиках ходит... В газете о нем пишут... Да и Ветлугина вверх тянется.
— Нюшка с Антоном — это особь статья, — многозначительно усмехнулся Уклейкин.
— Почему ж особая? — осторожно спросил Степа.
— А ты, секретарь, тоже хорош! — озлился вдруг Уклейкин. — Ходишь тут, бродишь, а видишь только наполовину. Шерстить, так уж всех шерстить! Почему вот в бригаде сынки да пасынки завелись?
— Кто же это сынки?
— Ну, не сынки, скажем, так дочки, — замялся Уклейкин. — Сам смекай...
Степа задумался. И почему, в самом деле, так везет Ветлугиной? С каждым днем она работала все лучше и лучше. Имя ее не сходило с Доски почета, что висела в бригадном стане, а в районной газете появилась даже заметка об успехах первой девушки-трактористки и об ее учителе и наставнике бригадире Антоне Осьмухине. И, казалось, надо было бы радоваться, что комсомолка из их ячейки, босоногая деревенская девчонка, «Сучок», как дразнили Нюшку в детстве, так круто пошла в гору. Но радости не было.
«Ловко же он ее опутывает, бригадир этот... Как муху паутиной», — подумал Степа и тут же спохватился: уж не ревнует ли он Нюшку, не становится ли подозрительным и мстительным?
В сумерки Степа попал на участок, где работала Нюша. Он долго брел вдоль борозды и по привычке замерял глубину вспашки, когда Нюша догнала его на тракторе.
Глаза их встретились.
Девушка вспомнила, что после приезда Степы она с ним виделась всего лишь один раз. Это случилось позавчера вечером, когда Нюша пришла в избу-читальню на комсомольское собрание.
В считанные минуты она сделала отчет о проделанной работе, заявив в конце, что она теперь человек полевой и секретарствовать не может.
Парни и девчата без возражений избрали секретарем ячейки Ковшова. Нюша вручила ему ключ от сундучка, где хранились комсомольские дела, и протянула руку:
«Покедова, Степан Ефимыч... До осени...»
«Не за тридевять земель уезжаешь. Можем и раньше увидеться. Я к тебе в гости приду».
«Поле — оно без ворот, без дверей. Вход не заказан», — усмехнулась Нюша и тут же, спохватившись, подумала: «И чего это я с ним разговариваю так? А поделом ему... пусть всяких кумушек не слушает...»
— Всех проверяешь? Никому веры нет? — насмешливо спросила сейчас Нюша, останавливая машину.
— Всех... У тебя все в порядке, — отозвался Степа, пряча в карман раскладной метр. — Но понимаешь, какое дело... Соседи уже сев заканчивают, а ваша бригада все еще с пашней ковыряется...
— Да-а, не везет нам, — вздохнув, согласилась Нюша. — Антон говорит, простои нас замучили, поломки... Плохая еще техника в эмтээс.
— Что ты все на Антона ссылаешься! — не скрывая раздражения, заговорил Степа. — Сама приглядись, что в бригаде делается. В колхозе разговорчики всякие пошли. Люди веру в машины теряют. А у тебя...
Степа заметил умоляющий взгляд сестры, что сидела над плугами, и на миг запнулся.
— Что у меня, что?.. — насторожилась Нюша, налегая грудью на руль трактора. — Договаривай, коли начал.
И Степа не удержался:
— А у тебя уши заложило, глаза застило. Гонишь свои гектары и ничего замечать не желаешь. На славу позарилась! Похвалы, заметка в газете... Вот головка и закружилась!..
— Это я на славу позарилась?! Я?! — вскрикнула Нюша и обернулась к Тане, словно хотела найти у нее защиту. — Да мы как скаженные работаем... как дуры отпетые! И в дождь и в жару... До поздней ночи... От баранки аж руки сводит! — Она поправила платок на голове и зло оглядела парня. — Спасибо, товарищ секретарь! Оценил нашу работу, сказал золото словечко... Премного благодарны!..
— Ты послушай, пойми... — пытался удержать ее Степа.
— Чего уж там понимать! Ты бы лучше на себя поглядел. Разъезжаешь тут со своей бочкой, контролер-инспектор, цепляешься ко всем, словно тебе наша бригада поперек горла встала...
— Ладно вам! Разойдитесь! — крикнула Таня, чувствуя, что еще минута, и Нюша со Степой окончательно рассорятся.
Степа махнул рукой и крупно зашагал прочь от трактора.
— Ну что вы с ним, как чужаки, схватываетесь? — с обидой заговорила Таня. — Ведь Степа дело говорит. Тебе и впрямь глаза застило.
— И ты о том же? — уставилась на подругу Нюша.
— Разве ты не видишь, как Антон во всем тебе потакает? И трактор для тебя достал получше, и ремонт в первую очередь, а другим все что похуже да напоследок.
— Да что ты, право! — вздрогнула Нюша и почувствовала, что начинает краснеть.
— Вот еще что... — помявшись, начала Таня, — вы с Антоном все рядом да вместе, прямо как жених с невестой. Правда это?
— Да что ты, Танька... Я знать ничего не знаю.
— Земля слухом полнится. Будто у вас все обговорено и согласовано. Кончите сев — Антон сватов будет засылать. «Никому, говорит, ее не уступлю».
У Нюши на глазах выступили слезы.
— Меня-то он спросил? Что я — лопух у забора, рыба безответная?
Вечером Степа собрал кольцовских комсомольцев около избы-читальни.
— Что за новая придумка? — спросили ребята. — Ночной субботник какой-нибудь или самогонщиков пойдем вылавливать?
— Ни то и ни другое. Просто хочу свести вас в полевой стан к трактористам... — пояснил Степа. — Забыли мы про них. Живут они как на отшибе, ни с кем не знаются... Вот и поговорим с ними, устроим вроде вечера смычки. Ведь дело-то у нас общее. — И он попросил парней захватить гармошку, а девчат не жалеть в этот вечер своих голосов.
Через полчаса с частушками под гармонь комсомольцы уже подходили к полевому стану.
Трактористы прислушались. Они сидели за длинным дощатым столом и при тусклом свете фонарей заканчивали ужин. Мошкара билась о стекла фонарей и, обжигая крылья, сыпалась на стол. Вспыхивали отдаленные зарницы, заливая окружающие поля мертвенным белым светом. Облака на горизонте собирались в тяжелые лохматые стога и ометы. Где-то лениво погромыхивал гром. Было безветренно, душно.
А частушки доносились все громче и отчетливее. Высокими озорными голосами девчата пели о незадачливых чумазых трактористах, об их плохой работе, о мелкой вспашке, об огрехах в поле и даже об удалом Гераське Банкине, который пашет за магарыч чужие огороды.
Банкин с досадой швырнул ложку:
— Черта с два поужинаешь тут. Эй, бригадир! Заткни-ка им глотку!..
Антон поднялся из-за стола и шагнул навстречу Степе.
— Скажи своим гулякам — пусть убираются. Ребятам выспаться надо... Нам завтра на смену чуть свет.
— Понимаю, — усмехнулся Степа. — Народ вы трудовой, рабочий. А все же надо бы нам поговорить. По душам, начистоту. У меня тут для вас кое-какие новости есть.
— Какие еще новости? — нахмурился Антон. Степа присел к столу.
— Среди вас наш кольцовский комсомолец работает, — негромко заговорил он, — Сема Уклейкин. Его сегодня колхозники с трактора ссадили. Знаете за что?.. А завтра, глядишь, и еще кого ссадят. Вот я и хочу спросить: зачем вам машины доверили?
— Это все? — отрывисто спросил Антон.
Степа кивнул головой.
— Тогда я скажу. — Антон оглядел членов бригады и заговорил о том, что секретарь комсомольской ячейки ведет себя довольно странно.
Трактористы и прицепщики в бригаде молодые, неопытные, могут, конечно, ошибиться, допустить промашку, и им надо помогать, поддерживать, учить их, а не придираться на каждом шагу, не выслеживать малейшее упущение, как это делает Ковшов. А если уж говорить по совести, то трактористы в бригаде работают совсем неплохо: с утра до ночи не сходят с трактора, забыли про воскресные дни, многие перевыполняют норму вспашки...
Двое или трое парней дружно поддержали Антона: правильный у них бригадир, заботливый, своих трактористов в обиду не даст.
«Вот как у них все гладко да ладно», — с недоумением подумал Степа и покосился на Нюшу.
Подперев щеку рукой, словно у нее заболели зубы, она молча сидела на другом конце стола и глядела в сторону.
Степа обернулся к Мите Горелову и Уклейкину — что-то они скажут? Или тоже отмолчатся? Но нет, Митя наконец поднялся из-за стола.
— Сказать, конечно, есть о чем, — угрюмо заговорил он. — Порядком уже поднакипело. Я раньше как думал: сядешь, мол, за машину, и все гладенько пойдет, как в книжке. Раз-раз— и в передовики. А на деле все вкривь да вкось лезет. То поломка у трактора, то горючего вовремя не подвезли, то бригадира с механиком в поле не отыщешь. Вот и работаем через пень колоду.
«И правда, я о ребятах знать ничего не знаю, — подумала Нюша. — Загородилась от всего своим трактором».
— У меня за эту неделю три раза трактор ломался, — пожаловался Митя. — В аварийщики меня зачислили. Горят подшипники и горят. А почему — сам не знаю. Замучился я со своим чертовым рыдваном...
— Верно, Митяй! — подхватил Уклейкин. — Разве на наших развалюхах вытянешь норму? Пусть уж Ветлугина на своем новом тракторе гектары гонит да в передовики лезет.
— Видали, товарищи! — обратился Антон к собранию. — Уже начинается личная зависть. Ветлугина все силы в трактор вкладывает, с душой работает, культурно, образцово. У нее многим поучиться не мешает...
— Ты погоди! — хмуро перебила его Нюшка. — Чему у меня учиться... я сама как приготовишка. Ты лучше скажи, почему ребят аварийщиками считают, почему у них машины то и дело ломаются?
Степа с любопытством поглядывал на трактористов. Страсти разгорались не на шутку. Значит, в бригаде не так уж все гладко да ладно...
— Могу объяснить. — Антон обернулся к Нюше: — Недоучились еще хлопцы как следует. В технике мало соображают. И что вы за механизаторы такие? — напустился он на Митю с Уклейкиным. — Только бригаду позорите. Ходите распустехами, грязнулями. Машины запустили. На пашне халтурите.
— Это я позорю?! Я?! — Митя махнул рукой и с грохотом полез из-за стола.
Вслед за ним поднялся Уклейкин.
— Ты... ты не смей так о ребятах! — вскочив, крикнула Нюша Антону. — Не хуже они других... Не последние какие-нибудь. — Она догнала Митю с Уклейкиным и вернула их к столу. — А ну садись! Слушай, чего я скажу. Вот ты, Уклейкин, говоришь, что у тебя машина плохо работает. Рыдван, развалюха... А давай меняться. Ты забирай мой трактор, а я за твой сяду. Не хочу я, чтобы на мою новую машину пальцем показывали, — в сердцах бросила Нюша. — Может, я и на рыдване поработать сумею.
— Машины же на все лето за людьми закреплены.
— А ты возьми да раскрепи. Ты же бригадир. Ну как, Уклейкин, согласен? По рукам?
— Лихо придумано — тракторами меняться, — фыркнул Банкин. — Не зевай, парень. Не прогадаешь...
— А чего ж... я не откажусь, — согласился Уклейкин.
— Только, чур, соревноваться будем, — предупредила Нюша. — И каждый день проверять друг друга. И тебя, Митя, вызываю... кто больше и лучше вспашет.
— Я соревнования не боюсь, — сказал Митя. — Только пусть бригадир за ремонтом следит... Чтобы в мастерской по совести все делали, а не тяп-ляп... Или мы сами будем контролировать.
Антон начал было уговаривать Нюшу не меняться трактором, но Степа сказал, что затея с соревнованием и контролем за машинами очень стоящая, и Митя, Уклейкин и Ветлугина ударили по рукам.
На другой день на Нюшкин участок на велосипеде прикатил Антон. Дивчина уже работала на тракторе Уклейкина. — Нашла себе колымагу, утешилась, — с досадой сказал он, когда Нюша остановила машину. — Покатишься теперь вниз.
— Поживем — увидим, — ответила Нюша. — А трактор ты не хорони... Он не хуже других.
— И вообще, зря ты вчера за Горелова с Уклейкиным вступилась. Все равно они бракоделы и аварийщики. Лощилин говорит, что их придется из бригады отчислить.
— Это еще на воде вилами писано, — бросила Нюша. — А ячейка наша на что? Мы за ребят и постоять можем. — И она с неприязнью оглядела Антона. — Лучше скажи, о какой ты свадьбе болтаешь? Разве я тебе обещала?
— Клянусь, слова никому не говорил, — принялся уверять Антон.
— А почему слух о нас идет?
— На каждый роток не накинешь платок, — ухмыльнулся Антон. — В колхозе же видят, как я к тебе отношусь... Понимают.
— Так вот, заруби себе... — холодно сказала Нюша. — Чтоб я таких разговоров больше не слышала... Ни к чему мне это.
Антон обиженно пожал плечами:
— Так я ж не тороплю... Ждать буду.
Он по-хозяйски поднял капот над мотором трактора и достал из кармана новое магнето.
— Вот, раздобыл для тебя. Заменить хочу! Нюшка с решительным видом опустила капот:
— Нет уж, уволь... Я в особом внимании не нуждаюсь. Ты бы лучше ребятам побольше помогал, в поле к ним почаще заглядывал.
— Да ты что? — удивился Антон. — Бывалым трактористом себя почуяла? Не рано ли? А мотор разладится или еще что... Вот и сядешь в борозде, как Митька или Уклейкин. Наплачешься тогда.
— Не жди... не заплачу, — вспыхнув, буркнула Нюшка.
— Смотри, дело хозяйское, — усмехнулся Антон, убирая магнето в карман и садясь на велосипед.
Он отъехал, потом, пораздумав, вернулся обратно и миролюбиво сказал:
— Ладно тебе, не ершись. Случится с машиной что — меня кликнешь. Я не за горами...
Нюша промолчала, и Антон, побалансировав еще немного на велосипеде, уехал к своему трактору.
«Подумаешь, какой спец незаменимый!» — с досадой подумала Нюша, но в душе согласилась, что без поддержки Антона ей все же было бы нелегко управляться с трактором. А что же дальше? Так и будет она бегать к бригадиру с жалобой на каждую неполадку в машине, пользоваться его особым расположением, ходить у Антона в любимчиках? Слухи же тем временем будут все расти и расти...
— О чем это вы с ним? — спросила Таня, кивая на удаляющегося Антона.
— Да так... о разном, — пробормотала Нюша и, промолчав, покосилась на подругу. — Скажи, только в открытую. Ребята на меня очень сердиты? Митька вот... Степа?
Таня невесело усмехнулась:
— Да, забыла ты про них... И тихая чего-то стала, голоса не подаешь. А помнишь, как в зампредах ходила?
— Запуталось тут все, — хмуро отозвалась Нюша. — Ну да ладно, встряхнули вы меня. И знаешь, чего я надумала? Надо нам с ребятами еще получиться. Чтоб любая машина нас слушалась!
ПОИСКИ
Наконец весенний сев был закончен, и тракторная бригада приступила к обработке парового поля. К тракторам прицепили культиваторы, и их острые ножи, похожие на гусиные лапы, рыхлили землю, срезали под корень густые сорняки, и паровое поле из желто-зеленого становилось черным.
Нюшка наконец-то приладилась к трактору Уклейкина. Теперь он работал почти без остановок и не отставал от других машин. И все же дивчина была недовольна. Она уже слышала, что трактористы в соседней МТС вспахивали по полторы и даже по две нормы. Да и обидно было Нюшке, что Антон и его дружок Банкин ежедневно опережали ее.
— Учили, тратились на нас, а мы как мухи дохлые работаем. Еле-еле норму вытягиваем, — как-то раз с обидой заговорила Нюша с Митей Гореловым.
— Да нет, теперь вроде справно идем, — возразил Митя. — Когда, конечно, машины не ломаются...
— Где там справно... Ты посмотри, как в других эмтээс пашут. А как наш бригадир вперед лезет. И Банкин от него не отстает.
— Нашла на кого равняться, — фыркнул Митя. — Они ж ребята бывалые, с опытом, спецы, можно сказать. Наверное, секреты всякие знают. Да и машины у них получше наших.
— Это так, — задумчиво согласилась Нюша. — А все-таки негоже нам от спецов-то отставать. Давай съездим в соседнюю эмтээс, поучимся у трактористов. Вот как с парами разделаемся, так и махнем.
— Это можно, — кивнул Митя. — А то у наших бывалых немного чего переймешь. Замкнулись, секретничают.
Вечером, когда Нюша стояла у доски показателей и рассматривала колонку цифр, к ней подошел Степа Ковшов:
— Не жалеешь, что от нового трактора отказалась?
— Да нет, Семкина машина неплохо тянет, — призналась Нюша и растерянно кивнула на доску показателей: — А выработка почему-то застопорилась. Бригадир наш вон куда вырвался...
— А ты поищи, кругом приглядись. Смотри вот, что раздобыл для тебя. — Степа протянул Нюше смятую газету с обведенной карандашом заметкой.
Нюша пробежала заметку глазами. Неизвестный ей тракторист Песков из соседней Дубняковской МТС писал о том, как он экономит время на заправке трактора.
— Это что ж получается... Я, значит, работаю в поле, а возчик подвозит мне воду и горючее. Я останавливаю трактор, быстренько заправляю его и опять продолжаю пахать землю. И не надо мне в полевой стан ехать, не надо дорогое время терять.
— О том и речь, — подтвердил Степа. — Прямо сказать, толково придумал этот Песков.
Нюша с благодарностью посмотрела на парня. Значит, он думает о ней, помнит...
— Ой, Степа! — взмолилась она. — А если бы у нас попробовать? Ты бы помог мне?
— Я и хочу, чтобы ты попробовала, — кивнул Степа. — Давай хоть завтра начнем.
На другой день чуть свет он доставил в поле бочку с водой и бочку с горючим. Нюша заправила свой трактор и начала работу почти на час раньше других трактористов.
В полдень заправка в борозде повторилась. Вечером Нюша заглянула на бригадную доску показателей — выработка за день поднялась почти на полтора гектара.
К доске подошел Антон и спросил, почему Нюша целый день не появлялась в полевом стане. Уж не случилось ли чего-нибудь?
— Случилось. — Нюша кивнула на доску показателей и рассказала о заправке трактора прямо в борозде. — Здорово получается. Надо всем ребятам попробовать.
— Кто это надоумил тебя? — подозрительно спросил Антон. — Уж не Ковшов ли?
— Нашлись добрые люди, — уклончиво ответила Нюша.
— Не велика, скажем, находка, — пробормотал Антон, но про себя решил, что заправка по новому способу — затея действительно неплохая и, встретив Степу, велел ему подвозить воду и горючее в поле для всех трактористов.
С этого и началось. Теперь Нюша постоянно думала о том, как заставить трактор двигаться побыстрее, как сократить холостые переезды, как выгадать лишний час для работы.
Однажды она задержалась в поле до позднего вечера — очень хотелось закончить вспашку участка.
В темноте борозду было почти не видно, и она включила фары. Тусклый желтоватый свет раздвинул темноту, осветил заросшее сорняками паровое поле, и Нюшка продолжала вести трактор.
Часа через два участок был допахан.
— Дня тебе мало? — удивилась Таня, слезая с сиденья над плугами. — Кто же ночью пашет? А если в яму угодишь или на камень наскочишь?
— А фары зачем? А глаза? — вопросом на вопрос ответила Нюша и побежала по вспаханному полю — проверила глубину вспашки, зачем-то потрогала землю руками, попрыгала на ней.
— А ей-ей, не плохо получается, — не скрывая радости, заговорила она, возвращаясь к трактору. — Не хуже, чем днем... А смотри, какой загон подняли. А что, если все машины так будут работать? В две смены. И днем и ночью. И в нашей эмтээс, и в соседней, и по всей стране. Ой, Танька, ты подумай только...
— Ну вот, понесло тебя, — отмахнулась подруга. — А может, нельзя ночью-то... Ты же не спросилась ни у кого.
— Это ничего... мы потом скажем. Тут, главное, самим проверить. Мы завтра обязательно попробуем...
Но на другой вечер, едва только она зажгла фары, к трактору подъехал на велосипеде Антон.
— Слезай, приехали! — приказал он. — Отставить эти забавы!
— Какие забавы? — удивилась Нюша.
Антон сказал, что о ночной пахоте уже узнали Лощилин с Репинским, вызвали его к себе и учинили ему разнос.
— Тут и днем поломок не оберешься, а ночью и совсем машины загробим. Да и не положено это, не по инструкции. Нигде так не пашут...
— Антоша, а ты сядь со мной. Пройдись разочек, — принялась уговаривать Нюша. — Трактор, он как днем идет... ровненько, хорошо.
— Ты эти штучки брось! — заорал Антон. — Бригадир я или кто?.. Почему через мою голову скачешь? Не желаю я из-за тебя нагоняи получать.
— Ах, вот как! На бригадира начальство серчает, — насмешливо бросила Нюша, выключая фары и сходя с трактора. — Ладно, Антоша, не переживай. Сама к начальству схожу.
Утром выбраться в МТС Нюша не сумела, а к вечеру оттуда доставили в полевой стан напечатанное на машинке распоряжение.
— «В целях сохранения машинного парка, — прочел раздельно Антон и покосился на Нюшу, — категорически запретить использование тракторов в ночное время».
— А также запереть их на замок и никуда не выпускать, — в сердцах буркнула Нюша. — Совсем целехоньки будут. — И она бросилась к вагончику-общежитию.
Ее догнал Антон.
— Теперь понимаешь, что я не зря вчера на тебя нашумел, — миролюбиво заговорил он. — Кремневое у нас начальство, ничем не проймешь. А ты не журись... Зачем нужна тебе эта ночная морока? Смотри вот. — Антон протянул Нюше районную газету.
В ней была напечатана заметка о смелом почине тракторной бригады Антона Осьмухина, начавшей по-новому заправлять тракторы водой и горючим. Упоминалась в заметке и Нюша Ветлугина.
— Все с моих слов написано, — пояснил Антон. — Тут на днях корреспондент приезжал... Я ему и обрисовал положение. Видала, как я тебя поднимаю...
— За смелость трактористу Пескову спасибо скажи... из Дубняковской эмтээс, — сказала Нюша и поспешно сунула газету Антону в руки. — Возьми себе... Можешь хоть на стенку наклеить. А мне она ни к чему...
Разделавшись с пара́ми и отогнав трактор в МТС, Нюша вернулась домой.
В колхозе начинался сенокос, и она вместе с матерью решила пойти в косари.
— Да вы же косы держать не умеете! — засмеялся Горелов. — Ноги себе порежете. Вот я вам покажу работку... за троих накошу и высушу.
— Куда тебе, — махнула рукой Аграфена. — Ты же теперь человек служивый, кладовщик...
— А я отпуск возьму.
И верно, получив в МТС двухнедельный отпуск, Горелов тоже записался в бригаду косарей.
Утром чуть свет Аграфена с дочерью и мужем вышли на луг.
Василий Силыч оглядел косарей — их собралось совсем немного — и покачал головой.
— Вы что, народ забыли оповестить? — недовольно спросил он бригадиров.
— Как можно, — пояснил Ширяев. — Еще с вечера всех обошел... обещались с зорькой подняться.
Председатель распорядился начинать работу.
Аграфена с Нюшкой присоединились к группе женщин, Горелов встал за лучшим косарем бригады Игнатом Хорьковым.
Часа полтора он косил старательно, размашисто и не отставал от Хорькова. Но потом стал все чаще посматривать на солнце, припадать к жбану с водой или, нагнувшись, собирал в траве спелую землянику. Неожиданно из-под его косы выпорхнули две молодые перепелки и с жалобным писком побежали через луг. Горелов бросил косу и с криком: «Братцы! Лови их!» — кинулся догонять птиц.
Колхозники с сожалением посмотрели на него и продолжали косить.
Бегал Горелов долго, швырял в птиц фуражкой, кричал, улюлюкал, но так и не поймал. Когда он вернулся, его рядок был уже занят другим косцом, и ему пришлось встать позади всех. Но и здесь работа не ладилась: то Тихону казалось, что у него совсем затупилась коса, то вновь его прельщала земляника, то, разворотив осиное гнездо, он долго отмахивался от сердитых ос. Тихона уже догоняли косари, шедшие по второму кругу, и озорно кричали:
— Э-и-й! Подбирай пятки!.. Ходу давай!
К мужу подошла Аграфена.
— Ты что, Тихон, нетрудоспособный какой или надорванный? — с досадой спросила она. — С таким усердием и половины трудодня не выработаешь. Уж лучше бы ты и на луг не показывался...
На другой день косарей почти не прибавилось. Они все еще отсиживались по домам, ссылаясь то на неотложные дела, то на болезни.
Василий Силыч и Степа Ковшов отправились в деревню собирать колхозников.
Собравшиеся косари начали косить лесной участок.
Скрытый кустами от посторонних глаз, Горелов еле взмахивал косой и частенько отдыхал. А потом куда-то исчез. «Опять, видать, ягоды собирает», — подумала Аграфена и вместе с Нюшкой отправилась разыскивать Тихона.
Они прошли через мелколесье и за раскидистым кустом орешника, у дороги, заметили двух колхозников из соседнего села. Те сидели около телеги скручивали цигарки. Вместе с ними закуривал и Тихон.
— Покурил вот с проезжими... — сконфуженно забормотал Горелов.
— Зачем ты в кустах схоронился? А еще говорил, на сенокосе за троих поработаешь... — в сердцах упрекнула его Аграфена.
— Эх вы, головы дитячьи! — ухмыльнулся Горелов. — Скоро ведь хлеба поспеют. Хошь не хошь, а придется правлению луга между членами артели делить. Вот уж тогда люди развернутся. Тут тебе ни больных, ни старых не будет. Все на работу выползут, в момент сенокос закончат.
— Погоди, погоди! — встрепенулась Нюшка. — Сено, значит, развезут по своим сараям, а зимой втридорога продадут его на базаре.
— Это уж как полагается... Надо же людям копейку зашибить. Сейчас только на лугах и поживиться... — И Горелов спросил, когда правление будет распределять нескошенные луга между колхозниками.
— Не знаю... Я не член правления, — сухо ответила Нюша.
«Поживиться на лугах, — раздумывала она. — Так вот почему колхозники умышленно затягивают сенокос. Да и Горелов, как видно, не зря взял отпуск в эмтээс и пришел сенокосничать — тоже решил поживиться».
— И впрямь будет, как в прошлом году, — пожаловалась Аграфена, — приберут люди сенца по своим сараям, а колхозный скот опять зимуй на голодном пайке. — И она вопросительно посмотрела на дочь. — Хоть бы вы машиной помогли колхозу. Говорят, в других-то селах трактором луга косят...
— Ты это, Груня, оставь, — возразил Горелов. — Разве начальство дозволит? Луга-то у нас какие... кочки да канавы. Зараз машины сломаются...
— А если не сломаются! — сказала Нюша и с любопытством посмотрела на мать. А ведь она правильно подсказывает. В самом деле, почему бы машины не использовать на сенокосе. Тракторы сейчас стоят без дела, а на усадьбе МТС имеется несколько широкозахватных сенокосилок.
Нюша отправилась разыскивать Митю Горелова — надо было посоветоваться.
Пока они разговаривали, к ним подошли Степа Ковшов и председатель колхоза.
— А мы до вас, трактористы... Выручайте, — сказал Василий Силыч.
— Слыхали, какое настроение у колхозников, — пояснил Степа. — Луга по хозяйствам делить требуют. Каждый сам себе косить желает. Завтра по этому поводу общее собрание артели собирается... Теперь все зависит от вас... Сможете вы тракторные сенокосилки на луга доставить или нет?
— Мы уже думаем об этом, — сказала Нюша.
— Думать мало, — поправил Василий Силыч. — С утра надо начинать косить. Иначе поздно будет,
В этот же день Нюша с Митей отправились в МТС.
Репинский был в отъезде, а механик Лощилин сказал, что без директора он ничего разрешить не может, так как тракторная сеноуборка планом не предусмотрена и горючего для этого не завезено.
— Ничего не могу поделать... И не просите. Дожидайтесь Репинского.
— А вы через «не могу», — настаивала Нюша. — Ну, нельзя нам ждать, никак невозможно.
Но Лощилин был неумолим.
Нюша с Митей вышли из конторы. Что было делать? Ждать Репинского? Но неизвестно еще, разрешит ли и он. А если не выехать на луг завтра утром, то будет уже поздно — артельный сенокос развалится.
— Выручили колхоз! Помогли называется! — с обидой заговорил Митя. — Механизаторы тоже... брехуны!..
— А ты не хнычь! — перебила его Нюша.
Она подошла к машинному сараю и оглядела новенькие широкозахватные сенокосилки, что стояли под открытым небом и вокруг них густо разрослась крапива и лебеда.
«Машинная сеноуборка планом не предусмотрена, — вспомнила Нюша слова Лощилина. — А машины зачем-то завезли... Чудно, право». И она спросила Митю, исправен ли его трактор.
— Все в порядке! Да ты что задумала-то?
— Как это говорится — утро вечера мудренее, — усмехнулась Нюша. — Сообразим что-нибудь. Только вставать рано придется.
Утром она затемно разбудила Митю и привела его на усадьбу МТС.
Они завели свои тракторы, прицепили к ним сенокосилки и выехали на луг.
— Ну что ж, Митя, начали! Я передом пойду, а ты за мной следом, — сказала Нюша. — Выручать так уж выручать!
Она тронула трактор, и сенокосилка с мягким стрекотанием принялась подрезать под корень густую росистую траву.
Когда с восходом солнца колхозники пришли на сенокос, добрая треть луга была уже скошена.
В полдень заявился Антон Осьмухин и передал трактористам распоряжение Лощилина немедленно вернуться в МТС.
— Напрасно вы с механиком повздорили... Огребете теперь по выговору.
— Ничего... переживем как-нибудь, — усмехнулась Нюша. — Зато колхоз с сеном будет.
— И чего ты все на начальство киваешь! — вмешался в разговор Степа. — Нет чтобы о колхозе подумать, о его заботах да бедах.
— А я о чем думаю? О своем огороде, что ли... — с неприязнью отозвался Антон. — Не где-нибудь на службе состою, а в эмтээс, у государства, можно сказать. И наше первое дело— технику беречь...
— Беречь, но от дела не прятать. А то вы, как скупцы у кубышки: ни себе добро, ни людям. — И Степа обратился к трактористам: — Действуй, ребята! Мы вас в обиду не дадим. Если нужно будет, всем колхозом защитим.
В этот день собрание членов артели не состоялось. Все те, кто отсиживался по домам, поняли, что раздела лугов не будет, и вышли на сенокос.
УРОЖАЙ
После сенокоса дни выдались посвободнее.
Тракторы встали на ремонт, и Нюша могла немного передохнуть.
В лесных зарослях и на вырубках поспела малина, смородина, на мшистых болотах в изобилии уродилась черника, и Нюша с подругами чуть свет уходила по ягоды. Девчата набирали полные кузовки, носили ягоды на базар, на железнодорожную станцию. Дома матери пекли пироги с ягодами, готовили наливки.
В поле поспевали хлеба.
Никогда еще в жизни Нюша так не прислушивалась к разговорам в деревне, как в это лето.
На улице, у колодца, на собраниях она жадно ловила каждое слово об урожае, переживала каждое недоброе замечание о посевах. Особенно ее расстраивал отчим.
Дома за завтраком он неизменно заводил разговор о том, что урожай в этом году выдался никудышный, хлеба на трудодень придется с гулькин нос и все это потому, что землю обрабатывали тракторами всякие там мальчишки да девчонки.
— Вот вам и механизаторы! Поковыряли землю для пробы, а теперь вас, пожалуй, и с поля долой... Ни хлеба от вас, ни доходов.
— Будет тебе, Тиша! — останавливала его Аграфена. — Хлеба как хлеба... не хуже прошлогодних. Чего тут на машины залить.
А наедине мать говорила дочери:
— Ты плюнь, не слушай Тихона. У него все худо да плохо...
Но Нюша уже не могла быть спокойной.
По пути за ягодами она обычно затаскивала девчат в поле, чтобы посмотреть посевы: интересно, какой же все-таки будет урожай на вспаханной трактористами земле.
Вот и сегодня, разрезая желтеющую гладь пшеничного поля, девчата поднялись по узкой меже на пригорок и оглянулись по сторонам.
За посевами пшеницы лежали коричневые квадраты гречихи, голубел овес, держал равнение на солнце подсолнух, в бело-розовых крапинках цветов зеленела ботва картофеля.
Ослепительно белые, тугие облачка плыли в голубом просторном небе, изредка закрывали солнце, и тогда пятна тени скользили по посевам.
Тонкий сладковатый запах хлеба, меда, отцветающих трав щекотал ноздри. Ленивые бесшумные волны подкатывались к ногам, усатые колосья покалывали кисти рук.
Зойка сорвала колос пшеницы и вышелушила из него зерна — были они крупные, хорошо налились, но еще не затвердели.
— А хлеб-то скоро поспеет, — заметила она. — Еще неделька, и жать можно... а там и молотить.
— Интересно, какой же намолот будет? — вслух подумала Феня и пожаловалась подругам: — Куда ни придешь, только и слышишь: «Вы пахари, вы севцы, вы и за урожай в ответе». А чего мы понимаем?..
— Должны понимать, раз за машину сели, — вздохнув, сказала Нюша.
На другом конце поля девчата встретили Степу и бригадиров — Ширяева и Осьмухина.
— А-а, молодцы! — осклабился Павел Трофимович. — Свои грехи досматриваете?
— Да нет, — смешавшись, ответила Нюша. — Просто по ягоды идем.
— Павел Трофимыч, а вроде ничего хлеба-то... — сказала Зойка. — Выходит, не так уж плохо поработали трактористы...
— Точно, что вроде, — с досадой перебил ее Ширяев. — Вот пойдемте-ка со мной. — И он повел девчат через все поле.
В одном месте показал участок невспаханной земли, в другом — незаборонованной, в третьем— незасеянной. Сейчас проплешины заросли желтой сурепкой и куриной слепотой.
— Вот они, грехи-то, полюбуйтесь. Сюда бы в поле всех ваших молодцов собрать да носом ткнуть. — И бригадир принялся рассказывать, какие раньше родились в поле хлеба, хотя в Кольцовке и не было никаких машин.
— Вы, Павел Трофимыч, зря на девчат нападаете, — вмешался в разговор Степа. — Они неплохо работали, старались. А за брак с других спрашивать надо... В первую очередь с начальства эмтээс.
— А я и начальство не выгораживаю... Все они хороши...
Сконфуженные девчата переминались с ноги на ногу и поглядывали на Нюшу — не пора ли им отправляться по ягоды.
— А все же, товарищи бригадиры, что вы насчет урожая думаете? — спросил Степа. — Я так прикидываю, пудов по шестьдесят с гектара соберем.
Ширяев покачал головой:
— Гляди, как бы половиной не обернулось.
— Что вы, Павел Трофимыч, — заспорил Степа. — Урожай, конечно, не блестящий, но и ниже среднего не будет.
— Не говори гоп... — ухмыльнулся Ширяев и кивнул на Осьмухина. — Вот вам Тимофей покажет кое-что...
Осьмухин достал из кармана спичечную коробку, осторожно приоткрыл ее и высыпал на ладонь несколько зеленоватых блестящих жучков.
— Вот они и виды на урожай!
Степа, наклонившись над ладонью Осьмухина, пристально вгляделся в жучков. Потом пересыпал их на свою ладонь. Он переворачивал их то на брюшко, то на спинку. Жучки были мертвые.
Степа протяжно свистнул.
— Это же пильщик! Старый наш недруг. Где вы нашли такую нечисть?
— Где нашел? — переспросил Осьмухин и неопределенно повел рукой. — Здесь, на полях...
— Странно, очень странно, — удивился Степа. — Я вот все поля обошел и никаких пильщиков не заметил.
— Плохо, значит, смотрел, — недовольно буркнул Осьмухин, сгреб со Степиной ладони жучков и ссыпал их обратно в спичечную коробку. — Пойду-ка председателю покажу.
Весть о жучке-вредителе быстро разнеслась по колхозу.
Люди с тревогой заговорили о том, что урожай в этом году и так выдался незавидный, а пильщик еще больше обкорнает его.
Особенно расстроился Василий Силыч.
Ведь колхозу надо выполнять план хлебозаготовок, платить зерном за работу тракторов. Сколько же к осени придется членам артели хлеба на трудодень? Мало, совсем мало, худой, незавидный паек... А чем расплачиваться за приобретенных в кредит коров, на какие средства строить новые амбары и скотный двор?
Степа каждое утро выходил в поле, зорко осматривал посевы пшеницы, стараясь отыскать зеленоватого жучка. За ним обычно увязывались и девчата.
Но пильщик, как видно, щадил кольцовские хлеба.
Чаще же всего попадались безобидные божьи коровки в красной одежке с черными крапинками,
Встречая председателя, Степа сообщал ему о своих поисках и старался его подбодрить:
— Пока ничего страшного. Возможно, пильщик нас и не тронет.
— Обязательно пожалеет, — с досадой говорил Василий Силыч. — Как дойдет до наших полей — и в обход. Ты, парень, искать не умеешь. Поди вон у Тимофея Осьмухина поучись.
И верно, бригадир каждый день приносил в правление колхоза десятки спичечных коробок, наполненных жучками-вредителями, и требовал от председателя, чтобы тот ехал в район и во всеуслышание заявил, какая у них случилась беда с урожаем.
— Я комиссию по определению урожайности вызвал, — сообщил Василий Силыч Степе. — Вот она приедет, все и рассудит.
Через несколько дней из района приехала комиссия и с утра вышла осматривать хлеба.
Василий Силыч не находил себе места. То он сопровождал членов комиссии в поле, то о чем-то совещался с бригадирами, то прибегал домой и торопил жену с обедом. Обед чтобы непременно к двум часам, и не менее как из трех блюд. И чтоб еще была отборная малина и брага прямо из погреба.
К двум часам члены комиссии вернулись с поля, и Василий Силыч пригласил их к себе обедать.
«И чего это он их обхаживает?» — подумал Степа, проходя мимо избы председателя.
Плотно пообедав, комиссия направилась в правление колхоза, чтобы составить акт о видах на урожай.
Здесь ее сразу же обступила группа колхозников.
— А мы вас поджидаем, — обратился Тимофей Осьмухин к председателю комиссии. — Интересуемся очень, как вы наш урожай определите? Дюже нас пильщик беспокоит...
— Урожай вроде как средний, — ответил председатель комиссии, большеголовый, грузный человек, зарумянившийся в поле от солнца. — Запишем по второй категории. Пудов по шестьдесят с гектара соберете — не меньше...
— По второй?! — испугался Василий Силыч. — Да вы нашего пильщика не знаете! Злее этого паразита на всей земле не сыщешь. Он же за три дня такое нашкодит — тоска. Весь урожай ополовинит... — Председатель кивнул на колхозников. — Вы хоть людей наших спросите.
Первым заговорил Тимофей Осьмухин. Он назвал года, месяцы и даже дни за последние два десятка лет, когда на их полях появлялся пильщик, и даже рассказал поучительную историю о том, как, понадеявшись на урожай, он купил у мельника под новый хлеб лошадь. Но на хлеб вдруг напал пильщик и нанес большой урон урожаю. Хлеба как раз хватило, чтоб расплатиться с мельником, себе же на зиму ничего не осталось. Пришлось коня продавать мельнику за половинную цену.
— Меньше поганого таракана насекомое, а в дураках меня оставило, — закончил свою речь Осьмухин. — Так что, как вы урожайная комиссия, должны нашему колхозу оказать снисхождение...
Осьмухина сменил Горелов. Он не без ехидства заметил, что комиссия и без их подсказки должна знать, что пильщик в их местах — это вроде саранчи, об этом даже в книжках написано, и потребовал уменьшить цифру урожайности наполовину.
— Ну, ну, вы не увлекайтесь, — остановил его председатель комиссии. — Не так уж страшен этот жучок. Да и в поле мы его почти не обнаружили...
— Это как так не обнаружили? — нахмурился Осьмухин.
Председатель комиссии кивнул на Степу:
— Вот и ваш агроуполномоченный все утро с нами на полях ходил... Может подтвердить.
— Думаю, что Осьмухин с Гореловым преувеличивают, — сказал Степа. — Пильщика нам бояться пока нечего.
— А ты где жучка-то искал — не на березах ли? — насмешливо спросил Осьмухин. — А может, еще в книжке про него не вычитал, от божьей коровки не отличишь?
— Искал где положено, — вспыхнул Степа. — А вот панику разводить не стоило бы...
— Да ты что, Ковшов? — зло обернулся к нему Осьмухин. — Решил людей совсем без хлеба оставить? — И он кивнул колхозникам: — А ну, граждане, показывай!..
Колхозники окружили стол, за которым сидели члены комиссии.
Прохор Уклейкин вытащил из кармана банку из-под зубного порошка и высыпал на столешницу кучку зеленоватых жучков. Горелов достал из-за пазухи бумажный фунтик с пильщиками. Сам Осьмухин вынес из соседней комнаты небольшое ведерко, полное мертвых жучков, и поставил его па стол.
— Еще надо или хватит? — спросил он членов комиссии. — Желаете, можем раздобыть этого добра сколько угодно...
— Довольно, довольно! — замахал руками председатель комиссии, отодвигаясь подальше от стола.
— Видишь, какая прорва на хлеб навалилась, — шепнул Степе Василий Силыч. — А ты все не веришь. — И он обратился к членам комиссии: — Куда ни кинь, а урожайность снижать придется. Съест нас пильщик. Не верите, так вот людей послушайте... У нас сегодня вечером как раз общее собрание будет о хлебозаготовках.
Степа в замешательстве вышел из правления.
На улице его догнали Нюша и Феня.
— Ничего не понимаю, — пожаловался им Степа. — Откуда колхозники набрали столько пильщиков? Почему же мы не заметили?
— Значит, и впрямь искать не умеем, — заметила Феня.
— А дела-то невеселые, — со вздохом сказала Нюша. — Вот она, земля наша! Только урожаю порадуешься, а уж за спиной беда какая-нибудь: то пильщик, то туча с градом, то суховей.
— Да, теперь пойдет заваруха в деревне, — мрачно согласился Степа. — Слухи всякие, жалобы, стоны. Люди опять от артели шарахнутся. — Он вдруг остановился и посмотрел в сторону поля. — А знаете что?.. Пильщик пильщиком, а нам сдаваться не к лицу. Пойдемте завтра жучков собирать.
— Да их же там тьма-тьмущая, — возразила Феня. — Что мы сделаем?
— Сделаем, если захотим. Придется, конечно, молодежь поднять. И мальчишек с девчонками. Целая армия соберется... Да, вот еще что. Надо об этом на колхозном собрании сообщить, чтобы люди не очень-то в панику ударялись...
СОРВАЛОСЬ
В сумерки Степа с Нюшей отправились на колхозное собрание.
Проходя мимо лавки сельпо, они заметили за углом Клавку и рядом с ней Феню Осьмухину.
Размазывая по щекам слезы, девочка горько плакала, а Феня, присев на корточки, старалась ее утешить.
Степа с Нюшей подошли ближе.
— Что с ней? — обратилась Нюша к Фене. — Подралась, что ли, с кем или побили ее?
Клавка продолжала всхлипывать.
— Она говорит, что обсчитали ее... конфет недодали, — пояснила Феня.
— Каких конфет?
Феня пожала плечами и сказала, что толком от Клавки ничего не может добиться.
Нюша опустилась на завалинку, усадила Клавку рядом и вытерла ей нос.
— Ленька небось обидел?
—...Ага... Ленька... — выдавила наконец Клавка и, разжав ладонь, показала слипшиеся паточные карамельки. — Еще орехи обещал, пряники... И все себе взял. Обманщик такой!.. Я ему сколько жучков насобирала...
— Каких жучков? — насторожилась Нюша.
— Ну, этих самых... что колоски перепиливают, хлеб губят. Пять коробков собрала... Больше всех...
Слово за словом, и Клавка выдала все, что знала. Дядя Тихон и Тимофей Осьмухин велели Леньке с мальчишками собрать в поле побольше жучков-пильщиков. За каждую полную спичечную коробку они платили по пятиалтынному. Мальчишки старались вовсю: забыли про ягоды, про речку и целые дни выискивали в поле пильщиков. Ленька даже привлек к этому делу и ее, Клавку, обещав ей потом всякие подарки. И вот сегодня дядя Тихон и Тимофей Осьмухин расплатились с мальчишками. Ленька получил от них деньги, накупил в лавке кучу сладостей, но ее бессовестно обманул, сунув в руку всего лишь с десяток карамелек.
— Погоди, погоди... — перебила Нюша Клавку. — А где вы жучков собирали?
— Везде шарили, — ответила девочка. — Только у нас в поле их мало... Мы больше не по нашим полям ходили... далеко отсюда.
Нюша нахмурилась и поднялась с завалинки.
— Иди домой, — строго сказала она сестренке. — И не нюнь!.. Нос вытри. А с Ленькой я потом поговорю.
Клавка ушла.
Нюша переглянулась со Степой и покосилась на Феню. Та стояла, отвернувшись в сторону и опустив голову. Нюша коснулась ее плеча.
— Видали, чем мой папаша промышляет?.. — с трудом выдавила Феня. — Как был мужик-собственник, так и остался. Чуть дело хлеба коснется, так он голову теряет. И зачем только его бригадиром назначили?..
— Мой отчим ему тоже не уступит, — отозвалась Нюша. — Два сапога пара.
Феня задумалась.
Доколе же она будет молчать и мириться со своими родителями? Собиралась уйти из дому и начать жить по-своему — не сумела. Надеялась, что с приездом Антона в доме многое переменится, но опять все идет по-старому.
Да и Антон стал совсем не таким, как раньше.
Позавчера Феня нечаянно подслушала его разговор с отцом.
...Дело было поздно вечером. Антон пришел из тракторной бригады домой, помылся, поужинал и лег спать. Когда в доме все стихло, Тимофей в нижней рубахе подошел к постели сына и сел у него в ногах.
— Антоша, слышь, что ли? — вполголоса заговорил он. — У меня вот кости ноют... старость, видно, чуют. И сна нет.
— Хлеб жалко городу везти, вот и сна нет, — усмехнулся Антон. — В тебе кровь гуляет мужицкая...
Отец молча поднялся. Ему хочется обругать сына и уйти. Но он почему-то не уходит и вновь опускается на постель.
— Ну ясно — мужицкая... — почти с удивлением восклицает Тимофей. — А какая же еще? Что я, святой иль коммунист? Чай, жалко мне свое добро-то? Ты, Антоша, не заедайся, не ершись, прошу тебя. Поговори, как сын с отцом... по-хорошему, по-родному.
— Ну-ну, давай по-хорошему, — соглашается Антон. Тимофей наклоняется к сыну и говорит еще тише. Он очень жалеет, что согласился остаться в колхозе. Лучше бы подождать еще годик-другой. Сладкая артельная жизнь — это только в книжках да на словах. А он, Тимофей Осьмухин, и до колхоза жил не хуже, а, пожалуй, лучше. Хлеб до осени всегда был у него в закромах. А теперь... Одни неприятности, суета, путаница, скандалы на собраниях...
Нет, земля уже не радует, и Тимофею, видимо, пора прощаться с ней. Да и Антону незачем здесь долго задерживаться, надо подыскивать работу почище да полегче.
— Мы тут на днях с матерью в городе были, — продолжал Тимофей. — Домишко высмотрели. Так, коробочка-невеличка, а четверым места хватит. Вот бы на нашу семейку, сынок. И цена подходящая...
Феня приподняла голову. Вот уж сейчас-то Антон отчитает папашу, высмеет его. Он, мол, уезжать от земли никуда не собирается, на трактор сел прочно... Но Антон долго молчит, а потом небрежно спрашивает:
— Сколько просят... за домишко-то?
— Пока лишь задаток в три тысячи. Вот чего я за хлеб-то, сынок, ратую. Загнали бы его на базаре, вот нам и дом в городе.
И отец с сыном принимаются считать и прикидывать. Они уже продают старую деревенскую избу, борова, теленка, ненужный для городской жизни скарб, вселяются в городской дом, заводят огород, обносят усадьбу забором...
Феня отворачивается к стенке и закрывает голову одеялом. Антон словно двоится в ее глазах. И она не знает, какому из них теперь верить. Тому ли, который умело водит трактор в поле, бьет отца с матерью веселыми насмешками, или тому, который шепчется сейчас с отцом...
— Что же делать-то теперь? — с тоской спросила Феня.
— Может, смолчим... помилуем, — усмехнулась Нюша, выжидающе поглядывая на подругу.
— Да ты что, смеешься! — Феня вскинула голову, и лицо ее пошло пятнами. И что она за человек, в самом деле? Девушка посмотрела в сторону правления. — Нет уж... молчать не стану. Пошли на собрание.
— Сама, что ли, скажешь или нам с Нюшей начать? — спросил Степа.
— Сама, — хмуро выдавила Феня.
Нюша, просветлев, встряхнула подругу за плечи:
— Правильно, Фенька... Наконец-то!
Втроем они направились к правлению колхоза. Около пожарного сарая на бревнах сидели мальчишки и с деловитым видом раскалывали половинками кирпичей грецкие орехи.
— Пируете, огарки? — спросила Нюша. — С каких это доходов?
— А мы... мы рыбы наловили! — растерянно забормотал Ленька, пряча за спину кулек с орехами. — Клев был очень хороший... А потом еще кузовок ягод дачникам продали...
— Не завирайся! Мы уже все знаем, — оборвала его Нюша и взяла за плечо. — Рассказывай всю правду...
Когда Степа, Нюша и Феня вошли в правление колхоза, собрание было уже в самом разгаре. Они с трудом протиснулись в дверь. В комнате было шумно, душно, накурено, лампа под потолком мигала — вот-вот потухнет.
За столом рядом с Василием Силычем сидели директор МТС и председатель комиссии по определению урожайности.
Расстегнув ворот рубахи, Репинский тяжело дышал, лицо его блестело от пота, будто он опорожнил полуведерный самовар.
Что ж это такое? Его, директора МТС, райком партии назначил в Кольцовке уполномоченным по хлебозаготовкам, и он ничего не может поделать с колхозниками.
Добрых полчаса Репинский докладывал им о плане уборки: хлеб надо сжать и обмолотить в считанные дни, засыпать семенной фонд, сдать что положено государству по хлебозаготовкам, расплатиться зерном с МТС, а остатки поделить на трудодни.
Казалось, все было ясно, но колхозники почему-то то и дело вскакивали с мест и, перебивая его, начинали ожесточенно спорить. Они кричали, что не затем записались в артель, чтобы получать какие-то крохи, сидеть на голодном пайке. Ведь у каждого семья, детишки, куры, скотина и всех надо кормить-поить.
— Это что ж выходит? — устало переспросил Репинский. — На разнесчастную курицу тоже зерна подавай. А там на кошку запросите, потом на собаку...
— Да ведь какая кошка, Анатолий Лаврентьевич, — привстала с лавки Матрена Осьмухина. — У меня вот кот живет... Варфоломеем зовут. Так он, холера, больше мужика хлеба съедает.
— Матрена! — хихикнул кто-то в углу. — А он самогонку не пьет, Варфоломей твой?
— Я так полагаю, — поднимаясь, заговорил Тимофей Осьмухин. — Народ правильно шумит... несладко ему приходится. Год у нас выдался худой, хлеба недород, да тут еще вредный жук объявился. Вот и надо бумагу от всего колхоза писать, чтобы нам урожайность снизили и от хлебозаготовок освободили. Да и эмтээс пусть подождет с расчетами...
— Слышите, к чему он клонит? — шепнул Степа девчатам, подталкивая их вперед. — Действуйте, просите слова.
Переведя дыхание, Феня поднялась на цыпочки и, обращаясь к отцу поверх голов колхозников, негромко произнесла: — Вот и неправда все это...
Осьмухин с удивлением уставился на дочь:
— Это как то есть неправда?
— А вот так... Плачешься, людей стращаешь. Бедные мы, несчастные, без хлеба остались...
— Фенька, сядь! — прикрикнула на нее Матрена. — Зелена еще ты отца поучать! Он дело говорит!
— Ты, девка, не мешайся тут, — сердито сказал Горелов. — Жук-пильщик по нашим местам — это вроде стихийного бедствия... И нам по закону скидка по урожайности положена... Об этом хоть председателя комиссии спроси. Какие уж тут хлебозаготовки могут быть...
— А где он, пильщик-то? Кто его в поле видел? — не выдержав, выкрикнула Нюшка.
— Это еще что такое? — нахмурился Осьмухин, и глаза его воровато забегали по лицам колхозников. — Василий Силыч! Граждане! — взмолился он. — Подтвердите... Скажите вы девкам.
— Ты, батя, не хитри, — тяжело дыша, заговорила Феня. — Лучше признайся, как ты жучков на чужих полях собирал, как колхозников застращал, председателя... Как вот комиссию...
— Да уймись, крапивное семя! — побагровев, перебил ее Тимофей. — На отца клевещешь! — И, расталкивая колхозников, он полез к дочери.
— Не горячитесь, Осьмухин! — остановил его Степа. — Давайте-ка без домашних картинок. А если угодно — у нас свидетели есть. Могут и подтвердить. — Он выглянул в окно и помахал рукой.
Через минуту в дверях правления показалась группа мальчишек во главе с Ленькой Ветлугиным.
Колхозники расступились и пропустили ребят к столу.
— Говори все по правде... не бойся, — шепнула брату Нюша.
И Ленька, переминаясь с ноги на ногу, рассказал все...
Вечером, после ужина, Павел Трофимович и Лощилин удалились в пристройку.
— Докладывайте, что там произошло? — недовольна спросил механик.
— Что ж докладывать, поди, и без меня наслышаны, — с досадой ответил Ширяев и рассказал о собрании.
Сначала все шло очень удачно. Но тут неожиданно вмешались Степка Ковшов с девчатами и раскрыли проделку с жучками.
Председатель комиссии по определению урожайности заявил, что за такой обман государства бригадира Осьмухина придется привлечь к ответственности, а заодно и председателя колхоза, который во всем доверился бригадиру.
Расстроенный Василий Силыч сказал, что он готов понести ответ, и попросил собрание освободить его от должности председателя правления — не справляется он, видимо, с колхозными делами.
Но колхозники на это не согласились. После долгих споров Василия Силыча оставили председателем, а Осьмухин с поста бригадира был снят. Колхозники решили выполнить хлебозаготовки в срок и вывезти зерно в город красным обозом.
— Та-ак! — протянул Лощилин. — Ради чего ж мы огород городили? — Он швырнул на пол окурок и растоптал его носком сапога. — Плохо, Ширяев, никуда не годится. И хлебозаготовок сорвать не сумели, и вторая бригада осталась без нужного человека.
— Не прошел наш номер с жучками, — вздохнув, признался Ширяев. — Уж я ли не внушал Осьмухину с Гореловым, как надо действовать. А они, обалдуи, взяли да и перестарались... Мальчишек наняли жучков собирать. Ну и попали как кур во щи...
— А кого вместо Осьмухина бригадиром назначили? — спросил Лощилин.
— Агроуполномоченного, этого самого... Ковшова.
— Этого еще не хватало! — нахмурился Лощилин. — Неужели нельзя было кого-нибудь из своих выдвинуть...
— Пытался, Николай Сергеевич... не получилось, — признался Ширяев. — Люди к Ковшову прислушиваться стали, доверяют ему. У этого птенца крылышки отрастают. Высоко летать начал, далеко видеть...
Лощилин задумался. Да, этот комсомольский вожак то и дело встает им поперек дороги. Только что они разнесли слух, что трактористы неучи, бракоделы, аварийщики, как Ковшов поднял на ноги всю ячейку. Комсомольцы стали лучше ухаживать за машинами, проверять качество вспашки, сева, взяли под свое наблюдение всю тракторную бригаду. А вот теперь эта неудавшаяся история с жучками, назначение Ковшова бригадиром...
— А знаете, о чем Ковшов поговаривает? — сообщил Ширяев. — Надо, мол, в тракторной бригаде проверочку устроить, кое-кого из парней убрать, а на их место кольцовских девчат поставить. Да и вообще, мол, не мешает к начальству эмтээс присмотреться...
Лощилин не по-доброму усмехнулся:
— Не много ли берет на себя парень... Мы ведь тоже не лыком шиты... не с такими справлялись. — Он помолчал, потом жестко добавил: — Волков бояться — в лес не ходить. А мы до леса только еще добираемся. Плохо пока действуем, лениво, вхолостую. Золотое время теряем. Пора с этим кончать, Павел Трофимыч.
— Что же делать-то будем? — угрюмо спросил Ширяев.
— Дел по горло... — Лощилин понизил голос. — Осенний сев подходит... Только мозгами пошевели.
СИВКИ-БУРКИ
Перед осенним севом тракторная бригада разделилась на две группы: лучшие трактористы во главе с Антоном должны были обслуживать полеводческую бригаду Павла Трофимовича, остальных закрепили за бригадой Степы Ковшова. Нюшку Антон включил в свою группу.
— Ты что ж это — нарочно подстраиваешь? — удивилась Нюша. — Ковшов только на ноги встает, а ты ему самых неопытных трактористов суешь. Иль за отца обиделся?
— Отец здесь ни при чем, — вспыхнул Антон. — Он свое получил по заслугам. И трактористов не я распределяю, а начальство эмтээс.
— Тогда я к начальству пойду, — заявила Нюша. — Пусть меня в бригаде Ковшова оставят.
— Вот это зря! — с досадой покачал головой Антон. — Пожалеешь потом. Лучше бы ты за меня держалась.
Но Нюша все же сходила в МТС и настояла на том, чтобы ее оставили в бригаде Ковшова.
Осенний сев в Кольцовке начали почти вовремя. Машины работали ровно, без задержки, в первые же дни вспахали немалую часть озимого клина, и в колхозе решили, что трактористы за весну и лето кое-чему научились.
Но к концу недели снова начались перебои: вышло из строя несколько тракторов, на склад не завезли вовремя горючего, затем обнаружилось, что в МТС не хватает тракторных сеялок.
Начавшийся было сев приостановился. Степа шумел, ругался, составлял один акт за другим, а вспаханная земля тем временем подсыхала, покрывалась жесткой коркой.
— Невесело же я свое бригадирство начинаю, — вслух размышлял Степа. — Опять все вкось да вкривь полезло.
Особенно удивляло его то, что Антон и его приятели, работавшие в бригаде Павла Трофимовича, всегда вовремя получали машины и сеяли почти без задержки.
— Надо бы за всех думать, коль ты бригадир, — упрекнул Степа Антона. — А то ералаш получается: одни норму гонят, другие без дела сидят.
— Начальства и без меня хватает... Пусть оно и думает, — отмахивался Антон. — А мое дело баранку крутить.
Степа то и дело наведывался в МТС, не давая покоя Лощилину, дежурил в мастерской, требуя от рабочих поскорее отремонтировать машины.
Наконец Мите Горелову удалось получить в мастерской МТС двадцатисошниковую сеялку.
Он засеял свой участок земли и передал сеялку Нюше.
На подводе привезли пшеницу, Нюша с Таней засыпали ее в ящик сеялки, и трактор неторопливо двинулся вдоль загона.
Наспех отремонтированная и покрашенная сеялка подозрительно скрипела и покряхтывала. Нюша то и дело поворачивалась на железном сиденье трактора и вопросительно поглядывала на Таню, которая шла позади сеялки.
Это была нелегкая работа, следить за двадцатью сошниками и вовремя заметить, какой из них засорился и не пропускает семян.
Девчата поменялись местами: Таня села за трактор — она уже научилась немного управлять машиной, — а Нюша пошла вслед за сеялкой.
Оказалось, что добрая половина сошников не пропускает семян. Нюша взглянула в ящик сеялки, переворошила пшеницу, потом один за другим встряхнула сошники. Встряхнула раз, другой, но все оставалось по-прежнему. Она подала Тане сигнал остановить трактор, а сама бросилась к засеянному полю и, нагнувшись, принялась осторожно раскапывать землю. Да, сомнений не было — часть бороздок, проделанных сошниками, оказались незасеянными.
— Ну что там? Сошники засорились?.. — спросила Таня.
— Да нет, тут что-то другое... Сейчас проверим. Девчата выгребли из ящика сеялки пшеницу, ссыпали ее в мешок.
Нюша включила высевающий аппарат сеялки, достала ключ, отвертку и сняла один из подозрительных сошников. Оказалось, что он был заткнут тряпичной затычкой. То же оказалось и в других. А потом, вглядевшись повнимательнее, девчата обнаружили, что испорчен и высевающий аппарат. Долго они не могли промолвить ни слова.
— И кому ж это, подлому, понадобилось сошники заткнуть! — с болью вырвалось у Тани.
— Значит, понадобилось кому-то, — потемнев в лице, глухо сказала Нюша
К сеялке подошли Степа и Василий Силыч.
— Опять поломка? — отрывисто спросил Степа.
Нюшка молча показала на тряпичные затычки, извлеченные из сошников, и коротко рассказала, что случилось.
— Та-ак!.. — произнес пораженный Степа, пристально разглядывая затычки. — Снова, значит, гостинчик... Да еще какой!..
— Хорошо, что мы заметили вовремя... — желая немного успокоить брата, сказала Таня. — Не весь еще участок засеяли.
— Хорошо, да не дюже, — вслух подумал Степа и обратился к Нюше: — Ты ведь эту сеялку после Мити Горелова взяла. А он вчера ею пять гектаров засеял.
— Митька! Пять гектаров! — ахнул председатель. — А ну пошли смотреть!
Все направились к вытянутому вдоль дороги загону, где вчера Митя Горелов разъезжал с сеялкой, и долго проверяли, как засеяна пашня. Картина была та же, что и на Нюшкином участке, — половина рядков оказалась без семян.
Василий Силыч, приказал разыскать Митьку.
Таня, чуя недоброе, помчалась на дальний конец поля, где Митя пахал землю. Сердце ее отчаянно колотилось. Неужели он ничего не заметил и засеял пять гектаров земли испорченной сеялкой?
Когда Таня, отыскав парня и сообщив ему, что случилось, привела его к сеялке, здесь уже собралась порядочная толпа колхозников. Во главе с Ширяевым пришли люди и из первой бригады.
— Что ж ты, басурман, делаешь с нами? — закричал на
Митю Анисим, трясущимися руками разгребая землю и показывая незасеянные рядки. — Под корень нас рубишь! Наповал!
— Погоди, Анисим Иваныч, — остановил его председатель и вплотную подошел к побледневшему трактористу. — Говори, как все было...
Озираясь на колхозников, Митя рассказал. Сеялку он получил в МТС позавчера вечером. Перед выездом вместе с Антоном тщательно ее осмотрел — все было в порядке, потом пригнал в поле и на другое утро начал сев. Правда, во время сева он ее уже не проверял, понадеялся на сеяльщика.
Нюшка встревоженно спросила, кто у него работал сеяльщиком. Уж не Зойка ли?
— Зойка ногу зашибла, дома сидит, — сообщил Митя. — Мне другого сеяльщика выделили — Аринку Свиридову. А я, признаться, недоглядел за ней.
— Гнать их с поля поганой метлой, пока не поздно! — возмущенно выкрикнули из толпы.
— Без хлеба хотят нас оставить.
— И машинам дорожку сюда заказать...
— Ну, парень, натворил ты дел! — сокрушенно покачал головой Ширяев. — Такого еще никогда не бывало. То ли ты ротозей, то ли еще кто...
— Вы что? — изменившись в лице, забормотал Митя. — Вы что подумали-то? Договаривайте, коли так... — Он вдруг рванул на себе ворот рубахи. — Ну и хватайте, наказывайте... Сукин сын Митька, вредитель Митька!..
— И меня заодно!.. — тяжело дыша, сказала Нюша и встала рядом с Митей.
Степа подался вперед, загородил собой парня и девушку:
— Граждане!.. Да как вы можете?.. Это же комсомольцы! Мы их знаем... верим им. Тут какая-то вражина машины начала портить, а вы такое подумали...
— Вы горячку не порите, — обратился Василий Силыч к Митьке и Нюше. — Никто вас во вредительстве не обвиняет. А вот разобраться надо будет...
И он предложил колхозникам сейчас же пойти к директору МТС, заявить о порче сеялок и раз навсегда потребовать прекратить чехарду с машинами.
— Тут не чехарда — что-то похуже, — заметил Степа.
— Опять пороги обивать, — недовольно сказал дед Анисим. — Павел Трофимыч уже сколько раз к начальству ходил, а толку на грош. Тут не ходить, тут сеять нужно...
— А мы покруче поговорим... от всего народа, — сказал Василий Силыч. — Пошли, граждане!
Степа, Игнат Хорьков и Ширяев во главе с председателем направились в МТС. По дороге к ним присоединился Антон.
Репинского и Лощилина они отыскали около мастерской.
Степа без обиняков заявил директору, что МТС срывает им осенний сев: тракторы то и дело выходят из строя, сеялок не хватает, а позавчера неизвестно кто заткнул у сеялки сошники и испортил высевающий аппарат. А это уже явное вредительство!
Тяжело задышав, Репинский опустился на лафет жатки.
— Этого еще недоставало! — растерянно сказал он и вопросительно посмотрел на Лощилина.
Лощилин спокойно выдержал взгляд Репинского. Он может объяснить. На все поломанные машины составлены акты. Причины аварий установлены. Все дело в недоброкачественных запасных частях, засылаемых в МТС, а чаще всего в плохой квалификации трактористов и небрежном уходе за машинами.
— А с сеялкой что случилось? — спросил Репинский.
— Сеялка была отпущена из МТС в полном порядке. Это может подтвердить и Антон Осьмухин и тракторист Горелов. А если какие-то негодяи вывели машину из строя — за это должен отвечать бригадир полеводческой бригады. Да, кстати, — обратился Лощилин к Ковшову, — охранялась сеялка или нет?
— Нет, сторожа в эту ночь не было, — признался Степа.
— Видали такую беспечность! — воскликнул механик. — Ковшов только что заступил на пост бригадира и сразу наносит ущерб эмтээс и колхозу.
Степа растерянно развел руками:
— Да кто мог ожидать...
— Где же твоя бдительность, бригадир?.. А тоже шумишь, призываешь все, критикуешь...
— Выходит, что мы же во всем и виноваты, — с досадой сказал Василий Силыч. — Нет уж, если подлый человек завелся, тут сторож не поможет. Над машинами, товарищ директор, вы хозяева, эмтээс, — обратился он к Репинскому. — Вы и порядок наводите и следите за ним. Чтоб народ вами доволен был...
— Вы что ж думаете, я добра людям не желаю? — заговорил Репинский. — Шестой год в партии состою. И заготовителем в районе работал, и уполномоченным по колхозам. Теперь вот в эмтээс меня поставили. А дело-то новое, непривычное, недохватки во всем, прорехи — вот и спотыкаемся на каждом шагу. И надо понимать это, поддерживать нас.
— А как же насчет машин? — спросил Игнат Хорьков.
— Потерпите денька два. Как только отремонтируем — сразу и зашлем, — пообещал Репинский. — А вы там у себя людей попридерживайте, чтоб не паниковали очень-то.
— Темна вода в этом заведении, — с досадой сказал председатель, выходя вместе с колхозниками из усадьбы МТС — Никакого толку не добьешься.
— Прямо-таки шарашкина контора, — согласился Ширяев. — Хоть от машин отказывайся.
— А я так считаю, — обратился Степа к Василию Силычу. — Надо вам в район ехать. Тревогу бить. И немедля. Пока они нам сев не сорвали. Пусть комиссию сюда высылают...
— И впрямь, Силыч, — поддержал Степу Игнат Хорьков. — Видать, тут дело нечисто... Вот пусть комиссия и докопается.
Подумав, Василий Силыч решительно тряхнул головой.
— Поеду... Тут дело такое — нельзя сиднем сидеть. Сегодня же поеду. Кстати и сортовые семена получу для ваших бригад, — сказал он Степе и Ширяеву.
Когда Степа вернулся обратно в поле, он застал здесь такую картину. Несколько стариков во главе с Анисимом Безугловым с огромными желтыми лукошками на животах степенно шагали по земле и засевали вручную Митин участок.
Старики, как по команде, припадали на правую ногу, размашисто взмахивали правой рукой, и зерно, просвечивая на солнце золотистым дождем, падало на землю.
К Степе подбежали девчата.
— Видал? — чуть не плача сообщила Нюшка. — Мы ж им говорили... Не пускали их. А они словно осатанели.
Степа бросился навстречу старикам.
— Деды! Анисим Иваныч! — закричал он. — Уймитесь! После трактора и ручной сев! Это же на всю округу конфуз!
— Конфуз конфузом, а земля-то черствеет, — остановившись, рассудительно сказал Анисим. — А ты, Степан, не мешай нам — так народ желает.
— Не отступимся, бригадир! — зашумели старики.
— Все сроки уходят!
— На метесе надейся, а хлебушко сей!..
И они, мерно размахивая руками, вновь зашагали друг за другом.
«Темна вода... Никакого толку не добьешься», — вспомнил Степа слова Василия Силыча об МТС и не стал больше удерживать стариков— пусть сеют. Вернулся к девчатам и, заметив их недоуменные взгляды, сказал:
— Семь бед — один ответ... Раз такое дело — давайте и мы за работу. Зерно-то закрывать надо.
И Степа повел девчат на конюшню. Они нашли хомуты, веревочные постромки, запрягли в бороны лошадей и пригнали их в поле. Прошли в один след по засеянному стариками участку, закрыли зерно, потом принялись бороновать вспаханные тракторами другие загоны. А после полудня к озимому клину колхозники пригнали лошадей, запряженных в плуги. Степа насчитал четырнадцать упряжек.
— Принимай подмогу, бригадир! — крикнул ему Игнат Хорьков.
Степа показал колхозникам свободный участок, и они принялись пахать землю.
Застоявшиеся за лето лошади легко потянули однолемешные плуги...
А еще через час на дороге показался эмтээсовский «газик». Он остановился около свежей парящей борозды, и из него вылезли Репинский и Лощилин. Навстречу им, держась за поручни плуга, шел Степа Ковшов. Он был босой, без ремня, рубаха на спине потемнела от пота, лицо взмокло.
— Картина, достойная кисти художника, — раздраженно заговорил Репинский, останавливая Степину лошадь. — Колхозный бригадир, секретарь комсомольской ячейки, передовой как будто человек — и ходит босиком за конным плугом. Да понимаете, что вы делаете?
— Пашу землю, — улыбаясь, ответил Степа. — И вроде неплохо получается...
— Государство двинуло на крестьянские поля передовую технику, а вы запрягли сивку-бурку... Позорите нашу эмтээс.
— Не рано ли вы лошадей в архив списали? — сказал Степа, вытирая рукавом взмокшее лицо. — Смотрите, как они работают. Совсем неплохое подспорье машинам.
— А вам известно, что между эмтээс и вашим колхозом подписан договор? — спросил Лощилин. — Вся артельная земля должна быть обработана только нашими тракторами. Почему же вы срываете нам производственный план?
— А вот в колхозе так говорят: «На эмтээс надейся, а хлебушко сей». Люди же в вас веру теряют...
— Вы антимеханизатор, Ковшов, — вскипел Репинский. — Да, да, антимеханизатор с комсомольским билетом! Я уже давно получаю сигналы, что вы настраиваете людей против техники, поддерживаете отсталые мужицкие настроения...
— Я... против техники? — опешил Степа.
— И я требую, чтобы вы немедленно прекратили эту демонстрацию. — Репинский показал на пашущих лошадей. — Иначе я вынужден буду принять меры...
Стиснув челюсти, Степа обвел взглядом поле. Остановив лошадей, пахари издали смотрели на него и Репинского, словно хотели услышать и вмешаться в их разговор. И Степа знал, что бы они сказали... Он зачем-то снял с плеча ремень, подпоясался и расправил сборки рубахи. Потом упрямо мотнул головой:
— Согласен! Принимайте меры! Сообщайте куда угодно! Только по-честному. И обо всем! А пахать и сеять мы все-таки будем. — И, взявшись за поручни плуга, Степа тронул лошадь.
Широкий пласт спелой, дурманно пахнущей земли, рассыпаясь и крошась, пополз через отвал.
Репинский с Лощилиным сели в «газик» и помчались в МТС.
— А вы, Анатолий Лаврентьевич, правильно разгадали Ковшова — антимеханизатор он. И двух мнений не может быть, — вполголоса сказал механик, ловко объезжая канаву на дороге. — Да и Хомутов с ним заодно. И знаете, куда он сегодня поехал? В район. Собрал под заявлением подписи колхозников и хочет добиться освобождения от эмтээс.
— Что?!
— Вот именно — освобождения... За полный возврат к конной тяге... Да здравствует, так сказать, сивка-бурка. Да вы сами видели — Ковшов уже почин сделал. Что ни говори, а мужицкий заквас сказывается.
...В этот же день из Кольцовской МТС за подписью Репинского районному прокурору была передана телефонограмма:
«Бригадир колхоза «Передовик» Ковшов — он же секретарь комсомольской ячейки — выступает против механизации, срывает план тракторных работ. В бригаде Ковшова обнаружено вредительство машин».
СЛЕД НА ДОРОГЕ
В сумерки с четырьмя подводами зерна вернулся из района Василий Силыч. Разгоряченные, взмыленные лошади остановились около амбара, и колхозники окружили подводы.
Василий Силыч, подмигнув мужикам, с заговорщицким видом развязал один из пузатых мешков, зачерпнул ладонью горсть розовых, полнотелых пшеничных зерен и медленно пропустил их сквозь пальцы:
— Видали, граждане!.. Отменное семя... так в землю и просится.
Это была давняя мечта председателя — заполучить для колхоза высокоурожайный сорт пшеницы. Василий Силыч объехал соседние колхозы, побывал на базарах, но ничего подходящего не нашел. Тогда возникла мысль обратиться в район и попросить обменять артельные выродившиеся семена пшеницы на сортовые. Колхозники сочинили длинное прошение и отправили его в райисполком.
Осенний сев продолжался, но ответа о семенах в Кольцовку не поступало.
— А молчание чем не ответ... — заговорили колхозники. — Да и самим понимать надо: «На чужой каравай рта не разевай».
Тогда Василий Силыч направил в район Степу Ковшова:
— Потолкайся там... повороши кого надо!
Степа три дня прожил в районном центре, обил пороги многих учреждений и, наконец, привез разрешение на получение с селекционной станции ста пудов сортовой пшеницы.
— Вон кому спасибо говорить надо, — сказал Василий Силыч, кивнув на подошедшего Степу. — Ходок наш, толкач!..
Тот заглянул в мешок с зерном и спросил Василия Силыча, когда семена можно будет забрать в поле.
— Ночью в амбаре полежат, а завтра доставим. Сей на здоровье, — ответил председатель.
— Зачем же лишний раз мешки туда-сюда возить? — возразил Степа. — Отправляйте сегодня. Я с утра сеять начну. Земля у меня уже подготовлена.
— Можно и сегодня, — согласился Василий Силыч и приказал возчикам отвезти две подводы с мешками в бригаду Ковшова. Потом он отвел Степу в сторону и озабоченно спросил: — Ты что это, братец, натворил здесь? Лошадей на пашню вывел, стариков с лукошками! Репинский уже в район сообщил — антимеханизатор ты, такой-сякой, разэтакий... И зачем ты цапаешься с ним?
Степа нахмурился:
— А мне с ним не свадьбу водить, не детей крестить. Тут дело о хлебе идет... Вы лучше о комиссии скажите. Приедет она или нет?
Василий Силыч замялся:
— После телеграммы Репинского все, видишь ли, по-другому обернулось... Теперь уж из прокуратуры к нам пожалуют. Шумок о тебе пошел — супротивник машин. В райзо требуют, чтобы наказать тебя, меры принять...
— Вот оно что, — насупился Степа. — Ну что ж, наказывайте. Можете даже с бригадирства сместить.
Василий Силыч сокрушенно вздохнул и, оглянувшись по сторонам, словно под большим секретом, шепнул:
— Нет уж, ты пока паши, сей. Мы тебя потом по всходам судить будем... А они всякой защиты дороже...
Степа направился в поле. Там он принял с подвод двадцать мешков зерна, сложил их около полевого стана, прикрыл на ночь брезентом, рогожами. Теперь надо было подумать о стороже.
— А давай я, Степаша, покараулю, — вызвался дед Анисим. — Все равно без сна шастаю... Ноги чего-то мозжат, и в груди колотье...
— Да тебя ж, дед, случись что, любой пацан с копылков собьет.
— Ого-го! — запетушился старик, поплевав на ладони. — Ты моей лихости не знаешь! У меня кулаки сейчас что свинчатки.
Старик сходил домой, облачился в полушубок, обул подшитые валенки и занял сторожевой пост у мешков с зерном.
— Будь спокоен, бригадир! Три года мирскую гамазею сторожил — зернышка не убыло.
Было уже совсем темно, когда Степа вернулся домой и, поужинав, лег спать.
Но он долго не мог заснуть. Одолевали всякие сомнения — не случится ли что с Анисимом, не заснет ли старик на посту, не позарится ли кто на зерно.
Не выдержав, Степа поднялся и поехал на велосипеде в поле. Притулившись к мешкам с зерном, Анисим бодрствовал и чутко прислушивался к ночным шорохам. И, как ни осторожно приближался Степа, старик услышал позвякивание его велосипеда и, закричав: «Кто идет?» — поднялся навстречу.
— Это ты, Степаха... Все в порядке. Я на всякий случай даже бердан прихватил.
— Так он же у тебя не стреляет.
— Наладил... И солью зарядил. Если кому всыплю, так мать родную не узнает.
Оделив старика табаком, Степа вернулся домой и лег спать...
Разбудил его ожесточенный стук в калитку. Первой вскочила с постели Таня, выглянула через окно в переулок и, обомлев, бросилась будить брата:
— Дедушка Анисим к нам... Лица на нем нет!..
Степа, как был в трусах и майке, выскочил в сени, звякнул щеколдой, с размаху распахнул калитку и столкнулся с Анисимом. Лицо у старика было перекошено, седая с пегими подпалинами борода всклочена, полушубок измазан землей.
— Беда!.. Разор!.. — тяжело дыша, забормотал Анисим. — Зарезали нас! Без ножа зарезали! — Он с трудом переступил порог и, не дойдя до двери избы, тяжело опустился на какой-то ящик в сенях.
— С хлебом что-нибудь? С зерном? — Догадываясь, что случилось недоброе, Степа с силой встряхнул старика за плечи. — Да говори же...
Путаясь и запинаясь, Анисим рассказал, что произошло в поле.
Ночь выдалась темная, ветреная. Старик дремал около мешков с зерном, прислушивался, посматривая на восток, ожидая, когда начнет развидняться. И вот в самый глухой час чьи-то дюжие руки свалили старика на землю, связали по ногам и рукам веревкой, затолкали в рот какую-то вонючую тряпку и оттащили его в сторону от мешков.
А потом люди с дюжими руками исчезли, словно их и не было. Старик попытался освободиться от веревки и вытолкнуть кляп изо рта, но из этого ничего не вышло. Спеленали его на совесть.
Тогда Анисим попробовал передвигаться по пашне, перекатываясь с боку на бок. Веревки врезались ему в тело, воздуха не хватало, сердце бешено колотилось. К тому же Анисим потерял в темноте направление и вскоре почувствовал, что передвигается не к дороге, а в низину, к оврагу. Пришлось повернуть обратно.
Трудно сказать, сколько прошло времени, пока он наконец-то выбрался с мягкой пашни на твердую накатанную дорогу.
Здесь его и подобрали трое парней, что возвращались из Заречья с гулянки. Они развязали Анисиму руки и ноги, вытащили кляп изо рта. Когда же старик с парнями добрались до полевого стана, мешков с зерном там не оказалось.
Парни побежали будить Василия Силыча, а старик — к бригадиру.
Не дожидаясь, когда Анисим придет в себя, Степа кинулся в поле.
Над дальней кромкой леса слабо розовела заря, в низинах стлался белесый туман. У полевого стана уже толпились колхозники. Мешков с зерном там действительно не было. Не было и брезента. Кругом были разбросаны только старые, никому не нужные рогожи, отсыревшие от росы.
— Эх, бригадир, поспешил ты с семенами... рано их в поле завез, — покачал головой Василий Силыч. — Да и сторож не тот... ему бы воробьев на огороде пугать, а не с ворьем тягаться.
Степа молчал. Да и что можно было сказать, когда случилось такое несчастье.
— Смотри-ка, Силыч, — обратился к председателю Игнат Хорьков, пристально разглядывая землю. — А здесь ведь следы колес остались... Видать, на двух подводах подъезжали... А вот и зерна натрусили.
Все склонились над землей. Следы ошинованных колес выводили на полевую дорогу. Между ними, словно стежки после шитья, лежали просыпанные зерна пшеницы.
— А ворюги-то не дюже оглядисты, — заметил Игнат Хорьков. — Должно, мешок порвали. А ну-ка посмотрим, куда зернышки поведут...
Дорога дошла до развилки — направо путь лежал в Торбеево, прямо — в Кольцовку.
Следы колес повели к Кольцовке, и рядом с ним все время бежала прерывистая цепочка зерен, так хорошо заметная на потемневшей от росы пыльной дороге.
Колхозники шли чуть пригнувшись, молча, сосредоточенно, словно напали на след осторожного, хитрого зверя, и старались не наступить ни на одно зернышко.
Из деревни подходили всё новые и новые люди и, понимая без слов, что произошло, присоединялись к толпе.
Еле передвигая ноги, приблизился дед Анисим. Его поддерживали под руки Нюша и Таня.
Старик вдруг рухнул перед колхозниками на колени.
— Моя вина, граждане, — удрученно произнес он. — Не усторожил зерно. Судите, карайте! Нет мне прощения!
— Погоди, старый, — отмахнулся Василий Силыч. — Тут вот на след напали.
— Что ж теперь будет-то? — с тревогой шепнула Таня брату.
— Молчи... Смотри знай, — хмуро сказал Степа, как и все мучимый ожиданием, куда же приведет обличающий след.
«Только бы не к нам... не в Кольцовку», — мысленно твердил он, шагая вместе со всеми по дороге.
Не доходя до околицы деревни, след неожиданно повернул влево на дорогу, что шла позади усадьб и сараев.
И вот уж толпа миновала первую усадьбу, вторую, пятую, а след вел все дальше и дальше. Колхозники пересекли огуменники старика Уклейкина, Ветлугиных, и вдруг цепочка зерен круто свернула на ковшовскую усадьбу к сараю. У Степы замерло сердце.
У полуразвалившегося сарая, так же как и на дороге, видны были следы колес, сапог, вдавленные в землю зерна пшеницы. А угол осевших от старости ворот прочертил по земле приметное полукружье, примяв и раздавив сорную траву — значит, кто-то совсем недавно открывал ворота.
Колхозники на мгновение замерли, не зная что делать и стараясь не смотреть друг на друга.
Первым к воротам бросился старик Уклейкин и схватился за ржавый пробой:
— А ну, граждане, открываем!..
— Обожди, Прохор!.. — остановил его Василий Силыч. — Не самочинствуй. Здесь и хозяин есть. — И он растерянно поглядел на Степу.
Жадно глотнув воздух, Степа с силой рванул ворота:
— Смотрите!.. Шарьте!..
Но шарить не пришлось — колхозники, ворвавшись в сарай, сразу же обнаружили пять мешков с зерном. Они лежали в полутемном углу сарая, едва прикрытые сеном.
— Господи Исусе! И Степка туда же! — раздался в толпе чей-то удивленный женский голос.
Толпа ахнула, задвигалась и тесным кольцом окружила Степу.
— А-а, злыдень! На наш хлеб польстился, — завопил Уклейкин, продираясь сквозь толпу.
Словив испуганный взгляд Тани, Нюша с тревогой оглянулась по сторонам.
Она-то знала, что бывает в таких случаях. Найдя по следу спрятанный хлеб, толпа обычно звереет и устраивает жестокий самосуд — топчет ногами, волочит по улице, бьет смертным боем.
Нюша юрко пробралась вперед и замахала на колхозников руками:
— Да вы что? Ополоумели? Отступитесь сейчас же!
— Цыц, ты! Не с тебя спрос, — прикрикнул на Нюшку Тимофей Осьмухин и, оттолкнув ее в сторону, ринулся к Степе: — Сказывай, где остальные мешки?
Побледнев, Степа оттолкнул Осьмухина, подался назад и прижался к стене сарая.
— Знать ничего не знаю... Ошибка какая-то! — хрипло выдавил он.
— Будет представляться-то! — закричали из толпы.
— Ишь, богова овечка!
— С поличным схватили... не отвертишься!
— Отдавай хлеб!
Сгрудившись теснее, колхозники подступали к Степе.
Изловчившись, Осьмухин схватил Степу за грудь. В воздухе замелькали кулаки, посыпались ругательства.
Нюша бросилась к Мите Горелову, что стоял вместе с парнями позади колхозников:
— Степку бьют!.. Выручайте! — и первая бросилась в толпу.
За ней — Василий Силыч, Игнат Хорьков и дед Анисим.
— Назад! — истошно завопил Анисим. — Не тронь парня! Не виноватый он...
Хорьков, Василий Силыч и подоспевшие парни с трудом оттеснили колхозников от Степы. Правая бровь у него была рассечена, по щеке текла тонкая струйка крови.
— Отступитесь, граждане! Остыньте! — подняв руки, потребовал Василий Силыч. — Самосуда мы не допустим. Тут наваждение какое-то. Разберемся, выясним все.
Колхозники отступили, но успокоиться все же не могли. Кто-то предложил произвести у Ковшовых обыск.
Женщины принялись рыться в сене, потом разбросали кучу соломы около огорода. Мужчины обыскали весь ковшовский двор, обшарили сени, чердак, заглянули в подполье. Мешков с зерном нигде не было.
В толпе начались разговоры, что Степка Ковшов, как видно, действовал не один, а с компанией, и его дружки развезли хлеб по тайным местам.
— Ну что ты молчишь? — шепнула брату Таня. — Ведь ты же не виноват. Говори, защищайся...
Приложив к рассеченной брови холодный лист подорожника, Степа сидел около сарая на бревне и удрученно смотрел в землю.
...К вечеру из района приехал милиционер. Он записал все показания, составил акт о хищении семян и предложил Степе следовать за ним в район, к прокурору.
Вместе с братом отправилась в район и Таня.
НА ПОРУКИ
На другой день Таня вернулась одна.
Нюша заметила ее из окна своей избы. Уже по тому, как подруга подошла к дому не с улицы, а со стороны огуменника и, словно крадучись, юркнула в калитку, она поняла, что случилось недоброе.
Нюша без стука вошла в дом к Ковшовым. Таня плашмя лежала на кровати. Плечи ее вздрагивали.
Около печки, вытирая фартуком заплаканные глаза, стояла Пелагея.
Нюша осторожно тронула подругу за худенькое плечо:
— Танюша, что там?..
Таня вскочила словно от укола, повернула к подруге вспухшее от слез лицо и с трудом выдавила:
— Арестовали... В тюрьме сидит! — И она вновь упала на кровать.
Нюша отшатнулась. Потом вопросительно посмотрела на тетю Полю:
— Это правда?
— Тюрьма не тюрьма, а задержали парня, — тяжело вздохнув, сообщила Пелагея и покосилась на кровать, словно там лежал безнадежно больной человек. — А Танька сама не в себе.
— Так это ж — подлог... подлость! — яростно зашептала Нюша, комкая на груди кофту. — Не виноват Степа!..
— А улики-то налицо. Куда от них денешься?.. Пока суд да дело — а парня словно дегтем вымазали... На всю жизнь пятно.
— Так надо же ехать... жаловаться... добиваться! — возбужденно и довольно бестолково заговорила Нюша. — Есть же правда на свете?
— Должна быть... — устало согласилась Пелагея. — Теперь, поди, все дружки от парня отступятся... Эх, Степка, Степка — вот и упал ты намоченный! — Она тяжело опустилась на кадушку и вновь дала волю слезам.
Чувствуя, что сейчас тоже расплачется, Нюша поспешила выйти на улицу.
Все, что произошло вчера утром, потрясло ее как никогда.
Степа Ковшов, дорогой ей человек, верный друг ее детства, еще школьником пострадавший от кулаков, — и вдруг оказался... Нет, она даже мысленно не могла произнести этих страшных слов.
Дома Нюшу встретила мать и с надеждой спросила, что она узнала от Тани.
Аграфена ахнула и опустилась на лавку.
— Так это что ж, дочка?.. Опять как в тридцатом. Опять воровье закружило... Наших людей выклевывают.
«Опять как в тридцатом...» — мысленно повторила Нюша. А ведь и Степа говорил почти то же самое — сиди за трактором, паши землю, а по сторонам смотри зорко и старайся видеть подальше своего загона. А много ли она, Нюшка, всматривалась в даль, много ли замечала, что происходило кругом?
— Ты куда? — спросила Аграфена, заметив, что дочь взяла платок и направилась к двери.
— К ребятам схожу, — сказала Нюша.
— Иди, дочка, иди! Раз такое дело, сложа руки сидеть нельзя. Вы бы в райком съездили... Матвея Петровича повидали... Он человек справедливый, пристальный.
Нюша вышла на улицу. Едва она завернула за угол избы, как заметила Митю Горелова. Тот выходил из дома Ковшовых.
— Все ясно, — хмуро сказал он, приблизившись к Нюше. — Сварганили дельце против парня. Кто-то решил отыграться на нем... Ну что ж, давай ребят поднимать...
Вечером в избе-читальне собрались все члены ячейки. Не было только Антона. Еще в сумерки Нюша встретила его на улице, и он сказал, что едет в район за запасными частями и на собрании быть не может. Потом, помолчав, добавил:
— Зря ты это собрание о Ковшове затеяла. Не нам такие вопросы решать... Тут дело уголовное.
— А ты хоть скажи... что о Ковшове думаешь? — с надеждой спросила Нюша. — Виноват он или нет?
— Что ж тут гадать? — замялся Антон. — Как говорится, к чистому грязь не липнет. А пока дело темное...
— Ну, а Степа, он-то какой?
— Следователь разберется — узнаем, — неопределенно ответил Антон.
Нюша нахмурилась:
— Ладно, поезжай себе... А собрание мы все равно соберем.
Сейчас Феня с трудом засветила лампу, которую не зажигали почти все лето. Лампа коптила, попискивала, свет ее еле пробивал темноту.
Сидели все тихо, без обычных шуточек и поддразниваний. Парни не переставая курили, девчата жались друг к другу. Таня вручила Нюше ключи от сундучка, в котором хранились комсомольские дела.
— Степа просил передать, — сказала она.
— Открывай собрание... ты же член бюро, — шепнул Митя.
Нюша подняла голову и, оглядев собравшихся, негромко сказала, что сегодня у них один вопрос — о Степе Ковшове. Что с ним произошло, всем, конечно, известно, и говорить об этом незачем. Но сейчас важно решить другое — все ли верят, что Степа невиновен.
— Да ты что?.. — возмущенно вскинулся Митя. — Степка же наш, кровный... У кого это язык повернется дурное про него сказать... А ну пусть выйдет, послушаем...
— Правильно, — подала голос Феня. — Какой может быть разговор? Степан Ковшов — наш секретарь. Мы ему верили и верим. И я предлагаю этот вопрос не обсуждать.
— А все-таки лучше проголосовать. Виднее будет! — продолжала настаивать Нюша и попросила поднять руки.
Все дружно проголосовали за доверие Степе. Нюша облегченно вздохнула.
— Вот так давайте и напишем, — сказала она. — Мол, мы, комсомольцы, верили Степе Ковшову и сейчас верим. И ручаемся головой, что он ни в чем не виноват. И все, как один, подпишемся под таким письмом. Потом направим его прокурору.
— А это здорово будет! — заметил Митя, только сейчас по достоинству оценив ловкий ход Нюши с голосованием. — И что там «направим прокурору»... Делегацией к нему надо ехать... от имени всей ячейки.
— Правильно, Митя... — подхватила Феня и предложила сейчас же сочинить письмо.
Собрание оживилось. Зойку Карпухину, обладательницу самого красивого почерка, усадили за стол, поближе к лампе. Из конторской книги вырвали глянцевый, разлинованный на графы лист бумаги. Потом начали сочинять письмо. Фразы складывались с трудом, после долгих споров.
Неожиданно в избу-читальню ввалился дед Анисим. Кто-то сказал ему, что собрание закрытое, почти секретное.
— Какие там секреты, когда речь о Степке идет! — отмахнулся старик. — Нам его вместе вызволять положено. Бумагу надо писать...
— Уже пишем, дедушка, — шепнула ему Таня. — Ты не мешай.
Анисим присел у порога и стал слушать, что Нюша и Митя диктовали Зойке.
— Это вы ладно придумали за парня всем комсомолом вступиться, — заговорил он, уловив содержание письма. — А почему вот про колхозников забыли? Надо с письмом по избам пойти, подписи собрать. За Степку многие поручатся... у кого, конечно,совесть не усохла.
Нюша кивнула старику и, вырвав из конторской книги чистый лист бумаги, велела Зойке переписать письмо заново.
— И вот еще что! — посоветовал Анисим. — Надо Ковшова на поруки взять. Так, мол, и так. Пока следствие да разбирательство — отпустите парня на свободу. Ручаемся, мол, за него всем комсомолом и артелью — никуда он не денется, никуда не исчезнет.
Письмо переписывали еще раза два — то оно получалось слишком длинным и путаным, то Зойка оставляла на нем жирные кляксы.
— Стойте! — вспомнила вдруг Нюша. — А как же с севом-то быть? Так и не закончим его?
— Да-а, — протянул Анисим. — Ковшов такой ли тут посевной план развернул! Больше всех бригад взялся посеять. И вдруг вместо хлеба бурьян полезет. Не солидно, ребята!
— А где же семена взять, раз такое получилось?.. — растерянно спросила Таня.
— Где взять?.. — переспросил Митя, встретившись с настороженным взглядом Тани. — Я скажу где... В амбарах у себя. Да, да. И не смотрите на меня так. Мы вот на бумаге пишем — верим Степке, ручаемся за него. А коли так — давайте еще и делом докажем. Соберем зерно и досеем озимый клин. — И он кивнул Зойке: — Пиши там... даю два пуда семян.
— Да ты что, Митяй! — оторопел Семка Уклейкин. — Откуда у нас зерно? И так до нового урожая не хватит.
— У кого не хватит— с того не брать, дело добровольное! — холодно бросил Митя. — Пиши, Зойка! Добавляю еще пуд... на Семкину бедность.
— Ты меня не резонь! — принялся оправдываться задетый за живое Уклейкин, но собрание не дало ему говорить.
Предложение Мити всем пришлось по душе, и каждый согласился принести из дома немного зерна.
— Ну и хлопцы! — удовлетворенно покрутил головой Анисим. — С такой запевкой не грех и по мужикам пойти... И они подкинут толику семян. Я вот первый с пудик наскребу...
Зойка вопросительно посмотрела на Нюшу:
— Опять переписывать?
— Опять, — кивнула Нюша. — Видишь, какая поправочка. Наконец письмо было готово, и комсомольцы один за другим поставили под ним свои подписи.
Вслед за молодежью расписался и «согласный с комсомолом Анисим Безуглов, 68 лет от роду».
Затем собрание избрало тройку — Нюшу, Митю и Зойку, которые должны были обойти избы колхозников.
Тройка приступила к работе на следующее же утро. К ней примкнул еще дед Анисим. Комсомольцы показывали колхозникам письмо с ходатайством об освобождении Степы из-под ареста и заводили разговор о семенах.
Встречали тройку по-разному. В одних домах охотно ставили свои подписи и делились семенами, в других отказывались: семян, мол, у них нет, а подписать ходатайство они не могут — раз Ковшова арестовали, значит, законно. В районе люди тоже с головой сидят, им виднее.
— Выжиги... злыдни! — сжимая кулаки, ругался Митя. — И что им Степка плохого сделал?.. Кто их попутал так?
Выходили из себя и Нюша с Зойкой. Они заявляли, что не желают больше слышать оскорбительные слова против Степы и не пойдут ни в один дом.
— Эх вы, горе-защитники! — упрекал их Анисим. — Взялись — так все перетерпеть надо. Вот остыньте чуток — и пошли дальше. — И он настойчиво водил тройку из одной избы в другую.
К концу дня подписей под письмом было поставлено не так уж мало, а на подводе, что разъезжала вслед за тройкой, набралось мешков пятнадцать зерна.
Утром Митя и Нюша отправились в район.
Прежде чем пойти к прокурору, они решили побывать в райкоме комсомола.
Прождав с добрый час в приемной, пока не кончилось какое-то совещание, они попали наконец к секретарю райкома Белову, высокому, насупленному молодому человеку в наглухо закрытом френче.
Узнав, что парень и девушка из кольцовской ячейки, Белов кивнул им головой и пригласил садиться.
— Очень хорошо, что вы сами приехали, — заговорил он_
Мы как раз собирались послать в Кольцовку нашего инструктора... Необходимо провести срочное комсомольское собрание.
— А мы уже провели, — доверчиво призналась Нюша. — Да еще какое!
— Молодцы... оперативно действуете, — хмуро похвалил секретарь. — Тогда докладывайте, как вы отреагировали на чрезвычайное происшествие?.. Какие меры приняли против уголовного элемента?
— Какого это уголовного элемента? — похолодев, переспросила Нюша.
— Ну, вашего бывшего секретаря ячейки... Ковшова.
— Почему «бывшего»? Белов пожал плечами:
— Странные вопросы... Вы же сами говорите, что провели собрание. Надеюсь, что Ковшов уже больше не секретарь? Не может же арестованный гражданин быть комсомольским руководителем. Кстати, протокол собрания с вами? Какое вы приняли решение?
Переглянувшись с Митей, Нюша достала из кармана письмо прокурору и положила на стол.
— Вот наше решение.
Подергивая кончиком носа, словно принюхиваясь, Белов быстро пробежал письмо, задержался на многочисленных подписях, и его густые брови почти совсем сошлись на переносице. Затем с решительным видом он поднялся из-за стола, отхлебнул из стакана глоток остывшего чая и заговорил так, словно в комнате все еш,е продолжалось заседание.
— Это как понимать, товарищи? Человек выступает против механизации, мешает деятельности эмтээс, уличен, наконец, в хищении семенного материала, а вы... вы покрываете его. Больше того, поддерживаете! Берете под защиту! Оставляете своим вожаком! И это в тот момент, когда в деревне вновь поднимают голову классовые враги...
— А вы что, — глухо спросил Митя, — и Ковшова во враги зачисляете?
— Окончательно еще не выяснено, но дело, в которое он замешан, дурно пахнет, — многозначительно сказал Белов. — Очень дурно!
— Да неправда все это! Вранье! Чистый наговор!.. — вскрикнула Нюша и, бросившись к столу, принялась сбивчиво и торопливо рассказывать о Степе: как он работал в поле, как следил за пахотой, за севом, как часто спорил и ругался с трактористами, с директором МТС. А что в краже семян замешан Ковшов, так этому никто не верит.
— Но факты, к сожалению, говорят другое, — перебил ее Белов. — Улики против Ковшова неопровержимы. Сейчас следствие заканчивается, и в ближайшее время над ним состоится суд. А вы, кольцовские комсомольцы, выступаете в роли защитников уголовного элемента! Пишете такое письмо! Собираете подписи колхозников! Как это назвать, я вас спрашиваю? Да это же ярчайший пример политической близорукости и полного притупления классовой бдительности! Где же ваше комсомольское чутье, где боевой дух? — Он гневно потряс письмом и бросил его в ящик письменного стола.
— Это зачем? — удивленно спросила Нюша.
— Обсудим письмо на бюро райкома. Нюша протянула руку:
— Позвольте! — заартачился Белов. — В вашей ячейке делается черт знает что!.. И мы обязаны принять меры. Да кстати... Чем вызвано появление такого письма? — Он пристально оглядел Нюшу и Митю. — Вы, кажется, закадычные друзья Ковшова? Значит, не обошлось и без личных приятельских мотивов?
— Ну и друзья! — буркнул Митя, исподлобья взглянув на Белова. — Мы не отпираемся...
— И верим Ковшову, что бы там ни было! И драться за него будем! — с вызовом сказала Нюша. — А письмо верните.
Митя поднялся с дивана и встал рядом с Нюшей:
— Отдайте, товарищ Белов! По-хорошему просим... Секретарь покосился на парня и, пожав плечами, вернул ему письмо.
— Можете идти. Но имейте в виду, делами вашей ячейки мы еще займемся, — пообещал он.
Нюша с Митей вышли из райкома и долго, молчаливые И подавленные, брели по булыжной мостовой. Первым молчание нарушил Митя:
— Вот так поговорили по душам!
— Да разве у такого до души докопаешься! — зло отозвалась Нюша. — Застегнулся на все пуговицы... Френч, а не человек!
— Что же делать-то? — принялся вслух размышлять Митя. Нюша предложила пойти в райком партии.
Около городского сквера они отыскали помещение райкома. Секретарь и инспекторы были в разъезде по колхозам.
Нюша с Митей посидели в приемной, посовещались между собой, потом, выпросив большой конверт, вложили в него письмо. На конверте написали: «Посевная, срочная, секретарю райкома ВКП(б)» — и оставили письмо в приемной.
ГОСТИ
Шла осень. В колхозе обмолотили овсы, выкопали картошку, убрали капусту с огородов, а трактористы МТС только еще начали поднимать зябь.
В полях стало неоглядно просторно, тихо, безлюдно, в воздухе поплыла серебристая паутина, в небе, вырисовываясь неясным треугольником, прощально закурлыкали журавли. Перелески расцветились багрянцем и золотом и к вечеру, подсвеченные заходящим солнцем, пылали словно огромные костры.
Потом начались затяжные дожди. Они в считанные дни оголили леса и перелески, потушили все краски, наполнили мутной водой дорожные колеи и колдобины. Сегодня дождь был особенно назойливым.
Сделав из мешка подобие капюшона и накрывшись с головой, Нюша целый день кружила на тракторе по полю. Мелкий дождь-сеянец проникал повсюду, застывали ноги. Трактор часто буксовал, а в низинах, где было особенно топко, он мог в любую минуту увязнуть по ступицу. Приходилось объезжать такие участки стороной и выбирать места для вспашки повыше. Поле получалось пестрым, как лоскутное одеяло.
На душе у Нюши было тоскливо и бесприютно.
О Степе никаких утешительных вестей не приходило. Нюша с Митей еще раз съездили в район, к прокурору, и узнали, что Ковшова перевели в область и теперь им уже занимается областная прокуратура. Следствие по его делу еще не закончилось, и Степа продолжал отбывать предварительное заключение.
Удрученные, пришибленные вернулись Нюша с Митей домой и ничего не могли толком объяснить ни комсомольцам, ни колхозникам.
— Вот и кануло наше письмо в прорву, — пожаловалась Аграфена. — Совестью своей ручались, подписи ставили, а все на ветер. Почитали, поди, и выбросили. Где же она, правда-то, у людей, куда ее запрятали?..
Дед Анисим вызвался отправиться ходоком по Степиному делу в область, а то и в столицу, к самому товарищу Калинину.
— Я человек дошлый, бывалый, — убеждал он девчат. — Сколько раз по мирскому делу в губернию ходил. Месяцами в приемных у начальства околачивался. А правду выуживал, будь она хоть за семью печатями. Вы только меня харчами в дорогу снабдите да прошение составьте потолковее.
Степина тетка Пелагея заявила, что правды на белом свете, как видно, не было и нет, и прокляла тот день и час, когда ее племянник связался с комсомолом и колхозом.
Таня ходила грустная, подавленная, сторонилась девчат, редко показывалась на гулянках и все чаще стала заглядывать к ворожейке бабке Устинье — погадать о судьбе брата. И всегда на картах выходило, что Степу ждет дальняя дорога и казенный дом.
В поле Таня работала вяло, безучастно, порой даже забывала вовремя поднять и опустить плуги.
Сейчас, сидя за рулем, Нюша то и дело оглядывалась на подругу и кричала, чтобы та не дремала и следила за глубиной вспашки.
Потом, не выдержав, остановила машину и сама замерила за плугами глубину борозды.
— Да слежу, слежу! Будто я не понимаю, как надо, — устало сказала Таня. — А все равно это не пашня в такую слякоть... мазня одна.
Нюша только вздохнула. Борозда действительно получалась неровной, размазанной. Вот что значит запоздать с подъемом зяби, упустить погожие осенние деньки. А начальство из МТС все зачем-то понукает, торопит — пашите, нажимайте, добивайте план. А недаром в Кольцовке махнули на трактористов рукой — ковыряйтесь, мол, если вам горючего не жалко, а мы весной все равно поле заново перепашем.
— И маетная же наша работка, — ежась от дождя, пожаловалась Таня. — Летом на солнце жарься, осенью — под дождем мокни, а от людей доброго слова не услышишь. Словно наши машины обуза для них, наказание какое...
— Машины тут ни при чем, — задумчиво сказала Нюша. — Тут в другом заковыка...
— Это в нас, значит? — удивилась Таня. — Мы с тобой виноваты? Девчата да парни?
— Может, и в нас... А вообще-то забирай повыше. Темна вода в этой эмтээс. Сколько Степа сигналов начальству подавал, сколько актов было составлено!
Помолчав, Таня тихо призналась:
— А знаешь, я ведь с тобой,-наверное, последние деньки работаю.
— Как — последние? — удивилась Нюша. — Что ты говоришь такое?
— Тетка дом собирается заколачивать, в совхоз думает перебраться. Там у нее родня, близкие... Вот и я с ней. Здесь без Степы какая нам жизнь?
— Так оправдают же Степу, выпустят... Я уверена! — принялась уверять Нюша.
— Это еще когда-то будет! Да если и вернется братец — опять радости мало. На всю жизнь он запятнанный. Нет, лучше уж нам отсюда подальше куда податься...
Нюша с укором посмотрела на Таню. Вот так подруга! Они вместе росли, ходили в ШКМ, вступили в комсомол, вместе начали работать на тракторе. И вдруг Таня все бросает!
— Это кто ж тебя надоумил? — спросила Нюша. — Уж не Устинья ли дальнюю дорогу нагадала?.. Опять вчера ходила к ней?
— Ну и ходила, — с трудом выдавила Таня. — Устинья правильно гадает... как в воду смотрит. — Она вдруг соскочила с сиденья и схватила Нюшу за руку: — Уедем отсюда вместе!.. Сама же видишь — ничего здесь не получается с машинами. Смеются все над нами... Мы с тобой лучше в совхозе на тракторе поработаем. А хочешь — можно и девчат позвать: Феню, Зойку. Вот и будем опять вместе. А потом и Степа в совхоз приедет...
Нюша горько усмехнулась.
Вот, оказывается, как скрутило ее подружку! А может, она в чем-то и права? Может, и в самом деле, Нюшке податься в совхоз? Там, верно, и машины поновее, и порядка больше, и работы всем хватит... А потом и Степа туда вернется.
— Чего ты молчишь? Отвечай...
— Ладно тебе... не скули! — резко обернувшись, прикрикнула Нюша. — Сначала допахать надо... Поехали дальше!
Проработав еще часа три, девчата подогнали трактор к полевому стану и пошли обедать.
За столом под навесом уже сидело человек десять трактористов и прицепщиков. Все обедали молча, сердито поглядывая то на пасмурное небо, то на одетого в кожанку Антона.
— Эй, бригадир, подавай команду! — обратился к нему Банкин. — Пора бы на зимние квартиры двигать. Чего мы под дождем мокнем?
— Приказано свыше — пахать до последнего, — усмехаясь, ответил Антон.
— «Приказано... свыше»! — недовольно сказал Митя. — А почему раньше пахать не начали?
Антон пожал плечами.
К концу обеда небо развиднелось, сквозь облака пробилось солнце, и Антон, поднявшись из-за стола, старался подбодрить бригаду:
— Шуруй, орлы!.. К концу года хорошие премии обещаны... не пожалеете потом.
Не успели трактористы и прицепщики разойтись по своим машинам, как к полевому стану подъехал обшарпанный «газик».
Распахнулась дверца машины, показался Матвей Петрович, а за ним вышли пятеро рослых девчат.
— Ну вот, дорогие попутчицы, — обратился Матвей Петрович к девчатам. — Кажется, я вас доставил по назначению.
Кивком головы он поздоровался с трактористами. Узнав в приезжем инструктора райкома партии, Антон с готовностью шагнул ему навстречу.
— Здравствуйте, товарищ Рукавишников! Вы к нам? В бригаду? Могу доложить... — Он с недоумением покосился на незнакомых девчат и продолжал: — Заканчиваем подъем зяби. Все трактора работают исправно...
— Хорошо, хорошо — потом послушаю, — перебил его Матвей Петрович. — Вы на девчат особо-то не коситесь. Они вроде коллеги ваши... Я их по дороге нагнал. В гости к вам шли... Знакомьтесь вот.
— Вы уж скажете тоже, — заливаясь румянцем, с упреком сказала статная белолицая девушка в ковровом платке.
Потом, оправившись от смущения, она подошла к членам бригады и каждому по очереди протянула крупную жесткую ладонь, говоря при этом: «Здравствуйте... Варя». Следом за ней поздоровались и остальные девушки.
— Скажи на милость, — осклабился Банкин. — Девки-то какие завлекательные. Не нашим чета.
Антон метнул на него сердитый взгляд и обратился к Варе:
— Если вы насчет соревнования или поучиться чему — пожалуйста. Мы с удовольствием.
— Тут такое дело, — сказал Матвей Петрович. — Они, собственно говоря, не к вам, а к вашим девчатам приехали. Так сказать, к женской половине бригады. У них свой разговор будет. Секретный. — Он лукаво подмигнул парням. — Может, не будем им мешать, товарищи мужчины. Вы работайте, а девчата пусть побеседуют.
Пожав плечами, парни направились к машинам. Нюша, переглянувшись с Митей, бросилась к Матвею Петровичу, который садился в «газик».
— Вы наше письмо получили? Помните, то самое... срочное, посевное.
Матвей Петрович кивнул головой. Собственно, ради этого письма он и приехал сегодня в Кольцовку.
— Собери комсомольцев после работы, — сказал он. — Есть о чем поговорить. А сейчас займись-ка гостями. Да по-хорошему их примите, поддержите чем можете — девчата тоже к трактору тянутся.
Нюша вернулась к обеденному столу. Ее подруги и приезжие девчата, переминаясь с ноги на ногу, в неловком молчании стояли под навесом.
— Может, вы обедать хотите? — спросила Нюша.
— Спасибочко! Мы сытые, — отказалась Варя. — Вы лучше покажите, кто у вас тут Нюша Ветлугина.
— Я — Ветлугина, — растерянно призналась Нюша. — А это вот подруги мои. Прицепщицами работают. А могут и трактор водить.
— А я Глазкова... Варя Глазкова, — сказала девушка и с упреком посмотрела на Ветлугину. — Что ж ты нам на письмо-то не ответила... Мы ждали, ждали...
Густо покраснев, Нюша вспомнила, как с месяц тому назад почтальон передал ей письмо в самодельном конверте. В нем Варя Глазкова из колхоза имени Калинина сообщала, что она узнала из газеты о первой девушке-трактористке. Узнала, как Нюша работает, как выполняет нормы, как холит и бережет свой трактор, и Варе тоже захотелось сесть за машину. Вместе с подругами она записалась на курсы, хотя в деревне им все говорили, что профессия трактористки не для девчат. В конце письма Варя задавала десятки вопросов: как Ветлугина училась, как сдавала экзамены, как относятся к ней родители, колхозники, парни... Но Нюша так и не ответила Глазковой.
— Может, не дошло письмо-то, потерялось? — осторожно спросила Варя.
— Нет, дошло, — помедлив, хмуро призналась Нюша. — Только не успела я с ответом... дела всякие...
— Я так девчатам и говорила, — обрадовалась Варя. — Мол, недосуг тебе, работы невпроворот. А они сомневаются. «Может, говорят, Ветлугина и на тракторе больше не работает... не понравилось ей. Вот, мол, ей и отвечать нам нечего». Мы тогда и решили приехать. Ты уж нам покажи все как есть, растолкуй...
Нюша с волнением посмотрела на приезжих девчат. Значит, они интересуются ее работой, если не поленились в грязь и непогоду, за добрых сорок километров, добраться до Кольцовки. А сколько, наверное, таких девчат уже появилось в других деревнях и селах!
К Нюше подошла чернявая, остроглазая девушка и пытливо заглянула ей в лицо.
— Мы вот в колхозе у вас были, — заговорила она. — Много чего наслушались... Это правда, что вы с трактора уходить собираетесь? Трудно вам, непосильно... И в деревне вас поругивают...
Опустив голову, Нюша молчала. Вспомнилось смятение Тани, утренний разговор с ней, своя тревога и растерянность.
— И парни с вами, чумазыми, знаться не желают, — вступила в разговор еще одна из приезжих девушек. — И время досужего не остается из-за этого трактора... Да тут какой ни на есть отчаянный и тот не удержится.
— Вот вы как думаете! — сердито сказала вдруг Феня. — В беглецы нас зачислили! Ну, и трудно нам! Не по себе бывает. И смеются порой, и бранят. Но бежать мы не думаем, не зайцы косые, чтобы от всего шарахаться. Девчата, кольцовские, да скажите вы им!.. — взмолилась она.
Нюша с благодарностью посмотрела на подругу и, облегченно вздохнув, перевела взгляд на Таню. Та сжалась и опустила голову.
— Никуда мы отсюда не собираемся, — вполголоса сказала Нюша, обращаясь к гостям. — У нас и разговоров об этом не было.
— И плюньте тому в глаза, кто вам скажет такое! — задорно подхватила Зойка и принялась словоохотливо рассказывать о том, какая у них пригожая да завидная жизнь в МТС: и профессия уважаемая, и заработки неплохие, и парни на них заглядываются.
Чувствуя, что Зойка сейчас зарапортуется, Нюша поспешила остановить ее:
— Кончено с этим... Все ясно, понятно. Давайте делами займемся. Для начала мы вас обедом накормим.
Гости оказались не такими уж «сытыми» и с удовольствием похлебали бригадных щей и поели каши.
Потом девчата показали полевой стан, вагончик-общежитие, покатали на тракторе, продемонстрировали свое умение водить машину.
Поздно вечером, уложив гостей спать, Нюша с подругами и еще несколько комсомольцев отправились в избу-читальню.
Матвей Петрович сказал, что сигналы, изложенные в письме комсомольцев, очень серьезны и тревожны. Матвей Петрович сегодня беседовал с трактористами, с колхозниками, и надо сказать, что положение в МТС вырисовывается действительно неприглядным. Кому-то явно на руку посеять среди колхозников недоверие к машинам, к трактористам, убить веру в артельную обработку земли.
— А что же со Степой будет? — вырвалось у Тани.
Матвей Петрович нахмурился:
— Ничего утешительного сказать вам пока не могу. Областная прокуратура всячески раздувает дело Ковшова. Но думаю, что на суде все это распутается... — Он оглядел притихших парней и девушек, и на скулах у него проступили желваки. — Я понимаю... Трудно вам сейчас. Очень трудно. Время сложное. Враги вновь поднимают голову, пытаются помешать колхозному движению. И не только у вас, в Кольцовке. По всей стране. Действуют они тихой сапой — умело, осторожно, хорошо маскируясь. Распознать их нелегко. И сейчас вы как бойцы на фронте. На первой линии, под самым огнем... Враги целятся в вас, стремятся вывести из строя, ослабить ваши ряды. Так, видимо, и получилось со Степой Ковшовым. Но он еще будет в строю. Поверьте мне. Так вот, друзья, — обратился он ко всем. — Партийной ячейки у вас в колхозе пока нет, и вы, комсомольцы, первая наша опора. Держитесь дружно, сомкнутым строем. Локоть к локтю. Кругом смотрите позорче, следите за порядком в эмтээс, доброе имя колхоза берегите. А если нужно — деритесь, принимайте бой!..
Матвей Петрович уехал далеко за полночь.
Комсомольцы долго стояли около избы-читальни, провожая глазами уходящий в темноту «газик».
— Как бойцы на фронте... на первой линии, — вслух подумала Нюша. — Чуете, ребята?
— Еще бы не чуять, — отозвался Митя и со вздохом посмотрел на Таню. Потом обратился к девчатам: — Я вам сказать должен... Пусть Танька не сердится. Она ведь в совхоз собралась. Вместе с теткой. Они дом хотят заколотить... — Митя вдруг загорячился, стал заикаться и перешел почти на крик. — Неправильно это... Не по-нашему! На бюро ее вызвать! Осудить!.. И вообще... не пущу я ее. Так и знайте!
— Это правда, Танька? — удивленно спросила Феня. — Бежишь?
— А как же слово наше верное? — с досадой напомнила Зойка. — Пока, мол, женихов не найдем — друг без дружки никуда!
Таня молчала. В темноте Нюша встала рядом с ней и обняла ее за плечи. Таня вздрогнула и прижалась к подруге:
— Никуда я от вас не денусь! — шепнула она.
— Да ты не петляй... — оторопело забормотал Митя. — Сегодня же тетка говорила: уйдем да уйдем...
— Ладно, Митяй, помолчи, — перебила его Нюша, — Перепутал ты что-то... Потом разберешься. Пошли, ребята, по домам.
КУПАНИЕ
Дожди шли еще с неделю, потом пробилось солнце, ночью небо вызвездило, и к утру ударил первый заморозок.
Луговины побелели, лужи затянуло тонким узорчатым ледком, вспаханная земля покрылась блестящей пленкой, словно ее облили глазурью.
Пахать стало легче, и Нюша взбодрилась, — может, теперь удастся закончить подъем зяби.
Но заморозки крепчали с каждым днем, и земля вскоре стала жесткой и неподатливой.
Очередное воскресенье совпало с престольным осенним праздником в соседнем селе Заречье. С утра затрезвонили колокола, старики и старухи потянулись в церковь, мужики и бабы — в гости к родственникам, разодетые девки и парни — погулять на зареченской улице.
Нюша в этот день выехала поднимать зябь вместе с Феней. Таня с Митей еще накануне отпросились у Антона и уехали в областной город. Была у них тайная мысль добиться свидания со Степой, вручить ему передачу, а главное, рассказать о встрече с Матвеем Петровичем.
Нюша свернула с дороги, ввела трактор в борозду, и прицепщица опустила плуги. Они с трудом вошли в прихваченную морозом землю.
Трактор шел тяжело, мотор выл натужно и угрожающе и вскоре перегрелся. Пришлось останавливаться и ждать, когда солнце прогреет мерзлую землю.
На дороге показалась группа колхозников, направлявшихся в Заречье на праздник.
— Погоняй кобылку-то, погоняй! Иль животом надорвалась! — крикнула Матрена Осьмухина и шлепнула по бедрам руками. — Вот распорядчики! Добрые люди сани ладят, избы утепляют, а они все еще в земле ковыряются...
Прикусив губу, Нюша завела мотор и, рискуя поломать плуги, отогнала трактор подальше от дороги.
В полдень Феня принесла из полевого стана обед и сообщила подруге, что трактористы совсем посходили с ума — трое или четверо парней оставили в поле машины и ушли в Заречье на гулянку, а Банкин с какой-то подозрительной компанией сидит в вагончике и пьет самогонку.
— А бригадир где? — спросила Нюша.
— Он тоже куда-то смотался. Не то в район, не то в гости...
Нюша задумалась. Ну и бригада же у них подобралась! Большинство парней пришлые, любят зашибить копейку, выпить, погулять, то и дело нарушают дисциплину, машин не жалеют, а бригадир как будто ничего этого не замечает. Он со всеми на дружеской ноге, с каждым водит компанию.
Про него даже поговаривают, что он завел дружбу с учетчиком, частенько угощает его вином, и тот щедро приписывает к выработке бригадира и его дружков лишние гектары.
Нет, не такую надо в Кольцовке тракторную бригаду, совсем не такую...
После обеда, пройдя по загону три круга, Нюша с Феней увидели, что по дороге катит трактор. За рулем сидел Банкин. За его плечами стояло двое разодетых по-праздничному девчат, а у их ног примостился какой-то парень и пиликал на гармошке. Девчата визгливыми голосами выкрикивали частушки.
— Что это? — нахмурилась Нюша.
— Вконец загулял Банкин... — сказала Феня. — Девок катает. Должно, в Заречье собрались!
Нюша остановила трактор и, спрыгнув с сиденья, побежала к дороге.
Банкинский трактор уходил все дальше и дальше. Вот он свернул налево, к излучине реки, на противоположной стороне которой раскинулись зареченские избы и сараи.
Нюша прибавила шагу. Банкин дал третью скорость. Трактор вихлял из стороны в сторону, его подбрасывало на дорожных ухабах. Парень перестал играть на гармошке, девки умолкли. Трактор дошел до берега реки и, круто наклонившись, стал спускаться к воде, затянутой льдом.
Нюшка похолодела от догадки.
Девки испуганно закричали, засуетились и приготовились было спрыгнуть на землю. Банкин взмахнул рукой и то ли выругался, то ли сказал что-то успокоительное, но девки, вцепившись ему в плечи, остались на тракторе. Парень пьяно захохотал и растянул гармошку.
Банкин направил трактор через реку. Первые метры машина прошла как ни в чем не бывало, оставляя колесами белые ссадины на зеленоватом льду, но потом лед треснул, и трактор накренился.
Девчата и парень с гармошкой спрыгнули и бросились к берегу.
Когда Нюша подбежала к реке, трактор, проломив лед, уже погрузился в воду. Мотор еще работал.
— Мотор глуши, мотор! — закричала Нюша трактористу, но было уже поздно.
Перепуганный Банкин спрыгнул с сиденья и оказался по горло в воде. Он судорожно хватался за кромку льда, фыркал, но никак не мог вылезти из воды.
Не помня себя, Нюша легла плашмя на лед, подползла к проруби и протянула Банкину руку. Тот судорожно ухватился за нее и едва не стащил ее в воду. Нюшка закричала, но ей на помощь уже подползал парень-гармонист. Вдвоем они помогли Банкину выбраться из воды. Тот дрожал и лязгал зубами.
— Говорили тебе, Гераська!.. — запричитала одна из девок. — Не езди через лед... Говорили!
Трактор между тем глубоко осел на дно реки и заглох.
Вода скрыла сиденье, мотор, задние колеса, и над рекой торчала лишь одна выхлопная труба.
— Пьяница! Шантрапа несчастная! — в бешенстве закричала Нюшка, наступая на Банкина. — И откуда такие в бригаду поналезли! Самого бы тебя утопить! Вытаскивай вот машину! Лезь в воду!
— Ладно тебе! — вступился за Банкина парень-гармонист. — Не подыхать же человеку... Видишь, как его от холода корчит. Ему сейчас согревательное требуется. — И, подмигнув девкам, он повел тракториста в Заречье.
Нюша осталась одна. Что было делать? Махнуть на все рукой и вернуться в поле? Но через час все Заречье будет знать, что трактористы утопили машину, и на берегу соберется добрая половина деревни. А потом подойдет народ из Кольцовки... Вот будет зрелище! А ведь и так про их бригаду говорят невесть что...
Нюша вернулась к своей машине и послала Феню за парнями. Сама же, отцепив плуги, погнала трактор к реке.
Вскоре туда же, вместе с Семкой Уклейкиным и Зойкой, подошла Феня. Она отыскала в поле еще двух трактористов, но те наотрез отказались выручать лоботряса Банкина — пусть он сам вытаскивает машину.
— Вот это бригада! Хоть тони, хоть гори — никому дела нет! — с досадой проговорила Нюшка.
— Да, бригадка как на подбор. Ягодка к ягодке... — со вздохом согласился Уклейкин и спросил Нюшу, что она думает делать.
— А может, все-таки попробуем... вытянем, — предложила Нюша.
Она достала из инструментального ящика ржавый стальной трос с петлей на конце и, подойдя к проруби, пыталась зацепить им за колесо трактора. Но из этого ничего не получилось — трос срывался и опускался на дно.
Нюша с досадой покачала головой.
— Ничего не попишешь... Придется кому-то искупаться. — И она потрогала рукой воду.
Феня встревоженно переглянулась с Зойкой, потом взяла Нюшу за рукав и потянула от воды.
— Не выдумывай... Не лето сейчас. Насмерть окоченеешь!
Нюша продолжала смотреть на темную, тускло мерцающую воду.
— А ты что стоишь? — набросилась Феня на Уклейкина. — Мужик ты или кто? Взял бы да нырнул.
— Что вы, девчата!.. — оторопел Уклейкин. — В такую-то пору?.. Да тут и чумной не полезет! — И он посоветовал оставить трактор в реке до завтра — вернется Антон и пусть во всем разбирается.
Нюшка рывком сбросила с плеч кожушок, схватила конец троса, и не успели подруги опомниться, как она бросилась в воду. Взвизгнув от ледяной воды, она подплыла к трактору и нырнула. Нащупала руками крюк между передними колесами, попыталась накинуть на него петлю троса и не успела — вода вытолкнула ее наверх.
Нюшка набрала в легкие побольше воздуха и нырнула еще раз. И опять неудача. Тогда, с отчаянной решимостью, она погрузилась в воду в третий раз и наконец-то сумела надеть петлю на крюк. Девчата помогли Нюше выбраться на лед.
— Заарканила! — бросила она Уклейкину. — Тащи теперь!
Уклейкин завел трактор. Трос натянулся, зазвенел, и затонувшая банкинская машина, ломая лед и взбаламучивая грязь со дна, поползла к берегу.
— Газуй! Тяни! — кричала Нюшка, лязгая от холода зубами и кутаясь в кожушок.
— Дурная ты! Оглашенная! — плачущим голосом причитала Зойка, отжимая из платья подруги воду. — И не стой, ради бога... Шевелись! Двигайся! Побежали домой скорее... Сейчас мы тебя на печку да шубами укроем...
— Чего там шубами! — вспомнила вдруг Феня. — У меня в Заречье тетка живет. Мы Нюшку сейчас первачком разотрем. Вот кровь-то и взыграет! — И она, подхватив подругу под руку, потащила ее в Заречье.
ПРЕМИЯ
Наутро из МТС дали команду прекратить подъем зяби, и тракторы, как натрудившиеся кони, начали стягиваться к эмтээсовской усадьбе.
Поставив свой трактор около мастерской и по привычке протерев его тряпкой, Нюша направилась к конторе и здесь столкнулась с Антоном.
В распахнутой кожаной куртке, в лихо сбитой на затылок кубанке, он схватил руки девушки и крепко потряс их:
— Поздравляю!..
— С чем же это? — усмехнулась Нюша, отнимая руки и пряча их в карманы. — С тем, что зябь недопахали... Да еще трактор чуть не утопили.
— Ну, с трактором, скажем, все в порядке. Ты просто герой, отличилась вчера. Я уже и начальству об этом доложил. Тебе благодарность будет объявлена. Банкин же, конечно, выговорок огребет... А насчет зяби... — Антон развел руками, — с нас взятки гладки. Стихия, ранняя зима. Ничего не поделаешь... Тут главное, что ты свой первый сезон кончила с победой.
— С какой еще победой?
Антон многозначительно улыбнулся:
— Я же говорил, быть тебе на щите... В общем, узнаешь на собрании.
И действительно, дня через три всех механизаторов пригласили в контору МТС.
Когда Нюша с девчатами пришла на собрание, в конторе было уже полно людей. Письменные столы заранее были вынесены в коридор, в конторе расставили скамейки и табуретки, и на них разместились трактористы, прицепщики, учетчики, ремонтные рабочие из мастерской.
Настроение у всех было приподнятое. Парни приоделись по-праздничному, кое-кто был уже под хмельком.
— Что же вы в таком затрапезном виде явились? — упрекнул Антон девчат.
— Думали, по делу собирают, — ответила Зойка.
— Всякое будет. И деловое, и премиальное... А танцы на закуску. Вон и музыка наготове. — Антон кивнул на двух парней с новенькими гармониями за плечами.
Покосившись на гармонистов, Зойка принялась уговаривать девчат сбегать домой и переодеться.
— А может, не танцевать — плакать придется, — остановила ее Нюша. — Вот навешают шишек нашей бригаде...
— Это за что же шишки? — обиделась Зойка. — Работали, надрывались, на солнышке жарились, керосином провоняли и нате пожалуйте...
Нюша заявила, что переодеваться она не пойдет, и, насупившись, села на заднюю скамейку. Рядом с ней примостились девчата.
Репинский открыл собрание. В президиум избрали бригадиров тракторных бригад, механика Лощилина, заведующего мастерской. Когда они все разместились за столом, покрытым красным сатином, Репинский выступил с речью.
Он поздравил механизаторов с завершением хозяйственного года, потом, близоруко щурясь, принялся листать какие-то ведомости и монотонным голосом называть десятки цифр: план тракторных работ в переводе на мягкую пахоту перевыполнен на столько-то, горючего сэкономлено столько-то, запасных частей сбережено на такую-то сумму.
Полузакрыв глаза, Нюша слушала директора и не знала что подумать. По его словам выходило, что механизаторы теперь самые почитаемые люди в деревне, от них зависит и урожай, и колхозное богатство, и мужики на них чуть не молятся.
«Вот как у других-то хорошо все получается, — позавидовала Нюша. — Не чета нашей бригаде».
И она с трепетом ждала, когда директор МТС заговорит о трактористах, работавших в Кольцовке.
Но Репинский не пожелал утруждать себя длинной речью. Он призвал механизаторов и дальше работать так же успешно и предоставил слово для зачтения приказа механику Лощилину.
Лощилин поднялся из-за стола и достал из туго набитой папки отпечатанный на машинке приказ. В ту же минуту от двери протолкался эмтээсовский сторож старик Акимыч и с торжественным видом поставил на стол фанерный ящик, прикрытый газетой.
Шепот в конторе стих, все насторожились и вытянули шеи.
Первым в приказе было названо имя Антона Осьмухина. Он вывел свою бригаду на первое место в МТС, лично добился наивысшей выработки и самой большой экономии горючего. Антону присваивалось звание тракториста-ударника и присуждалась первая премия — отрез на костюм.
Лощилин жестом фокусника сдернул с фанерного ящика газету и извлек из него черный шевиотовый отрез. Потом достал из папки книжку ударника в красном коленкоровом переплете, положил на отрез и, держа его в руках как хлеб-соль, поднес Антону:
— Прошу, товарищ Осьмухин!
В конторе раздались аплодисменты.
Антон вскочил из-за стола, поправил гимнастерку, затянутую узким кавказским ремешком, и с достоинством принял из рук Лощилина премию.
Механик и директор пожали ему руку.
— Какие обязательства на будущее берешь, товарищ Осьмухин? — деловито осведомился Репинский. — Стоять на месте нельзя... на пятки могут наступить... Надо, как говорится, вперед и выше! Поделись-ка своими планами с народом...
— Могу и поделиться, — охотно согласился Антон, небрежно сунув в карман книжку ударника. — Вот здесь товарищ директор призвал нас стремиться вперед и выше... Так я от имени нашей бригады могу заверить...
— А ты не от бригады... ты от себя скажи, да по совести, — неожиданно раздался чей-то голос.
Все обернулись к двери. У порога стояли Игнат Хорьков, Аграфена Ветлугина и дед Анисим. Когда они пришли на собрание— никто, кажется, не заметил.
— Что значит «по совести»? — смешавшись, переспросил Антон.
— А вот то самое... — ласково продолжал Анисим. — Вперед и выше — это твоя бригада умеет. Нормы гоните, газуете почем зря — только бы побольше гектаров вам записали. А вот поглубже пахать что-то у вас не получается.
— Верно, Анисим Иваныч, — поддержал его Хорьков и Обратился к директору МТС: — Вот вы, товарищ Репинский, всё на гектары мягкой пахоты переводите, а нам от этого жестковато приходится. Мы вот в колхозе семь актов на ваших трактористов составили — мелкая вспашка, огрехи, затянули сроки сева... Почему же об этом-то в приказе ничего не сказано?
— И я вопросик имею, — подала голос Аграфена. — За какое ж такое отличие вы шевиоты своим кавалерам раздаете?
Антон, переминаясь с ноги на ногу, вопросительно посмотрел на директора и механика. За столом произошло замешательство. Лощилин, наклонившись к директору, что-то шептал ему на ухо. Шея Репинского наливалась багровой кровью.
— Ой, Нюшка, — шепнула Таня подруге, кивая на колхозников. — Зачем они только пришли? Весь праздник испортят...
— Праздником будто и не пахнет, — ответила Нюшка, поднимаясь со скамейки и стараясь рассмотреть, что происходит за столом.
И она подумала, что это, пожалуй, совсем неплохо, что колхозники заявились на собрание. Давно бы им пора поговорить начистоту с руководителями МТС. И тут же Нюше вспомнился Степа. Будь он в деревне, он тоже пришел бы сюда и первым полез бы в схватку.
— Дозвольте еще словцо молвить, — обратился к Репинскому дед Анисим. — Пользуясь, так сказать, случаем...
— Нет уж, извините, не позволю, — поднимаясь из-за стола, раздраженно заговорил Репинский. — Кто вам дал право вмешиваться в мои приказы? И кто вас, собственно, приглашал сюда? Здесь собрание механизаторов, обсуждаем свои внутренние дела... И присутствие посторонних здесь совсем необязательно...
— Не такие уж мы посторонние, — заметил Анисим. — Тракторы нашу землю обрабатывают... колхозную.
— Еще раз прошу, товарищ Безуглов... Не мешайте собранию. — Репинский нетерпеливо постучал карандашом по графину и кивнул Лощилину: — Продолжайте, Николай Сергеевич!
Механик откашлялся и огласил еще несколько имен трактористов, которым присваивалось звание ударника и присуждалась премия.
Пятой по счету была названа Нюша Ветлугина. В приказе говорилось, что эта первая девушка-трактористка показала за сезон отменную дисциплинированность, завидную любовь к машине и перегнала по выработке многих парней.
— Нюшка! Тебя зачитали! — вскрикнула Таня.
В первый миг Нюше показалось, что Лощилин оговорился или придумал какую-то озорную шутку.
Но механик с серьезным видом достал из фанерного ящика легкие, открытые, цвета перезревшего огурца туфли-лодочки на высоком каблуке, поставил их на краешек стола, а рядом с ними бережно положил красную книжечку:
— Прошу, товарищ Ветлугина!
В ту же минуту тесное помещение конторы наполнилось такими частыми и громкими рукоплесканиями, что створки рам, казалось, вот-вот распахнутся.
Парни из других бригад, до этого плохо знавшие Ветлугину в лицо, сейчас, поднимаясь с мест, рассматривали ее с неприкрытым любопытством и обменивались замечаниями:
— Вот она какая!
— Наперсток!
— И кто ей только трактор заводит?
— Да иди ты, иди! — шепнула Зойка и пребольно ущипнула подругу за руку. — Получай свои черевички.
Подталкиваемая девчатами, Нюша подошла к столу. Как в тумане, она пожала протянутые ей руки Лощилина, потом Репинского и покосилась на край стола.
— Бери, не задерживай, — поторопил механик. — Твоя премия... законная, трудовая.
— А ты примерь! — крикнула Зойка, когда подруга осторожно взяла туфли. — Может, еще номер не подойдет!
Нюшка невольно улыбнулась и зачем-то протерла туфли рукавом кофты — что ни говори, а премия завидная. О таких туфлях она и мечтать не смела.
Но тут Нюша встретила взгляд матери. Аграфена смотрела на нее с грустью и с сожалением и слегка покачивала головой. Позади нее стоял дед Анисим и, отвернувшись, жадно курил толстую цигарку.
— Покрасуйся, дочка... топни ножкой, — негромко сказала Аграфена. — Себе на утешение и начальству на радость!
Нюша вспыхнула и опустила голову.
Репинский вновь постучал карандашом по графину и бросил на Аграфену недовольный взгляд. Потом обратился к Нюше:
— О планах на дальнейшее говорить будешь?
— Скажу, — помедлив, ответила девушка, с трудом поднимая голову. — Я про этот год лучше скажу... И про нашу бригаду. Не знаю, как другие, а мы еще плохо работали... Совсем плохо! Правильно дедушка Анисим говорит — пенки с земли снимали... И никакие мы не ударники! И не за что нам отрезы да туфли вручать. Не заслужили пока. Подождем еще годок, совести наберемся... Вот и все... — Вздохнув, Нюша поставила на край стола туфли, положила рядом красную книжечку и вернулась на свое место, к девчатам.
Механизаторы зашумели, а из угла кто-то выкрикнул: «Вот так птичка-невеличка! Дает обороты!» — и нельзя было понять, то ли это было сказано в похвалу, то ли в осуждение.
Репинского бросило в пот. Он уже хотел как следует отчитать Ветлугину, но потом благоразумно решил превратить все в шутку.
— Моя вина, товарищи, каюсь! — благодушно заговорил Репинский. — Принял в механизаторы первую дивчину, а у нее, как у деточки в детском саду, капризов полно — того не хочу, этого не желаю. Послушай, Ветлугина, — обратился он к Нюше, — а если бы я тебе в приказе выговор объявил? Так ты тоже не согласилась бы?
— Смотря за что выговор! — буркнула Нюша.
— Видали? — обрадованно подхватил Репинский. — Послушать ее, так в эмтээс никакого руководства не надо. Мол, каждый тракторист сам себе директор. Сам пашет, сам учитывает, сам себя поощряет и наказывает. Ну нет, такого еще на свете не бывало. И я не затем сюда прислан, чтобы потакать всяким капризам...
— Как же все-таки с премией-то быть? — спросил Лощилин.
— Я своего приказа не отменяю! — заявил Репинский. — А туфли пока уберите в шкаф. Премия, так сказать, до востребования. Одумается дивчина — заберет.
Неожиданно попросил слова бригадир торбеевской тракторной бригады Василий Кочетков и, не дожидаясь разрешения, поднялся из-за стола.
— А я, товарищи, поддерживаю Ветлугину, — строго сказал он. — Правильно она поступила... честно, по-комсомольски! Действительно, неважно еще работали наши трактористы. Не заслужили мы пока премий. Вот, может, на будущий год докажем, на что мы способны. А пока, по примеру Ветлугиной, я тоже отказываюсь от премии. — И он положил на стол перед Лощилиным книжку ударника.
Репинский зачем-то принялся стучать по графину, хотя в конторе и без того было тихо.
— Черт те что! — выругался он. — Ты, Кочетков, часом, не заложил?
— Ни в одном глазу, товарищ директор!
Репинский вытер платком взмокший лоб и, махнув рукой, велел Лощилину читать дальше.
Механик быстро дочитал приказ, и на этом собрание закончилось.
СВОЯ БРИГАДА
Все повскакали с мест. Парни принялись вытаскивать в коридор скамейки. Гармонисты, словно моторы тракторов перед выездом в поле, опробовали гармони. В дверях уже толпились девчата из Кольцовки — наконец-то все трактористы в сборе и можно будет танцевать хоть до утра.
Нюша незаметно выскользнула за дверь — ей было не до танцев. На крыльце ее догнали подружки.
— Ой, Нюшка, а туфельки-то какие! — затараторила Зойка. — Отрада, загляденье! И почему только ты отказалась....
— Почему да зачем... — перебила ее Таня. — Нюшка же ясно сказала, совесть надо иметь. — И она с уважением посмотрела на подругу.
Горько и обидно, когда тебя незаслуженно ругают, а вот когда хвалят безо всякой причины, редко кто возразит против этого. Нюша же нашла в себе силы отказаться от незаслуженной похвалы. Значит, она все такая же, как и раньше, и не удалось Антону опутать ее. Вот если бы Степа знал об этом. Как бы он порадовался!
— А Кочетков-то как хорошо сказал, — заметила Феня. — «По примеру Ветлугиной»... И премию на стол.
К девчатам подошел Антон и шутливо распорядился:
— А ну, всем на танцы! Не срамить нашу бригаду!
Взяв Нюшу под руку, он отвел ее к мастерским и сообщил, что завтра они должны поехать в город, на областной слет передовиков-механизаторов.
— В область? На слет? — удивилась Нюша. — Да какие же мы передовики?
— Ну-ну, не прибедняйся. Начальство, оно знает, кого посылать. Все равно лучше нас с тобой в бригаде никто не работал... — Антон заглянул девушке в лицо. — Нам уже и командировки выписали. На три дня. Вот вместе и поедем.
Нюша покачала головой:
— После всего что было... Ну нет! Я на слет не ездок... Да и тебе не советую.
— Так командировки же готовы! — всполошился Антон.
— Пусть на других перепишут.
— И чудна́я же ты дивчина, — с сожалением сказал Антон. — Ей премию в зубы, а она брыкается.
— А тебе бы только жить по поговорке: дают — бери, бьют — беги, — усмехнулась Нюша. — Ну нет, я так не привыкла. У меня еще совесть есть.
— «Совесть, совесть»! — нахмурился Антон. — Да что вы одно заладили — то Фенька, теперь ты. Просто я работать умею. И машина меня слушается, начальство ценит. Что же мне теперь — от славы да от почета отказываться? И не моя вина, что в трактористы всякие недоделыши поналезли.
— Вон ты как о товарищах заговорил!
— Не о всех, конечно. Тебя я знаешь как уважаю. Ты любого парня за пояс заткнешь. — Антон схватил Нюшу за руку и привлек к себе. — Слушай, чего я думаю. Поработаем здесь еще годик, заручимся хорошими справками: так, мол, и так, передовики, премированные ударники, а потом в совхоз махнем. Или еще куда. Нам с тобой везде место найдется.
— Никуда я отсюда не собираюсь, — отстранясь, холодно сказала Нюша. — Ни с тобой, ни одна. И заруби себе на носу.
— Понимаю, — притворно вздохнул Антон. — Все дружка своего ждешь... Ковшова.
— Кого бы ни ждала — это моя забота.
— А дело-то с ним серьезнее получается, чем мы думали.
— Что — серьезнее? — насторожилась Нюша.
— Ну, это самое... хищение семенного зерна. Уже второй месяц следствие идет... Запутанное дельце, загадочное. Ты слышала, что в деревне начинают поговаривать? В тюрьме, мол, ни за что ни про что так долго держать не будут.
— Да ты что?.. — Нюша даже отступила назад. — И ты веришь этому?
Антон неопределенно пожал плечами:
— Я к тому, что всякие слухи пошли... И вообще, зачем тебе все это... Ну, скажем, вернется когда-нибудь Степка. А клеймо на нем все равно останется: в тюрьме побывал парень. Как тавро на лошади, на всю жизнь. Тебе-то каково будет... Подумай только.
У Нюши перехватило дыхание.
— Уходи, Осьмухин... Уходи! — хрипло выдавила она и бросилась прочь от мастерской.
Навстречу ей спешили девчата.
— О чем он с тобой? — нетерпеливо спросила Таня.
— Да так... о всяком, — тяжело дыша, ответила Нюша. — В город зовет... на слет ударников.
— Ну, а ты?
— Отказалась... Какая же я ударница! Только чужое место на слете занимать.
— Вот и зря, — сказала Таня. — Степу бы навестила, передачу ему отвезла... Поезжай, не отказывайся.
«И впрямь надо поехать», — подумала Нюша и обратилась к девчатам:
— Вы потанцуйте, коли охота. А я домой пойду... Что-то ноги гудят.
Подруги переглянулись.
Таня, в свою очередь, пожаловалась, что у нее от табачного дыма закружилась голова, Феня вспомнила про заболевшую мать, и девчата направились к Кольцовке. Зойка покосилась на дверь конторы, откуда доносились звуки гармошек, отчаянный топот ног и, вздохнув, поплелась за подружками.
По дороге девчата нагнали колхозников и Митю Горелова. Те неторопливо шагали по окаменевшей от мороза дороге и продолжали ругать МТС.
— А мы все еще сходуем, — сказал девчатам Анисим. — Жалко, словцо мне не дали, а то бы я разделал ваших молодцов под орех. Тоже мне ударники полей! Казакуем, тракторуем! Ты это здорово спесь-то с парней посбивала. Молодчина! А что туфель лишилась — не жалей. Разбогатеет колхоз — мы тебе две пары отвалим.
— Да что вы, дедушка! Я и не думаю о них!
— Здорово-то здорово! — вмешался в разговор Игнат Хорьков. — А все же вас, молодых, спросить надо. Вы же свои, кольцовские, а такую поганую работу в бригаде терпели?
— Мы-то при чем? — удивилась Зойка. — Пятая спица в колеснице... прицепщицы.
— Вы на машине сидите, и к земле ближе всех нас. Вот вам бы и доглядывать.
— Да много ли нас, кольцовских-то, в бригаде? — сказала Феня. — Все больше пришлые. Колхоз для них — дело далекое.
— Вот то-то и оно! — вздохнул Анисим. — Когда далекое да стороннее — толку не жди...
Показалась Кольцовка. Игнат Хорьков, Аграфена и Анисим пошли по своим домам. Девчата и Митя медленно брели вдоль улицы.
— Вот это да-а, — с досадой протянула Зойка. — Кто-то пахал, а мы за них в ответе. Дядя Игнат скажет тоже.
— А они, пожалуй, в чем-то правы, — задумчиво сказала Нюша. — И Степа Ковшов не раз говорил об этом...
— О чем? — переспросила Феня.
— А вот о чем. Надо нам свою бригаду собирать. Подобрать надежных кольцовских ребят и девчат... Кто, конечно, землю любит да с кого потом за работу спросить можно. Послать их зимой на курсы трактористов, а с весны — в поле. Чтобы на совесть работали, дружно, с охотой... И чтобы люди уважали таких трактористов и никто плохого слова про эмтээс сказать не посмел. Митя, ведь правильно я говорю?..
— Верно! — поддержал Митя. — Был такой план у Степы. Он все собирался на ячейке его обсудить. Да что там говорить много — нужна нам такая бригада. Еще как. Тут и слепому ясно.
— У нас и парней-то в селе почти не осталось, — заметила Зойка.
— А знаете, из кого бы я эту бригаду составила? — Нюша задорно оглядела подруг. — Из девчат. Да, да, вы не удивляйтесь! Не такие уж мы никчемушные... В первую очередь вас записала — вы же почти трактористки, потом человек десять новеньких бы позвала... Девчат в деревне хватит!
— Девчачья бригада! — вскрикнула Зойка. — Умора же!
— Для острастки Митю с Уклейкиным можно будет оставить, — улыбнулась Нюша. — Мужики все-таки, твердая рука...
— Да нашу сестру и на курсы-то не примут, — высказала сомнение Феня. — Будем, как в прошлом году, пороги эмтээс обивать.
— Но Нюша все же добилась своего, получила права, — сказал Митя.
— Так она измором начальство взяла.
— Ничего... Мы все теперь зубастее стали. Обломаем Репинского, — заверила Нюша и предложила поговорить о новой бригаде на ячейке.
НА БАЗАРЕ
Утром Ветлугину вызвал к себе Репинский, пожурил за вчерашнее анархическое выступление на собрании и сказал, чтобы собиралась в город на слет передовиков-механизаторов.
— Знаю, знаю, — поспешил он предупредить Нюшу, думая, что та станет отказываться. — Сейчас опять критику начнешь наводить. Изъяны, конечно, у нас есть, но все же наша эмтээс не хуже других работала. Надо видеть и достижения. Вот хотя бы, к примеру, тебя взять: первая дивчина на тракторе, неплохо овладела техникой... Почему бы тебе на слете не показаться?
— Хорошо! Я поеду, — согласилась Нюша, к немалому удивлению Репинского.
В этот же день вместе с группой трактористов из Кольцовской МТС она отправилась в город. Делегатов на совещание сопровождал механик Лощилин.
Слет должен был открыться вечером, и Нюша решила отнести Степе передачу. К тюрьме надо было идти через городскую площадь. День был базарный, и сотни подвод запрудили булыжную площадь. Съехавшиеся со всей округи крестьяне бойко торговали мясом, молоком, овощами, яблоками, зерном. Они шумели, перекликались, наперебой зазывали покупателей, расхваливали свой товар.
Нюшка с трудом пробиралась среди подвод.
На одной из телег она заметила краснобокие яблоки, не торгуясь, купила два десятка и сунула в узелок.
«Степе отнесу... пусть погрызет», — подумала она, и сердце ее заныло.
— Яблочки покупаешь? — вдруг услышала она голос Антона и быстро оглянулась.
У пивного ларька Антон с Лощилиным пили пузырчатое пиво и закусывали воблой. Антон был уже навеселе.
— А мы вот премию обмываем, — ухмыльнулся он. — Поддержи компанию, Нюша, пригубь за Николай Сергеича. Кто нас с тобой в передовики вывел? Он, дорогой наш механик...
— Ладно тебе, передовик, — перебил его Лощилин и скользнул взглядом по Нюше. — Видишь, недосуг Ветлугиной — с передачей торопится.
— А-а, — осклабился Антон. — Все ходит, носит, ножки бьет. Ну-ну, пусть старается... — Покачиваясь, он шагнул к Нюше и, схватив ее за руку, потянул к ларьку. — Ладно, успеешь еще...
Побледнев, Нюша с неприязнью вырвала руку и злым шепотом сказала:
— Не цепляй, Осьмухин. Пусти!
— Ну-ну, не расходись! Я ведь по-хорошему... — примиряюще заговорил Антон и вдруг насторожился: из рядов, где стояли подводы с зерном, донесся знакомый заливистый голос:
— А вот семенная пшеница!.. Отборная, сортовая, урожайная! Налетай, не зевай!
Удивленный Антон посмотрел на Нюшу:
— Слышишь! Никак, отчим твой зазывает... Горелов.
— Где Горелов? Откуда? — переспросил Лощилин.
Забыв про Антона, Нюша кинулась на голос. Лощилин с Антоном устремились за ней следом. Нюша протолкалась через толпу и увидела отчима.
Раскрасневшийся, потный и, видимо, уже изрядно под хмельком, он стоял у телеги, нагруженной пузатыми мешками, пересыпал с ладони на ладонь пшеничные зерна и громко зазывал покупателей.
— Папаше привет! — насмешливо сказала Нюша.
Горелов вздрогнул и растерянно улыбнулся:
— Фу-ты, Нюшка! Откуда взялась-то?
— Бойко же ты торгуешь! Из каких это урожаев только?
— Да вот... нашлись запасцы, — забормотал Горелов, воровато оглядываясь по сторонам.
— Какие запасцы... откуда? — встревожилась Нюша. — Да как ты смел наш хлеб продавать!..
— Это не наш... тут другое!
— Вы уж прямо скажите, — торопливо проговорил из-за Нюшкиной спины Лощилин. — Перекупили пшеничку у кого-нибудь... »
— Есть такое дело, — поспешно согласился Горелов. — Подзаработать малость хочу... — И он обратился к падчерице: — Ты уж того... не сказывай матери. Ругаться будет почем зря.
— Я спекулянтов не покрываю! — отрезала Нюша и подозрительно оглядела буланую неказистую лошаденку, запряженную в телегу. — А подвода у тебя чья? Это ведь не кольцовская.
— Нет, нет... Из другой деревни, — подтвердил Горелов. — Выручили добрые люди... Да вы-то откуда взялись?
— Мы на слет приехали, — сообщил Лощилин и, посмотрев на карманные часы, кивнул Антону и Нюше: — А нам, пожалуй, пора.
Но Нюша не собиралась уходить. Она погрузила руку в развязанный мешок и, набрав горсть зерна, пропустила его сквозь пальцы.
— И впрямь сортовая пшеница... Такую бы только сеять. И что за чудак продал ее тебе?
— Где там сортовая... — возразил Горелов. — Самая что ни на есть обыкновенная.
— А чего же зазывал да расхваливал: «семенная, урожайная...»?
— Какой же купец свой товар не хвалит? Не обманешь — не продашь. На том и базар держится, — забормотал Горелов и, метнув быстрый взгляд на Лощилина, с досадой отстранил Нюшку от телеги и прикрыл мешок. — Хватит тебе копаться. Ишь сколько зерна рассыпала...
Нюша усмехнулась и сунула руки в карманы курточки.
— Ладно, купец, торгуй!.. Строй палаты каменны на базарные денежки. — И она пошла прочь от телеги.
Лощилин и Антон догнали Нюшу около ларьков.
— Ну чего ты, Ветлугина? — принялся успокаивать ее Лощилин. — Стоит ли из-за отчима так расстраиваться... Что с него взять: запивоха, шабашник, ловчила. Купить-продать — первое его дело... Такого и могила не исправит.
Нюша вдруг оглянулась по сторонам и, достав из кармана щепотку пшеницы, показала ее механику и Антону.
— Нет, вы поглядите только, поглядите, — зашептала она. — Узнаете зерна?
Лощилин пожал плечами:
— Зерна как зерна... Самые обыкновенные.
— Ты, Нюшка, чудачка, — засмеялся Антон. — Что же они, зерна-то, меченые, что ли?
— А я узнала... Это же сортовая пшеница. Та самая, что нам в районе обменяли. Видите, какая она? Зерно полное, налитое, розовое. И на солнце даже просвечивает. Мне Степа все объяснил — это сортовая пшеница, высокоурожайная, морозоустойчивая...
— Ну и что из того? — спросил Лощилин.
— Как вы не понимаете! — огорченно вскрикнула Нюша и еще раз оглянулась по сторонам. — Мы же на след напали... Может, теперь и Степу удастся выручить...
— Каким это образом?
— Пятнадцать-то мешков пшеницы так и не нашли тогда у Ковшовых. А они вот где оказались, на базаре... Значит, Горелов знает, откуда эти мешки... У него теперь все нити в руках.
Антон опять засмеялся, а Лощилин покачал головой.
— Ветлугина думает, что эта пшеница из их колхоза. Разве сортовые семена не могли быть в другой артели?
— Могли, конечно, — согласилась Нюша. — Только чудно как-то! Зачем же хорошие семена на базаре продавать?.. Их сеять надо было.
— Значит, не успели... Или земли не хватило, — заметил Лощилин.
— А все равно Горелова надо выспросить, — настаивала Нюша. Она вдруг схватила Лощилина за руку и умоляюще заглянула в лицо. — Пойдемте к отчиму, попытаем его... Чья у него пшеница, откуда?
— Не скажет, пожалуй, — помедлив, ответил Лощилин. — Хозяина не захочет выдавать.
— А может, он сам... сам в чем замешан? — похолодев, зашептала Нюша. — Тогда вот что... Кликнем милиционера. Пусть он Горелова задержит. И хлеб чтобы до выяснения не продавали... — Вытянув шею, она принялась глазами отыскивать постового.
— Да ты что! Рехнулась! — прикрикнул на нее Лощилин. — При чем здесь милиционер? Какие у тебя доказательства? Хочешь человека ни за что оклеветать?
— Ты, Нюшка, не горячись, — поддержал Лощилина Антон. — За клевету и под суд угодить можно...
— Ладно, не отчаивайся, — успокоил ее Лощилин. — Никуда твой отчим не денется. Вернемся домой и обо всем его допросим... А сейчас иди куда тебе нужно... Да не запаздывай, скоро слет начнется.
Нюша пошла к тюрьме и все время думала об одном: неужели этот клубок со Степой не распутается?.. Она вложила в узелок завернутую в бумажку щепотку зерна, а в письме сделала приписку: «Посылаю тебе зерна пшеницы. Сообщи, узнаешь ли ее? Это очень важно!»
Через полчаса надзиратель передал Нюше ответ. Степа сообщал, что к следователю его больше не вызывают, дело о нем замерло и он совсем замучился от ожидания, тоски и безделья.
Дальше Степа писал, что насчет тракторной бригады девчата придумали очень здорово, но предупреждал, чтобы они держали ухо востро — недруги и недоброжелатели в МТС всегда найдутся.
А в самом конце записки было написано: «Пшеницу узнал сразу. Это тот самый сорт, которым мы должны были засеять осенью наши поля. Сообщи: в чем дело?»
Нюша обрадовалась — значит, она не ошиблась, не зря обратила внимание на пшеницу. Нет, тут дело нечисто, если Горелов так выкручивался и старался сбить ее с толку. А раз так, надо не упускать кончик, тянуть за него, пока не размотается весь клубок.
«Подожди, Степа, помучайся еще немного, может, скоро все и прояснится...»
Сунув записку за пазуху, Нюша вновь направилась на базар. Сейчас она еще раз поговорит с отчимом, разузнает все подробности об этой пшенице.
Но на базаре Горелова уже не было.
«Вот и опоздала», — пожалела Нюша и спросила бородатого старика, торгующего овсом, давно ли распродал пшеницу его сосед, долговязый, усатый мужчина в галифе.
— А он не стал ее и продавать, — сказал старик. — Как вы давеча с ним поговорили, он зараз лавочку закрыл и уехал, как наскипидаренный. И чего это вы ему сказали?..
— Куда уехал?
— Вот уж об этом он мне не доложился. Домой, полагать надо.
Нюша ничего не понимала. В этот же день, не дожидаясь открытия слета, она вернулась в Кольцовку.
Торопливо вошла в дом, оглядела избу и спросила у матери, где отчим.
— А кто его ведает, — с досадой ответила Аграфена. — Как ушел ни свет ни заря, так и не заявлялся. Все по округе шастает, легкие рубли сбивает. А чего тебе вспомнилось? Не очень ведь ты по нему скучаешь...
— А вот сегодня соскучилась, — нахмурилась Нюша и рассказала о своих подозрениях.
Аграфена схватилась за грудь:
— Да что ты, Нюшка... И так за Тишей недобрая молва тянется... А тут такое ли дело... подумать страшно. — И она попросила дочь до прихода Тихона никому ничего не рассказывать...
...В полночь в Кольцовку вернулся Лощилин. Когда заспанный Павел Трофимович впустил его в сени, механик тут же, в темноте, ударил Ширяева по лицу и с бешеной яростью втолкнул в пристройку.
— Да вы что... с цепи сорвались, — взмолился Павел Трофимович. — Перепились в городе-то, ополоумели... на людей бросаетесь!
— Убить вас мало, — тяжело дыша, процедил Лощилин. Он закрыл дверь на крючок и осветил лицо Ширяева. — Признавайтесь, куда хлеб подевали?.. Ну, тот самый, семенной?..
— Как с вами тогда обговорили, так все и сделано было, — поспешно заговорил Павел Трофимович, опасливо поглядывая на механика. — Пять мешков Ковшову подбросили, остальные мы с Гореловым в лесу закопали, в овраге. И хворостом завалили.
— Врете! — перебил его Лощилин. — Вам с Гореловым что было сказано: остатки хлеба уничтожить! Хоть в огонь бросьте, хоть в омут! Чтобы никаких следов не осталось. А вы вместо этого припрятали пшеницу у своего свата в Торбееве. Поживиться захотели, спекульнуть.
— И в мыслях такого не было, — обиделся Ширяев.
— Довольно изворачиваться! — прикрикнул Лощилин и рассказал о встрече на базаре с Гореловым, о мешках с пшеницей, о подозрениях Нюшки Ветлугиной, об ее исчезновении со слета. — Ну, что теперь скажете?
— Винюсь, Николай Сергеевич! Бес попутал... — тихо признался он. — Жалко было добро-то губить... вот мы и надумали...
— Дурни безмозглые! Сквалыги! — выругался Лощилин. — Погнались за рублем, а погорите на тысячи... Может, Ветлугина уже в милицию заявила. Может, с Горелова сейчас показания снимают...
— Что ж теперь, Николай Сергеевич? — испуганно спросил Ширяев. — Неужто на след нападут?
— Пробрало наконец-то! Лазаря запели... — насмешливо бросил Лощилин и заходил по комнате. Потом остановился против Ширяева. — Слушайте меня внимательно. Сейчас все зависит от поведения Горелова. Я его еще вчера заставил убраться с базара и уехать в Торбеево. И при этом наказал, чтобы он в Кольцовку носа не показывал. Но Горелов — человек ненадежный, может и подвести. Так что придется вам, Ширяев, заняться им. Отправляйтесь в Торбеево и еще раз предупредите Горелова, чтобы он жил где угодно, только не дома. И чтобы от милиции держался подальше. Словом, пусть вроде как пропадет без вести. Ну, а если заартачится, — закончил Лощилин, — сами понимаете, как говорить надо.
— Понимаю, — выдохнул Ширяев и спросил, когда ему отправляться к Горелову.
— И он еще спрашивает! — взорвался Лощилин. — Сейчас же, немедленно!
Ссутулившись, Павел Трофимович вышел из пристройки.
Всю эту ночь в доме Ветлугиных поджидали Горелова. Но Тихон не пришел домой ни утром, ни в полдень, ни к вечеру. Не появился он ни на второй день, ни на третий...
— Ну, дочка, пришла лиха беда, — решила Аграфена. — Случилось что-то с Тихоном... Теперь нашу беду от людей не скроешь... объявлять надо.
Мать с дочерью отправились в район. Перед тем как пойти в милицию и заявить, что Тихон Горелов пропал без вести, Нюша повела мать в райком партии, к Матвею Петровичу.
Она показала ему зерна пшеницы и сообщила о встрече с отчимом на базаре.
— Теперь нашим законникам, кажется, есть за что зацепиться — подумав, сказал Матвей Петрович и тут же позвонил по телефону районному прокурору.
«ВЫДВИЖЕНКА»
С вечера выпал снег, и за одну ночь все кругом побелело. Припорошило снегом черные поля, зеленые озимые посевы, крыши изб и сараев, неприглядные, окаменевшие от мороза дороги.
В МТС наступила передышка. Одни трактористы уходили в отпуск, другие, недовольные порядками в МТС, получали расчет и разъезжались по домам, третьи готовились к ремонту машин.
Нюша каждый день приходила на усадьбу МТС. Тракторы стояли под открытым небом, примолкшие, холодные, побелевшие от снега. Она отыскала свой трактор — она бы узнала его теперь в любое время дня и ночи среди сотни машин, — сметала с него снег, заглядывала под капот и с болью обнаруживала на моторе рыжеватую сыпь ржавчины.
Вооружившись тряпкой и нацедив в консервную банку керосина, она принималась драить мотор, как, бывало, перед выездом на пахоту.
— Похвально и умилительно! — посмеивался Лощилин. — Ударница, отказавшаяся от премии, холит и нежит своего стального коня. А может, все-таки выдать премиальные туфельки, товарищ Ветлугина?
— Я уже сказала... — нахмурилась Нюша. — Никакая я не ударница. И вы не смейтесь!.. — И она спросила, до каких же пор ее трактор будет стоять без дела, а она — обивать пороги МТС.
Лощилин ответил, что сейчас зимний сезон и машины, по инструкции, положено ставить в капитальный ремонт. Подойдет очередь, ее трактор загонят в мастерскую, и Ветлугина сможет помогать слесарям-ремонтникам.
— Пока суд да дело, вы меня с трактором на работу пошлите, — попросила Нюша. — В колхозе бревна надо возить из рощи... потом сено с лугов. Я бы могла.
Лощилин замахал руками — тракторы даны МТС для обработки земли, а не затем, чтобы перевозить всякие грузы.
В деревне Нюше с Митей удалось расшевелить большую группу девчат и записать их на тракторные курсы. Но открытие курсов почему-то затягивалось. Тогда Нюша с Митей, чтобы не терять дорогого времени, решили заниматься с «курсантками» сами. «Нюшкины курсы» собирались в избе-читальне по вечерам, три раза в неделю, и девчата усердно изучали тракторное дело.
Однажды, придя в МТС, Нюша встретила около конторы Семку Уклейкина, и тот поздравил ее с повышением по службе.
— С каким это повышением? — удивилась Нюша.
— Читай вот... самим Репинским подписано. — Уклейкин кивнул на доску объявлений.
Ничего не понимая, Нюша бросилась к оклеенному бумажками фанерному щиту.
Свеженький, только что напечатанный на машинке приказ гласил, что премированная трактористка-ударница Ветлугина А. Е. в порядке выдвижения назначается кладовщиком на склад горючих и смазочных материалов.
Сначала Нюше показалось, что у нее запорошило снегом глаза. Она еще раз перечитала приказ. Потом ей пришло в голову, что, наверное, машинистка перепутала фамилии. Но нет, «Ветлугина А. Е.» было напечатано твердыми и крупными буквами и даже подчеркнуто.
— Ну как, убедилась? — опросил Уклейкин.
Нюша представила себе склад горючего на окраине села, изгородь из колючей проволоки, пузатые цистерны, железные бочки, дощатую будку кладовщика.
— А как же трактор? — растерянно спросила Нюша, все еще не понимая до конца смысла приказа.
— Что ж трактор? — Уклейкин развел руками. — Сама понимаешь: покрутила баранку — и хватит.
— Как это «хватит»? — испугалась Нюша, — Зачем же я огород городила? С механиком цапалась, с директором. С вами, парнями-дурнями. Девчат за ради чего растревожила? Уклейкин, недоумевая, пожал плечами:
— Повышают же тебя, голова садовая! Радоваться надо. Теперь главкеросинщицей станешь. Такого выгодного места поискать!
Но Нюша больше не слушала парня и, скрывшись за дверью конторы, принялась разыскивать начальство.
В кабинете у директора МТС шло какое-то совещание, и ей пришлось долго сидеть около дверей. Когда же наконец совещание закончилось, Нюша потребовала у Репинского и Лощилина отменить приказ. Она не за тем пришла работать в МТС, чтобы стать кладовщиком. Это дело ей совсем не по душе, она не умеет ни считать, ни экономить и по натуре своей большая транжирка и мотовка.
— Вот кадры пошли, Николай Сергеевич! — пожаловался Репинский механику. — Никаким приказам не подчиняется. Полная стихия и анархия.
— Это же большая честь для тебя, повышение по работе, — принялся объяснять Лощилин Нюше. — Прежний-то кладовщик, отчим твой, сама знаешь, будто сквозь землю провалился. Вот и замени его. Человек ты аккуратный, грамотный, старательный. Мы на тебя, Ветлугина, очень надеемся.
«И чего это он лисой стелется?» Нюша недоверчиво покосилась на механика и упрямо повторила:
— Вы меня лучше на тракторе оставьте!
Лощилин развел руками, а Репинский вышел из себя и заявил, что он своих приказов не отменяет. Или Ветлугина завтра же выйдет на новую работу, или пусть пеняет на себя.
Нюша выскочила из конторы. На душе было тоскливо и пусто. Первая девушка за рулем! Что-то скажет она теперь в колхозе, как сообщит об этом Степе? А как быть с девчатами? Уговорила их пойти на курсы, начала заниматься с ними, чтобы собрать к весне новую бригаду, а выходит, все это — пустые хлопоты.
И не похожа ли она на желтоклювого, неоперившегося птенца? Сидит тот птенец в гнезде и, поворачивая во все стороны голую шею, таращит глаза. А кругом молодо шелестит зеленая листва, порхают птицы, ветерок несет манящие запахи полей, и кажется птенцу, что все кругом зовет его к себе. Расхрабрившись, он выбирается на край гнезда, взмахивает крыльями, и кажется птенцу, что он уже парит над зеленым, призывно шумящим миром. И невдомек ему, что это только струя упругого воздуха поддерживает его слабые крылья, и он мало-помалу снижается к земле и наконец падает и беспомощно барахтается в траве.
Эх, птенец ты, Нюшка, птенец!
В деревне уже знали о выдвижении Ветлугиной, и колхозники, встречая ее на улице, поздравляли с новой должностью.
Нюша молча проходила мимо. Дома она все рассказала матери.
— Понимаю... обидно, — согласилась Аграфена. — Сколько сил положила, пока до машины дотянулась. А тебя опять вниз сбросили... И что это за порядки у вас такие?..
Расстроенная, Нюша забралась на печь.
К вечеру в избу к Ветлугиным пришел Митя с девчатами. Аграфена встретила их у порога и шепнула, что дочка не в духе и, как барсук в нору, залегла на печи.
Услыхав шепот в дверях, Нюша подняла голову:
— Пришли, так входите!
Всунув босые ноги в валенки, она спустилась с печки и подозрительно оглядела девчат:
— И вы поздравлять пришли? Девчата молча переглянулись.
— Что ж поздравлять? — неохотно заговорила Зойка. — Тебе, поди, и без нас наговорили с три короба. А занятиям нашим теперь, видно, конец.
— Все выложила? — недружелюбно спросила Нюша. — Так вот знайте!.. И другим окажите. Не надо мне никакого выдвижения! Не хочу я в керосинщицы! Все равно останусь на тракторе!.
— А приказ как же? — спросила Таня. — Тебе же завтра на новую работу выходить.
— А я вот и не выйду! Возьму да в райком партии махну, — упрямо заявила Нюша. — Пусть Репинскому мозги вправят.
— Погоди, погоди, — негромко перебил ее Митя. — А что ж ты в районе скажешь?
— А то и скажу... Опять девчатам ходу нет... С трактора снимают. Не верят нам.
— А может, ты в эмтээс неугодна кому стала? — задумчиво заговорил Митя. — Вроде бельма на глазу, как вот Ковшов в свое время... Слишком много видишь да слышишь. Вот тебя и решили с трактора убрать... Сиди, мол, себе на складе и не рыпайся.
— Вот так оборот! — ахнула Феня. — Не выдвижение получается, а задвижение... Да еще с умыслом...
— Так оно, пожалуй, и есть, — согласился Митя.
— Что ж делать-то теперь? — спросила Таня.
— А вот что, — заявила Нюша, оглядывая девчат. — Поехали в район всей компанией. Помните, как Матвей Петрович просил нас смотреть здесь позорче... Вот мы и выложим всю подноготную. Как в эмтээс охвостье всякое собралось, как машины калечат...
— И впрямь поезжайте, — поддержала Аграфена. — У нас ведь в колхозе тоже не лучше. Скот дохнет, люди на работу не выходят, тащат все напропалую...
— Поехать, конечно, можно, но дело даже не в этом, — сказал Митя. — В райкоме и без нас знают, что в деревне творится. И в Москве знают. Недавно там состоялся пленум Центрального Комитета ВКП(б). В газете все есть. Много важного... И прямо как с нашей деревни списано. Там обо всем сказано. И о том, что хозяйственно разбитый, но еще не потерявший окончательно своего влияния кулак, бывшие белые офицеры, бывшие попы, их сыновья, бывшие управляющие помещичьих имений и другие антисоветские элементы села оказывают жестокое сопротивление успешному развитию колхозного строя. Они проникают в колхозы, стремятся организовать вредительство, портят машины, расхищают колхозное добро, подрывают трудовую дисциплину, организуют воровство семян, саботаж хлебозаготовок и всячески стараются разложить молодые, еще не окрепшие сельскохозяйственные артели. Классово враждебные элементы нередко проникают и в самые эмтээс, ведя изнутри работу по усилению антисоветского влияния на колхозников. И о том, что все эти противосоветские и противоколхозные элементы преследуют одну цель: они добиваются восстановления власти помещиков и кулаков над трудящимися крестьянами, они добиваются восстановления власти фабрикантов и заводчиков над рабочими. Видали, где собака-то зарыта!..
Аграфена подошла к Мите и, тыча пальцем в газету, растерянно спросила:
— Так и написано? Черным по белому? Опять кулаки на шею нам сядут? Опять мы с Нюшкой на какого-нибудь Ворона станем батрачить? — Она обернулась к девчатам: — Да что это? Вспять все поворачивается?..
— Да нет, мама! — успокоила ее Нюша. — В газете сказано: они еще только добиваются этого. Не бывать здесь больше Воронам.
— Видит око, да зуб неймет, — усмехнулся Митя. — Они еще получат по шее, все эти недобитки, вылетят отсюда. В газете вот что еще сказано. Скоро в эмтээс политотделы будут организованы. Партия в деревню лучших коммунистов на работу посылает. Они будут порядок наводить в эмтээс и колхозах, врагов разоблачать.
— Это правда, Митя?! — вскрикнула Нюша, — И к нам пришлют?
— По всей стране коммунисты поедут. Так Центральный Комитет партии постановил.
— А что же нам-то пока делать? — спросила Феня. — Сидеть у моря да ждать погоды...
— Почему ждать? — переспросил Митя. — Как там в песне-то поется: «Кулачье до тебя добирается — комсомолец лихой, не сплошай!» Сообщим обо всем в район, а сами будем продолжать работу. Девчата пусть трактор изучают, а Нюшка в кладовщицы идет.
— Да ни в жизнь! — запротестовала Нюша, Митя нахмурился:
— Ты номера не выкидывай! Сама знаешь, сколько безобразий с горючим было. Вот и наведи на складе порядок...
Нюша упрямо покачала головой.
— Прикажешь на голосование вопрос поставить? — Митя оглядел девчат. — Считай, что у нас здесь комсомольское собрание.
— Если надо — и проголосуем, — подтвердила Феня. И Нюша поняла, что спорить бесполезно.
СВЕЖИЙ ВЕТЕР
Утром Нюша проснулась оттого, что из сеней кто-то настойчиво пытался открыть дверь в избу. Дверь не подавалась.
Нюша соскользнула с печки, накинула на плечи кожушок и, навалившись на дверь, распахнула ее.
Через порог, с ведрами в руках, переступила заиндевевшая мать. Вслед за ней в избу хлынули густые белые клубы морозного воздуха, словно кто бросил из сеней охапки пышной овечьей шерсти.
— Ну и морозец! — сказала Аграфена, ставя у печки ведра с водой и растирая щеки. — Еле колодец оттаяли!..
Нюша покосилась на тяжелые ведра. Мать за последнее время прихварывала, и она дала себе слово, что по утрам будет выполнять все домашние работы.
— А почему меня не разбудила? — упрекнула Нюша. — Не твое это дело за водой ходить.
Аграфена махнула рукой:
— Куда тебе... Из пушки пали — не разбудишь. Прополуношничала вчера с девками-то...
Нюша вспомнила: действительно, вчера они чуть ли не до первых петухов занимались изучением трактора.
Но мать, как видно, не очень сердилась на дочь. Скинув полушубок и затопив печь, она с довольным видом сказала:
— А мороз-то, видать, к добрым переменам, дочка. Какого я человека сейчас встретила...
— Кого, мама?
— Хорошего человека, верного, — вслух размышляла Аграфена. — Это и правильно, что его к нам вернули. Может, оно теперь все и наладится, в колею войдет. Давно бы пора, ой пора!
— Да о ком это ты? — допытывалась Нюша.
— Ладно... Пойдешь в эмтээс, сама все узнаешь, — сказала Аграфена. — Может, я чего еще и не так поняла.
Наскоро перекусив, Нюша поспешила к усадьбе МТС. Мороз действительно выдался отменный. Снег звучно скрипел под валенками и пронзительно повизгивал под полозьями саней. Лошади, белесые от инея, бежали резво и споро и, фыркая, выдували из ноздрей длинные белые струйки пара — совсем как на картинке. Ребятишки, закутав лица материнскими платками и шалями, тянулись к школе, и было трудно узнать, мальчишка это или девчонка.
Иней высеребрил колючей бахромой деревья на улице. Они стояли нарядно-праздничные, и, как всегда, Нюше было удивительно, что мороз-кудесник не забыл ни единой, даже самой крохотной веточки.
Стекла на окнах потеряли свою прозрачность, покрылись белым пушистым слоем изморози и, попадая под солнечный луч, загорались семицветными огнями.
Нюша скоро почувствовала, что мороз забирается под кожушок. Она прибавила шагу и, добравшись до МТС, сразу же повернула к мастерской. Сейчас отогреется да, кстати, узнает от ребят, кто это к ним приехал.
Но тут, около занесенных снегом тракторов, Нюша заметила Репинского, Лощилина, заведующего мастерской и среди них еще одного человека в лохматой, не по голове, шапке-ушанке и в легком демисезонном пальто. Нюша вгляделась внимательнее и бросилась вперед.
— Матвей Петрович! Это вы? Вы! — в замешательстве вскрикнула она. — От райкома приехали? Проверять нас будете? Вот хорошо-то!
— Не проверять, а работать вместе с нами. Матвей Петрович прислан в эмтээс начальником политотдела, — назидательно поправил Нюшу Репинский и обратился к Рукавишникову: — Вы ведь знакомы? Это — Ветлугина, наша первая девушка-трактористка...
— Как же, как же! — перебил его Матвей Петрович, протягивая Нюше руку. — Одна из лучших ударниц, получила премию, а сейчас, в порядке выдвижения, работает кладовщиком на складе горючего...
— Совершенно точно, — подтвердил Репинский, немного удивленный такой осведомленностью Матвея Петровича. — И надо сказать, работает вполне добросовестно.
— Да провались она прахом, эта работа! — буркнула Нюша.
— Есть и недостатки у товарища Ветлугиной, — продолжал Репинский. — Своенравна, несдержанна... Публично отказалась от премии и звания ударницы. Но мы, конечно, на нее воздействуем.
— Что уж там говорить! Ее характерец мне известен, — усмехнулся Матвей Петрович, заговорщицки подмаргивая Нюше. — Заходи, выдвиженка, потолкуем.
Репинский повел Матвея Петровича по усадьбе МТС.
Нюша долго смотрела ему вслед. Так вот чему так радовалась мать! Матвей Петрович приехал в МТС не на день, не на неделю, а на длительную работу. Приехал как посланец партии. Что же теперь будет, как здесь встретят его, переменятся ли порядки в МТС и в колхозе?
Каждый день Нюша забегала в контору, чтобы повидать Матвея Петровича, и не заставала его. Он бродил по МТС, беседовал с рабочими из мастерской, с трактористами, разъезжал по колхозам.
«Вот и закрутило его, понесло, — с обидой подумала Нюша. — Никогда его не захватишь».
Но на третий день вечером Матвей Петрович сам пришел в избу-читальню, где Нюша с девчатами изучали тракторное дело.
Девчат было всего лишь пять или шесть человек — остальные махнули рукой на «Нюшкины курсы».
— А мне передавали, что вы целую бригаду готовите, — с удивлением сказал Матвей Петрович. — А тут раз-два и обчелся!
Девчата окружили его и принялись жаловаться. Какой смысл учиться, если в МТС никто не признает девичьих курсов и не подпускает их к машине. Да и нужны ли девушки-трактористки в деревне, если, по слухам, МТС скоро распустят и колхозники будут пахать землю, как встарь, на лошадях.
— Я ваши тревоги и беды уже знаю, — сказал Матвей Петрович. — И давайте договоримся так: эмтээс живет и будет жить. Никто ее распустить не посмеет. С весны в деревню придут десятки новых машин...
— А почему меня с трактора сняли? — с обидой сказала Нюша. — Зачем на склад сунули? Я же землю пахать хочу...
— А ты и будешь ее пахать, — сказал Матвей Петрович. — Твои руки и руки девчат колхозу очень пригодятся. И пусть в Кольцовке с весны работает первая девичья бригада трактористок во главе... — он покосился на девушку, — во главе с Нюшей Ветлугиной.
— Меня? В бригадиры? — ахнула Нюша.
— Вот именно, — подхватил Матвей Петрович. — Ты девчат раззадорила и оставлять их на полдороге не имеешь права. Веди до победного конца.
— Так я ж больше не трактористка! — напомнила Нюша. — И с курсами у девчат не получается...
— Поломаем мы это дело, — нахмурившись, пообещал Матвей Петрович. — Многое что поломаем. Только вы, девчата, держитесь ко мне поближе... — И он обратился к Нюше: — А подруг собери. Будут вам курсы... обещаю.
Матвей Петрович просидел с девчатами до конца занятий. Потом Нюша с Таней вызвались его проводить. По дороге Нюша спросила, удалось ли милиции задержать Горелова или хотя бы напасть на его след.
— Пока никаких следов... Человек исчез совершенно загадочно, — сообщил Матвей Петрович. — Но поиски продолжаются, это я знаю.
— Что же теперь со Степой будет? — тоскливо спросила Таня. — До каких пор ему под стражей сидеть? И за что?
— Думаю, что его скоро выпустят, — сказал Матвей Петрович. — Политотдел о нем ходатайство возбудил... Просим его на поруки нам выдать.
ВСТРЕЧА У МОСТА
После долгих споров с Репинским Матвею Петровичу удалось, наконец, добиться того, что при МТС организовали краткосрочные курсы трактористок.
Вечерами девчата изучали с преподавателями теорию тракторного дела, а днем практически осваивали вождение машины.
Вновь зарокотали моторы. За усадьбой МТС была расчищена от снега большая площадка, и курсантки под наблюдением инструктора и Нюши часами взад и вперед гоняли тракторы.
У площадки, за снежным валом, словно на сходку, по обыкновению собирались колхозники. Они подолгу глазели на курсанток, отпускали всяческие замечания и шуточки и, не стесняясь, говорили о том, какая это пустая и ненужная затея — посадить девок на машины.
— Вот они, чумазая команда!
— Умнее ничего не придумали.
— А все Нюшка у них верховодит!
— Смотрите, Зойка-то пыжится... Ручку крутит, а трактор ни тпру ни ну...
— Вот так и в поле будет!..
— Ой, Нюшка, не могу я так! — жаловалась Зойка, у которой никак не заводился мотор. — Стоят, глазеют, под руку кричат!.. Словно мы спектакль им показываем.
— А ты уши заткни... привыкай, — говорила Нюша. — Пока в поле не выедем — всякое еще будет. — И она помогла подруге завести машину.
А слухи росли и множились с каждым днем. По избам ходили какие-то набожные старушки и рассказывали притчи о том, что от железных машин на землю придет глад и мор. Неизвестные «доброжелатели» нередко присылали курсанткам письма — напрасно, мол, они, молодые девицы, погрязли в заботах о земле и машинах. Таких не любят парни, и не миновать им оставаться в девках-вековухах.
А случалось и так, что, придя утром на курсы, Нюша недосчитывалась на занятиях двух-трех девчат. Тогда вместе с Матвеем Петровичем они отправлялись по избам и, выдержав с родителями беглянок долгий словесный поединок, приводили девчат в МТС.
В середине апреля курсы были закончены, пятнадцать девушек выдержали экзамен и получили права трактористок. Провалились на экзаменах только две дивчины, да и тем комиссия разрешила работать на тракторах прицепщицами.
После экзаменов к Нюше подошел Антон.
— А девчата у тебя толковые, — похвалил он. — Неплохо экзамен сдали. Здорово ты их натаскала. С такими, пожалуй, не пропадешь. И знаешь, что я надумал? Давай отберем с полдюжины трактористок и вольем в нашу бригаду. Вместо парней. Возьмем, конечно, каких получше, порасторопней...
— А кто похуже — тех куда?
— Это уж их дело... И знаешь, у нас такая бригада будет! Всех за пояс заткнем.
— Разговаривай с начальством. Пусть оно и решает.
— Да что там начальство! Сами отберем, сделаем заявку. Главное, не прозевать. А Лощилин нас поддержит.
— Лощилин тебя и так не обидит, — усмехнулась Нюша. — Ты же у него на первом счету.
— А ты почему со мной так разговариваешь? — нахмурился Антон. — Не задавайся очень-то, все равно в моей бригаде работать придется.
Нюша промолчала. Да и зачем было посвящать Антона в планы девчат о своей, кольцовской, бригаде.
Вскоре Матвей Петрович завел с директором МТС разговор о девушках-трактористках — надо было определять их на работу.
— Тоже мне кадры! — пожаловался Репинский. — Наломают они нам дров...
— А все-таки куда мы их направим?
— Пораскидаем по бригадам... Пусть под начальством парней работают...
— А у меня другое предложение. — Матвей Петрович рассказал о плане кольцовских комсомольцев создать свою молодежную тракторную бригаду. — Теперь такая бригада уже есть — пятнадцать девушек. Они сдружились, рвутся к работе. А вожаком, как мне кажется, лучше всего назначить Нюшу Ветлугину.
— Позвольте! — опешил Репинский. — Послать в Кольцовку бригаду из зеленых девчонок? У них же ни опыта, ни знаний. Да еще с таким вожаком, как Ветлугина. Ее бригаду и в деревню не пустят. Там даже работой лучшего бригадира Осьмухина остались недовольны.
— «Недовольны» — это не то слово, — усмехнулся Матвей Петрович. — Бригада Осьмухина подорвала у колхозников веру в трактор, в механизацию. Ей там больше не место. В Кольцовке нужны другие люди... И на Ветлугину с подругами можно положиться.
— Да она же кладовщица на складе... Я сам приказ подписывал.
— Приказ давно бы следовало отменить как ошибочный... — заметил Матвей Петрович.
Репинский вскочил из-за стола и возбужденно заходил по комнате — нет, нет, пока он директор МТС, он не пойдет на это!
Разговор ничем не закончился, и только после вмешательства райкома партии директор подписал приказ о назначении Ветлугиной бригадиром первой женской тракторной бригады. Но при этом он заявил Матвею Петровичу, что за последствия не отвечает.
Узнав о назначении Нюшки, Антон примчался к Лощилину.
— Это как же понимать? — спросил он. — Выживают меня из Кольцовки, не нужен я стал больше в эмтээс?
— Сам виноват, — осклабился Лощилин. — Не надо было с Ветлугиной так нянчиться да опекать ее. Вот и обучил на свою шею... Пеняй уж на себя, если дивчину к рукам прибрать не мог.
Антон помрачнел. Пожалуй, он и в самом деле окончательно потерял Нюшку. Обучал ее, ухаживал, ходил по пятам, а она за последнее время не обращает на него никакого внимания. И все ее мысли только о Степке Ковшове.
— Если так, — взорвался Антон, — уйду я из эмтээс к черту!
— Ну-ну, ты не ярись! — усмехаясь, сдержал его Лощилин. — Это еще неизвестно, как у Ветлугиной все получится. Скорее всего, завалит она посевную. А ты у нас без дела не останешься. Подобрал я тебе работку, будешь доволен. Принимай-ка завтра тракторную бригаду в Торбееве.
— В Торбееве? — удивился Антон. — Так эта же бригада на последнем счету в эмтээс!
— Вот и раскачай ее, докажи всем, что ты действительно первый ударник. Кстати, и Ветлугиной нос утрешь.
Лощилин оглянулся по сторонам и заговорил тише:
— Сейчас все от тебя самого зависит. Надо какой-нибудь сногсшибательный рекорд поставить. Заяви, например, что ты в этом году удвоишь норму выработки.
— Вспахать семьсот гектаров? — опешил Антон. — Как это можно?..
— А ты заяви, обязательство дай... Чтобы шум пошел, в глаза всем бросилось. А в остальном положись на меня. Помогу я тебе с выработкой, создам все условия, — пообещал Лощилин и крепко пожал Антону руку. — Действуй, разворачивайся в своем Торбееве...
В эту ночь у Ветлугиных долго не засыпали. Да и как можно было заснуть, если завтра, чуть свет, Нюша поведет свою девичью команду в поле пахать землю! Ленька настойчиво уговаривал сестру, чтобы она разрешила ему после занятий в школе приходить в бригаду и работать прицепщиком на тракторе. И работать обязательно на Нюшкином тракторе, потому что машина у нее самая ухоженная, сильная, тяглистая.
— Ты у меня уже седьмой доброволец в плугари, — смеялась сестра. — Интересно вот, кто за тебя уроки готовить будет?
— А я впрок наготовлю... на всю весну.
— Вроде как огурцов про запас насолишь... Ой, Ленька, не хитри!
Сморившаяся Клавка несколько раз открывала глаза и, высунув из-под одеяла голову, уверяла сестру, что каждый день будет приносить девчатам в поле холодную воду.
— А вам какая вода больше нравится — из колодца или из родника? — допытывалась Клавка.
— Всякая нравится... была бы только мокрая, — говорила Нюша. — Ты спи, водонос, спи...
Не ложилась в постель и Аграфена. Она бродила по избе, выходила на крыльцо и подолгу смотрела на лохматую тучу, что медленно выползала из-за темной гряды леса. Неужели опять дождь? Ненастье и так уж задержало выезд девчат в поле на трое суток. Молодые трактористки извелись, почти не спят по ночам, боясь, как бы им не проспать погожее утро.
Глухо заурчал гром, зашумели деревья, но дождя не было. Только ветер, переменив направление, шелестел листвой берез и сносил тучу куда-то в сторону. Аграфена вернулась в избу. Подтянула повыше гирьку часов-ходиков, поправила на Нюшке одеяло.
— Чего ты полуношничаешь? — открыв глаза, спросила дочь. — Не бойся: не просплю...
Аграфена присела у изголовья.
— Я вот отца покойного вспомнила, — помолчав, заговорила она. — Давно это было... Отец тогда у Ильи Ковшова батрачил. И довелось ему хозяйского жеребца объезжать. Конь гладкий, злой, норовистый. Ну, а Егору-то по молодости любое море по колено. Зауздал он жеребца, вспрыгнул на спину, гикнул и... шлеп в канаву. Отлежался, словил коня— и опять тот его из седла выбросил. Три раза Егор на землю падал, избился весь...
Нюша с любопытством посмотрела на мать:
— К чему ты про отца вспомнила?
— А к тому, дочка, — задумчиво сказала Аграфена. — И у тебя вроде тоже конь норовистый, и дорога — в кочках да канавах. Вот и будешь как отец...
— А отец, значит, так жеребца и не объездил? — приподнимаясь на локте, спросила Нюша.
— Плохо ты его знаешь, — обиделась Аграфена. — Приловчился он к коню, раскусил его... Потом первым объездчиком в округе стал.
Нюша обняла мать.
— Выходит, что у нас вся семья объездчики. А что битые да сеченые — так это дороже стоит.
— Я ведь к тому, — призналась Аграфена. — Ты бы поменьше на землю-то падала. Что-то тревожно мне за тебя.
— Ничего, мама, — отшутилась Нюша. — Мой конь не скачет и не брыкается... На землю не сбросит. Давай-ка спать лучше.
Дождь ночью все-таки прошел, и выехать утром в поле девчатам опять не удалось. Они без дела слонялись по усадьбе МТС или без конца протирали и чистили свои машины.
— До дырок протрете, — посмеивались рабочие из мастерской.
Нюша сбегала в поле, проверила дорогу — не слишком ли ее развезло от дождей и, вернувшись, принялась упрашивать директора разрешить им выезд, но тот сказал, что надо еще подождать.
— Ехать теперь нам не доехать, — пожаловалась Зойка, щеголявшая в комбинезоне с многочисленными кармашками, сшитым ею из старого материнского платья.
— Почему не доехать? — настороженно спросила Феня.
— То дождь не пускал... Теперь директор. Да вот еще слухи всякие!
— Какие слухи?
Зойка рассказала, что утром к ним в избу пришла побирушка-горбунья, долго молилась на передний угол и сообщила, что видела во сне девичьи тракторы, которые никак не могут добраться до пашни: то вязнут в грязи, то у них колеса без смазки не вертятся, то вода выкипает.
— Вот так ясновидящая... — фыркнула Феня. — Сон-то прямо по инструкции техухода.
В полдень Репинский наконец разрешил выезд в поле.
Нюша подала команду заводить машины. Моторы взревели, и вскоре колонна тракторов выехала к Русланову взгорью, где земля совсем уже подсохла.
За усадьбой МТС Нюшу встретил Ленька. Отчаянно жестикулируя, он умолил ее на минутку остановиться и взобрался на площадку трактора.
— Я только прокачусь!
Погода разгулялась. Небо очистилось от облаков, солнце припекало по-летнему, над полями заструилось зыбкое марево.
Девчата повеселели. Нюшка, ехавшая в голове колонны, привязала к выхлопной трубе красную косынку и, взмахнув рукой, запела про паровоз, остановка которому только в коммуне. Девчата подхватили.
Так они проехали вдоль всей деревни, свернули в переулок, миновали старое пастбище и начали спускаться к бревенчатому мостику через реку. За мостиком лежало Русла-ново взгорье.
— Нюш, смотри! — Ленька толкнул сестру в плечо. — Чего они там собрались?
Нюша подняла голову и увидела у мостика толпу людей. Они о чем-то возбужденно спорили, сходились, расходились, и со стороны могло показаться, что люди собрались чинить мост или дорогу,
А от деревни, прямо через поле, спешили всё новые группы колхозников.
Нюша подъехала ближе, и у нее тревожно сжалось сердце. Не опуская глаз с тракторов, толпа у мостика задвигалась, сомкнулась и перегородила дорогу. Нюша сбавила газ и, перекрывая шум мотора, крикнула:
— Э-ий! Посторонись!
Толпа подалась назад, но потом вновь надвинулась на машину, и Нюша вынуждена была остановиться. Из толпы раздались угрожающие выкрики:
— Проваливайте обратно!
— Не пустим девок в поле!
— И так всю землю перепоганили!
Заглушив мотор, Нюша приподнялась с сиденья.
Больше всего в толпе было женщин. Размахивая руками и перебивая друг друга, они бестолково орали на Нюшку, на мужиков, что стояли поодаль, и требовали, чтоб трактористки повернули обратно.
— Тетеньки! Миленькие! — закричала Нюша. — Да вы что? Загуляли? Бражки хватили? Нельзя нам обратно. Мы же бригада. От эмтээс присланы... На всю весну! И на лето. И пахать и сеять.
— А мы не желаем девок! — заявил старик Уклейкин. — В прошлый год нам охвостье прислали. Теперь вас, недоносков, суют. И за что нам напасть такая! Нет уж, пускай метесе серьезных людей присылает, справных...
— А мы и есть справные...
К трактору подскочила Дарья Карпухина:
— Ты, Нюшка, не бойчись! Взбаламутила девок, а какие из вас пахари... Горе одно, слезы горючие...
— Толком говорят — не быть вам в поле... — зло подхватила Матрена Осьмухина. — Вот и поворачивай оглобли. А не то с трактора стащим... — И она попыталась ухватить Нюшу за подол платья.
Та отпрянула и предупреждающе крикнула:
— Не тронь! Обожжешься!
Женщины между тем окружили других трактористок. Они уговаривали их повернуть обратно, отказаться от работы на кольцовских полях.
— Да чего там лясы точить! — подал сигнал Тимофей Осьмухин, вытаскивая из-за пояса топор и расталкивая толпу. — Разобрать мост — и дело с концом!
«И впрямь в поле не пустят», — подумала Нюша и с надеждой посмотрела в сторону деревни. Хоть бы подошел кто-нибудь из МТС или из членов правления. Но никто не показывался.
— Ленька, бежим! — шепнула Нюша брату. — Ты в колхоз, а я в эмтээс... Только мигом.
Она сбросила сапоги и, крикнув девчатам, чтобы они держались и машин никуда не поворачивали, стремглав помчалась в МТС.
К счастью, ей удалось застать в конторе Матвея Петровича и Репинского.
Выслушав сбивчивый рассказ Нюши, Репинский сказал, что этого следовало ожидать. Он ведь предупреждал, что кольцовские колхозники не захотят принять девичью бригаду— так оно и получилось! И сейчас выход может быть только один: вернуть девчат из Кольцовки и послать туда парней-трактористов.
Нюша обомлела:
— Матвей Петрович! Срам-то какой... Что же с девчатами будет?
— Поедемте все-таки, разберемся на месте, — сказал Матвей Петрович Репинскому. — Весна ведь не ждет.
— Едва ли я могу быть полезен, — сухо отказался директор. — Женская бригада — ваше детище... Вы и объясняйтесь с людьми.
— Хорошо! Поеду один! — согласился Матвей Петрович. — Но мы еще поговорим об этом.
Он велел возчику заложить тележку-двуколку и вместе с Нюшей направился к мосту.
Людей там прибавилось. Пришли комсомольцы, члены правления, дед Анисим. Все, видимо, уже вдоволь наспорились и накричались, потому что стояли около моста усталые, злые. Только Анисим переругивался с Уклейкиным и Осьмухиным, обзывая их смутьянами и пустобрехами, да Василий Силыч с комсомольцами укладывал на прежние места вывороченные стариками бревна.
Заметив Ветлугину вместе с Матвеем Петровичем, женщины зашептались:
— Поручителя своего привела. Ходатая!
— Ну что ж, граждане... — заговорил Матвей Петрович. — Митинговать вроде как не время, но сказать придется. Верно, это я поручился за бригаду девчат. Знаю я их и верю им... И бригадиру верю. И давайте так договоримся. Следите за ними, проверяйте на каждом шагу, спрашивайте с них. И если что не так — гоните прочь и в борозду не пускайте. Но я ручаюсь — они землю не обидят...
— Чуете, какой теперь с вас спрос будет? — спросил у девчат Анисим. — В сто глаз следить начнем. «Авось» да «небось» — такие слова и из памяти выкиньте. Выкладывайтесь полной мерой.
Не успел Анисим договорить, как за мостом, на пригорке показалась фигура человека.
Заметив тракторы и толпу людей, человек на минуту остановился, оглянулся по сторонам, потом, зачем-то поправив полупустую котомку за плечами, начал спускаться к мосту.
Первыми узнали Степу Ковшова Таня и Нюша. Они почти одновременно спрыгнули с тракторов и бросились ему навстречу.
— Это ты? Ты? — вскрикнула Таня, подбегая к брату. — Отпустили тебя?
— Как видишь...
— Зеленый ты какой... худущий. — Таня припала к брату и заплакала.
— Ну, будет тебе, уймись... — Степа растерянно погладил сестру по волосам и встретился взглядом с Нюшей.
Что-то горячо и сильно сжало ее сердце, и девушка, забыв обо всем на свете, вдруг ринулась к парню и, обхватив его голову, отважно прижалась щекой к его лицу:
— Степка ты мой! Человечище!
— Ну вот, пошли обниманья-лобзанья, — раздался голос Василия Силыча. — Оставьте и нам живое местечко.
Красный от смущения, Степа отстранил Таню с Нюшей и заметил приближающихся к нему людей.
Пожали ему руку Василий Силыч, дед Анисим и Матвей Петрович, потом подошли девчата и парни.
— Ну как? Чем закончилось твое дело? — спросил Матвей Петрович.
— Ничем пока, — ответил Степа. — У прокурора все еще концы с концами не сходятся. Вот и решили отпустить меня до суда на поруки...
— Крепись, брат! Скоро все прояснится...
Нюша не сводила глаз с парня. Он выглядел не совсем здоровым, скованным и подавленным.
«Эк его скрутило за полгода-то, — со щемящей болью подумала Нюша. — Ну да ничего. Мы его с Таней быстро выходим и поставим на ноги. Главное, что самое тяжелое миновало, Степу отпустили домой, и теперь мы будем опять вместе. Правда, предстоит суд. И вдруг снова все обернется против Степы?.. Нет, нет, этого быть не может...»
— Чего смотришь так? — удивился Степа. — Или я на себя непохожий?
— Нет, нет... Ты тот же самый, — поспешно ответила Нюша.
— А здесь что за сбор? — спросил Степа, вглядываясь вперед. — И тракторы наготове, и народу полно... Значит, весенний сев начинается?
— Начинаем, — усмехнулась Нюша, кивая на колхозников. — Да вот они в поле нас не пускают. Наслушались всяких побасок...
— Видали, товарищи, — заговорил Матвей Петрович, подходя к притихшей толпе, — как всех вас вражья-то сила попутала? В машины вы веру потеряли... Степа Ковшов из-за клеветы злых людей в тюрьме сколько отсидел. Но можете мне поверить — скоро все это распутается. Как веревочке ни виться, а кончику быть... И вы девчатам не мешайте — весна не ждет...
— Совесть надо иметь, граждане! — с укором сказал Василий Силыч. — Земля парует, томится, а вы тут мосты разбираете, тракторы задерживаете... А ну, девки, по машинам! — скомандовал он.
Девчата вернулись к тракторам, завели их, осторожно проехали через мост, поднялись на Русланово взгорье и начали пахоту.
Толпа поредела. Кое-кто направился домой, но большинство колхозников долго еще ходили вслед за машинами, наблюдая, как идет пахота.
ТВЕРДОЕ СЛОВО
Полевой стан, как в прошлом году, Нюша разбила на Руслановом взгорье. Девчата сожгли прошлогодний мусор, вымыли вагончик-общежитие, побелили печку, выскоблили обеденный стол, всюду навели уют и порядок. Зойка даже притащила из дому два горшка с цветами, а Феня с Таней разделали около вагончика небольшую грядку и посадили лук и редиску.
— Прямо-таки девичье царство, — отозвался о полевом стане дед Анисим. — Мужским духом и не пахнет. Каким-то вот духом в работе потянет...
В первый же день у Зойки застрял в лощине трактор. Решив, что с машиной случилась непоправимая беда, она обхватила руками переднее колесо трактора, уронила на него голову и заревела.
Когда Нюша, подогнав свою машину, помогла Зойке выбраться на сухое место, лицо у подруги совсем опухло от слез.
— Зачем ты трактор слезами поливаешь? — спросила Нюша. — Не могла меня сразу позвать. Давайте уж так договоримся, как что случится — сразу за мной бегите. А плакать и на ходу можно... И еще такое правило заведем: пока дневную норму не спашешь, с трактора не слезать.
На другое утро в полевой стан пришли Василий Силыч и Степа Ковшов. Председатель сказал, что правление вновь назначило его бригадиром полеводческой бригады.
— Да, да, назначили бригадиром, — повторил Василий Силыч, заметив удивление девчат. — Он хоть и на поруки до суда взят, и Репинский с Лощилиным возражают против его назначения, а все равно мы ему вполне доверяем. И нельзя ему сейчас без дела сидеть, когда весна в разгаре. Так что прошу любить и жаловать... Только смотрите, Степан — человек въедливый, спуску вам не даст. Да и весь колхоз о вашей работе теперь по урожаю судить будет, а не по каким-то там гектарам мягкой пахоты.
— А нам спуску и не надо, — ответила Нюша. — Не затем за руль сели да в поле выехали...
Василий Силыч кивнул на Степу:
— Вот тогда с бригадиром и договаривайтесь. Сядьте рядком да поговорите ладком... — И заметив, что Нюша со Степой понимающе переглянулись, только крякнул: — Эге... Да тут, видно, по всем статьям согласие.
— Как ты в этом году работать-то думаешь? — спросил Степа, хотя и без этого знал Нюшкины планы. — Доложи Василию Силычу.
— Да уж не так, как в прошлом, не по-осьмухински, — обратилась Нюша к председателю. — Мы вот с девчатами недавно стихи читали: «Даешь на дружбу руки, товарищ урожай». С этого и начнем.
За прошлый сезон она многое увидела и передумала. Главное — это по совести пахать землю и сеять хлеб. Но и про выработку тоже нельзя забывать. Почему, например, в прошлом году запретили вспашку ночью? Нюша уверена, это дело пойдет, если только ему не мешать. Или почему бы не пахать землю на третьей скорости? А зачем вхолостую гонять тракторы из одного конца поля в другой, когда можно составить толковый маршрут переездов?
— Шукай, бригадир, думай! Каждое дело с головы начинается, — поддержал ее Василий Силыч и, посмотрев на девчат, задумчиво заговорил: — Я такую мысль имею. Мужику нашему, чтобы он воистину человеком стал, много пережить надо. Сначала вот революция. Помещика прогнали, а землю нам — владей, народ, паши. Потом тридцатый год. Кулака взашей, а мужику машины, технику, кони железные. Правь ими, разгибай спину, поднимай землю-кормилицу. А сейчас вот новое начинается. За землей, как за малым дитем, ходить надо. Всех пакостников поганой метлой пора с нее выметать. Дорогу в поле только тем, у кого любовь к делу да радение великое. И чтоб земля от наших трудов прогибалась от доброго, как вот столы на базаре в праздничный день. Так я мыслю, девчата?
— Хорошо говорите, дядя Вася. Мы ведь тоже за это. Вот мы тут прикинули, посчитали. Если с головой да в полную силу работать — много можно сделать. — Нюша посмотрела на Василия Силыча, потом на Степу. — Только чур!.. Мы и с вас что надо потребуем.
— Это как понимать? — спросил Василий Силыч.
— А вот так... Чтоб рука об руку работать. Чтобы вы, как председатель колхоза и как бригадир, вовремя нам все доставляли: и воду, и горючее, и семена. Так что держитесь: ни покоя, ни тихой жизни мы вам не дадим.
— Уж какой там покой от Ветлугиной! — засмеялся Василий Силыч. — Ну что ж, Степан, согласимся с дивчиной?
Степа с улыбкой протянул Нюше руку:
— Даешь на дружбу руку, товарищ урожай!
В первые же дни весеннего сева начальник политотдела собрал бригадиров тракторных бригад.
Речь его была короткой. Он напомнил механизаторам, что вот уже прошло два теплых весенних дня, а по МТС пока не засеяно ни одного гектара. Трактористы все еще раскачиваются, налаживают машины, делают пробные выезды.
— Так и будем работать через пень колоду или одумаемся? — закончил свое выступление Матвей Петрович.
— Работать — чего же не работать... — осторожно заметил кто-то из угла. — А только, говорят, скоро чистка будет нашему брату... многих за ушко да на солнышко.
— Скажу и об этом. Кому здесь работа не по душе — пусть лучше сам уходит. А саботажников мы будем беспощадно разоблачать и гнать из эмтээс.
Потом разговор зашел о нормах выработки.
— Удивляюсь я вам, — сказал Матвей Петрович. — Механизаторы вы опытные, со стажем, а держитесь за допотопные нормы. На трактор по двести гектаров за прошлый сезон дали. Другие эмтээс шагнули куда дальше...
— У нас тоже примерчики есть, — с ухмылкой заметил кто-то из угла. — Антон Осьмухин в прошлом году триста пятьдесят гектаров выработал. О нем и в газетах писали и на собраниях трезвонили...
— Знаю, наслышан, — отозвался Матвей Петрович. — Но только, если говорить по-серьезному, липовые эти гектары, все больше в ущерб качеству. Да и приписывали лишнее.
— Было такое, товарищ начальник, — признался Антон. — Некачественно мы пахали, нарушали правила агротехники.
И учет был не налажен. Но в этом году все по-другому пойдет. Как говорится, на ошибках учимся. Будем работать на высоком уровне. Я вот даю обязательство выработать своим трактором семьсот гектаров.
— Сколько, сколько? — переспросили бригадиры.
— Семьсот, — повторил Антон.
Собрание зашумело. Кто-то от удивления присвистнул, кто-то фыркнул в кулак.
— Это, конечно, похвально, но я не слышу других голосов, — сдержанно сказал Матвей Петрович. — А один Осьмухин погоды не делает... Ну, кто еще рискнет?
Бригадиры молчали.
Нюша оглядела их с досадой и недоумением. Рослые, сильные парни, они неплохо знают трактор, а сидят словно воды в рот набрали. Неужели, как и в прошлом году, они опять будут работать с прохладцей, вполсилы, не думая о чести и добром имени МТС?
Конечно, семьсот гектаров — цифра большая. И пусть бы парни взяли обязательство вспахать немножко поменьше, чем Антон, но только бы не молчали.
— Да ну же, ребята... Чего вы трусите? — вполголоса заговорила Нюша. — Чем вы Антона хуже?.. Поднатужьтесь... Покажите себя. Вот мы, девчата, и то...
Она хотела сказать, что ее бригада думает выработать в этом году по четыреста — пятьсот гектаров на трактор, а будь у них побольше опыта, так они бы не уступили Осьмухину, но ее неожиданно перебил Антон:
— Пустой разговор, Ветлугина! Какая уж у вас выработка может быть? Так себе: потешная команда, игра в бирюльки...
— Вот как! — вспыхнув до ушей, вскочила Нюша. — Да мы, если хотите знать... мы тоже дадим... по семьсот.
Бригадиры недоверчиво покачали головой.
— Кто это «мы»? — переспросил Матвей Петрович.
— А вся наша девичья бригада. Беремся выработать по семьсот гектаров на каждый трактор... Не меньше!
Собрание развеселилось. Куда ни шло, если бы Ветлугина отвечала только за себя, а то вдруг дает обещание за всю бригаду, которая всего лишь два дня проработала в поле.
— Нет, дивчина явно зарапортовалась!
— Может, ты все-таки за себя скажешь, — снисходительно заметил Антон. — А бригада — это особая статья.
— Нет, нет... Мы всей командой по семьсот гектаров дадим! — горячо настаивала Нюша. — Какая же это бригада, если каждый сам по себе работает! Надо, чтобы все поднимались вровень, без обиды.
— Чего там семьсот... — раздались иронические возгласы. — Берись сразу за тысячу!..
— Тяни на всесоюзный рекорд!
— Понесло Ветлугину!
— Может, ты еще на спор Осьмухина вызовешь?..
— А что ж... можно и поспорить. — Нюша вскинула голову и задержалась взглядом на Антоне. — Желаешь с нами соревноваться? Только не один на один, а бригадами.
Матвей Петрович внимательно следил за поединком между Ветлугиной и Антоном.
— А предложение, пожалуй, дельное. И смелое! — негромко произнес он. — Что скажете, Осьмухин, насчет соревнования бригад?
Антон пожал плечами:
— А это уж как ребята пожелают...
В бригаде, узнав о Нюшином обещании, девчата не на шутку встревожились.
— Ты с кем схватилась-то... с кем на спор пошла? — наступала на бригадира Зойка. — С самим Антоном. Да он же в любимчиках у Лощилина ходит...
— Теперь не будет любимчиков... Кончается то время.
— В самом деле, Нюша, — сказала Таня. — Мы ведь, как говорили, дадим четыреста или пятьсот. А тебя сразу вон куда шарахнуло — на семьсот гектаров...
— А нас ты спросила, когда обещание давала? — не унималась Зойка. — Нахвалилась, а конфуз потом на всех поровну... Ну и соревнуйся одна, коли такая храбрая...
— Одна? Каждый за себя, значит? — обиделась Нюша. — Зачем же мы тогда свою бригаду собирали? Значит, правильно про нас говорят: не бригада мы, а команда потешная, в бирюльки играть сошлись...
— Кто это так говорит? — встрепенулась Феня.
— Антон Осьмухин да и другие... Ну вот что... Вы как знаете, а я от семисот все же не отступлюсь. Одна с Осьмухиным потягаюсь... — Нюша сердито поглядела на Зойку. — А ты отправляйся в бригаду к Антону и скажи там: так, мол, и так, девчата решили работать по-прошлогоднему и от соревнования отказываются.
— Я? К парням? — опешила Зойка. — Ни за что на свете...
— Нет уж, иди! — прикрикнула Нюша.
— Да будет тебе, — остановила ее Феня. — Никуда мы тебя одну не пустим. Раз уж связались веревочкой, сошлись в бригаду — значит, и рисковать вместе будем...
— Верно, девчата, — поддержала Таня. — Куда ни шло — рискнем на семьсот.
В этот же день девчата составили договор на соцсоревиование и отправили его в бригаду Антона. А наутро от парней пришел ответ: «С девками не воюем».
— Тоже мне мужики спесивые! — возмутилась Нюша. — Наверное, сами на себя не надеются, а других обижают. Ну вот что, девчата! Парни как знают, а мы своего слова назад не берем и от вызова не отказываемся.
ПОГОНЯ
С утра, по примеру вчерашнего дня, Нюша пустила трактор на третьей скорости. Движение машины заметно убыстрилось, но мотор работал не перегреваясь, ровно, без перебоев, и высветленные до зеркального блеска отвалы плугов ровно и аккуратно переворачивали пласты земли.
Нюша невольно вспомнила, как много было в МТС разговоров о третьей скорости. Ее уже давно удивляло, почему трактор пускают быстрым ходом только при переезде с одного места на другое, а пашут землю обычно на первой и второй скоростях.
— Третья скорость — не рабочая скорость, — заявил Лощилин, когда Нюша высказала желание пахать побыстрее. — Об этом и в учебниках по тракторному делу написано, и на курсах, наверное, тебе объясняли...
Нюша развела руками:
— А я вот не понимаю... Трактор строили люди с умом, придумали третью скорость, а пользоваться ею нельзя... Чудно как-то!..
— Машина есть машина... В ней все рассчитано и продумано. И на этот счет даже инструкция имеется — запрещено на третьей скорости землю поднимать, вредно это для мотора...
— Николай Сергеевич, — вкрадчиво сказала Нюша. — А может, эта инструкция устарела давно? Может, все же попробовать по-новому пахать?.. Знаете, у трактора силища какая...
Лощилин подозрительно посмотрел на молодую бригадиршу и строго предупредил:
— Не вздумай своевольничать, Ветлугина. Это может для тебя плохо кончиться...
Нюша примолкла, подождала день-другой, а потом не удержалась и, выбрав ровный участок поля, пустила трактор на третьей скорости. Все прошло хорошо, с трактором ничего не случилось, а выработка к вечеру приметно увеличилась.
Вот и сегодня машина вновь работала как ни в чем не бывало.
«А ведь, пожалуй, пойдет дело... Можно и на повышенной скорости пахать», — подумала Нюша, прикидывая, насколько удастся ускорить весенний сев, если все девчата в бригаде станут работать по-новому.
Неожиданно на конце загона показался Лощилин.
Высокий, сумрачный, в своем неизменной брезентовом дождевике, он на минуту остановился, окинул взглядом трактор, потом размашисто зашагал ему навстречу.
Нюша хотела было переключить машину на вторую скорость, но, устыдившись своей слабости, только прибавила газу.
«Буду я еще прятаться от него, — с досадой подумала она. — Пусть видит. Семь бед — один ответ».
Встретившись с машиной, Лощилин жестом приказал Нюше остановить ее.
— Та-ак! — заговорил он. — Все же самоуправничаешь, Ветлугина. Ни правила для тебя не писаны, ни инструкции... Мотор хочешь запороть...
— А что инструкция... не молиться же на нее! — ответила Нюша. — Смотрите, как на третьей скорости пашется ладно. И с мотором ничего не сталось. — Она спрыгнула с трактора и рывком подняла капот. — Проверяйте.
Лощилин склонился над мотором.
Нюша с неприязнью оглядела механика.
Сколько раз за последние дни она сталкивалась с этим хмурым, неприветливым человеком, и всегда ей хотелось поскорее уйти от него и больше не встречаться.
Сначала Лощилин возражал против ночной пахоты, говоря, что это опасно, утомительно и не на пользу урожаю. Но Нюша проработала несколько ночных смен, заставила колхозников, Репинского и Матвея Петровича проверить качество вспашки, и все признали, что ночью можно пахать не хуже, чем днем.
Потом Лощилин высказал свои сомнения против работы трактора на повышенных оборотах мотора, против очистки горючего...
— И что вы за человек такой? — невольно вырвалось у Нюши. — Только и знаете: не положено, не по инструкции, не туда пошла да не так ступила... Как вы своих детей растите? Или у вас их и не было никогда?
— Насчет детей — это не твое дело, — не поворачивая голову, процедил Лощилин. — А вот Репинскому о твоих очередных выкрутасах я сегодня же доложу...
Нюша дернула плечом:
— Ну и докладывайте. Заодно и в политотдел заявите.
— Политотдел тут ни при чем... Техника его не касается.
— Он разберется... его теперь все касается, — бросила Нюша и, отойдя от мотора, прислонилась к заднему колесу трактора.
Это, пожалуй, и к лучшему, что Лощилин собрался на нее пожаловаться. Пусть их теперь рассудят Репинский или Матвей Петрович.
Неожиданно в конце загона из-за кустов вынырнул эмтээсовский сторож Акимыч. Он оглянулся по сторонам, увидел Лощилина и, опираясь на палку, побежал к трактору.
— Николай Сергеевич, слышь-ка! — с трудом переводя дыхание, окликнул он механика. — Вас в эмтээс зовут. Срочно!
— Кого еще принесло? — недовольно спросил Лощилин. — Опять уполномоченный какой-нибудь?
— Там из милиции двое прибыли, — сообщил старик. — Ширяева забрали. Теперь вас зачем-то требуют...
— Меня?.. — Лощилин резко обернулся к Акимычу.
— Да, вас... Срочно велели разыскать. Уж я ковылял, ковылял по полю... — Акимыч вытер рукавом взмокшее лицо.
— А ты сказал, что я в поле занят? Посевная сейчас, механик, мол,у тракторов находится.
— Как же — говорил... Все равно требуют. И Репинский там, и Ковшов, и Анисим Безуглов. Всех допрашивают... по очереди.
Услышав про Ширяева, Нюша бросилась к Акимычу и схватила его за рукав:
— Это правда, дедушка? А за что Ширяева забрали?
— Видать, есть за что, — с таинственным видом ответил Акимыч. — Слух идет: Тишку Горелова изловили. А он с Ширяевым будто бы одной веревочкой связан. Вот теперь и пошло разматываться...
— И Горелова забрали? — вскрикнула Нюша.
— Говорят, Митька его выследил. В городе, на станции, — продолжал Акимыч. — Тихон-то будто на юг драпануть собирался. А тут его, голубчика, и защучили.
Нюша облегченно вздохнула. Как много теперь прояснится, как легко будет Степе доказать свою невиновность!
— Идите скорее, Николай Сергеевич, — обратился Акимыч к Лощилину. — Ждут же вас, требуют...
Обернулась к механику и Нюша и замерла от удивления. Склонившись над мотором, тот невидящими глазами смотрел в сторону и настороженно ждал, что же еще скажет Акимыч. На скулах у Лощилина перекатывались крупные злые желваки, на лбу проступила испарина.
— Николай Сергеевич, вы слышите?.. — негромко позвала Нюша.
— Что?! — вскинул голову Лощилин. — Ах, да... в эмтээс зовут. — Он рывком опустил капот над мотором, вытер масленые руки и обернулся к сторожу: — Хорошо, Акимыч, иди. Скажи, что я скоро буду. Осталось еще две машины проверить.
И Лощилин, не оглядываясь, пошел поперек вспаханного поля, к окраине Русланова взгорья, где работала на тракторе Феня.
Акимыч с досадой махнул рукой:
— Ну вот... Гонялся за ним, высунув язык, а он и ухом не повел. Чего я в конторе скажу?
— Дедушка, — попросила Нюша Акимыча, когда тот направился к Кольцовке, — скажи там Зойке, чтобы она сменила меня поскорее. Очень мне в деревню надо попасть...
Акимыч ушел. Нюша тронула трактор, сделала круг, другой, то и дело поглядывая в сторону Кольцовки — не покажется ли Зойка.
Но подруги не было.
Нюша пошла на третий круг и тут заметила, что из перелесков выскочил какой-то мальчишка и помчался к ее трактору.
Нюша вгляделась и узнала Леньку.
Бежал он как-то странно — что-то выкрикивал, размахивал левой рукой, ожесточенно грозил кому-то кулаком, а правую руку неотрывно держал у лица.
Остановив трактор, Нюша спрыгнула на землю и побежала навстречу братишке.
— Опять поцапался с кем-нибудь? Ну и огарок же ты... Тяжело дыша, Ленька остановился против сестры, и она увидела на его лице широкий багровый шрам — след ременного кнута.
— Погоди, погоди... — испугалась Нюша, хватая Леньку за ладонь и пытаясь рассмотреть затекший правый глаз. — Вы что ж, чумовые... на кнутах схватились? Ведь без глаза останешься!
— У-у, гад ползучий!.. — выругался Ленька. — Не было кирпича на его голову, а то бы я ему запустил...
— Кто это тебя так разделал? — спросила Нюша, срывая прохладный лист подорожника и прикладывая его к поврежденному глазу братишки.
— А он все... механик этот... Лощилин, — буркнул Ленька, все еще диковато оглядываясь по сторонам и готовый хоть сейчас ринуться в драку.
— Лощилин? — оторопев, шепнула Нюша. — Да ты бредишь, Ленька... Зачем ему связываться с тобой...
— А вот связался... да еще как. — И Ленька торопливо рассказал.
Он только что отвез на подводе в поле мешки с семенами и возвращался обратно в Кольцовку, как из оврага выскочил механик Лощилин. Он сказал, что в зареченском колхозе случилась авария с трактором и ему нужно срочно добраться туда на подводе. Ленька охотно согласился подвезти Лощилина — в телегу был запряжен жеребец Кочет и домчать до Заречья тому ничего не стоило.
Лощилин сел в телегу, Ленька повернул Кочета в сторону Заречья, и они поехали. Но потом Лощилину показалось, что лошадь идет очень тихо, и он, отобрав у Леньки вожжи и кнут, погнал Кочета быстрее. За мостом дорога раздваивалась. Ленька сказал, что на Заречье надо ехать прямо, но Лощилин повернул коня влево и ответил, что он и сам знает дорогу. Они заспорили, и Ленька потянулся за вожжами. Тогда Лощилин столкнул его с телеги. Ленька озлился и бросился догонять подводу. Но тут ременной кнут свистнул в воздухе, обжег ему лицо и угодил по правому глазу. Ленька свалился в канаву. Когда же он пришел в себя, телега с Лощилиным была уже далеко...
— А куда он поехал? — быстро спросила Нюша.
— Кто его знает... — ответил Ленька. — Погнал в сторону леса. А там и трактористов-то никаких нет.
— Вот оно что, — выдохнула Нюша, связывая воедино весть об аресте Горелова и Ширяева, и приезд милиционеров в Кольцовку, и срочный вызов Лощилина в МТС.
И она, взяв Леньку за плечо, отрывисто спросила:
— С глазом потерпишь? Бежать можешь?
— Спрашиваешь...
— Тогда разувайся и мчись в эмтээс к Матвею Петровичу! — приказала Нюша. — Расскажи ему обо всем. Только беги быстро, ног не жалей.
— А ты куда? — спросил Ленька.
— Я... я сейчас девчат всполошу.
Ленька с готовностью сбросил с ног длинноносые разбитые башмаки и с такой резвостью помчался к Кольцовке, на какую способны только деревенские босоногие мальчишки.
А Нюша через вспаханное поле побежала в противоположную сторону, где маячили тракторы Тани и Фени. Потом, сорвав с головы белую косынку, она принялась размахивать ею, как сигнальным флагом, созывая подруг к себе.
Было ясно, что Лощилин почуял недоброе и пытается скрыться из Кольцовки. «Как веревочке ни виться, а кончику быть», — вспомнила Нюша слова Матвея Петровича и была готова сделать сейчас все возможное, чтобы задержать беглеца.
Вскоре девчата остановили машины и подбежали к Нюше.
— Пожар где-нибудь? Иль авария какая? — испуганно спросила Феня.
Нюша на бегу рассказывала подругам о Лощилине.
А в это время вдоль противоположного берега по полевой дороге, уходящей к далекой синеватой гряде елового бора, быстро катилась телега. Седок то и дело взмахивал кнутом, и жеребец шел бойкой машистой рысью.
— А ведь это Лощилин! — узнала Таня. — Так и есть... Улепетывает почем зря... к лесу рвется.
— Гонит-то как! — заметила Феня. — Уйдет, пожалуй... И надо же было ему Кочета захватить...
«И впрямь уйдет, — подумала Нюша и с тревогой посмотрела в сторону Кольцовки. На дороге не было ни подвод, ни людей. — И Ленька, наверное, еще не добрался до МТС...»
Что было делать? Неужели девчата выпустят из рук Лощилина и потеряют его след?
И тут Нюша вспомнила, что река делает большую, почти в два километра, петлю, вдается в зареченские угодья, а затем снова подступает к кольцовским полям.
— Бежим напрямик... Может, и опередим, — скомандовала она и первая бросилась в сторону реки, через узкую горловину полуострова, образованного речной петлей.
Началась болотистая, поросшая мелким кустарником луговина. Ветки царапали лицо и руки, ноги то и дело проваливались в трясину. Наконец за кустами вновь блеснула река. С противоположного берега донесся топот копыт — Кочет мчал Лощилина к лесу.
Девчата поискали глазами бревенчатый переход через реку. Его не было — видимо, снесло в половодье. Не раздумывая, Нюша бросилась в холодную воду, перешла реку вброд и выбралась на другой берег. За ней последовали подруги, но Тане при этом не повезло. Она угодила в яму на дне, нахлебалась воды и с трудом вылезла на берег.
— Скорей, девчата! Опоздаем! — торопила их Нюша, поднимаясь по крутому обрыву и оглядываясь по сторонам.
Лес был уже недалеко. Перед ним шло мелколесье. Сквозь деревья замелькала телега. Все отчетливее доносился стук колес и дробный топот копыт.
Девчата метнулись наперерез подводе.
Силы, казалось, покидали их, мокрая одежда сковывала движения, дыхание стало хриплым и прерывистым, а они все бежали и бежали, хотя и сами не знали, как сумеют задержать подводу.
В перелеске застучал топор.
— Караул! Люди!.. — закричала Нюша. — Подводу держите! Подводу!
— Караул! Помогите! — вторили ей подруги.
Услышав девичьи крики, Лощилин потянул вожжи и, окинув взглядом перелесок, попытался повернуть лошадь влево.
Но по сторонам дороги тянулись канавы, колдобины, торчали пни. Тогда Лощилин привстал на колени, гикнул и, яростно ударив Кочета кнутом, пустил его в галоп.
Из-за кустов на дорогу выскочил низкорослый сухонький старичок с топором в руках и со связкой осиновых жердей на плече. Он поискал глазами звавшего на помощь человека и тут же испуганно отступил назад — сквозь деревья, прямо на него, закусив железные удила, летел широкогрудый, взмыленный конь.
— Гужи руби! Гужи! — не своим голосом закричала Нюша, вспомнив, как мужики в деревне останавливали на скаку любую бешеную лошадь.
Но старик все дальше пятился от дороги.
Подвода же была совсем близко. Не помня себя, Нюша подбежала к старику, выхватила у него из рук топор и, высоко вскинув его, кинулась навстречу Кочету. Удар топора пришелся по правому гужу, но перерубить его до конца у нее не хватило сил.
Жеребец, нахлестываемый Лощилиным, продолжал мчаться вперед, сбил Нюшу с ног, подмял под себя, и тяжелые колеса переехали девушку.
А потом, через десяток шагов, надрубленный гуж лопнул, лошадь занесло влево, и телега перевернулась.
Лощилин кинулся было бежать в лес, но был схвачен зареченскими колхозниками, привлеченными криками девушек.
— Так сразу же и в бега... И с народом не попрощался... Нехорошо так, некрасиво... — ухмыльнулась Феня, помогая колхозникам скручивать механику веревкой руки.
А Таня тем временем склонилась над распростертой на земле Нюшей. Подруга лежала залитая кровью, запрокинув лицо к небу.
— Матушки мои! — пронзительно закричала Таня, хватаясь за голову. — Она же не дышит!..
ВЫСОКОЕ НЕБО
Нюша лежала в больнице уже четвертую неделю. Первые дни она была без сознания, потом ее мучили сильные боли, держалась высокая температура, и врач никого к ней не пускал. И только к концу месяца Нюша смогла подниматься с постели, опираясь на костыль, бродить по больничной палате и принимать посетителей. А они шли без конца: мать, девчата, Степа, Матвей Петрович, колхозники.
Но врач пускал их в палату ненадолго и просил не утомлять больную.
Степа проделал в изгороди отверстие и почти каждое утро, как мальчишка, прокрадывался к окну больничной палаты и осторожно стучал в окно.
Нюша подходила к подоконнику и, приоткрыв окно, принималась нетерпеливо расспрашивать Степу о девчатах, о тракторах.
— Нет, нет, нельзя об этом, — умоляюще шептал Степа. — Ты о делах пока не думай. Я только посмотреть на тебя... на минутку. Ты выписывайся поскорее... Знаешь, как все ждут тебя. И я и девчата... Я вот места себе не нахожу!
— Ладно, Степа, иди. — Нюша ерошила волосы на его голове. — Не умеешь ты об этом... Да и минутка на исходе.
Степа исчезал, а Нюша, выглянув в окно, замечала лежащие на траве ветки цветущей черемухи, и лицо ее озарялось улыбкой.
«Железяка ты мой, ледышка... оттаял наконец-то», — думала она, доставала с помощью соседок цветы и ставила их в банку с водой.
Прошло еще несколько дней, и врач разрешил Нюше выходить на улицу.
Сегодня раньше других в больницу заехал Матвей Петрович.
Нюша прогуливалась в больничном саду.
— Эге!.. А дело-то, значит, на поправку идет... — улыбнулся Матвей Петрович.
— А что вы думаете! — Нюша отбросила в сторону костыль и прошлась по дорожке. — Я уже и без подпорки могу обойтись. — И она умоляюще посмотрела на Матвея Петровича. — Скажите вы доктору... Я же совсем здоровая. Пусть меня выпишут поскорее...
Матвей Петрович развел руками:
— Чего не могу, того не могу! Доктору я не указчик. — Он подал Нюше костыль, усадил ее на скамейку и развернул сверток. — А я тебе тут вкусненького привез...
— Ну, вот опять то же самое, — обиделась Нюша. — Все вы со мной как с дитем малым — гулькаете, утешаете. Да поговорите хоть вы как следует, по-взрослому... Что там, в Кольцовке-то, делается?
Матвей Петрович на всякий случай оглянулся — нет ли поблизости доктора, но потом решил, что теперь, пожалуй, можно все рассказать.
Не зря гналась тогда Нюша за подводой и рубила топором гужи. Лощилина схватили и отправили в город. И механик оказался не таким уж маленьким и неприметным работником, каким он выдавал себя в МТС.
Сейчас выяснилось, что он был видным кулаком на Кубани, во время коллективизации учинил жестокую расправу над сельскими коммунистами, потом бежал подальше от родных мест и устроился работать механиком, сначала в совхозе, потом в МТС. В районе Лощилин связался с контрреволюционной организацией, состоящей из кулаков и бывших помещиков, и по ее заданию развернул в Кольцовке вредительскую работу. Правой рукой у него был колхозный бригадир Ширяев. В свои темные дела они втянули Тихона Горелова и еще кое-кого из колхозников и трактористов. Из Антона Осьмухина они сделали лжеударника, дутую фигуру и использовали его как ширму для своих проделок.
— А с Репинским что? — спросила Нюша.
— Что ж с Репинским?.. Сняли его с работы. Исключили из партии. Оказался настоящей шляпой, ротозеем. Упивался мнимыми успехами в работе, а врагов вокруг себя не разглядел. Вот такие, как Лощилин, и водили его за нос. Так что ты волчища захватила матерого, травленого... — заметил Матвей Петрович, посмотрев на забинтованную Нюшину голову. — Только слишком дорогой ценой все это тебе досталось.
Нюша слабо улыбнулась:
— Ничего... Жива буду — не помру! Все равно я скоро в бригадиры вернусь.
— Вернешься — не сомневаюсь. Работать теперь уж легче станет. Небо проясняется, тучи уходят...
Нюша вопросительно посмотрела на Матвея Петровича:
— А как там девчата мои? Зашились, наверное?
— Что ты! — удивился Матвей Петрович. — Работают как одержимые. Передом идут. Сев закончили вовремя. Сейчас пар поднимают. Они так и заявляют — пашем по-ветлугински!
— Это вы, Матвей Петрович, зря говорите! — не поверила Нюша. — Чтоб только меня утешить.
Матвей Петрович пожал плечами:
— Могу документально доказать... Вот, пожалуйста. — И он протянул Нюше областную газету с обведенными красным карандашом строчками.
«В ответ на подлую вылазку классового врага, — прочла она, — изувечившего нашего бригадира Нюшу Ветлугину, мы, женская тракторная бригада Кольцовской МТС, даем слово добиться выработки по восемьсот гектаров на трактор и перекрыть свое прежнее обязательство».
Дальше шли подписи всех девчат.
— Неужели это правда, Матвей Петрович? — вскочила Нюша. — Не верится даже! И с чего у них сила такая? А вдруг сорвутся...
— Не волнуйся! Девчата не с бухты-барахты эти слова написали. Взвесили все, подсчитали, продумали. К тому же у них и наставник неплохой — Степа Ковшов. Все твои замыслы в дело проводит... — Матвей Петрович вновь усадил Нюшу на скамейку и, помолчав немного, задумчиво продолжал: — Ты вот спрашиваешь, откуда у девчат сила такая. А ты на себя оглянись. Кто тебя поднял? Время наше советское, партия, жизнь артельная. Не будь этого, кем бы ты была? Батрачкой у Ворона, в лучшем случае безлошадной беднячкой с наделом из двух полосок земли. А сейчас ты плечи расправила, силу почуяла, по-большому жизнь начинаешь. Так вот и с девчатами. Растревожило их наше время, разбудило— так они теперь горы своротят. Это как ключ родниковый. Пробьет подземная вода породу, вырвется наружу и начнет бурлить да клокотать. И нет конца этому неиссякаемому источнику...
— Выходит, я девчатам и не нужна больше! — опечалилась Нюша. — Теперь они без меня управятся. Может, мне опять в керосинщицы пойти?
— Ну нет, — улыбнулся Матвей Петрович. — Работы тебе хватит и останется. Мы вот думаем в эмтээс еще несколько женских тракторных бригад создать. Твоих лучших трактористок бригадирами поставим, а к тебе новые девчата придут. Учи их, сажай за руль, выводи в поле... Закладывай, так сказать, школу тракторного дела, ветлугинскую школу...
— Уж вы, Матвей Петрович, скажете тоже...
— Да, да. Я вполне серьезно.
Неожиданно в больничный садик ворвались Таня, Феня и Зойка. Вслед за ними вошел Степа Ковшов. Вид у девчат был такой, словно в поле с трактором произошло несчастье.
Нюша невольно поднялась им навстречу.
— Да нет... ты сиди! Тут не авария, — успокоил Степа. — Тебе срочная телеграмма! Показывай, Таня.
— Откуда телеграмма? От кого?
— Из Москвы. Из газеты «Правда», — выпалила Зойка, пока Таня доставала из-за пазухи бумажный пакетик. — Читай вот.
Вздрогнув, Нюша раскрыла телеграмму и пробежала ее глазами. Потом прочла вслух. Редакция газеты просила Нюшу Ветлугину написать статью о работе первой в стране женской тракторной бригады и рассказать, как идет соревнование за восемьсот гектаров.
— Откуда же в Москве знают про нас? — удивилась Нюша.
— А почему бы там и не знать? Слух о вас уже далеко пошел, — сказал Матвей Петрович и на вопрос Нюши, что ей теперь делать, посоветовал сесть за статью.
— Какая же я писака? Только клякс понаставлю... Написали бы вы, Матвей Петрович. Или ты, Степа.
— Ну уж нет... — отказался Степа. — Ты с девчатами зачинала все — тебе и писать.
— Да несподручно мне это... — пожаловалась Нюша.
— А ты не думай, что статью пишешь, — посоветовал Матвей Петрович. — Считай, что с подругами беседуешь. Тогда и слова найдутся. Ты ведь понимаешь, сколько нашей стране механизаторов требуется. Что ни год, то все больше и больше. И девушкам среди них самое почетное место. У тебя уже и сейчас подруги есть... И в Кольцовке, и в соседних колхозах. Но этого мало, очень мало. Вот и поговори с девчатами на всю страну. Позови их, клич кликни! Чтоб сотни, тысячи, десятки тысяч девушек сели за трактор!..
— Вот оно как, — вслух подумала Нюша и оглядела подруг. — Тогда вместе сочинять будем. От всей бригады. Садись, девчата, думайте. А ты, Зойка, записывай.
— У меня бумаги нет.
Матвей Петрович достал из кармана блокнот и, сунув его Зойке в руки, вместе со Степой отошел в сторону. Девчата чинно расселись на скамейке.
— Девушки Советского Союза! Дорогие наши подруги! — продиктовала Нюша первую фразу и, устремив глаза вверх, задумалась.
Небо над головой было до удивления высоким, чистым и просторным. Только в недосягаемой дали просвечивали на солнце еле приметные легкие облака да парила одинокая птица.
— Ну, дальше диктуй, дальше, — шепнула Таня подруге, выводя ее из задумчивости.
— Смотрите, девчата, — вслух подумала Нюша, — небо-то какое... Чистое, ясное... И высокое-высокое. Вроде никогда такого и не было.
— Не иначе к хорошей погоде, — в тон ей отозвалась Феня.
— Да вы что? — рассердилась Зойка. — Письмо пишете или небом любуетесь? Матвей Петрович, да скажите вы им...
— Ничего, ничего, — усмехнулся Матвей Петрович. — Можно в письме и про высокое небо вставить, и про погоду хорошую. Тоже к месту будет.
СОДЕРЖАНИЕ
ВЛ. НИКОЛАЕВ. Этот родной с детства мир.............. 5
БОЛЬШАЯ ВЕСНА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ........17
ЧАСТЬ ВТОРАЯ........131
ЗЕМЛЯ МОЛОДАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ........289
ЧАСТЬ ВТОРАЯ........397
ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Алексей Иванович Мусатов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ
Том I
БОЛЬШАЯ ВЕСНА. ЗЕМЛЯ МОЛОДАЯ
Повести
Ответственный редактор З. С. KAPMAHOBA
Художественный редактор A. Е. ЦВЕТКОВ
Технические редакторы B. К. ЕГОРОВА и И. Я. КОЛОДНАЯ
Корректоры Л. М. КОРОТКИНА и Е. И. ЩЕРБАКОВА
Сдано в набор 16/IX 1975 г. Подписано к печати 16/11 1976 г. Формат 60Х901/16. Бум. типогр. № 1. Усл. печ. л. 32,13. Уч.-изд. л. 31,94+1 вкл.=31,99. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. Заказ № 1632. Цена 1 руб. 24 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература».
Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Сущевский вал, 49.



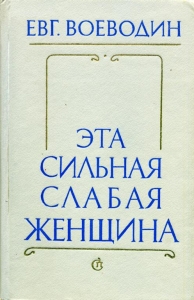
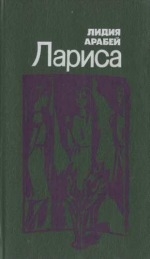
Комментарии к книге «Собрание сочинений в 3-х томах. Т. I.», Алексей Иванович Мусатов
Всего 0 комментариев