Тендряков Федорович Владимир Пара гнедых
Лето 1929 года…
Я подымаю его почти со дна моей памяти. Есть воспоминания, лежащие и глубже, даже в глухих слоях младенчества. Но это случайные следы в незрелом мозгу, капризы неопределившегося бытия.
Например, я отчетливо помню: мать ведет меня за руку, я, наверное, только-только учусь ходить, и земля не держит меня, она коварно неровна — в ямах, буграх, предательских уклонах. Но вот я оторвал от нее взгляд и поднял вверх голову, открыл близкое серенькое небо и недоступный скворечник мир, существующий помимо меня. Отчетливо помню… Но эта ранняя картина ни с чем не связана. Я не знаю, что было до нее, что после нее, — кратковременная вспышка во мраке.
К 1929 году мне исполнилось пять лет, тут я уже помню все, не клочками, не вспыхивающими звездами, а сплошным потоком… Незабвенный первый пескарь, вытащенный на удочку у моста, сразу же раздвигает мир: вижу сбегающий к реке бурьянистый косогор, черные баньки, покоящиеся в крапиве, избы, сладко пахнущие по утрам свежеиспеченным хлебом, мужиков, тревожно рассуждающих о коммунии…
Подымаю с самого дна моей памяти… Но памяти надежной, за которую я готов нести прямую ответственность. По детским следам иду сейчас, сорок с лишним лет спустя, иду зрелым и весьма искушенным человеком. А потому пусть не удивляет вас трезвая рассудочность моего изложения.
Итак, лето 1929 года.
В воздухе висит нагретая пыль, скрип несмазанных колес, выкрики: «Шевелись, дохлая!» По единственной улице села тащатся груженые возы — навстречу друг другу. В ту и другую сторону везется житейский скарб: полосатые, вожделенно пухлые перины и залежанные, негнущиеся холстинные матрацы, громоздкие сочленения ткацких станин и неумытые самовары, окованные сумрачные сундуки и нехитро расписанные шкафцы, хлопающие на ходу дверками, вылинявшие, затхлые подушки, штабеля подшитых валенок, нагромождения овчины и тряпья, «робячьи» люльки, опростанные и с младенцами, венские стулья — зажиточный шик, сломанные салазки, прялки, голики, бочки, пестери, горшки, лохани… Из темных чердаков, из подпольных голбцев, из забытых камор и памятных потайных мест — все, что копилось поколениями, что лежало без нужды многие десятилетия, даже века, вытащено сейчас наружу, везется навстречу друг другу.
Иногда над горшками и лоханями возвышаются усохший старик или старуха, покорные судьбе, глядящие вперед замороженным взглядом…
Скрипят несмазанные колеса. Село поднято, село переезжает!
Переезжают не все. У дороги, чуть в стороне — разомлевшая на солнце кучка мужиков: топчут пыльную травку дегтярными сапогами, берестовыми ступнями, босыми пятками, потеют, благоухают луком, жадно ощупывают глазами каждый воз и обсуждают:
— Мирошка-то, гляньте, цинково корыто везет.
— А еще в бедняках ходит.
— Цинково корыто — вещь!
— А вон и Пыхтунов едет!
— Ну, у этого-то добра хватает.
— Два самовара у него, а что-то не видать их.
— Укрыл, зачем глаза-то мозолить.
— Два самовара — вещь, это не цинково корыто…
Тут же у дороги стоит и мой отец — вместе со всеми и как-то наособицу. На его широкой спине скрещиваются взгляды мужиков. Отец чувствует их, плечи его борцовски опущены, бритая, сизая голова склонена вперед, на загорелой крепкой шее морщинистый шрам — след белогвардейского осколка.
Это он поднял село, вывернул наизнанку, заставил переезжать.
Справедливость… Я родился в воспаленное время и очень рано услышал это слово.
Еще совсем недавно было худо на белом свете — богатые обжирались и бездельничали, бедные голодали и работали. Не было справедливости во всем мире!
За справедливость, за «кто не работает, тот не ест!» поднял народ Ленин. А вместе с ним поднялся мой отец. Вот он стоит и смотрит, как идут возы по улице.
Сейчас богатые мужики переезжают из своих богатых домов в избы бедняков. Бедняки же едут жить на место богатых. Мирошка Богаткин, хоть имеет оцинкованное корыто, но голь, беднота. Мирошка едет занимать пятистенок Пыхтунова Демьяна. А Пыхтунов с семьей и двумя своими самоварами едет в Мирошкину развалюху.
Не было в мире справедливости — она есть! И устанавливает ее здесь в селе мой отец. Устанавливает не по своему желанию, его послала сюда партия. Мы здесь приезжие.
За нашими спинами раздался глуховато-монотонный голос:
— Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны милостливые, ибо помилованы будут…
Опустив в валенки вечно мерзнущие — даже в такую жару! — ноги, сидит под оконцами избы старый Санко Овин, бубнит ввалившимся, затянутым бородкой, словно паутиной, ртом, глядит вдаль сквозь всех голубенькими размыленными глазками.
— Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими…
И мужики обеспокоились, разом заговорили:
— Блаженны алчущие?.. Выходит, что по-божески нынче забирают.
— А милостливые блаженны, как тут понять?
— Эй, дедко, растолкуй: бог твой за нонешнюю власть али против?
— Все равны перед богом, — пробубнил дед Санко сквозь волосяную паутину.
— Ишь ухилял, старый черт!
— Нет уж, скажи, Овин: нынешняя-то власть божеское равенство устанавливает али какое?
— Божеское?.. Активисты-то! Сказанул!
— А вот мы спросим. Эй, Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Дополни ты нам Овина: божеское у вас равенство али какое?
Мой отец, как всегда, обернулся не сразу. Сначала взвесил — хорош или плох вопрос. А обернувшись, сощурился с невнятной ухмылочкой. Это значит, вопрос понравился, с охотой ответит. При неприятных вопросах он каменел губами и скулами, отвечал глухим нехорошим голосом.
— А вот как понять — все равны, все братья, а кесарю кесарево отдай, не греши? Вроде так сказано в святом писании. — И отец повел прищуренным глазом на мужиков. Те посапывали со вниманием. — Выходит, равенства держись и царя-кесаря признавай над собой. Неувязочка. Бог-то у Овина вроде меньшевика или левого эсера — одни пузыри о равенстве пускает. Соглашатель.
Бог Санко Овина — это мужицкий бог, тем не менее кто-то из мужиков охотно хохотнул, кто-то прокряхтел, кто-то без убеждения, слабодушно поддакнул:
— Оно, пожалуй…
А отец, запустив руки в карманы, развернув грудь, поглядывал на всех с победной ухмылочкой.
— Именем бога тыщи лет словеса плели, а мы действуем… Вон!.. — Отец кивнул подбородком в сторону дороги. — Поглядите, как выступает. Хорош? Слов нет. А вон этого хорошего без лишних слов с плохим Ваней Акулем поравняли. Не речи о равенстве толкаем, а делом занимаемся.
Все поглядели туда, куда показывал мой отец. По улице двигался высокий воз, две гнедых, небрежно попирая пыль хрупкими ногами, тянули его. Рядом прямо вышагивал человек, рукава полотняной, не по-деревенски белой рубахи засучены, высокие сапоги начищены, шляпа на затылке, — Антон Ильич Коробов.
Он был не бедней Пыхтунова — кулак! Никакого сомнения! Он имел две лошади. Таких коней не было ни в нашем селе, ни в соседних селах, да были ли лучше на всем свете? Лучших и представить нельзя.
Они лоснились так, что казались выкупанными. По спинам и крупам, на выпуклостях, они отливали глубинно тусклым золотом. У них, гладких, — тощие морды с пугливыми ноздрями и крупными, влажными, горячими глазами. У них широкие, бронзово литые крупы, а под ними сухие, до невольного страха тонкие ноги, кажется, вот-вот под тяжестью крупов хрустнут у бабок. На передних ногах одной — белые носки, и даже копыта у нее розовые…
Я тайно и безумно любил этих коней — каждую их лощеную шерстинку, каждое их богоподобное движение, позвякиванье их сбруи, призрачный стук их невесомых копыт на рыси. Я никогда не мог досыта на них наглядеться…
Я временами любил — ничего не мог с собой поделать! — их хозяина Антона Коробова, когда тот ласкал своих коней, говорил с ними с шутливой небрежностью, за какой взрослые обычно прячут свою нежность к детям. Его смуглое лицо в эти моменты было таким, что хотелось подвернуться под его руку, чтоб осчастливил — погладил по голове.
Я любил его и тогда, когда перед закатом, сквозь золотую пыль лучей низкого солнца он проезжал по селу на своей паре. Всегда это случалось внезапно. Они возникали посреди улицы — громадные, переливисто лоснящиеся, победно сильные, столь одинаково выгнувшие шеи, столь согласованно попирающие землю ногами, что казалось — бежит не пара зверей, а одно-единственное до ужаса великолепное существо. А позади него, выкинув вперед руки, величаво откачнувшись назад, — он, повелитель, он, бог! Как бы я хотел походить на него! Бога нельзя не любить!
Его любили дети и собаки, да и прочие животные тоже. Рассказывают: однажды он подошел к рассвирепевшему быку, только что разбившему телегу, ранившему лошадь. Подошел, почесал его, как собаку, за ухом, взял его за кольцо в носу и отвел в стойло.
Его не любили взрослые. Не только мой отец, но и мужики, богатые и бедные без разбора: «Тонька Коробов — хват. С ним на палочке не тянись руки до плеч выдернет, и все с улыбочкой — простачок».
Был он женат на единственной дочери местного купца-богатея Игнашихина и должен бы стать его наследником. После революции старик Игнашихин с сумой на плече ушел куда-то на сторону, жить у зятя не стал — неспроста… Антона же Коробова тогда не тронули, даже одно время почтительно величали «культурным хозяином».
Он остановил воз, сунул вожжи за грядку, бросил лошадей прямо на дороге, направился к нам.
А лошади мотали головами, взрывали копытами пыль, им хотелось двигаться, хотелось в подмывающем содружестве и дальше тянуть этот посильный воз, но — умны же! — хозяин отошел, надо ждать… И копытят пыль на дороге.
У Антона Коробова на смуглом лице светлые глаза и светлая, ровно подрубленная бородка. Он был не особо высок ростом, но держался столь прямо, словно все на голову ниже его.
— Здоровы будем, мир честной, — приветствовал он.
— Здоров, коли не шутишь, — отозвался доброхот.
— Выглядываете, кто сколько горшков нажил?
— Чай, любопытно.
— И вам, Федор Васильевич, тоже?.. — Антон Коробов нацелил бородку на моего отца.
— Да, — сухо ответил отец.
— Чужие горшки любопытны?..
— Событие, которое сейчас идет. Иль тебе, Антон, оно любопытным не кажется?
— Может быть, — с готовностью согласился Антон. — Вот только куда любопытное нас развернет?..
— Ко всеобщему равенству.
— М-да-а… Всеобщее, значит. Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Ване Акуле равны?
— Не нравится?
— Нет, почему же. Я-то готов, да ты, Федор Васильевич, все сердито подминаешь. Ты наверху, я внизу — равенство.
— Не наш класс в эти подминашки первым играть начал.
Антон Коробов блеснул улыбочкой:
— Ах, вон что! Вам старые ухваточки приспособить не терпится.
Из кучи мужиков кто-то несдержанно выдохнул с радостной откровенностью:
— Гы!..
Они стояли друг против друга — мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами, взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются. А Коробов — хоть бы что, задирает перед отцом бородку — легкий, статный, ворот именинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестят твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми-ка меня за рубъ двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне — трын-трава!
И кони в стороне гнули шеи, рыли дорогу точеными копытами…
В это время, гремя пустой телегой, подкатил Мирон Богаткин, уже сваливший свое добро вместе с оцинкованным корытом возле нового жилья.
— Тпр-р-у! — Мирон соскочил с телеги, подсмыкнул сползающие с тощего брюха портки.
Он и всегда-то был дерганый — все с рывка да с тычка, а сейчас весь переворошен — глаза в яминах блестят, как вода из колодца, во всклокоченной бороде солома, ворот холщовой рубахи расхлюстан, а тощие черные щиколотки чем-то сбиты до крови.
— Петро, ты тута?
— Тута, — ответил хозяин лошади Черный Петро, всегда пугавший меня улыбкой: и так уж страшен в своей смоляной бороде, а тут еще в этой бороде вдруг вспыхнут крупные зубы.
— Спасибочки за лошадь, Петро.
— Чего быстро управился?
— У меня всех тяжестев — камень под порогом, так я его новому хозяину оставил.
— Не прибедняйся: баба тебе портки в цинковом корыте стирает.
— Сменяем корыто за лошадь, ежели пожадовал?
— Гы!
— Эй, Мирон! Чтой-то ты вроде не в себе?
Мирон скребанул неразгибающейся, очугуневшей от работы пятерней по груди.
— Муторно, братцы!
— Дом новый не хорош?
— Хорош-то хорош, а как ни ступи, пятки жжет.
— Что так?
— Полы крашены… Не привык я по крашеному-то ходить.
— Привыкай, коли власть требует.
— Э-эх! — Мирон снова скребанул по груди. — Вот ежели б мне советска наша власть лошадь помогла огоревать… С лошадью я бы и сам дом поднял, чужого не надо.
— Зачем тебе лошадь, Мирон? — со своей тонкой улыбочкой вступил в разговор Коробов. — Федор Васильевич тебе стального коня обещает — трактор!
Мирон проблестел на Коробова недобрым глазом.
— Стальное-то мне не к рукам. Ногти о стальное-то обломаю. Мне бы обычное — костяное да жиляное, я б с энтим в землю по уши въелся.
— А не опасно это, по уши-то? А? — Коробов краем глаза ловил выражение моего отца. — Въешься в землю зажиточным станешь, чего доброго, второго коня заведешь, дом железом покроешь, тут-то и кончится твоя масленица!
— Уж не завидуешь ли мне, Тонька? — спросил Мирон.
— Гы! — показал в страшной бороде страшные зубы Черный Петро.
— Завидую, брат. Ты теперь в ласке, а я в опаске. Нынче у меня дом отняли, завтра коней, а послезавтра… — Коробов круто, на каблуках повернулся к моему отцу: — А вдруг да не остановитесь, Федор Васильевич?
— На полдороге не остановимся, не мечтай.
— Слышал, Мирон? Потому и готов я сейчас же пролетарием стать.
— Гы!.. — гыкнул Черный Петро.
— Дело нехитрое, — произнес Мирон. — Отдай мне коней. Я пролетарием-то всю жизнь, поднадоело.
— Гы!.. Гы!..
— А ты примешь, ежели отдам? — спросил Коробов. — Не откажешься?
Мирон сглотнул слюну, побежал глазом в сторону, в сторону, пока его глаз не уперся в коробовских коней на дороге.
— Попробуй проверь, — сказал он.
— По нонешним временам такие кони ой горячи, Мирон! Шибко они меня припекают. Спроси-ка Федора Васильевича, уж он-то лучше моего тебе растолкует.
— Зачем? — с пренебрежением отозвался мой отец. — Еще товарищ Карл Маркс отмечал: ни один мироед-собственник добровольно не отказывался от своей собственности.
— А кто говорит, что я добровольно от коней отрекаюсь?.. Нужда, Федор Васильевич, заставляет. Я их, лапушек, на руках выносил заместо детей. Дороги они мне… — Антон Коробов положил руку на сердце. — Вот тут лежат, с мясом отрывать придется.
— Сам не оторвешь, классовая жадность пораньше тебя родилась, Антон.
— А ежели смогу?
— Ежели б смог, то в наших рядах давно бы был, — ответил отец.
Коробов улыбнулся своей тонкой, скользящей улыбкой.
— А я того и хочу, Федор Васильевич, — в ваших рядах. Хочу вот отдать своих коней, зато чужих брать, дом свой, который бревнышко по бревнышку клал, забыть, чтобы других из домов выселять… К понятию пришел: музыка нынче новая, так по-новому и танцуй.
Отец в ответ улыбнулся презрительно и жестко.
— Лиса в капкан попала — лапу себе отгрызть хочет. Нет, Антон, не примазывайся — разоблачим.
— Разоблачите?.. А что?.. То, что я ваши мысли приму, ваши законы признаю?.. За такое, Федор Васильевич, по голове не бьют, а как раз гладят да приговаривают: досужий мальчик, послушливый — сердце радуется. — Антон Коробов, прямой, остроплечий, задирал на отца бородку, светленько ласкал глазами. Отец, широкий, тяжело давящий сапогами пыльную землю, встречал исподлобья этот ласковый взгляд.
Мирон Богаткин слушал их, выбирал негнущимися пальцами из бороды солому, и его рука заметно дрожала, глаза, прятавшиеся в глазницах, теперь выбрались наружу, они были бутылочно-зеленого цвета и беспокойны — перебегали с моего отца на Коробова, с Коробова на отца, а лицо напряжено, морщины на нем стянуты.
Кони же, о которых шла речь, чуть поуспокоились, грызли удила, судорожили атласной кожей, отгоняя мух. И тем наглядней было их недеревенское совершенство, что ближе к нам в обморочной дреме стояла запряженная в расхлюстанную телегу лошадь Петрухи Черного — пыльно-шерстистая, с прогнутой обильным брюхом спиной, тупоногая, с громадной понуренной головой, с распущенными губами, облепленными мухами.
Мирон снова через силу сглотнул слюну и сказал ссохшимся голосом:
— Слышь, Тонька: чур, я первый!
Коробов повел в его сторону светлым глазом:
— Вынесешь ли, Мирон?
— Мое дело.
— Двоих разом отдаю. Держать-то их в хозяйстве можно только парой. Поодиночке в плугу или на извозе надорвутся.
— Знамо — тонкая кость.
— Тогда что ж… Считай — заметано.
И Мирон, распахнув зеленые глаза, затравленно заоглядывался:
— Чё это?.. Ужель вправду он?.. Чё это, ребяты?..
А «ребяты» — кучка мужиков-хозяев из «твердой середки», те, что и сами имели коней, но не смели облизываться на «коробовских лебедок», — попритиснулись друг к другу, замерли, раскрыв окосмаченные бородами рты, таращили глаза, громко сопели и потели. Только Петруха Черный показал из бороды страшные зубы, изрек:
— Чудно!
— Очнись, простота! Покупают тебя по дешевке, — сердито сказал отец.
— Безопасность себе покупаю, Мирон, — спокойно добавил Коробов.
— Неужель вправду коней отдаешь за это?
— Дешевле-то не получается.
— А ведь я соглашусь, Антон Ильич, любый. Меня — на коней?.. Покупай! Соглашусь!
— Не ты, так другой — кто-то найдется.
— Найдется, паря, найдется. Но и я готов… За твоих коней да хоть душу черту… Готов, Антоша.
— Подумай о чести бедняцкой! На дешевку клюешь! — Голос отца был сухой, нехороший.
— О чести?.. О бедняцкой?.. — Мирон вывернулся боком, перекосил плечи, выгоревший до рыжины, закопченный до черноты, изрезанный морщинами, в холщовой серой рубахе, в крашеных линялых портах, черные сбитые щиколотки торчат из разношенных берестяных ступешек. — Я, Федор Васильевич, сорок осьмой год живу на свете и все выглядываю, как бы из энтой чести выскочить подале… Бедняцкая честь, да катись она, постылая!
Мой отец схватил Мирона за выломленное костистое плечо, сильно тряхнул.
— Проспись, глухота! Ликвидация начинается! Слышал: кулака как класс… Хочешь, чтоб вместе с этим классом и тебя, беспортошного, ликвидировали?
Мирон досадливо освободился от отцовской тяжелой руки, нос его заострился, темное лицо посерело, как его заношенная холщовая рубаха, а глаза травянисто цвели.
— Ты, Федор Васильевич, из мужиков-то, видать, выскочил, не поймешь… Коней бери!.. Ни у отца мово, ни у деда такого случая не было, а я пропущу…
— Дура темная! Он спасается, а ты, баран, под обух лезешь!
— Такие кони… Уж знамо, что задешево не достанутся. Кто б мне в другое-то время таких коней посулил?.. Ты, Федор Васильевич, уже не мужик. Мужики-то, эвон, меня поймут…
Мужики, сбившись в жаркую кучу, дышали и молчали, молчали и глазели, завороженно, жадно, и, похоже, не очень-то понимали.
Мой отец обреченно махнул рукой:
— Баран!
Антон Коробов приподнял мятую шляпу:
— Доброго здоровья, мир честной… Мне пора.
Он двинулся к своим коням молодцевато-легкой поступью, прямой, с занесенной вверх бородкой — взведен! Не дойдя до воза, обернулся к Мирону, стоявшему раскорякой:
— Я не шучу, но и ты обдумай, время есть. Федор Васильевич дело говорит. Мне-то все равно кому…
Мирон только негодующе тряхнул замусоренной бородой.
Коробов не спеша разобрал вожжи, тронул коней с сочным причмоком. А они, легкие, дружно и гибко качнулись, повели дышлом. Воз, тесное нагромождение тучных узлов, расписных сундуков, берестяных коробов, величаво зашатался, ошипованные колеса беззвучно стали давить в пыли четкие колеи.
— Нынче мужик землей наелся… И лошадей мужик скоро выгонит в леса, живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божии не сеют, не жнут — сыты бывают… Сыты и веселы…
Дед Санко Овин вглядывался в даль, сквозь людей, размыленно голубым взором, и солнце сияло на его апостольской лысине.
Ему отозвался Петруха Черный:
— Птицы божии… Гы!..
Едва коробовский воз скрылся за бывшим пыхтуновским пятистенком, как раздался радостный выкрик:
— Гляньте-ка: Ваня Акуля едет!
И все сразу встряхнулись, зашевелились, заулыбались, потянулись поближе к дороге.
— Чтой-то лошадей не видать?
— Под шапкой-невидимкой оне.
— Зачем Ване лошади, когда и своих ног у него в хозяйстве много.
— Энти не надсядутся переезжаючи.
По дороге пылило шествие. Впереди — ребятня. Только старший из акуленков был в штанах, на каждом шагу мерцал в прореху голым коленом. Старшего звали странно — Иов, остальных — Анька, Манька, Ганька, Панька. Эти даже ростом мало отличались друг от друга — в рубахах из старой домотканины до колен и ниже, с одинаковыми рябыми головами, стриженными ступеньками бараньими ножницами, с одинаковыми ошпаренными солнцем, облезшими носами, как один по-мышиному быстроглазые. Они рысили за Иовом, несли кто что успел ухватить — узелок, кочергу, щербатый заступ. Самому младшему, Паньке, ничего хорошего нести уже не досталось, он нес полено.
За ними в туче пыли с громоздким пестерем за спиной вышагивал сам знаменитый по селу Ваня Акуля. Он в лохматой зимней шапке, но бос, у него сорочье быстроглазое лицо, руки его, длинные, тонкие, как лапы паука-сенокосца, прижимают к паху закопченный чугунок. Ваня Акуля знает, что над ним зубоскалят, потому издалека, на подходе уже начинает выделывать паучьими ногами коленца: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..»
За ним отрешенно двигается его медлительная, водянистая, неряшливая жена. Она прижимает обеими руками к груди квашню. Квашня обмотана никогда не стиранной завеской-фартуком, по всему видать, переносится на новое место прямо с тестом — священный сосуд, дарующий жизнь.
Нет беднее в селе семьи. Акуленки даже жили не в избе, а в бане, банный полок служил им на ночь вместо полатей — бок к боку свободно умещались все семеро. Но сейчас они перебирались в дом Антона Коробова, один из самых — если не самый! — лучших в селе. Пятистенок под железной крышей, внутри крашеные полы, в отдельной светелке — особая печь-голландка, обложенная белыми, как молоко, гладкими, как лед, плитками.
Пылят акуленки, выплясывает сам Акуля с громадным, но не тяжким пестерем на спине, из которого торчат обкусанные валяные голенища. Акулькина баба прижимает к груди тяжкую квашню. Движется племя к новой жизни.
Антон же Коробов, что минуту назад откатил на паре гнедых с рискованно качающимся возом — смех и грех! — должен разместиться в акуленковской баньке с банным полком вместо полатей и, конечно же, некрашеными полами. Но сколько лет он, Антон Коробов, и его бездетная жена ходили по крашеным полам, жили под железной крышей! Свершилось — идет Ваня Акуля!
И мой отец, борцовски опустив плечи, наблюдает за передвижением акуленковского племени.
— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!.. — кричит не доходя Ваня Акуля. — Честной компании — мир и почтеньице!.. Федор Васильичу как вождю нашему и руководителю докладаю: Иван Семенихин, по прозванию Акуля, задание партии выполняет. Да здравствует братство да равенство! Ур-ра-я!
— Иди, короста! — толкает его квашней жена.
— Ур-ра-я, граждане! Братству да равенству!..
И граждане веселятся.
— Кому-кому, а энтому от братства и равенства прямая польза!
— Верно сейчас дедко Овин сказал о птицах божьих — не сеют, не жнут, а веселы…
— Адам безгрешный, портки б только снять.
— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!.. — Ваня Акуля вскидывает над головой закопченный чугунок.
— Иди, тошнотное! — качая жидкими телесами, сонная, хмурая, прошествовала мимо жена Акули. Руки ее бережно прижимали к груди заряженную квашню — сосуд жизни.
Антон Коробов со своим возом не остановился возле акуленковской баньки, а проехал из села на станцию. Жена его еще раньше ушла пешком туда же к знакомым. Коробов пропадал три дня, вернулся с пустой телегой, завернул сразу во двор бывшего пыхтуновского дома к новому хозяину Мирону Богаткину.
Мы, мальчишки, битый час торчали у забора, жались к штакетинам, ждали, когда выйдут Коробов с Мироном смотреть коней и бить по рукам.
Битья по рукам не случилось. Из избы неожиданно выскочил Мирон, как всегда в своей несметной длинной холщовой рубахе, как всегда выгоревшие до рыжины волосы встрепаны, двигался сейчас с непривычной юркостью, даже, казалось, стал меньше ростом.
Он скатился с крыльца к лошадям, а на крыльцо вышел Антон Коробов в парусиновой городской куртке с нагрудными карманами, в парусиновом картузе, сбитом на затылок, в своих высоких, по самое колено сапогах с твердыми, словно надутыми голенищами. На его смуглом с пепельной бородкой лице цвел вишневенький румянец, Коробов сосал толстую папиросу и жмурил светлые глаза на Мирона. А тот бегал вокруг лошадей, запинался, путался в ремнях — мальчишески усердный и мальчишески неумелый. Только один раз Коробов подал голос:
— Удило-то вынь, лапоть!
Мирон освободил от упряжи коней, с куриным прикудахтыванием: «Родненькие… Красавчики…» — утянул в темные распахнутые ворота сначала одного, потом другого. Кони шли за ним неохотно, вскидывали головами, храпели, пытались оглянуться на стоящего на крыльце хозяина.
— Родненькие… Красавчики… Золотые!..
Последний, тот самый, у которого были белые носки на передних ногах и розовые копыта, коротко и нежно проржал. Антон Коробов выплюнул папиросу и тут же достал вторую, но спички ломались в его руках, никак не мог раздобыть огня.
Мирон долго копался в конюшне, наконец выскочил наружу — юркий серый заяц, — быстро завел створки ворот, навесил замок, защелкнул его и с ключом, запеченным в коричневом кулаке, с землистым лицом, встрепанной бородой и глазами, что цвелая водица, двинулся на Коробова.
— Может, возьмешь все-таки деньги? — хрипло спросил он. — Все, что есть, отдам.
Коробов не сразу ответил, усиленно дышал дымом, сказал раздраженно:
— Какие твои деньги…
— Мотри! Станешь просить коней обратно — не выйдет!
— Чего зря воду толочь. Я же тебе бумагу дал. Твое! Владей! Пока владей, скоро отберут.
— Костьми лягу.
— Костьми… — сплюнул Коробов. — По твоим костям пройдут и хруста не услышат… Прощай. Будет круто, не поминай меня лихом.
— Небось…
Коробов отбросил папиросу, скользяще глянул в Мирона, сказал почти уважительно:
— А ты рисковый… Вот не чаешь, в ком смелость найдешь.
— Вовек не был смелым, — отозвался Мирон.
Тяжело ступая по ступенькам, Коробов спустился с крыльца и на последней споткнулся — из-за дощатых глухих ворот донеслось тоскующее нежное ржание. На холщовом лице Мирона враждебно зеленели глаза, он сжимал в кулаке ключ.
— Слышь, об одном прошу… — хрипло заговорил Коробов, — не бей их за-ради Христа, а лаской, лаской… Я их в жизни ни единова не ударил.
— Мои теперя — лизать буду, уж не сумневайся.
И еще раз прозвучало тоскующее ржание. Антон Коробов дергающейся походкой вышел со двора, не обратив на нас, мальчишек, никакого внимания.
Мирон проводил его настороженными рысьими глазами, и его взведенные костлявые плечи обмякли. Он постоял минуту, словно отдыхая, потом встрепенулся, кинулся к стае, прогремел замком, приоткрыв створку, пролез внутрь, закрылся, застучал деревянным засовом, запираясь вместе с конями от нас, от села, от всего мира.
До сих пор у Мирошки Богаткина самой большой ценностью в хозяйстве было оцинкованное корыто.
Оцинкованное корыто — вещь, а коробовским коням никто в селе цены дать не мог.
Презренный металл не осквернил эту небывалую сделку. Наверно, в тот год советский закон еще признавал права за хозяином частной собственности — хочешь, продавай, хочешь, так отдавай, хочешь, съешь с кашей. Умирал, но еще не умер совсем нэп, коллективизация только начиналась, новорожденный лозунг «Ликвидировать кулачество как класс!» еще не воспринимался со всей беспощадной буквальностью. Сумел ли бы через месяц Антон Коробов отделаться от своих коней? И принял ли бы через месяц Мирон Богаткин этот бесценный и злой подарок? Жизнь тогда менялась с каждым днем — что было законно на прошлой неделе, становилось преступным сейчас.
Меня тогда, разумеется, никак не трогали эти вопросы, однако хорошо помню, что почти все село осуждало Мирона:
— С огнем играет… Икнется ему кисло…
За полями, где кончается земля, холм, поросший лесом, походил на заснувшего медведя. Каждый вечер садившееся солнце выжигало на его спине дремучую шерсть.
В последние дни село по вечерам переживало сумасшедший час — висит красная пыль в воздухе, коровы, козы, овцы мечутся по улице, мычание, блеяние, остервенелые бабьи голоса:
— Марья! Гони ты мою от себя за-ради Христа!
— Пеструха! Пеструха! Пеструшенька! Сюды, любая, сюды! Мы с тобой нонче здеся живем!
— У-у, недоделанная! Каждый вечер ей вицей постановляю — все на старое воротит!
Возвращающаяся после выпасов скотина никак не может внять, что в селе произошло переселение.
Мужики в этой игре в салки участия не принимают. Они, как всегда, вылезают на крылечки, развязывают кисеты, палят табак. Мой отец тоже утверждается на своем крыльце, тоже вынимает кисет. Я пристраиваюсь у него с одного боку. С другого бока подруливает кто-то из мужиков, тянется к отцовскому кисету, завязывает разговор:
— Керосину в лавках нету и мыла. Нету спичек. Бабы ловчат, одну спичку вдоль щепают на четыре части…
— Историю на дыбки подымаем, а ты о спичках скулишь!
В тот вечер к отцу неожиданно подошел Антон Коробов в светлой куртке с карманами, в светлом картузе на затылке, со светлой улыбочкой в подстриженной бородке.
— Проститься пришел, Федор Васильевич.
Отец подвинулся:
— Садись.
Над улицей висела красная от заката пыль, бабы гонялись за скотиной, ругались и причитали.
— Радуйся, Федор Васильевич, нету больше зажиточного земледельца Антона Коробова, есть свободный пролетарий. — Свободный пролетарий протянул отцу надорванную пачку аппетитно толстых папирос «Пушка», отец не заметил их, взялся за свой кисет. — Был я у самого председателя РИКа товарища Смолевича Льва Борисовича. У товарища Смолевича забот полон рот. Ему, к примеру, в этом году нужно устроить сиротский приют, или — по-нынешнему — детдом. Вот я все, что нажил, — все, окроме дома, который ты у меня отобрал, — при самом товарище Смолевиче отдал обществу «Друг детей», получил за это членскую книжку друга, значок с образом Ленина во младенческих годах и еще бумагу, в которой черным по белому прописано, что чист, ничего не утаил, скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности.
— Ловко.
— Обществу «Друг детей» не понадобилась скотина да справа. Товарищ Смолевич объяснил: молочный и тягловый скот, равно как и сельхозинвентарь, должны остаться в селе, так как вскорости здесь организуется артель. Все в целости, Федор Васильевич: инвентарь, какой был, я оставил при доме, Ваня Акуля теперь над ним хозяин — доглядывайте. Корову женка отвела к бабке Ширяихе, а кони… кони у Мирона.
— Ловок, но и мы ведь не простаки.
— И еще по совету товарища Смолевича Льва Борисовича я написал письмо, в котором все как есть от души объяснил, почему я расстаюсь добровольно с презренной частной собственностью. И смею заметить, товарищ Смолевич Лев Борисович назвал мое письмо «пронзительной силы документ»! Он его посылает в газету и требует немедленного напечатания.
— Та-ак! — протянул мой отец. — Та-ак! Спасибо, что сообщил.
Коробов вежливенько улыбнулся своей тонкой улыбочкой:
— Ничего у тебя не получится, Федор Васильевич.
— И на Смолевича найдем управу!
— Товарищ Смолевич — ленинец, Федор Васильевич, Ленин тоже навстречу нашему брату шел — нэп утвердил.
Отец опустил крупную голову, произнес глухо:
— Ох и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит.
Коробов ласково щурился в висок моему отцу и не отвечал.
Висела над улицей красная пыль, колготились бабы, мычали коровы, за огородом в бурьяне неистово кричал дергач.
Над уличной неразберихой вознеслось победно-въедливое:
— С-сы дороги!.. Мы на горе всем буржуям!..
По самой середине закатно-красной дороги, приседая на длинных, ломких ногах, размахивая длинными, угловатыми руками — ни дать ни взять поднявшийся торчком паук-великан, — вышагивал Ваня Акуля.
— С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!..
Лохматая шапка наползала на нос, острокостистый, в цыплячьем пуху подбородок задран, портки коротки, открывают голени, босые ступни гегемона корявы и растоптанны.
— Нынче я хозяин! Беднея меня нету! Мне нова власть служит!.. Дор-рогу Иван Макарычу!.. Вот она, наша родима нова власть! Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Глянь сюды — гигемон пришел!
Гегемона качало посреди дороги.
— Новоселье праздную! В честь всех вождей нынче выпил! Да здравствуит!..
— Где деньги взял? — спросил отец.
— Кофик… Конфик-ско-вал!.. — Ваня Акуля узрел Коробова. — Мироеду и кровопийцу! Наше вам с заплаточкой!.. От передового класса!..
— Что продал, передовой класс? — напомнил Коробов вопрос отца.
— Не жил-лаю буржуем быть! Брезгаю!..
— Уж не из инвентаря ли что?.. Смотри, Федор Васильевич, растащит он инвентарь, не соберете потом.
— Крышу я продал!.. Жылезо! Я хоть и первый ныне, но простой… Все живут под деревянными, а я под жылезной — не жил-лаю!
— Эге! — весело удивился Коробов. — Сколько хоть дали-то?
— Я простой!.. Ставь четверть — бери жылезо!.. Не жил-лаю!..
— Кому? — спросил отец.
— Коней завел! Жылеза захотел! А я презираю!
— Уж не Богаткину ли Мирону?..
— Ему! Жылеза захотел! Презираю!
— Пропал дом, — без особой жалости, пожалуй, даже с торжеством произнес Коробов.
— Не хочу кулацкого! Хочу бедняком! Потому что честь блюду! Потому что… вышли мы все из народу! Дети семьи трудовой!.. А хошь, повеселю партейного человека?.. И ты, мироед-кровопийца, смотри — разрешаю!..
И-их, лапти мои
Скороходики!..
Ваня Акуля, развесив но сторонам руки-грабли, начал месить черными ногами дорожную пыль.
Все мы вышли из семьи
Из народика!
И давно уже сбежались мои приятели-ребятишки. И бабы бросили загонять коров, и кой-кто из мужиков, кряхтя, сполз с крылечка, подчалил поближе.
Рожь в версту, овес с оглоблю
На плеши родилси!
Я советску власть люблю,
Не на той женил-си!
— Федор Васильевич кровь свою проливал, чтоб Ванька, кого за назем считали, во главу… Ги-ге-мон! Мы на горе всем буржуям мировой пожар… Тебя, Тонька Коробов, сковырнули — меня выдвинули! Во как!..
Коробов расхохотался. Мой отец, пряча лицо, глухо, с угрозой произнес в землю:
— Ступай, шут, проспись!
— Иду, Федор Васильевич, иду… Сею менуту!.. Но не спать!.. Не-ет!.. Да здравствует наша родная советска власть!
Он зашатался вдоль улицы на подламывающихся ногах, развесив длинные руки, неестественно большеголовый от напяленной лохматой шапки, — нескладное насекомое. И к накаленно закатным крышам возносился его голос:
— Мы на горе всем буржуям!..
Мой отец сутулил плечи, смотрел в землю. Антон Коробов, ухмыляясь, выуживал из надорванной пачки новую папиросу «Пушка».
Люди, посмеиваясь, расходились. Мои приятели-ребятишки удрали за развеселым Ваней Акулей. Я не тронулся, не хотел бросать своего отца, почему-то мне было его жаль сейчас.
— Ох-хо-хо! И вышла из дыма саранча на землю, и дадена была ей власть, кою имеют скорпивоны… — В длинной, до колен, белой рубахе, сам длинный, прямой, бестелесный, но с тяжелым кирпичным черепом, стоял в стороне Санко Овин. — Царем над собою саранча поимела ангела бездны по имени Аваддон… И сказано дале: энто только одно горе, аще два грядет… Ох-хо-хонюшки! Аще два ждите… — Дед Санко постоял, качнулся раз, отдохнул немного, качнулся другой раз, с натугой переставил тяжелый валенок, пошел, опираясь на сучковатую клюку.
Лиловые сумерки обволакивали село.
Коробов первым нарушил молчание:
— «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…» Когда что-то горит, акулькам весело — уж они, верь, доведут до пепла…
Отец не ответил, сидел словно каменный.
— Товарищ Смолевич поумней тебя будет.
Отец пошевелился и сказал негромко:
— Акулька много не спалит, а вот ежели б тебе волю дать…
— Мне б волю дать, я бы… великую Россию досыта накормил.
— И стал бы царем — на руках носи.
— Могёт быть.
По небу разлилось зеленое половодье, в нем стылым серебряным пузырьком висела блеклая звездочка. Село угомонилось, продолжал надрывно кричать дергач — таинственная птица, которую каждый слышит и никто не видит.
Коробов отбросил папиросу и встал:
— Прощай, Федор Васильевич. Мы еще усядемся вместе за красный стол… Хотя… ты прям, как дышло, такие не гнутся, да быстро ломаются. За красным столом я уж, верно, с товарищем Смолевичем посижу.
Коробов легко спрыгнул с крыльца, промаячил в темноте светлым кителем и растаял, но долго еще звучали в тишине прозрачно-звонкие, четкие шажочки. И по сей день я слышу их, и встает перед глазами статная, прямая фигура в летящей походочке — кулак, увильнувший от раскулачивания.
Отец зябко передернул плечами, тяжело поднялся:
— Пойдем в дом, Володька… Холодно что-то.
Шаги стихли. Кричал дергач.
На другой день по селу разносился громкий стук молотка о железо. Мирон Богаткин, босоногий, острозадый, ползал на карачках по крыше дома Антона Коробова и отдирал купленное у Вани Акули железо.
На другой стороне улицы стоял досужий люд, задрав головы на залатанный Миронов зад, судил:
— Неделю как и всего-то цинково корыто у него было.
— Растет репей.
— Прополют, нонче долго ли.
Самого Вани Акули средь досужих не было. Он после вчерашнего веселья отсыпался дома под грохот Миронова молотка. Во дворе на бревнышке, так, чтобы можно было видеть работающего Мирона, сидела серьезная жена Вани Акули, равнодушно лускала тыквенные семечки. Акуленковская ребятня, похожие друг на друга Анька, Манька, Ганька, Панька, тут же толкалась, радовалась вон сколько собралось народу возле их дома! Старший, Иов, был диковат, от людей прятался.
Кто-то радостно возвестил:
— Партия сюды идет!
— Сейчас объяснит Мирошке на пальцах.
— Эй, Мирон, гость к тебе — встречай!
Мой отец подошел вплотную к дому, задрал голову и, когда Мирон появился с очередным листом на краю крыши, приказал:
— Слазь, Мирон!
Мирон с грохотом сбросил лист, деловито высморкался, вытер черные пальцы о портки, ответил с достоинством:
— Некогда мне, Федор Васильевич, слазить. Говори уж так.
— Разговор-то крупный, Мирон, и не для всех.
— Чего таиться, чай, не за воровство журить меня собрался. Купленное забираю.
— Детей, дурак, без отца оставишь.
— Жалеешь!
— Жалею.
— Тогда и заступишься.
— Не смогу заступиться. Ни я, ни кто другой.
— Слабак, значится. Ну и не путайся. Я, может, денек первым человеком в селе пожить желаю.
— Сам же недавно кулаков клял, теперь в клятые лезешь.
— Нынче другое звание мне вышло — не нищеброд.
— Дом отымем, коней отымем и накажем по закону!
Мирон распрямился на крыше во весь рост, снова презрительно высморкался. Снизу под оттопыренной рубахой был виден его голый тощий живот.
— Отымете?.. Эт пожалте. Только помни, Федор, я убью тебя, когда ты руку к моим коням протянешь. Я не Тонька Коробов, я без хитростев… Ничегошеньки не боюсь. — Мирон повернулся спиной, стал на четвереньки и полез наверх.
В это время из сеней выполз Ваня Акуля, должно быть, проснулся от наступившей после грохота тишины. Без знакомой шапки на голове, с протертым острым темечком, опухший, трупно-зеленый, с затравленно бегающими глазками, он двинулся по двору, мучительно морщась, бережно неся на весу свои дрожащие руки.
— Ми-иро-он! — плачущим, детски слабеньким голоском позвал он. — Миро-он!
— Чего тебе? — недовольно отозвался Мирон с высоты.
— Дай еще на полдиковинки, Мирон.
— Допрежь надо было торговаться.
— Ми-ир-он! Жылезо заберу… Полдиковинки, Мироша-а.
Мирон ожесточенно загремел молотком.
Ваня Акуля при каждом ударе вздрагивал опухшими губами и щеками, мучительно морщился, глядел на всех просительно увлажненными глазками. А все смеялись, советовали:
— Лезь на крышу, там ближе к богу.
— За ногу стяни.
— Смерть моя, братцы-ы! — стонал Ваня.
Вместе со всеми визгливо смеялись над отцом Анька, Манька, Ганька, Панька, а со стороны серьезно и невозмутимо поплевывала тыквенной шелухой жена, наблюдала.
— Федор Васильевич! — Ваня двинулся к моему отцу. — Будь защитником! Ограбил меня Мирошка!.. Я ж ему за дешевку!.. Реквизуй, Федор Васильевич! — Он шел на пригибающихся ногах, тянул к отцу длинные трясущиеся руки. А наверху, — под синим небом, гремел железом Мирон. — Фе-е-дор Василь-ич!
Отец резко повернулся и пошел прочь — тугая широкая спина ссутулена, голова пригнута, почему-то мне опять до боли, до крика стало жаль отца.
Ваня Акуля проводил его долгим тоскующим взглядом, потоптался, снова обернулся к людям и вдруг с неожиданной силой и страстью заломил над головой руки:
— Братцы-ы! Смилуйтесь!.. Братцы-ы! Полдиковинки всего… Заставьте изверга миром, войдите в положение!.. Тош-не-хонь-ко! Бра-а-ат-цы!
Все глядели на него и покатывались, стонали от смеха. Анька, Манька, Ганька, Панька плясали, путаясь в длинных рубахах. Даже невозмутимая жена Вани Акули, не переставая выплевывать тыквенную шелуху, раскисала в улыбочке. Смеялся и я.
— Бра-ат-цы-ы! Тошне-хонь-ко!
В небе победно гремел железом Мирон.
Отец часто стал повторять одну фразу. Сидел на крыльце вечером, слушал дергача, курил, вдруг встряхивался:
— Что-то тут не продумано.
Читал после обеда газеты, откладывал их, морщил лоб:
— Что-то тут не совсем…
Рассказывал матери об очередном собрании, обрывал себя на полуслове, задумывался:
— Что-то тут у нас…
Антон Коробов исчез из села в тот же вечер, сразу же после разговора с отцом. Он уже не слышал, как Мирон гремел железом на крыше его дома. Никто из наших больше не слышал об Антоне Коробове. Отец не сомневался: «Этот устроится… Что червяк в яблоке».
Во время дождей ободранная крыша коробовского пятистенка пропускала воду, как решето. Ваня Акуля, кляня кулацкие палаты, вместе с ребятишками, верной женой, прихватив квашню — сосуд жизни, перебрался обратно в свою баньку.
Несколько раз Мирон выезжал на своих конях. Гнедые кони по-прежнему лоснились, словно выкупанные, скупо отливали золотом. Мирон был темен лицом, расхлюстан, размахивая концами вожжей, он пролетал со стукотком из конца в конец — черноногий Илья-громовержец на колеснице. Мой отец ему больше не мешал: «Пусть… пока… Придет время, приведем в чувство».
Мирону, конечно, передавали эти слова, и он визгливо кричал: «Зоб вырву! Я нонче человек отчаянный!»
Отцу не довелось приводить в чувство Мирона. Его срочно перепели в другой район на более ответственную работу. Мы уехали из села.
Но уехали недалеко. На конференциях и областных совещаниях отец встречался с работниками старого района. Никто из них не вспоминал о Мироне Богаткине — шла сплошная коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами.
Нет, никому он не вырвал зоб, никого он не испугал, иначе вспомнили бы.
Отобрали ли у Мирона его оцинкованное корыто?..
Коней-то уж отобрали. Они вместе с брюхастой лошаденкой Петрухи Черного попали в колхозные конюшни… А какие кони были!
* * *
Позволю себе, когда это будет возможно, напрямую обращаться к документам. Не хочу и не могу давать развернутого обоснования, они отяжелили бы и занаукообразили мой литературный труд. Самое большее, на что я способен, бросить лишь документальную реплику по ходу дела.
Итак, первая документальная реплика.
По данным «Истории КПСС», изданной Госполитиздатом в 1960 году (стр. 441), с начала 1930 по конец 1932 года было выселено 240757 кулацких семей. Есть основание считать эту цифру сильно заниженной, хотя умиляет ее точность — не 240 тысяч и не 241 тысяча, а именно 240757, ни больше, ни меньше, извольте верить, старались, считали, не закругляли. К слову сказать, и это уже всепланетный рекорд. Крестьянские семьи из пяти человек не считались большими. Помножив на пять указанное число высланных семейств, получаем более миллиона двухсот тысяч человек. До того времени история еще не знала столь массово грандиозных репрессивных кампаний.[1]
Однако неопубликованная инструкция ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1930 года предлагала подвергнуть выселению свыше миллиона кулацких семейств, подразделяя их на три категории.
Первая. Самые непримиримые, совершающие террористические акты, подбивающие на восстания. Таких предположительно было чуть больше 60 тысяч. Инструкция требовала наказывать их вплоть до расстрела, а членов семей высылать в отдаленные районы.
Вторая. Кулаки наиболее богатые, но в терроризме не замеченные — около 150 тысяч хозяйств. Выселять с семьями, и подальше.
Третья. Умеренно богатые кулаки, а значит, и умеренно активные. Нетрудно подсчитать, что к этой категории относилось около 800 тысяч хозяйств. Выселять в места не столь отдаленные — в пределах того района, где проживали, на земли, не занятые колхозами. Следует заметить, что таковых земель неколхозных — при сплошной коллективизации, увы, не оказалось, были лишь земли необжитые на окраинах нашей великой страны.
Выходит, что высокая инструкция так и не была полностью выполнена? Тогда чем объяснить громкие упреки в перегибах, высказанные самим Сталиным в громогласной статье «Головокружение от успехов»? Их повторяли и другие: например, журнал «Большевик» в 1930 году (№ 6, стр. 20) писал, что в одном из сельсоветов некоего Батуринского района постановили раскулачить (а значит, и выслать) тридцать четыре хозяйства, при проверке же выяснилось — существует лишь три действительно кулацких семейства. Пример, показывающий, что инструкция выполнялась в десятикратном размере — за счет ареста середняков и бедняков.
Уинстон Черчилль в своей книге «The second world war» («Вторая мировая война») вспоминает о десяти пальцах Сталина, которые тот показал, отвечая ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных — брошенных в тюрьмы, высланных на голодную смерть крестьян разного достатка, мужчин и женщин, стариков и детей.
Историк Рой Медведев, у которого я позаимствовал здесь основные документальные сведения, приводит и свидетельскую картинку поэтапного крестьянского выселения: «Старый член партии Э. М. Ландау встретил в 1930 году в Сибири один из таких этапов. Зимой в сильный мороз большую группу кулаков с семьями перевозили на подводах на 300 километров в глубь области. Дети кричали и плакали от голода. Один из мужиков, не выдержав крика младенца, сосущего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево».
1969 — 1971
Примечания
1
По данным специальной проверки комиссии ВЦИК ВКП (б) за 1930 — 1931 годы, была выселена 381 тысяча кулацких семей («Вопросы истории КПСС», 1975, № 5. стр. 140).
(обратно)

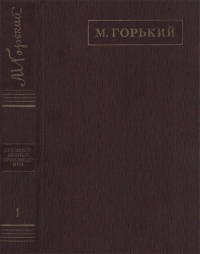



Комментарии к книге «Пара гнедых», Владимир Федорович Тендряков
Всего 0 комментариев