Тулепберген Каипбергенов[1] Зеница ока
1
Кто поймет их, этих людей? Чудной народ в «Жаналыке». Поди-ка угадай, что думают, чего хотят, чем недовольны. Сколько раз созывали жаналыкцев по разным поводам — и печальным, и радостным, а плохо собирались они. Придет человек двадцать, от силы тридцать, да и то те, кому положено по должности, остальные дома отсиживаются или гостюют в соседних аулах. Спросит на другой день или еще когда Сержанов: «Ты что же это, Есмурза или Бекимбет, не пришел, ведь звали же?» А он, Есмурза или Бекимбет, сдвинув на лоб шапку, почешет пятерней затылок, а чесать затылки жаналыкцы мастера, и ответит: «А что, разве надо было прийти?» Вот так, никому ничего не надо. Одному Сержанову надо.
Нынче вдруг пришли все. Пронесся слух: уходит Сержанов. Оторвались от домашних дел, про гостей забыли. Места под тремя карагачами, что, поди, сто лет стоят, не хватило людям. Места-то много, земля — глазом не окинешь, да тени нет, кроме как под карагачами. А тень летом что тулуп зимой — бережет. Правда, лето только начиналось, кончался май, но небо уже горело огнем саратана, самого горячего месяца года.
Те, кому по должности положено, пришли рано и заняли тень, остальным пришлось жаться к ним, прибавляя к небесному теплу телесное. Однако напрасно жались. Люди прибывали, а тень сокращалась. Солнце-то на макушку неба забралось, какая тут тень? С ослиное копытце.
Два желания мучили жаналыкцев в этот час: не упустить тень и не потерять из виду Сержанова. Будто последний раз видели и насмотреться не могли. Или того хуже — прощались с товарищем Сержановым.
Он сидел за столом президиума рядом с секретарем райкома Нажимовым и не поворачивал головы, будто боялся лишить своих добрых жаналыкцев радости видеть его в последний раз.
Был Сержанов обычным. Голова гордо поднята, руки сложены на животе. Лицо бесстрастное, строгое и покровительственное. Сколько ни вглядывайся, не поймешь, хорошо ли Сержанову сейчас или плохо, радуется или печалится, жарко или холодно ему. Таким лицо его было и вчера, и позавчера, и неделю, и год назад. Да что год! Все двадцать пять лет, что директорствовал в «Жаналыке».
Наверное, жаналыкцам только казалось, что не выражает ничего лицо Сержанова. Привыкли потому что. А Сержанов и радовался, и огорчался. Улыбался, должно быть. Добр ведь был Сержанов. Никого не обидел за двадцать пять лет, не наказал никого. А было кого наказать, было… Покрикивал иногда, слова бросал нехорошие, если понуждали, такие слова, что женщины уши затыкали, слыша. Но чтоб злые слова, ранящие душу, бросал, не было такого.
Вообще насчет слов скупостью не отличался Сержанов. Поговорить любил и прихвастнуть мог. Заслуги совхоза велики, отчего не напомнить о них и друзьям и недругам. Себя в похвале тоже не обходил: пусть знают, каков Сержанов! Слабость человеческая, куда от нее денешься? Да и не мешает она никому. Впрочем, о характере Сержанова жаналыкцы сейчас не думали. Что думать? Человека не переделаешь. Да и нужно ли переделывать? Устраивал всех бывший директор. Бывший… Вот о чем думали жаналыкцы. Как-то не верилось, что совхоз останется, а Сержанов уйдет. Вот кабы наоборот — хозяйство исчезло, а Сержанов остался, так оно и понятнее и привычнее. Потому что было уже такое, было, и не раз: колхозы переводились в совхозы, укрупнялись, разукрупнялись, переименовывались, перепланировывались, соединялись, разъединялись — всяко было, но Сержанов всегда оставался. А тут…
И еще думали, почему уходит? Неплохо было ему в совхозе. А правильнее сказать — хорошо. От добра добра не ищут. Заявление Сержанова, что прочел им секретарь райкома, показалось странным. Оно не рассеивало сомнения, а, напротив, сгущало его, обволакивало какой-то смутной тайной. Ответ на беспокойный вопрос «почему?» заявление вроде бы давало: новые условия требуют нового подхода, новых знаний, масштабности мышления, но ни того, ни другого, ни третьего у Сержанова не оказалось, вот и решил уйти. Поверишь разве такому? Вечером ложился спать — были знания и подход был, утром проснулся — ничего нет. Во сне потерял, что ли?
Не то, не то. Жаналыкцев не проведешь. Если же потерял, то зачем тогда секретарь райкома принялся хвалить Сержанова, до небес поднял: и умеет, и знает, и опыт велик, хозяйство одно из лучших в районе, и не только в районе. Второго такого директора не сыщешь. А вот уходит.
Смотрели жаналыкцы на Сержанова и повторяли мысленно все тот же вопрос: «Почему уходит?» Может, обидел его кто? Жаналыкцы не обижали. Значит, начальство. Тот же секретарь райкома. Обидел, а теперь распинается, расхваливает. Заведено уж так, правду никто не говорит. Правду люди сами должны отыскать. И отыскивают, кто как умеет.
Отыскивая правду, жаналыкцы наткнулись на одно слово в заявлении Сержанова. Упоминал он человека по фамилии Даулетов. Кто такой Даулетов? Бог его знает. Завхозу или Завмагу, может, известна такая фамилия. Им каждый человек должностной, значительный — друг и брат. Так вот этот Даулетов, оказывается, критиковал Сержанова на курултае.[2] Но когда критиковал? Прошлой зимой. Сколько воды утекло, и зимней и вешней. Утонуть могли в той воде слова Даулетова, да и сам Даулетов. А не утонул, видать, раз Сержанов упоминает его в своем заявлении.
Стали думать жаналыкцы: неужели из-за тех слов недобрых началось все? Не стерпел обиды Сержанов, подал заявление. Или заставили подать? Такое тоже водится. Говорят: ты человек хороший, незаменимый работник, однако, подавай заявление по собственному желанию. По-доброму просим. Учти, пока по-доброму. Учел Сержанов, подал.
— А вон и сам Даулетов! — показал Завмаг на человека, сидевшего по правую руку секретаря райкома. — Приезжал осенью проверять совхоз.
Завмаги не ошибаются, поэтому жаналыкцы поверили, оставили Сержанова и принялись разглядывать Даулетова. Каков? Как он выглядит и чего стоит?
Выглядел Даулетов так себе. Неавторитетно. Встретишь и не подумаешь, что такой вот способен решить судьбу Сержанова или еще какого-нибудь руководителя. Роста пустякового. Против Сержакова — телок против племенного бугая. И нос мелкий, не сержановский, и глаза без строгости и значительности.
В общем, обыкновенным был этот Даулетов. А на что годился, определить трудно. Но директорский пост вряд ли подходит ему. Солидности недобрал. Так что кандидатуру Даулетова разом отмели. Сидел, правда, Даулетов в президиуме по правую руку секретаря райкома, а это что-то значило. Зря чужого человека в президиум не посадят, не станут морочить людям голову. Мол, догадайтесь сами, зачем привезли человека из района.
Смутное беспокойство пало на души жаналыкцев. Жаль стало им Сержанова. И себя жаль. Все шло вроде хорошо, привычно шло. Как день. Знаешь, откуда поднимается солнце, как идет по небу и куда опускается. Не обманывает людей, не восходит когда вздумается и не уходит куда попало. Если скроет его иной раз туча, померкнет вроде бы солнце, так ведь ненадолго, не на всю жизнь. Минует черное облако, и станет, как всегда, ясно. А тут…
Почуял Сержанов, что жаль жаналыкцам себя. Не кого-нибудь, а именно себя. И стало ему больно и приятно от этого. И подумал: правильно ли поступил, отказавшись от директорства? Людей вроде бы предал и себя оторвал от любимого дела. Орлом ведь был. Подлинно орлом. А не будет теперь крыльев. Сам обрезал. «Освободить!» Полоснул, как ножом.
Тут пришла иная мысль к Сержанову, грустная мысль. Сам ли обрезал крылья? Может, кто другой? И вспомнил он слова Даулетова. Вспомнил — и холодок едкий по сердцу. Заныло оно. Даулетов, поди, ощипал все перья. Он, волк степной, куснул острыми зубами — и нет крыльев. С виду-то не волк, волчонок всего, а острозубый. Молодые зубы всегда острее старых. Костей еще не грыз, не сточил.
Как сказал тогда на курултае:
— Амударью нашу вспомните, была она полноводной когда-то. Не по ложбинкам и выемкам сочилась, а на полстепи разливалась. Неслась к Аралу могучим потоком. А обезводела, потеряла силу, лужицы заполняет. На большее не способна. Глубоко русло, да вода мелка…
Слезу волчонок выдавил из глаз степняков. И так печалились они, расставаясь с Аму, любимицей своей, сестрой и матерью, а тут еще слова такие! Вот ведь как подходил Даулетов — щенком ласковым, ягненком ясноглазым. И не заметил никто, куда клонит волчонок, один Сержанов заметил и насторожился.
— Не понравилось мне слишком уж кичливое выступление директора совхоза «Жаналык» Сержанова. А чем хвастать? По заданию обкома я анализировал работу хозяйства. Обезвоженной Аму подобен нынче совхоз. Вроде бы и русло просторное, и умно проложенное, а вода в нем — стоячая. Вот уже лет семь-восемь темпы роста основных видов продукции и производительности труда на нуле. А ряд показателей даже в минусе по сравнению с началом семидесятых. Однако при этом план — что ни год — перевыполняется. Вот уж воистину «секреты мастерства». И тут стоит задуматься над тем, что ж это за «секреты», либо что же это за «планы»? Хозяйство топчется на месте. Потому-то всякий пустяк выдается за великое достижение. Мне, например, привелось участвовать в торжествах по случаю открытия… гаража на три машины. Да ладно бы если действительно гараж, а то просто навес. На открытие пригласили одного из районных руководителей. Он должен был перерезать ленточку. Но так как я оказался работником областного масштаба, ножницы доверили мне. Потом, естественно, банкет с тамадой, в роли которого выступал второй после Сержанова человек в совхозе — Завмаг. Фамилии его не знаю, да, наверное, у него и нет фамилии. Просто Завмаг. Так его все называют…
Вот как выступил на курултае Даулетов. Какие-то еще факты приводил, какие-то доказательства, но мог бы и не приводить, достаточно и этого. Смеялись люди.
Не привык к такому Сержанов и привыкать не собирался. Критиковать его, да еще с издевкой, не решился бы никто. Нажимов не позволял нанести обиду своему другу и любимцу. Да и сам директор «Жаналыка» не из безответных.
Изменилось что-то. Еще не знал Сержанов, что именно, но почувствовал толчок, как при торможении, и резко подался вперед.
— Можно справку? — поднял он руку.
— Справки потом, — отрезал председательствующий. Значит, и он не посчитался с Сержановым.
Едва объявили перерыв в заседании, Сержанов поспешил в фойе, отыскал противника. Нашел его в буфете.
Хоть и зол был и хотелось сказать наотмашь, чтоб размозжить обидным словом, да знал: в таких делах нельзя нестись сломя голову, а то, гляди, и впрямь сломишь. Потому еще издали, еще на подходе начал громко и словно отечески жалея:
— Навредил ты себе, Даулетов, ох навредил. Тебя и на трибуну никто не собирался выпускать. Не обижайся, но молод еще, чтоб учить людей на курултае… А я подумал, дай помогу парню, пусть молодой кадр покажет себя. Попросил включить в список. А ты? Эх, Даулетов, Даулетов…
— Вот что, товарищ Сержанов, давайте-ка перейдем на «вы». Мне так привычней, да и место здесь для «тыканья», неподходящее.
— Ну да, все уже начальниками себя мнят. Вы! В том-то и дело, что вы, Даулетов, не совхоз критиковали, а обиду свою высказали. Скромно приняли вас — не по чину — вот ведь что. Каюсь, скромно, очень скромно, жалею теперь, — сказал и осмотрелся. Не колючкой царапнул, камнем запустил в Даулетова, чтоб завизжал волчонок от боли. И знал Сержанов, что метит в самое уязвимое место, и если попадет, то плохо будет Даулетову, такое в верхах не прощают. И знал, как целить. Не сам оправдывался перед начальством, другие скажут, слух пойдет. Вертись тогда, волчонок, выкручивайся как знаешь.
Оглянулся Сержанов, осмотрел окружающих, все люд незнакомый и моложавый; по всему судя, товарищи и сослуживцы Даулетова. Оглянулся и понял: промазал. Потеряли вмиг интерес к его словам. То ли намек на подарок — это не про Даулетова вовсе, здесь он крепок, то ли еще что, но — промазал. Но ведь наверняка в другом чем-то слаб, непременно есть где-то и у него слабинка, да не распознал ее Сержанов, промазал. Даже хуже: хотел метнуть камень, а' не метнул, выронил себе же на ногу, и теперь уже Даулетов отвечал ему мягко и почти жалеючи.
— Вы же умный человек, но обида ум мутит. А обижаться вам нечего. Обдумайте спокойно все, что я сказал, и поймете, что это вам же в помощь, — Даулетов говорил тихо и явно умиротворяющим тоном, но, когда снизу вверх глянул в надвигающееся лицо Сержанова, понял, что гладит против шерсти. Усы топорщились, будто иглы у ощетинившегося ежа, и казалось, что вот-вот вонзятся во врага. Все разом.
— Не много ли берете на себя? Не по коню поклажа. Как бы холку не стереть.
— Может, и сотру, но для вашей же выгоды. От дорогой поклажи кто ж отказывается?
— Помощнички! Да я свой воз двадцать с лишним лет тащу. Начинал, когда вы еще сосунком были. — Он нарочно выделил это «вы», словно с большой буквы произнес, и в соседстве с «сосунком» оно прозвучало по-особому оскорбительно, — Помощнички! Напустят словесного туману… Но ничего, я привычный. Не зря же говорят, что старый конь и во тьме найдет дорогу к дому.
— К дому — да. Но речь-то о другом. Не к дому, а в гору тащить надо.
Помолчали.
Выпили по стакану минеральной. И Сержанов заговорил. Заговорил грустно, устало. И грусть и усталость были искренними.
— Не понимаю я вас. Нет, не понимаю. Чего добиваетесь? Только не надо красивых слов. Если уж такие принципиальные, так критикуйте отстающих. Вой их сколько. Или, к примеру, поругайте начальство. Вам ли объяснять, что экономика совхоза не от одного директора зависит? Грамотные вроде люди, образованные, вы вон цифрами так и сыпали, и все по памяти. А чего хотите — не понимаю, и при всех благородных словах философия ваша проста: «Радуюсь чужой гибели, поскольку, значит, вижу, что еще одного пережил».
Обидно было Даулетову. И хотелось ответить тем же. Но что-то детски беззащитное или стариковски беспомощное вдруг проглянулось в этом человеке, огромном и еще на зависть здоровым в свои шестьдесят лет. И вновь захотелось Даулетову успокоить его, приласкать, погладить словом.
— Не гробил я еще никого. И вас не собираюсь. И, право же, не стоит так переживать.
— Стоит, но вам этого не понять. А по-хорошему, послать бы вам записку в президиум. Так, мол, и так, я несколько увлекся, сгустил краски. Или духу не хватит?
Знал человеческую душу Сержанов. Хорошо знал и умел предугадать каждый ее порыв. А без этого какой же ты директор? Потому легко ладил с людьми, и с теми, кто стоял выше его на жизненной лестнице, и с теми, кто был ниже. Даулетову пока не нашел места, не знал, какая ступенька ему принадлежала. Если повыше, то после такого окончания нынешнего разговора не станет он врагом для Сержанова, если та, что ниже, превратится в друга, овечку добрую. Хуже всего равные ступеньки. Ровня приглядывается, изучает, ждет случая, чтобы ножку подставить, занять твое место, которое почему-то кажется всегда лучше, почетнее, выгоднее.
Где Даулетов?
Пока не знал Сержанов, где этот окаянный Даулетов. Но через час, а может, и меньше, должен узнать. Войдут в зал, продолжится заседание, и все станет ясным.
Приободрившись, с надеждой проследовал по фойе. В дверях взял Даулетова под локоть, как старого знакомца, как свойского человека. Пусть все видят: мимо сердца и ушей пропустил критику Сержанов. Для порядка выступил Даулетов, и не на зле была замешена его речь, а на добром желании помочь совхозу.
Точно все рассчитал Сержанов, по старым испытанным правилам. И опять ошибся. Не подходил под правила этот проклятый Даулетов.
Всю вторую половину заседания прождал Сержанов напрасно. Не взял слово Даулетов и записки в президиум не послал. Значит, ошибки не было. Правым посчитал себя. И после заседания исчез. Подался домой, видно…
Вот как дело было…
Заныло сердце Сержанова. Будто колючка вонзилась в него и саднит, саднит. Не придавать бы значения словам Даулетова. Ну сказал, мало ли говорят на совещаниях и о чем только не говорят! Ведь никто, кроме Сержанова, не обратил на это внимания. Вроде не было ничего произнесено, да и был ли сам Даулетов, выходил ли на трибуну? Секретарь обкома, подводя итоги, тоже не упомянул его фамилию и тем как бы отмел критику. Впрочем, он и Сержанова не упомянул, не назвал «Жаналык» в числе лучших хозяйств. А ведь прежде всегда называл, все-не-пре-мен-ней-ше. И опять тем особым инстинктом, тем наработанным годами служебным «нюхом», без которого директор не директор, Сержанов почуял что-то неладное.
Возвращаясь в совхоз, маялся Сержанов, корил себя, как это он оплошал в тот приезд Даулетова. Не угадал, с кем имеет дело, не улестил, не умаслил, не уломал, наконец, или не разжалобил человека. А вспыхнувшего на курултае не утишил. Вот как глупо все получилось.
Маялся дорогой, но не думал о заявлении, об уходе и не помышлял. Думать начал дома. И не сразу, не в первый день и не в первую неделю. На какое-то время даже то ли плюнул, то ли забыл за делами и хлопотами. Но однажды натолкнулся на Завмага, тот держал под мышкой шапку чудного коричневого каракуля. И внезапно вспылил Сержанов:
— На башке Даулетова должен быть ягненок, а не у тебя под мышкой! — Вышло так зло, что Завмаг аж поежился, словно ветром ледяным обдало его. И не то чтобы всерьез верил Сержанов, будто мог «купиться» волчонок на эту шкурку, но просто зло срывал. А впрочем, шайтан разберет этого Даулетова, а вдруг да «купился» бы?..
— Не получилось, — потупился Завмаг.
— Не сумел, — поправил его Сержанов. — Глупым ты стал… Или разучился? А может, утомился, на покой пора? Глупый — это ничего. Ругают и похлеще. А вот утомился — это плохо. Значит, гонит Сержанов своего подручного.
— Силы есть, — поднял робко глаза Завмаг, — Есть и ум… Исправлюсь, молодой еще, — старой прибауткой попытался приглушить гнев директора.
Но гнев не погас. Не умел быстро остывать этот громоздкий человек.
— Ты, может, и исправишься, а упущенное не исправишь… Не наденешь шапку на Даулетова.
— Ой-бей! Была бы шапка, а голова найдется, — успокоился Завмаг. В преподношениях он знал толк, и учить его этому не следовало. — И голова покрупнее, на два размера больше.
— На другую не надо. Тут была бы в самый раз… Уставился на директора Завмаг. Поразила его нотка страха и даже отчаяния в голосе Сержанова. Прежде не звучала она. А если и звучала, то не перед Завмагом. Торопливо он стал прикидывать, что произошло и насколько опасно происшедшее для него.
— Выходит… значит… — промямлил, запинаясь.
— Выходит, — резанул Сержанов.
Впервые натолкнулся Завмаг на препятствие, которое нельзя ни перешагнуть, ни обойти. И заключалось оно всего-навсего во времени. Упущено время, случай упущен. А время не вернешь, не возвращается оно. Тысячи спасительных ходов знал он, но ни один сейчас не срабатывал.
Растерянно смотрел Завмаг на директора и думал, что же предпринять? Что сказать хотя бы в утешение?
Не нужны, однако, были Сержанову утешительные слова. Не приняла бы ничего досада, горевшая едким пламенем в его душе. Единственное, что могло избавить от сжигавшей досады, так это исчезновение самого Завмага. Провалился бы сквозь землю или растаял, как кизячный дым на ветру. Из-за него небось все несчастья. Но не угадывал тот желание директора, торчал перед ним, словно кол на дороге.
Секунду-другую подождал Сержанов, посмотрел зло на недогадливого подручного своего и ушел. Ушел, как уходят от сухого колодца, хорошо, что не плюнул с досады.
Случай как случай. В общем-то пустяковый. Ну взорвался директор — так и у него ведь нервы не железные. Ну спустил собак на прохвоста Завмага — и поделом, не попадайся под горячую руку. Но с этого часа — вот что тошно — снова вспомнил о Даулетове и вновь почувствовал знакомую тревогу. Что там делает волчонок? Сидит ли поджавши хвост или зубы точит?
А может, и не точит зубы? Может, выкинул из головы «Жаналык»? Что у него, других дел нет? «Может» — это не ответ, тут хорошо бы знать наверняка.
В тот же день сел на телефон. Стал искать Даулетова. Услышать голос его захотел. По одному голосу можно уже многое узнать.
Долго искал. Когда нашел, потерял мысль, забыл будто, зачем звонит. Да и голос Даулетова смутил. Не даулетовский какой-то, глухой, хриплый. Занемог, что ли.
— Э-э, это Сержанов. Вот услышал, что болеете, посочувствовать решил. Не нужно ли чего для здоровья?
Даулетов, грубый все-таки человек, нечуткий, нет чтобы поблагодарить за внимание, огрызнулся:
— Ничего мне не нужно, здоров я! Расстроился Сержаыов:
— Как здоровы?! Лгут люди, значит… Тогда извините. Кого хоронят по ошибке, тот два века проживет. Значит, все в порядке? Ну это хорошо. Что, — не без ехидства, скрытого, а впрочем, не очень даже и скрытого, спросил Сержанов, — и душа не болит?
Издевка резанула Даулетова. Хотел в том же тоне отпарировать, но передумал: затевавшаяся телефонная перепалка ему была совершенно ни к чему, хлопот и нервотрепок и без нее вдосталь. Ответил жестко:
— Не стоит задираться, товарищ Сержанов. Это к лицу джигитам, а не аксакалам, да и повода нет.
— А что я такого сказал?
— В том-то и дело, что ничего путного не сказали. Неуж-то у вас уйма свободного времени? И это перед севом?
Ох, уж эти молодцы с дипломами. Чего-чего, а дискутировать научились. Завел его Даулетов в заросли слов, как теленка в камыши, и хоть все просто, да не сразу выберешься. Однако Сержанов попытался:
— Почему пустяки? Я хотел все сказанное вами записать, на курултае вы ведь для моей же пользы говорили. Хотел, а запамятовал, сколько и как было сказано. Повторите, Даулетов!
— Хватит, Ержан-ага! Минута для шуток истекла…
— Да я не шучу. Мне в самом деле нужен совет.
— А я не даю частных консультаций.
— Как же быть?
— Обратитесь в обком партии, там моя докладная по итогам проверки совхоза «Жаналык».
Не заметил Сержанов, как оборвался разговор. То ли он сам бросил трубку, то ли Даулетов. Вот оно значит как… Докладная. Лежит себе, голубушка, в обкоме. Изучают ее, родимую, выводы готовят. А ты тут сидишь, ходишь, руками машешь как ни в чем не бывало. И ничегошеньки не знаешь. Ну вот узнал, что, легче стало? Нет, конечно. Тяжелее? Опять же нет. Муторнее!
Почему, однако, ему ничего не сказали? Почему не вызвали, не поругали, не потребовали объяснения? Видать, дело-то худо оборачивается. Главного человека района списывают, и списывают тихо. Старого племенного быка переводят в общий загон с беспородными выбракованными телками да бычками. С волами рабочими. А там, смотри, и самого выхолостят. И главное, Нажимов. Нажимов, друг-начальник, отец-спаситель и заступник. Нажимов — ни гугу. Что, не знает или не может?
Не отходя от аппарата, Сержанов снова снял трубку. Подключился к районной АТС и набрал номер секретаря райкома.
— Я Сержанов.
— Да узнал, узнал. Что у тебя?
В голосе Нажимова почудилась не то лень, не то пренебрежение. Так не говорят с директором ведущего хозяйства района, тем более накануне посевной. Или забыл, на чьих показателях держится то, что любит он называть «честью района»? Забыл? Так ведь и напомнить можно.
— Не вы ли говорили, что сынов района в обиду не дадите? Или я уже не сын, а пасынок?
— О чем ты? Если о прошедшем курултае, то зря. «А если не о курултае, — хотел сказать Сержанов, — а если
о чем-то поважнее?» Да не сказал. Мнилось, будто и Нажимов притаил нечто до случая, и надо было выяснить — что именно. Но секретарь говорил сплошь общеизвестное, необязательное, вроде как не в личном разговоре, а с трибуны.
— Жизнь, дорогой Ержан-ага, вперед идет, торопится жизнь. И надо в ногу с ней шагать. Само время предъявляет нам новые требования.
— Ну понятно, а старый мерин для новой сбруи не гож? Так, что ли?
Ох, не так, не так. Не стоит с начальством в подобном тоне… Не стоит, да уже удержу не было. Плевать. В конце-то концов, кто кому нужнее — он Нажимову или Нажимов ему? Это еще посмотреть надо.
— Твои ли это слова, Ержан-ага? Не слышал я их от тебя прежде.
— Да, не слышали, потому что не было прежде таких слов. Вы меня поддерживали, я поддерживал вас. План района кто спасал? Сержанов. Посевная ли, уборочная ли, кто первым отчитывается ради чести района? Сержанов. А если из-за вашей чести мне потом пересевать приходится, то ведь выкручиваюсь, не хнычу, не кляну. Как выкручиваюсь — один аллах знает, да вы, надеюсь, догадываетесь. Узнай кто-нибудь в тех самых инстанциях, несдобровать бы мне. Но о себе не думал. Все о вас, о престиже района, о вашем авторитете, и вот награда…
Сержанов запнулся вдруг, и не потому, что пошел уже разговор с перебором — тут он не стал бы сдерживать себя: хватит ездить верхом на директоре «Жаналыка», хватит делать вид, что выигрывает скачку наездник, а спотыкается скакун, хватит, осточертело, — нет, запнулся он, ибо вдруг почудилось, что аппарат отключили. Слишком уж тихое, слишком пустое молчание было в трубке.
— Алло!
Трубка еще секунду-другую помолчала для солидности. Потом послышалось:
— Ну-ну…
— Я думал, прервали на АТС.
— Нет, но могли бы. Чересчур долго телефон занимать не следует.
Сержанов понял намек и проглотил подошедшие под кадык слова. Потянулась пауза, та самая, дурацкая, когда и говорить что-либо глупо — смысла нет, а оборвать разговор на этой ноте — еще глупее.
— Шарипа Сержанова, гидролог — твоя родственница? — спросил Нажимов как ни в чем не бывало. Спросил и моментально перевернул все, что выстраивал Сержанов. Весь его пыл, весь его гнев смахнул, как крошки с дастархана. Опешил Сержанов. Не понял, с чего вдруг взялась эта Шарипа, да еще в такой неподходящий момент.
— Племянница, — выдавил Сержанов. — А что случилось?
— Нет-нет, ничего. Просто дал я ей квартиру в райцентре. Три дня назад вселилась с отцом.
— Как с отцом? Он же на Арале. Рыбак он.
— Верно. Но старому почтенному человеку в море ходить уже нельзя. Дал я им две комнаты. Пусть в них поселится счастье.
— Пусть поселится, — согласился Сержанов, но не о брате, с которым они давно уже не в ладах, и не о племяннице, засидевшейся в девках со своей наукой, хотелось ему говорить сейчас. Однако Нажимова, судя по всему, устраивала эта тема, и он развивал ее.
— Имеет право… Ученая женщина, водой занимается. А вода, сам знаешь, для нас ценнее, чем воздух… — И пошел, пошел разводить ликбез про воду, про экономию, про пересыхающую Аму и мелеющий Арал, будто Сержанов мальчишка или приезжий какой, будто сам он каждый год где лаской, где таской не вырывает воду для полива, но закончил лекцию легким поклоном: — Рад, Ержан-ага, что райком сумел помочь близким тебе людям.
— Да, сердце у вас доброе, Нысан Нажимович… — кончился разговор.
Нет, не то, не то говорил секретарь. И/не так! Знает что-то, да видать, руки решил умыть. Те самые, которыми и обнимал, и по плечам хлопал. Нет уж, отец-благодетель и заступник. С Сержановым так не получится. Сержанов не из тех, кого можно одной левой. Он сам палван. А если уж упадет — запомните, — если упадет, то не одного, а многих придавит. Веса в нем с избытком.
Может, и впрямь придавить разок для профилактики? А что? Почему бы и нет?
Заявление. Немедля заявление. Пусть завтра же все ахнут. Уходит директор «Жаналыка», сам уходит. Перед посевной. Вот тут и поглядим, кто за кем побегает. А то один на посмешище выставляет при всем честном народе, другой еле-еле разговаривает, слова как семечки через губу сплевывает. Мастаки критиковать да наставлять, а вот поищите нового директора для совхоза. Поищите. А мне что за это кресло держаться? Да тьфу на него! Да во всем мире нет должности маетней и окаянней, чем это совхозное директорство. Начальству дай одно, рабочим — другое. А земля? Земля — она ведь тоже требует свое, да еще как! Вот и угождай всем. Нет, с меня хватит.
В каком-то сладостно-горьком захмелении он написал на большом чистом листе те самые слова, которые должны были потрясти весь райком. Да и весь обком. Именно на обком через голову Нажимова и надо писать.
«Почти четверть века я руковожу совхозом «Жаналык». За этот период я ни разу не подвел ни наш район, ни нашу область. Планы выполнял точно в срок, а чаще и досрочно. Рапорты о завершении работ подавал или первым, или вторым, на худой конец — третьим. Замечаний и выговоров не имел — наоборот, «Жаналык» всегда ставили в пример остальным хозяйствам, коллективу выносили благодарности, награждали. И вот совершенно неожиданно на курултае молодой специалист Даулетов, пробывший в совхозе всего лишь неделю, подверг критике «Жаналык» и меня как руководителя. Не получив возможности ответить на выступление Даулетова, я тем не менее взвесил сказанное им и пришел к выводу, что не смогу в дальнейшем руководить таким большим и сложным хозяйством и прошу освободить меня от должности директора совхоза «Жаналык».
Вышло нечто хвастливо-смиренное. Следовало бы переписать. Но не хотелось. Пусть. Он же не писатель, не репортер. Изложил как сумел. А там, в верхах, не дураки сидят. Захотят понять — поймут.
Все дни после отправки заявления в обком жил он ожиданием грома, что прогремит в области. Обязательно грома.
А погода, видно, была не та, не подходящая. Даже облачка не появлялось на чистом небе, и под этим гладким, порожним небом увидел он себя одиноким путником в степи. И не ждет его никто, не манит. Один…
Пожалели жаналыкцы Сержанова, пожалели себя. Однако тем, что было, жить ныне не станешь, а завтра оно вообще ни к чему. Начали поглядывать па нового человека, на этого неказистого с виду Даулетова. Смотрели с любопытством, придирчиво. Такой уж народ жаналыкцы. Теленка берут в хозяйство и то всего оглядят, и уши ему помнут, и копыта выстучат, и хвост потянут — отзывчива ли спина на боль. А тут не телка, тут им главу хозяйства брать, как же не прощупать новичка? Придирчивый народ.
Под прицелом сотен глаз стало Даулетову не по себе. Неуютно, будто на весы его ставят и противовес двигают — на сколько потянет?
Главное, прикидывают, какова разница между старым и новым директором. Кто тяжелее, а кто весомее.
Ко всему был готов Даулетов: к удивлению, к неприятию перемен, к враждебности, наконец. А вот к взвешиванию, сопоставлению — нет, не готов. Не предполагалось такое, не входило оно в перечень препятствий.
Страшновато стало Даулетову. Напрасно согласился пойти в «Жаналык», зря дал уговорить себя. Видишь, мол, просчеты Сержанова, соображаешь, как исправить положение в хозяйстве, знаешь, каким путем идти. Вижу, знаю. Верно. Да только хозяйство знаю. А людей — нет. И не понимаю. Чувствую, что не понимаю. Объяснить, отчего так, не способен. Такое не объясняется. Такое само собой приходит, в душе живет, как талант.
Вот стоят перед ним жаналыкцы. Молчаливые, упрямые, своенравные. И всем своим видом показывают, что не нужен им новый директор, не нужен им Даулетов. Как жили, так и будут жить на этой земле. Как работали, так и будут работать. Довольны тем, что делают, и все вокруг ими довольны. Горды этим и шею гнуть ни перед кем не собираются.
Хочешь уцелеть директором, иди с ними, станешь мешать — отбросят с дороги, как сухой колючий жантак.
Колючкой и представил себя Даулетов. Поежился даже от неприятного чувства обиды за нелепое сравнение. Однако было что-то в его характере схожее с занозистой колючкой. Примечал недостатки чужие и высказывал прямо в глаза. Впивался в дело — не оторвешь. За настырность и цепкость ценили Даулетова. Посылали на самые трудные участки, бросали раскрывать головоломные путаницы. И он разгадывал и находил спасительный путь и для дела, и для человека.
Умен, зорок, смел Даулетов. Предложения его всегда нестандартны, оригинальны. В чужом разбирался хорошо. Он и сержановские просчеты легко заметил.
То, что секретарь обкома должен был прочесть его докладную, Даулетов, конечно, знал, а вот что его самого заставят реализовывать, проводить в жизнь сочиненное им, никак не предполагал. Даже отдаленно. Поэтому, когда вызвали в обком и показали заявление Сержанова, он понял это как желание услышать мнение человека, знающего и директора, и хозяйство «Жаналыка».
— Ержан-ага опытный и сильный руководитель, он может исправить положение, и отпускать его нельзя, — сказал Даулетов, прочитав заявление.
Секретарь, оказывается, не собирался вступать в дискуссию по поводу достоинств или недостатков Сержанова.
— Это не подлежит обсуждению, вопрос уже решен, и райком, — тут секретарь обкома повернулся вполоборота к сидевшему в кабинете Нажимову, — райком того же мнения. Мы не можем держать на посту руководителя человека, отказывающегося от этого поста в силу ряда обстоятельств. Характер обстоятельств вам, Даулетов, лучше нас известен. Отложили решение до конца посевной. А теперь пора.
Даулетов вспомнил грустный сержановский упрек — «Радуюсь чужой гибели…» — и стало стыдно. Не хотел он этого. Не этого он желал.
— Пойдете директором «Жаналыка» вместо Сержанова?
Вроде бы спросил секретарь, а вопроса Даулетов не услышал. Показалось ему, что зачитывают решение, а когда зачитывают решение, можно только соглашаться или, в крайнем случае, сделать себе отвод. Семейные обстоятельства, мол, недуг, отсутствие опыта. Но это тоже пустое. Не примут отвод, расценят его как уловку, тактический ход, как желание набить себе цену. Выбор сделан, и тебя ставят в известность; если в тебе ошиблись, то это обнаружится, но не сейчас, а потом. Потом и будут решать, какие принять меры. Теперь же единственное, что можно себе позволить, это пожать плечами или вздохнуть озадаченно. Но слишком глубоко, должно быть, вздохнул Даулетов или слишком грустно, потому что секретарь настороженно глянул на будущего директора и спросил:
— Боитесь не справиться?
— Сомневаюсь…
— Думаю, напрасно сомневаетесь. Я посмотрел ваше личное дело. Вы ведь родом из тех мест?
— Мой аул в пятнадцати километрах от «Жаналыка». — Знаю. И знаю, что детство было у вас нелегкое, так
что к тяготам и трудностям вам не привыкать, и экономист вы по образованию, а нам среди руководителей сейчас ой как не хватает людей, основательно подкованных в этом вопросе. Слышал, что пишете диссертацию. Надеюсь, тема связана с экономикой сельского хозяйства?
— Не совсем. Точнее — не только. Моя работа на стыке дисциплин — экономики и этики. Не знаю, смогу ли объяснить в двух словах, но, в общем, меня интересует такая мало еще изученная проблема, как нравственность экономики.
— Нравственность экономики? — переспросил секретарь обкома и, помолчав секунду, сказал: — По-моему, вполне понятно. А как вам? — обратился к Нажимову; тот, видимо, не ждал вопроса и вместо ответа кивнул поспешно несколько раз. — Ну что ж, — продолжал секретарь обкома, — нравственность экономики — это очень хорошо. И хорошо, что тема на стыке дисциплин, потому что науки различны, а мир — един. Правда, полагаю, что было бы целесообразнее «пристыковать» сюда еще одну науку — психологию. Впрочем, вы скоро и сами в этом убедитесь.
Последнее он произнес с едва уловимой грустью, то ли представил, с какими сложностями столкнется директор-новичок, то ли вспомнил что-то свое, но вдруг оживился:
— Хотите, подарю для вашей темы дополнительный довод? Так сказать, аргумент от филологии. Я ведь словесник. Преподавал когда-то русский и литературу и знаю, что есть такое понятие «философия языка». Так вот, утверждаю, что согласно ей слова «советская» и «совесть» не случайно созвучны… Подумайте над этим…
Еще одна секундная пауза, и секретарь обкома встал, давая понять, что разговор и так затянулся.
— А трудности — что ж — будут, конечно, но что касается нас, то помощь гарантируем. — И пожал руку Даулетову:- Действуйте, директор совхоза «Жаналык»!
Следовало бы, конечно, сразу оговорить, какова будет помощь обкома, на что можно рассчитывать, да неуместно было бы «торговаться» в такой серьезный и торжественный момент. И не стал ничего уточнять Даулетов, лишь спросил, когда надо приступать.
— Что тянуть! С той недели и приступайте. Нажимов представит вас народу. Секретаря райкома вы ведь знаете?
— Немножко.
— В дороге и познакомитесь поближе. Постарайтесь войти в контакт с Нажимовым. Вам вместе работать, и долго работать.
И все же беспокойно было на душе у Даулетова. Необычно как-то. Перемены не всегда приятны, особенно неожиданные. Они порождают тревогу, хотя разумом человек понимает их необходимость, без перемен нет движения вперед, самой жизни нет. Но это разумом. А сердце мается. Волнует его новое, неизведанное, непривычное.
Иные сердца, напротив, не могут существовать без перемен, напрашиваются на них. Радуются при первом дуновении свежего ветерка. Но не таким был Даулетов. Он понимал неизбежность и необходимость изменений, но что до сердца, до души, то по сердцу ему было как раз постоянство.
Дома, сказав жене о назначении, он тут же почему-то стал спорить с ней, хотя она не возражала и вообще не выразила ничем своего отношения к перемене. Стал доказывать, что директорство — это именно то, что необходимо ему и всей семье сейчас и что именно об этой должности он мечтал давно.
— Бог с тобой! — успокоила его Светлана. Жена Даулетова была русской, и ей очень шло это имя, не только потому, что светловолоса, но и во всем ее облике было что-то светлое, тихое, незлобивое. Умиротворяющее.
Ночью он не спал. Он понимал, что Сержанов добровольно ушел с поста, но удалить его из хозяйства почти невозможно, по крайней мере в ближайшие годы. Слишком долго варился он в этом деле. Он уже не просто кость в бульоне, он — сам отвар. Там, поди, каждый участок отражает систему Сержанова. Каждый бригадир в душе — маленький Сержанов. Дух Сержанова во всем. Даже двери коровников и складов небось скрипят так, как приятно его ушам.
Все переворачивать, все перестраивать, все переиначивать! — задавал себе задачу Даулетов. И загорался желанием немедленно начать ее осуществление. В огне решимости блекли как-то чувства тревоги и сомнений, которые появились вначале. Даулетов даже забывал о них, увлеченный подготовкой к предстоящей борьбе.
Порой, правда, огонь гас. И трезвый расчет подсказывал, что все переиначивать и не нужно, нет в том ни смысла, ни надобности. И вообще, если с приходом каждого нового директора заводить новые порядки, так это само по себе — разновидность беспорядка. Нужно взять все стоящее, а ведь есть оно, это стоящее, иначе на чем бы держалось хозяйство целую четверть века? Нужно принять готовый дом, до тебя возведенный людьми. Достраивай его, надстраивай новые этажи, ремонтируй существующие, пристраивай крылья и флигели, но не смей ломать до основания. Если каждый раз с фундамента начинать, так ведь и до крыши никогда не дойдешь. Да и люди не только строители, они еще и жильцы. Не забывай об этом. А жить на стройплощадке можно полгода-год, но не все же время. И еще одна мысль беспокоила и совестила душу: не кто иной, а именно он, Даулетов, заступает на место Сержанова. Было тут нечто, чего он стыдился вопреки доводам рассудка. Вот тебе и «нравственность экономики».
«Но я не радуюсь чужой гибели. Не радуюсь! Не хотел «гробить» директора «Жаналыка». Не думал об этом! — оправдывался Даулетов перед самим собой. — Не просился на его должность. Назначили. Заставили».
Душа принимала оправдание. На самом деле ведь так и было: вызвал секретарь обкома, сказал «Принимай совхоз», вот и вся недолга. Даже не спросили, хочет он быть директором или нет. Да и кого спрашивают при назначении? Подходящий человек — бери в руки дело. Двигай!
Душа принимала оправдание. Так то душа Даулетова. А вот душа Сержанова вряд ли примет этот защитительный лепет. Ей не докажешь, что не метил в чужое кресло, что выступал на курултае без мысли «спихнуть» руководителя «Жа-налыка», что руководствовался лишь общими ин
Трудная была ночь. Не спал до утра Даулетов, все маялся сомнениями и тревогами. Утро тоже не избавило от маеты, хотя полегче вроде стало, ясность какая-то пришла. И ясность эта обозначила главную суть — оправдание тебе одно: поднимешь хозяйство, тогда люди тебя поймут; может быть, в'кон-це концов поймет и Сержанов.
В машине, что несла нового директора и секретаря райкома в «Жаналык», Даулетов был неразговорчив и сосредоточен. Перво-наперво он ожидал встречи с Сержановым и уже хотел видеть его. Как-то все сконцентрировалось на этом большом, прямом и грозном, как представлялось Даулетову, человеке. Даже когда вошли в контору, он прежде всего стал искать глазами бывшего директора и, когда не нашел, огорчился.
— Ержан-ага собирает народ, — пояснил бухгалтер. — Все — под карагачами. Народу нынче стеклось видимо-невидимо…
— Это что за новости?! Вызови товарища Сержанова! — недовольным тоном потребовал секретарь райкома. — Его место пока здесь…
Директор совхоза — не председатель колхоза, его назначают, а не выбирают. Поэтому формально никакого общего собрания не требовалось. Достаточно представить директора его ближайшим подчиненным — вот и все.
— Впрочем, — переменил свое решение секретарь райкома, — если народ уже собрался, поедем к карагачам.
Из полутьмы конторского коридора вышли на свет, и Даулетов увидел людей. Сколько их? Может, тысяча. Может, больше. Высокие и низкорослые, худые и толстые, широколицые и узколицые — люди, люди, люди. Пестрые платья, рубахи, пиджаки, шапки, шляпы, тюбетейки. Многоголосая толпа гудела под карагачами как пчелиный рой.
Он знал, что встретится с ними позже, потом. А к этой встрече был внутренне не готов.
И никто не предупредил его о ней. Дело, хозяйство, новые методы, новая структура, новая организация труда — вот на что нацеливался Даулетов. И вдруг — народ!
Проверяя совхоз, он закопался в цифрах и как-то не приглядывался к людям, которые здесь живут и работают. Не испытывал желания вникать в их быт, в их интересы. А ведь было, наверное, что-то особенное, свое, неповторимое.
И жаналыкцы тоже не проявили тогда интереса к областному человеку, не заметили его. Они и сейчас не глянули в сторону Даулетова. Не удостоили вниманием. И было в этом что-то от уверенности в себе, независимости, от преувеличенного чувства собственного достоинства.
Понял это Даулетов и робко вслед за Нажимовым прошел к столу, покрытому красной плюшевой скатертью. Так же робко сел рядом с ним. По правую руку, как указал Нажимов. Сел и стал смотреть на будущих своих подчиненных, или подопечных, как зачастую принято у нас именовать исполнителей чужой воли, чужих приказов. Подчиненными и подопечными жаналыкцы, однако, не казались. Не подходили они под это определение. Робости — никакой. Подобострастия — тем более.
Когда же пройдоха Завмаг показал: «А вон и сам Даулетов!», жаналыкцы сменили безразличие на любопытство, да притом такое беззастенчивое, придирчивое, оценивающее, что Даулетов аж заерзал на стуле. И тогда он подумал с огорчением: «Ну зачем я согласился?» Вот так встретился новый директор с людьми, с народом, который обычно именуется в сводках и докладах коллективом.
Да, чудной люд жаналыкцы. Когда не спрашиваешь — говорят, а спросишь — могут отмолчаться. Ты им одно твердишь — они тебе другое. Дыню даром отдадут, а из-за дынных семечек час торговаться могут.
Вот и сейчас, толковал-толковал секретарь райкома о необходимости сменить директора, не только послужной список, но и биографию Даулетова рассказывал, а жаналыкцы все иначе поняли. Бригадир Далбай Султанов, худой и долговязый, поднял руку.
— Значит, когда Даулетов родился, через четыре дня умерла его мать; когда стукнуло Даулетову четыре года, умер отец. В четырнадцать лет переселилась в другой мир бабушка. В двадцать четыре года он то ли окончил институт, то ли женился, а в тридцать четыре, кажется, дочка родилась. Теперь ему скоро сорок, и он назначен директором. Итого — кругом по четыре. Очень интересная цифра…
Жаналыкцы стали смеяться, а чад чем зубоскалить? Над сиротством? Или над тем, что дочка родилась? Но так уж устроены люди — стоит какому-то балагуру даже о серьезном сказать потешное слово, и станет всем весело. А спроси: что тут забавного? — и не ответят.
— Что ты хотел сказать, товарищ Султанов? — голос у Нажимова был сердитым.
Бригадир очень серьезно ответил:
— Я хочу сказать, что у каждого человека есть своя цифра. У меня, например, девятка. А у Ержана-ага десятка. Когда бьет твоя цифра, с тобой происходит что-то удивительное: или хорошее, или плохое. Сержанову скоро стукнет шестьдесят. Если судить по знаниям и способностям, то его должны были сделать министром или хотя бы председателем облисполкома. Что же мы видим? Указа о назначении его министром нет, есть приказ об освобождении от работы.
— По собственному желанию! — напомнил Нажимов.
— Ну и что? — возразил Далбай. — Я же говорю, когда человеку выпадает его цифра, он становится сам не свой. Надо вернуть товарищу Сержанову заявление об уходе с поста директора и отправить его на курорт, пусть отдохнет, придет в себя и подумает.
— Правильно! — крикнул тучковатый, круглолицый бригадир Калбай Жамалов. — Товарищ Сержанов за двадцать пять лет работы не был ни разу на курорте. А вы, товарищ Нажимов, за эти двадцать пять лет двадцать пять раз съездили. Пусть один раз поедет Ержан-ага на Кавказ или в Крым. Я там был, мне понравилось…
— Товарищи! — возмутился секретарь райкома. — Мы не о том говорим. Сержанов уже освобожден от обязанностей директора совхоза, на его место уже назначен товарищ Даулетов. Ему предстоит работать с вами, и надо высказать пожелания, как лучше организовать дело. По существу говорите, товарищи…
Нет, все-таки чудной народ эти жаналыкцы. Им ясно сказано, о чем надо говорить в такой ответственный момент, а они несут бог знает какую околесицу. Смеются вроде над новым директором. Не успел Нажимов отчитать Далбая и Калбая, как поднял руку Елбай. И опять про то же.
— В Америке как только выберут нового президента, так он начинает менять всех чиновников, — сказал коротыш Елбай Косжанов. — Даулетов, конечно, не президент, а директор, но все же новый. Не примется ли он мести совхоз новой метлой?
Секретарь с досады прикусил губу: не желали жаналыкцы включаться в серьезный разговор.
— Я же объяснил вам, друзья, — сказал Нажимов, — что Даулетов молодой специалист…
— Не такой уж молодой. Скоро сорок! — выкрикнул весело Далбай Султанов. Понравилась ему игра с цифрами.
— Молодой специалист, — нажимая на слова и растягивая их, продолжал секретарь райкома. — Он приехал не воевать с коллективом, а сотрудничать с ним, сообща добиваться еще более высоких результатов.
— Пусть скажет сам Даулетов! — перебил кто-то, — Не немой, поди…
Нажимов нахмурился и сел, предоставляя тем самым слово Даулетову. Тот поднялся, и люди увидели, что он не такого уж маленького роста, ниже, конечно, Сержанова, но с секретаря райкома будет. А тот — ничего.
— Доверие коллективу — основа наших взаимоотношений в будущем, — сказал Даулетов. — На доверии построим работу. Что умею и знаю, передам коллективу, что умеет и знает коллектив, передаст мне…
Официально как-то сказал. Казенно, хоть и правильно, но без души, и люди поняли, что больно учен этот Даулетов, книжно говорит. Въедливый Елбай тут же прицепился к новому директору:
— Достаточно ли руководителю знать столько, сколько знает народ? Или он должен знать больше народа?
— Достаточно! Больше народа никто знать не может. — Ему не только хотелось войти в доверие к людям. Он действительно так считал, однако, похоже, просчитался.
— Неправильно! — зашумели жаналыкцы. Не все, понятно, лишь часть.
— Правильно! — утвердили другие.
— Ха, ха, ха! — заливался Елбай. Ему понравилось, как вспыхнули степняки от брошенной им искры. — Конечно, неправильно! Руководитель должен знать то, о чем мы и не подозреваем. Ержан-ага видел дальше нас, понимал лучше нас, летал выше нас. Не мы его учили, он нас учил, потому дела в совхозе шли хорошо.
Нажимов снова поднялся, ему надоел этот, как он выражался, «разгул демократии», этот разговор ни о чем. Рискованный к тому же разговор. Не туда, куда надо, сворачивают упрямые жаналыкцы.
— Перед нашим собранием стоит задача наметить конкретные меры по реализации решений, направленных на дальнейшее развитие сельского хозяйства области и района в частности, — сказал еще строже, чем в первый раз. — Не будем отвлекаться от этой линии, не будем поднимать вопросы, имеющие второстепенное и третьестепенное значение. Повторяю, высказывайтесь по существу. Кто хочет взять слово?
— Я, — поднял руку Елбай.
— Ты только что говорил, — удивился Нажимов.
— Верно, говорил, а теперь хочу высказаться.
Бог мой, эти жаналыкцы могут вывести из терпения кого угодно. Надо же так прицепиться к Сержанову! Ничем не оторвешь. Он, Нажимов, и сам привязан к Ержану-ага и не хотел бы расставаться с ним как с директором совхоза. Но приходится, обстоятельства сложились не в пользу Сержанова, неужели не ясно? Тут необходимость, судьба, что ли. Понимать должны. А не хотят понимать. И рот им не заткнешь. Будут чесать языками, пока не отвалятся.
— Высказывайтесь! — досадливо махнул рукой, ни к чему, мол, твое выступление и все прочее, да куда денешься — демократия. — Только поднимись, товарищ, перед людьми надо говорить стоя.
— А я и стою, — ответил Елбай.
Хохот ухнул под карагачами, поскольку Елбай был такого маленького роста, что и стоя не возвышался над головами сидящих.
— Тогда выходи к столу, чтобы все видели и слышали! Подтянувшись, как солдат на параде, прижав ладони
к шароварам, громко печатая шаг, Елбай направился к столу президиума. Веселыми улыбками проводили бригадира жаналыкцы, и когда он у самого стола повернулся, дружно захлопали. Смешная церемония не предвещала для Нажимова ничего хорошего. Он нахмурился и сказал с раздражением:
— Прошу по существу дела, товарищ Косжанов!
— А я всегда по существу. Мы народ занятой, нам лишние слова ни к чему.
— Лишние слова — и для верблюда груз! — выкрикнул кто-то.
— А какой из Елбая верблюд? Он и до верблюжонка-то не дотянет… — отозвался другой.
— Порядок! Порядок, товарищи! — поднял руку Нажимов. — Не отнимайте у людей время… Пожалуйста, товарищ Косжанов.
— По поводу чего я хотел высказаться? — спросил неизвестно кого, а может, самого себя Елбай. — По поводу работы с кадрами я хотел высказаться.
«Что-то серьезное вроде намечается, — подумал секретарь райкома и снова поднял ладонь, требуя от собрания тишины. — Хоть бы повернули, черти, в сторону от Сержанова. Сколько можно топтаться на месте?» Однако Елбай и на этот раз разочаровал Нажимова.
— Относиться к людям так нельзя. Просто безобразие! Даулетов в прошлом году покритиковал Сержанова, в этом году его назначают на место Ержана-ага. Что ж это выходит? Хочешь занять чужую должность, начни поносить человека. Так, что ли?
Крикнули с места:
— Покритикуй, покритикуй Даулетова, на следующий год станешь директором вместо него!
Да, смешливый народ эти жаналыкцы. Им только слово забавное брось — тут же покатились со смеху. Нажимов стал стучать карандашом по столу, и так громко, что стук, кажется, разнесся по всей степи. Когда жаналыкцы успокоились, он спросил Елбая:
— Все?
— Как все? — развел тот руками. — Я только начинаю.
— С этого не начинают, — грубо оборвал Елбая секретарь. — Этим кончают. — И обратился к собранию: — Кто еще хочет высказаться?
— Пусть говорит Косжанов! — зашумели вокруг, — Хотим слушать Елбая. Давай, давай, братец! Руби под корень!
— Чего рубить-то? — поднял изумленно брови бригадир. — Не надо ничего рубить. Просто надоела несправедливость. Правильно сказал наш секретарь Нажимов: с этим надо кончать!
— Не «с этим», а «этим», — поправил Нажимов.
— Все равно, — кивнул бригадир. — Надо кончать… По-солдатски печатая звонко шаг, как вышел, так и вернулся на место Елбай. Возвращение сопровождалось дружными аплодисментами. Сколько ни призывал секретарь райкома высказаться по существу, но разговор все равно шел самотеком.
Впрочем, в том-то и пряталась суть, что довольны жаналыкцы и собой и своим старым директором, ничего другого и никого другого они не хотят. Их за глаза просватали, согласия не спросили, а теперь калым плати. Нет, они так не желают. Если человека даже в рай тащить против его воли, за шиворот, то он и тогда отбиваться станет. А тут ведь не рай сулят, тут еще поглядеть надо, как дело обернется. Понимали это все — и Даулетов, и Сержанов, и Нажимов, — но относились к происходящему по-разному. Неуправляемое собрание тревожило Даулетова, радовало Сержанова, а Нажимова раздражало.
— Чепуха! — вдруг прозвучало странное слово. С самого последнего ряда. Даже не ряда, из-за скамеек, где уже не было никаких рядов, просто толпились люди. Там стоял человек, невероятно худой и невероятно белый. Усы и то у него были серебристые. Наверное, потому, что на них как раз падало солнце. Вообще он был наполовину освещен, наполовину затенен.
— Чепуха! — повторил он. — Сколько ни критикуй Елбай Даулетова, а не стать Елбаю директором совхоза.
— Кто-то просит слова? — оживился Нажимов. Белоусый махнул рукой:
— Я уже взял его.
Не торопясь он прошел к столу и хрипловато объявил председателю собрания:
— Худайберген мое имя… Рабочий, как сейчас говорят, а на самом деле дехканин. Для вас говорю, остальные меня знают.
— Пожалуйста, пожалуйста! — закивал дружелюбно Нажимов. — Говорите, Худайберген-ага!
— Сегодня я доволен Сержановым…
— А раньше? — хихикнули в толпе.
— Раньше не всегда… Это тоже все знают. А почему я доволен? Правильно сделал, что ушел сам! Значит, понял все. А то еще бы десять лет просидел, и никто его не снял бы.
— Одобряю Сержанова! — И, помолчав, добавил: — Теперь пусть уходит и Завмаг.
От неожиданности пооткрывали рты жаналыкцы. Вообще-то долговязый Худайберген всегда говорил необычные вещи. Но то в поле, на улице, реже в конторе. На собраниях же, при огромном стечении людей, он только качал головой и вздыхал сокрушенно. А тут перед всем совхозом, перед районным начальством разговорился. Развязал язык. Как и все жаналыкцы, умел Худайберген ввернуть острое словцо, а вот сегодня не ввернул. Серьезно говорил, строго…
Сержанов тоже удивился, хотя не раскрыл рта, не уставился на долговязого Худайбергена. Огорчил его старик, унизил вроде перед людьми и перед начальством. Кинул камень вслед уходящему. Увесистый камень.
Даулетов же, слушая Худайбергена, оживился. Нашелся среди этих насмешливых и упрямых жаналыкцев человек, ищущий ветра перемен и намеревающийся плыть куда-то. Жаль, конечно, что человек уже стар, что время отняло у него силы… Но, слава богу, нашелся все же.
Секретарь райкома ни про камень, ни про ветер не подумал. Прошлое и будущее его мало интересовали сейчас. Собрание вроде начало входить в нужное русло. Люди вроде начали привечать нового директора, которого привез он из областного центра по указанию секретаря обкома, и если так, то миссию свою скоро можно считать выполненной.
Не обманул надежд Нажимова старый Худайберген. Пошел дальше, чем предполагал секретарь райкома.
— Уж коль скоро назначили нового директора, я обращусь к нему с просьбой, которую приносил не раз Сержанову, да все зря.
Даулетов воспользовался случаем и закивал обещающе: мол, просите, уважаемый, сделаю все, что в моих силах. Поторопился, однако. Странной была просьба старого Худайбергена.
— Надо бы оградить кладбище с южной стороны аула. Пасется на головах наших предков аульный скот. Козы и бараны — эти так вовсе оттуда не уходят. Стонут небось души-то умерших. А ведь они когда-то были как мы и думали о делах, о нас думали. А мы о них, выходит, не думаем. Лечь всем придется, рано или поздно. Куда ж денешься? Но когда представишь себе копыта коров и овец, мнущих твою могилу, умирать противно…
Ввернул все-таки смешные слова Худайберген, оказавшиеся, правда, на языке по весьма печальному поводу. Повод печальный не помешал жаналыкцам весело рассмеяться. Нажимов тоже засмеялся, и Даулетов засмеялся. Не смог сдержать себя и хмурый, торжественный Сержанов. Заискрились смешинки в раскосых глазах его. Он ведь тоже был жаналык-цем.
— Еще я хотел, — продолжал между тем Худайберген, — попросить у нового директора воды. Посевы истомились. Рано в этом году распалилось солнце. Пить им хочется. Так что воды надо дать.
«Все же чудной старик, — теперь и Даулетов это понял. — У кого просит воды? У директора. А что я, бог, что ли? Откуда взять воду? Аму и та опустела, курица вброд перейдет великую реку. А если нет ее в Аму, откуда возьмешь?»
Однако просит старик. Поля просят. Не утолишь жажду, тогда зачем пришел, для чего занял место Сержанова? Сержанов небось умел добывать воду.
Вот незадача-то. Как быть? Что ответить? Сказать «нет» — разочаруешь людей, веру старика сгубишь. Он ведь явился на собрание не как другие, поболтать, повеселить ауль-чан. Он боль принес. Сказать «да» — обмануть всех и себя первого. Ничего не сказать — холод, равнодушие посеять в сердцах жаналыкцев. Подумают: ни рыба ни мясо новый директор.
Наверное, так и подумали. Молча дослушали Худайбергена, глянули на Даулетова: как он насчет воды? Убедились, что никак, и отвернулись.
Сзади, там, где стоял старик Худайберген, поднялась рука. Попросил слово Завмаг. Аульчане оживились. Завмаг выступал редко, в особых случаях. Сегодня, видно, был такой случай. Уходил с директорского поста друг и благодетель Завмага, а значит, уходил и сам Завмаг. Что он без Сержанова, все равно что хвост без коня.
Заволновались жаналыкцы: куда этот хвост прилепится, от кого станет отгонять мух? Или пойдет за конем и он? Хвост-то бог пристроил к определенному месту. И оторваться ему никак нельзя. Оторвется — это уже не хвост, а конский волос для щетки.
Что хитер Завмаг, знали все. Кого хочешь вокруг пальца обведет. Не было человека, которого он не сумел бы убедить, что овца весит больше верблюда, Жаналыкцы обернулись назад, туда, где стоял Завмаг, желая определить по лицу его, что придумал он сегодня и кого собирается обводить вокруг пальца.
С виду-то Завмаг был простак простаком. Да и чудаковатый к тому же. Кто летом, в жару саратанскую, надевает темный костюм, повязывается галстуком и сует ноги в теплые ботинки? Только он — кто ж еще? Впрочем, и зимой жаналыкцы не носят костюмы и галстуки. Завмаг носит. И носит при этом один и тот же костюм, и до того засаленный, будто именно об него вытирал он жирные пальцы после всех яств, которые поглощал в невероятном количестве в течение года. Впрочем, суть не в костюме и не в галстуке. Суть в самом человеке, к которому никто не относится с почтением и который, однако же, кажется всем значительнее, чем он есть на самом деле. Это та самая овца, что весит больше верблюда.
— Друзья! — начал Завмаг, вытирая пот с круглого и румяного, как свежий хлебец, лица.
— Пройди вперед! — пригласил Завмага Нажимов. Знал он, как верен Завмаг Сержанову и как умеет смазывать маслом каждое слово, произносимое в его адрес. Пусть на прощание еще раз разольет масло, порадует сердце бедного друга.
— Благодарю! — склонил голову Завмаг. — Однако не привык к почету. Здесь, на скромном месте, мне как-то привычнее. Маленькому человеку не следует становиться в ряд с великими. Нескромно…
— Как знаешь, — согласился секретарь райкома. — Только говори громче, чтоб все слышали!
— Это мы можем, — опять склонил голову Завмаг.
Он в самом деле мог говорить громко. В магазине, когда стоит очередь и шумно, как на водопое, Завмаг своим зычным баритоном перекрывал все голоса.
— Вот тут Худайберген выступил в защиту мертвецов, мол, им там, в раю, видите ли, наши коровы мешают наслаждаться радостями загробной жизни, стучат по головам копытами. Это как же, друзья, понять? Мы что же, должны помогать несуществующему богу в укреплении веры? Конечно, Худайберген должен думать о рае, в восемьдесят лет другие мысли в голову не приходят. К тому же и имя у него такое — Худайберген. «Худай» — бог, «берген» — дал. Бог дал! Бог дал на этом свете, значит, даст и на том. Пусть Худайберген думает о рае на небе, мы, товарищи, должны думать о рае на земле. Создавать его. Вот новый директор, я уверен, позаботится об этом. Он для того и назначен, и мы все должны быть его помощниками. С помощниками ему легче будет делать, что указано вышестоящими организациями…
Ахнул Нажимов. Вот так Завмаг, вот так преданный друг Сержанова! Ой стервец, перебежчик! С каким бы наслаждением отчитал он сейчас это ничтожество. Только вот за что отчитывать? Правильно ведь говорил Завмаг о помощи новому директору, о религиозных предрассудках вроде тоже верно. Один промах у Завмага: старика обидел. Это хорошо… За старика я ему и дам как следует.
Решив отчитать изменника, секретарь, однако, тут же отказался от своего намерения. Начав за упокой Сержанова, Завмаг неожиданно кончил во здравие.
— Друзья! — обратился он к жаналыкцам. — Мы все должны стать помощниками товарища Даулетова. И первым помощником, я думаю, станет Ержан-ага. Кто лучше него знает хозяйство, чей опыт обеспечивает благополучие «Жаналыка»? Кому дороже эта прекрасная земля? Думаю, что выражу желание всех, если цредложу сделать Ержана-ага заместителем товарища Даулетова. Лучшего заместителя вы не найдете во всей области.
Да, пришлось снова ахнуть секретарю райкома. Теперь от удовольствия. На уровне оказался пройдоха Завмаг. Не полный ненависти, а добрый и благодарный взгляд кинул он Завмагу. И тем еще более ободрил его.
— С таким директором, как вы, товарищ Даулетов, и с таким заместителем, как товарищ Сержанов, — выкрикнул он как лозунг, — мы быстро пойдем вперед к намеченной цели!
Жаналыкцы зашумели весело, по-доброму. Вроде бы выдохнули таившееся в груди и теперь хотели, чтобы это доброе предложение приняли сидевшие за столом. Кто-то не выдержал и крикнул:
— Ой, как хорошо!
Нажимов мгновенно сориентировался. Был самый подходящий момент для смелого хода. Он закивал, соглашаясь с жаналыкцами, и повернулся к Даулетову:
— Жаксылык Даулетович, надо отвечать!
Не готов был Даулетов к ответу, слишком уж неожиданным оказалось предложение жаналыкцев. Не было времени для раздумий. Не было повода для отказа. Чувствовал, что не легко ему будет с Сержановым, но чувствовал также, что и без Сержанова, по крайней мере на первых порах, тоже невозможно. Да и народ не потерпит директора, который не считается с людьми.
Пересиливая себя, перемогая сомнения, Даулетов сказал:
— Отказываться от помощи опытного человека неразумно, к тому же от человека, поднявшего «Жаналык»… Однако как отнесется к этому сам Ержан-ага?
Теперь секретарь райкома посмотрел на Сержанова. С надеждой посмотрел. Птица счастья летела к нему. Не спугнет ли своим упрямством и своей обидой? Даст ли сесть на плечо?
Сержанов встал. Большой, грузный. Суровый, как всегда. И, как всегда, непроницаемый. Если бы не слеза в его узких глазах, не угадать бы никому, что творится с Сержановым. Слеза и в голосе прозвучала:
— Родные мои… Спасибо, спасибо, родные… Да я ведь для вас… Я для вас все отдам! — Сержанов говорил негромко. Так негромко, что не услышали бы и в первом ряду. Но тишина стояла невероятная. Не только в первом, но и в последнем ряду уловили каждое слово.
Приложил руки к груди Сержанов, поклонился жаналыкцам и вышел из-за стола.
Не сразу поняли люди, зачем вышел. И почему подался прочь от трех карагачей. А вот когда направился к аулу, догадались: домой идет Сержанов. Домой, потому что трудно ему сейчас быть на людях.
2
Сержанов ввалился в дом. Буквально ввалился какой-то неестественной расшатанной походкой, и казалось, что его грузное тело вот-вот потеряет равновесие. Он едва не зацепился за порог и, входя в комнату, стукнулся плечом о дверной косяк. Потом шлепнулся на диван, поднял голову и взглянул на жену пусто и ошарашенно.
Хмельным, и изрядно, показался он Фариде. Всяким видела она мужа за тридцать-то лет, знала, что мог он выпить, и поболе других мог, но никогда не расслаблялся. Да уж если и «принимал», то только дома или в отъезде — тогда шофер подвозил его прямо к калитке, чтобы никто, не дай бог, не заметил. Появляться же на людях, пусть даже не пьяным, лишь под хмельком, хоть бы и в большие праздники — нет, этого Ержан себе не позволял. Ни разу. А тут? Забеспокоилась Фа-рида. Уж не стряслось ли чего? Да и где напился, не на собрании же? А Сержанов все глядел на жену тем же странным взглядом и вдруг, словно очнувшись, улыбнулся:
— Помогли, родные, спасли, спасли. Наши спасли. Фарида не поняла, кого он назвал «родными». У самого
Ержана остались только брат да племянница, но и с ними он давно уже не знался. В разладе они с братом, считай, лет восемь, а то и дольше. Ее же, Фариды, многочисленная родня жила далеко от Жаналыка — в Казани и Уфе. Всякий раз, когда Ержан хотел похвалить ее, он говорил: «Лучше татарки не сыщешь жены» или «Умнее татарок кого найдешь?». И не зря хвалил — она действительно была расторопной, домовитой и житейски мудрой. Единственное, чего не смогла дать мужу, так это сына. Родила ему шестерых дочерей, хоть каждый раз он ждал мальчика. Но и дочери давно повырастали, повыходили замуж и разлетелись кто куда, и вот уже несколько лет их большой шестикомнатный дом печалил Фариду избытком пустоты. Ержан целыми днями пропадал на работе, а она сновала по дому, прибиралась по привычке, но ее утомляла бессмысленность уборки нежилых, обезлюдевших комнат. Им-то хватало и двух, ну трех от силы; когда приезжали редкие гости из района или области — аульчан Ержан никогда к себе не приглашал, — оживала третья комната — просторная столовая. А так обычно муж и завтракал и ужинал у себя в кабинете (обедать ему всегда некогда), сама же она, как правило, ела на кухне. Не было у них в Жаналыке близких, и кого Ержан назвал «нашими», уразуметь она не могла. Не говорил он так прежде. Мог сказать «мои молодцы», «мои джигиты», если подчиненные радовали его, и, напротив, «мои-то, мерзавцы, что натворили…» или «мои олухи опять напортачили…».
— Кто спас? Какие родные? Какие наши?
— Да, наши — жаналыкцы.
— Ты будешь говорить толком или нет? — начала она сердиться.
— Я и говорю. Спасли, говорю, не дали, говорю, уйти из совхоза.
— Ой-бей! А я-то думала: о чем он? Тут и волноваться нечего было. Я же говорила, не переживай зря, не освободят тебя, не посмеют.
— Посмели.
— Как то есть посмели? — приняла воинственный вид Фарида. Будто собиралась отчитывать мужа. Руки уперла в бока. — Как то есть?..
— А так. Объявили решение бюро обкома об освобождении Сержанова и назначении Даулетова.
— Но… но… — выдавила Фарида. — Ты же сказал, что не дали уйти… Не дали!
— Из совхоза не дали уйти. Так я сказал — и не солгал.
— Пьян ты, что ли?!
— Пьян… Только не от вина. От тоски, Фарида. А напиться надо бы. Ой, как надо… Да не отчаивайся ты, глупая. Мне тоскливо… но хорошо. Хорошо, понимаешь!
В ладони, глухо, как в платок, она спросила:
— Кем же остался? Сторожем или пастухом?
Не обиделся Сержанов, хотя издевательски прозвучало это «кем?». Усмехнулся и покачал головой:
— Сторожем вроде…
— Да ты в самом деле не пьян ли?
Он тяжело поднялся и прошел к буфету. Стал шарить по полкам, отыскивая графин.
— Буду пьян, обещал же… Есть у нас что-нибудь?
— Сторожам ли пить перед вахтой!
— На вахту-то заступать завтра. Сегодня я вольный джигит.
— Вольный джигит из тебя, Ержан, не получится. Слишком привык к креслу начальника.
— И не собираюсь отвыкать… Надоели Фариде загадки.
— Морочишь мне голову! Говори, кем оставили?
— Сторожем. Буду оберегать Даулетова от промахов и ошибок.
— Э-э, заладил — сторож, сторож… Говори точно.
— Зам директора, — признался наконец Сержанов. Молча посмотрела Фарида на мужа, то ли пожалела, то
ли осудила — не разберешь. Потом положила свою маленькую, но крепкую ладонь на его кулачище.
— Тяжела тебе будет приставка, Ержан, — только это и сказала. Повернулась, пошла на кухню.
Возбуждение все еще не покидало Сержанова — возбуждение, в котором странно смешались и радость, и тоска, и тревога. Ему требовалось что-то делать, немедленно, сейчас, сию секунду. Но что? Сел к столу. Снял колпачок авторучки. Покрутил. Снова надел и неожиданно для самого себя потянулся к телефону. Зачем? Еще не знал. Но, сняв трубку, понял, что хочет набрать директорский номер, и замешкался. Оказывается, забыл. Что за чертовщина? Палец завис над диском, ведь телефонные номера, особенно каждодневные, хранятся памятью руки, а не головы. Рука не помнила собственный номер. Сержанов никогда его не набирал. Никогда еще никто не отвечал по этому номеру, кроме него самого.
Вспомнил. Конечно же вспомнил. Но заминка словно обескуражила Сержанова, и потому, когда в трубке раздался голос Даулетова, Сержанов спросил не то, что хотел: — Власть на месте?..
Это прозвучало с иронией и одновременно жалко. Да и вообще не надо было спрашивать, что за глупость — через пятнадцать минут после собственного снятия звонить преемнику?
— Я не власть, Ержан Сержанович. — Даулетов его моментально узнал. — Я всего-навсего руководитель.
— Как же не власть? Ваш теперь «Жаналык».
— Не мой. Наш он.
Бессмысленный получался разговор, пустой. Но главное, как чудилось Сержанову, было не в словах, а в том, как они произносились. Даулетов будто успокаивал его. Так учитель наставительно-утешительным тоном разговаривает с расстроенным учеником. Может, это лишь казалось, но все равно Сержанов понял, что «приставка» уже начала тяготить его.
— Что собираетесь делать?.. — Сержанов никак не мог назвать своего нового начальника по имени-отчеству. Язык не поворачивался.
— Собираюсь ехать домой. В понедельник вернусь. С утра будет планерка. Там и поговорим. — Начальник деликатно намекал, что разговор пора кончать. Сержанов, быстро распрощавшись, положил трубку. Его слегка кольнуло это даулетовское «домой». Домом для того все еще была далекая городская квартира. «Чужак он, для аула — чужак. Так чужаком и останется», — решил Сержанов, и это его обрадовало, но в то же время и огорчило. Трудно жить под началом чужака.
Даулетов и впрямь собирался домой. Прощаясь с ним после собрания, Нажимов глянул на часы с календариком на циферблате:
— Что у нас сегодня? Так, четверг. Три дня на сборы вполне хватит. С понедельника пора приступать.
Нажимов говорил в такой странной безличной форме, потому что не знал, как обращаться к Даулетову. В своем районе он всем — разве что кроме совсем уж старых почтеннейших аксакалов — говорил только «ты». И многим это даже нравилось, ибо видели в этом нечто отеческое или дружеское — в общем, свойское. Более того, все знали: если к кому-то Нажимов обратился на «вы» — значит, жди разноса и нагоняя. Не собирался секретарь райкома делать исключения и для Даулетова. Но тут маленькая неувязка. Он слышал, как секретарь обкома говорил Даулетову «вы». Сразу после этого «тыкать», разумеется, нельзя. Потом, позже, все образуется, утрясется, попривыкнет и новый директор к нажимовским методам, но временно пришлось подыскивать другую форму общения. Искал недолго, опыт моментально подсказал — безличную: «необходимо сосредоточить усилия», «хорошо бы разобраться», «пора приступать» и тому подобное.
Уже смеркалось. В мае день долог. Солнце медленно-медленно ползет по бесконечному ровному небу, как груженая арба по степи, и кажется, никогда не дотянет до края. Но, подойдя к западу, начинает торопиться и, как под горку, скатывается за горизонт. Не успеешь оглянуться, смотришь, уже только малиновая полоска, но и она быстро бледнеет, желтеет, будто вянет. Минута — и не станет ее, хотя еще долго небо будет светиться бледной голубизной. Но с востока уже, как войлок на юрту, натягивается тьма.
После обеда Сержанова мигом одолела усталость, та самая, при которой страшно хочется спать, но и уснуть невмочь, а лежишь, чувствуя тяжесть собственного тела, и не только шевельнуться лень, лень даже веки опустить, лень взгляд перевести, и потому лежишь — полчаса? час? сам не знаешь сколько, — лежишь, уставясь в одну точку, и мысли тоже тяжелы и неподвижны.
Сержанов лежал у окна и смотрел, как по противоположной стене ползет кверху и тускнеет яркий прямоугольник. Вот добрался он до потолка, надломился и начал быстро гаснуть.
«Нельзя, нельзя было присылать сюда Даулетова, — думал он. — Разве же это непонятно? Кого угодно, только не его. Ну, ладно, решили снять, благо сам напросился — снимайте. Хотя ясно, что не напрашивался Сержанов, не собирался уходить. Припугнуть хотел. Цену себе набить, да просчитался, проторговался. Ладно, проиграл — снимайте. Но зачем же Даулетова? Неужто не понятно, что обидно это, оскорбительно? Кого угодно. Кого угодно, только не Даулетова», — повторял Сержанов и чувствовал, что мозг пробуксовывает, что заело пластинку, но дальше двинуться все же не мог.
Наконец двинулся: «А кого? Заместителя?» — тут Сержанов даже хохотнул в голос.
«В трех случаях мужчина должен быть уверен, что его не заменят: когда становится мужем, когда становится отцом и когда становится директором». Эту шутку он не сам придумал. Слышал ее. Запамятовал уже, от кого. Давно это было. Он тогда только-только женился и отцом еще не стал, а о директорстве мог лишь мечтать. И пожалуй, забыл бы Сержанов грубоватую шутку, кабы позже, сев в директорское кресло, не убедился в ее правоте. Хозяином может быть лишь один, а то получится не хозяйство, а одна сплошная бесхозяйственность. Это не работа, когда ты боишься, чтобы зам тебя не подсидел, а он боится, как бы ты не засиделся. Нет, не работа. В семье может быть только один отец, иначе это не семья, а срам сплошной.
Постепенно сами слова «зам директора» исчезли из совхоза. Если где еще и значились, так в штатном расписании да платежной ведомости. Даже в конторе не было таблички с этим словом, а была лишь безымянная дверь, за которой помещалась тесная конурка, обычно необитаемая. Но если в ней и появлялся временный постоялец, то одного взгляда на него уже хватало, чтобы понять, что никогда ему не «перейти коридор» и не осесть в кабинете, где на двери красовалось золотом по синему: «Директор совхоза «Жаналык» Сержанов Е. С.». Никогда!! А теперь за безымянной дверью должен поселиться сам Сержанов. Вот так-то… Да бог с ними, с замами. Что, в районе не нашлось бы подходящего человека? Сержанов стал уже прикидывать, кто именно из его районных знакомцев мог бы оказаться этим «подходящим», как вмиг осекся. Какой там район? Он же послал заявление в обком, минуя Нажимова. А в этом случае и претендента на его место искали в области.
— Ой-ой-ой!
Сержанов аж застонал, поскольку моментально понял, что никого, кроме Даулетова, там найти и не могли. Кто инспектировал совхоз? Кто критиковал Сержанова? Кто докладную писал и рекомендации в ней излагал? Кто знаком с «Жа-налыком»? Кого, наконец, сам он, Сержанов, упомянул в своем дурацком заявлении?
— Ой-ой-ой!
Хотел крикнуть, пугнуть волчонка, а тот на голос пошел. Так вот сам по собственному следу и привел его к своему гнезду. Сержанов даже вскочил от неожиданности. Во всем случившемся четко просматривалась какая-то прочная закономерность. Он не постигал, какая именно, как ее сформулировать, каким словом обозвать. Но то, что она есть и была — была, когда он сцепился с Даулетовым на курултае, была, когда писал это проклятое заявление, была, когда на собрании его предложили в замы к Даулетову, — была и сейчас есть и будет, а значит, дальше все предопределено, значит, то, что он делал, и то, что делает сейчас, сию секунду, все рано или поздно может обернуться против него. С того бока огреет, с какого и не ждешь. Это была какая-то общая закономерность, и именно общностью своей она пугала, поскольку Сержанов не любил и не понимал всех этих «общих рассусолива-ний», потому что был уверен, что жизнь состоит из частностей. Да, она трудна, но главное — неожиданна, внезапна. В любую минуту может такое отчудить, что только держись. Потому самое важное в жизни — уметь держаться. Дорога ли ухабиста, конь ли спотыкучий — все равно, но, если умеешь держаться, шею не сломаешь. Осмотрительность он всегда ценил выше предусмотрительности. Знай то, что рядом, что вокруг, а что там впереди — доедем — поглядим, поживем — узнаем. Узнаем — приспособимся, если есть осмотрительность. А тут вдруг, доживя почти до шестидесяти лет, Сержанов понял, что кроме миллиона частностей есть еще и какие-то общие закономерности, они, оказывается, тоже окружают его, и к ним тоже необходимо приспосабливаться.
«Это все рассусоливания. Все теории одни, — успокаивал он себя, чтобы сосредоточиться. — Поразвелось теоретиков. Умники все».
Мысль снова вернулась к Даулетову, потому что о н — уж точно из тех, из умников. Не должны, не должны они были его присылать. Не Даулетову сменять Сержанова. Ну что он умеет? Цифирки считать, слова мудреные без записки произносить: «структура», «социология», «экология». А доставать воду для полива, когда ее в районе кот наплакал? А выбивать фонды? Добывать горючку? Вырывать семена? Дефицит? Технику? Пиломатериалы? И прочее? Это он умеет?
А ладить с Нажимовым, приказывать Дамбаю, намекать Завмагу — это он может?
А планы, наконец, выполнять? Планы! По хлопку, по рису, по овощам, по бахчевым, по мясу, по молоку, по черт-те чему! Планы!! Основные, дополнительные, встречные-поперечные — каких планов только нет. И все нужно составлять, корректировать, утверждать, выполнять. Это кто за него делать будет? Сержанов? Сержанов! Для того и оставили.
Нет, братец Даулетов. Директор — это не чин. Это пост. Пост, как у солдата, как у сторожа, и я на этом посту, на страже простоял двадцать пять лет. Да, да, на страже. С двух сторон на тебя давят, а ты оберегай и тех и других.
Нажимов — этот давить умеет. Порой так прижмет, что масло сочится. А все на себя берешь… На людях зло не срываешь. Я снесу, а они пускай спокойно дело делают. Я всех оберегал: и Далбая, и Калбая, и даже того же Худайберге-на — будь он неладен, — совсем на старости из ума выжил. Но и он, хоть сказал обо мне плохие слова, не может, однако, пожаловаться, что когда-либо тряс я из него душу, как из меня наверху вытрясают.
Но и Нажимова от них тоже защищать нужно. Вон попробовал он сегодня народом покомандовать. Показали они ему, что такое кавардак по-жаналыкски. Как жареным запахло, так небось разом приуныл. Нет, Нажимовы людьми править не могут, они могут требовать лишь от таких, как я, а мы — такие, как я, — уже требуем от народа. Это наука, дорогой мой начальник Даулетов, наука посложней всех твоих экономик и экологии. Вот так-то. Не выдержит Даулетов. Не справится, Сержанову это совершенно ясно. Не понимал он другого: радует это его или тревожит? Вроде бы радует. Должно радовать. Наконец-то все — и там в области тоже — поймут, кто такой Сержанов и что он значит для «Жаналыка». Но ведь пока поймут, развалит Даулетов хозяйство, по ветру развеет и честь и богатство. Прахом пойдут все сержановские труды. Двадцать пять лет — считай, почти целая жизнь — и насмарку, ишаку под хвост…
Утром в контору Сержанов пришел, едва над степью поднялось солнце. Выбрал время, чтобы никто не видел, как отворяет он другую дверь. Не ту, что прямо, а ту, что сбоку, безымянную, не директорскую. Первый раз за двадцать пять лет не директорскую. И делать это унизительно и противно. Крадучись, озираясь на каждом десятом шагу, добрался он до конторы, а когда вошел в нее, вовсе смутился.
В приемной сидело человек пять. Надо же такому случиться? Явились ни свет ни заря со своими просьбами, жалобами и нуждами. Будто нарочно торопились поглядеть на позор Сержанова. Тяжела ноша освобожденного, тяжела «приставка».
Стал на перепутье: прямо идти в «свой» кабинет или направо — в замовский? Как назло, Фарида заставила надеть новый летний пиджак, и он мешал теперь Сержанову, смущал своей белизной, торжественностью.
Повернуть, что ли, назад, сделать вид, будто забыл дома ключи от двери? А люди смотрят на Сержанова, и непонятно, как смотрят, не то с усмешкой, не то с удивлением, не то с сочувствием. Впрочем, что тут тянуть? Надо — так надо! Поздоровался с людьми Сержанов, подошел к сидевшему на последнем от двери стуле старику и тронул его за плечо:
— Все моложе вас… Пойдемте!
Не прямо, направо повел посетителя и тем решил первую трудную задачу первого дня своего замства.
Кабинет был скромным. Впрочем, «скромный» — это громко сказано, да и кабинетом-то его назвать трудно. Полутемная комнатушка с одним подслеповатым окном. Выглядела она так убого и так мрачно, что Сержанову почудилось, будто входит он в чулан, в сараюшку для старого инвентаря. Обшарпанный стол. Где только его откопали? Стулья — дешевле не бывает. Занавески из пыльной поблекшей ткани. Кресло! Стыдно сесть в него. Рыжие пятна. Чайник на нем кипятили, что ли?
Сесть в пятнистое кресло все же пришлось: не стоя же принимать посетителей?
— В чем нужда? — спросил Сержанов старика, застывшего в почтительной позе у порога.
— Да хотел повысить себе пенсию. Право ведь имею… Всю жизнь в совхозе.
— Помню, помню. Но вы же приходили ко мне зимой. Я направил вас к человеку из собеса. Были у него?
— А как же, на другой день и поехал.
— И что же?
— Да что… Прогнал он меня.
— Как то есть прогнал? Старого уважаемого человека… Не имеет права!
— Прогнал, однако. Положил я ему на стол каракулевую шкурку, как вы советовали.
— На стол? — не поверил Сержанов.
— На стол. А куда же? Так в газетке и положил. Он спросил: «Что это?» Я ответил: «Очень дорогая вещь — каракуль для вас». А он выставил меня. Пригрозил еще и в милицию сдать…
Сержанов залился смехом:
— В милицию… Мог и сдать. Ну кто же так поступает? Сказали бы: «Сувенир. Он у нас копейки стоит…» И класть надо не на стол, а на подоконник.
Заморгал виновато глазами старик:
— Не сообразил…
— Вот-вот, а тут соображать надо!
— Что же теперь делать, Ержан-ага?
— Что делать? Снова ехать к нему.
— Прогонит, — усомнился в разумности совета старик.
— Одного прогонит, а если с приветом от меня, то оставит.
— Великая благодарность вам, директор! Великая… Проводив старика, Сержанов не без удовольствия отметил, что прежняя должность его все еще соединена с ним. И оговорившись, люди не считают это ошибкой. Он для них по-прежнему хозяин совхоза и аула.
— Заходите! Заходите! — стал приглашать ожидавших приема повеселевший Сержанов. — У кого какая нужда?
На гостеприимный призыв откликнулись сразу двое.
— В очередь, друзья!
— Мы вместе. Двоих за одного можно считать, и дело у нас общее. Вроде братьев мы, хоть и не братья, соседи только. Он Калмен, а я — Салмен.
Какое-то светлое оживление внесли в мрачный замдирек-торский кабинет эти два говорливых, загорелых до черноты человека, очень похожих друг на друга и тем опровергающих собственное заверение, что они только соседи.
— Отцы наши поставили дома рядом, — продолжал Салмен. — Родились мы оба в одну ночь и имена получили созвучные, как близнецы. Поэтому, когда слышали «Салмен» или «Калмен», откликались оба.
— Погодите! — остановил посетителя Сержанов.-~ Где же стоят ваши дома? Я что-то не видел в округе двух степняков, родившихся в одну ночь?
— А мы и не степняки, — ответил за Салмена Калмен. — Мы рыбаки. И дома наши на берегу Арала. Теперь хотим перенести их в совхоз.
— На берегу Арала, значит? — наконец понял Сержанов, кто перед ним. Понял и загорелся любопытством: — Не рядом ли с домами ваших отцов стоит дом старика Нур-жана?
— Какого Нуржана? — спросил Салмен.
На Арале Нуржанов без счета, — добавил Калмен.
— Нуржанов, может, и много, — пояснил Сержанов. — А Нуржан Сержанов, наверное, один?
— А-а! Нуржан Сержанов, верно, один! — кивнул Салмен. — Дом его, однако, не рядом…
— Совсем не рядом, — уточнил Калмен. — На лошади — полчаса, потом на лодке — час да пешком — два.
— Значит, нелегко добираться?
— Нелегко, — подтвердил Салмен.
— Главное, незачем, — махнул рукой Калмен. — Пустой дом. Покинул море старик.
— Что так? — наигранно удивился Сержанов.
— Человек для чего живет у моря? — принялся растолковывать Салмен. — Чтобы рыбу ловить. А если рыбы нет, то и ловить нечего.
— Куда ж девалась рыба? Салмен развел руками:
— Будто не знаете. Туда, куда и вода. Калмен поспешил с уточнениями:
— На три метра опустилось море. Где была вода, там теперь земля. На «Жигулях» ехать можно.
— А за рыбой мы теперь не на лодке — на самолете отправляемся. Летаем бригадами на Судачье озеро. Разве это дело? Стоял наш аул на берегу, а теперь до берега час ходьбы. Бросают люди Арал.
— И вы тоже?
— И мы тоже, — за обоих ответил Салмен.
— К нам, значит, хотите?
— К вам, Ержан-ага, в «Жаналык».
Сержанов откинулся на спинку пятнистого кресла и, будто размышляя и взвешивая, уставился в потолок, такой же задымленный и пятнистый, как кресло.
— В «Жаналык», говорите… А что делать умеете, соседи-близнецы?
— Рыбу ловить, — не задумываясь объявил Калмен.
— Вот видите, рыбу ловить. А где в «Жаналыке» рыба? Нет в «Жаналыке» рыбы. Есть хлопок, есть рис… Можете растить хлопок? Нет. Рис? Тем более…
Опустив головы, «близнецы» слушали Сержанова. Верно, они не умели растить хлопок и рис.
— Вас ведь даже на прополку и уборку не бросали.
— Не бросали, — подтвердил Калмен не без гордости. — У вас «белое золото», у нас «живое серебро» — тоже драгоценность. У вас страда, у нас путина, тоже каждый человек на счету.
— Вот именно. Так куда же мне вас?
— Но все говорят, что в сельском хозяйстве люди нужны.
— Неверно говорят, — отрезал Сержанов. — Не нужны мне люди. Руки нужны.
— Руки без ног сами не придут, — улыбнулся Салмен.
— А ногам без тела на чем держаться? — подхватил Калмен.
— А тело без головы, сами знаете…
— А голова, да если знает кому принадлежит, — это уже человек.
— Не так ли, Ержан-ага?
— Ох, балагуры! — улыбнулся Сержанов, но тут же посерьезнел. — Человек требует: дай жилье, товар в магазин завези, детсад построй, место в школе для ребят дай, дай побольше заработок, бюллетень дай, пенсию помоги оформить. Этих просьб мне хватает во как, — он провел ладонью над теменем. — Мне рук в хозяйстве не хватает, да сноровистых рук, чтоб один за двоих успевал, а вы пока вдвоем на хлопке за одного не потянете. Последуйте примеру старого Нуржана! — нравоучительно заключил Сержанов. — У покидающих море один путь…
— А какой путь старого Нуржана? — поинтересовался Салмен.
— Тот, что ведет в город.
— Дальняя это дорога, — вздохнул Калмен.
— Зато верная. Там и дело найдете, и кров получите. Да торопитесь! — встал из-за стола Сержанов. — Утром машины идут в райцентр, какая-нибудь вас захватит…
«Канительное это дело, однако, собирать народ, — устало зевнул Сержанов. — Неизвестно, когда обопрешься на него, да и обопрешься ли!»
Ушли рыбаки, место их заняли двое жаналыкцев. Один собирался женить сына, и ему были нужны кое-какие дефицитные товары для молодых. Без содействия директора в магазине их не получишь. Второй торопился на похороны старика свата и просил машину.
Вроде бы не дело Сержанова распределять магазинный товар. Ну да это как судить. Дефицит на то и дефицит, что хотят его все, но не каждый получает. Кому же получать? Тому, кто первый в очередь прибежал? Так что же выходит: один будет пахать, а другой по очередям бегать и в выигрыше окажется? Ну уж нет. Сержанов ввел порядок: редкий товар продавать тем, у кого заслуги перед совхозом. Но тут другой вопрос: всегда ли он знал, где какая заслуга, где перед совхозом, а где перед директором? Не путал ли? Может, и путал, кто ж без греха, но порядка придерживался строго, потому и стал Завмаг практически вторым в ауле человеком после Сержанова.
Все решил за несколько минут. Снял трубку, позвонил на склад магазина. Подумал еще чуток и расщедрился — набрал номер райпо. Там все свои. Ничего не стоит добыть отцу жениха приличный костюм и пару импортных туфель. Ну, а с беднягой, потерявшим свата, еще проще. Дал команду в гараж, и через час машина будет у конторы, а с шофером пусть сам договаривается.
— Появится какая надобность, — провожая просителей, сказал душевно Сержанов, — вы уж не обижайте руководство молчанием. Прямиком ко мне. Сделаю все, что могу.
Себя не узнавал в то утро Сержанов. Ну, а жаналыкцы его и подавно не узнавали.
Вернулся в кабинет, противный, похожий на сарай, влез в потертое кресло. С его ростом и его весом так просто не сядешь, втискиваться приходится между подлокотниками. Лучше бы устроиться на просторном диване, так дивана в этом сарае нет.
Тесно, неуютно показалось Сержанову в кресле. Он поднялся и стал ходить по кабинету. В такой час не по кабинету бы надо ходить, вымерять его шагами, а по аулу, по фермам, по мастерским. Время-то к девяти, рабочий день давно начался. Да нельзя. Сунешься на ферму, Даулетов скажет: «Э-э, забегает вперед заместитель. Место свое забыл? Оно за лошадью хозяина!»
Горечь снова подступила к сердцу. Заныло оно. «Выдержу ли? — спросил себя Сержанов. — Смогу ли быть стремянным Даулетова? Ой, вряд ли!»
Робко постучали в дверь. Так робко, словно человек ногтями скребется. Ногтем стучал только Завмаг, ногти-то у него длинные, острые.
Отвечать не надо было. Завмаг не для того стучал, чтобы испросить разрешения войти, а для того, чтобы предупредить Сержанова о своем появлении. И если кто-то находится в кабинете, то пусть Сержанов начнет говорить громко, и не зайдет он, если нет никого — пронырнет.
Сержанов распахнул дверь и впустил Завмага.
— Ну что? — спросил он.
— А ничего, — улыбаясь и щуря лукаво глаза, ответил Завмаг. — Я хотел сказать — всё!
— Ой, шакал.
— А нет. Шакал ходит за волком, я хожу за барсом. Ухватываете разницу?
— Ухватываю, — засмеялся Сержанов. Польстило ему сравнение. Вовремя подкинул бестия приятное слово. Вовремя!
И все же злился Сержанов на Завмага и злился тем сильнее, что чувствовал: должен быть благодарен ему за поддержку, за хитроумный совет избрать его, Сержанова, замом, но благодаря тому же Завмагу попал Сержанов в это тягостное, двусмысленное положение.
— Не сердитесь на меня за вчерашнее, — пройдоха Завмаг умел иногда угадывать мысли. — Другого выбора не было. И не переживайте. Новый директор один год продержится на том, что будет ругать вас. Второй на том, что будет обещать свое. А на третий год — слетит. И вы перейдете через коридор в соседний кабинет.
— Так-то оно так. Да за три года он все завалит.
— А надо помогать молодому специалисту. — Слово «помогать» он произнес особенно паскудно.
— Что помогать?! — взъярился Сержанов.
— Хозяйство заваливать?!
— Нет. Самому завалиться.
— Не бывает так, братец Завмаг, чтобы конь споткнулся, а воз не колыхнулся.
— Ему надо помочь не только упасть, но и осознать свои ошибки. Если Даулетов мог писать докладные, то не один же он грамотный. В наше время все писать умеют. И если вы писали заявление о своем уходе, то и он такое же заявление написать сумеет. Если помочь молодому специалисту. Вовремя помочь. Чтоб не сделал еще больших ошибок.
3
Он уехал буквально через пять минут после того нелепого разговора с Сержановым. У Даулетова была своя машина — старенький «Москвич», не ахти какого вида, серо-желтый, с большим пятном на крыле — след наезда, но вполне исправный и, главное, привычный и безотказный в любую погоду и на любой дороге.
Сразу за границами совхоза начиналась песчаная степь, что тянулась от центра области до самого Арала. Черная вспотевшая от жары лента асфальта — совершенно прямая, ей незачем крутиться на этой ровной земле; прямые русла каналов и дренажных коллекторов; серо-коричневый песок и блеклое, выцветшее от зноя небо. Утомительный пейзаж, и если бы не столбы, с равной частотой мелькающие перед глазами, то через полчаса создалось бы впечатление, что ты и не едешь вовсе, а стоишь, и весь пейзаж застыл на месте, и только лента шоссе крутится, как лента тренажера.
Но смотреть на степь с высоты водительского кресла — то же, что любоваться картиной, разглядывая ее с торца. Красота степи не для автомобильного пассажира, она для всадника, для верхового. Когда останавливает человек коня и привстает на стременах, чтобы лучше разглядеть и темную зелень карагача, и фиолетовые вспышки тамариска по низинам, и легкую, как дым, крону одинокого джузгуна, что притулился где-то около редкой воды, и слепящий иней солончака, и сочную поливную зелень полей у горизонта — и весь этот необъятный, беспредельный простор, от которого перехватывает дух, — хочется распрямиться, вдохнуть воздуха столько, сколько сможет вместить грудь, и выдохнуть его разом в едином отчаянно-восторженном крике: «У-у-у-уо-оу-а-а-а!!»
Кому кричать? Ведь нет же ни души. Насколько глаз хватает — только просвеченный солнцем воздух да прогретый солнцем песок. Кому кричать?
Коню, что вздрогнет, прижмет уши, сверкнет испуганным глазом и полетит, не ища дороги, теша скоростью и себя и седока.
Себе. Чтоб в ушах зазвенело от силы собственного голоса, чтоб горло надсадить каленым воздухом простора!
Миру, чтобы знал он, что есть ты в этом раздолье!
А был бы бог — так и богу!
Еще лучше видна степь с холма, что находился километрах в двадцати от совхоза и назывался Пески старой Айлар… Оказываясь поблизости, Даулетов каждый раз непременно подходил к нему, но «разов» этих в последние годы выпадало непростительно мало. Вот и утром, проезжая с Нажимовым, он не стал останавливаться у холма. Не хотел объяснять, для чего это делает, да и не объяснишь все постороннему человеку. Но, будь Нажимов и не посторонним, все равно не объяснил бы, ведь есть вещи, которые и близким не надо рассказывать, должно быть у человека что-то свое, личное, что только с ним связано на этом свете, с ним и уйдет из мира.
Высок ли холм? Да нет, наверное. В другом краю его, пожалуй, и взгорком не назвали бы. Но здесь, в степи, он был высотой, был вершиной. На его ближнем к дороге склоне лежало старое кладбище. А там, за хребтом, скрывался аул. Родной аул Даулетова.
Пески старой Айлар. Не отыщешь такого названия ни в путеводителях, ни на картах. Но карты — бумага, а на бумаге не все сущее означено. А на земле, жилой, населенной, обитаемой земле, нет безымянных мест. Не только высота, лес, арык, но и каждая ложбинка в округе, каждое болотце, каждый солончак носили свое имя — собственное. Однако аул давно обезлюдел, на десять километров окрест ни единого селения, и помнит ли кто-нибудь, что холм этот зовется Пески старой Айлар, — этого Даулетов не знал. Сам же он помнил, потому что старая Айлар была его бабушкой. И с этим холмом связано все его детство.
Детство. Теперь он и сам отец. Заглядывая в мир дочери — маленькой Айлар, он видит в нем много яркой пестроты и веселых песенок. Читая ей книги, смотря с ней «мультики», он чувствует, что мир этот населен говорящими зверьками, куклами и маленькими писклявыми потешными человечками. Там у каждой вещи маленькое ласковое имя. Его детство было другим. Все называлось словами большими и грозными: Война, Голод, Смерть, Жизнь, Победа. Не «конфетки, кашки и бульончики», а была просто еда. Но чаще еды не было. Не «папочка, мамочка», а просто отец и мать. Но и их тоже не было — было сиротство.
Своей матери Даулетов не видел. Она умерла на четвертый день после родов. Отец назвал первенца Рамберды. Не нравилось это имя старой Айлар. Не любила она имен, ничего не говорящих людям.
— Человек приходит в мир один раз, и все должны знать, с чем он пришел.
Не нравилось, но спорить не стала: покуда в доме есть мужчины, выбор имени — дело мужчин.
Отца своего Даулетов тоже не помнит. Ушел человек на войну, а через три года вместо него пришла с войны черная бумага. Бабушка читать не умела. Черную бумагу принес однорукий председатель аулсовета. Он же сказал, что в ней написано. Старая Айлар прижалась спиной к стене, обхватила голову внука. Он ткнулся щекой в ее живот, а она все гладила Даулетова по волосам и приговаривала:
— Поплачь, поплачь. Легче станет.
Но он не плакал. Он смотрел и никак не мог понять, почему бумага зовется черной. Белой она была. Белой.
Нагнулась старая Айлар, взяла внука на руки, пошла через аул. Медленно. Прямо. Ни на кого не глядя. Но аульчане, те, кто заметил ее и понял, что нельзя оставлять человека в такую минуту, потянулись следом. Она поднималась на холм. С трудом поднималась. Тяжело дышала внуку в лицо, но не опустила на землю, пока не добралась до вершины, там она поставила его лицом к аулу и крикнула:
— Люди! Мне нужна доброта. И вам нужна — я знаю! Нужна как вода земле. Люди! Отныне имя моего внука Жаксылык.[3] Жаксылык сын Даулета. Не говорите Рамберды, говорите Жаксылык!
Она подтолкнула его вперед и так громко, насколько хватало ее старческого голоса, трижды повторила:
— Жаксылык! Жаксылык!! Жаксылык!! — Жаксылык, Жаксылык, — тихим и нестройным эхом отозвалась толпа на склоне холма.
Так родилось новое имя, родилось на четыре года позже самого человека. Но, появившись на свет, оно еще не стало общеизвестным, и потому чуть ли не всю неделю ходила старая Айлар на холм и кричала:
— Не говорите Рамберды! Говорите Жаксылык!
На пятый день, а пятым днем была пятница (хотя по мусульманскому календарю ее следует считать седьмым, но кто в те годы уже сверялся с Кораном), вновь в их дом пришел председатель аулсовета.
— Не надо кричать, бабушка Айлар. Зайди лучше ко мне. Я выправлю внуку метрики. Жаксылык — хорошее имя.
Старая женщина изо всех сил тянула внука. Но сил этих было уже мало, и часто, наработавшись за день, утром она не могла подняться с постели. Тогда начинался голод. Соседи навещали и помогали, но что они могли? В каждом доме ртов было больше, чем лепешек из джугары.
Голод — это тупая боль в животе, и в голове лишь одна мысль, тоже тупая и неотвязная: «Хочу есть».
Голод. Казалось, что он ушел навсегда. Но нет, он ушел из желудка, но растворился в позвоночнике, в костях, в мышцах. Это он был главным юношеским страхом — а вдруг не вырасту, так и останусь «метр с кепкой», «расчет окончен». Это он обернулся все еще не прошедшей боязнью — здоровой ли родилась дочка? Это он в сорок лет покалывает слева под ребром.
Голод. Тогда шел четвертый день голода. Жаксылык не помнил, как ушел из аула, зачем сперва взобрался на холм, а потом спустился к дороге. Он сидел на обочине. То ли зноем разморило, то ли разум помутился, но человека он увидел уже рядом. Увидел и испугался. Никогда прежде он не встречал одноногих. Солдат выбрасывал далеко вперед костыли, потом падал на них грудью, пролетал над дорогой, вытянув единственную ногу, на какое-то мгновенье, почти опрокинувшись на спину, зависал, упершись вывернутыми руками в поручни, выпрямлялся и снова выбрасывал вперед костыли. Лицо черно от загара, пота и пыли, нижняя губа закушена, верхняя ощерилась, обнажая зубы. Страшен был солдат. Но, поравнявшись с Жаксылыком, он вдруг обернулся и улыбнулся..
Вскочил Жаксылык, кинулся к нему, ухватился за костыль и крикнул:
— Дай хлеба! — и услышал, что был это не крик, а хрип. Человек остановился, сунул оба костыля под одну руку
и начал снимать мешок. Снял, дернул узел зубами и одной рукой вынул буханку. Большую черную, тяжелую.
— Сейчас мы ее по-фронтовому, по-братски, — сказал солдат и полез в карман за ножом. — Подержи-ка, — и передал всю буханку Жаксылыку.
Жаксылык прижал ее и рванул что есть мочи через кладбище, прямиком, по жантачным колючкам, бежал, не оборачиваясь и сжав зубы, — скорее, скорее туда за холм, в аул, туда, где четвертый день голодает больная бабушка.
Пески старой Айлар. Бабушка, бабушка. Она считала, что этот холм пуп земли, высшая вершина мира, ближе всех он к небу, а значит, и к богу. Суеверна и набожна она была, потому и ходила сюда часто и со всевышним подолгу говорила. А вот с людьми была немногословна.
Пуп земли? Да, для него, Даулетова, это так. И не потому, что не видел гор повыше, видел и даже взбирался на них, но здесь, на склоне этого холма, на вот этом старом кладбище, за полуосыпавшейся оградой среди обветшавших мазаров две родные могилы — матери и бабушки. Именно здесь, на этих песках, он понимает, да нет, чувствует, в том-то и суть, что всей душой чувствует: не чужак он на своей земле, а родня ей, пуповиной, с ней связан и будет связан, пока тоже не ляжет в землю, и хорошо бы на этом же кладбище.
С гребня холма Даулетов легко отыскал глазами могилы матери и бабушки, но спускаться к ним не стал. Нечего приходить с пустыми руками. Надо будет в следующий раз хоть лопату прихватить, холмики подровнять. А вот место, где стоял в ауле их дом, он не нашел. Когда пересох арык и люди ушли отсюда, глинобитные строения, перестав быть жильем, осыпались, обвалились — земля вновь стала землей. Два десятка едва приметных бугорков — какой из них был твоим домом, поди догадайся. Куда-то делись ивы-караталы, что стояли почти у каждой двери и у каждой своя, непохожая на других. А главное, исчез турангилевый лесок, подходивший прямо к аулу. Верно, срубили или засох. Но не видно было ни пней, ни повалившихся стволов, и Жаксылыку подумалось, что лес ушел следом за людьми.
Там возле леса стояла их школа. И когда Даулетов пошел учиться, то чуть ли не в первый же день он узнал, что бога нет. С этой вестью вернулся он к старой Айлар. Но она обиделась и целый день не разговаривала с ним. Однако Жаксылык не отступился. Он почему-то решил, что если бабушка поймет эту простую истину, то ей сразу станет легче жить. Мысль вразумить бабушку засела в нем надолго, и он не спеша, но постоянно начал просвещать старую Айлар, как бы ненароком, будто делясь школьными впечатлениями, объяснял, что земля круглая и вертится, что звезды — те же солнца, только очень далекие, что священная для бабушки луна — просто планета, по-разному освещенная солнцем, и даже пытался доказать это, обнося свечу вокруг арбуза.
А еще он задавал ей вопросы, чтобы незаметно подвести ее к нужным выводам. Она не очень-то верила внуку и обычно отмалчивалась, если вопросы относились к астрономии, географии или, скажем, физике, но когда речь заходила о добре и зле — о главных, как теперь уже понимает Даулетов, для нее понятиях, то тут она охотно откликалась, но выводы ее всегда были неожиданными и не укладывались в понимание Жаксылыка. И сейчас еще не целиком укладываются, только тогда он считал их смешными, наивными, относил их к предрассудкам. Но теперь-то знает, что предрассудки — зачастую то, что перед рассудком, предшествует ему.
— Бабушка, — говорил он. — Учитель объяснил, что родина белого риса — Индия. А родина быстроногих скакунов — Аравийская пустыня. Но где родина добра и зла?
— Люди по-разному говорят, — отвечала она, — может, и врут, не знаю. Но я думаю, что родина добра и зла — наш аул.
Не мог такой ответ устроить Жаксылыка. Не мог. Потому что он уже знал: очень много зла творилось далеко — людей убивали, линчевали, на них сбрасывали атомные бомбы и ампулы с бактериями; знал он и о том, что творилось добро, но тоже не близко — создавались моря и прокладывались каналы — Каракумский, Волго-Дон, строились высокие-превысокие дома и глубоко под землей прокладывалось метро. А в их-то ауле как раз все было тихо — ни подвигов, ни преступлений.
— Бабушка, — спрашивал он в другой раз. — А чего в мире больше — добра или зла?
— Всевышний создает лишь добро. Но его надо беречь. Вот дыня вкусная, а сгниет — и в рот не возьмешь. Или собака — добрая, умная, а прогони ее — одичает, хуже волка станет. Стоит колодец. Пока в нем вода — нет ему цены, а на дне высохшего колодца прячется шайтан.
Бабушка умерла, когда Жаксылыку не исполнилось еще и четырнадцати лет. И началась для него другая жизнь — детский дом, интернат, армия, экономический факультет ташкентского университета и работа, работа, работа…
Домой он вернулся под вечер. Втайне Светлана еще надеялась, что муж все-таки откажется от предложенной ему должности. Уже после его разговора в обкоме поняла, что пугает его назначение, тяготит: непривычная работа, совершенно незнакомая обстановка. Стоит ли браться за дело, которое не по душе, а может, и не по силам? Да и ей ехать не хотелось. Конечно, не хотелось — неужели не понятно? Прирожденная горожанка, в деревнях бывала лишь дачницей, да несколько раз на прополку и картошку посылали от института, когда училась, и после, уже здесь, на хлопок, но тоже нечасто. Не представляет она себя деревенской бабой, а уж женщиной из аула — тем более. К тому же жизнь только-только начала налаживаться — и вот пожалуйста, снимайся и езжай к черту на кулички. Да и что ей там делать со своей специальностью? Смех сказать кому-нибудь: «главный искусствовед совхоза».
Теперь она надеялась, что встреча с жаналыкцами разочарует мужа, заставит его одуматься. Еще не поздно. Еще можно отказаться, объяснив все по-человечески. Начальство — тоже люди. Поймут. Должны понять.
Она не ошиблась — встреча и впрямь огорчила и раздосадовала Жаксылыка. Он передал ей в подробностях все, что говорилось на собрании. Не утаил и собственных опасений, не скрыл и враждебности к себе, звучавшей в выступлениях жа-налыкцев, их вопросов, их насмешек не скрыл.
— И все же согласился? — спросила она не то с жалостью, не то с укоризной.
— Согласился.
— Боже мой! Да ведь съедят тебя живьем и косточек не оставят.
— Ну, костяк-то у меня крепкий. Железный каркас.
— На железные кости найдутся стальные зубы. Лучше бы отказаться, Жаксылык. Честное слово, лучше бы отказаться от этой должности.
— Не могу, — он сказал это почти весело, но Светлана чувствовала, что муж бодрится, хорохорится. — Не могу. Ведь должность-то от слова «должен». Понимаешь? Должен! — это произнес уже серьезно.
Она кивнула, но не потому, что разделяла убеждения мужа, а просто чтоб успокоить его, тем паче что и спорить уже бесполезно — все, видимо, решено. Но если уж откровенно, то не понимала она этого даулетовского «должен». Кому должен? Сколько? Когда успел задолжать? А он вечно в долгу перед любой работой, перед всеми. Кроме нее… Обидно, разумеется. Но не в одной обиде суть. Суть как раз в том — и тут Светлана была уверена в своей правоте, — что интеллигентному человеку нужно делать то, что ему по душе. Это и самому приятнее, и людям полезней, поскольку способности полностью раскрываются лишь в том, к чему тебя влечет, в чем чувствуешь свое призвание. Жаксылыка же она считала способным и талантливым. Но талантливым ученым-экономистом, а вовсе не директором совхоза.
Легкой ли была их совместная жизнь? Со стороны глянуть — так более чем легкой: не только семейных драм, но даже крупных ссор или долгих размолвок они не знали. Но кто бы ведал чего ей, Светлане, это стоило?
Они встретились в Хиве, куда она приехала на преддипломную практику, а он — на экскурсию. Потом тянулся полгода «почтово-телеграфный роман». Так называла его Светлана. Она писала длинные восторжен но-беспредметные письма, а он отвечал телеграммами и телефонными звонками. Правда, еще и выбирался к ней в Хиву, уж в две недели раз — обязательно. Это было очень красиво и романтично. Трудности начались потом, когда после свадьбы она переехала в этот город, где никак не могла привыкнуть к новому климату. Если уж говорить о погоде, то и ее родной Ленинград — отнюдь не райское место в этом смысле. Но тут… То сорок градусов в тени (еще поди-ка отыщи эту тень), то сухой мороз, да еще с ветром, что налетает на город, как говорят, «со стороны степи», а степь тут со всех сторон.
Светлана долго болела во время беременности, потому, вероятно, и дочка родилась слабенькой, тоже часто прихварывала. Не легко ей было и устроиться в этом хоть и областном, но весьма небольшом городе. Не год и не два прошли, пока сыскалось ей место в художественном музее, пока она на этом месте прижилась.
С жильем тоже маялись — и углы снимали, и по коммуналкам мотались, прежде чем получили наконец отдельную двухкомнатную квартиру, которую она тут же начала обживать и благоустраивать со свойственными ей вкусом и изяществом.
И вот теперь бросай все и перебирайся в какой-то степной совхоз. Да, поедет она! Конечно, поедет. Пойдет за ним хоть на край света. Впрочем, от этого Жаналыка до края света, наверное, рукой подать. Но поедет и все стерпит, все снесет. Только хочется, чтобы и муж понимал, чего ей это стоит. Чтобы ценил, жалел. Заботился чтобы.
Черствым и невнимательным мужа она назвать не могла. И трудным человеком он не был, но был, а вернее, постепенно становился, скучным для нее. Еще вернее так: скучной ей казалась работа мужа, к ней Светлана относилась с уважением, но без интереса. А муж был целиком в работе. Казалось, он попросту не умел отдыхать, веселиться, развлекаться. Отнюдь не зануда, не педант и не сухарь — стоит ему заговорить о деле, и тут же загорится, оживет, — он откровенно скучал на приятельских посиделках, сабантуях и застольях. Будучи на работе человеком общительным, или, как сам он говорил, «коммуникабельным», в приятельско-соседском кругу Жаксылык оказывался на удивление некомпанейским. В гости, в театр, в кино его приходилось буквально вытаскивать. И если можно было отказаться, он обычно говорил:
— Ты, Светлана, иди, а я, пожалуй, останусь. Уложу дочку и немножко поработаю.
Одной же ходить не хотелось. Ведь не гулена она, а просто ей нравится ощущение легкости, праздника, полета. Но что за праздник в одиночестве? Порой Светлане казалось, что дай мужу волю, так он с удовольствием запер бы ее дома, чтоб знала лишь плиту, пылесос да швейную машинку. И еще чтоб рожала детей — каждый год по двойне. Про себя Светлана называла это «байскими замашками», однако, положа руку на сердце, понимала, что бай из Жаксылыка — никакой.
А Даулетов действительно хотел детей. Он рос один, а кругом у всех сверстников по шесть-семь братьев и сестер. Трое-четверо — считалось мало. Даулетов никогда не был братом, ни старшим, ни младшим, ни двоюродным, ни даже пя-тиюродньш. И из-за этого постоянно ощущал в своей судьбе какую-то «недожитость». И теперь мечтал стать многодетным отцом, к тому же не хотел, чтоб маленькая Айлар со временем тоже ощутила чувство «недожитости». Но Светлана противилась. Сначала это выглядело даже убедительно: надо ей получше адаптироваться в новом климате, а то опять, не дай бог, ребенок родится болезненным; надо подождать, пока переедут в отдельную квартиру, не мыкаться же с двумя малышками в коммунальной комнатенке. Позже ее доводы стали уже напоминать отговорки. «Не могу, — говорила она. — Меня только что поставили в музее завотделом, а я — в декрет. Это непорядочно». Потом и вовсе пошла «женская логика», то есть минимум аргументов, максимум эмоций. Однажды она с какой-то особой — напускной, как показалось Даулетову, — чувствительностью ни с того ни с сего вдруг произнесла:
— Ты знаешь, Жаксылык, я поняла, что если у нас появится еще один ребенок, то я никогда не смогу его любить так же, как нашу Айлар.
— Сможешь, еще как сможешь, — пытался успокоить ее Жаксылык, — Родишь — и полюбишь. Все женщины так…
— Нет, тебе не дано… этого понять, — отмахнулась она и обиделась.
В другой раз так же неожиданно и мечтательно она сказала:
— Я уверена, что если у нас будет еще один маленький, то Айлар станет несчастной. Мы оба станем меньше ее любить.
Ну вот пожалуйста! Где тут логика? То меньше любить, то больше… И с чего это она взяла, будто с рождением новых детей любовь делится, а не удваивается, утраивается, удесятеряется. Когда же Жаксылык сказал ей, что дети — это то, что цементирует семью, спаивает, прикрепляет супругов друг к другу, когда он сказал это, она и вовсе оскорбилась:
— Значит, нас сближает только дочка? Значит, ты видишь во мне только мать своего ребенка? А саму меня ты уже не любишь? Так, что ли? Отвечай!
— К кому ревнуешь, глупая? К кому!.. — крикнул он. Постепенно оба поняли, что разговоры о детях — запретная для них тема, и непроизвольно стали избегать ее, чтоб не возникла между ними трещина. Она не возникла. Между ними все оставалось прочным и нерушимым, но внутри у каждого, там, в глубине души, образовались мелкие трещинки. У обоих.
* * *
Амударья мелеет. Иссыхает источник, вспоивший древнейшие цивилизации Востока, истончается стержень, на котором держится вся Средняя Азия. Не доносит великая река свои воды до Арала, и сокращается, съеживается море. Тревожит это людей. Но нынешней весной Аму всех напугала — две недели не было в ней ни капли. Всполошился весь оазис. По степным дорогам бесконечно сновали машины, но не грузовики, а легковые, развозя экспертов, консультантов, уполномоченных. И даже казалось, что телефонные провода гудят не от ветра, а от бесконечных переговоров. Но что могли консультанты и уполномоченные, когда и сам министр водного хозяйства, прилетевший в область, не в силах был что-либо изменить. Нет воды. Нет.
Но вот наступил саратан — месяц таяния горных снегов, и вода пошла. Пошла! Только о том и твердили все вокруг, а в местной газете, с утра просмотренной Даулетовым, этому событию посвящалась подборка материалов — целая полоса.
Пошла-то, пошла. Но сколько ее, воды?
С утра Даулетов заправил свой «Москвич» и покатил к головному устройству отводного канала. Сейчас вода — его главный кредит. С финансами и прочим он разберется, но если теперь просрочит с поливом, то пиши пропало.
Подъехав к реке, он взбежал на дамбу. Громадная впадина трехкилометрового русла лежала перед ним. Противоположный берег, такой же низкий и плоский, не столько виделся, сколько угадывался, и когда бы не десяток акталов — пирамидальных тополей, торчащих над аулом, что прилепился к тому берегу реки, то казалось бы, что ложе великой Аму широко, как степь.
Впадина русла походила на гигантский котлован какой-то заброшенной стройки. Прямо под дамбой валялись железобетонные сваи, из которых вылезали плети ржавой арматуры, металлические балки, битый кирпич, драные автомобильные покрышки и пустая кабина старого грузовика. Сквозь мусор прорастал жингиль, вымахавший на метр-полтора. Но более всего Даулетова поразила дорога. Она спускалась с дамбы и шла прямиком к левобережному аулу.
«Гляди-ка, — подумал он. — За две недели такой проселок накатали. Лень было им крюку давать через мост. Рисковые джигиты». И засмеялся: его поразила мысль, что лень может побуждать к смелости.
И все же вода была. Она не покрывала и четверти старого дна, но по теперешним временам и это подарок.
«Нет, не та уже река, не та. А может, и хорошо, что не та», — вдруг подумал Даулетов.
Ведь дамбу-то неспроста строили, и не зря в народе Аму называли не только «великой», но еще и «бешеной». Издревле боялись люди двух бед — отойти от реки далеко и подойти к ней близко. Издревле селились у воды, но отгораживались от нее, целые бастионы возводили.
Напрасно. Наступал саратан, и вода бросалась на дамбы, буквально грызла их, как зубами, выдирая трехметровые пласты, а потом обрушивалась на селения, подчистую слизывая глинобитные дома, крутя, как мусор, заборы, двери, рамы и домашний скарб, унося далеко в степь лодки и баржи. Жаксылык помнил, что в войну и после каждый год приезжал уполномоченный и забирал всех малочисленных мужчин аула на борьбу с наводнением.
Продравшись через заросли жингиля, Даулетов подошел к потоку, который хоть и узок ныне был, но несся все так же стремительно плескаясь, бурля и закручивая воронки.
У самого края Даулетов присел на корточки и хотел было опустить руку в воду, но река оскалилась, как неприрученный зверь, извернулась и кинулась на человека, в одно мгновение вырвав у него из-под ног клок почвы, отчего Жаксылык чуть не свалился в холодную мутную струю.
«А ты злючка-недотрога. Знаешь себе цену! Фамильярностей не терпишь! Правильно, с нашим братом иначе и нельзя».
Подождав минутку, чтобы не раздражать Аму, он все же зачерпнул обеими руками и поднес пригоршню к лицу, чтобы понюхать воду, поскольку давно уже знал: холодная вода пахнет, но только в зной, и запах у нее нежный и звонкий. Для Даулетова запахи были как бы озвучены.
Подержал воду на весу и плеснул ее себе в лицо. И провел влажными ладонями по лбу и щекам. Потом еще, еще раз. И тут вспомнил, что так же гладила лицо и старая Ай-лар, когда молилась там, на песчаном холме. Только ладони ее были сухи.
Сухое омовение?! Даулетову показалось, что он понял смысл этого древнего жеста… Просьба. Вечная, ежедневная, троекратная, молчаливая просьба людей великого Востока: сухи длани мои и лик мой сух, дай воды, Аллах Акбар. Получилось, что Даулетов вроде бы помолился реке. Ну что ж — ей не грех и помолиться. Судьба нового директора сейчас во многом зависела от Аму, а она норовиста, капризна, непредсказуема. Что ж ему остается, как не молить, не уповать и не надеяться, что мольба его будет услышана рекой.
Свершив свой «утренний намаз», он уже собрался восвояси, но тут заметил вдалеке, метрах в ста пятидесяти от себя, нечто удивившее его.
По берегу ходила женщина. Босая. Она то забредала в воду по колено, то возвращалась, то что-то кидала в поток, то будто шарила руками по дну. Может, рыбу ловила? Какая тут рыба? Может, обронила какую-нибудь нужную ей вещь и теперь не достанет никак? Если так — то гиблое дело. Аму не отдаст добычу. Однако как бы там ни было, а нужно помочь человеку или, по крайней мере, спросить, не требуется ли помощь. Подойдя поближе, он понял, что помощи не потребуется, более того, лучше даже уйти, чтоб не мешать, ибо ничего странного не происходило, просто женщина возилась с приборами — видимо, гидролог. Но повернуть уже было тоже неудобно: что ж это, шел-шел, да и вспять подался? Странный, скажет, человек. И он приблизился еще на несколько шагов.
— Шарила! — Даулетов сам удивился и своему крику, и тому, что в женщине узнал Шарипу. Узнал через столько лет. Узнал мгновенно, даже не успев толком разглядеть ее лица.
Он кончал университет, а она приехала поступать. Встретились у земляков — было тогда в Ташкенте землячество студентов из его области, держались друг за друга, часто собирались поболтать, попеть, поспорить, обменяться новостями из дома. На одной из таких посиделок он ее и увидел. Увидел и влюбился, как говорится, с первого взгляда, но ему даже казалось, что чуть раньше, что сперва влюбился, а потом взглянул, вот как сейчас — сперва узнал, а уж потом разглядел.
Пробыли вместе две недели. Сперва оба искали встречи, но каждый раз встречались как бы невзначай, ненароком, и оба стеснялись и оправдывались друг перед другом. Потом часами бродили по городу и разговаривали. О чем? Постороннему могло бы показаться, что о сущих пустяках. На чужой слух так оно, видимо, и было, но для. них в каждом слове, даже в самом незначительном, всегда таился другой, скрытый от остальных, но чрезвычайно важный для них двоих смысл. Они буквально каждым словом открывали друг другу свои чувства. Тех давних слов Даулетов уже, конечно, не помнил. А вот то давнишнее чувство и до сих пор ему памятно. Никогда больше — ни прежде, ни потом — он не был таким счастливым, аж до головокружения, никогда больше он не был таким восторженно-легким и свободным.
Она осталась в Ташкенте, а он уехал к себе, но написал ей письмо — длинное, пылкое и несуразное, как теперь понимает. Она не ответила. Наверное, нужно было написать еще раз. Наверное… Но тут надо знать Даулетова, не этого, не теперешнего, а того, тогдашнего.
Шарипа была красавицей, тут двух мнений быть не могло. Даже в своем деревенском наряде она и в столичном Ташкенте любой моднице запросто сразу фору в сто очков могла дать. Она была красавицей. А он? Он слишком долго проходил в «коротышках», знал это и стеснялся себя. Подрос лишь в армии, лишь на втором году службы переместился с конца («Рядовой Даулетов! Расчет окончен») в центр строя, но неуверенность в себе, в своих «внешних данных» осталась. В университете девицы тоже не льнули к нему. Где обычно знакомятся? На танцах, на вечеринках. С кем знакомятся? С тем, кто побойчей. А он и тогда был некомпанейским и на вечеринки ходил скорее из солидарности с земляками, чем из интереса. Не мог в то время Даулетов отправить еще одно письмо. Писать писал, и не раз, а вот отправить не смел. Не отвечает — значит, не хочет. А читать слова отказа, даже вежливого, не хотел. Пусть лучше останутся в памяти те две недели, когда так счастливо все совпало: начало лета, начало любви, начало надежды.
Первая любовь. Есть ли что в мире чище, трепетнее и прекраснее ее? Но и страннее, несуразнее тоже вряд ли бывает что-нибудь в мире. Ведь Шарипа любила Жаксылыка. Но, по ее понятиям, по представлениям девочки-аульчанки с берегов Арала, нельзя отвечать на первое письмо. На пятое. Ну, на третье хотя бы. А на первое — это нужно не иметь ни стыда, ни совести, ни гордости девичьей, чтобы сразу же признаваться парню. Только поманил, а ты уже бежишь. Что ж о тебе думать-то станет? Письмо Жаксылыка она хранила и все ждала следующего, ждала и не понимала, почему он медлит. Может, другую нашел. А может, другая давно уже была, а над ней он просто пошутил. Почему бы студенту-выпускнику не пошутить над простушкой из рыбачьего аула? Ревновала, злилась, тосковала, мучилась, маялась, но — что непонятней и необъяснимей первой любви? — хранила верность Жаксылыку. Со всеми парнями — а пока была первокурсницей, от претендентов в женихи не знала, куда и прятаться, — держалась сурово и неприступно. А потом…
Есть какая-то загадка, тайна какая-то в том, что так часто не складываются судьбы именно у красивых и гордых женщин.
Может, мало смельчаков, что отваживаются к ней подступиться?
Или права старая притча о трех странниках, нашедших на дороге огромный алмаз? Каждый боялся взять его себе — попутчики бы не позволили, а распилить они его не смогли. И один из них отшвырнул алмаз ногой, чтоб не прельщал никого больше, и пошли они своим путем, стараясь забыть о находке.
А может, в том дело, что очевидным, общеизвестным великолепием все восторгаются, но в душе-то всякий мечтает найти красоту, которая открылась бы только ему, ему одному и никому, кроме него…
— Шарипа! — крикнул Даулетов, и она обернулась и тоже мгновенно узнала его, и казалось, что тоже узнала раньше, чем обернулась, узнала по голосу.
Время меняет, всех меняет. Хоть и есть лица, что с возрастом становятся выразительнее, но обычно годы редко красят человека, чаще стирают краску, порой до неузнаваемости. Помнишь одно, а видишь другое. Помнишь весну, а видишь осень. Глядя на Шарипу, можно думать о весне, пусть поздней, но все же весне.
— Жаксылык Даулетович! — она бежала изумленная, радостная, как будто вот-вот бросится ему на шею. Но, не доходя шагов трех, остановилась и уже тише повторила: — Жаксылык Даулетович! Вы?!
Все как тогда, в то ташкентское лето. Она называла его на «вы», а он ее — на «ты». И опять они стремились друг к другу, но теперь их разделяли всего три шага и… целых пятнадцать лет. Странное чувство: встречаешься с человеком, у которого — ты убежден в этом — нужно многое спросить, многое узнать, выяснить, и еще больше рассказать ему, но вот свиделись наконец, и понимаешь, что, кроме банального «Ну как ты?», спросить-то, собственно, и нечего.
— Так ты гидролог, — констатировал он зачем-то, хоть это и так им обоим было ясно.
— А вы?
— А я теперь большой начальник. Владею землей размером если не с Бельгию, то с Люксембург — уж это точно… Ты замужем?
— Да что вы?! Кто же возьмет жену, которая будет месяцами пропадать по экспедициям и неделями не вылезать из воды? — У нее. это получилось как-то лихо, весело и беспечно. Но тут же, чуть посерьезнев, добавила: — А вы женаты, слышала.
Разговор оборвался, и оба не находили связи, чтоб продлить его. Потому что пятнадцать лет, которые разделяли теперь Жаксылыка и Шарипу, протекли не мимо, не сбоку где-нибудь, а через жизнь каждого из них, и за это время человек, некогда бывший близким, мог измениться так, что от прежнего осталось лишь имя. И каждый из них понимал, что и сам-то он за тот же срок переменился — сильно или нет, судить трудно, но другому это сразу бросится в глаза и он, волей-неволей, выскажет разочарование. В такой момент двое людей, бывших когда-то близкими, боятся произошедших в них перемен, боятся не узнать друг друга, не признать того, что их связывало, сближало когда-то, боятся впечатлением минутной встречи испортить то, что пятнадцать лет хранили в душе, в памяти. Боятся. И вместо того, чтобы спросить о главном, говорят о чем-то постороннем, второстепенном. И оба понимают это, и обоим от этого становится неловко.
— Слушай, — спохватился Даулетов, — а не твоя ли статья об Аму и Арале в сегодняшней газете?
— Моя. А вы читали?
Он читал, но конечно же не подумал, что Шарипа Сержанова — это именно она, та самая Шарипа, с которой он расстался пятнадцать лет назад. Сержановы — не самая популярная фамилия в их местах, но и отнюдь не из редких; скажем, как у русских Сергеевы.
— Уж не родня ли тебе Ержан Сержанович Сержанов?
— Да. Это брат моего отца.
— Вот оно что? — Жаксылык на этот раз был искренне удивлен. — А я теперь директором в «Жаналыке» вместо него. Ты недовольна?
Разговор вновь оборвался.
«Что за чертовщина такая, — думал Даулетов, — стою я рядом с дорогим мне человеком, но при этом мне почему-то проще изложить ей целую научную теорию, нежели рассказать, что у меня на душе. Неужто я такой уж деловой? Или такой бездушный?»
— Так вы читали? Как вам моя статья?
Она явно подсказывала возможную тему дальнейшего разговора, и Даулетов ухватился за подсказку.
— Интересно, по-моему. Живо. Как у нас говорят, с пафосом. Но кое-что непонятно. Например, ты споришь с неким ученым. А кто он такой? Что предлагает? Ничего не сказано, просто «некоторые специалисты считают…».
— О, у него грандиозный проект, — воскликнула Шарипа. — Сам он из Института пустынь. Он рекомендует осушить Арал. Вы понимаете — осушить! Будто речь не о море, а о болоте каком-то. Осушить и на освободившейся площади посеять хлопок и рис. Ему уже видятся вместо Арала райские кущи. Все посчитал. Сколько выручим за собранную соль, сколько посеем, сколько пожнем. Площадь Арала шесть с половиной миллионов гектаров.
— Да, — прикинул Даулетов, — с нее можно взять двадцать миллионов тонн хлопка. Солидная, скажу я тебе, цифра. Может, и есть резон?..
— Взять?! Резон?.. — смуглое лицо Шарипы заострилось, высокие брови сдвинулись к переносью. — Ну, конечно, для вас все резон, что побольше да подешевле. Для вас моря нет, одна вода. И вода соленая, ни на питье, ни на полив, ни на, как вы говорите, «технические потребности» — никуда не годна. Так пусть пропадает. Что от нее проку? Так?! — Шарипа не кричала. Напротив, голос ее стал тихим, глухим, а слова отрывистыми. — Пропадай соленая вода. Ее и так три четверти планеты. Девать некуда. Да?! Не будет райских кущ. На лбу себе это запишите. Будет ад. Пекло. Вторые Каракумы будут. Будет сплошной Барса-Кельмес.[4]
Она говорила «вы», но Даулетов понял, что это «вы» относится не лично к нему, а ко всем им — людям, копающимся в земле, людям «от земли», готовым уничтожить ее море. Вода — не только специальность Шарипы. Это ее судьба, ее жизнь, любовь, призвание. Ее страсть. И Даулетов видел перед собой женщину, страстно бьющуюся за свою судьбу, свою любовь. Она кидалась на врага, как Аму на дамбы или шквальная волна на берег.
— Вы посмотрите, что сделали с Аму? Нет, посмотрите, посмотрите! Она же по собственному руслу мечется, как больной по мятой простыне. А вы присосались к ней, как пиявки к вене, и готовы тянуть, тянуть и тянуть ее кровь, пока сами не лопнете…
Нет. Это было уж слишком. И Даулетов как можно спокойнее, не* строго оборвал ее:
— Перестань! Перестань, Шарипа. Злость ума не прибавляет. Ты несешь чушь. Говоришь — вторые Каракумы. Но ведь и пустыня не сама здесь появилась. Не ветром песок надуло. Лучше меня знаешь, что это Аму за тысячелетия намыла пески. И теперь ее же, Аму, люди заставили отдать воду, чтоб оживить мертвые земли. В этом есть справедливость. Есть своя логика.
— Оживить? — так же глухо переспросила Шарипа. — Что ж, на жизнь и воды не жалко. Но чем солончаки лучше песков? А мертвые озера минерализованной воды? А гнилые болота в степи? Чем они лучше песков? Вы посмотрите на свои поливы. Посмотрите. Да знаете ли вы, директор Люксембурга, что в вашем драгоценном «Жаналыке» ежегодно полуторный, а то и двойной перерасход воды. Двойной — понимаете? За это судить надо. Неправильный полив, переувлажнение приводят к засолению почв. Сперва выгоняете соль а потом требуете воды для промывки полей. Взяли влагу, использовали и бросили куда попало. Что, это тоже чушь? Вы губите землю той самой водой, без которой гибнет море, — как это назвать? Хватит собственное разгильдяйство прикрывать природой. Хватит! Хотите хлопка и риса — дай вам бог! Только своими руками, своими мозгами, а не за счет Арала.
— Мне самому жаль море, — снова стал успокаивать ее Даулетов. — Но Арал не лужа. Ни за год, ни за два не пересохнет. А наука когда-нибудь найдет способ спасти его…
— Когда-нибудь — значит никогда. Спасать надо сегодня. Сейчас. Треть стока Аму должна попадать в Арал.
Треть стока. И это она говорит сейчас, когда еще весь оазис корчится от жажды. Отдать треть воды Аралу значит отрезать треть поливного клина. Выкинуть треть оазиса. Тут еще вопрос: что дороже — море или земля, в которую вложены средства, да если бы только средства. Труд, труд вложен, и не одного поколения! Что дороже? Что ценнее? Что роднее и ближе?
Так думал Даулетов, но спросил он кратко:
— А земля?
— Что земля?
— Ну как же с поливом?
— А кто говорит об отмене поливов, об отказе от поливных земель? Орошайте, но не устраивайте потоп в пустыне. По нашим данным, перерасход влаги — тридцать-сорок процентов. Сорок процентов пропадает в каналах. Уходит в песок. Бетонируйте. Дорого? Поверхность тысяч каналов, водохранилищ и арыков в тысячу раз превышает зеркало Аму. Отсюда, посчитайте, соответственно испарение. Нужны закрытые арыки. Дорого?! Не сбрасывайте воду в степь. Проведите коллекторы к морю. Постройте очистные сооружения. Дорого?! Но жить всегда дорого. Зато помереть можно ни за грош.
— Ладно, — сказал Даулетов примирительно, поскольку понял, что не переспоришь ее, да, честно говоря, и не хотелось ему переспоривать, права она; может, не во всем, но во многом права.
— Ладно, — повторил он, меняя тему. — Где ты сейчас? Шарипа помолчала минутку. Она успокаивалась, и по глазам было видно, как затухает в ней вспышка гнева, — искры в зрачках гасли и зрачки становились все темнее, печальней. Чуть остыв, она посмотрела на Даулетова, посмотрела устало и ответила равнодушно, как говорят о чем-то безразличном:
— Живу в райцентре. Но все время здесь да на море пропадаю.
В этом «пропадаю» ему почудился второй смысл, тот, что часто проскальзывает в словах многих одиноких женщин. Может, и не было его, второго смысла, может, и впрямь лишь почудилось, но Даулетову вмиг сделалось как-то не по себе, неловко, и от этой неловкости он поспешил распрощаться с Шарипой и простился опять-таки неловко, скоропалительно и невнятно.
По дороге домой он вспомнил то ташкентское лето. Думал о себе и Шарипе. Потом об Арале и опять о Шарипе. Об Аму и вновь о Шарипе. Когда-то про себя он называл ее «индийской богиней». Почему? И сам не знает, ни одной индийской богини ни разу в жизни не видал. Наверное, ему просто представлялось, что если выточить из сандалового дерева лицо богини, то она будет вылитая Шарипа. Он чувствовал, что его опять влечет к этой девушке. Да нет, уже женщине. Значит, не опять, значит, это что-то совсем новое. Нет, не только новое, ибо вырастало из прежнего. Был бутон — стал цветок. Но тут вспомнилась Светлана и маленькая Айлар, застыдился Даулетов собственных мыслей и не без издевки над собой вспомнил поговорку: «Сорок не исполнится — джигит не успокоится».
Джигиты, батыры, гусары… Что же это творится с нами под сорок? Куда ж это шайтан нас заносит? Чего ж это нам неймется? Чего ищем? От хорошего — лучшее, что ли?
Вот такая диалектика, друг Даулетов. Так ведь уже скоро сорок. Не про тебя пословица. А может, права не эта, а русская поговорка: «Седина в бороду — бес в ребро»? Не знаю, не знаю. Бороды никогда не носил.
Он прибавил газа. Надо пораньше лечь спать. Завтра с утра планерка, а ему от города до совхоза ехать и ехать.
4
Домой Шарипа вернулась затемно. Ей очень хотелось попасть в город до заката солнца, чтобы застать отца еще бодрствующим и вместе поужинать. Редко в последнее время они виделись. Река со своими капризами доставляла немало хлопот всем и больше всего гидрологу. Шарипа дневала и ночевала у воды. Отец знал это, мирился с этим, но все же каждый вечер, до сумерек, ждал ее, сидя у крыльца на опрокинутой вверх дном лодке, которую неведомо зачем привез с Арала на удивление всему городку.
Лодка была видна издалека, уже с начала улицы, и, возвращаясь домой, Шарипа всегда искала глазами отца — сидит ли? И если не находила, то огорчалась и корила себя за промедление — могла бы поторопиться, могла бы приехать на полчаса или час раньше. Грустно и больно, поди, отцу коротать дни в одиночестве.
И сегодня, спрыгнув с машины, Шарипа глянула вдоль улицы, надеясь все же, несмотря на темноту, увидеть сгорбленную фигуру отца. Три дня не было Шарипы дома, обеспокоенный отец мог и допоздна ждать дочь. Не ждал, однако. Это успокоило и чуточку огорчило Шарипу. Тревога отцовская была бы ей приятней.
Но у самого дома спокойствие покинуло Шарипу. В окнах их квартиры горел свет, и довольно яркий. Видимо, зажжена была люстра. Поздний и яркий свет в доме мог означать или большое торжество, или большое несчастье. Несчастья и боялась Шарипа.
Не взбежала, влетела она на второй этаж и забарабанила кулаками в дверь — так громко и так обеспокоенно, что всех в доме переполошила.
— Отец! Отец, откройте!
Послышались шаги за дверью, твердые, тяжелые, но не отцовские. Отец ходил на протезе, и протез стучал и скрипел, как скрипит мертвое дерево. Шаги еще больше встревожили Шарипу.
— Отец!
Дверь распахнулась, и она увидела чужого человека. И не сразу признала в нем дядю, но это все же был он, дядя Шарипы, Ержан-ага Сержанов. Высокий, грузный, занявший весь дверной проем.
— Что с папой? — проталкиваясь между косяком и дядей, спросила испуганная Шарипа. Даже поздороваться забыла.
Сержанов засмеялся:
— А что с папой? Ничего! С рыбаками на суше ничего не случается…
Слова успокоить не могли. Успокоил смех. При несчастье люди не смеются.
Посторонился, пропустил племянницу Сержанов, и она кинулась к отцу, сидевшему в углу в кресле.
Старый рыбак истолковал порыв дочери как просьбу извинить ее за опоздание и успокоил кивком головы:.
— Ладно… Ладно… Знаю, что занята.
— У нас гости, папа? — спросила Шарипа извиняющимся и одновременно удивленным голосом. Извинялась за невежливость — не успела поздороваться, удивлялась необычности визита. Между братьями — старшим и младшим — сложились не больно добрые отношения. И сложились давно.
— Навестить решил нас Ержан в новой квартире. И подарок принес, — отец показал на диван, гле лежал полуразвернутый ковер. Дорогой ковер.
— Ах! — вскрикнула Шарипа. Подарок полагалось принимать восторженно, каким бы он ни был. А этот был и впрямь хорош. — Рисунок чудный…
Она подошла к дивану и развернула ковер во всю длину. Голубые и малиновые краски узора заиграли как цветы в весенней степи.
— Угодил? — посмотрел на племянницу вопросительно Сержанов.
— Угодили. Прекрасный узор.
— Чую. Вкус-то у нас один, как и кровь. Одинаковы мы, Сержановы!
Отец посмотрел на брата, щуря глаза, и прищур этот был жестким, настороженным каким-то, словно рыбак пытался найти в лице брата ту самую черточку, которая роднила бы их. Слушал рыбак тоже настороженно.
— Сколько их, Сержановых? — неведомо к кому обратился отец. — Настоящих сколько?
— Немного, — ответил дядя. — По пальцам начнешь считать, больше восьми не загнешь…
— Говорю, настоящих, — отбросил счет Ержана рыбак. У него, наверное, был свой счет.
— Если настоящих, то — два. Двое осталось Сержановых, ты и я.
Рыбак вздохнул невесело:
— А может, не два. Один всего лишь.
— Себя только считаешь! Не щедр, однако.
Желваки заходили сердито на скулах Сержанова. Старший брат по-прежнему отказывался от младшего. По-прежнему перечеркивал родство.
— Не себя. Я уже гость на этом свете…
— Но и не меня.
— И не тебя.
— Так кого же?
— Дочь мою… Шарипу. Расхохотался Сержанов.
— Нет, брат, Шарипа, конечно, красавица и умница. Ученая. Но коли о фамилии речь — женщина не в счет. Какой ни была бы чистой кровь ее, она растворится в крови мужа. И не станет фамилии Сержановых. Какая-нибудь другая будет… Далекая от рода нашего.
Шарила, поняв, что спор принимает слишком острый характер и, разгоревшись, опалит и ее, сказала:
— Отец, дядя с дороги проголодался, поди… Рыбак похлопал '-себя ладонью по лбу:
— Стар, стар я стал. И правда, чем угощаю гостя — словами. Накрой-ка стол, дочка!
Выпорхнула Шарипа из комнаты, и тотчас зазвенели пиалы на кухне, загремел чайник, застучали ножи. Как музыка были эти звуки для Сержанова. Он успокоился и весело глянул на брата:
— Бог с ним, родом Сержановых. Каждый теперь живет по-своему, не оглядываясь на отцов и дедов. Время такое, брат мой.
— Время, верно, другое, — грустно согласился рыбак. — Однако жаль. Живительно молоко рода.
— Живительно, но не крепко. Мало в нем силы. По наследству-то нам досталась робость, боязнь обидеть сильного. С робостью да со страхом далеко не уйдешь, ничего не добьешься. Многого ли ты достиг, Нуржан, помаленьку вытягивая рыбешку из моря? Ни разу не взял большой улов.
— Обесплодить Арал?!
— А его и так обесплодили. Выпили всю воду из Аму — и нет твоего Арала, нет твоей рыбы. А ведь давно знал, что кончается рыба. Так и рискнул бы? А? Для кого же ты берег ее?
Задумался рыбак. Верно ведь говорил брат. Погибает Арал, погибает и все живое в жем.
— Коли так судить, — после минутного молчания ответил Нуржан, — то и отцов не следует беречь, кормить не следует. Умрут ведь. Все когда-то должно умереть…
— Состарился ты, Нуржан, а слова твои все из детства.
— Так я ведь кем с детства был, тем и остался. Был Нур-жаном и теперь имя менять не собираюсь.
— Имя, может, и не надо менять, а мысли сменить надо. По-иному пора мыслить.
— Поздно, да и не хочу, — отверг требование брата рыбак.
С чайником, пиалами, хлебом и сахаром вбежала Шарипа, расставила и разложила все на столе перед гостем. — Дядя Ержан, как вы нашли наш дом? — улыбаясь, спросила она, желая отвести братьев от трудных и небезопасных поисков истины. Уж больно воинственно они были настроены. — Адреса-то ведь не знали?
— По лодке. Во всем городе нет ни одного дома с лодкой у входа.
— Да… Наш дом особенный.
— Вот-вот, особенный. Морской. Глаза Шарипы озорно сверкнули:
— Аральский. Мы же дети Арала.
Продолжая весело переговариваться с гостем, Шарипа перенесла из холодильника на стол мясо и фрукты.
— Дети Арала, а едите баранину, — пошутил Сержанов. — Лососину надо есть, сазана жареного. Выходит, только и осталось морского, что эта лодка… Слушай, брат, зачем ты в самом деле взял ее с собой? Морока одна…
Как на такой вопрос ответишь? Изобретательная мысль легко подсказала бы объяснение, да не с головой советовался старый Нуржан, когда грузил лодку на самосвал, когда вязал ее к бортам веревкой, чтоб не разбилась, не раскололась в дороге.
— Зачем? Для здоровья…
— Да что ты на ней по городу плавать будешь?
— Для. душевного здоровья, брат, для душевного!
— Душа-то в теле. В лодку душу не посадишь.
— Отчего же! Лодка настоящая, рыбацкая, аральская. Таких теперь и не делают. Один человек, которому врачи посоветовали лечиться морем, предлагал мне за нее пять лет назад «Жигули».
— Ха! — замахал руками Сержанов. — Теперь за нее никто и велосипеда не даст.
— А я и не продам. Даже на «Волгу» не обменяю.
— Только нелепо это все же, брат Нуржан. Люди небось смеются. Райцентр — не Венеция., где, говорят, по улицам даже вместо такси лодки ходят.
— Да, дочка, — повернулся старик к Шарипе, — а правду ли слышал, что эта самая Венеция теперь тонет?
— Правда, папа! Во всем мире ученые решают, как спасти город. Конкурс объявлен.
— Конкурс, говоришь. А я вот все думаю: у нас море опускается, а у них поднимается… Может, одна беда другую родит? Люди-то прежде верили, что нет дна у Арала.
Улыбнулась Шарипа наивности отца, но и разочаровывать старика не хотелось, а потому сказала:
— Ты прав пока в одном — в природе все связано. Но это все же разные явления: у них не море поднимается, а проседает почва, и у нас море не опускается, а высыхает. И дно у Арала есть. Даже два дна.
— Это как же?
— Под Аралом ученые нашли как бы еще одно море — толща меловых отложений насыщена водой на глубине до пятисот метров.
— Арал-то ваш, выходит, с двойным дном, — засмеялся дядя Ержан. — С подвалом, значит, море.
— Не с подвалом, — возразил отец, — а двухэтажное. Особенное у нас море. А что, дочка, — вдруг оживился он, — если город всем миром спасают, может, и нам объявить конкурс? Может, решат люди, как спасти Арал?
— Думаем, отец, думаем, ищем.
— Дай бог! — посмотрел рыбак на дочь с сочувствием и благодарностью. — А лодка пусть все же стоит у дома. С ней легче найти старого Нуржана, если кому-нибудь он понадобится. Ведь и ты, Ержан, по ней меня отыскал.
— Пошутил я, — признался Сержанов. — Нажимов квартиру вам давал. Нажимов меня и оповестил о вашем переезде. Он и адрес сообщил.
— Ну, ты у нас с начальством дружен. А другим как меня найти? Вот в ауле нашем жил рыбак Оспан. Хороший рыбак и человек хороший. Поступил, однако, нехорошо, бросил море, уехал в город и никому ничего не сказал. Понадобился как-то Оспан племяннику, свадьбу решил тот сыграть, а без дяди не принято вроде. Послал гонца в город. Гонец два дня искал Оспана, не нашел и вернулся в аул. Вернувшись, сказал: «Хоть бы с ума сошел на худой конец Оспан, что ли. Спросил бы, где дом Оспана-сумасшедшего, всякий показал бы. А просто Оспана никто в городе не знает».
— Сумасшедшего только и запомнят! — раскатился своим густым басом Сержанов. — Однако Оспан не сумасшедший. Правильно сделал, что в город подался. Устроится на хорошую работу — ценить его будут, и главное — детей выучит. Учеными они станут. А без науки теперь никуда. Вот Даулетов, что сейчас вместо меня директором в «Жаналыке», подался в город подростком. Сирота, а институт окончил, ученое звание получил. А я — кто? Аульчанин-деревенщина, не пришлось выучиться как следует, об ученом звании и мечтать не могу. Значит, посторонись! Я поднял совхоз, сделал его знаменитым, людей сделал зажиточными, а вот образования нет — и уходи!
— Так это что ж, всякий, бросивший в детстве аул, становится директором, да еще ученым…
— Директором — не всякий, а ученым — каждый.
— Что же ты не стал ученым, Ержан?
— Говорю же, поздно ушел в город.
Рыбак помолчал, снова ему понадобилось время, чтобы разобраться, что есть истина и что неистина. Что правда, а что неправда. Не разобрался, однако.
— Ученым, ладно. А становится ли добрым человек от того, что бросил отца с матерью, бросил друзей детства, оставил родительский очаг, то место оставил, где впервой и в песке барахтался и о жантак укололся?
Сержанов нахмурился, и старик это заметил.
— Не про одного тебя речь. Про всех. И про твоего директора, не знаю, как его звать…
— Жаксылык Даулетов.
— Жаксылык! Имя-то хорошее. Доброта. В самом деле, он добр?
— А ныне все добрые. Теперь вон, пишут, и волк добрый. А как же — санитар природы.
— Он-то, может, и волк, но и ты-то, Ержан, не из ягнят… — рассудил рыбак. — У самого клыки не хуже джульбарса.
— Не из ягнят, верно, — самодовольно улыбнулся Сержанов. — А насчет джульбарса ты мне, братец, польстил. Был бы джульбарсом, не сошел с дороги.
— Все вы там клыкастые, как погляжу, — просто и спокойно сказал рыбак.
— Папа! — умоляюще посмотрела на отца Шарипа. — Как ты можешь говорить о людях, которых совершенно не знаешь?
— В самом деле, брат Нуржан, ты же не видел моих жаналыкцев. Такие, скажу тебе, джигиты и батыры! Одно слово-народ! Приехал бы посмотреть. Я ведь звал тебя, и не раз. К народу прибиваться надо, к стае, брат… А что, Нуржан, если мы твою лодку перевезем в совхоз? Ближе к Аралу, глядишь, иногда и на море съездить сможешь. Машину-то я всегда обеспечу. Да и двое нас осталось — двое. Хочешь ссорься, хочешь мирись, брат, а двое — ты да я, вот и весь наш сержановский род, — тихо, печально сказал Ержан, даже как-то не похоже на него. — В общем, как затоскуешь по родне да по воде, кликни нас. Пришлем машину за лодкой… Ну, будь здоров, брат Нуржан. Пора домой…
Сержанов протянул обе руки старику, как это делают, прощаясь со старшими в роду, и, поймав дряхлую, костлявую ладонь брата, крепко пожал ее.
— Проводи меня, племянница! — позвал он Шарипу, направляясь к двери.
Шарипа встала и пошла следом за Сержановым. Внизу, у входа, он задержался, чтобы дать совет.
— Ковер постели на пол, племянница… Хоть и одна нога у отца твоего, но и она нуждается в ласке.
— Отец, — спросила она, вернувшись, — ты действительно намерен перебраться к дяде Ержану?
— Не знаю, дочка. Разве что погостить, а то нехорошо как-то получается. Какие ни есть, а все родня.
Шарипа знала, что скоро ей ехать в экспедицию на месяц, а то и на два. Отцу в одиночестве будет, конечно, и скучно и трудно. Но, с другой стороны, там, в «Жаналыке», Даулетов, и, навещая старика, она может встретиться с новым директором. Хочет ли она этого, Шарипа еще не решила. Вернее, уже знала, что хочет, но нужно ли? Нужно ли ей? Да и ему?
— Разве дядя Ержан уже звал тебя?
— Звал, и не раз, — нахмурился отец. — Сдуру чуть было не поехал, да мать твоя остановила. Хотел Ержан из старшего брата сделать своего дворового пса.
Застыла Шарипа в удивлении. Слово поразило ее своим гадким смыслом. Пес! К отцу-то оно никак не могло относиться.
— Не нужно так, папа!
— Отчего же не нужно, если псом дворовым брал меня Ержан в свой совхоз. И конуру обещал. Правда, называлась она коттеджем, да и в самом деле была коттеджем.
— Коттедж не конура, — возразила Шарипа: не могла она слышать собачьи слова, — По-братски поступал Ержан-ага.
— В том-то и дело, что братом я не должен был называться. Даже дальним родственником запрещалось именовать себя. Чужой, совсем чужой человек. С чужим люди будут искренни, будут делиться тем, чем никогда не поделятся с начальником. Слушать, смотреть, вынюхивать должен был старый Нуржан и доносить младшему брату. За это полагались дворовому псу конура, миска турамы и белая лепешка…
— Не может быть! — не поверила Шарипа.
— Не может. Однако было.
Не понял тогда Нуржан брата, точнее не до конца понял. Конечно, и сведения не помешали бы директору, но главное было в другом.
Катилась тогда по району крутая волна — борьба с семейственностью. И Сержанов охотно включился в кампанию. Сам-то он был чист, но под эту музыку мог турнуть либо приструнить многих своих противников и недоброжелателей. И надо же — непостижима душа человеческая, уму непостижима, наперекор ему устроена, — в это самое время вдруг понял Сержанов, что одинок он на свете. Старость, видать, подступила, не иначе. Дочери скоро разлетятся, уже разлетаются. Жена Фарида? Слова худого о ней не мог бы сказать, но жена не родня. Тогда-то и затосковал по родству, и вспомнил о брате, и решил перетащить его к себе поближе. Тогда и придумал хитроумный план: кто догадается, что это брат, если сам Нуржан не растрезвонит? Внешне они совсем не похожи. А фамилия?.. Да мало ли Сержановых?
Огромным был директорский кабинет. Это Даулетов заметил сразу, еще в тот приезд. Но сегодня он показался Жаксылыку прямо-таки непомерным. Непомерным было и кресло. Вроде бы уменьшился сразу Даулетов, и его сухое тело стало еще суше, и ростом он будто поубавился, когда в первое свое рабочее утро он сел за директорский стол.
«Черт знает что! — огорчился он. — Не для меня здесь все предназначено. Изволь приспосабливаться, друг Даулетов. Да как тут приспособишься, когда и опереться не на что, мимо подлокотников локти ложатся».
Таким маленьким, незаметным, а следовательно, и незначительным увидели его подчиненные, явившись на производственное совещание в девять утра. Первое даулетовское совещание было назначено ровно в девять, и никто не посмел ни опоздать, ни тем более отказаться от участия в нем. Сержанов приучил аппарат к точности и беспрекословному подчинению. Сам Сержанов вошел без пяти девять и сел у приставного столика, рядом с Даулетовым.
Директорский стол и Даулетов вместе с ним оказались заслоненными от собравшихся людей мощной глыбой Сержанова. Сержанов словно бы по-прежнему властвовал в директорском кабинете и знал, что властвует.
«Его, его это место, — размышлял Даулетов, пока входили и рассаживались на стульях, вытянутых цепочкой вдоль стен, сотрудники. — Не может он без него. И зря подал заявление. Остался бы, попробовал перестроить работу. А теперь, уйдя, не ушел и уйти уже не сможет. Будет ревниво смотреть на кресло, ждать момента, когда оно снова освободится… Напрасно я согласился оставить его заместителем. Обоим теперь несладко придется…»
— Товарищи! — начал Даулетов, когда люди наконец расселись и затихли. — Первое наше знакомство уже состоялось на собрании, более близко познакомимся в работе. Не только познакомимся, но и, надеюсь, сдружимся. Дело у нас общее, задачи — тоже общие, следовательно, делить нечего, ссориться тем более нет нужды.
Начало жаналыкцы встретили спокойно: ни удивления, ни разочарования, ни настороженности оно у них не вызвало. Вот только обращение «товарищи» показалось им казенным. Раньше все было значительнее: «Друзья!», «Братья!», а то и «Дети мои!». Важность и душевность в каждом слове. А тут — «товарищи». Ни уму ни сердцу. Ну да бог с ним, со словом. Не потревожило оно никого. Пусть себе летит, коль сорвалось с уст!
— Я думаю, что директор — это первая должность и последняя инстанция. Конкретное дело каждый из вас знает лучше меня, опыт у вас велик, сил достаточно. Не ждите поэтому приказаний на каждый день. Задача перед вами поставлена, график на руках, объем работы известен. Придерживайтесь того, что намечено, добивайтесь запланированных результатов. Трудимся-то и живем одной семьей. Мне выпало счастье переступить порог вашего дома. Я вхожу в него — не обессудьте за, может быть, не очень удачное сравнение, но другого не подберу — как новая сноха. И от семьи теперь зависит, сумеет ли сноха быстро приобщиться к хозяйству, вести умело домашний очаг. Помощь каждого из вас мне нужна. За добрый совет буду искренне благодарен…
Не больно ловко начал свое директорство Даулетов. Если обращение «товарищи!» ничего не сказало жаналыкцам, не стало им от него ни тепло ни холодно, то теперь холодком повеяло. Сравнение со снохой и впрямь большинству показалось неуместной шуткой. А откровенная просьба о помощи была расценена одними как слабость, другими как хитрость, а третьи — вот уж на что вовсе не рассчитывал Даулетов — сочли ее попросту глупостью.
Сержанов, так тот аж поежился от слов Даулетова. Беспокойство охватило его. Не пустит ли под откос новый директор и заведенные порядки, и само хозяйство. Не умеешь руководить, не берись, не способен твердо сидеть в директорском кресле, не занимай его! Остановить надо неумеху, поправить, пока не напортачил.
— Семья, верно вы сказали, Жаксылык Даулетович. И дружная семья, работящая. Но у каждой семьи есть глава. В его советах, в его помощи нуждаются домочадцы, к его авторитету прибегают, когда возникает спор. Таким отцом должны быть вы, Жаксылык Даулетович. Не снохой новой, которая входит в дом, не ведая, что хорошо и что плохо, не зная, за что взяться, с чего начать. Пока будут учить сноху и советы ей давать, дом придет в запустение. Пропадет дом. Так что отец нужен семье, Жаксылык Даулетович…
— Второй отец, что ли? — с наивной улыбкой спросил Даулетов.
— Почему второй? Один отец полагается в семье. Откинулся на спинку кресла Даулетов и глянул смеющимися глазами на Сержанова:
— Один отец есть! Вы, Ержан-ага. И второго пока не надо. Так ведь? — Он обвел взглядом, все тем же смеющимся взглядом, застывших в растерянности сотрудников. — Так?
Жаналыкцы не знали, как отнестись к сказанному. — Постойте, постойте! — растерялся и Сержанов. — Я же не директор…
— Не директор, но отец. Отцов не назначают, отцами становятся. Вы уже им стали. Это ваша семья, и заботьтесь о ней по-отечески, Ержан Сержанович!
— Заботиться, конечно… — все еще не придя в себя, согласился Сержанов. — Я обязан заботиться как заместитель…
— Как отец, — поправил Даулетов. — Роль же снохи прошу оставить мне… Теперь перейдем к делу!
Даулетов поискал глазами председателя профкома и, обнаружив его у окна, спросил:
— Толыбай Тореевич, сколько домов в ауле не обеспечено газовыми плитами?
Лицо председателя профкома, ничего не выражавшее до этого, стало вдруг сосредоточенным. Веснушки, а их было великое множество, торопливо собрались к носу, отчего он стал красным, так как веснушки у председателя профкома были ярко-красными.
— Не помню точную цифру.
— А если неточную? — попытался все же что-то установить Даулетов.
— И неточную не помню…
— Попробуйте уточнить в течение дня, а завтра мне доложите. Садитесь, пожалуйста!
Профорг плюхнулся на стул, вытянул из кармана платок и стал старательно вытирать лицо. Больше всего он тер нос, разгоняя собравшиеся на нем веснушки.
— Еще одно дело, — сказал Даулетов. — Старый Худайберген выразил пожелание, чтобы кладбище было огорожено. Я проезжал мимо и видел, как скот топчет могилы ваших близких. Верно ведь, надо поставить ограду…
«Что он несет? — снова забеспокоился Сержанов. — Томятся посевы без воды, гибнет живое дело, а он — о покойниках!»
— Товарищи! — прервал директора Сержанов. — Сделаем перерыв. Оставьте нас с Жаксылыком Даулетовичем на пять минут. Да, да, оставьте…
Прервать производственное совещание и прогнать людей из кабинета — такого еще не было. Кое-кто моментально вскочил по инерции. Привыкли без рассуждений выполнять повеления Сержанова. Другие остались сидеть. Сержанов все-таки не директор и кабинет не его. Сотрудники озадаченно переглянулись, не зная, как поступить. Ждали, что скажет Даулетов.
А Даулетов, как это ни странно, был невозмутим. Улыбался, но не насмешливо, как делал до него Сержанов, а мягко, непринужденно. Улыбка понравилась людям, а то, что потом сказал Даулетов, насторожило.
— Сделаем, товарищи, небольшой перерыв. Воля родителя, сами знаете, закон.
— Не надо мной надо смеяться, — сказал Сержанов, когда подчиненные вышли и за последним захлопнулась дверь, — а над вами рыдать, товарищ, — он произнес это слово как бы передразнивая Жаксылыка, — Даулетов. Сперва вы себя назвали снохой, потом, как и положено снохе, начали заботиться о газовых плитах и кончили оплакиванием покойников… Кем вы предстали перед людьми? Не увидели они директора. А не увидели — значит, слушаться не станут. А не будут слушаться — конец работе. Без работы развалится дело. Хозяйство погибнет, которое не вами создано и не вам принадлежит. Оно — наше, и мое прежде всего.
— Если ваше, зачем было отказываться от личной собственности? — прежним полушутливым тоном спросил Даулетов.
— Не то говорите, товарищ Даулетов! Я подал заявление об уходе, чтобы передать хозяйство в более умелые, более крепкие руки.
— И ошиблись?
— Не я ошибся. Ошиблись те, кто назначил вас. С первого шага спотыкаетесь и шагаете не туда. Газовые плиты — бытовой вопрос, его в два счета решит Завмаг, а вы, директор, выдвигаете его как проблему. Проблема же для совхоза — сберечь посевы, заложить основу богатого урожая. Вот с чего надо начинать руководство хозяйством… А кладбище?! — Он махнул рукой с досады. — Не знаю, почему вы так поступаете? Думаю, виной всему неумелость и близорукость. Но равнодушно смотреть на все это не могу. Примите сказанное как желание помочь молодому руководителю, предостеречь его от ошибок…
— За совет спасибо! — Даулетов приложил руку к сердцу, выражая этим традиционным жестом благодарность и уважение. Затем, отведя руку, нажал кнопку и вызвал секретаршу: — Попросите людей, продолжим совещание.
Они вошли и остановились у порога. Неуверенность какая-то поселилась в них после странного распоряжения Сержанова. И не только неуверенность. Обида. Можно ли так с людьми — ведь не отара овец? Гони туда, гони сюда… Даулетов поднялся с кресла и произнес виновато:
— Прошу извинения, товарищи, за внезапный перерыв. Рассаживайтесь, продолжим работу. В четверг на собрании у меня кто-то спросил: «Должен ли-руководитель знать больше, чем народ?» Я ответил и от слов своих не отрекаюсь, но тогда, видимо, не до конца понял смысл вопроса, поэтому сейчас хочу добавить вот что: если директору есть что скрывать от людей, то такого руководителя, по-моему, нужно гнать взашей. Дело общее — следовательно, каждый, кто в деле участвует, может и должен знать все. Поэтому я секретничать не буду и признаюсь, что во время этого перерыва Ержан Сержанович отчитал меня за неверное ведение планерки и неправильное, на его взгляд, начало работы. А теперь продолжим. Итак: с газовыми плитами все ясно, — подытожил он начатое еще до перерыва. — Завтра, Толыбай Тореевич доложит о количестве недостающих плит. Ограждением кладбища займутся строители. Есть у нас такая бригада? Выделить одного каменщика для руководства работой и найти двух-трех пенсионеров, способных класть стену. Организуйте это дело, товарищ Мамутов. Желательно начать работу сегодня же.
Секретаря парткома Даулетов направил на ограждение кладбища. Спятил, что ли, новый директор? Так подумали люди. Возможно, не все усомнились в умственных способностях Даулетова. Некоторые лишь. Сержанов, тот наверняка усомнился. Открыв испуганно глаза, он бросал тревожные взгляды то на Даулетова, то на Мамутова, то на председателя профкома, этого веснушчатого Толыбая Тореевича. Настойчивее всего сверлил глазами Мамутова: «Что молчишь? Язык отнялся или проглотил его? На кладбище тебя посылают. На кладбище! Не в клуб, не на полевой стан вести работу с народом. К могилам, просвещать покойников».
Вряд ли дошло до Мамутова это страшное обвинение Сержанова. Ни покойники, ни внимание к ним начальства его сейчас не занимали. Принял он просьбу директора как общественное поручение. Как необходимость сделать для людей что-то нужное.
— Хорошо… Хорошо… — закивал Мамутов. — Организуем сегодня же. Не беспокойтесь.
— Спасибо, — поблагодарил Даулетов. — С простым покончили, перейдем к сложному. Сегодня мы начинаем полив. Распоряжение дано, вода начнет поступать на отводной канал во второй половине дня. Надеюсь, карты[5] уже подготовлены? Как, Ержан-ага?
Вздрогнул Сержанов от неожиданности. Никогда еще не спрашивали его о положении дел в хозяйстве. Он спрашивал. И только он.
— Подготовили… — сквозь зубы процедил он.
Подготовлены ли в самом деле карты, было ему неведомо. За подготовку отвечал и главный агроном, и бригадиры. Что они сделали, кто знает? Но ставить себя в положение обвиняемого Сержанову не хотелось. Еще получишь замечание, как Тореев.
— Нужно будет проследить, Ержан Сержанович, чтоб экономно расходовалась вода.
Даулетов повернулся к начальнику планового отдела. Тот, не зная еще, спросят или нет его, снял очки, надел запасные, предназначенные для работы, развернул папку. Он был всегда готов к докладу.
— Юсуп Абдуллаевич, во что нам обходится центнер риса, хлопка, тонна мяса, овощей?
Можно было ответить сразу, в голове плановика цифры стояли, как на параде, называй любую. Но он предпочел оперировать цифрами, написанными на бумаге. Так они выглядели солиднее, убедительнее. Торопливо прошел со своей папкой к столу, вынул из нее во много раз сложенный лист, развернул его, как скатерть, и застелил этой скатертью огромный директорский стол.
Цифры строем двинулись на Даулетова. Было их неимоверное количество, но он — не зря ведь экономист — быстро нашел то, что хотел.
— Ого! На Кубани расходуют на производство центнера риса четыреста пятьдесят — пятьсот кубометров воды. Вы всего триста пятьдесят — четыреста. Похвально!
— Применяем передовые методы, — с достоинством ответил плановик и снова сменил очки.
— А я слышал другое, — пожал плечами Даулетов. Сержанова будто ужалил шмель. Он даже подскочил на стуле.
— Одно дело слышать, другое — видеть. Перед вами документ!
— Документ — великая вещь. Однако будем все же бороться за триста пятьдесят кубометров воды на центнер, — не реагируя на вспышку недовольства своего заместителя, сказал Даулетов.
— Добиваться уже завоеванного смешно, — нервно пожал плечами Сержанов. — Смешно.
— Когда смешно, веселее работать. Я — за веселую работу. Давайте рассмотрим, что у нас есть еще веселого в плане. Подходите ближе, товарищи! Плановые и реальные показатели должны знать все.
Неторопливо люди стали подниматься со своих мест и, стоя кто поодаль, кто вблизи, вглядывались в бумажную скатерть, покрывавшую директорский стол.
Сержанову подниматься не надо было, он сидел рядом. Повернуть голову лишь требовалось. Но он не повернул. Смотрел в окно упрямо. Смотрел, хотя ничего не видел. Глаза застилала какая-то мутная влажная пелена. А Даулетов продолжал:
— Зимой, когда я анализировал работу совхоза, открылась любопытная картина. — И вдруг повернулся к главному зоотехнику: — Жолдас Осанович! Допустим, есть у вас на откорме бычок. Жрет он, как говорится, в три горла, а в результате — ни привеса, ни прироста. Что скажете?
— Скажу, что болен.
Главный зоотехник смотрел недоуменно. Не с бычка же неведомого начинать «любопытную картину», благо животноводство самая нерентабельная отрасль хозяйства, и бывший директор если и обращался к главному зоотехнику, то в последнюю очередь.
— А чем болен?
— Так трудно сказать. Нужен диагноз.
— А может быть, — все допытывался Даулетов, — теленок тот вырос уже давно. Просто порода такая, ну карликовая, скажем?
— Ну что ж я, быка от телка не отличу? Что я, совсем, что ли?.. — главный зоотехник даже обиделся.
— Вот и я думаю, что мы не мелкой породы, что наш «Жаналык» может еще расти и вес набирать, — сделал непредвиденный вывод Даулетов. — А, как показывает анализ, хозяйство вот уже несколько лет потребляет все больше, отдача же не возрастает. В чем причина, я и сам еще не до конца разобрался. Теперь будем разбираться вместе.
Не навещал своих подчиненных Сержанов, да и к себе никого из аульчан никогда в гости не звал. Не было у него такого обычая. И не потому, что скуп и нелюдим, — в этом его и недоброжелатели не упрекнули бы. Заносчив — да. Но и не заносчивость тут причиной. Просто особое это занятие — директорствовать в ауле. Не чета он городским начальникам. Приходится соседствовать с подчиненными и командовать соседями. Посидишь за чьим-то дастарханом, а завтра, глядишь, радушный хозяин к тебе в кабинет опохмеляться придет. Кумовство да панибратство разводить — хуже нет, мигом авторитет улетучится.
Не переступал Сержанов чужого порога, даже когда хозяева звали-умоляли. А вот теперь сам отворил чужую дверь — незваный, нежданный, неприглашенный.
Едва зашло за степь солнце и занялись сумерки, явился Сержанов к секретарю парткома. В такой час аульчанам не до гостей. Надо умыть, накормить и уложить в постель детишек, овец впустить в хлев, подоить корову, гусей и кур пересчитать, загнать в сарай. Всем этим занимались Мамутов и его жена, когда отворил дверь Сержанов. Отворил, значит, стал гостем.
Гостя как встречают: поклоном, улыбкой. Поклоном и улыбкой встретили Мамутовы заместителя директора.
Сержанов заметил, как поклонились, как улыбнулись Мамутовы. Заметил и принял. Вздохнул горестно: вот что значит не директор. Сегодня приняли с кислой улыбкой, завтра примут без улыбки, послезавтра совсем не примут.
Надо бы не переступать порог мамутовского дома, не прикладываться к чаше унижения, да нельзя не переступить и к чаше нельзя не приложиться. Испить придется чашу до дна.
— Вот так идет наша жизнь, — сказал Сержанов, поудобнее устраиваясь на кошме и оглядывая стены комнаты. — Как говорят степняки, кувырком: с верблюда на коня, с коня на осла, с осла на собственные ноги…
— Да, да, — кивнул Мамутов, еще толком не разобравшись, в чем дело и куда клонит бывший директор. Да и не отошел он еще от домашних забот, не переключился на разговор.
— И вот когда человек оказывается на собственных ногах, мир предстает перед ним таким, каков он есть на самом деле, — продолжал Сержанов. — С верблюда человек кажется черепахой, с коня — ягненком, с осла — овцой, с собственных ног — человеком…
— Да, да, — опять закивал Мамутов. До него все еще плохо доходили слова Сержанова. Он воспринимал их как звуки окружающего мира: скрип двери, шум ветра, блеяние отары. Привычные, обязательные звуки.
— Увидел я тебя, Мамутов, Мамутовым, — заключил Сержанов.
Перестал кивать секретарь. Не те слова пошли, что не трогают ухо, другие, занозистые какие-то. В них надо вникнуть. Брови Мамутова насупились. Краска бросилась в лицо, из красного оно стало багровым.
— А раньше? — недоуменно произнес он.
— Раньше, когда я на коне был, ты казался ягненком. Добрым малым, симпатягой…
— А сейчас?..
— Нет, братец, сейчас ты не ягненок. Добрый малый не бросит того, кому он многим обязан.
— Разве бросил? — изумился Мамутов.
— Он еще спрашивает. Не только бросил, предал.
— Ой-бой!
— Да, да, предал. И не меня, дело наше предал! И самого себя заодно.
— Зачем такие слова, Ержан-ага!.
— Ты ответь лучше, зачем секретарь парткома совхоза «Жаналык» благоустраивает кладбище, руководит бригадой могильщиков. Ты коммунист, Мамутов, — вздохнул огорченно Сержанов. — Никто не может тебя заставить идти против совести, против убеждений партийца. Я возражал Даулетову, когда мы остались с ним в кабинете, предупреждал его не затевать эту опасную канитель с кладбищем. И ты, парторг, должен был протестовать. Но нет, ты согласился. И побежал собирать строителей, снимать их с объектов. Неужели не видишь, что подставляет тебя Даулетов под выговор. Сейчас с религией строго, а ты добровольно стал уполномоченным Азраила. За это в райкоме спасибо не скажут.
Во дворе раскудахтались переполошенные кем-то куры. Громче всех верещала одна, за стеной.
«Ловят на суп, — сморщился Сержанов. — Прежде для меня закололи бы барашка. Да и не перестарка, а молоденького…»
— При чем тут религия, Ержан-ага? При чем Азраил? Можно подумать, что лежат там одни муллы да имамы. Нет, атеисты там же. И нас с вами — придет час — мимо не пронесут.
— Кур-то у тебя небось мало? — спросил Сержанов.
— Кур?! — Не понял Мамутов, почему гость интересуется птицей. — Есть куры… Хватает…
— И остального хватает?
— И остального.
— К чему обезглавили пеструху? Если для меня, то зря. Тороплюсь я, забежал на минуту всего… Дело простое.
— Дело делом, а ужин ужином, — сказал Мамутов. — Курица разговору не помешает.
— Курица не помешает, а хозяйка — может.
— Не зайдет жена без спросу, — заверил Мамутов гостя.
— Зайти пусть зайдет, только бы не забыла выйти. Сержанов покосился на дверь: верно ли говорит хозяин?
Створки были распахнуты, и за ними никого не угадывалось. — Дело вот какое. Ты слышал, утром на совещании Даулетов к воде придрался. Зачем, думаешь?
— Пока не знаю.
— А затем, что нужно ему всех разогнать. Ищет повод. А повода нет, он и ухватился за воду. У нас в отчетах одно записано, а у него, видите ли, другие данные.
— На самом-то деле как?
— Ох, Мамутов, Мамутов. Кто ж ее мерил, эту воду? Ты про себя знаешь, сколько за день пьешь? То-то. И я про себя не знаю. А тут целый совхоз. По нормам положено четыреста кубов на центнер. Ну, мы скостили малость, записали триста пятьдесят и документально оформили. Цифирьки всё это, бумажки. Они там сидят в своих райуправлениях, делать им нечего, отчетностью завалили. Скоро не только воду, но и воздух, и кизяки по аулам начнут пересчитывать. А ты пиши им справки. Написал — уже документ. А документ, сам знаешь, — бумага официальная. Чуть что не сошлось — отвечай. Вот Даулетов за документ и схватился.
— С водой-то все же как? — переспросил Мамутов.
— Тугодум ты, Мамутов, тугодум. — Сержанова начала раздражать непонятливость хозяина. — Говорю же, не воду Даулетов ищет, а наши ошибки. Думаешь, мои только? Нет, братец, наши. Цифирьки те красовались не в одних лишь моих отчетах, но и в твоих тоже. А ты их с трибун произносил, когда нам премии да вымпелы вручали. А запиши мы в справке шестьсот кубов на центнер — были бы премии? Как же, жди! Мы с тобой, ладно, обойдемся и без премий. Люди мы состоятельные. Ты вот курицы для гостя не пожалел, — съязвил Сержанов. — А рабочим что скажем? Их за что обижать? Кому как не нам, руководителям, о своих людях позаботиться? Подумай над этим, Мамутов.
— Думаю, — отозвался секретарь. Слово произнес медленно и протяжно. Похоже, и впрямь задумался.
— Подумай, подумай! Потом возьми листок бумаги, сядь и напиши в райком, а хорошо бы еще и в газету.
— Что писать? — Мамутов встрепенулся.
— Вот это самое и пиши. Как новый директор начал с недоверия к коллективу, с подозрительности, с желания опорочить все многолетние достижения хозяйства. А сам сосредоточился на решении бытовых вопросов, будто он не директор, а завхоз, чем ставит государственные планы под угрозу срыва.
— Складно у вас выходит, Ержан-ага. Может, без меня обойдетесь, сами и напишете?
— Мне нельзя. Неужели не понимаешь, как это воспримут, что люди скажут? — Сержанов уже не шутя злился на Мамутова. Мямля, телок. Нет, это не боец. Да что там, был бы бойцом, не взял бы его к себе Сержанов, не сделал бы секретарем. Знал, кого назначал, вот теперь и расхлебывай.
Знать-то знал, но не до конца. Был прежде Мамутов учителем. Историю преподавал в местной школе и хотя не достиг никаких высот — ни в директора, ни даже в завучи не вышел, но дело свое знал и любил. Любил возиться с ребятами, делать с ними стенгазеты и монтажи к праздникам, организовывать всяческие сборы и слеты, мастерить с учениками наглядные пособия, ходить с ними в походы. Сержанов переманил его в совхоз, согласовав с райкомом, выдвинул в секретари. Говорить человек умеет, писать — тоже, в наглядной агитации разбирается. Чего еще? Ничего другого от совхозного парторга прежний директор и не требовал.
Мамутов долго колебался, понимая, что при директоре «Жаналыка» он будет чем-то вроде тамады. Но Сержанов обещал жилье, — учительская квартира стала тесновата, все же семеро детей да сам Мамутов с женой, — и зарплата секретарская побольше учительской ставки. Тоже не густо, но побольше. Поколебавшись, Мамутов сдался, еще и то принимая в расчет, что не простит Сержанов оскорбления — а любой отказ он считал для себя личным оскорблением, и только так, — не простит и отыщет способ выместить обиду.
Согласился. Жалел ли потом? Некогда было жалеть. Закрутила текучка. То одно, то другое, то просьба, то поручение, а Мамутов был человеком исполнительным и добросовестным.
Вошла хозяйка. Внесла блюдо, а на нем дымилась малиново-желтая, сверкающая маслеными боками курица, только-только из котла.
— Не гневайтесь на хозяйку, дорогой Ержан-ага! — повинилась женщина, опустив блюдо на кошму у ног Сержанова. — Руки у меня не быстрые, хоть и торопила их.
«Хороша пеструха! — глянул аппетитно на блюдо Сержанов. — Однако все же не барашек».
— Прости, келин! — сдерживая все еще кипевшую в душе злость, сказал Сержанов. — Не до угощения мне сегодня. Времени в обрез. В другой раз как-нибудь. Прости уж…
Он встал. И когда выпрямился во весь свой рост, то едва не уперся головой в потолок. Не для Сержанова был этот дом. Маленьким людям здесь жить.
Не оглядываясь, пошел к двери. Мамутову бросил через плечо:
— Разговор пусть здесь останется.
— Язык проглочу, — шутил Мамутов или серьезно — не разберешь.
— Не глотай язык. Он тебе еще пригодится.
В тот же день и почти в то же время на другом конце аула входил в чужую дверь и Даулетов. Он явился к старому Худайбергену и принят был, как велит обычай, вежливо, но не более того.
— Высокий гость — честь для хозяина, — сказал Худайбер-ген, но не приметил Жаксылык, чтобы старик особенно гордился этой честью.
— Уважаемый Худайберген, не называйте, пожалуйста, гостем того, кто пришел одалживаться.
— Да, да, — кивнул старик. — Понимаю. Сам приехал, жену еще не перевез. Один без хозяйки. Муки? Соли? Чаю?
— Нет, нет. Мне бы мозгов, — Даулетов улыбнулся. — Хотел занять у вас, аксакал, ума-разума. Знания ваши мне нужны. Вы один из старейшин, кто лучше сможет рассказать об ауле, о людях, о совхозе.
Даулетов вежливо поклонился, считая, что теперь очередь Худайбергена. Но старик молчал, понуждая Жаксылыка продолжать разговор самому. Хуже нет, если приходится говорить, когда надо бы уже слушать. Тут того и гляди скажешь какую-нибудь чушь. Но делать нечего, и Даулетову пришлось продолжать.
— На недавнем собрании вы один, уважаемый Худайберген, выступили против Сержанова…
Ну вот и сказанул. Ведь слова эти можно было истолковать и так: собираю, мол, улики против своего заместителя, а у вас, судя по всему, на него обида, так не поможете ли мне? Неудобно получилось. Понял это Даулетов и заторопился, скороговоркой-скороговоркой стал выпутываться из неудобного положения.
— Я к тому, что, значит, были у вас веские причины. Хотя, казалось бы, совхоз благополучный, по производству основных видов продукции план выполняет. Но вы, Худайберген-ата, с вашим умом и опытом, видимо, знаете что-то такое, чего другие еще не поняли. Я же человек новый, мне эти знания очень нужны. Потому и хотел занять их у вас.
— Не дам, — отрезал старик. — Не вернешь потому что.
— Зачем вы так, Худайберген-ата? Не водится за мной такого. Долги всегда отдаю аккуратно.
— Не водится, не водится, — пробурчал старик. — Вот я пчел держал, а потом гусениц шелкопряда. Так их я заводил. А тараканы сами завелись, не знаю, как избавиться. Не водится — заведется. Дрянь — она такая, сама собой берется.
Не клеилась беседа. Чувствовал это Даулетов, но не знал, как ее наладить.
— Вы за что-то сердитесь на меня, аксакал? Право же, не знаю, за что?
— Сердиться мне на тебя, директор, пока не за что. А только не нужен тебе мой ум. Живи своим, коль сможешь.
— Ум хорошо, а два — лучше. Разве не так?
— Не так. Это огурец с солью — хорошо, а дыня с солью- плохо.
Опять замолчали. Не выстраивался разговор, не выстраивался ни в какую, и все тут, рушился у основания. Ничего не попишешь, значит, надо откланиваться да идти восвояси.
— Извините, если что не так сказал… — начал прощаться Даулетов, но старик оборвал его:
— Вот именно — не так. Сказал — ладно, думаешь не так — вот беда. Говоришь «производство», «продукция»…
— Да, — быстро 'согласился Даулетов, обрадовавшись появившейся надежде на продолжение беседы. — Да, это бумажные слова. Но верьте, аксакал, я понимаю, что росток хлопка — не винтик. К нему мало подходить с одной лишь технологией, к нему с душой надо.
— Это само собой, — Худайберген отклонял попытку директора предугадать ход его мыслей. — Душа везде нужна. Другое важно. Нас уже зачислили в рабочие. Так и говорят — рабочий совхоза. А мы не рабочие, мы — дехкане, земледельцы. Понимаешь, директор? Земледельцы. Мы делаем не хлопок и не рис. Мы землю делаем, а уж она родит. Рабочий испортит деталь. Жалко, но ничего. Бери, делай другую. А если дехканин землю испортит? Другую где взять? Понимаешь?
— Да, да, — кивнул Даулетов. Это-то он понимал, и даже лучше старика, не зря же был экономистом. Понимал, что и в промышленности все не так просто, как кажется Худайбергену. Запорота деталь — загублен в ней общественный труд, загублен материал — ну это еще ладно, можно и в переплавку пустить, но энергия и общественно полезное время теряются безвозвратно. И землю испорченную можно восстановить: промыть солончаки, внести удобрения и прочее, и прочее. Можно, хоть, конечно, дольше это, хлопотнее и дороже, чем исправить деталь или даже отремонтировать машину. Все понимал Даулетов, но не ради же прописных истин пришел он сюда.
— Не понимаешь, значит, — Худайберген сокрушенно покачал головой. — Не понимаешь, директор, и не спорь. Слушай лучше, я тебе легенду расскажу.
«Легенда — так легенда, — подумал Даулетов, — пусть будет вечер народного творчества».
Старик встал, пересел со стула на кошму и, поджав под себя ноги, повел рассказ длинно и велеречиво, что удивило Даулетова, поскольку Худайберген не из говорунов. Видимо, передавал он предание так, как слышал от других, и был убежден, что нельзя ничего в нем менять, хоть манера сказа и не вязалась с его складом речи.
— Создал всевышний небо, землю, воду, птиц, зверей и рыб, и прочую тварь божью, и Адама создал, и дождался, когда от потомков его произойдут люди многочисленные, и людей в народы соединил, и каждому народу дал отдельное имя, и каждого землей наделил, и сел править сотворенным им миром.
И однажды к дворцу его небесному приходят неизвестные люди. И удивился бог и спросил: «Кто вы такие?»
И говорят ему неведомые люди: «Господи, мы и сами не знаем, кто мы есть, поскольку не дал ты нам имени».
И рассердился бог и спросил: «Где же вы были, когда я всем народам имена давал?»
Люди неведомые ему отвечают: «Прости, всесильный, но надеялись мы на твою милость и не осмелились презренной просьбой утомлять твои уши».
И ответил им владыка мира: «Сундук имен пуст. Раньше надо было приходить. Сами виноваты. Уж очень вы робкие. И очень неприглядные, незаметные. Наденьте, что ли, черные шапки,[6] чтобы в следующий раз мог я вас опознать. Решу ваше дело, сам позову. А пока идите!»
Люди же ему говорят: «Куда идти нам, господи? Нет у нас земли».
Совсем прогневался бог и крикнул: «Я не мог ошибиться! Есть и для вас, ротозеев, земля. Только забыл где. Вот идите и ищите. И чтоб я вас больше не видел. Прочь!»
И пошли «черные шапки» искать свою страну. Много ходили по миру, много стран перевидели, но у каждой земли были хозяева. Одни злые, они кричали: «Убирайтесь отсюда, не то хуже будет!» Другие добрые, они пускали погостить, но уступать свою страну пришельцам тоже не собирались.
И бродили по свету черношапочники и сто, и триста, и тысячу лет, и привел их наконец Маман-бий в эти степи. Пришли сюда люди, оглянулись и ужаснулись: куда они попали? Слева Барса-Кельмес, справа Барса-Кельмес,[7] спереди Каракумы, сзади Кызылкумы.
И собрались старейшины родов, и вызвали они Маман-бия, и стали кричать ему: «Куда ты нас завел?! Мы все здесь погибнем!»
И ответил им мудрый и отважный Маман-бий: «Я привел вас домой. Эта страна отныне станет родиной каракалпаков. Забытый богом народ нашел забытую богом землю, значит, край этот для нас и был предназначен, и никто уже не прогонит нас отсюда».
И сказали старейшины родов Маман-бию: «В этой стране нет земли, один песок. Где нам пасти скот? Где сеять джугару? Что будем класть в очаги? Что будем класть в котлы? Чем наполнять пиалы?»
И ответил им мудрый Маман-бий: «Арал будет нашим общим котлом. Аму — общей пиалой. Прибрежный тростник даст огонь очагам. А землю будем делать сами».
— Все, — вдруг закончил старик. — Когда это прожуешь, приходи еще.
Однако вновь встретиться не довелось…
Беда обрушилась внезапно.
За аулом на шоссе машина сбила Худайбергена. Когда узнавший об этом Даулетов примчался на своем «Москвиче», старик лежал на обочине, окруженный толпой сбежавшихся людей. Двое поддерживали его голову, остальные стояли, тихо переговариваясь, либо бестолково суетились, не зная, чем помочь. Участковый милиционер тщетно искал свидетелей: голубой самосвал видели все, но номера никто не запомнил.
— Где врачи? — крикнул Даулетов.
— Звонили уже в райцентр. Говорят, машин нет, — отозвался высокий, спортивного вида парень, наверное из студентов, присланных на прополку. — Две на ремонте, а на третьей главврач уехал на похороны, — продолжал зачем-то пояснять он.
«Главврач на похоронах! Что за идиотизм!» — думал Даулетов, возвращаясь бегом к своему «Москвичу» и подкатывая на нем к обочине, где лежал старик. «Врач на похоронах? Врач?»
— Помогите кто-нибудь!
Несколько рук сразу подхватили Худайбергена.
— Не довезут, — всхлипнула какая-то сердобольная женщина.
— Похоже, что так… Однако если быстро… — ответил ей мужской голос.
— Да аккуратней вы! Потише! — Жаксылык нервничал, видя, как втискивают старика в кабину, как укладывают его на заднее сиденье.
— Мамутов, со мной! — не попросил, а буквально приказал стоящему тут же секретарю.
— Зря, — раздалось в толпе. — И сами измучаются, и старика измотают напоследок.
Но этого Даулетов уже не слышал.
Сидя в своем кабинете, Сержанов услышал, что в конторе поднялся переполох. Когда вышел в коридор, спросить, что случилось, было уже не у кого. Он выглянул на улицу и, увидев людей, бегущих к шоссе, направился следом.
На полпути ему повстречался Завмаг.
— Э-э! — укоризненно произнес он, — Что ж вы, Ержан-ага, опаздываете на похороны?
— Чего городишь? Какие еще похороны?
— Обыкновенные. По мусульманскому обряду — до захода солнца.
— Солнце в зените… Говори толком.
— Солнце-то в зените, а покойник уже на пути в царство Азраила. Худайбергена машина сбила.
Сержанов вообще не любил шуток, а кощунственных тем более. Как бы он ни относился к старику, но если с тем и впрямь беда, то нельзя об этом говорить со смешком.
— Ты вот что, Завмаг. Когда в следующий раз кланяться будешь, руку покрепче к груди прижимай.
Тот понял намек:
— Хотите сказать, чтоб камень из-за пазухи не выпал? Зачем же камень ронять, если его и кинуть можно… Еще пророк Иса учил, что всему свой срок: есть время, чтоб собирать камни, есть время, чтоб бросать их.
— Замолчи!!
— Хорошо, замолчу. Только кому это поможет? А вот если стану говорить, то принесу пользу некоторым уважаемым людям. Вам, Ержан-ага, например… — последние слова сказал тихо, как спичку чиркнул, но любопытство разжег.
— Что там еще?.. Ну говори, не тяни!
— Я не тяну. Готов раскрыть хурджин слов.
— Так раскрывай!
— Открыть-то недолго. Да хурджин не при мне. Дома он, Ержан-ага!
— О, лиса! Хвост твой так след и заметает!
— Напрасно вы так. Виден след. К дому ведет. Зашли бы. Прежде сколько раз зазывал, двери настежь отворял, мимо проходили. А сегодня, думаю, можно и заглянуть.
Обиделся Сержанов. Ведь намекает Завмаг, что, дескать, уже не директор.
— Домой иду. Обед ждет.
— И у меня стол не пустой. Вместе и пообедаем. Сержанов колебался. Любопытство тянуло, а душа противилась. Брезглив Сержанов. С души его воротит от каждого прикосновения к засаленному пиджаку Завмага. Сколько лет знакомы, сколько раз Завмаг выручал его, но протянуть руку этому замызганному замухрышке или похлопать его по плечу Сержанов никогда не мог — противно. Однако любопытство пересилило брезгливость.
— Ладно, пойдем. А то залежится в твоем хурджине словесный товар. Сгниет еще.
Жил Завмаг в маленьком глинобитном домишке, окруженном высоким глиняным забором. Хибара не хибара. Развалюха не развалюха. Стоит же, сколько помнит ее Сержанов, не разваливается, даже вроде и не покосилась за это время, хоть, правда, и так все сикось-накось. Углы осыпались. Маленькие кривенькие окошки занавешены каким-то тряпьем. Все закрывают окна от солнца, но не таким же хламом! Над большинством домов в ауле давно уже шиферные крыши, а над Завмаговой халупой все ещек-арха.[8]
Завмаг открыл калитку, такую узкую, что грузный Сержанов смог протиснуться в нее только боком, а протиснувшись, моментально шарахнулся к стене: на него кинулась здоровенная черная собака. Сержанов прижался спиной к забору, почти вдавился в него, а собака, натягивая цепь, стояла на задних лапах и скалила зубы. Она не лаяла и не рычала. Из пасти сочился тонкий глуховатый сип. Морда ее была в тридцати сантиметрах от лица Сержанова, но и с такого расстояния он не мог разглядеть глаза зверюги, они прятались в густой жесткой шерсти.
— Шайтан, — прохрипел Сержанов.
— Конфета! На место! — приказал Завмаг, но приказал, как заметил Сержанов, не сразу, а сперва насладился испугом бывшего директора.
Зверь тут же затих и, не оборачиваясь, ушел в конуру.
— Зверская скотина! — то ли ругая, то ли хваля, но с каким-то подавленным восторгом произнес Сержанов.
— Умная собака… И дорогая, — отозвался Завмаг, вроде бы отвечал на слова спутника, а в то же время вроде бы и не слышал их. — Редкой породы. Не наша порода, зарубежная.
Еще не пришедший в себя Сержанов переступил порог дома и во второй раз за одну минуту застыл, как ошарашенный: на стенах — зеркала, отражавшие блеск хрустальных бра, под потолком вентилятор, а на полу ковер на ковре. Именно так — поверх паласа стлался от порога ворсистый текинский ковер. Ковер был столь великолепен, что гость непроизвольно тут же принялся стягивать запыленные туфли. — Зачем, зачем? — запротестовал хозяин. — Топчите на здоровье, от подошв дорогого гостя ковер станет еще дороже. — Но уговаривая не разуваться, Завмаг тем не менее придвинул бархатный пуфик — сидя удобнее расшнуровывать туфли — и поставил мягкие замшевые тапочки.
— А я-то думал… — смущенно улыбнулся Сержанов, всовывая ноги в замшевые тапочки и поднимаясь с бархатного пуфика.
— Все так думают, — кивнул понимающе Завмаг. — Старый костюм и помятая шляпа кого не введут в заблуждение. Я просил жену, чтобы еще посадила заплатку на брюки. Но женщины мудрее нас, Ержан-ага. Знаете, что она мне ответила?
Сержанов поднял брови, изображая любопытство и спрашивая как бы: «Что же она, куриная голова, тебе посоветовала?»
— Заплата только на зарплату. Что неряшлив — все поверят, что беден — никто.
— Да, заплата была бы лишней, — согласился Сержанов, — а вот пиджак можно бы и сменить.
Не ответив, Завмаг разделся и аккуратно повесил замызганную одежду в отдельный шкафчик. Затем проводил гостя в комнату, посреди которой красовался громадный стол, крытый бархатной скатертью. Две стены завешаны коврами, третья — шторами, а вдоль четвертой во всю высоту тянулся застекленный стеллаж, заставленный хрусталем и фарфором, книгами, статуэтками, безделушками и аппаратурой: телевизор, приемник, проигрыватель, магнитофон и стереоколонки.
Усадив гостя в мягкое кресло, хозяин небрежно предложил: «Может, коньячка для затравки?» — и, не дожидаясь, пока гость посоветуется с собственным желудком, направился к книжным полкам.
То, что Завмаг подошел к книгам, Сержанова не удивило, он и сам кое-что «для настроя» прятал за толстыми томами. Но Завмаг откинул библиотеку, как дверцу, — не книги, а лишь корешки переплетов, — за ней открылся зеркальный бар.
— Фокусник… — изумился Сержанов. — Как в цирке, а я-то думал: библиотека…
— Что вы? — в свою очередь изумился Завмаг. — Книги в доме? Сверху пыль, внутри обман. А тут без обмана — напитки настоящие, марочные. Что берем — три, четыре, пять звездочек? Или «Двин»? Или «КЭВЭ»?
— Лучше поскромнее. Не столь уж ясное небо над нами, чтоб светили все пять звездочек.
— Отлично сказано, — польстил гостю хозяин. Он подбросил бутылку, она перевернулась в воздухе, как породистый голубь, и, ловко поймав ее, Завмаг одним быстрым движением снял пробку, словно скрутил птице голову. — Готово!
— За узы дружбы, — поднял Сержанов толстый хрустальный стаканчик. Он привык к тому, что каждое его слово воспринимается как значительное, и сейчас Завмаг должен был понять, что ему предлагают дружбу, более тесную, нежели прежде, и напоминают, что дружба эта держится на том, что не только связывает, но и повязывает их обоих.
Гость выпил лихо. Он опрокинул содержимое стакана в рот и секунды три сидел неподвижный и блаженный. Хозяин, напротив, сморщился всем лицом, тряс головой, поводил плечами и громко крякал.
Неясно, уловил ли Завмаг смысл тоста, но скорее всего уловил — смекалист, прохиндей, однако отзываться или благодарить гостя не спешил. Более того, не говоря ни слова, вдруг заторопился на кухню. Минуты три-четыре нарочито громко гремел посудой и появился, катя перед собой маленький двухэтажный столик на колесиках.
— Плов-млов, салат-малат, фанты-манты, кишмиш, — балагуря, с прибаутками он переставлял блюда с маленького столика на большой, и оказалось, что для всего привезенного на громадном обеденном столе едва-едва хватило места, при-шлось даже хрустальную вазу с восковыми розами переставить на стеллаж.
Плова не было, а вот четыре бутылки «Фанты» действительно стояли в соседстве с пиалами верблюжьего молока — шубата. Были и манты, еще курица и семга, грибы и томатный соус, салатница с помидорами и такая же салатница с икрой, кислое молоко, казы, сыр, ветчина, резанный кружочками репчатый лук и большой ананас, который красовался в центре стола вместо традиционной бараньей головы.
— Теперь можно и по второй… — Говоря это, Завмаг мигом наполнил стаканчики и сам же произнес тост: — За погибель врагов наших! — И, как только выпили, добавил: — Худайбергена бог уже прибрал.
Сержанову вновь это не понравилось, и он поморщился.
— Вы подумайте, — будто ничего не заметив, продолжал Завмаг. — Подумайте, Ержан-ага, какой дальновидный шофер попался. Вас не сбил, меня не сбил, а полоумного старика… — тут он развел руками. — Любопытно, что за человек? Найдут, так посмотреть бы.
— Едва ли… — неохотно отозвался Сержанов. — Не любит этого Нажимов, и в районном ГАИ знают, что не любит. Вдруг окажется, что шофер районный, да еще того хуже, что пьяным был. Пойдут проверка на проверке. Комиссиями замучают. Везде копать начнут. И целый год район склонять будут во всех инстанциях.
— Очень умный человек наш Нысан Нажимович, очень умный, уж сколько лет им восхищаюсь. Он все на сто ходов вперед предвидит. А вот про нового директора я бы этого не сказал. Нет, не сказал бы.
— Брось. Он тоже не дурак, только ум у него какой-то нежизненный. Диссертации писать — годится, а для дела — нет. Однако чего тебе-то Даулетов дался? Ты ведь по другому ведомству, ты от совхоза не зависишь.
— Как же так? Вам-то подчинялся, а ему, значит, нет?
— Э-э, Завмаг… Тебя я сам к рукам прибрал, а он не хочет, он к твоему пиджаку прикасаться брезгует. Странный ты какой-то. Где хитрее хитрого, а где простых вещей не понимаешь.
— Обижаете, Ержан-ага. Хитрости во мне ни на копейку. Сообразительность — да, имеется. Вот я и соображаю: копать Даулетов начал, воду ищет.
— И опять тебя это не должно тревожить.
— Как сказать… Главное, что копать начали. Ищут воду, найдут золото. Что скажут: не надо, обратно зароем? Нет, все до крупицы вынут.
— А ты поостерегись теперь. Притихни. Что тебе, этого мало? — Сержаиов обвел глазами комнату. — На всю жизнь хватит.
— Ах, Ержан-ага, Ержан-ага. Еще в древности один мудрый бай сказал: «Все люди страдают одинаково, одни от того, что суп жидок, другие от того, что жемчуг мелок. Но одинаково». Я тоже страдаю. Мне тоже многого не хватает, Ержан-ага.
— Ну, как знаешь, твоя это забота. А будь я на твоем месте, то плевал бы на Даулетова.
— Оттого что наплюю, ему не станет хуже. Как после полива, еще больше пойдет в рост.
— Колючку тебе на язык!
— Не мне, а Даулетову. И не колючку, а иглу в баурсаке. Сержанов испуганно глянул на Завмага. Понял вдруг, что
не пустой разговор ведут они за коньяком, что слова ядом напоены, и яд способен поразить насмерть.
На мгновение какое-то почувствовал он себя преступником. И стало муторно на душе, засосало тошнотно под ложечкой. Хотел гибели своим врагам Сержанов, клял их, просил судьбу покарать их. Было такое. Но не физической гибели хотел, а моральной. Чтоб пали в глазах начальства, лишились должности и почета, исчезли с сержановской дороги. А тут повеяло смертью настоящей.
— Ты? — спросил глухим, срывающимся голосом Сержанов и впился глазами в Завмага.
— Что я?
— Ну… иглу эту?
Хихикнул Завмаг. Испуг гостя показался ему смешным.
— Опомнитесь, Ержан-ага. Кто теперь кладет иглы в баурсаки?..
— А-а… — протянул Сержанов и вдруг опять посуровел. — А Худайбергена — ты?..
— Вот этого не надо, — лебезящая ухмылка сошла с лица Завмага, он говорил теперь строго и зло. — Не надо этого!
Над столом нависла тяжелая тишина. Сержанов сам плеснул себе коньяка — не в стаканчик, в пиалу, и глотнул залпом.
— Разве о том речь, Ержан-ага, — тон Завмага вновь был ласковым, примирительным. — Я говорю: постращать надо, попугать. Пуганый заяц собственной тени боится. А тень у всех есть. И у Даулетова тоже.
Вот уже почти месяц с утра до вечера мотался Даулетов по полям. Поначалу с Сержановым или главным агрономом, но теперь решил поездить один, без гидов и провожатых, без попутчиков и «подсказчиков». Решил разобраться во всем самостоятельно. Благо вышел наконец из ремонта второй «газик». Первый он оставил за Сержановым — зачем без надобности лишать человека его привычек? Искал не огрехи хозяйства, они уже были известны, здоровое и доброе искал. Должно же существовать здоровое и доброе, на чем же иначе держался «Жаналык».
В это утро он катил в бригаду Аралбаева. Потянуло его туда необъяснимое пока чувство симпатии к бригадиру, которого он толком не знал да и видел-то всего несколько раз. Приметил лишь, что суховат и даже грубоват Аралбаев, неразговорчив, независим. Такие обычно не нравятся руководителям, особенно только что назначенным. На первых порах опираешься все же на общительных, доброжелательных людей. Они кажутся надежными, исполнительными. Аралбаев сухостью своей, молчаливостью и Сержанову, поди, не нравился. Поощрений особых Даулетов в приказах не нашел. Обходили Аралбаева грамоты и премии. Выговоров, правда, тоже не получал.
Трудно сказать, что именно, но что-то, однако, заинтересовало в Аралбаеве нового директора. Все пытался он на производственных совещаниях вовлечь молчуна в обсуждение общих дел. Но безуспешно. Не вовлекался Аралбаев, не разгорался. Жара, видимо, не было в душе. А если нет его, сколько ни раздувай, сколько ни старайся, ничего не выйдет.
Но в то же время все утверждали, что дело знает, рис любит. Рис любить вообще-то трудно. Капризен он, сил отнимает уйму. Может, это удивило Даулетова.
Во всяком случае, поехал. И с надеждой какой-то поехал, вроде именно у Аралбаева надеялся найти то здоровое, доброе начало, которое давно уже стремился отыскать в совхозе. У чудных людей его чаще всего и находят.
Поля Даулетов не увидел. Увидел заросли камыша, они волнились и шумели на ветру. Шум был какой-то спокойный, веселый даже. Он настроил Даулетова на оптимистический лад.
Заросли оказались густыми, но неширокими, и когда Даулетов, отыскав проход, вышел к рисовым чекам,[9] то замер, пораженный увиденным. Поле было унылым. Настолько унылым, что радость мгновенно погасла, здесь она была неуместной. Посевы — почти сплошь изрежены, будто прошел по ним кто-то и злой рукой выдрал стебли.
«Вот тебе и здоровое, доброе, — с отчаянием каким-то подумал Даулетов. — А я ведь надеялся. Неужели так и суждено во всех разочаровываться? Один старый Худайберген не обманул вроде. Но и он погиб».
По перегородкам чеков бегал сам Аралбаев, обнаженный до пояса, в засученных штанах. То здесь, то там поправлял струи воды, чтобы они ровно, не размывая перегородок и дна чеков, покрывали посевы. Делал он все ловко, танцуя будто, тело его сгибалось легко и так же легко разгибалось. Даулетов залюбовался бригадиром.
— Харма! — сказал он, стараясь взобраться по примеру Аралбаева на перегородку.
— Осторожнее! — предупредил тот. — Скользко здесь. Упадете!
— Вы же не падаете?
— Мы привычные, — то ли себя называл бригадир во множественном числе, то ли имел в виду всех рисоводов и поливальщиков — четверо из его бригады в это время тоже сновали по перегородкам чеков, — то ли слегка иронизировал над новым директором, — в совхозе многим казалась странной его манера ко всем обращаться на «вы», не привыкли к такому аульчане.
— Вижу, — Даулетов осуждающе покачал головой, — и к браку привычные? Стебель от стебелька — на десять шагов.
— Здесь на тридцать сантиметров, — деловито уточнил бригадир. — На соседних чеках — до метра.
«Чудит он, что ли? — возмутился Даулетов. — Или смеется надо мной?»
— До метра! А как же план?
— План будет.
— С чего же будет?
— С моих полей, — по-прежнему деловито объяснил Аралбаев.
Директор расхохотался нарочитым клоунским смехом.
— С этих пролысин?
— Не с этих. Я же говорю, с моих полей.
— А это чьи?
— Сержанова.
Уставился на бригадира Даулетов. Было чему подивиться: оказывается, и поля разные, и хозяева разные. Одно поле бригадирово, другое директорское.
— Он что — сам пахал, сам сеял?
— Сеем мы и ухаживаем мы, но указания дает он.
— Не чуди, бригадир! Не может директор приказывать работать плохо.
Невозмутим этот Аралбаев. И на сей раз возмущение Даулетова принял с завидным спокойствием.
— Никто не приказывает работать плохо. Да мы и сами плохо не сделаем. Делаем все, чтобы урожай был.
— Откуда же пролысины? — начал терять терпение Даулетов. — Откуда слабость стебля?
— Во-первых, пахать надо было по-людски. Не один раз, а дважды и перекрестно. А во-вторых, от неправильной планировки чеков. Ее нужно менять каждый год, в крайнем случае — раз в два года. А здесь четырехлетняя.
— Отчего же не меняете?
— Денег жалко, — объяснил Аралбаев. — Перепланировка — это тысячи рублей. Никакому директору не захочется повышать себестоимость продукции. И вам — тоже.
«Дерзок, однако, — опешил Даулетов. — Не верит никому, мне в том числе, хотя меня совсем и не знает. Разговариваем всего в третий раз. Откуда такая убежденность в неразумности и алчности руководства?»
— Предположим, — принял вроде бы обвинение бригадира Даулетов. — А чем докажете, что новая планировка дает прибавку урожая?
— Не стану доказывать. Покажу. — И Аралбаев зашагал по перегородкам, направляясь куда-то за камышовую стену. Директора за собой не позвал, считая, что тот сам пойдет.
Пошел, конечно. Двигаться по мокрым перегородкам было трудно. Ботинки скользили, вот-вот сорвешься в зеленоватую воду чека. Аралбаев не ждал директора, бежал, ловко перебирая ногами и лишь иногда взмахивая то левой, то правой рукой — равновесие сохранять все же надо было.
За камышовой стеной открылись те самые, его, чеки. В планировке Даулетов ничего особенного не заметил, а вот посевы обрадовали. Ровная густота стояния, свежесть стеблей. Чувствовалось, что они здоровые, веселые, торопливо тянутся к солнцу.
— Вот! — бросил коротко Аралбаев.
— Эти, тысячерублевые? — спросил с доброй улыбкой Даулетов.
— Мои.
— Деньги-то откуда взяли?
Бригадир поднес к лицу директора две руки с растопыренными пальцами.
— Отсюда!
Не понял Даулетов, что означают открытые ладони бригадира: то ли деньги свои отдал, то ли собственными руками провел планировку.
— Ну, если отсюда, — он кивнул на руки Аралбаева, — то можно было бы все чеки перепланировать.
Не понравился совет Аралбаеву. Обидел даже:
— Отсюда ничего больше не возьмете, только жалобу, если хотите. Бригада за свой счет наняла грейдериста. Я сам для него ездил в город за «Столичной». Другую он пить не хотел.
Бывает же такая нелепая ситуация, когда не знаешь, как реагировать на чужие слова. Вроде просты они, бесхитростны, но жестоки по сути. Какую-то боль услышал в сказанном Даулетов. Что же вы, начальники, делаете? Что творите? Люди хотят как лучше, а вы на что толкаете? На обман толкаете! Пусть не он, Даулетов, толкал, а другой. Однако сам принцип взаимоотношений между приказывающим и исполняющим опорочивается. Исчезает вера в мудрость и справедливость руководителя. Непогрешимым вожак, видимо, быть не может, но незапятнанным — обязан.
— Простите! Сказанул, не подумав, — повинился Даулетов.
Недоверчиво глянул на директора Аралбаев.
— Да и я хорош. Зря показал вам свое поле, — тоже повинился Аралбаев. — Сержановские чеки заставили бы вас иначе относиться к рису. А теперь… — он махнул рукой. — Раз может бригада выкрутиться, так пускай и выкручивается.
Смешным показалось Даулетову это — раскаяние.
— Уж поверьте, что не зря. Урожай с него соберите отдельно и документально оформите. Все, что бригада сделала и как сделала, изложите в рапорте. Будем перестраивать все рисовое хозяйство…
Торопливым было решение Даулетова. Таким торопливым, что бригадир усомнился в серьезности обещания. Повернуть все хозяйство — экий прыткий.
— А деньги? — спросил он. — Денег не пожалеете?
— Чего же жалеть, если окупятся расходы, — заверил Даулетов. — Сколько прибавки дает перепланированное поле?
— Десять — пятнадцать центнеров с гектара.
— Вот тебе и деньги. Грейдеристам заплатим, и совхозу останется кое-что. Прибыльным станет рисоводство.
— Ну, если так… — развел руками Аралбаев.
— Именно так, и только так!
Возвращаясь к машине, Даулетов пытался понять: поверил ли ему бригадир? «Нет, похоже, не поверил. Хотел, очень хотел, но не смог. Почему? То ли неубедительный я какой-то, то ли вид у меня несолидный. Вот Сержанов, тот — да. Глянешь — сразу скажешь: это директор. А я — так, ни объема, ни роста, ни в лице внушительности. На секретаря или референта, может, и потяну, а до директора комплекцией не вышел. А впрочем, это ерунда. Не в наружности моей дело. Аралбаев и сам знает, что рисоводство может стать прибыльным. И я ему — то же говорю, еще и расчетами подкрепляю. Но он все равно не верит, не верит даже в то, что сам знает. Парадокс. Значит, полагает, что расчеты — не главное. Так что же главное?»
Когда ответ приходилось искать за пределами логики, Даулетов, как правило, оказывался в тупике. Он попросту не понимал людей, которым непонятны доводы рассудка, хотя по опыту знал, что людей таких довольно много.
Перепланировка увеличивает урожайность на одну шестую. Значит, на такую же часть можно сократить и площадь под рис, и воду, и количество людей, занятых в рисоводстве, и… и… и… А то «плешивые чеки» непомерно много ресурсов сжирают.
«Хорошо, — размышлял далее Даулетов. — Но ведь и Сер-жанову это было понятно? Конечно. Однако поскупился он на перепланировку чеков? Поскупился. Вот бригадир, видимо, и рассуждает: расчет расчетом, выгода выгодой, а у вас, начальники, есть какое-то «особое мнение».
«Особого мнения» у Даулетова не было, но, кажется, этому-то и не поверил Аралбаев.
Водитель подогнал «газик» к самым зарослям камыша, и Даулетову пришлось сделать лишь шаг, чтобы оказаться в машине.
— Давай теперь на участок Далбая!
Шофер вырулил на проселок, и покатил «газик» к дальним зарослям: все рисовые поля были за стеной камыша. В этом месте канал, что питал чеки, обильно оброс им. Вытянувшись словно тополь, камыш создавал глубокую тень и оберегал канал от огненных лучей солнца, способных, кажется, вскипятить воду.
Водитель свернул к рисовому полю Далбая Султанова.
Над чеками стояло полуденное солнце, нагретая вода чуть парила, источая застойный илистый запах.
— Здесь? — спросил Даулетов шофера.
— Здесь… Только не бывают бригадиры в это время на чеках. Обед…
Даулетов понимающе кивнул.
— Было бы поле…
Он прошел к чекам. Знакомая картина открылась перед ним. Как и у Аралбаева на переднем крае, поле было унылым, посевы изреженные, стебли вялые.
— Сговорились будто…
«Может, и у Далбая есть собственное поле?» — подумал Даулетов. Аралбаев прятал его за стеной камыша. Подталкиваемый любопытством, к зарослям и направился Даулетов. Стена была плотной, поработать пришлось руками, прежде чем расступился камыш. Зря, однако, трудился. Не увидел доброго поля. И за стеной оно оказалось таким же, как и у дороги, — жалким, унылым.
— Эй, директор! — донесся до него чей-то оклик. Повернул голову Даулетов, поискал глазами и у зарослей
камыша, в густой тени, обнаружил трех жаналыкцев. Они сидели на земле, чаевничая, а может, просто отдыхая. Тень мешала разглядеть лица, но по облику все же нетрудно было догадаться, что это Далбай, Калбай и Елбай, «три мушкетера», как окрестил их Сержанов. Самый рослый Далбай устроился на кромке чека, свесив длинные ноги над водой. Он-то и окликнул Даулетова.
— К нам, Жаксылык Даулетович: К дастархану!
«Черт знает что! — озлился Даулетов. — Никто не поднялся при появлении директора. Из простого уважения хотя бы мог встать Далбай, хозяин этого поля. Ведь не на прогулке я. На работе. И не в гости пришел, а проверять состояние посевов. Как поступить, однако?»
— Реимбай! — крикнул он водителю. — Достань из-под сиденья сумку и принеси сюда! — Шофер его машины был единственным человеком в совхозе, к которому Даулетов сразу же стал обращаться на «ты». Почему? — этого он и сам не понял. Потому ли, что приглянулся ему этот парень (впрочем, не такой уж и парень — под тридцать)? Потому ли, что общая для всех начальников привычка «тыкать» своим шоферам вдруг невесть откуда взялась и у него? Не мог Даулетов разобрать этого, но с первого же знакомства, сказав Реимбаю «ты», так и продолжал обращаться к нему. Странно, что водитель не только не обижался, но, напротив, кажется, даже гордился этим.
Не понимая, что затевается, «мушкетеры» с недоумением смотрели на директора, и каждый старался первым угадать, зачем ему понадобилась сумка.
Сумка перекочевала в руки Даулетова, и вместе с ней он направился к зарослям камыша.
— Обычно я обедаю в час дня, — сказал он, протягивая сумку Далбаю. — Но, как говорят, в каком царстве живешь, такую веру и исповедуй. Пообедаем в двенадцать.
Немного смутившись, Далбай принял сумку, стал развязывать ее.
— Все на дастархан! — сказал Даулетов, улыбаясь и лукаво подмигивая.
На скатерти, прямо скажем, не первой свежести уже находились вареная курица, помидоры, хлеб, старательно разрезанный на множество квадратиков. Тут же стоял термос ярко-зеленого цвета и рядом три пиалы.
— Ну-ка потеснитесь, мушкетеры! — опускаясь на траву, попросил Даулетов. — Степь велика, да тень коротка.
Калбай и Елбай торопливо отодвинулись к стенке камыша, подобрали ноги.
Приглашая директора к дастархану, они явно не рассчитывали на его согласие и потому не знали, как себя вести. Наигранная веселость исчезла, и ее место заняла настороженность и даже тревога. Неспроста небось явился Даулетов. Всем известно, что выискивает, вынюхивает что-то директор. Что-то разведать хочет, в чем-то уличить.
Время и впрямь было необеденное, и почему три бригадира рассиживают в тенечке, нужно было как-то объяснить.
— Мы тут встретились случайно и решили посовещаться меж собой, так сказать, обменяться опытом, ну а заодно и перекусить, — оправдывался Далбай.
— Прекрасно, — Даулетов опять лукаво улыбнулся. — И я с удовольствием послушаю, о чем говорят рисоводы с хлопкоробами.
— А о том, — вмешался Калбай, — чтоб нам вовсе не встречаться. — И, уловив недоуменный взгляд директора, пояснил: — Вы тут человек новый и не дехканин, многого не знаете, а я вот вам скажу, что рис и хлопок рядом выращивать нельзя.
Интересная картина получалась. Десять минут назад он пообещал развивать рисоводство, а оказывается, его не развивать, а искоренять надо. Избавляться нужно, оказывается, от риса… Или от хлопка. Вот такая ситуация. Но почему ж не сказали ему об этом ни Сержанов, ни главный агроном, ни кто еще из конторы? Странно.
— И когда же это выяснилось?
— И выяснять не нужно, сразу всем было известно.
— Но если знали сразу, что рис вреден для хлопка, зачем же его планировали хлопководческому хозяйству?
— Ну, мало ли зачем, — философски протянул Елбай. — Всем известно, что водка вредна, а ведь пьют же.
— Ладно, — Даулетов хлопнул ладонью по колену, как бы ставя точку и закрывая тему. — С этим я попробую разобраться. А теперь давайте пить чай.
— Вот пиалы только три… — смущенно признался Далбай.
— Есть и четвертая. На дне сумки, — успокоил бригадира Даулетов. — Лишь бы чаю хватило…
Так просто сказал директор или намекнул на содержимое ядовито-зеленого термоса — не поняли «мушкетеры». Карликовый Елбай на всякий случай отодвинул его в сторону.
— Да и чаек у нас жидкий. Ак-чай.[10] Может, вам не по вкусу?
— Ничего, я не привередлив в еде и питье. Чем хозяева угостят, на том и спасибо.
— Ну и правильно, — поддержал Калбай, — Жаксылык Даулетович не девушка, нечего перед ним прикидываться.
Калбай взял термос и поставил на середину скатерти. Елбай заморгал глазами, улыбнулся виновато, словно просил прощения за смелые слова друга.
— Конечно, конечно…
— Не в ресторане ведь, а в поле, — успокаивал их Даулетов и добавил: — Но в поле-то мы первый раз встречаемся.
— Вот именно! — кивнул Далбай. — Настоящая жизнь в поле. Здесь мы рождаемся, здесь и умираем. Человек на земле — хан, без земли — ф-ф-фу! — он дунул себе на ладонь, будто сгонял невидимую пушинку. И даже посмотрел вслед — далеко ли улетела.
Калбай разделил курицу на четыре части — по ножкам и крылышкам, положил перед каждым на куске хлеба его долю. Отскорлупил яйца и тоже раздал по числу едоков. Потом потянулся к термосу. Но тут вдруг замешкался.
— Э-э! — брезгливо поморщился Далбай. Не понравилась ему трусливая неторопливость Калбая. Он взял термос, лихо отвинтил крышку и разлил по пиалам водку. — Рис надо поливать, чтобы хорошо рос!
— И дружбу — тоже! — добавил коротыш Елбай.
«Вот так влип! — изумился Даулетов. — Вот и почаевничал, вот тебе и ак-чай! Как поступить? Отчитать бригадиров, устроить разнос? Встать и молча уйти? Или сделать вид, что ничего не произошло?» Времени на раздумье не было. Он нахмурился и, не говоря ни слова, выпил свою дозу.
— Можно и так, — смущенно произнес Далбай. — Молча даже лучше. Слова — потом! Когда им станет тесно там, — он похлопал себя по животу, — сами выйдут наружу…
Все трое опрокинули пиалы: Калбай торопливо как-то, Далбай медленно, с удовольствием выцеживая влагу, Елбай — морщась и поеживаясь.
Далбай, крякнув, ухватил куриную ножку и вцепился в нее зубами.
— Между прочим, курица вкусна, когда клюет рис.
— На рисе мясо нежное, сочное, — поддержал его Елбай. Даулетов скосил глаза на Далбая:
— А курам-то хватит вашего риса?
Понял, куда клонит директор. Хотел смолчать, да вопрос ему был задан, и, проглотив кусок курятины, ответил:
— Хватит. План дадим.
— Какой план? — смеясь спросил Даулетов. Ему не хотелось переходить на официальный тон.
— Какой всегда даем. Да вы не волнуйтесь, — успокаивал Далбай. — Я понимаю, первая уборка, конечно, страшновато. Но план будет. Сами не заметите, как выполним.
Вот уж месяц все кругом только и делали, что успокаивали, уверяли: «судя по всему…», «есть все основания утверждать…», «виды на урожай хорошие…» и так далее. По чему «судя» и какие именно «основания», никто не мог растолковать. Но если судить по документам, если посчитать, сколько засеяно гектаров, а потом глянуть на эти самые гектары, то «виды» получались как раз весьма плачевными — растения ослаблены, всходы изрежены, тут и половину плана вряд ли натянешь. Откуда же оптимизм? Откуда такая уверенность?
— Не беспокойтесь, не переживайте зря, от этого только гипертония бывает.
— Гипертония — болезнь начальничья, — подхватил Калбай. — У них ведь как? Сверху давят, снизу давят — вот вам и давление нижнее и верхнее.
Все рассмеялись.
— Сержанова она, однако, обошла, — продолжал смеяться Даулетов.
— Обошла, — согласился Далбай. — Голова у него не болела.
— Значит, можно избежать гипертонии? — сделал вроде бы вывод Даулетов и вопросительно посмотрел на Далбая.
Тот поежился: неприятный вопрос задал новый директор. Похвалить Сержанова, так приревнует Даулетов, поругать — озлобится Сержанов. Он-то ничего дурного не сделал «мушкетерам». Доброту от него только и видели. За доброту злом не платят. Не принято у добрых людей такое.
— Так он давление-то понижал. На него сверху, а он на нас, а мы — еще ниже давим. Вот оно и расходилось на всех поровну.
«Так что же? И мне на вас поднажать?» — хотел спросить Даулетов, но не успел. Опередил его Елбай:
— Да не в том дело. Сержанов избежал, потому что человек он такой. Таким уж его создал аллах.
— Кстати, об аллахе, мушкетеры. Вы хоть его побойтесь. Запрещает он винопитие.
Встал Даулетов и не оборачиваясь пошел к машине.
«Почему же всякая дрянь приживается, несмотря на запреты, а вот к хорошему, хоть и очевидна его польза, людей приходится чуть ли не силой тянуть? — думал Жаксылык. — Где тут логика? В чем тут смысл?»
И еще он думал о том, что бригадир Аралбаев не поверил ему. Не поверил, будто Даулетов сможет что-либо сделать. А эти трое убеждены, что и делать-то ничего не надо. Ни-че-го! Все само собой образуется. Не выполним план — так выкрутимся, а и не выкрутимся — так все равно не пропадем. Что есть — то и благо, и лучшего им не надо. Потянешь к лучшему, упрутся, а то еще и боднут.
Даулетов влез в «газик», довольный тем, что хоть под конец озадачил бригадиров едким замечанием, и велел шоферу:
— Давай на хлопковую карту!
— Надо бы взять Елбая с Калбаем. Как обойдетесь без бригадиров? — посоветовал водитель.
— Как поле обходится, так и мы обойдемся.
«Газик» помчался по проселку к дальним участкам. Шофер понял директора: надо попасть на хлопковые карты Елбая и Далбая, пока там никого нет. Машина, прыгая на выбоинах и буграх, швыряя Даулетова то к дверце, то к плечу водителя, неслась будто на пожар.
Через какие-то десять — пятнадцать минут они одолели проселок и выскочили к хлопковым картам. Место тут было ровное, и глазам Даулетова предстало широкое поле с зелеными строчками молодого хлопчатника. Строчки тянулись от обочины дороги до самого горизонта. Так, во всяком случае, казалось.
«Размах-то какой! — обрадовался Даулетов, он любил степной простор, любил эту слитность земли и неба и мог часами любоваться ширью. Но теперь его вдруг что-то насторожило. — Откуда столько посевов? На плане совхоза вроде бы хлопковый клин тут не особенно велик…»
Он распахнул дверцу «газика» и ступил на серую от пыли траву обочины. Пыль тотчас взметнулась из-под ног густым облачком. Горячая, как пепел. Давно, видимо, рядом не было воды. Даулетов перешагнул пустой арык и пошел по сухой бороздке вдоль зеленых строчек хлопчатника. «Команда начать полив была дана чуть ли не в первый день моего появления в совхозе, — вспомнил он. — Отчего же не полили? Или только здесь сухо? А на других картах вода?»
— Проедем вдоль всего клина! — предложил он водителю, усаживаясь снова на сиденье. — Дорога есть?
— Найдем, — не совсем уверенно ответил Реимбай.
Он вырулил на вихлявую тропу, малонаезженную, почти заросшую травой, и медленно повел «газик» рядом с посевами.
— Нашел? — спросил Даулетов, следя за стараниями водителя.
— Вроде бы…
— Прежде не ездил здесь?
— Не приходилось.
До Даулетова Реимбай был подменным шофером дирекции и возил то агронома, то инженера, а то и самого бывшего директора, если его водитель заболевал.
«Сержанов, значит, не любил наведываться в бригады? — предположил Даулетов. — По сводкам планового отдела ориентировался. Сводки составляются аккуратно. К семи вечера листок появляется на столе директора. Надо будет глянуть, каково там нынче состояние посевов?»
Параллельно тропке тянулись сухие бороздки. Не дошла сюда вода. Или ее не было еще на всей карте бригады Елбая?
Даулетов всматривался вдаль, пытаясь найти кого-нибудь из членов бригады, но не находил. Поле будто покинули люди, и покинули давно. Сонным, брошенным, забытым казалось оно в этот полуденный час.
Реимбай время от времени кидал любопытный взгляд на директора: как он себя чувствует, сердится или равнодушно созерцает эту унылую картину. Разгадать настроение Даулетова было трудно. Внешне он казался спокойным.
Карта Елбая кончилась. Невысокая насыпь коллектора, поросшая кустарником, делила землю на два огромных участка. За насыпью начинались поля Калбая. Здесь тоже царила сонная тишина.
Наконец повстречали трех женщин. Оказалось, горожанки, с консервного завода, на прополке.
— Далеко ли полевой стан? — Даулетов чувствовал себя скверно, нелепость какая-то: директор спрашивает у приезжих. Но, слава богу, они его не знали.
— Километра два, наверное, — ответила одна из женщин.
— А в какую сторону?
— Дорога приведет.
Двинулись не спеша от насыпи на запад, куда вела почти что стертая колея.
Минут через десять глаза Даулетова уловили серую струйку дыма, поднимавшуюся над полем. Дымок — признак жилья, на него поспешил «газик», так спешит конь, чуя запахи родного аула. Реимбай поддал газу, и вскоре впереди вырисовались навесы полевого стана.
— Наконец-то люди, — улыбнулся Даулетов. — Обед, надо полагать.
— Да, время! — кивнул Реимбай.
Гостей на полевом стане не ждали. Из-под навеса никто не вышел, спали хлопкоробы, видно пережидая зной, или просто не посчитали нужным проявлять интерес к какой-то заблудшей в степи машине.
Нашелся, правда, один человек, заинтересовавшийся «газиком». Женщина-повариха, возившаяся у самовара. Она подняла голову, приставила ладонь ко лбу, защищая глаза от солнца, и стала разглядывать гостей.
— Здравствуйте! — сказал Даулетов, выбравшись из машины.
Женщина кивнула в ответ. Она, должно быть, не знала в лицо директора.
— Угостите путников чаем?
— Угощу, — слегка смутилась она, догадываясь, что перед ней не простой путник. Простые путники не в белых рубашках и не на машинах с шофером. — Проходите, садитесь, — протянула руку в сторону длинной скамейки и такого же длинного стола, сбитого из неструганых досок.
— Спасибо! — поблагодарил Даулетов. — Пройдем, сядем. А что, — поинтересовался он, — кроме вас, поди, никого больше нет на полевом стане?
— Отчего же нет, — возразила повариха. — Все есть…
— И бригадир?
— Бригадира, верно, нет. Бригадир на обед уезжает в контору. Жалгас есть. Он вам про все расскажет… Жалгас — муж мой.
Шофер, подошедший следом за Даулетовым к навесу, решил внести ясность и торжественно объявил:
— Женщина! Открой глаза. Это — новый директор совхоза, товарищ Даулетов. Обращайся к нему, как к руководителю, — Жаксылык Даулетович.
— Ой как трудно! — покачала головой повариха. — Можно называть начальника Жаксылык-ага?
Наивная простота подруги Жалгаса рассмешила Даулетова.
— Можно, можно… Можно никак не называть.
— Никак? А вы не обидитесь?
— Не обижусь.
— Э-э! — возмутился шофер. — От двух слов у тебя язык не переломится… Говори: Жаксылык Даулетович!
— Хорошо, хорошо… Жаксылык… Жаксылык… — запнулась все же на втором слове жена Жалгаса.
— Жаксылык Даулетович! — подсказал шофер и зло глянул на упрямую степнячку. Он догадался, что женщина нарочно упрямится.
— Не мучь ее, — все еще смеясь, попросил Даулетов шофера. — Пусть она поднесет нам чаю и пригласит мужа. Мы ведь не воспитывать чужих жен сюда приехали, а выяснять положение дел в бригаде.
— Я сам приглашу, — сказал Реимбай и направился было в сторону навесов.
— Не надо! — остановил его Даулетов. — Жена это лучше сделает.
Женщина тем временем залила кипятком чайник и поставила его перед Даулетовым. Улыбнулась ему, извиняясь. На шофера даже не взглянула, даже пиалу не протянула своему требовательному учителю.
— Вот это кстати! — кивнул благодарно Даулетов. — Жара нынче отчаянная.
Женщина поправила платок и пошла к соседнему навесу. Остановилась и крикнула каким-то взволнованным высоким голосом:
— Эй, Жалгас, иди чай пить!
Чай пить позвала. Не к начальству, не для доклада о положении дел в бригаде. Гордый, своенравный народ эти жаналыкцы.
То ли крик жены был слишком истошным, то ли в самом деле Жалгас давно хотел почаевничать, но через минуту голова его появилась в проеме войлочного полога. Увидев директора, Жалгас поправил рубашку, которая выбилась из-под ремня, и зашагал к кухне. Зашагал неторопливо и вроде бы не к директору, а к столу, где стоял чайник. Подошел, сказал сухо: «Здравствуйте!» Даже кивка, каким одарила гостя его жена, Даулетов не удостоился.
— Извините! — попросил прощения Даулетов. — Прервал отдых ваш.
— Ничего, — по-прежнему сухо ответил Жалгас. — Если дело, то можно и плюнуть на отдых.
— Дело, естественно, есть, но касается ли оно вас?
— Всякое дело меня касается, — сказал Жалгас. — Тут нет посторонних людей. Все — бригадные.
«Занозистый парень, — подумал Даулетов. — С ним по-свойски не поведешь разговор. И шуткой не отделаешься». -Приятно слышать, — похвалил Жалгаса директор. — Вот у непостороннего человека я и хочу спросить: почему не начат полив карты?
— Завтра начнем.
— Почему завтра?
— Надо бы еще на той неделе, но ведь приказ…
— Чей приказ? — удивился Даулетов.
— Чей? Ваш!
Тут уж не удивляться следовало, а возмущаться.
— Не путаете, дорогой Жалгас?
— Не путаю. Калбай-aгa так сказал.
— Невероятно! Не давал я такого приказа ни Калбаю, ни Елбаю, ни другому кому.
Жалгас пожал плечами.
— Не знаю. Не верить бригадиру не могу. Он хозяин поля.
— Хозяин поля объяснил, почему задерживается полив?
— А как же! Надо экономить воду, чтобы спасти Арал. «Вот как! — изумился Даулетов. — Скажи «арба» — за тебя
доскажут «арбуз» и еще будут уверять, что именно это ты и говорил».
— Экономить, а не отказываться от полива, — пояснил Даулетов и добавил строго: — Ну вот что, Жалгас, приказа не поливать я не давал и дать не мог. Надо начинать полив. И немедленно.
Жалгас опять пожал плечами.
— Как это немедленно? Дотемна не успеем.
— А вечер, а ночь? Вода течет и при луне.
— Мы ночью не поливаем…
— Не поливали, хотите сказать?
— Ну да…
— Раньше и посевы не губили, а теперь губите. Душа ваша не болела, когда шли по сухой бороздке?
Жалгас нахмурился.
— Болела! Как не болеть? Только душу, товарищ директор, давайте оставим, а то ведь в ней много чего…
— Ладно, — согласился Даулетов. Действительно, нечего в душу лезть. Не мальчишка же перед ним, хватит читать нотации. Сам небось все понимает. А вот Калбай… Дурак или хитрец? Неужто так можно было истолковать приказ довести расход воды до среднего по республике уровня? Свои же посевы губит. Ничего не разберешь. Дурость какая-то, и только.
— Сколько думаете взять с этого поля? — спросил он Жалгаса, доливая чай.
— Центнеров по пятнадцать-шестнадцать.
Это выходило почти вдвое меньше плановой цифры.
— А по тридцать можно брать?
— А как же? Конечно.
— И что для этого нужно делать?
— Чтоб по тридцать? — переспросил Жалгас. — А ничего такого делать не нужно. Просто не халтурить, и все. Вот после тридцати — там точно, соображать надо, а до тридцати земля сама даст, если ей не мешать.
Хотелось спросить: так кто ж вам мешает, уж не сами ли себе? И еще хотелось узнать: с чего ж вы план собираетесь давать, если вместо расчетного урожая половину соберете? Но вместо этого Жаксылык неожиданно для себя задал другой вопрос:
— А что, дорогой Жалгас, если мы вас бригадиром сделаем? Думаю, и для дела это лучше, да и вам интереснее. О зарплате я уже и не говорю.
— А вот свой интерес, товарищ директор, я сам знаю. Третий раз вас слушаю («Откуда?» — удивился Даулетов, он-то Жалгаса видел впервые) и замечаю, что любите вы людям счастье навязывать. Так не надо этого. Покажите его сперва, ваше счастье. Понравится — сам попрошу. Тогда уж не обделите. А так — не надо.
Вспылил Жаксылык, но сдержал себя, решил не заводиться, по опыту знал, что в перепалках толку мало. Медленно отхлебнул глоток из пиалы, медленно произнес:
— Общий у нас интерес, Жалгас. Общий. Вы хотите, чтоб поле вдвое больше давало, и я — за то же.
— Нет, не общий, — Жалгас набычился. — Я за хлопок перед вами отвечать буду, а вы передо мной за что? Давайте так, — он поставил на стол локоть и поднял растопыренную пятерню, предлагая то ли ударить по рукам, то ли потягаться на локотках, кто кого пережмет, — выделяйте мне клин. Возьму урожай сверх плана — моя удача. Нет — сам себя накажу, еще и вы можете вычесть, позволяю. Но, если вы мне не те семена поставите, удобрений недодадите, техника хоть на день запоздает, или вот с водой как сейчас, я вас оштрафую. Давайте?! Что? То-то и оно. А пока все надо выбивать, клянчить да выколачивать, то пусть Калбай-ага и бригадирствует. Ему это привычно. А мне и даром не надо. Я за Кал баем как за каменной стеной, меня начальству не видать, но и я его, хвала аллаху, не вижу.
— Хорошо поговорили, — улыбнулся Даулетов. В словах Жалгаса было что-то, что требовалось обмозговать, но не сейчас, а после, одному. Сейчас же нужно было ехать.
— Ну вот что, Жалгас. Вы бригадиром быть не хотите, а Калбая мне дожидаться некогда. Поэтому все же вам лично приказываю начать полив участка.
— А бригадир? Он не поверит.
— Поверит! — Даулетов вынул из сумки блокнот и, пристроив его на неструганых досках стола, написал: «Начать полив участка немедленно! Даулетов». Поставил дату и время — два часа пятнадцать минут дня. Вырвал листок, протянул его Жалгасу: — Вот… Я надеюсь, все будет сделано хорошо.
Бумажка озадачила Жалгаса. Он долго рассматривал ее, потом сказал:
— Калбай-ага обидится…
Не по душе пришлась Даулетову робость Жалгаса. Вроде смелый, уверенный в себе человек, даже решительный, а тут пасует перед Калбаем.
— Лишь бы мы с вами, Жалгас, не. обиделись, и земля тоже.
— Не знаете вы Калбая…
— Узнаю. Время есть.
Шофер уже ждал директора в машине, включил мотор и отворил дверцу. Ему не терпелось покинуть этот полевой стан, это поле и этих людей, так неуважительно относящихся к директору. Не привык Реимбай видеть начальника, распивающего чай с подчиненными. «Конечно, людей надо ценить, но дистанцию терять нельзя, — рассуждал он. — Дистанция, как и между машинами, предотвращает аварию».
Даулетов наконец закончил разговор и поторопился к машине. Садясь уже, помахал рукой Жалгасу:
— Приступайте!
Реимбай с места рванул «газик», и тот запрыгал на буграх и выбоинах, как джейран.
— Побереги меня, братец! — засмеялся Даулетов. — Я еще нужен жене и дочке.
— Я-то поберегу, — сердито буркнул Реимбай. — Они бы поберегли, — он кивнул в сторону полевого стана.
— Ишь ты, а мне этот Жалгас показался дельным и серьезным.
— Жалгас, может, и дельный парень, да что он значит? Куда погонят, там и траву жует.
— Не строго ли судишь, Реимбай?
— Лучше строго, чем снисходительно. Без понуканья и конь арбу не потянет. Вы с Калбаем за дастархан сели, а он плюет на ваши приказы.
— Не потянет, выпряжем.
— А кого впряжете? Жалгаса? Жалгас не упряжной коняга. Или с дороги собьется, или арбу опрокинет. Над ним арбакеш нужен, чтобы вовремя повод потянуть, «но-но!» сказать, а то и плетью ожечь. Калбай, если его в строгости держать, сам арбу потянет и дотянет до нужного места…
— А ты, оказывается, философ, Реимбай.
— Дорога всему научит.
Скосил глаза на шофера Даулетов: занятен, однако, этот Реимбай.
— Да, дорога учит, — иронически, но с мечтательностью какой-то произнес Даулетов. — Говорят же, стоящий одну жизнь проживает, идущий — две.
— Бегущий, выходит, три? — подхватил Реимбай.
— Должно быть, три, — засмеялся довольный ходом мысли водителя Даулетов. — Хорошо прожить за одну жизнь целых три. А? Как считаешь, Реимбай?
— Хорошо!
— Вот только как побежишь, когда дело-то топчется на месте? Ты впереди, дело позади. Думали месяц назад полив начать, а и сегодня вода еще не пущена.
— Ленятся люди. Я ж говорю, надо с ними построже. Покачал огорченно головой Даулетов:
— Ленятся ли?.. Тут, кажется, все глубже и серьезней, Реимбай.
Что-то важное хотел сказать директор и не досказал. В конце-то, наверное, было самое главное, то «глубокое и серьезное». Додумать за директора Реимбай не мог. И не потому, что не умел думать, а потому, что не знал, о чем, не знал, куда клонит Даулетов.
Подождал минуту-другую, может, все-таки доскажет. Не досказал. «Эх, не любльо незавершенных рейсов. Ломай теперь себе голову!»
— Жми, Реимбай! — поторопил шофера Даулетов. — А то время уже подходит.
— Будем жать! Бежать будем! — шутливо откликнулся Реимбай. — Чтобы три жизни прожить.
Пыль взвилась за колесами. Заволокла и дорогу и поле. Благо, ветер дул в лицо и относил серо-желтую волну за машину, а то бы ни дороги, ни поля, ни друг друга не разглядели Реимбай и Даулетов.
После осмотра хлопковых полей Калбая Даулетова тревожили уже два вопроса. Первый все тот же: откуда возьмется план? А второй — куда девалась вода? Он знал, что расход ее теперь достиг нормы. Знал, поскольку сам следил за этим. Но на что она расходуется, если целые массивы вот уж месяц стоят без полива? Испарилась? В песок ушла?
Логика подсказывала ответ, но Даулетов не принимал его, он казался ересью: «Есть неучтенные поля». С чего им взяться? Совхоз — государственное предприятие, а не частный огородик, где можно тишком прихватить лишних пару соток — авось никто не заметит. Совхозу дана государством определенная площадь, составлен, утвержден и закреплен официально план угодий, на котором основаны все дальнейшие расчеты и отчеты. Откуда тут лишку взяться?
Даулетов вспомнил план-карту, что висит у него в кабинете. Контуры хозяйства отдаленно напоминают натянутый лук, широкий сектор круга. Там где у лука тетива, пределы «Жаналыка» обозначены толстыми, как палки, линиями — здесь граница с соседними совхозами. А там, где должна быть дуга лука, линия тоненькая, как нитка, — здесь угодья выходят в песчаную степь. В принципе можно двинуть поля в степь, но нужно обводнить землю, провести каналы, арыки, дренажные коллекторы — огромная работа, требующая средств, мощностей, времени. Но в документах о ней ни слова. Отвоевать землю у полупустыни — это подвиг, а подвига незачем стыдиться, незачем совершать его втихомолку, тайком. Да и Сержанов не из скромников. Уж если гараж на три машины открывался с такой помпой, то можно представить, каким торжеством должно было стать освоение новых земель.
«Странно, странно все это», — думал Даулетов, но теперь ему уже было совершенно ясно: скрытые поля есть. Но сколько их? Как обнаружить спрятанные земли? Провести обмер? Но с этим в одиночку не справишься. Засечь по спидометру? Но шоссе в ту сторону нет, туда идут лишь проселки, они петляют да к тому же и обновляются каждое лето, по проселкам не вычислишь. Надо бы найти какой-то ориентир на карте рядом со степной границей и считать, привязываясь к нему. Тем временем их «газик» подъезжал к строящейся ферме, что возводилась на отшибе: подальше от аула, поближе к магистрали. Уже свернули с трассы к объекту и тут увидели встречный грузовик, груженный досками.
— Стой! — крикнул Даулетов и, подойдя к шоферу, полюбопытствовал: — Маршрут не перепутал?
— Чего? — прикинулся шофер грузовика.
— Доски, говорю, на стройку надо везти, а не со стройки. Долговязый тощий парень, сидевший рядом с водителем,
вылез из кабины и, заискивающе улыбаясь, подошел к Даулетову:
— Жаксылык-ага, ассаламу-алейкум. Не узнаете? Я ведь табельщиком у Елбая Косжанова. Вот купил, — махнул рукой в сторону кузова, — и везу.
Даулетов, словно не замечая табельщика, крикнул шоферу:
— Поворачивай!
— Что я вам? — озлился шофер. — То туда, то сюда…
— По-во-рачивай!!
— А мне-то что, — сказал вдруг шофер с таким презрительным равнодушием, что для полноты выражения его лишь плевка недоставало. — Я поверну… Пожалуйста…
Пока Даулетов садился в кабину грузовика, пока шофер разворачивал машину, табельщик все суетился, приговаривая: «Жаксылык-ага! Я же свой. Я ж не чужой. Жаксылык-ага…» Подъехали к ферме. Сторож, сидя на пустом ящике, ел дыню.
— Где люди?
— Обед у нас.
«Что за чертовщина, — подумал Даулетов, — третий час езжу, куда ни попаду — всюду обед».
— Вы продали доски?
— Да как же могу? — изумился сторож. — На это есть прораб ПМК.
— Сгружайте, — приказал Даулетов, но ни шофер, ни долговязый табельщик и не думали подчиняться. Тогда он сам полез в кузов, Реимбай за ним и, открыв два борта, начали спихивать доски на обе стороны.
— Поаккуратней, — заметил сторож, — а то поломаются. «Что за люд такой? — злился Даулетов. — Крадут — хоть
бы хны, а тут жалко стало».
— Вы лучше позовите ко мне прораба.
По виду стройка больше напоминала разрушение. Недостроенная стена, неровная, клочковатая, словно обвалившаяся. Под ней груды наполовину битого кирпича. Какие-то панели разбросаны на земле. И кучи застывшего раствора как огромные лепёхи сухого кизяка.
Прораб шел медленно и неохотно. Был он узкогруд и узкоплеч, но несоразмерно большой живот нависал над ремнем низко опущенных брюк: будто арбуз под рубахой спрятан.
— Почему такой развал? — Даулетов спрашивал зло и строго.
Прораб же отвечал спокойно и даже с ленцой.
— А как красиво ни складывай, все равно потом разбирать.
— Так ведь портятся же материалы! — директор кивнул на груды битого кирпича.
— А это уже не мы, это транспортники виноваты, — пояснил прораб все так же безмятежно. — Шоферу что? Он подкатил, свалил — и обратно. «Мне, — говорит, — за ездки платят, а не за простой».
Даулетов понял, что толковать с прорабом бессмысленно. Тот чувствовал безнаказанность, потому и цедил сквозь зубы. Не нравится, как мы работаем? Перезаключайте договор с другой ПМК. С какой? А это уже нас не касается. Продал доски? Ну и что? До пятидесяти рублей дело неподсудное, можно применять только административные меры. А тут как раз до пятидесяти — ровно сорок пять. Всё, взятки гладки, дорогой товарищ директор. Может, что еще хотите спросить?
Понял это Даулетов и не стал ни о чем больше расспрашивать, лишь, показав на долговязого табельщика, бросил на прощание:
— Верните деньги вон тому.
— Вернем, — так же лениво согласился прораб.
В конторе Жаксылык был только около четырех. Не успел он усесться за стол, как в кабинет вошел Сержанов и, поздоровавшись, спросил:
— Что думаете делать с Ермуратовым?
— Кто это?
— Табельщик у Косжанова.
«Значит, уже донесли, — понял Даулетов. — Когда успели? Хорошо налажена у него связь».
— Гнать думаю, а вы что посоветуете, Ержан-ага?
— Не спешить.
— Зачем же тянуть, дело ясное.
— Погодите. Это вы сейчас начальник. Пока пересменка. Одна страда кончилась, другая не началась. А пойдет уборочная — и вы будете от всех зависеть. И от Косжанова, и от Ермуратова — от всех.
— Вот и не хочу в такую пору зависеть от жуликов.
— Какие все стали праведники и законники! — Сержанов начинал нервничать. — А знаете, по сколько люди вкалывают в страду? По десять — двенадцать часов. А сколько допустимо по закону? В уборочную — девять, как исключение. Что, сверхурочные платить станете? Нет, разоритесь. Для того чтоб заставить людей вкалывать на износ, их нужно либо устрашить, либо ублажить. Устрашить вы не сможете — характер не тот, норова нет. Значит, ублажайте. А вы что делаете? Хотел человек веранду пристроить — доски отобрали.
— Значит, потакать ворам? А убедить людей разве нельзя?
— Это ведь только вы, умники, выдумали, что главное у человека — голова. Все на нее надеетесь. К ней обращаетесь. А люди-то разные. У одного, верно, голова всем правит, у другого — живот, у третьего — сердце, а у кого-то — левая нога: чего она пожелает, то ему и подай. А кто подавать будет? Вы! Вы — хозяин! Вы — власть!
— Власть-то у нас одна — Советская.
— Знаю, знаю. Но что в аулсовете есть? Ручки да печать. А у вас деньги, техника, люди. С вас и спрос. Слыхали про такое: удовлетворение потребностей? Растущих притом. Постоянно растущих. Слыхали? Вот и удовлетворяйте их.
На широком директорском столе, прямо против Даулетова, но далеко — и захочешь — не дотянешься — мраморным памятником высился массивный чернильный прибор. Вещь монументальная и ненужная. Давно бы пора его упрятать подальше, но руки все не доходят. А еще память. Такой же прибор громоздился на столе у декана экономического факультета. И забавно, конечно, но именно он, памятник бюрократизму, а не тоненькие книжечки, стоявшие у декана в шкафу, ассоциировался в тогдашнем представлении Жаксылыка с понятием «авторитет ученого».
— Удовлетворительно — это всего лишь на троечку, — пояснил Даулетов. — Отметка такая была в вузе. Посредственно. А надо, чтоб люди жили хорошо. А еще лучше — отлично. Табельщик может этого и не знать, но мы-то с вами обязаны понимать, что нельзя по крохам растаскивать собственное государство, что если те же доски — будь они неладны! — пойдут на строительство фермы — общественного предприятия, то в конечном итоге принесут вашему же Ермуратову больше выгоды, чем если он их стянет и пустит на свои личные нужды. Такова наша экономика.
— Учены вы, Жаксылык Даулетович, со степенями, с дипломами, — Сержанов встал и наигранно поклонился, но кланяться не умел, не привык, — а мы ликбезы кончали, диссертации писать не умеем. Но жизнь зато понимаем. А жизнь — она сложнее ваших теорий. Не по схеме она идет, не по схеме. Вы вот все твердите: «надо», «нужно», «обязаны». А кому надо? Вам? Вам одно, а мне уже другое надо. Калбаю с Далбаем — третье, а Нажимову — четвертое, хотя, может, нажимовское «надо» и есть самое первое. Из разных «надо» жизнь сложена, и вам их все придется учитывать, если, конечно, хотите директором остаться.
— Хочу, Ержан Сержанович! Еще месяц назад сомневался, а теперь твердо знаю — хочу! — Это Даулетов произнес убежденно, уверенно. — Вот «хочу» у нас у всех действительно разные, а «надо» — одно: получать максимум продукции при минимуме затрат. Любых затрат — средств, материалов, земли, воды, времени, нервов — любых! И вообще, — добавил он устало и примирительно, — о чем мы спорим? Вон в какие дебри забрались. А дело-то ясное — кража! Кража, Ержан Сержанович!
Сержанов опустился на стул и начал пристально разглядывать стену за спиной директора, будто не видел ее никогда. А ведь и впрямь редко смотрел на нее, двадцать лет не сидел лицом к ней. На стене грамоты в рамках, вымпелы, в углу подставка для знамен. Появятся ли новые регалии? Едва ли. С таким-то директором! Завалится Даулетов. Как пить дать завалится до конца года. Да и аллах с ним! Сержанову-то что за печаль? А та печаль, что хозяйство разрушит и народ распустит. Еще настоящей работы и не нюхал, а туда же, «хочу быть директором». Сказать, что ли, ему пару истин — прописных истин для настоящего директора, а ему пока неведомых? Все одно не поймет. Но, может, хоть задумается? Ведь не дурак же. Должен почувствовать, что не по его мозгам эта работа. Пусть себе книги пишет, доктором становится — пусть. Там карьеру сделает, а отсюда ему бежать надо, пока еще не подпортил характеристику.
— Вот что, товарищ директор. Вы говорите «кража». А я скажу — молодец Ермуратов, он нам с вами услугу оказывал. Не нужна нам эта ферма. Как только ее достроят, мы в трубу вылетим. От животноводства у нас одни убытки. А тут еще две тысячи голов. И не овцы, а коровы. Им корма подавай. Но у нас ни заливных лугов, ни альпийских пастбищ — сами видите. От жантака с саксаулом — ни привесов, ни надоев. Вот так-то, товарищ директор.
Не ждал удара Даулетов. Он-то собирался взять строительство фермы под свой личный контроль, а тут вон как, оказывается, все обернулось.
— Вы что, недавно это поняли?
— Сразу знал.
— И все же взяли ферму?
— Взял.
— А что рис и хлопок несовместимы — тоже знали?
— Конечно. И тоже взял.
— Почему не отказались?
— А я посмотрю, как вы откажетесь, — Сержанов улыбался, так улыбается взрослый, слушая не по летам ретивого мальчишку.
— Теперь, конечно, сложнее будет. Надо было сразу сказать «нет».
— «Нет» сказать — ума не надо. Снимут, поставят другого, и он скажет «да». Мудрость руководителя в том, чтобы вокруг дырки бублик испечь, чтобы извлекать выгоду даже из ущерба. Взял я ферму. Взял! Но, во-первых, за ее счет у меня половина аула отстроилась. Во-вторых, пока она возводится, я могу все убытки на животноводство списывать и перед районом оправдаться — «сами знаете…», а они мне сказать ничего не могут — «сами знают», что против воли навязали. Я им пошел навстречу, теперь они мне навстречу должны идти. Пока ферма не достроена… А пока достроят — и это в-третьих, — всё тысячу раз переменится. Может, вопрос с кормами решится. А может, и с мясом положение выправится.
— Само не выправится.
— Но и не на одной ферме свет клином…
— Ну, Ержан Сержанович, — искренне изумился Даулетов хитроумности бывшего директора, — вы как Ходжа Насред-дин, который взялся перед ханом за тридцать лет выучить осла разговаривать, полагая, что за это время кто-нибудь да помрет, либо он сам, либо хан, либо осел.
— Почему бы и нет? — ничуть не обиделся Сержанов. — Рассказы о Насреддине — народная мудрость. Ей не грех и поучиться.
— Народ-то, скажем, во все века из разных людей состоял. И поговорка «Кто вечно все откладывает на завтра, тот умирает вчера» не из-за моря к нам пришла. Так что народной мудрости на все случаи жизни хватит. А какой из пословиц руководствоваться, каждый сам решает. Но как нам быть с рисоводством и животноводством — этого Насреддин не подскажет.
«Многовато загадок за день, — размышлял Даулетов, оставшись один. — Столько, что, может, и за год все не решишь. А решать надо, и желательно побыстрей».
Перво-наперво нужно было, конечно, выяснить: есть ли потайные гектары и сколько их? Во-вторых, с рисом и животноводством тоже разобраться надо, не откладывая в долгий ящик. Все это важно, и очень, но помимо того дразнило мозг какое-то противоречие, еще не осознанное, а лишь угадываемое Даулетовым. Оно крылось в том, как различно истолковывали само понятие «руководство», с одной стороны, Сержанов, а с другой — Аралбаев и Жалгае. По Сержанову, получалось, что руководство это как… — тут Жаксылык поискал образ, аналог и не мог найти чего-то точного и нетрафаретного — …как умение кукольника вовремя дернуть за нитку, на которой болтаются марионетки. Это как АТС — сюда стекаются и отсюда расходятся все линии. Ни единое словцо мимо не проскочит. Как солнце на детском рисунке — кружок и от него лучи. Как… — тут Даулетов наконец нашел подходящую параллель, по крайней мере, его она устраивала — …как владелец некоего резервуара, куда — словно в том школьном задачнике — в одну трубу втекает, из другой — вытекает. Те, кто подают воду, норовят качать пореже, а те, кто черпают ее, стремятся взять побольше, и лишь один человек — директор резервуара — заинтересован в том, чтобы бак оставался полным всегда. Вероятно, вот так, решил Даулетов, представляет себе руководство Сержанов.
«Ну а Жалгае с Аралбаевым? И, наверное, другие вслед за ними — они чего хотят? Каким им видится руководство? Да вот же каким: дай семена, дай воду, грейдер, удобрения. Главное — дай все это вовремя и в нужном количестве, а потом отойди, не мешай, без тебя справимся. И точно — справятся. Хоть сто лет просиди я на этом посту, а свое поле, свою машину, дело свое они знали и знать будут лучше меня. Хотят не приказа от меня, а чтоб помог, подсобил…
Подсобный рабочий Жаксылык Даулетов. Ну как, звучит? Нет, не рабочий, а подсобный директор. И что тебе, собственно, тут не нравится? Слуга народа, слышал такое определение? Слышал! Теперь народ требует от слуги того, что от него и должно требовать — услуг. Ты же не хозяин, а один из членов коллектива хозяев. В коллективе должно быть распределение функций, ролей. Твоя функция — организовать процесс так, чтобы другие могли работать в полную силу. Что же здесь тебя не устраивает?
Ладно, допустим, так, — думал Даулетов. — Ну, а решать, что делать с фермой и рисом, с лишними гектарами, если они все же обнаружатся, решать, кого ставить бригадирами, а кого гнать с этой должности в три-шеи — это решать будем как? Общим голосованием? Или все-таки с меня спрос, но мне и воля? Нет, тут директор может и должен советоваться, консультироваться, выслушивать разные мнения, но принимать решения сам. Этого на других не переложишь. Хорошо, — развивал мысль Даулетов. — Вот перед тобой две точки зрения: Сержанова и Жалгаса с Аралбаевым. Ты-то сам как считаешь?»
А сам он считал, по крайности до сегодняшних споров, что понятие «руководить» действительно происходит из сочетания слов «водить руками», но, разумеется, не в этом анекдотическом смысле, чтобы размахивать ими во все стороны, указуя подчиненным, куда им силу приложить. Нет, конечно. А незримо водить рукой любого из сотрудников, как вдохновение водит рукой поэта. Именно вдохновлять людей на общее дело. Все обмозговать самому и потом объяснить задачу каждому, чтобы каждый был не простым исполнителем, а сознательным участником этого общего дела, чтобы доподлинно знал, чтоб аж печенкой чувствовал, сколько от него зависит.
Так кто же прав? Сержанов со своим двадцатипятилетним опытом? Жалгас и Арал баев с их близостью к земле? Или он, с его идеей «нравственной экономики»?
«Вот такая диалектика, друг Даулетов», — Жаксылык стукнул ладонью по столу и засмеялся. Жест рассмешил, похоже на то, как председатель собрания закрывает дебаты.
6
Сегодня Даулетов все же решил добраться до последнего поля в той стороне, что граничит со степью. Ну, добрался и что увидел? Да, в сущности, ничего особенного. Слева — пески, изредка утыканные саксаулами, справа — хлопковая карта, такая же, как и прочие, то есть тоже не больно-то густо засеянная. Определить, далеко ли она отодвинулась за официальные пределы хозяйства, чрезвычайно трудно — ни ориентиров, ни примет. Что человек примечает в степи? Деревья. Одинокий джузгун или турангиль, кучка ягодных зарослей — джиде. Видны они и отсюда, но на плане-то не обозначены.
Надо бы, конечно, прямо спросить у Сержанова или главного агронома. Но, с другой стороны, если ни они и никто другой до сих пор и словом не обмолвился о лишних гектарах, то, значит, одно из двух: либо знают, но не скажут, либо и не знают вовсе. Даулетов допускал и такую вероятность. Коли рисоводческая бригада за наличные да за бутылку могла нанять грейдериста, чтоб перепланировать чеки, то почему хлопководческая бригада за такую же мзду не могла уговорить мелиораторов? А то и того проще. В самом совхозе техники достаточно. Столковался, допустим, Елбай с экскаваторщиком. Тот подогнал «Беларусь» с навесным ковшом: два выходных да неделька после смены — вот тебе и сто — сто пятьдесят метров арыка. Лет за десять столько накопать можно, что ой-ей-ей.
— Как ты считаешь, — Даулетов повернулся к Реимбаю, который тихо покуривал в тени «газика», пока директор озирал окрестности, — сколько отсюда до центральной усадьбы, если по прямой?
— Да примерно километров двадцать. Да, двадцать, пожалуй, будет.
— Вот и мне так кажется, — согласился Даулетов. — А то и побольше.
Если двадцать, следовательно, километров на пять за границу вылезли, но реимбаевское «примерно» и его собственное «кажется» могли стать поводом к размышлениям, но отнюдь не доводом, побуждающим к немедленному перемеру угодий. А размышления — да. Куда от них денешься? Что бы там ни служило причиной избыточной запашки — повеление Сержанова, давление Нажимова либо самодеятельность бригадиров, — но цель Даулетову была уже ясна в общих чертах.
Чтобы получать по тридцать центнеров с гектара, нужны, как сказал Жалгас, просто усердие и добросовестность. Вот их почему-то и не хватало постоянно. Надежнее вроде было брать по пятнадцати центнеров с двух гектаров. А если выйдет по двадцать, то, глядишь, и оперативный запасец образуется. Парадокс, право слово, парадокс, да и только: лень понудила к дополнительной работе. Оказывается, проще два раза сделать тяп-ляп, нежели один — на совесть. И ведь так не только тут. За месяц до назначения в совхоз Даулетов купил цветной телевизор. Тот недельки две поработал и замолк. Пришлось нести в ремонт. Очередь в гарантийной мастерской неописуемая. Можно подумать, что половина города сюда съехалась. День просидел Даулетов. День! Отремонтировали, и разумеется, даром, правда, уже здесь, в совхозе, телевизор опять заглох, и теперь Даулетов не без страха думает, что придется вновь наведаться к ремонтникам. Выходит, что и промышленности удобней два раза бесплатно чинить, чем один раз добросовестно изготовить. Но там еще хоть как-то если не оправдать, то объяснить можно. Производят одни, чинят другие. Да и бесплатным гарантийный ремонт можно назвать лишь по неведению: средняя стоимость его заложена в цену телевизора. А вот откуда у того же Елбая лишние семена? Как расплачиваются с трактористами, вспахавшими вдвое больше, чем запланировано? С комбайнерами, убравшими два поля вместо одного? Откуда дополнительное горючее? Тайна сия велика есть. Обычным умом почти непостижима.
Петляя между участками, по узкому проселку «газик» пробирался обратно к центральной усадьбе, к конторе. Встречную машину заметили издали по облаку пыли.
— Кого ж это сюда несет? — спросил Даулетов, спросил просто так, чтобы прервать молчание. Его водитель не любил ездить молча и сейчас сидел явно огорченный. — Черт гонит или бог шлет? А, Реимбай?
— Подъедем, поглядим.
При сближении оба «газика» сбросили скорость и остановились дверца к дверце — обычай степных шоферов. Во-первых, перекинуться хоть парой слов, расспросить, как там дорога впереди. А во-вторых, подождать, пока осядет пылища, — кому в нее нырять охота?
— Жаксылык Даулетович! — голос был звонким, возглас неожиданным, и не успел Даулетов опомниться, как перед радиатором машины увидел смеющуюся женщину.
— Шарипа!.. — он выскочил из кабины. — Каким ветром?
— Морским, Жаксылык Даулетович, морским. — И тут же пояснила: — На Арал в экспедицию.
— То-то я гляжу — принарядилась, как на свидание.
На Шарипе было простенькое голубое платье, но с большим отложным воротником, чем-то напоминавшее матроску. В таких нарядах разгуливали девушки в фильмах по чеховским рассказам. Ныне такой покрой, кажется, не в моде (впрочем, что касается женской моды, то тут Даулетов полный профан — он и сам знал об этом и, честно говоря, почему-то даже немного гордился своей неосведомленностью), но Шарипе платье шло.
— Нравится? — она засмеялась и на секунду приняла какую-то манерную позу. — Сама шила.
— Прямо невеста. Невеста Арала.
Шарипа вмиг сникла, погрустнела, и Жаксылыку стало неловко: вот ненароком задел женщину, напомнил, что заневестилась, засиделась в девках, а ведь, может, и не без его вины, хотя в чем та вина, он и сам не знал, но подозревал тайком, что есть она. Но на сей раз ошибся.
— Невеста — хорошо! — сказала Шарипа. — Вдовой бы не стать.
— До этого, надеюсь, не дойдет.
— И я надеюсь. Но годы просидеть рядом с умирающим — тоже не радость, согласитесь.
— Уже лечим, Шарипа. — Тут Даулетов по-армейски вытянулся и, приложив руку к полям шляпы, отчеканил: — Разрешите доложить, товарищ гидролог. Ваше приказание выполнено: расход воды в «Жаналыке» доведен до нормы.
— Благодарю за службу, — подхватила она шутку. — Знаю, Жаксылык Даулетович, и действительно благодарна.
Сидевший в кабине Реимбай ерзал и маялся. Разговор происходил рядом с открытой дверцей, и он чувствовал себя так, будто подсматривает и подслушивает что-то недозволенное. Жаксылыку и Шарипе казалось, что они не говорят ничего такого, но Реимбаю, человеку постороннему, по мельчайшим приметам — интонации, мимике, жестам, взглядам, пере-минаниям с ноги на ногу, да мало ли по чему (он бы и сам не смог ответить — почему именно) — было ясно: нечто давнее, скрытное, запретное связывает директора с этой красивой веселой женщиной. И за каждым словом их разговора таится другой, невысказанный смысл.
— Так, значит, на море? Надолго ли?
— Месяца на два.
— Ничего, Арал близко.
— Южный близко, а Северный вон где. Да, кстати, — переменила тему Шарипа, — как там мой дядя Ержан-ага?
— Ого! Теперь уже дядя, а то был просто «брат отца». Помирились они?
— Возможно, отец на какое-то время переберется к дяде. Я даже рада буду. — И тут же поспешила пояснить свои слова, поскольку во взгляде Даулетова увидела и вопрос, и надежду, и настороженность: — Рада потому, что отцу одному и скучно и, главное, трудно. А тут все-таки и люди, и уход. Вернусь, заберу его обратно. — И заторопилась: — Ну, прощайте. Пора.
— До свидания.
Эту обычную прощальную фразу Даулетов произнес так, что выделил слово «свидание». Он не собирался этого делать, как-то само собой вышло. Шарипа уловила второй смысл сказанного. Посмотрела удивленно, но была в ее взгляде и надежда и даже благодарность. Или это лишь почудилось? Как бы там ни было, но ответ ее прозвучал, как показалось Даулетову, печально.
— Теперь уж не скорого.
— Но и не так долго ждать — два месяца.
— Сколько воды утечет, — оба рассмеялись двусмысленности выражения и расселись по своим машинам.
Давно исчезли, растворились в знойной дымке и голубое платье в окне «газика», и сам «газик», и пыль, поднятая его колесами, а Даулетов все как бы продолжал разговор, досказывая, переиначивая, домысливая и то, чего не было. После прошлой их встречи он думал о Шарипе. Не очень часто — дела, суета, текучка, — но все же думал. И, вспоминая ее, грустил, как грустят о несбывшемся когда-то, а теперь уже несбыточном. И грусть была ему приятна. Видимо, человеку для ощущения полноты жизни нужны не только приобретения и находки, но и упущения, и безвозвратные потери. Нужно человеку, чтоб было в его судьбе нечто такое, о чем можно сожалеть, печалиться, за что можно и корить себя, но вот вернуть утраченное уже нельзя. И даже если отыщется вдруг пропажа, то все равно не надо ее возвращать. Не надо. Так лучше. Лучше, уверял себя Даулетов, потому что порой вспыхивало в мозгу шальное «а вдруг?., а если?..» и тут же обволакивала душу сладкая тревога, манящая боязнь, как перед обрывом, как перед узким и низким подоконником открытого окна на пятнадцатом этаже гостиницы.
Сейчас в его мыслях о Шарипе опять промелькнуло дразнящее «а вдруг?..», но тревоги оно почти не вызвало. Это-то и озадачило и испугало Даулетова.
— Слушай, Реимбай. Не в службу, а в дружбу, давай сделаем крюк. Знаешь холм на дороге к райцентру?
— Знаю. На нем еще кладбище.
— Вот-вот. Туда и поедем.
— Давайте, раз хотите. Только зачем?
— Сам же сказал — кладбище. — И, заметив недоумение на лице водителя, добавил: — Там у меня мать и бабушка.
Однако и этим Даулетов не успокоил своего шофера. На Востоке не принято навещать усопших когда вздумается, для этого есть определенные дни в году. А без надобности бродить по погостам… К тому же Реимбай, как большинство людей его профессии, был малость суеверен. Дорога непредсказуема, она учит верить приметам, доверять интуиции, а интуиция у многих шоферов развита.
Не хотелось Реимбаю к кладбищу, но объясняться с директором, а тем паче спорить не стал. Вырулил к каналу — так прямиком короче всего до шоссе.
Что произошло, Даулетов не понял, не видел, не следил он за дорогой. Одной рукой по привычке держался за скобу на панели, а когда его бросило на водителя, второй машинально схватился за ручку двери.
— Прыгайте!! — крикнул шофер.
Куда прыгать? Вверх, что ли? Да и дверцу Даулетов тянул на себя.
Реимбай продолжал крутить баранку, но уже без толку: «газик» опрокинулся набок и медленно сползал по откосу канала. Видно было, как погружается в воду правое крыло, но, когда первая мелкая рябь пробежала по краешку лобового стекла, машина вдруг остановилась.
— Вылезайте, Жаксылык Даулетович! Вылезайте! Надо было вылезать. Но как? Пока он нащупывал ногой
хоть какую-то опору, над дверцей просунулось чье-то лицо.
— Живы-здоровы. Ну, слава богу! Давайте помогу.
В помощнике Даулетов не сразу признал Завмага. Тот суетился и даже собирался, кажется, отряхнуть ладонью брюки директора, хотя не были они испачканы грязью. Вообще Даулетов не почувствовал боли, видимо, обошлось без ушибов и ссадин, вот только ноги дрожали и кружилась голова.
— Вот и хорошо! Вот и хорошо! — приговаривал Завмаг, заходя то справа, то слева и осматривая Даулетова, как осматривают упавшую вещь — не отломилось ли что-нибудь?
Жаксылык не заметил, как выбрался из кабины Реимбай, и увидел своего шофера лишь в тот момент, когда он, рванув к себе Завмага, резко, почти без замаха всадил кулак в улыбающуюся физиономию. Всадил, казалось, аж по запястье.
— Не я! Не я! — взвизгнул тот, мгновенно сжался и присел, поэтому второй удар пришелся куда-то между ухом и затылком, от чего толстенький человечек тыркнулся в землю и упал на четвереньки.
— Проклятье твоему роду, подонок! — Реимбай занес кулак и в третий раз, теперь уже намереваясь врезать с разворота, с высоты из-за плеча.
— Стой! Разве можно! — Даулетов хотел перехватить руку Реимбая.
— Можно. Еще и не так можно, — огрызнулся Реимбай, но не ударил, а продолжал стоять с поднятым кулаком.
— Эй! Руки некуда приложить? Так приложи их к своей жене! — От стоящего впереди «ЗИЛа» подходил парень, похожий лицом на Завмага. В правой руке он держал монтировку. Шел медленно, не больно-то поспешал на выручку.
— Что? — Реимбай на секунду опешил от наглости.
— То. Жену, говорю, колоти, если руки чешутся.
— Ах ты…
— Это сын мой, это сын, — вновь залебезил Завмаг. — Вот помогает мне… Сын, сын…
— Вы видели, что он сделал? — теперь Реимбай смотрел на Даулетова. — Видели?
Жаксылык не видел, но теперь все понял. «ЗИЛ» и сейчас еще стоял, наискось перегораживая узкую дорогу.
— Ты что, разве не заметил нас?
— Всяко бывает, — неохотно ответил парень.
— Может, пьян?
— Не пьет! В рот не берет, — встрял Завмаг и прикрикнул на сына: — Иди! Марш в кабину! Быстрей! — Потом опять медовым голосом повторил: — Не пьет он.
— Ладно… Живы-здоровы, и то хорошо! Надо машину вытащить.
Завмаг с сыном все сделали сами. Подогнали «ЗИЛ», зацепили тросом «газик», вытянули на дорогу. Не только Жаксылыку, но и Реимбаю не пришлось участвовать в этом. Когда машина вновь оказалась на дороге, Завмаг, прихватив ведерко, сбегал к воде и протер запачканный борт.
Он суетился, заискивал, бормотал, причитал, виновато улыбался и каялся. Он унижался. Сам знал, что унижается, и не стыдился этого. Но в его унижении было что-то издевательское и устрашающее, что-то злобно-глумливое.
— Ну, поехали.
— Куда? — шофер глядел хмуро. Зажигание он включил, но стартер еще не трогал.
— Туда же, Реимбай, туда же.
— А может, уже не надо?
— Надо.
Не нравился сегодня директор своему шоферу. Явно не нравился, и он не собирался это скрывать. Неправильно себя вел, не по-командирски, да ладно уж с командирством, не по-мужски.
— Вы что? Собираетесь так и оставить это дело?
— Это? — переспросил Даулетов, хотя понимал, что речь об аварии. О чем же еще? — Это, пожалуй, да.
Реимбай помолчал угрюмо. Слова подпирали, но крепился… Не выдержал:
— Добрым хотите казаться?
— А если не казаться, если быть — разве плохо?
— Когда как. А то и плохо… — И, переждав секунд пять, выпалил: — Кто Худайбергена сбил? Нашли?
— Нет пока. Показаний мало. Свидетели номер не запомнили.
— А мы нырни в канал, так их бы и вовсе не было, свидетелей-то.
— Но и мы с тобой, — объяснял Даулетов, — не свидетели. Мы потерпевшие. Поди-ка докажи, кто виноват. Он поперек дороги вывернул или ты на обгон пошел? Кому ГАИ верить будет?
— Вы же директор. Авторитет же у вас должен быть.
— Там нет директоров. Там истец и ответчик. И если Завмаг нечаянно — значит, нечаянно. Если подстроил — значит, все продумал. Тут его не накроешь. Он себе лазейку заранее заготовил. Не мог он кровного сына подставить. Не мог.
— Ну, как знаете, — буркнул Реимбай. — А я…
— И ты не дури.
— Не бойтесь. К вам жалоба не придет.
Запущенные погосты везде унылы, но на Востоке особенно: ни деревца, ни кустика, ни травинки — сухой песок, сухой жантак.
Под здешним солнцем зеленеет лишь орошенная земля. Ее мало. Ее дехкане извечно берегли для жизни. В нее клали зерно, а сами ложились в неудобицу.
Песок местами ополз или просел, и идти приходилось медленно, осторожно, не то угодишь ногой в яму. Найдя могилу старой Айлар, Жаксылык присел перед ней на корточки. Легкий порыв ветра тут же крутнул столбик пыли и бросил ему в лицо.
«За что сердишься, бабушка? За то, что долго не появлялся, хоть и рядом теперь живу? Или за то, что пришел в неурочный день? Не серчай. Ты же знаешь, что тебя я всегда любил и любить буду, а обряды никогда соблюдать не умел.
Трудно мне, бабушка, трудно. Тут вот какое дело…» — и осекся. Мыслью осекся Жаксылык. Не о делах же говорить со старой Айлар. Ты ей еще расскажи про «лишние гектары», про рис и ферму. Назови цифры и показатели. Эх, Жаксылык, Жаксылык, друг Даулетов, совсем ты, видать, заработался. Хотел было сказать о Шарипе, но тоже не решился. Не поймут они, бабушка и мать (мать, которой он не помнит и не видел ни разу — даже фотокарточки ее в доме не было, но чувствовал Даулетов, что при любой его беседе с бабушкой мать тут же рядышком, слушает, но молча), не поймут и не примут они Шарипу. И ни о ком, кроме Светланы и маленькой Айлар, они и слышать не захотят. Знал. Не решился. «Тогда о чем же сказать тебе, бабушка? Опять о добре. Опять о зле. Можно и о них. Их тоже вдосталь. Помнишь, ты говорила, что родина добра и зла — наш аул. Я тогда не понимал этого, да и теперь не до конца понимаю, но кажется мне, что ты вот о чем думала: зло и добро, с которыми сталкиваемся, не со стороны являются к нам. Нет. Здесь же, в ауле, и творятся. Так? А я добавлю: зло с добром так перепутаны, что не сразу и разберешь, где кончается одно и начинается другое. Они не только в одном ауле, они в одном человеке порой уживаются. В одном поступке.
Меня только что чуть не убили. Да-да. Только-только. Получаса не прошло. Может, нечаянно… Реимбай считает меня тряпкой. Он тоже чуть не погиб со мной. Видишь, бабушка, щадя одного, я обижаю другого. Делая для одного добро, другому приношу зло или, по крайней мере, злю человека.
А может, прав Реимбай. Может, изничтожить их всех — врунов, хапуг, воров, лодырей, подлецов — всех. И не цацкаться. Может…»
Одним рывком ветер сорвал с Жаксылыка шляпу и покатил ее по песку. Она металась, как раненая птица, волоча одно крыло и простирая другое. Легкая плетеная соломка испуганно шарахнулась вправо, потом вверх и, резко свернув, заскользила вниз по склону, чуть не свалившись в полураскрытую могилу, лишь чудом на самом краю зацепившись за верблюжью колючку.
Жаксылык не погнался за шляпой — не велика потеря. Его удивило другое: недовольна чем-то старая Айлар. Сердится на внука. Он встал и пошел вниз по склону, пошел, не простившись, — какое уж прощание, когда тебя гонят, выпроваживают. По пути он как бы оправдывался.
«Ну, не изничтожить, конечно, а увольнять, снимать со всех должностей. Или не так? Что ты хотела сказать? Что человек, названный Жаксылыком, должен оставаться добрым, несмотря ни на что? Или что нет врунов, воров и лентяев, а есть ложь, стяжательство и лень в человеке. Что пороки надо гнать, а человека оставлять? Так?»
И, подумав, сказал вслух:
— А подлецы все же есть. Есть. И их, пожалуй, не исправишь.
Шляпу он все-таки поднял и, отряхнув, снова надел. До аула ехали молча. При въезде на центральную усадьбу Даулетов попросил остановиться.
— Ну все. Спасибо. Тут я на своих двоих. Пройтись охота…
Неправду сказал. Просто ему тоже было сегодня тяжело с Реимбаем.
— Что с тобой, Жаксылык? На тебе ж лица нет! — Вид у Светланы, когда она открыла дверь мужу, был действительно испуганный.
Даулетов и не предполагал, что он выглядит так плохо. Да, устал. Да, не в настроении сегодня. Но ему казалось, что внешне это не должно быть заметно. Он умел сдерживать себя, умел скрывать свое самочувствие.
— Есть лицо, есть. Ты погляди. А так? — он улыбнулся, однако улыбка получилась вымученной.
— Когда ты начинаешь неумело шутить, значит, дела действительно плохи.
— Да, Светлана, и впрямь не ахти… Устал чертовски. Жара… Мотался весь день…
Она протянула руку. Хотела пощупать его лоб — нет ли температуры. Он отвел ее руку. Мягко, но отвел.
Жена обиделась. Знает она, что трудно ему, знает и старается лишний раз не раздражать мужа, но почему он не понимает, что и ей нелегко? Она целыми днями одна. Никого в ауле не знает. Выходит редко. Да и куда тут выйдешь? Работу обещали, но в школе, а значит, только с сентября, точнее с конца августа, а до августа еще целый месяц. Светлана занималась домом: с утра до вечера шьет, вяжет, готовит всякие вкусности — вот уж точно от скуки на все руки. А он будто не замечает ни стерильной чистоты комнат, ни кулинарных способностей жены. Приходит поздно и сразу спать. Впрочем, она не в претензии. Но вот сегодня выбрался с работы пораньше — и что же? Сердитый, раздраженный. Хотела погладить — руку отвел.
— Ты слишком резок с людьми, Жаксылык. Да-да, не удивляйся, слишком суров. Тебя тут все боятся. Ты-то не знаешь, не говорят тебе, а я слышу. И думаешь, приятно это слушать?
«Вот те на! — подумал Даулетов. — Это я-то строг! Реимбай меня почти мямлей считает. Светлана — почти деспотом. Кто из них прав?»
— Светлана, подумай, что ты говоришь. Разве я был когда суровым?
— Не был. Но тут ты словно одичал. Все один да один. Месяц с лишним живем, и знакомых у нас нет. Мы ни к кому не ходим и к нам — никто. Ты полагаешь, что это нормально?
«А ведь верно, — согласился Жаксылык. — Я все делами занимаюсь, а с людьми так и не сошелся. Друзей у меня здесь нет. Ну, друзей, разумеется, за месяц не приобретешь, а вот приятелей, товарищей, единомышленников заводить надо. Без них я — никто. А врагов, оказывается, и за месяц нажить можно».
— Ты прости, Светлана, просто я очень устал. И еще… — он помедлил. Говорить — не говорить? Решил сказать. — Сегодня меня чуть не убили.
— Что?!
Жаксылык сам испугался. Зря сказал. Начал спешно оправдываться.
— В аварию попал… Случайность… Ничего такого — видишь, цел… На дороге всякое бывает, — он повторил слова Завмагова сына и даже не заметил этого.
— Я же говорила!.. — Светлана чуть не плакала. — Тогда еще говорила, что съедят здесь тебя. Разве ты можешь с ними бороться? Нужно вот как людей держать, — она сжала маленький кулачок. — А ты? Ты же мягкий, уступчивый…
— Светлана! — взмолился Жаксылык. — Да где же логика? То я злой, то добрый, то суровый, то мягкий…
— Какая логика?! — перебила она. — Боюсь я за тебя. Понимаешь, боюсь.
Он обнял жену, притянул ее голову к плечу и гладил, гладил по волосам, пушистым, мягким локонам, словно у ребенка. И она сжалась, стала маленькой и легкой — совсем дитя. Жалась носом в шею мужа и всхлипывала.
— Не надо. Не надо, — приговаривал Жаксылык. Он в эту минуту как-то особенно ясно понял многое: и то, что она сильно любит его, и то, что пойдет за ним куда угодно — уже пошла, и то, что она спутница, но не опора, не помощник в дороге.
Почти десять лет прожили, а понял только сейчас. Видимо, прежде просто не задумывался — нужды в помощнике не было.
7
Приаральская степь. Бесконечная песчаная гладь. Лишь непривычному, постороннему взгляду кажется она утомительно однообразной. Но те, кто здесь рожден, знают, как разнятся меж собой пески. То мягкие, вязкие, зыбучие: ступишь на них — и уйдет нога по колено, и тихая, но властная сила потянет тело вглубь, и почудится, что нет под тобой дна. То плотные, будто спрессованные, и жесткие, как наждак: проведи рукой — поранишь ладонь. То бугристые, будто громадное, миллионногорбое стадо верблюдов разлеглось на бескрайней равнине. А то вдруг откроется полоса гладкая — будто отутюжил ее кто-то, будто, выравнивая каждый сантиметр, провели тут широченную дорогу. А временами средь сухой желтизны заколышется внезапно зеленая заводь высокой травы, такой яркой и такой сочной, что так и хочется съесть ее.
Песок. А по нему волны, волны, волны. Вот легкая, чуть приметная рябь — как по арыку, когда плеснется мелкая рыбешка. Вот уже покрупнее — такая бежит по большому каналу, когда утренний ветер рябит его, словно выстилает шифер. А вот и валы — настоящие, морские, пятиметровые, те, что выпрыгивают, как пловцы, выгибая спины и втягивая животы. Волны, волны, волны.
Присядь, зачерпни горстку песка, он протечет сквозь пальцы, и на ладонь ляжет ракушка, настоящая, морская, похожая на чуть подувядший лепесток белой розы, на мелкую фарфоровую пиалушку. Раковина. Откуда она здесь?
Пустыня. Песчаное море, в котором есть и штормы и штили. Пустыня и впрямь напоминает море, как изваяние напоминает лицо, как статуя напоминает живого человека.
Пустыня — памятник морю.
Такой увиделась она новому директору, когда вместе со своим замом выехал он за пределы совхоза и направился к Аралу.
Даулетов отыскал наконец ориентир. Он просто не умел еще как следует читать карты и не обратил сперва внимания на несколько условных значков недалеко от западной границы «Жаналыка». Потом лишь понял: это роща. Турангилевая рощица, всего-то около двух гектаров. Но все же примета, и видная.
Реимбай ремонтировал «газик», который хоть и не сильно, но все же пострадал при аварии, и Даулетову пришлось вновь воспользоваться собственным «Москвичом». Он пригласил Сержанова проехаться вместе по полям, пригласил, намереваясь на месте и с глазу на глаз без свидетелей спросить впрямую: знает ли зам о скрытых полях и, если знает, почему молчит…
Ехали они достаточно долго и, судя по всему, верно ехали, но своей главной приметы Даулетов так и не отыскал. — Ержан Сержанович, а мне говорили, что тут роща есть, — это директор обронил как бы невзначай.
— Кто это мог сказать? — удивился зам. — Давно уж нет ее. Поля там. А стояла она вон, — он показал большим пальцем за спину, — с полкилометра, как проехали.
— Жаль, — Даулетов говорил искренне. Ему и впрямь жаль было сведенного леса, леса, столь редкого теперь в этих местах.
— А чего ее жалеть?
— Да вот предполагал со временем совхозный пансионат тут построить. — И на сей раз не лукавил директор. Точно — такая мысль у него была.
— Городской вы все же человек, Жаксылык Даулетович. Городской. Это только дачника на природу тянет. Аульчанину другое нужно. — Сержанов, как обычно не без удовольствия и легкого ехидства, наставлял своего преемника. — Нашим рабочим, уж если куда и ехать в отпуск, так не за город, а в город. Не на весь срок, конечно, поскольку у каждого и дома дел предостаточно, но на недельку, пожалуй, можно. В театр сходить, в музей. Кино новое посмотреть, а то в наш-то клуб когда оно еще приедет? По магазинам пройтись. Да-да, и это тоже. Может быть, это в первую очередь. Не пробежаться впопыхах, а не спеша походить, чтобы выбрать нужное, а не хватать первое попавшееся.
И опять Сержанов был в чем-то прав. Действительно, у земледельца отпуск зимой. Что ему в это время делать возле облетевшей рощи? А вот сам он, Даулетов, как ни обидно в этом признаваться, в данном случае мыслил шаблонно. Поля между тем все тянулись и справа и слева. Даулетов засек по спидометру, накинул еще полкилометра, и оказалось, что от официальной границы «Жаналыка» до края последней хлопковой карты без малого пять километров. Довесок более чем солидный. Он усмехнулся.
— Что веселого нашли, Жаксылык Даулетович?
— Да вот подумал: проснулся как-то поутру Великий герцог Люксембургский и вдруг узнал, что его владения увеличились чуть ли не в полтора раза. Как думаете, что он скажет?
— Мне-то откуда знать? — Сержанова удивляли и раздражали беспредметные вымыслы директора. То снохой себя представит, то вот герцогом Люксембургским. Чем у человека голова забита? — Я ведь с герцогом не знаком. За дастарханом вместе не сидели.
— Но, наверное, не опечалится?
— Зачем ему печалиться? Больше — не меньше.
— Да-да, — кивнул Даулетов, но у самого-то директора вид был грустный. Расхотелось спрашивать зама, знает ли он о лишних гектарах. Нечего спрашивать. Надо проводить обмеры, и все тут. Можно было возвращаться.
Вышли из кабины, что называется, «ноги размять». Высокому тучному Сержанову, конечно, было неудобно в «Москвиче». Он поприседал пару раз, покрутил руками, как на зарядке, и вдруг неожиданно, почти по-детски, пожаловался:
— А ведь отсюда до аула, где я родился, километров пятнадцать, не больше. Но — не поверите — десять лет там не был. Да и нет уже, поди, аула. — Он, помедлив, предложил робко и просительно: — Может, скатаем?
Отказать Даулетов, разумеется, не мог. Сам грешен, сам редко навещал родное пепелище, да и ныне не часто к нему наведывается, хоть теперь оно и под боком. Понял он Сержанова. Впервые за все время знакомства понял целиком безо всяких скидок и оговорок, безо всяких «но» и «однако». Понял и внутренне обрадовался этому.
— Проедем ли? Не засядем?
— Должны. Дорогу вроде не забыл. На худой конец уж эту-то таратайку вытащу, — и он согнул руки в локтях, как палван, демонстрирующий бицепсы.
Дорогу Сержанов и впрямь знал. Машина шла по ровной спрессованной глади, как по песчаной дорожке парка. Метрах в сорока — пятидесяти слева и справа горбились барханы, а тут будто прошлись специально для них грейдером и катком. Минут через десять попалась первая баржа. Она лежала на гребне бархана, слегка зарывшись в него носом, как зарывалась прежде в волну. За ней показалась другая, поодаль третья и еще лодки — они, в отличие от барж, лежали, как правило, на боку, черпая бортом песок. Вся сухопутная флотилия не вызвала жалости у Даулетова, скорее удивила, как если бы встретил он среди моря пасущихся верблюдов.
Море открылось сразу. Даже и не открылось, а просто от неба на горизонте отделилась узкая полоска и начала расширяться. Из бледно-голубой и прозрачной она становилась зеленоватой и плотной. Потом начала оживать, двигаться.
Они выскочили на невысокий песчаный пригорок. Слева — несколько беленых, но облупившихся домов без крыш, без стекол, без дверей, занесены песком до самых окон. Угадываются заборы. Торчат высокие шесты, на них, видимо, сушили сети, а может, вялили рыбу. Слева длинная дамба. Сейчас она, как лодка, вытащенная на берег, лишь краешком кормы касалась воды. На дальнем конце дамбы кучкой стояли люди — человек пять — и о чем-то оживленно беседовали.
Среди стоявших Даулетов узнал Шарипу. Он обрадовался, конечно, но еще больше удивился. «Ничего себе, экспедиция, называется!» С этим словом у него было связано представление о дальних и трудных, может, даже рискованных походах. А тут — всего ничего, каких-то пятнадцать километров. Эдак можно считать, что и они с Сержановым находятся в экспедиции.
Удивился и Сержанов.
— Никак племянница? — он тоже знал, что дочка брата уехала надолго, но «надолго» предполагало и «далеко». — Что это она здесь?
Подошли ближе. Шарипа, стоя к ним спиной, что-то объясняла, но фразу услышали с середины.
— …этого края своеобразным культурным центром. Народ был кочевым. Рыбаки первыми перешли на оседлость. Первыми начали строить дома, хотя и до сих пор по всей области в аулах летом рядом с домом ставят юрту.
— Вроде летней резиденции? — спросил высокий седой мужчина — самый старший в группе.
— В юрте летом очень удобно, прохладно, сухо… — в голосе Шарипы чувствовалась обида, вопрос ей показался ироничным.
— А я и не шучу, — уточнил высокий старик. — Как известно, даже хивинский хан разбивал на лето шатер во дворе своих ханских покоев.
— Впервые белить дома тоже начали здесь, и уж после этот обычай привился и в других аулах. Здесь одно время жили русские корабельные плотники, обучившие наших рыбаков умению делать лодки. Ученики оказались способными, то есть не просто подражали наставникам, а делали по-своему. Таких лодок, как на Арале, вы больше нигде не встретите. Здесь же появился первый в этом краю морозильник для рыбы. А вон остатки землянки еще видны.
Даулетов слушал молча. Ему не хотелось прерывать Шарипу, а она все рассказывала и рассказывала, стоя лицом к своим слушателям и спиной к нему. Она говорила о том, что народы бывают многочисленными и малочисленными, но исторические закономерности для всех едины, и в жизни любого народа есть времена, когда ветер обновления дует с моря. Она говорила, что для ее сородичей прибрежные аральские аулы были тем же, чем Петербург для России и Марсель для Франции. Что во время революции аральские рыбаки, как и моряки-балтийцы, как до того марсельцы во Франции, были самыми ярыми защитниками новой власти. Она доказывала, что без моря невозможно представить ни историю, ни культуру ее народа и что впредь они тоже без моря немыслимы. Она упорно, с какой-то сдержанной, но палящей страстью доказывала то, что, видимо, было и без того ясно ее слушателям, но они не прерывали рассказа Шарипы, как не прерывают человека, говорящего о своей любви и своей боли.
— Море горит! — это крикнул Сержанов.
Все обернулись к воде, а Шарипа глянула через плечо: узнала и Даулетова, и дядю, но не заметно было на ее лице ни радости, ни удивления. Взгляд был сердитым, недовольным.
— Море горит!!
Справа, наискось, будто действительно прямо из воды поднимался черный столб. Он покачивался, как змея. Потом начал плющиться, растекся облаком, и, нарастая, увеличиваясь, облако поползло на берег.
— Море горит!
— Пепел, — Шарипа была спокойна. Она объясняла высокому старику: — Там на косе спалили тростник.
Но у старика было свое мнение.
— Нет, похоже на вихрь. Только странный. Быстро к укрытию, — скомандовал он, однако сам и с места не тронулся.
Ветер налетел мгновенно. Тучи еще не приблизились, а он уже ударился о берег, засвистел, взвинтил песок, и сотни маленьких злых смерчей побежали по степи.
Даулетов сжался, выставил вперед плечо и прикрыл лицо ладонью.
— Берегите глаза! — крикнул старик, но опять сам же нарушил свой приказ. Он поднял руку, которую держал козырьком над бровями, поставил ладонь под ветер и лизнул пальцы. — Соль! — И еще раз. — Точно. Соль! Быстро в машину и — за ветром!
Это он крикнул Шарипе.
Она тут же, будто подхваченная вихрем, сорвалась с места. Даулетов — за ней. Его «Москвич» стоял ближе всего к дамбе. Машины экспедиции стояли дальше, справа за покинутым аулом. Шарипа рванула дверцу «Москвича» и скрылась в кабине. Через несколько секунд и Жаксылык плюхнулся на кресло.
— Ну, здравствуй наконец-то, — начал он, — а то неудобно как-то…
— Быстрей! — прервала его Шарипа. Словно и не заметила, что рядом не экспедиционный шофер, а Даулетов. Не поздоровалась. Не попросила. А приказала, прикрикнула даже. Такой ее Жаксылык еще не видел.
Он включил зажигание, и машина тронулась.
— Быстрей же! — еще раз скомандовала она. — Прямо! Он переключил скорость и понесся, не выбирая дороги. Через минуту Шарипа крикнула «Стоп!», выскочила из
кабины, подставила ладонь, как тот старик, лизнула пальцы, сыпанула горстку песка в полиэтиленовый пакетик, вернулась в кабину: «Дальше. Быстрее!» Раскрыла блокнот, быстро что-то написала на листке, листок вырвала и тоже сунула в пакет, пакет завязала. «Стоп!» — и так семь раз.
Ветер слева скреб борт машины, мельтешила перед радиатором песчаная поземка, и на гребнях барханов плясали желтые черти.
Нервное возбуждение Шарипы передалось и Даулетову. Он уже и не пытался заговаривать с Шарипой. Он только следил за дорогой. Резко тормозил, когда она приказывала, и срывался с места, как только она возвращалась в кабину.
Вихрь стих, как оборвался. Впереди еще крутанулось несколько пыльных колечек, как крутятся они на насыпи за последним вагоном поезда, но состав уже пронесся, прогрохотал, просвистел и скрылся. Жаксылык остановил машину. Шарипа откинулась на спинку сиденья, повернула к нему лицо, припудренное мелкими блестящими кристалликами, и улыбнулась:
— Вот теперь здравствуйте.
Он наклонился, обнял и поцеловал ее.
— Что ты делаешь? Сумасшедший. Ты не знаешь, что делаешь!
Она говорила полушепотом. Она была тиха и податлива. Властная, гордая, насмешливая Шарипа была сейчас такой послушной, такой крохотной и беззащитной.
— Сам не знаешь. Сам не знаешь! — повторяла с каждым выдохом. «И знать не хочу», — думал он, целуя лоб, щеки, веки, брови, шею, и мелкие острые кристаллики впивались ему в губы. Он и впрямь не знал. Еще секунду назад не знал, что так поступит, что сможет, осмелится так поступить. Ему казалось, что он уже все окончательно решил для себя, что душа его накрепко закрыта для этого запретного, недопустимого чувства. Но вот вдруг словно дверь с петель сорвало, распахнулась душа, и хлынуло чувство. И теперь, когда он прижимал к себе и целовал женщину, которую любил, — а он уверен, что любил ее всегда, все эти годы, все пятнадцать лет, и раньше, еще до того как встретил ее, уже любил, чуть ли не с рожденья знал, что встретит и полюбит именно ее, он уверен, уверен в этом, — теперь он уже понимал, что нет силы, которая отныне могла бы разлучить их. Пусть разверзнется бездна! Пусть небо рухнет! Он никогда, ни за что на свете не выпустит ее из объятий!
И грянул гром. Близкий, рокочущий, нарастающий.
Вертолет прошел над машиной так низко, что на соседнем бархане зашевелился улегшийся было песок.
Шарипа вырвалась.
— Это по нашу душу. Жаксылык не понял.
— Начальство прилетело. Поехали. Надо встретить! — приказала она. Перед Жаксылыком вновь была властная упрямая Шарипа, спорить с которой бесполезно.
Он неохотно развернул машину и двинулся обратно, теперь уже не торопясь, тщательно выбирая дорогу.
— Почему тогда ты не ответила на мое письмо?
— Если б я теперь сама это понимала, — Шарипа улыбнулась печально и иронично, но посмеивалась она над собой. — Дура была. Гордая и стеснительная девочка-дурочка-аульчан-ка. А ты почему больше не писал?
— Потому же. Тоже был «девочкой-дурочкой». Оба рассмеялись, но смех был невеселым.
Когда они подъехали к месту посадки, то Даулетов увидел, что с высоким стариком и другими членами экспедиции разговаривает секретарь обкома — его Жаксылык тут же узнал, — рядом Нажимов и еще несколько незнакомых ему людей.
— Здравствуйте, товарищ Даулетов, — ответил на приветствие секретарь обкома. — Вижу, вы тут всей дирекцией собрались.
Не то вопрос, не то упрек. И неясно, то ли секретарь поначалу не узнал Сержанова, то ли счел его присутствие естественным, а вот появление еще и Даулетова, с его точки зрения, было явным перебором. Жаксылык еще не решил, что ответить, но выручила Шарипа:
— Дирекция «Жаналыка» тут самые заинтересованные лица…
— Это Шарипа Сержанова, наш молодой ученый, — пояснил стоявший сбоку от секретаря Нажимов. Пояснил, чуть наклонившись к уху начальника, но сказал громко, так, что все слышали, и Даулетов не понял, зачем Нажимов наклонялся. Насколько он знал, секретарь не страдал глухотой.
— Дело в том, — продолжала Шарипа, — что ветер гонит соль с оголенного дна перво-наперво на их угодья.
— Так, — секретарь обкома заинтересовался. — А дальше куда?
— Пока сказать трудно, нужны исследования, но предположительно на десятки, а то и сотни километров в глубь области.
— Это очень серьезно. — Секретарь повернулся к одному из своих спутников: — Непременно проверить! — И тот записал что-то в блокноте, который держал наготове.
— Арал отступает, — вмешался Нажимов, — это увеличивает территорию нашего района. Полагаю, что нужно использовать освобожденные площади.
— Не уверен, что нам стоит лезть на дно, — возразил секретарь, — когда в области пустуют еще несколько миллионов гектаров. У нас четыре зоны. Первая — берега Амударьи с двумя миллионами пригодных для обработки земель. Вторая — пастбища Кызылкумов, с которых можно получить до семи миллионов тонн естественных кормов. Третья — побережье Арала. И четвертая — Устюрт, где можно содержать два-три миллиона овец.
Кызылкумы, как утверждает профессор Новиков, — секретарь слегка поклонился высокому старику, — так сказать, «богатая» пустыня. Здесь и растений больше, и урожайность их выше, чем, к примеру, в Сахаре, в Гоби, в Аравийской пустыне. Я не ошибаюсь, Николай Степанович?
— Нет, — ответил профессор. — Только необходимо добавить, что как разнообразием флоры, так и ее урожайностью Кызылкумы во многом обязаны Аралу. И если Арал исчезнет, то прогнозировать будущее «богатство» Кызылкумов я лично не берусь. В отношении Арала в научных кругах бытуют, в основном, две точки зрения. Согласно первой, необходимо во что бы то ни стало восстановить зеркало моря в прежних границах. Эту точку зрения я нахожу, к сожалению, нереальной, хотя мне понятен благородный пафос ее защитников. Согласно второй версии — гибель Арала неминуема, и нам, дескать, надлежит позаботиться лишь об использовании, как выразился товарищ, «освобожденных площадей». Эта точка зрения представляется мне, мягко говоря, некорректной, а грубо говорить я не хочу, чтоб не обидеть данного товарища. Сам я придерживаюсь третьего мнения.
Суть теории профессора вкратце такова: всех последствий исчезновения моря сегодня даже предсказать невозможно, но несомненно одно — это окажется настоящей катастрофой для целого региона, и не исключено, что повлечет за собой такие изменения климата и прочие злосчастья, что людям придется отказаться от поливного земледелия, ради которого они и высушивают сейчас море. Поэтому необходимо остановить обмеление Арала на определенном, заранее установленном и рассчитанном уровне. Остановить на том пределе, до которого мы еще можем предсказывать как неизбежные потери, так и способы их восполнения.
Николай Степанович говорил то, что всех интересовало, но говорил тем научным языком, который не всегда понятен непосвященному человеку. Шарипа видела, как старательно кивали головами слушатели, особенно когда с уст профессора срывались термины: «экосистема», «макроструктура», «энтропия», «взаимодиффузия», «инфильтрация», «экстраполяция тенденций», «динамика процессов», «турбулентность потоков» и так далее, то есть те самые слова, без которых не выстроишь настоящую научную теорию, но зато, выстроив, не втолкуешь ее обычным людям, пока от слов этих не откажешься. Потому и решила она перевести речь своего учителя с научного языка на общеупотребительный или, лучше даже, поэтический.
— Арал — это недреманное око дозорного. Если оно закроется, то с двух сторон обрушатся орды врагов — пески Каракумов и Кызылкумов.
— Кх-м, — профессор кашлянул смущенно. — Что ж? Можно, пожалуй, и так сказать. Можно. Это, пожалуй, даже короче, информативней, — и засмеялся. Остальные тоже.
Улыбнулся и Нажимов, однако ему-то не до веселья. Пусть ты профессор, будь хоть академиком, но нужно же понимать, что нельзя отчитывать руководителя района при людях. Мало сказать, при людях: при одном начальнике и двух подчиненных.
— Если все так серьезно, так трагично, — начал он, — то я не понимаю, а где же ваша принципиальность, ваша гражданская позиция, наконец? Сколько лет мы слышим о переброске северных рек. А ее все нет. Сами знаете, что у нас тут очень трудно с водой, а там она течет бесцельно. Почему же вы, ученые, не скажете свое слово в этом вопросе? Что-то не видел я, товарищ профессор, ваших выступлений и помощи нам.
— Ничего бесцельного в природе нет. Есть бесценное, которое мы, к несчастью, долго путали с бесплатным. Потому теперь и приходится расплачиваться. — Николай Степанович вначале собирался ответить одному лишь Нажимову, но увидел, что затронута тема, чрезвычайно интересующая всех собравшихся. Больная тема. Больная. Потому и обращался теперь Новиков ко всем: — Поймите, товарищи, переброска части, всего лишь части стока северных рек — это даже не союзная, это, не побоюсь слова, глобальная операция. Спасая один регион страны, мы нанесем вред — неизбежно нанесем — другому региону, и немалому притом. Разумеется, не нам, ученым, гидрологам и экологам, принимать окончательное решение, но наше дело произвести максимально полные расчеты, сделать выкладки и на их основании дать свои рекомендации.
Так вот, товарищи, во-первых, повторяю, это опасно, подчеркиваю — очень опасно для Севера страны. Во-вторых, дорого. Мы должны точно знать, что дешевле: изыскать ресурсы экономии влаги здесь, на юге, или перебросить северные реки. И наконец, третье — самое главное… — Тут он остановился на минуту, вгляделся в лица, пытаясь понять, осознают ли эти люди всю значимость того, что он собирается им сказать. — Самое главное, что переброска части стока северных рек — это не просто помощь. Это жертва, великая и святая. Да-да, именно жертва во спасение. И все мы должны быть уверены, что ни единая капля этой жертвенной влаги не прольется зря. Сейчас мы этого сказать не можем — слишком велики потери воды в регионе. Слишком!
Профессор внезапно замолчал. И через несколько секунд уже другим тоном добавил:
— После Арала поедем на Каракумский канал.
Обратно в «Жаналык» они с Сержановым возвращались молча. Каждый думал о своем. Первым прервал тишину Сержанов. Он говорил как бы сам с собой, словно и не обращаясь к Даулетову:
— Неблагодарная работа. Нет. Неблагодарная. Вот был бы я директором стройки… Вот, любуйтесь, — это мною возведено. Или директором завода… Вот, говорили бы, эта домна или там мартен при Сержанове строились. А тут двадцать пять лет отпахал, а память где? Хлопок, что растил, давно сносился в халатах да рубахах или сносится через год-другой. Дыни и рис? А что дыни? Ешь сладко, съел и вкус забыл. Что еще? Аул отстроил? Высохнет Арал, климат изменится — и конец Жаналыку. Как в моем родном ауле — лишь барханы под окнами. А ведь двадцать пять лет! Двадцать пять…
— Завтра начнем обмер посевных площадей, — ни с того ни с сего сказал Даулетов, сказал как о чем-то решенном, известном всем и в том числе Сержанову, не сказал вроде бы, а просто напомнил.
— Зачем? Давно обмерены…
— В том-то и дело, что давно. Думаю, что в комиссию должны войти и вы, Ержан Сержанович.
— Хорошо, — Сержанов не нашел что возразить, не готов был, потому и согласился. — Хорошо.
— Палван Мамутович, мне нужна ваша помощь. Директор сам пришел в кабинет к парторгу — это было новостью для Мамутова, потому что Сержанов в бытность директором всех — и парторг не исключение — всегда вызывал к себе «на ковер», как шутили в совхозе, и уж что там с тобой он будет делать, на ковре, то ли класть на обе лопатки, то ли потчевать ласковыми словами, об этом можно было лишь гадать. Даулетов же не только не поленился дойти до кабинета парторга, не только постучал в дверь (а не ввалился как хозяин), но к тому же еще и стоял перед сидевшим Мамутовым, стоял, будто проситель, и говорил о «помощи».
Мамутов поднялся:
— Да-да. Я вас слушаю, Жаксылык Даулетович! — И позой, и голосом, и лицом он показывал готовность исполнить приказ.
— Это не… — Даулетов подыскивал слово помягче, — не распоряжение, Палван Мамутович. Это действительно просьба о помощи. И если вы не захотите или не сможете ее выполнить, то вправе отказаться. Я хочу, чтобы именно вы возглавили комиссию по обмеру посевной площади.
— Конечно, конечно, — согласился Мамутов, согласился по инерции, но тут же спохватился: — А зачем?..
— Видите ли… я полагаю… нет, убежден, знаю наверняка, что количество посевов не соответствует цифре, указанной в отчете.
— Их больше? — вопрос звучал скорее утверждающе. «Так, — подумал Даулетов, — и этому известно о лишних
площадях, но и он молчал».
— Да, постарались. Столько напахали, что теперь и не сразу решишь, как исправлять положение и какие меры…
— Подождите, подождите! — прервал его Мамутов. — Вы говорите таким тоном, будто это плохо?
— Чего уж хорошего. Экстенсивная экономика вместо интенсивной — в наше время хуже, как говорится, некуда. Потому и вынуждены подтасовывать отчетность. А совхоз — это советское хозяйство, не так ли? Как заметил один бывший филолог, «советское» и «совесть» не случайно схожие слова.
— Впечатляюще сказано, — согласился Мамутов, — непременно повторю это на партучебе. Но не надо учить меня политграмоте. Видимо, вы правы формально. И экономически верно рассуждаете. Но меня интересует моральная сторона. Люди перевыполнили задание, проявили инициативу и энтузиазм, сделали больше, чем от них требовалось. За что же их упрекать? Это только приветствовать надо, по-моему.
— В том-то и суть, что не работа это, а трудозатраты. Понимаете? — Даулетов внимательно следил за парторгом, пытаясь выяснить, способен ли этот гуманитарий, этот бывший историк, уразуметь смысл экономического парадокса. — Это же нонсенс, Палван Мамутович, нонсенс: люди трудились дольше, чтобы сделать меньше. Понимаете? Запланированный урожай мы, видимо, дадим, но вот урожайность будет вдвое ниже плановой.
Даулетову казалось, что его доводы видны, как на ладони. Он действительно раскрыл обе ладони, будто показывая: смотрите, насколько два поля больше одного.
— А что касается моральной стороны, — продолжал он, — то тут я с вами совершенно согласен. Наша экономика в основе своей такова, что она может быть либо нравственной, либо убыточной. Третьего не дано. Это у них там, — и Жаксылык ткнул большим пальцем куда-то за спину, — необходимо задушить конкурента, прижать партнера, а покупателя, потребителя надуть: «не обманешь — не продашь». А нам любой обман в копеечку влетает. Ложь — чем бы ни была она вызвана: хитростью, кичливостью, местным патриотизмом — для нас слишком накладна. Самих себя надуваем — больше-то некого. Мамутов не спешил с ответом, а когда, наконец, заговорил, в голосе его чувствовалась неуверенность;
— Все это красиво и образно. Но нужны же факты, примеры. Нужна конкретика.
— Вот именно. Фактов и не хватает. Их-то я и прошу вас добыть. Когда произведем обмер, непременно вскроется многое.
В продолжение почти всего разговора Мамутов крутил в руках спичечный коробок, но закурить при некурящем директоре все никак не решался. Вынимал спички, вновь засовывал, потом высыпал их на стол и начал выкладывать головоломку: VIII–VII = VII.
Новый директор требует от него прямой помощи, прямой поддержки своих действий. Говорит «прошу», но это так, одно название, форма вежливости — человек-то интеллигентный. По сути, требует мягко, ненавязчиво, но именно требует: Мамутов должен стать его единомышленником и главным союзником, а иначе… Нет, он не грозит, даже предлагает «вы вправе отказаться», но ведь так можно отказаться и от поста парторга. Случись так, что Даулетов погорит (а это вовсе не исключено), то следом за ним (кабы и не раньше) сгорит и Мамутов.
После того разговора с Сержановым он уже твердо знал, что если Ержан-ага вернется в свое старое кресло, то ему, Палвану, придется вылезать из своего, поскольку на Даулетова он конечно же жаловаться не стал, а Сержанов этого не простит ему ни в жизнь.
Выходит, и тут риск, и там тоже. Только в одном случае придется сидеть и ждать, что с тобой сотворят, а в другом действовать, и действовать, рассчитывая на победу. Вот так — либо творец, либо тварь. Считать себя тварью, хотя бы даже и господней, противно.
А действовать?.. Тут нужна убежденность. Ее-то пока и не было у Мамутова, не чувствовал он ее.
— Вот, Жаксылык Даулетович, видите, — он указал на головоломку, — задачка: нужно переставить одну спичку, чтоб из явно неверного равенства получилось верное.
Жаксылык посмотрел повнимательней и вдруг почувствовал, что загадка его увлекает, будто мальчишку, пришедшего на вечер фокусов и шарад.
— Подождите, подождите, — он отстранил руку Мамутова, намеревавшегося показать решение. — Я сам.
Сам-то сам, но ничего не выходило: загадка была явно «с секретом».
— А не кажется ли вам, — парторг впервые улыбнулся за время разговора, и улыбка эта обрадовала Даулетова, — что наша беседа похожа на эту головоломку. Вы думаете, будто стоит перетянуть на свою сторону одного Мамутова — и задачка решена.
— Нет, конечно, перетягивать придется всех до единого, но с кого-то надо же начинать, вот я и выбрал вас. Не надо! Не надо! — опять он хотел остановить парторга, потянувшегося к спичкам, но тот не послушался.
— Нет уж, пришли за помощью, так не отказывайтесь от нее, — он отделил палочку от первой «семерки» и положил ее сверху. — Вот так…
VIII — = VII.
— Тут и корень ответа.
Потом взял спичку, зажег ее и прикурил.
— Я уверен в одном, — продолжал Мамутов, глубоко затянувшись сигаретой и медленно выпуская дым. — Если Сержанов что-то делал, то наперед знал, как и для чего. Выявив дополнительные площади и объявив об их существовании, мы нарвемся на скандал. На нас спустят всех собак. Загрызть, может, и не загрызут, но штаны порвут — это уж точно.
Даулетову понравилось, что он сказал «мы», «нас». Значит, не отказывался наотрез, не отмежевывался от директора — уже хорошо.
— Что ж! На то и драка. А штаны — если только этим можно утешить — пострадают у обоих. Одно дело делаем, поровну и отвечать, — успокаивал Даулетов, хотя знал, что с него, с директора, больший спрос.
— Нет, не поровну, — возразил и Мамутов. — Вы чужие грехи обличаете, а мне и тем, кто нас поддержит, в своих каяться. Это вещи разные.
— Значит, надеетесь, что поддержат.
— А как же? Иначе не стоило бы и браться.
— Чудесно, — Даулетов встал. — Значит, делаем так: вы назначаете открытое партсобрание. Повестка — мой отчет.
— Какой отчет? Вы же без году неделя… Да и собрание недавно было, когда вас в партком вводили.
— Ничего, ничего, — стоял на своем Даулетов.
— Вот что, товарищ директор, — Мамутов тоже встал. — Если командовать — командуйте. А коли мне самому действовать, то сам я и решу, как лучше. Мне идти, мне и тропу торить.
8
Тропу Мамутов выбрал сам. Нельзя сказать, что она была совсем уж непохожей на даулетовскую, но отличалась от нее, и отличалась заметно. Прежде всего вместо общего открытого собрания Мамутов назначил расширенное заседание парткома, а в повестке дня указал не отчет директора, а информацию о подготовке к уборочной. Создание комиссии по обмеру посевной площади заменил сообщением группы народного контроля.
Местом заседания выбрал свой кабинет. Впервые за всю историю совхоза заседание происходило там, где ему и положено. Прежде коммунистов собирали в кабинете директора. Помещение парткома было срочно отремонтировано, в кабинет поставили новую мебель, повесили занавески, постелили палас.
От внимания людей ничего не укрылось. Они все заметили и все поняли. Партком меняет стиль, и меняет неспроста: влияние нового директора! И первым, кто понял это, был Сержанов. Понял и улыбнулся. Опасности для себя в перемене не почуял, хотя чем-то новшество его и кольнуло. При нем кабинет Мамутова находился в запустении. Замка на дверь и то не хотел повесить. «Уж если вешать, — говорил он, — то чтобы вовсе не открывать. Дела свои решай у меня. Здесь и уютнее и солиднее». И Мамутов решал все в кабинете Сержанова и чаще всего при участии Сержанова. Теперь отделился, обрел независимость. Надолго ли? «Никого без присмотра оставлять нельзя, — думал Сержанов, — забредут невесть куда. Потом не найдешь, не воротишь! Дурит Даулетов. Ну да еще одна дурость камнем станет в том грузе, что потянет его ко дну».
Народу стеклось — тьма, и это тоже не вызвало одобрения Сержанова. «Чего тянутся? Хочется почесать языки. Прежде не загонишь на собрание, теперь не выгонишь. Или драку чуют? А ведь будет драка. К уборочной совхоз не готов. Кому-то натрут холку за беспечность. Кому-кому? Даулетову — кому же еще?..»
Даулетов пришел на заседание чуть ли не первым. Сел у окна, в стороне от секретаря, чтобы не смущать Мамутова, да и возможность иметь наблюдать за народом. Каждого входящего встречал придирчивым взглядом, определяя, как тот настроен. В основном любопытство было на лицах большинства жаналыкцев. Собирались слушать, а не выступать. Посмотреть на схватку, а не махать кулаками. Вот только «мушкетеры» Далбай, Калбай и Елбай были настроены воинственно, и скрыть это им не удавалось ни веселыми улыбками, ни шутливыми возгласами. Как и на первом собрании, при представлении Даулетова, тройка собиралась дать бой новому директору. Последним в партком вошел Завмаг. Он вежливо кивнул всем, отыскал среди сидящих Даулетова и персонально поприветствовал поднятыми руками. Лучшего друга, кажется, и не сыскать новому директору. Уважение, внимание, преданность!
«А этому чего здесь надо?! — возмутился Жаксылык, но вспомнил, что по настоянию Сержанова Завмаг в свое время был введен в состав парткома совхоза. — Чертовщина какая-то!»
— Рассаживайтесь, товарищи! — попросил Мамутов. — Пора начинать.
Удивительно покладистыми и послушными стали жаналыкцы. Мамутов только рот открыл, а они уже на стульях и смолкли мгновенно и уставились на секретаря.
— Близится страда, — начал парторг. — Это дело такое, от которого все зависит: и как рассчитаемся с государством, и как накормим себя. Что предпринято для успешного проведения уборки урожая, пусть нам расскажет член парткома, директор «Жаналыка» товарищ Даулетов.
Даулетов поднялся и глянул на Мамутова. Удивленно глянул, будто спрашивал: зачем это ты, братец, объявил меня? Не мне следует сейчас выступать. Удивление прозвучало и в его первых словах:
— Надо бы ставить вопрос не как убирать, а что убирать, — сказал он. — Бедненько выглядят наши поля. За исключением рисовой карты Аралбаева, везде посевы изреженные, развитие растений неравномерное. Если исходить из плановых заданий и плановых размеров засеваемой площади, мы не дотянем процентов тридцать.
— А куда же вы смотрели? — голосисто, как молодой петух, выкрикнул Елбай. Прокукарекал задиристо, с вызовом.
— Это у Сержанова спроси. Куда он смотрел все двадцать пять лет. Поля-то всегда были в таком состоянии, — ответил кто-то из зала, но Даулетов не увидел, кто именно.
— План, однако, выполняли, вытягивали ваши тридцать процентов, — не унимался Елбай.
— Вытянем и нынче… Но об этом позже. Поговорим сначала о подготовке к уборке…
И Даулетов стал со ссылкой на цифры, факты обрисовывать картину подготовки к осенней страде. Картина была не больно оптимистической. Не хватало горючего, запчастей для хлопкоуборочных машин, не вся техника прошла ремонт, плох транспорт: из двадцати грузовых машин только четырнадцать на ходу. Дефолиацию хлопчатника предполагалось провести с воздуха, но авиаторы до сих пор не ответили, смогут ли выделить для «Жаналыка» самолет.
Даулетов был краток, говорил лишь о главном, и вся информация заняла какие-нибудь десять минут.
— Таково положение накануне страды, — заключил он и закрыл блокнот, который держал в руках неведомо для чего. В него он ни разу не заглянул.
Недоумение вызвала информация директора. Вроде бы все правильно сказал, и цифры привел, и недостатки перечислил, а вот своего отношения не выразил ни словом, ни взглядом, ни тоном. Спокойно, ровно протекла речь. Доволен или недоволен Даулетов- не поймешь. Жаналыкцы привыкли к грозным и призывным речам. Начальник в их представлении должен, даже обязан пламенить словом души. Нужна гроза — гром, молнии, страх божий, зато потом и даль ясна, и путь виден. А тут ни грома, ни молний. Тихое журчание, шелест ветерка…
Не звал, не мобилизовывал, не пугал Даулетов и тем разочаровал многих. Кое-кого даже огорчил. Да что огорчил — рассердил! Ел бай Косжанов — тот просто пылал гневом. Маленький, по пояс остальным, он изо всех сил тянул голову, чтобы заметил его секретарь парткома и дал слово первому. Не высидел, вскочил и поднял руку; только тогда увидели жаждущего получить слово бригадира Косжанова.
— Хотите высказаться? — спросил Мамутов.
— Нет, вопрос задать.
Не любил эту троицу Мамутов. Вечно они воду мутили. Ну да что сделаешь, порядок такой: имеет право человек на слово, каким бы оно ни было.
— Задавайте!
Елбай обвел взглядом сидящих: ждут ли они его слов, всегда колких, как осенний жантак.
— Зачем нам все это сказал товарищ Даулетов? Кабинет парткома разом ожил. Весело блеснули глаза жаналыкцев, навострились уши.
— Давайте без шуток! — посуровел Мамутов. Коротыш явно настроился на срыв заседания.
— А я и не шучу. Я человек серьезный.
— Хорошо! — сердито глянул на коротыша Мамутов. — Вопрос ясен. Ответ получите после обсуждения информации. Еще есть вопросы?
Зал настороженно молчал.
— Тогда приступим к обсуждению положения дел в хозяйстве накануне уборочной. Кто хочет высказаться?
Наступило напряженное, тягучее молчание.
Елбай опять поднял руку:
— Я!
Тень гнева легла на лицо Мамутова. Парторг глянул на Даулетова, что он посоветует? Тот кивнул, пусть, дескать, высказывается.
— Говорите! — досадливо морщась, разрешил Мамутов.
— Речь моя будет короткой, по росту. Из четырех слов. Надо повысить зарплату директору…
Еще ярче вспыхнули глаза жаналыкцев. Не знали люди пока, как ударит он Даулетова, но ударит, это ясно. Руку уже занес.
Ударить помог Калбай Жамалов:
— Почему директору, а не нам?
— Ха! Вы хорошо работаете и на этой зарплате, а он на своей не может хорошо работать. Ему материальный стимул нужен. Парторг, поставь вопрос в райкоме или обкоме, пусть повысят ему этот самый стимул, тогда и запчасти появятся, и машины отремонтируют, и самолет пришлют. И не будем все мы ломать головы над тем, что касается одного директора.
Дерзко сказано и с ехидством. Любили жаналыкцы колючее, ядовитое словцо, всегда откликались на него смехом, на это и рассчитывал коротыш, а тут не откликнулись. Побоялись, что ли? Или не настроены на смешное?
— Не прав Косжанов! — это с места крикнул Далбай, и Мамутов насторожился. Неужто разлад среди «мушкетеров»? Но зря понадеялся. У них-то спайка на зависть. Зря. — Не в стимуле дело. У Сержанова была такая же зарплата, однако при нем хозяйство было передовым, а теперь оказалось чуть ли не в хвосте. Мы вынуждены примеряться к шагу нового директора, а шаг его короткий, как у стреноженного коня…
Повестка срывалась. Никогда еще не приходилось Маму-тову вести заседание в такой обстановке. Дело шло к скандалу. Надежда на душевный разговор рухнула. Зря согласился Мамутов начать обсуждение без предварительной подготовки, без назначенных заранее ораторов. Он снова глянул на Даулетова: что посоветует, положение-то аховое. Тот кивнул, как и в первый раз — продолжайте прения! Уверенно кивнул, улыбаясь, будто нравились ему эти наскоки.
Пересиливая себя, глотая досаду, Мамутов нервно спросил:
— Кто следующий?
Встал Завмаг. Поправил галстук, хотя поправлять его было незачем — давно уж намертво прилип к темной, нестираной сорочке, и произнес торжественно:
— Вот тут выражали недовольство деятельностью нового директора. Даже осуждали его. Я согласиться с этими товарищами не могу. Не имею права. Лично я благодарен Жаксылыку Даулетовичу. Он избавил меня от хлопот по выколачиванию запчастей, горючего, удобрений. Непростое это дело и даже опасное — добывать отсутствующий в снабжающих инстанциях дефицит. Здоровье потерял, честно скажу. Не в укор кому-нибудь. Мы все должны что-то терять, чем-то жертвовать ради процветания нашего общего дела. Успех хозяйства — наш успех. Молодому директору трудно. Нет еще опыта, нет связей. Поможем ему подготовиться к уборке урожая. Пусть каждый сделает то, что может. И я сделаю. Вы только попросите, Жаксылык Даулетович! Не надо гордиться, не надо чуждаться коллектива. В коллективе — вся сила. Без него ничего не сделаете. С ним — горы своротите.
«А что? В общем-то, толково. Конечно, в своей всегдашней манере говорил Завмаг, округляя и присюсюкивая, с какими-то экивоками, но зато хотя бы по делу, не то что Елбай с Далбаем» — так подумал Мамутов, а вслух сказал:
— Общее наметилось, давайте перейдем к конкретным предложениям: что и как надо сделать для обеспечения отличной уборки урожая?
Конкретно никто не мог предложить. Конкретное всегда исходило от начальства. Поэтому все смотрели то на Даулетова, то на Сержанова. По привычке смотрели на бывшего директора. Он все знал, все умел, все мог взять на себя.
— Ну что ж, — лениво поднялся Сержанов. — Если больше нет желающих высказаться, дайте слово мне.
— Пожалуйста, Ержан-ага! — согласился Мамутов.
— Народ, естественно, прав, — начал не спеша Сержанов. — В такой решающий момент, как сбор урожая, необходимы четкие и эффективные меры со стороны руководства по обеспечению нормального проведения всех полевых работ. И мы с Жаксылыком Даулетовичем такие меры примем и дадим возможность нашим рисоводам и хлопководам вовремя собрать урожай и сдать его государству. Что, мне кажется, Жаксылык Даулетович, надо сделать в первую очередь? Обеспечить уборочные машины запчастями, завезти горючее, залить все емкости, чтоб заправщики работали без перебоя. Шесть грузовых машин должны встать в строй на этой же неделе. Вот практические рекомендации по обеспечению хорошего проведения уборочных работ. При их осуществлении, я думаю, мы не должны отказываться от помощи работников проверенных и зарекомендовавших себя с лучшей стороны. Без преданных людей трудно сделать что-то важное. Просто невозможно. И партийная организация, надеюсь, поддержит наше желание бороться всем коллективом за выполнение плана.
«Силен все же Сержанов, — с грустью и одновременно с каким-то восхищением подумал Мамутов. — Все поставил на свое место, все решил и всех успокоил».
— Есть еще предложения? Или ограничимся тем, что уже сказано?
— Ограничимся! — дружно ответил зал. Ни у кого ничего не было, да и не могло быть. Люди не утруждали себя изобретением предложений. Это дело начальства. Оно отвечает, оно пусть и мозгами шевелит.
Мамутов уже хотел предоставить слово Даулетову, чтобы он подытожил ход обсуждения, но тут встал Аралбаев.
— Спросить хочу, — сказал он. — Вот говорили, что нет горючего, что надо добыть его и залить все емкости. Это какое горючее? По плану, что ли?
— По плану давно все выбрали, — дал справку плановик.
— Удовлетворен? — кинул с места Сержанов.
Тот помялся, хотел сесть, но передумал — заноза, видимо, глубоко зашла, донимала. Аралбаев отрицательно покачал головой:
— Нет… Если сверхплановое требуется, то мы его не получим так. Значит, оно ляжет на себестоимость продукции. Я обязался снизить себестоимость тонны риса на шесть процентов, получится же — повышу на шесть, а то и на все двенадцать…
— Пусть тебя это не беспокоит, — оборвал рисовода Сержанов. — Горючее оплачивается из других фондов.
— Не из совхозных? — докапывался дотошный Аралбаев.
— Сказано, из других… Твой рис пойдет по старой цене. И шесть процентов сэкономишь.
— Странно… Как в сказке… — Аралбаев пожал плечами и опустился на стул.
Снова затих зал, но на сей раз тишина была не напряженной, а пустой.
— Ну, что ж, — произнес Мамутов, поняв, что никто больше говорить не собирается. — Подытожьте, Жаксылык Даулетович!
«Только не бросайся на троицу! — мысленно предупредил он директора. — Их не переделаешь, не переубедишь».
Даулетов вроде бы услышал секретаря и принял его совет.
— Я был скуп в своей информации о положении хозяйства накануне уборки, а выступавшие товарищи — еще скупее. Видимо, положение не столь уж тревожное, как мне, новому в общем-то здесь человеку, показалось. Правда, Аралбаев высказал беспокойство по поводу перерасхода горючего, он, вроде меня, удивляется и сомневается, но Ержан Сержанович довольно легко рассеял его сомнения и заверил, что себестоимость тонны риса останется прежней, даже снизится на шесть процентов. Не будем поэтому раскрывать тайны и докапываться до истины. Дадим товарищу Сержанову возможность обеспечить технику горючим, не предусмотренным плановой поставкой. Займется он и запчастями. С аэрофлотом договорюсь я сам. Уверен, дефолиация будет проведена своевременно…
Прервался Даулетов, вроде бы запнулся. Спокойно ведь говорил, и обиды в тоне не чувствовалось. Обида всегда выдает себя. Парторг вдруг понял, что побаивается продолжения, особенно сейчас, когда все уже успокоились, когда снялась острота, мешавшая жаналыкцам здраво, по-деловому решать вопросы.
А Даулетов и не собирался кончать разговор и колебаний не испытывал.
— Обязательства руководством приняты и, сомнения нет, будут выполнены. Но вот обязательства бригадиров мы не услышали. Они что, не собираются снимать посеянное и взращенное? Такое впечатление, будто план должны обеспечить лишь директор и его заместитель. Слышим одно слово: «Дайте! Дайте! Дайте!» А где же «Дадим!»? Я знаю, как борется за план Аралбаев. Знаю, потому что видел его поле. Оно радует. Арал баев мог бы выступить здесь и поделиться опытом. Не выступил, однако, из скромности, надо полагать. А остальные почему молчат? В скромности их не заподозришь. Так вот, считаю нужным поручить мне, товарищу Сер-жанову и главному агроному совместно с бригадирами в трехдневный срок составить план подготовки и проведения уборочной кампании в совхозе «Жаналык». Вместе с планом наметить график полевых работ на осенний период. План обсудить на общем партийном собрании, желательно — открытом…
Когда Даулетов закончил, благополучно вроде бы закончил, Мамутов облегченно вздохнул. Не кинулся директор на «мушкетеров», не стал вымещать обиду, и хорошо, что не стал, а то заседание могло бы превратиться в базарную перебранку. А в перебранке троица любому сто очков вперед даст.
— Какие будут еще предложения? — спросил у членов парткома Мамутов.
Сержанов утомленно процедил: — Одного хватит.
— Значит, принимается. Так и запишем: в трехдневный срок составить план подготовки и проведения уборочной.
Надо бы успокоиться Мамутову. Трудный вопрос прошел. Но следующий был потруднее. Безобидный по формулировке второй пункт повестки таил в себе опасность пострашнее первого. Сообщение группы народного контроля представляло собой обвинительное заключение «по делу» о перерасходе горючего и, главное, перерасходе, связанном с обработкой дополнительных площадей.
— Переходим ко второму пункту повестки! — глухим каким-то голосом объявил Мамутов. Откашлялся. — Слово руководителю группы народного контроля, Султану Худайбергенову.
Жаналыкцы давно уже не слыхивали ничего подобного. Народный контроль, конечно, существовал, его даже регулярно выбирали, но голоса он не подавал. Иногда появлялся, правда, на каком-нибудь полевом стане листок, сообщавший о забытом в хлопковых рядах фартуке или уснувшем у склада стороже. Сигналы никого особенно не тревожили, и никто не связывал их с работой народных контролеров. Поэтому сейчас на поднявшегося со стула Султана Худайбергенова люди смотрели недоуменно: неужто он и впрямь важная персона и должен выступать с трибуны, докладывать, обличать? И потом странным казался им Султан: такой же высокий, как отец его, старый Худайберген, такой же худой и молчаливый. Он работал весной и летом на тракторе, осенью — на хлопкоуборочной машине. Как работал? Да обыкновенно. Во всяком случае, никаких особых поощрений, кажись, не получал. Может, Сержанов когда и хвалил его и даже хлопал по плечу в добрую минуту, но жаналыкцы этого не помнили.
Султан Худайбергенов, поднявшись со стула, не сразу заговорил. Постоял некоторое время ни на кого не глядя, пощупал пальцами мочку уха и, будто убедившись, что она на месте, приступил наконец к делу. Тоже не торопясь.
— Жалоба есть, — сказал он. — Нет, две жалобы. А если по правде, то три, потому что я тоже собирался пожаловаться. Пашут-пашут трактористы, а денег не получают. То есть получают, но не столько, сколько напахали. Горючее перерасходовали и время перерасходовали, а учетчик ставит плановые гектары. Я спросил бухгалтера, как же так?.. А он отвечает: не могли вы вспахать больше, чем указано в карте. Я ему говорю: больше пахали. А он: сколько вы там напахали, не знаю, но больше, чем есть земли у совхоза, запахать не могли. Пусть, говорит, учетчик укажет, что поле перепахали дважды, тогда заплатим как за повторную пахоту. Легко сказать: дважды, для этого нужен акт, подписанный бригадиром и агрономом. И причины нужно указать. Зазря ведь не перепахивают… На культивации та же история. Правда, тут нам накидывают за дополнительную обработку.
Смолк Султан Худайбергенов и опять принялся щупать мочку уха.
— Ну и что? — спросил Калбай.
— Да ничего, — ответил Худайбергенов. — Жалуются механизаторы. Вот и все…
— Что скажет наш уважаемый бухгалтер? — обратился к сидящему у стола круглолицему и вообще круглому человеку Мамутов.
— А что я скажу? А то и скажу, что мы действительно не можем оплачивать работу, не предусмотренную плановыми показателями. Если в конторе шестнадцать окон, а стекольщик говорит, что застеклил двадцать, то никак нельзя оформить наряд. В плане дома — шестнадцать. План — документ.
— А может, двадцать все же? — бросил реплику Даулетов.
— Не понял вас? — бухгалтер снял очки, тоже кругленькие.
— Я говорю, может, надо поверить стекольщику, пересчитать еще раз окна?
— Зачем же считать, когда они сосчитаны проектировщиком?
— Жаксылык Даулетович не окна имел в виду, — вмешался Мамутов.
— Если не окна, тогда другое дело, — успокоился бухгалтер и водворил очки на прежнее место.
— Какие же выводы? — Мамутов стал нацеливать Худайбергенова на главное.
Султан все еще стоял, ожидая, видимо, новых вопросов.
— Какие? Пусть платят людям за фактическую выработку. Не в конторе надо считать гектары, а в поле.
— А ты сам не пробовал считать?
— Пробовал.
— И что же?
— У меня получается больше, чем у бухгалтера. И горючее тянет на полторы нормы. Как ни экономишь, все перерасход.
— Давайте, товарищи, разберемся в этом деле! — обратился к жаналыкцам Мамутов.
— А что тут разбираться? — откликнулся главный агроном. — Надо дать указание бухгалтерии рассчитывать механизаторов по фактической выработке… И все!
— Не все! — опустил очки и глянул поверх стекол бухгалтер. — Далеко не все. Выработка должна соответствовать плановой площади, в противном случае любой перерасход в оплате ляжет на бухгалтера. Ему сделают начет. Я не хочу платить из собственного кармана. И никто не захочет…
— Слушай, Султан! — вмешался Сержанов. — Ты хоть постыдился бы. Тебя что — обижали когда? Недобрал весной — доберешь осенью. Бесплатно у нас никто не работал. Всегда изыскивали средства.
Пока нерасторопный на слова Худайбергенов подыскивал ответ, с одного из последних рядов вскочил приземистый широкогрудый человек. Под выпуклым упрямым лбом толстые нахмуренные брови, черная щетина пробивалась по бритой голове, по щекам, подбородку, шее, закрывала лицо почти до самых глаз — видать, все в этом человеке было настырным, жестким и упрямым, даже волосы.
— А не надо нам ничего изыскивать! — крикнул он. — Ишь благодетели нашлись! Изыскивают они, видите ли! Вы сперва дайте мне мое. И не потом, а сейчас, когда заработал.
— А если «твое» меньше окажется? — спросил Завмаг, спросил с этаким почти отеческим ласковым укором.
— Как же, меньше! — взъярился щетинистый человек. — Ты мне, что ли, приплачиваешь? От себя отрываешь?
Зал грохнул. Все знали, что из Завмага легче душу вытрясти, чем копейку. У него как в копилке: туда монетка сама валится, обратно — ни в какую.
— Правильно, очень правильно говорил… — Даулетов сделал паузу, поскольку не знал имени выступавшего человека.
— Мирзабаев, — подсказал парторг, — Орыбек Мирзабаев. Механизатор.
— …говорил товарищ Мирзабаев. Нельзя людям за правое дело платить левыми деньгами. За труд вознаграждать, как за шабашку, халтурку, как за аферу, за махинацию какую-то, — нельзя. А то, глядишь, они и на работе начнут шабашить и прихалтуривать. Какой же выход? — он повернулся к бухгалтеру.
— Дать нам новый план, чтоб соответствовал выработке механизаторов. Столько-то га закреплено за бригадой, и столько-то рублей положено заплатить за обработку. Мы их выплатим, если, конечно, механизатор эти га обработает, а не будет гонять машину по степи или пахать частные огороды…
— Какая степь? Какие огороды? — насупился Худайбергенов. — Мы за пределы бригадных земель трактора не выводим!
— Верно, однако машина была на ходу и горючее перерасходовано.
— Заколдованный круг, — покачал головой Мамутов. — Надо как-то выйти из него. Какие будут предложения?
— Я же сказал: дать указание рассчитывать механизаторов по фактической выработке.
— Не выйдет! — заартачился бухгалтер. — Не выйдет!
— Выйти, однако, должно, — сказал Даулетов. — И способ один: произвести новый обмер площади, посевов. Видимо, вначале была допущена ошибка, пришло время ее исправить. Иначе заколдованный круг станет для нас петлей, а в петле, сами знаете, долго не протянешь. Задушит…
Даулетов еще не успел и рта закрыть, фразу договорить не успел, как встрял Завмаг.
— Хорошо сказал наш новый директор, — запел он нежно и вкрадчиво. — Ошибки надо исправлять. Конечно, все, что не так сделано, мешает нашей жизни. Жмут туфли — ходить нельзя, узок пиджак — носить нельзя… Но жмут ли нас границы угодий, узка ли карта посевная? Нет, не жмут, не узка карта. Значит, нет ошибки. А мы все-таки ищем ее. Хотим назвать того, кто будто бы ее совершил. И, назвав, наказать, опозорить перед всеми… Отчего же такое желание найти виновного? Да потому, что не верим мы людям, не верим коллективу, в котором живем и которым руководим. Обидно слышать людям, что они не заслуживают доверия. Обмеряя снова поля с тайным умыслом обнаружить обман, мы тем самым плюем в души людей. Страшно это.
Тихо, с печалью в голосе произнес все Завмаг. И печаль была вроде неподдельной.
— Эх, эх, дела… — в тон Завмагу добавил скорбно Далбай. — Дождались…
Встал Сержанов. Встал, не дожидаясь, пока закончит Далбай. Встал, не прося слова, более того, всем видом показывая, что теперь берет он собрание в свои руки и твердо намерен покончить с этой говорильней.
— Один говорит: «Ошибка вышла, давайте исправлять».
Другой говорит: «Людям надо верить, нельзя плевать в душу». Что вы как девицы, впервые узнавшие, откуда дети берутся! Покраснели, застыдились, глаза потупили? Любопытство разъедает, да невинность не велит. Нет, милые мои, вот так они и родятся, дети-то. Вот так. И ничего позорного в том нет. Но и хвалиться нечем. Напоказ выставляться незачем.
Лишние гектары? Да, есть. Только не лишние они. Необходимые. Позарез нужные. Они позволяют работать без аврала, без надрыва, но и без срыва.
У вас кладовки имеются, или только тем и кормитесь, что Завмаг на прилавок выкинул? То-то, милые мои. И хозяйству запас нужен, резерв. Он годами создавался, зато теперь мы уверены — какой бы ни выдался год, а задание выполним.
Колумбы! Первооткрыватели нашлись! Землю они обнаружили неведомую. Да вы кого удивить хотите? Там, наверху, люди, поди, не глупее нас с вами. Они все знают. Но если мы сами выскочим, сами заявим об избытке площади, то гектары эти либо урежут, либо к плану приплюсуют. И тогда конец порядку. Тогда каждый день — аврал, штурмовщина, а с планом нам все равно не справиться.
Лишняя земля. Она моя, что ли? Я что, на ней свою отару пасу? Да ваша она, ваша, и нужна для вашего же спокойствия и благополучия.
— Вот спасибо, Ержан Сержанович, а то я все слова подобрать не мог, а вы подсказали. — Даулетов стоял, и их с Сержановым разделяли люди — ряды жаналыкцев, которые сейчас поворачивали головы то направо, то налево. — Вот-вот, — продолжал Даулетов, — спо-кой-стви-е. За него, за спокойствие, благодушие, за довольство и безмятежность расплачиваемся землей, ибо обработать как следует не успеваем ни засеянные площади, ни «запасные», как вы их именуете. Расплачиваемся водой… Иссушили Аму и Арал, полной мерой поливая «плешивые» гектары. Расплатились лесами — вырубили ради дополнительных полей. Совестью людской платим, ведь не может же человек не поступиться совестью, мухлюя и подтасовывая. Всем расплатились ради спокойствия.
Мы же не продукцию производим — дефицит, нехватку продукции. Нехватку всего — машин, которые без толку "гоняем по неурожайным картам, горючего, которое сжигаем из-за пятнадцати-семнадцати центнеров с гектара. Нехватку воды и земли. И наконец, нехватку хлопка, риса, мяса и овощей, ради которых мы и работаем. Зато работаем спокойно, благополучно.
Только сейчас Даулетов взглянул на своего зама и увидел, что тот так и не садился, слушает стоя. Бледен. Глаза сузились. Лицо обмякло.
— Ну спасибо, милые мои. Спасибо. Дождался благодарности за то, что двадцать пять лет тянул совхоз: уважили. Враг я — да? Злодей? Диверсант? Кто выпил Аму и Арал? Сержанов. Землю искалечил, леса свел? Сержанов. Все беды от кого? От Сержанова, конечно. Портков импортных не хватает, опять я виной. Спасибо. Спасибо. — Он пошел к выходу. Остановился: — Забыл, Даулетов. Землетрясения забыл. Землетрясения — тоже моих рук дело?.. — И вышел, саданув дверью, аж стены закачались.
В наступившей угрюмой тишине долго слышалось тоскливое дребезжание люстры. Хватанул Даулетов, через край хватанул. Не надо так обижать человека. Даже если и не прав он, не надо. Только теперь жаналыкцы увидели, что Сержанов — старик. Властный, мощный, но старик. И не честь для джигита повалить аксакала.
Тишину оборвал Елбай:
— Вы тут директор или прокурор? Не пойму я что-то. Обличать все умеют. Много мастаков. А кто дело делать будет?
— Будем дело делать, — сказал Даулетов. Он тоже чувствовал себя виноватым, хотя не знал, в чем раскаиваться, ведь все вроде бы верно говорил. — Будем. И начнем с перемера посевов.
— Но имеем ли мы право перемерять? Площадь совхозных угодий занесена в районную инвентарную книгу и утверждена всеми инстанциями, — промямлил начальник планового отдела. — Разрешение надо иметь на перемер.
Мамутов опешил. Никак не думал, что земли совхоза находятся под контролем высших инстанций и эти высшие инстанции могут не согласиться на изменение размеров засеваемой площади.
— Чье разрешение?
— Я не знаю, — развел руками начальник планового отдела. — Районного исполнительного комитета, наверное.
— Не райисполкома, а райкома, — вставил Завмаг. — Это должно быть известно парторгу.
— Известно, — Мамутов смутился и соврал от смущения.
— А раз известно, то и согласовать надо вопрос с секретарем райкома! — напирал Завмаг. Совет больше походил на указание, чем на подсказку.
Глянул на нового директора секретарь парткома. Во взгляде тревога: вот как оборачивается дело. В райком придется звонить. А что скажет Нажимов, неизвестно.
Даулетов и сам понимал, что при такой ситуации избежать разговора с секретарем райкома не удастся. Понимал и безнадежность затеи с согласованием. Нажимов ни за что не допустит перемера земельных угодий, тем паче сейчас, накануне уборки. Это ударит по плану. Да и самого секретаря потревожит. Он-то небось знает о «скрытых» землях.
— Если члены парткома настаивают, согласуйте! — бросил Даулетов.
«Скандал неминуем! — понял Мамутов и вспомнил с грустью: — Я же предупреждал!»
— Вы тут продолжайте обсуждение, а я пойду позвоню, — извинился Мамутов и подался к двери.
Его остановили. Остановили бесцеремонно. Кал бай протянул руку, чтобы преградить путь.
— Нет! Звони здесь, при нас… Мы хотим знать, что скажет товарищ Нажимов.
Пришлось вернуться к столу и снять телефонную трубку.
Едва только он соединился с райцентром и вызвал райком, как все в кабинете затаили дыхание. Каждого интересовала судьба затеи с обмером, и каждому страсть как хотелось знать, что скажет секретарь райкома.
— Это Мамутов, из «Жаналыка», — связался наконец с Нажимовым секретарь парткома. — Да ничего… Спасибо! У нас тут идет партком… Какие вопросы? Да подготовка к уборочной… Нужно, нужно… Хотим во всеоружии встретить страду. Ну и еще сообщение народного контроля. По поводу несоответствия оплаты механизаторам с практически проведенной работой. Хотим создать комиссию по обмеру засеваемой бригадами площади. Что? Несвоевременно! Считаете нецелесообразным вообще… Так… Так… Вас понял. Спасибо! Хорошо… До свидания!
Положил трубку Мамутов и сделал это так осторожно, так аккуратно, что аппарат даже не звякнул, не отдался обычным легким стуком.
Когда трубка оказалась на месте, парторг поднял голову и как-то виновато посмотрел на жаналыкцев. И по этому взгляду они поняли, что говорить больше не о чем, да и не надо говорить. И еще поняли: Даулетов, по инициативе которого, в чем тоже никто не сомневался, был поднят вопрос о перемере площадей, потерпел поражение. Потерпел поражение и Мамутов, пошедший на поводу у нового директора.
Говорить действительно было не о чем, но Мамутов все же сказал:
— Жалобу механизаторов, товарищи, надо, однако, рассмотреть работникам бухгалтерии и планового отдела и оплатить им по выработке. Рабочие не должны страдать от всяких там неувязок в учете. Члену парткома товарищу Даулетову поручить проконтролировать выполнение данного решения. Какие еще будут предложения? Нет! Тогда заседание считаю оконченным. Всего доброго, товарищи!
Люди стали расходиться. Неохотно, правда. Что-то не устроило их в таком финале. Или само заседание оказалось не таким, какого ожидали. И хоть объявил Мамутов, что повестка исчерпана, а вроде и не было конца, о чем-то еще следовало поговорить, подумать, найти что-то. Не нашли, не подумали, не поговорили.
Покидали кабинет парткома жаналыкцы. Покидал его и сам Мамутов. Проигравший всегда печален. В первый раз сел на коня, и вот — оказался под копытом. Не боль тревожила, а сомнение: осмелится ли еще раз занести ногу над седлом?
Даулетов же не считал бой проигранным.
Рано утром, еще до того, как собрался конторский народ, он сочинил приказ. Коротенький приказ: назначалась комиссия по обмеру посевных площадей, и ей вменялось в обязанность произвести не только обмер, но и установить перерасход семян.
С этим приказом в руках и встретил Даулетов явившегося на работу секретаря парткома. Мрачного, расстроенного, возможно, не спавшего всю ночь. Коротко сказал: «Читайте».
Ошарашенный неожиданной встречей Мамутов принялся изучать бумажку, сунутую ему в руки директором. Первая же строчка кольнула.
— Вы что это, Жаксылык Даулетович, решили и себя и меня погубить? От нас же мокрого места не останется.
— Позвольте! — возразил Даулетов. — Мы же договорились о комиссии и вашем председательстве в ней.
— Договорились, верно. Но это было до заседания парткома. Нам запретили производить перемер.
— Запретили в кабинете парткома, а сейчас мы находимся в кабинете директора совхоза, и он, как лицо административное, учтите, административное, издает приказ, не решение, не постановление, а приказ о перемере земельных угодий, принадлежащих хозяйству, которым он руководит и за порядок в котором он отвечает. Понятно?
— Чего уж тут не понять! Вы, конечно, имеете право образовывать всяческие комиссии. Но стоит ли этим правом пользоваться?
— Правами надо дорожить.
— Толкаете меня на нарушение партийной дисциплины. Я согласился с Нажимовым о нецелесообразности перемера площадей и сам же возглавлю комиссию?
— Вы не райкому дали слово, а Нажимову. Районный комитет партии не может запретить проверку площадей, как не может брать под защиту очковтирателей и аферистов. Но я не заставлю вас нарушать слово. Партком комиссии не создает. Создаю я и прошу вас, Палван Мамутович, возглавить ее. Если не можете взяться за дело, скажите прямо. Не обижусь, не стану требовать невозможного. — И, подождав, добавил:- Вижу, непосильную задал задачу.
— Отчего же непосильную? Одолею как-нибудь. — И Мамутов вдруг рассмеялся: — Воевать так воевать! Издавайте приказ! Когда приступать к обмеру?
— Сегодня. Лучше сейчас.
— Считайте, что он начат!
Только теперь, когда замысел Даулетова стал реально осуществляться, к Даулетову пришло настоящее волнение. Он проводил Мамутова до машины и, усаживая его рядом с шофером, дважды пожал ему руку. Нет, не прощаясь, а ободряя его и самого себя.
Мамутов уехал на бригадные участки, прихватив с собой плановика и двух учетчиков, хорошо знавших посевные карты. Даулетов вернулся в кабинет, намереваясь поработать. Бумаг накопилось немало.
Однако поработать не удалось. Начались звонки. Из райпотребсоюза, райгаза, дорожного управления, милиции. На все вопросы надо отвечать обстоятельно, спорить, даже ругаться. Закончится один разговор, начинается другой. Самый неприятный звонок раздался в два часа дня. Его ждал Даулетов, хотя втайне надеялся, что обойдется, минует, что не будет этого звонка, не успеют пожаловаться на директора «Жаналыка». Успели. Звонок был грозен и официален: «Прибыть сегодня же секретарю парткома совхоза «Жаналык» Мамутову и директору совхоза Даулетову в районный комитет партии к товарищу Нажимову».
Все! Сражение перешло рубежи совхоза и приняло районный масштаб.
Надо было вызвать Мамутова, найти его в поле и передать телефонограмму. Поначалу Даулетов так и решил поступить. Но не вызвал, не послал за секретарем нарочного из конторы. Дал возможность председателю комиссии кое-что сделать в поле, обмерить хотя бы одну-две карты. В райком надо явиться с документом, только он даст возможность повернуть разговор в нужную сторону.
Что и говорить, тревожно стучало сердце Даулетова. Думал заняться бумагами, не получилось. Читал сводки, отчеты, видел, но не понимал. Заставлял себя сосредоточиться, вникнуть, тратил на это уйму усилий, результат тот же — пустота. Наконец бросил все, встал из-за стола, принялся расхаживать по кабинету. От стены к стене, от стены к стене. За этим занятием и застал его вернувшийся с поля Мамутов, весь запыленный, измученный, ровно не машина его везла, а он тянул машину.
— Ну что?
— Порядок! — довольный неизвестно чем, ответил Мамутов и плюхнулся в кресло у приставного столика.
— Есть?
— Есть… У Дал бая сто пятьдесят га лишних. И посевной материал перерасходован почти вдвое.
Даулетов весело потер руки.
Оба радовались и смотрели друг на друга, как именинники. А чему было радоваться? Тут бы печалиться впору, а они улыбаются.
— Теперь можно спокойно ехать в райком, — сказал Даулетов.
— Зачем? — удивился Мамутов.
— Вызывают. Нажимов вызывает.
Погас Мамутов. Коротка оказалась радость.
— По какому вопросу?
— Не объявили, но думаю, все по тому же. Поедем через час. Пока составьте акт на дополнительную площадь, представим Нажимову, если начнет прижимать.
С трудом поднялся Мамутов с кресла, ноги не слушались. Он шел к двери качаясь.
— Да что вы, право? — встревожился Даулетов. — Возьмите себя в руки! Нельзя же так!
Мамутов не ответил. Вышел, тихо затворив дверь.
Секретарь райкома встретил их приветливо, совсем по-дружески. Вышел из-за своего огромного, чуть ли не в полкомнаты, стола, отполированного до зеркального блеска, и, протянув руки, направился навстречу, басовито воркуя:
— Наконец-то… Наконец-то… Не браню за опоздание, знаю — дела. Уборочная на носу. Кто сейчас прохлаждается по кабинетам? Все в поле!
Он пожал обоим руки. Первому пожал, правда, Мамуто-ву, подчеркнув этим, что вызывал секретаря парткома, а директор к нему просто автоматически пристегнут.
— Вы правы, Нысан Нажимович! — кивнул Даулетов. — Главное сейчас — поле. Даже секретарь парткома у нас с рассвета в бригадах.
— Хвалю.
Мамутов кашлянул: знал бы Нажимов, зачем с рассвета помчался в бригады секретарь парткома!
— Присаживайтесь, товарищи!
Приглашая, Нажимов и на этот раз проявил внимание прежде всего к Мамутову. Взял его за локоть и подвел к стулу. Усадил почти что. Сам устроился в кресле у огромного стола.
— О самочувствии не спрашиваю, — продолжал басить Нажимов. — Вижу, полны сил и энергии. Завидую в некотором смысле. Мы вот тут дряхлеем в четырех стенах, стареем, седина наступает по всему фронту… Эх, эх… — он потрогал свои виски, они действительно были белыми. Правда, не та еще была седина, чтобы очень-то сокрушаться, и конечно же приглашал он их не для обсуждения проблем геронтологии.
— Седина всех берет, — счел полезным поддержать тему Мамутов, чтобы продлить беседу в мягких тонах и отсрочить момент перехода на строгую официальность.
— Да не скажи, — покачал головой Нажимов. — Для нашего Ержана-ага времени не существует. Цветет, хотя ему уже под шестьдесят…
— Почти шестьдесят, — тактично уточнил Мамутов.
— Видишь, шестьдесят. Нам еще дожить надо до такого возраста. Нервы… Треплем их по поводу и без повода. Больше — без повода…
«Вот и момент перехода, — подумал с тоской Мамутов. — Сейчас начнет разнос».
Но разноса не последовало. Миролюбиво был настроен сегодня Нажимов.
— А почему треплем? Да потому, что не понимаем друг друга или не хотим понять. Вот на носу страда, соединить бы усилия всего района, чтобы выйти с честью из борьбы, трудной борьбы за урожай. А на местах не шевелятся, не проявляют должной оперативности, настойчивости. «Жаналык» исключение. Вы и партком провели, и мероприятия наметили, пытаетесь во всеоружии встретить уборочную кампанию. Если даже не на всех участках дело идет гладко, вы знаете, куда направить усилия, на что обратить внимание. Это — уже половина успеха. На днях думаем созвать бюро райкома и заслушать секретарей первичных парторганизаций: как готовятся к осени, что уже сделали, что собираются сделать, в какой помощи нуждаются. Первое слово тебе, Мамутов. По традиции «Жаналык» в авангарде и, надеюсь, сохранит это место за собой и в новую страду…
«Что происходит? Верить ли собственным ушам? — поразился Мамутов. — Или ничего не знает о наших делах, или не придает им значения».
«Направляет нас по тихой тропе, — решил Даулетов. — Пошумели, помахали кулаками, поиграли в войну, теперь сбрасывайте доспехи и, засучив рукава, принимайтесь за обычную работу. Обычную, которую делают все нормальные люди».
— Подготовь материал, собери данные по основным отраслям хозяйства и бери обязательство. Не слишком высокое, но и не слишком скромное. Резерв чтоб был для перевыполнения. Сержанов это умел…
— Данные я соберу и расскажу, что делают коммунисты совхоза для успешного проведения уборочной, — пообещал Мамутов. — Но вот обязательство… Я же не хозяйственник…
— От имени руководства «Жаналыка» или по поручению, — настаивал Нажимов.
«Упорно обходит меня, — сделал вывод Даулетов. — Уволил меня из директоров, что ли? Не смотрит даже в мою сторону».
— А я не могу дать обязательство… Пока не могу, — вмешался Даулетов.
— «Не могу» и «не хочу» — вещи разные.
— С моим «хочу» вряд ли кто-нибудь посчитается. Не могу! Бригадиры еще не установили, сколько именно получают со своих участков.
— В канун страды не установили? — Нажимов говорил с Даулетовым, а смотрел на Мамутова. С недоумением смотрел: как это секретарь парткома допустил такое? И вообще, что там творится, в «Жаналыке»? Недоумение-то было деланным. Знал Нажимов, все знал. И когда вызывал в райком, события совхозные, если их можно назвать событиями, были ему хорошо известны. Сержанов подробно обо всем доложил.
— Устанавливаем.
— Это каким же образом?
— Обмеряем участки…
— Все-таки обмеряете?
— Начали…
Нажимов с шумом поднялся и подошел к окну. Что ему нужно было у окна, неизвестно. Небо не померкло, дождь не хлынул, не бывает дождей в это время в степи, птицы шумной стаей еще не начали перелет. Огорчение свое, что ли, выразил или успокоиться хотел? Видимо, провинившиеся должны были понять, что гнев поднялся в душе и погасить его Нажимов может, только отдалившись от таких нечестивцев, как Мамутов и Даулетов. От окна, не оглядываясь, сказал:
— Я же просил не начинать сейчас перемер. Не ломать планы наши перед ответственным периодом года… Не поняли разве меня, товарищ Мамутов?
— Понял…
— Так почему же начали? Почему партком не внял совету секретаря райкома партии?
— Внял…
Мамутова слегка вроде бы лихорадило. Даулетов счел момент самым подходящим, чтобы вмешаться:
— Партийный комитет принял решение не создавать комиссии по перемеру угодий совхоза.
— Тогда откуда же комиссия? — как и прежде, не глядя на Даулетова, спросил с издевкой Нажимов.
— Приказом директора совхоза.
Теперь уж секретарь глянул и на Даулетова:
— Директора, значит?
— Моим. Как руководитель хозяйства, я хотел установить размеры посевной площади. Вернее, должен был установить. Нельзя руководить вслепую, проще говоря, обманывать себя и государство…
— Что?!
Нажимов оставил окно и подошел к Даулетову. Здесь, рядом с ним он хотел услышать ответ. И не только услышать. Увидеть человека, способного произнести такое.
— Обманывать себя и государство. Вот документ, свидетельствующий об обмане. — Даулетов вынул из папки акт обмера участка бригады Далбая и протянул Нажимову.
Не уважал бы себя Нажимов, да просто не посмел бы оставаться в этом кабинете, за этим столом, если бы принял бумагу из рук Даулетова и прочел ее. Бумаги не существовало для Нажимова. Нет и не должно быть никаких документов, способных хоть на миг поставить под сомнение его убежденность в своей правоте.
— Так… — протянул многозначительно Нажимов, глядя поверх головы Даулетова. — Совхоз «Жаналык» идет на срыв плана и на снижение показателей всего района. Весьма патриотический поступок, товарищ Мамутов. Так-то вы болеете за свой совхоз, за свой район?
Чувствуя, что Нажимов явно напирает на секретаря парторганизации и всю ответственность за перемер угодий возлагает тоже только на него, Даулетов решил защитить соратника:
— Мамутов сделал шаг, который подсказали ему совесть и долг, — выступил против обмана государства. Он достоин похвалы, а не порицания. Обнаружены скрытые от учета посевные площади…
— У нас разные понятия о долге и совести, товарищ Даулетов, — сквозь зубы процедил Нажимов. — Порочить доброе имя хозяйства, которое создавалось годами, дискредитировать людей, поднявших это хозяйство честным и беззаветным трудом, снижать показатели всего района — это за пределами долга и совести. Это иначе называется…
Даулетов собрался было возразить Нажимову, но тот жестом остановил его:
— И на обком надеяться не советую. За снижение показателей там тоже не погладят. — И прибавил холодновато-брезгливым тоном: — Не будем сейчас дискутировать по поводу поступка товарища Мамутова. Важнее другое: руководство совхозом не готово к тому, чтобы поделиться опытом работы в канун уборочной страды. И вообще не представляет себе, с чем придет к страде «Жаналык». Выступление ваше, товарищ Мамутов, на бюро райкома снимается. Слово будет предоставлено секретарю парткома хозяйства, которое готово к уборке и берет на себя достойные времени обязательства. Хорошо, что мы заранее побеседовали с вами и выяснили положение дел в «Жаналыке». Надеюсь, выводы сумеете сделать сами.
Нажимов вернулся к своему креслу и, как бы намереваясь сесть, застыл возле него в торжественно холодной позе. Кивнул сухо Мамутову и Даулетову.
— Спасибо за беседу. Она была прямой и откровенной. Всего вам доброго!
Говорят, как придет солнце в степь, так ее и покинет. Если в облаках поднимется, с облаками и опустится. Если в ясной синеве восходит, синева и проводит его к самому морю. А с ветром придет — бурей день завершится.
Говорить-то говорят, но не всегда сбывается сказанное. Ясным начался день для Даулетова, но только начался. Тучи набежали одна за другой, все заволокли. И на душе сплошная хмарь.
Тягостные раздумья одолели Даулетова после встречи с Нажимовым. Помощи не будет, понял он, даже на сочувствие рассчитывать смешно. Круг замкнулся, и в нем, в этом круге, он один. Мамутов от него отходит. Не под силу, видимо, учителю дело, которое они затеяли. Да под силу ли самому Даулетову?
В кабинете Нажимова он вроде бы держался. Защищал себя и Мамутова, даже нападал. А вот вышли из кабинета — скис. «Может, впрямь не ко времени этот перемер?»
Мамутов ехал молча. Голова опущена, сутулый какой-то. Здоровый, молодой мужик, а сейчас казался стариком. Две недели повоевал — и каюк. Даулетов хотел приободрить секретаря, да не знал как. Слова не находились. Сказать: «Выше голову, брат! Не все потеряно. Мы еще покажем себя!» — банальная бравада проигравших — она не утешает, а только злит и оскорбляет.
Тоскливое чувство одиночества опять вернулось к Даулетову. Неужто никогда не избавиться ему от этих приступов сиротства — как повелось с рожденья, так и на всю жизнь. Покуда суетишься, покуда крутишься средь людей, вроде бы и ничего, а чуть отойдешь в сторонку да призадумаешься, и поймешь: один, один, как турангиль в степи. Начнешь падать — зацепиться не за что.
Вот уже скоро два месяца его директорства. А что сделал? Огородил кладбище. Обеспечил аул газовыми плитами. Начал обмер посевной площади… тут и споткнулся. Да что споткнулся — шлепнулся! А ведь собирался стоять, идти собирался. На курултае так разнес Сержанова, что того чуть инфаркт не хватил. И то плохо, и то неправильно. Надо работать иначе, надо поднять хозяйство. На-кось, подними. Не только не поднял — уронил.
Чем ближе было к дому, тем острее чувствовал Даулетов свое одиночество. К нему присоединилось еще чувство тревоги. Увидел он окна своего коттеджа, горящие ярким, необычно ярким светом. Во всем ауле светились огни, спокойные огни, его же окна ослепляли.
Машина влетела в аул и с ходу уперлась в штакетник палисадника.
— Спокойной ночи, учитель! — бросил Даулетов Мамутову.
На крыльцо не взошел, вспрыгнул. Распахнул дверь. И услышал музыку. Спокойную, веселую музыку. От сердца отлегло. Его встретила Светлана. Нарядная, красивая. Лучезарная какая-то.
— Наконец-то! А мы заждались. Стол давно накрыт, — облегченно вздохнула она.
Неужели гости? Даулетов открыл дверь в столовую и увидел праздничную скатерть и на ней фрукты, закуски, вино.
Нет гостей! В чем же дело? Он вопросительно взглянул на жену.
— Ты что, забыл? — она аж руками всплеснула. — Сегодня Айлар восемь лет.
— Вот те на! — смутился Даулетов. — Девочка, где ты? Из детской выпорхнула птицей Айлар с огромным красным бантом в волосах. — Папочка! Жаксылык поднял ее на руки и поцеловал.
— Расти, расти, родная! Будь большой и умной. Счастливой будь! — Он прижал ее голову к своей щеке и прошептал: — Прости меня! Подарок не успел купить… Завтра. Чего бы ты хотела?
Застеснявшись, Айлар уткнулась в его плечо. Она не знала, чего хочет. А если бы и знала, не сказала. Боязно просить большое.
— Ну хорошо, я сам решу…
Опустив дочку на пол, Даулетов прошел в ванную умыться с дороги. Подставив голову и плечи под струю холодной воды, он продолжал беседовать со Светланой. Надо было как-то объяснить ей, почему опоздал и каким образом умудрился забыть о дне рождения Айлар. Винясь и принимая молчаливые упреки, он с болью думал о том, что ненароком обидел девочку.
— Айлар осталась без подарка?
— Что ты, милый? А я-то зачем? Да и в ауле, оказывается, знают, что у малышки день рождения. Видел цветы на столе?
Наверное, он видел цветы. Что-то яркое и пестрое возвышалось над скатертью.
— Ну?!
— Так их заказали для Айлар в Ташкенте.
— Где??
Невероятное сообщала Светлана. Цветы из Ташкента. Да что Айлар, знаменитость какая? С чего такое внимание?
— Кто заказал? — выключил он кран и накинул на голову полотенце.
— Завмаг! — весело открыла тайну Светлана. — Тебя так любят и так ценят люди, ты даже не представляешь себе… Я так рада. Удивилась даже…
— Не тому дивишься! — Даулетов вышел из ванной. — Он еще что-то преподнес?
— Не поверишь! Видел платьице на Айлар?.. Стыдливое и вместе с тем гневное чувство охватило Даулетова. «Купили! За пеструю тряпочку купили! За цветики-цветочки, розы-мимозы».
— Ты недоволен, Жаксылык? — встревоженно вскинула глаза на мужа Светлана.
Он прикусил досадливо губы.
— Я счастлив!
— Нет… Вижу, что огорчен. Но ведь день рождения… Люди от всей души!
— Да, уж чего-чего, а души у него — навалом, хоть вразвес продавай!
— Нельзя так. Нельзя, Жаксылык. Ты не должен так говорить о людях. И вообще ты стал слишком придирчив и подозрителен. Слишком. К тебе тянутся, а ты отмахиваешься.
— Где он?
— Кто? — спросила Светлана, хотя отлично знала, о ком речь.
— Да Завмаг! Завмаг!
— Принес подарки, посидел, понял, что неприлично задерживаться в доме, если нет хозяина. И ушел. Очень тактичный человек.
— Это точно. Тактичный… Тактик… Стратег.
— Жаксылык! — Светлана сказала это строго, но тут же добавила уже помягче:-Милый. Ты должен позвонить ему, поблагодарить и пригласить на ужин.,
— Позвонить? — переспросил он. — Точно, позвоню, пусть придет и к черту забирает свои тряпки… и что там еще он от души пожертвовал?.. Все, все ему верни! Слышишь?!
— Не смей! — Светлана кинулась к телефону, будто пытаясь заслонить его от мужа. — Не смей! А что люди скажут, ты подумал? А что будет с Айлар, когда начнем снимать с нее платьице? Она тебе не кукла. А кем ты выставишь меня? Хотя о чем я говорю!.. На меня и дочь тебе, конечно, плевать…
— А меня, меня ты кем выставила? Хоть понимаешь? Нет? Так слушай… Помнишь, говорил тебе об аварии. Так вот — это Завмаг чуть не угробил меня… Друга нашла… Друзей не покупают, а он рад меня с потрохами купить, чтобы потом продать подешевле… Все верни ему… Все!
— И индюшку тоже? Но она же уже в духовке.
— Еще и индюшка?!
— Я ведь не знала.
— А что ты знаешь? Десять лет вместе, а ты ничего обо мне не знаешь. Ничего. И знать не хочешь. Только о собственных удовольствиях печешься. Только они на уме… Празднуйте, пируйте… Но без меня.
Он выскочил из дома, даже не надев шляпу.
9
Ночь.
Чернотой наполнен воздух. Тьма, ровная и мягкая, как сажа, стояла прямо перед глазами. Даже под редкими фонарями не было обычных светлых конусов. Будто минуя воздух, свет падал сразу на землю и тлел на серо-желтом песке нешироким тихим кругом.
Он поднял голову. Звезды, звезды, звезды, звезды… густым и неровным посевом они засыпали небо. Искрились, сияли, поблескивали. У них хватало яркости, чтобы светиться, но не чтобы светить, даже всем скопом, всем своим бессчетным роем (сколько их? миллион? два? десять миллионов?) не в силах они высветлить хоть пятачок под ногами Жаксылыка.
Он постоял, чтоб приучить глаза к темени, но не приучил, она оставалась непроглядной. И тут — нет, не увидел и не услышал, а словно кожей почувствовал, что вокруг него кто-то вьется. Какие-то сгустки тьмы шныряют в воздухе, кружатся над головой, мечутся возле самого лица. Даулетов замахал руками, разгоняя, отпугивая нечисть, — бесполезно. Она все так же незримо, неслышно сновала вокруг. Еще раз взглянул вверх и догадался: летучие мыши. Какое-то смешанное чувство ужаса и гадливости охватило его. Впервые пожалел, что не курит, хоть спички были бы.
Он подошел к «Москвичу». Включил фары. Внимательно посмотрел, не шмыгнула ли одна из этих тварей в кабину, и сел, быстро захлопнув дверцу. И только тут иронически улыбнулся: «Зачем им в кабину? Чудак ты, друг Даулетов».
Свет фар выхватил полосу метров в десять — пятнадцать, и все. А дальше будто присыпано теменью. Ни отсвета, ни отблеска.
Жаксылык выбрался на шоссе и направился к Пескам старой Айлар. Ехал медленно, чтобы не проскочить холм, боялся, что не найдет, и удивился, когда вдруг понял, что отчетливо видит его, — он горбился на фоне искрящегося неба — звезды помогли.
По склону подниматься не стал. Не хотелось, но скорее просто испугался, хоть не признавался в этом и сам себе. Сидел у дороги, как раз в том месте, где когда-то вырвал у солдата-калеки буханку черного хлеба. Сидел, облепленный темнотой. Сидел, глядя на тусклые подфарники. Сидел и думал о своем одиночестве, будь оно проклято.
Думал о своем дурацком характере. Вечно он тянет, мямлит и сомневается там, где надо быть решительным и властным. И наоборот, когда следует уступить, переждать, затаиться — тут он как раз и заупрямится, и начнет во что бы то ни стало гнуть свое. И ведь всегда, всегда и всюду так. Простил Завмагу аварию, а от подарков взъярился. И с перемером то же. Нет чтобы подождать до конца года, вот будешь составлять новый план, тут и говори о лишних землях. Куда там! Набычился и конец — Сержанов не Сержанов, Нажимов не Нажимов, никого не видит — подавай ему перемер, и все тут.
Да уж коли начало искать, то сразу нужно было наотрез отказаться там, в обкоме. Не возьму совхоз, не справлюсь — и точка. Нет, уступил, ему неудобно, видите ли. А с позором уходить удобно?
Да и вся жизнь так. Мужчина, муж, называется. Не смог заставить жену родить хотя бы второго ребенка. С собственной женой не сладил, а собирается управлять сотнями людей. И с Шарипой…
Он думал о Шарипе. Даже не думал, а просто вспоминал ее лицо, глаза, волосы. Ее смех, ее соленые колкие губы, и чувствовал, что мысли его, какие-то еще неясные, невнятные, неразборчивые мысли, чуть пошевеливающиеся где-то на краешке сознания, что мысли эти легки и уютны.
Жаксылык смотрел на горизонт и не видел горизонта. Просто темень, пронизанная точечным светом звезд, плавно переходила в непроницаемую черноту. И ему стало казаться, что древний полог неба поизносился, поистерся за века. Истончился, одна основа осталась, и через нее, через эту редкую, ветхую, поистершуюся основу, пробивается какой-то яркий синий свет. Будто там за небесным пологом есть озаренное синевой, пронизанное искрящейся синевой, заполненное слепящей синевой беспредельное пространство.
Жаксылык встал, отряхнулся, сел в машину, и поехал в райцентр. К Шарипе. Не ведая, найдет ли ее. Даже надеясь втайне, что не найдет, поскольку не знал адреса. Известна ему лишь одна чудная примета — лодка перед домом. Откуда известна — сейчас уже не помнит! То ли сама Шарипа обмолвилась, то ли Сержанов говорил о причудах брата, то ли слушок пробежал по аулу, когда переехал к Сержанову отец Шарипы, которого Даулетов еще и не видел. Некогда было.
По лодке и нашел.
Было уже поздно, часов одиннадцать вечера, когда он постучал в дверь.
Шарипа будто ждала его. Отворила, не спрашивая кто. И все же изумленно вскрикнула:
— Жаксылык!
Он поцеловал ее тут же, в прихожей. Безропотную, счастливую.
— Ты не сердишься? — спросил Даулетов. Виноватым он чувствовал себя, почему — и сам не смог бы сказать.
— Проходи! — попросила Шарипа.
— Ты одна?
Она кивнула.
— Об этом надо было спросить, когда стучал в дверь. Даулетов смутился. Действительно, выходило, что вел он
себя весьма бесцеремонно.
— Не успел. Даже подумать не успел. Ты передо мной — и все исчезло…
— Слова у Жаксылыка Даулетовича необыкновенные, как будто он вынимает их из букета.
Он почувствовал насмешку в ее тоне. Наверное, говорил выспренне, но так уж получилось.
— Не ругай своего Меджнуна, ему суждено страдать и восхищаться… — ответил он в тон Шарипе.
— Если б даже поругала, от этого что-нибудь изменилось бы? Располагайся, сейчас будет чай.
Он подошел к тахте, но, прежде чем сесть, повторил свой вопрос:
— Ты одна?
— Конечно. Иначе не впустила бы.
— Ты уж, наверное, неделю как из экспедиции?
— Да, около того.
— А что ж отца не навестишь? — Жаксылык знал, что Шарила не появлялась в совхозе, а то бы аульский «беспроволочный телеграф» непременно известил бы его о таком событии.
— Он скоро и сам приедет. А там… — она махнула рукой. — Дядя пристанет: погости да погости.
— Отчего же и не погостить на самом деле?
— Да ну… А потом, работа, — это она сказала, уже стоя вполоборота, уже почти из двери кухни.
Сухо, скучно как-то прозвучал ответ. «Не нужен я ей, что ли?» — мелькнула ревнивая мысль. Поставив перед Даулетовым чайник и пиалы, Шарипа объяснила причину своего отказа.
— Надоели мне все переезды… все поездки… Устала я. Новое что-то звучало в настроении Шарипы. Прежде он такого не слышал. Считал ее сгустком энергии, неутомимой, считал заводной, неугомонной.
— Да ты ли это?
Она грустно улыбнулась:
— Не нравится?
— Не то что не нравится. Просто я не видел тебя такой.
— А какой ты меня видел? Мы с тобой встречались всего четыре раза. Да, четыре раза за шестнадцать лет…
Жгучей тоской дохнуло от этих слов.
«И ее я огорчил… Кому только не приношу несчастье своим эгоизмом? Занят собой, делами своими занят. А жизнь близких людей?.. Забываю о них…»
— Тебя, Шарипа, достаточно и один раз увидеть, чтобы…
— Опять слова из букета, — оборвала она.
— Да нет же! Я искренне…
Она была рядом, на тахте. Разливала чай в пиалы. Даулетов осторожно коснулся ее плеча, смуглого до неправдоподобия. Солнце степное и то не могло бы так затемнить кожу.
— Не надо. Слишком горячая рука. Спалишь всех. И меня, и себя, и еще двоих…
Он отстранился. Холодом тянуло от Шарипы. Жену, дочь вспомнила. В такой момент. — Ты жестока. Усмешка печальная скривила ее губы.
— Это я-то? — И вдруг вскрикнула истошно, надрывно: — Дура я! Дура!
Вскрикнула и метнулась к нему, как-то неуклюже обхватив руками враз и голову, и плечи его. И ткнулась лицом ему под подбородок, куда-то ниже кадыка. И запричитала сквозь всхлипы «дура, дура» и целовала, целовала его в ключицу, в грудь, в плечо, целовала сквозь рубашку. А он гладил и гладил ее по оголенным рукам, по волосам, по спине, гладил, запрокинув голову, чувствуя подбородком ее вздрагивающий затылок и медленно задыхаясь, сам не понимая, от чего — от счастья? от сдавленной гортани?..
Потом он долго лежал и смотрел в окно на звезды, пока они не зарябили перед глазами, как песчинки, поднятые бурей.
-
— Вставай, Жаксылык! — разбудила его Шарипа. — Скоро с моря подует утренний ветер.
Он не сразу сообразил, где находится и что с ним. — Почему ветер? — он не шелохнулся. — Мне нравится этот сон.
Она тронула волосы Даулетова, тронула легко и спокойно, будто прощалась.
— А в ауле ты должен быть еще до света. Не пугай семью, не смеши людей.
— Ты прогоняешь меня?
— Нет. Но час вора короток.
— Может, наш еще не истек?..
— Истек. Поэты говорят, что люди ничему не радуются вполовину, кроме половины подушки. Остальное должно быть целое. Даже счастье. А я согласна на половину счастья. И боюсь ее потерять. Уходи.
Нехотя поднялся Даулетов. Нехотя одевался. Уже в дверях он спросил:
— Когда увидимся? Она пожала плечами:
— Кто знает! Экспедиция наша направлена на Каракумский канал.
— А к нам, в «Жаналык»?
Она ничего не ответила, лишь провела ладонью по его щеке. Тихо-тихо, ласково-ласково. Щека была уже шершавой, но похоже, что ей это даже нравилось. Он попытался схватить ускользающую руку. Но не сумел. Дверь захлопнулась…
10
Прежде в степи было лето так лето: плюс сорок — сорок пять и ни облачка на небе; а зима так зима: минус двадцать, с ве- тром; и никаких тебе похолоданий в июне, никаких оттепелей в декабре. А ныне климат меняется. Порой дважды на дню напугает погода дехканина, дважды на дню в поле выгонит, то заслонить росток от зноя собственной тенью, то отогревать его своим дыханием. Лишняя суета, нервотрепка всегда мешают, всегда выбивают из колеи.
Но если не считать погодных капризов, то можно сказать, что дела у Даулетова шли на удивление хорошо в это время. Мамутов неутомимо, с каким-то злым упорством проводил обмер посевов, бригадиры составили планы и готовились к уборке, Завмаг не пакостил, «мушкетеры» поумолкли, Нажимов не давил и даже Сержанов держался уже не бойцовым петухом, хотя и не мокрой курицей. Работал послушно и старательно.
Что случилось? Почему изменился Сержанов? Да в том-то и дело, что ничего не случилось. Начал Даулетов перемер, а небо не рухнуло, твердь земная не разверзлась и хляби не хлынули. Боялся бывший директор, что Даулетов, обнаружив «лишние гектары», будь они неладны, начнет травить ими своего зама. Не начал. Боялся, что, испугавшись конфуза, отречется Нажимов от прежнего дружка. Не отрекся. А если так, значит, ничего страшного не произошло. Подумаешь — поругал директор своего помощника на парткоме. На то и начальство, чтобы ругать. И он в свое время чихвостил помощников почем зря. Да сам он ни в жизнь не взял бы себе такого властного зама. И Даулетов бы отказался, кабы мог. Но не мог, навязали. Терпи теперь, Сержанов, терпи и привыкай к новой должности. Не написал бы того злополучного заявления, глядишь, и до пенсии просидел бы в своем кресле. А сейчас, чего уж? Впрочем, можно и подождать. Уж если все хозяйство двадцать пять лет тянул, то пяток годочков полсовхоза как-нибудь вытянет — не велика ноша.
Правда, и после подобных размышлений оставалась все же в душе какая-то неясная, но глубокая обида. Но с ней ничего не поделаешь, не искоренишь ее, с ней, с обидой этой, видно, придется до смерти жить, с ней же и в землю лечь.
В это августовское утро Сержанов без стука вошел в кабинет Даулетова и сел в кресло у приставного столика, сел, не дожидаясь приглашения.
— Радуйтесь, товарищ директор. Радуйтесь. Даулетов взглянул не без удивления. По какому поводу
ликование? Уж не второе ли заявление собрался подавать его зам?
— Достал я все-таки горючее. И запчасти — тоже. Не все, но достал.
— Спасибо, Ержан Сержанович. Вот уж действительно обрадовали! — похвалил Даулетов и тут же почувствовал фальшь. Сам сфальшивил. Чуточку, но тем не менее. Не за что было благодарить зама. Он поставил хозяйство в аховое положение, он и исправил ошибку. Так-то оно так, но…
Поручив Сержанову добыть горючее, Даулетов поначалу решил сделать это сам. Да не тут-то было. Будто стена перед ним выросла, невидимая, но глухая, сквозь нее не достучишься, через нее не перепрыгнешь. «Нет бензина, нет солярки, исчерпали фонды» — и весь сказ. Даже слушать ничего не желают. И потому Даулетов понимал, что не легко досталось горючее заму, что пришлось ему либо таранить ту стену, либо подкапываться под нее, а такой труд не каждому по силам и любому не по душе.
И еще вдруг заметил Даулетов, как польщен Сержанов. Чем, казалось бы? Простым «спасибо»? Да он сам в течение двадцати пяти лет хулу и хвалу сыпал направо и налево. А вот поди ж ты, поблагодарили его — и рад-радешенек. И не стал директор портить настроение своему помощнику.
А Сержанов и впрямь весь день ходил веселый и даже какой-то торжественный. Не прятался, как обычно, в своем кабинете-чуланчике, а старался почаще попадаться директору на глаза. И под вечер вдруг предложил:
— А что, Жаксылык Даулетович, почему бы нам и не встретиться за столом? Не посидеть по-приятельски, по-семейному?
Хотел Даулетов спросить: а что за событие? Но не стал. Уже само приглашение было событием.
В условленный день и час пришли они со Светланой к Сержановым. Дверь открыла Фарида, а хозяин тем временем мирно беседовал с каким-то стариком, вероятно, со своим братом. Мирно, пожалуй, лишь с виду. Брат оказался колюч и занозист. Не успел Даулетов познакомиться, как старик не без издевки спросил:
— У тебя, сынок, дома тоже три гарнитура? Даулетов опешил.
— Пока и одного нет. Мебель, конечно, имеется, но так… разрозненная.
— Успеешь еще, — подначивал старик, — Если с работы не снимут, то обставишься.
Не нравились намеки Сержанову, но выручила Фарида:
— Разве гарнитуры с зарплаты? Дочерей рожать надо почаще…
Светлана, еще не успевшая освоиться с незнакомой обстановкой и не зная, шутят ли здесь или говорят всерьез, спросила:
— Сколько же нужно родить дочерей, чтобы заиметь три гарнитура?
— Трех, не меньше, — лукаво сощурила глаза Фарида. — Тебе, дорогая, еще рано мечтать о гарнитурах. Всего одна Айлар, да и та маленькая.
Старик хлопнул себя по колену ладонью, выражая этим и удивление, и возмущение:
— Ты что же это, сноха, продаешь дочерей? Калым берешь?
— Продавать не продаю, каин-ага.[11] А без калыма как же? Без калыма и свадьба не свадьба. Вроде ненужную вещь отдаешь. Нет, дороги они нам… Вот заберут у вас голубушку Шарипу, тогда поймете, как она вам была дорога.
- Ни одну из них не принуждал, — пояснил Сержанов. — Все по любви выходили. Но должно же что-то в доме родительском на память остаться? — И вдруг повеселел:- А знаете, Жаксылык Даулетович, мы ведь с Фаридой не простые тесть и теща, а интернациональные. Одна дочь вышла за украинца, вторая — за молдаванина, третья — за армянина, четвертая — за осетина.
— Еще одна — за узбека, — подхватила Фарида, видя, что муж того гляди замнется, вспоминая зятьев, — а последняя за татарина.
— Вот-вот, — засмеялся Сержанов. — Вернул я татарам долг. Фариду-то свою у них взял. Да и ты, брат Нуржан, — обратился он к старику, — поторопил бы свою Шарипу, а то… — и он развел руками.
— Сама решит, — нехотя отозвался рыбак. Сказал и понял, что жаль, невероятно жаль ему расставаться с дочерью. Если выйдет она замуж, то он даже и не представляет, как один без нее жить станет.
— Такая красавица, такая умница, — не унимался Сержанов. — Да вы же видели ее на Арале, — повернулся он к Даулетову. — Помните?
Конечно, видел. И, конечно, помнил. Но в вопросе Сержанова ему почудился подвох, намек. «Неужели заметил что-то?» — испугался Даулетов, испугался и застыдился собственного страха, вот уж точно сказала Шарипа: «Час вора короток». Испуг долог.
— Что, действительно такая красавица? — Светлана спрашивала у мужа, и в голосе ее не было ничего, кроме простого, естественного любопытства.
— Да, — коротко ответил Даулетов. Он удивился простодушию жены. Она, похоже, и мысли не допускала, что у нее может быть соперница.
«В ком же ты так уверена? — размышлял Жаксылык. — В себе? Во мне?.. Или в Айлар?» Когда заговорили о Шарипе, в лице Даулетова что-то неуловимо изменилось, но и неуловимое не могло скрыться от острого взгляда Сержанова. Тут и кольнула его первая легкая догадка. «К вертолету тогда они оба вернулись какие-то возбужденные, что ли? А если?.. Почему бы и нет? Даулетов еще джигит. Я в его годы…» — подумал Сержанов и решил помочь директору переменить тему.
— Где ужинать будем, гости дорогие? За столом или на ковре дастархан расстелем?
Светлане хотелось за дастарханом, в этом была особая экзотика, даже пища ей казалась вкуснее, если берешь ее руками, сидя на мягкой бархатной подушечке. Настоящий восточный обед только за дастарханом. Но… она с сожалением взглянула на свою короткую, до колен всего лишь, юбку.
Фарида перехватила взгляд.
— Ничего, ничего, — вмешалась она. — Сядем за стол. И вам, каин-ага, будет легче — деревяшку под себя не очень-то подогнешь, и на стол накрывать проще.
Пока накрывали на стол, пока сервировали и приносили блюда, шел обычный гостевой, необязательный разговор, в который Даулетов по своей всегдашней привычке почти не вступал. Он внимательно смотрел на старого рыбака и не мог отделаться от впечатления, что где-то уже его видел. Но где? Когда? Неужели?..
— Нуржан-ата, а не памятен ли вам один случай? Это было в конце войны. Вы шли… — Даулетов сбивался от волнения, — …вы на костылях были. Здесь проходили, недалеко… У Песков старой Айлар. У холма, где кладбище… Помните?
Старик внимательно смотрел на него, смотрел и не говорил ни слова.
— Мальчишка. Помните? Хлеба попросил, а потом… — Даулетов опять запнулся, взглянул на старика и снова не понял, припоминает он тот случай или нет. — Вырвал буханку и убежал…
— Да, — сказал наконец Нуржан, — время было такое — и Победа рядом, и голод тут же… Время… Время…
— Это я был. До сих пор стыдно… Но тогда этой буханкой три дня кормились… и я, и бабушка… три дня… Выжили мы тогда…
— Не переживай, сынок. Много вас таких было. Ногу резали — не плакал, а тут посмотришь — малыши. Черные, голодные, глаза горят… Слезы… Слезы наворачивались… Да и нашего брата, калек, много с фронта возвращалось. Может, тот солдат и не я был. А?
— Вы, вы! Я запомнил.
— А вот за то, что запомнил, спасибо. А я или другой солдат — это ведь все равно. Главное — выжил ты. И запомнил.
Все молчали, понимая, что нельзя сейчас мешать разговору, и, хотя разговор уже кончился, никто не осмеливался прервать молчания.
В комнату вошла Фарида:
— Прошу к столу. Как говорится, чем богаты. Угощаем по-старинному, по-каракалпакски.
— Если по-старинному, — буркнул рыбак, — так надо бы чаем и ограничиться. Это вот, — он указал на вино, — лишнее.
— Старые и новые традиции вместе, — пошутил хозяин. Когда гости расселись, Фарида крикнула:
— Эй, Завмаг!
Как по мановению волшебной палочки, из кухни выплыла нескладная фигура Завмага с огромным блюдом в руках. На блюде красовалась румяная индюшка, только что вынутая из духового шкафа.
«И здесь он, — помрачнел Даулетов. — Исчезнет когда-нибудь этот Завмаг? Или так и будет вечно маячить в засаленном пиджаке перед глазами?» Но на чужом пиру гостей не выбирают.
— Поспела, милая! — счастливо улыбаясь, произнес Завмаг, ставя блюдо на стол. — С белого мяса начинать пир, белая дорога будет в жизни.
За индюшкой последовали пирожки с луком и яйцами, холодная лапша, отварной картофель. Завмаг едва успевал выносить все это из кухни и ставить перед гостями. Через минуту какую-то стол оказался переполненным. И, лишь убедившись, что места для новых яств уже нет, Завмаг угомонился и сел рядом с хозяйкой.
— Поднимем! — объявил Сержанов, довольный обилием своего дастархана. — Поднимем тост за райских птиц нашего «Жаналыка», за наших жен и дочерей!
— Присоединяюсь, — кивнул Завмаг и повернул голову в сторону жены Даулетова: — Женщины «Жаналыка» прекрасны.
«Нагло же, однако, ведет себя этот торгаш, — обозлился Даулетов. — Не гость, а хозяин! А может быть, он и есть хозяин? Индюшка, и коньяк, и водка — все небось его. Как и ко мне в дом пытался войти хозяином — с индюшкой и цветами».
Выпили за женщин «Жаналыка», за хозяев.
— А теперь… — Даулетов встал, — за вас, Нуржан-ата. И за солдата. За всех солдат той войны, которые… — Он хотел что-то сказать, но перехватило горло.
— А твой отец? — спросил старик.
— Там же…
— Тогда и за него.
Хорошо и просто было Даулетову за этим столом. По-домашнему. Нет, мало сказать — по-домашнему. По-семейному почти. По-родственному, что ли? Нуржан-ата. Ержан-ага. Фарида-женге. Светлана-келин. Братья чуть-чуть перебраниваются между собой, ну и что? Будь у него, у Жаксылыка, брат, они бы, верно, тоже кололи друг друга, но любя. Без этого, видимо, не обходится никакое родство. Хорошо было Даулетову, и подумал он, что ведь можно же ладить, можно же понимать друг друга, не собачиться на совещаниях, не ждать подножки от другого, не обвинять никого, не выискивать ничьих грехов. И в мыслях упрекал себя Даулетов, в себе искал ответчика, себя судил за то, что сух и строг с людьми, за то, что, дожив почти до сорока, не научился понимать людские души.
— Минутку! — это прокричал Завмаг. Прокричал громко и торжественно. Встал и медленно, величаво отправился на кухню. Обратно он шел уже вовсе церемониальным шагом, неся на подносе баранью голову, густо украшенную зеленью. С низким поклоном водрузил он главное блюдо застолья перед главным гостем. Перед Даулетовым.
Жаксылык опешил. Потом обозлился:
— Голову поставьте перед аксакалом! — сказал он жестко. Грубо сказал.
Завмаг расплылся в виноватой улыбке, глянул на хозяина. Тот даже бровью не повел. Поднял Завмаг блюдо. Отошел, пятясь задом, и опустил поднос с головой барана перед старым рыбаком.
Старик воспринял подношение как должное: не удивился и не обрадовался. Знать, не впервой сидел во главе стола. Не впервой разделывал баранью голову. В два-три приема отделил мясо от костей, вынул мозг и привычным жестом отодвинул блюдо на середину стола.
Казалось, никто за столом не заметил того, что так разозлило Даулетова. Казалось, и сам Завмаг ничуть не сконфужен случившимся. Он наполнил бокалы и провозгласил:
— За нового жаналыкца! За нашего дорогого и многоуважаемого директора Жаксылыка Даулетовича! За его прекрасную жену! За его очаровательную дочку! За то, чтоб птица счастья, севшая ему на плечо, никогда больше не улетала!
Даулетов хотел отставить свой бокал и отчитать прохвоста за грубую лесть. Отчитать, несмотря на то что испортит этот праздник. Но старик Нуржан сказал тихо:
— За тебя, сынок, и я выпью. Будь счастлив. — И Жаксылык принял тост. Принял, хоть его чуть не стошнило от избытка приторности. Принял, но понял, что дольше находиться тут не может.
— Спасибо, хозяева. Все было превосходно. Однако нам уже пора.
— Фарида! — поднял голову Сержанов. — Поторопись, дорогая.
Фарида буквально вспорхнула со стула, выскочила в соседнюю комнату и мигом вернулась, неся три свертка. Один положила перед Светланой, второй — перед Даулетовым, третий — перед Нуржаном.
По обычаю, гостям, перед тем как расстаться, вручают подарки. Отказываться от них не принято. Хозяина обидишь. Даулетов обычай знал. А взять преподнесенное не мог. Повторялась история с Завмагом.
Спокойно, но так, чтобы заметила Фарида, он подвинул свой сверток к сидевшему рядом рыбаку.
— Э-э! — протянула недовольно Фарида. — Так не пойдет. Тут вещь для вас, специально, вашего размера. Возьмите!
— Нет! — Даулетов встал. — Спасибо, но у нас со Светланой все есть. — Светланин пакет он тоже подвинул к рыбаку.
— Обижаете хозяйку! — помрачнел Сержанов. — Не по-нашему это. Не по обычаям.
— А мы не отказываемся. Считайте, что подарки взяли, а теперь вручили их от себя Нуржану Сержановичу. Никакой обиды.
Светлана залилась краской. Стыд-то какой! Глаза ее были широко открыты, и в них — ужас. Муж последнее время творил что-то невероятное!
— Спасибо за гостеприимство! — поклонился Даулетов хозяйке. — Ждем теперь вас у себя.
Светлана обняла Фариду и поцеловала: — Простите…
Обратно шли молча. И только когда переступили порог собственного дома, когда закрыли входную дверь, только тогда Светлана дала волю гневу:
— Нельзя так! Ты позоришь себя. И меня. Нас позоришь. Ты ни с кем и ни с чем не считаешься. За что оскорбил людей? За что? Они старались, они добра хотели. Это же обычай, традиции. Традиции твоего народа. Слышишь? Твоего. Я и то понимаю. Я, русская, понимаю. А ты, каракалпак, степняк… Эх, ты!..
— Какие традиции? — закричал Даулетов. — Традиции народа не могут быть безнравственными.
— Опять со своей нравственностью…
— Да, с ней. С ней. Сама подумай: сидим за столом, я — младший из мужчин, и мне вручают баранью голову. Не аксакалу, не хозяину. А мне. Потому что директор. Это что, по-твоему, тоже традиция? Или подхалимаж? А подарки? Да, положено гостя на прощание одарить. Но ведь это уже не подарки, это взятка. Разве подхалимство и взяточничество — это народные обычаи? — Он вздохнул и продолжил уже спокойнее: — Ты же работала в Хиве и знаешь, что хан ел плов раз в неделю. Хан! А меня, когда ездил инспектировать колхозы, пловом трижды в день потчевали. Вот и сосчитай, во сколько раз я был знатнее хана. Народные обычаи, говоришь? Но народ состоял из баев и из дехкан. Откуда у нас, у потомков дехкан и пастухов, байские замашки? Да что там байские. Мы за норму считаем и то, что даже хану не по карману было. Откуда?
Светлана действительно, как многие приезжие и как человек, изучивший историю каракалпаков, с почтением и даже благоговением каким-то относилась к традициям чужого для нее, но ставшего близким народа. Она была убеждена, что обычаи Востока невероятно прочны, особенно в аулах, что они по-прежнему нерушимы и святы и что нет худшего оскорбления для аульчанина, чем нарушение обычаев и обрядов. Она, конечно, знала, что свои нравы есть у любого рода-племени, есть они и у русских, но почему-то полагала, что у ее соплеменников традиции могут и должны меняться быстрее, чем тут, на Востоке, на великом древнем самобытном Востоке. Сама она, разумеется, не очень-то блюла заветы предков, но вот когда ее муж или его ровесники не считались с подобными заветами — это ее очень огорчало.
— Послушай, Жаксылык. Если есть обычай одаривать гостя, то должен быть и узаконенный традициями способ вежливого отказа. Должен быть, и ты его обязан знать.
«А ведь верно, — подумал Даулетов. — Был, видимо, такой способ. Забыли мы его, что ли, за ненадобностью? Привыкли брать, когда дают, и отвыкли отказываться. А может, зря на других грешу? Может, только я его не знаю? — укорил он себя. — Вообще, если по-честному, слишком плохо знаю историю и традиции своего народа. Стыдно это».
Жаксылык разделся и лег спать. А Светлана зачем-то вышла на кухню, и слышно было, как громыхает она посудой. Сердито громыхает.
Пока Светлана возилась на кухне (зачем возилась? Да просто так, чтоб раздражение поумерить), она услышала легкий стук в окно. Открыла раму и увидела Фариду.
— Светлана-келин, — шепнула она, — вы сегодня очень обидели нас. Разве это хорошо, сестрица? Ержан сказал: «Иди, и если не возьмут подарки, не возвращайся». Что делать мне? — и она протянула свертки.
— Нет, что вы? Я не могу. Вы же видели…
— Сестрица, вы молодые, вы новые люди в ауле. Не надо начинать с оскорбления. Не надо плевать в чужой очаг. Твой муж очень крут. Пока. Но потом он и сам поймет, что так не годится с людьми поступать. А мы, жены, должны быть умнее. От нас зависит, сколько у мужа врагов будет, сколько друзей. Сам же потом и спасибо скажет. Думаешь, мой Ержан ягненок был? Нет, тоже конь норовистый. Но такова уж наша доля. У нас всегда в мозгу на один изгиб больше должно быть. Возьми, Светлана-келин, возьми.
— Хорошо, тетушка Фарида. То, что мне предназначалось, я возьму. А его — нет. Боюсь.
— Хорошо, сестренка. Будь по-твоему. А его подарок я сохраню… Ты приходи к нам. Чего оДной-то сидеть. Попьем чаю, поговорим. Ну-ну, иди, а то он бог знает что подумать может, — она передала один сверток, отошла от окна и тотчас растворилась в темноте.
Светлана развернула бумагу и ахнула — отрез превосходного тончайшего бархата. Она вновь завернула подарок и сунула его в кухонный шкаф, поглубже, подальше за кастрюли. Сюда Жаксылык никогда не заглядывал. Потом крадучись, на цыпочках пошла в спальню. Сегодня она впервые обманула мужа.
11
Четвертый день шла уборочная, а темпа не набирала. С прохладцей работали механизаторы. Причем если вначале за день давали два — два с половиною процента к плану, то на третий день — всего полтора. Мамутов собрал водителей уборочных машин и стал требовать высокой выработки.
— А зачем? — ответили они. — Нам по-прежнему начисляют согласно плановой площади бригады.
Вмешался Даулетов. Бухгалтерия действительно руководствовалась, как он выяснил, старыми данными. Для нее обмер и даже акт обмера не был еще документом. Цифры-то плановые спускались сверху. И спускались раз в год. Новый год еще не наступил, следовательно, никаких перемен не может быть. Пришлось взять на себя права планирующих органов и проставить на всевозможных ведомостях и сводках новые цифры.
— А как будет с урожайностью? — не без ехидства спросил плановик.
— Как и было, — ответил Даулетов.
— Простите, мы планировали двадцать девять центнеров хлопка с гектара, бригады взяли обязательство — тридцать один. А гектаров оказалось на двадцать — тридцать процентов больше. Делим общий урожай на новое количество гектаров и получаем средний урожай не больше двадцати центнеров… Уразумели?
— Уразумел, — смутился Даулетов. — Но общий урожай тот же?
— Естественно.
— Будем исходить из общего урожая, Юсуп Абдуллаевич. Сколько должен сдать совхоз, столько и сдаст. План выполнит.
— Премию, однако, дают за перевыполнение по урожайности. А у нас его не будет.
— Не будет перевыполнения, не будет и премии.
— Окажемся на последнем месте, — предупредил плановик.
— Окажемся на таком, Юсуп Абдуллаевич, которого достойны.
Плановик склонил голову, дескать, воля ваша — повинуюсь, но рассуждения Даулетова он считал, мягко говоря, странными и, если грубо говорить, глупыми, а мог бы сказать и еще грубее.
— А как у нас рис? — поинтересовался Даулетов. Для формальности поинтересовался, знал, что рисовый клин тоже не порадует его.
— Несколько лучше, но не у всех. Аралбаев даст, пожалуй, план.
— С дополнительной площади?
— У него дополнительной почти нет. Постарается, дотянет и до обязательства.
— Будем ориентироваться на Аралбаева. И бригадир толковый, и человек порядочный. Еще таких пару бригадиров, и можно засыпать район рисом.
— Вы оптимист, Жаксылык Даулетович.
— Как все плановики.
Насмешку почувствовал плановик и нахмурился.
— Вы не плановик, — насупился Абдуллаев, — вы, так сказать, экономист-теоретик, экономист-прогнозист, а вот я действительно плановик-практик и потому далек от радужных мечтаний. Пока что конкретные цифры не внушают оптимизма.
— Да у нас, Юсуп Абдуллаевич, как я посмотрел, ни одной цифре верить нельзя, ни той, что обнадеживает, ни той, что угрожает.
— Преувеличиваете, Жаксылык Даулетович!
— Хорошо бы… к сожалению, преуменьшаю. Абдуллаев ушел обиженным, и не успела за ним закрыться дверь, как в кабинет директора ввалился Сержанов и за ним двое мужчин, не местных, не жаналыкцы, один русый, другой чернявый. С какими-то папками, свертками.
— Радуйтесь! — пробасил Сержанов. — С января начнем строить новый поселок.
— Радуюсь! — весело откликнулся Даулетов. — Указание старших — закон.
— Я не шучу. Действительно надо радоваться. Архитекторы привезли проект нового поселка Жаналык, детища нашего…
Архитекторы представились Даулетову.
— Здравствуйте! Новый аул нам нужен. Очень нужен.
— Поселок, — поправил светловолосый и стал разворачивать рулон.
— Я и говорю — аул.
Архитектор пожал плечами, но поправлять снова директора не стал, счел его выходку за чудачество: каких только директоров ему не приходилось встречать на своем веку!
Начали рассматривать план застройки главной усадьбы совхоза. Проектировщики должны были давать пояснения, как и принято в таких случаях, но Сержанов не упустил возможность показать свою осведомленность и причастность к созданию проекта. Он тыкал пальцем в кальку и растолковывал, где что должно стоять и как выглядеть. Все знал: не первый раз, видно, держал он в руках проект.
— Здесь клуб с парком и фонтаном у входа… Стадион выносим на край поселка, чтобы попросторнее было ребятам. Там ведь и футбольное поле, и беговые дорожки. Контора наша, естественно, в центре, сплошь бетон и стекло…
Впечатляющим был проект.
— Дома? Дома рабочих какие? — Даулетов стал искать на отдельных листах проекты жилых зданий. — Учтены малосемейные и многосемейные?
— Все учтено, Жаксылык Даулетович, — достал листы светловолосый. — Проекты жилых построек разработал наш Досмурза. Он хорошо знает быт и местные условия…
— Аульчанин? — бросил взгляд на чернявого Даулетов. Тот усмехнулся:
— Из аула Нукус. Все захохотали.
— Нукус — большой аул…
Досмурза развернул ватман и показал проект дома. Кроме плана помещений здесь были даны контуры фасада жилой застройки.
— Есть и макет коттеджа со всеми хозяйственными пристройками. — Он открыл чемодан и вытащил из него аккуратно вылепленный домик, покрашенный в яркие цвета. Домик походил на игрушку, и, как в игрушке, тут были и скамеечки миниатюрные, и деревца, и цветы, и даже куры, клюющие траву.
— Рай! — восхитился Сержанов. — Отцы наши о таком не мечтали…
— Верно, — согласился Даулетов. Однако согласился как-то неохотно, с усмешкой внутренней. — Не мечтали о таких домах, потому что не нужны они им были.
— Ясно, не нужны, — вскипел черноволосый. — Это еще смотря какие предки, ближайшие в юртах ютились, а дальние вообще в пещерах жили. Может, вам пещеры надобны? Что ж, пожалуйста, но с этим заказом уже не к нам, не к архитекторам, а к спелеологам.
Его русый товарищ был постарше, опытней — поднаторел в словесных схватках с заказчиками, да и, видать, не столь горяч, сдержан, солиден, в выводах убедителен. Он знал, что криками ничего не докажешь, оскорбится заказчик, заупрямится, и тогда его уже никакими аргументами не проймешь. Знал, что лучше идти не от общего к частному — толкуя об абстрактных принципах, лишь глотку сорвешь, — а от частного к общему. Пусть человек примерит жилье на себя, скажет, что лично ему не нравится, тогда уже можно с ним дискутировать, можно грозить… да мало ли что можно тогда?
— Скажите, только искренне… — здесь светлоголовый сделал паузу, как бы давая Даулетову время остыть и посовещаться с собственной совестью. — Вы лично, подчеркиваю, не директор совхоза, а вы, как человек, как будущий новосел, хотели бы жить в таком коттедже?
— Я лично? Да.
— Вот видите. А чем же ваши рабочие хуже?
— Они не хуже, они во многом даже лучше…
— Ну это уже риторика, чтоб не сказать — демагогия.
— Если не будете прерывать меня на полуслове, — Даулетов был сердит, — то увидите, надеюсь, что вовсе не демагогия. Я согласен жить в таком доме, потому что у меня и семья-то вся — жена и дочь. Если хотите, то оставьте в проекте пару домиков: для меня да вот для Ержана Сержановича, у него тоже сейчас — он да жена, дочки разъехались. А как быть многодетным? Таких у нас абсолютное большинство. Как в трех-четырехкомнатной квартире расселить мужа с женой, деда с бабкой и шестерых-семерых ребятишек, особенно если половина — сыновья, половина — дочери? Как?
— Но у нас есть нормативы, — мягко и назидательно поправил старший из архитекторов.
— Допустим, — согласился Даулетов. — Допустим, что обувщики выпускают ботинки лишь до тридцать восьмого размера — нормативы у них, предположим, такие. А вам-то что до их нормативов, если вы носите сорок первый? Помните, всюду строились пятиэтажные коробочки, и тоже говорили: «нормативы», «ГОСТы», но сумели же вы доказать, что в архитектуре должны быть учтены и национальные особенности. Только почему все национальное своеобразие у вас свелось к орнаменту? А многодетность разве не специфическая особенность нашего народа? Почему же вы ее-то не учитываете?
Дальше. — Даулетов остановил жестом желавшего возразить архитектора. — Я лично согласен жить в вашем коттедже потому, что хозяйством не обзавелся и, видимо, уже не обзаведусь: жена-горожанка не приучена ходить за скотиной и птицей, и мне нет времени возиться с огородом и садом. Но другим-то как? У вас ведь какая площадь отведена на подворье?
— Пять соток.
— А государство дает крестьянину пятнадцать.
— Хватит и пяти, — вступился за проектировщиков Сер-жанов. — Нечего зря землю разбазаривать.
— Ну да, а «скрытые поля» — это не разбазаривание. Сержанов обиделся. Помянул все-таки Даулетов эти злосчастные «лишние гектары». Крепился-крепился, старался не наступать на мозоль, а тут надавил. Уж ты бы, мол, помолчал. Обиделся Сержанов: «Раз так, шайтан с тобой, помолчу».
— Подождите, — архитектор, несмотря ни на что, не сбивался с тона, — сады и огороды запланированы. Они отнесены за пределы поселка для того, чтоб ансамбль жилой застройки сделать компактнее. Иначе поселок растянется, это неудобно и дорого — растянутся коммуникации, но главное — некрасиво.
— О красоте поговорим чуть позже. А сейчас вернусь к огородам. По-вашему получается, что человек, пришедший с работы, должен еще бежать за два километра, чтобы зелени к обеду нарвать. Так? — И сам же утвердил: — Так! Одно дело сад под окном — виноград, кизил, урюк, яблони — все цветет, потом спеет, созревает, а другое — за несколько километров. Вы говорите красота. Да нет, ради проектной красоты вы живую красоту вынесли из аула. Теперь смотрите, — снова подошел к макету, — сколько у вас тут надворных построек?
— Это гараж. Это хозяйственный блок. В нем отделение для содержания скота и птицы — шесть квадратных метров и подсобные помещения — три квадратных метра.
— Но этого же явно мало. Где летняя кухня, где тандыр? Люди же будут все это строить. Будут лепить вручную кладовки и сараюшки. Дощатые, глинобитные. И ваши расписные домики станут щеголять на их фоне. Это, по-вашему, красота?
И вот еще, — добавил Даулетов, — хоть это мелочи вроде бы, но все же скажу. Окна у вас тут огромные.
— Стандартные рамы, — пояснил проектировщик.
— Может, и так, но зачем нам они? Летом занавешивать от зноя? Зимой затыкать одеялами от стужи? А разобьется случайно окно? Где в ауле взять стекло два метра на полтора? Значит, придется за ним в город ехать. А как его везти? В автобус с ним не влезешь. Поймаешь попутный грузовик — побьешь по дороге. Выходит — бери такси. На это дехканин не скоро отважится. Пока соберется с духом, со средствами и со временем, до тех пор заслонит пробоину фанеркой или картонкой и будет ваш коттедж этаким бельмом на улицу смотреть. Опять красота?
Младший чернявый даже присвистнул.
— Это что же, переделывать весь проект? Менять дома, перепланировать участки, раздвигать усадьбы… и вообще ансамбль принимает совершенно другие очертания.
— Так, — старший встал и оперся о стол, накрыв растопыренной пятерней фасад коттеджа на ватмане. — Это все разговоры. Хватит их. За данный проект вам придется заплатить согласно договору. Если соберетесь заказывать новый, то потрудитесь детально и конкретно изложить в письменной форме — на слово мы больше ничего от вас не примем, — что именно и в каких количествах вам надобно. За сим разрешите откланяться. — Он начал свертывать листы и засовывать макет обратно в чемодан.
— Хорошо, — согласился Даулетов. — Но чертежи и макеты оставьте, поскольку они уже наши, коли мы за них заплатили.
— Зачем вам? — иронически спросил чернявый. — Ведь не нравится же.
— Соберем людей, им жить, пусть сами и решают, в какие дома хотят вселяться. Все обсудим сообща, тогда и дадим вам точный перечень наших требований.
— Что ж, забирайте, — согласился блондин. — Нам же проще. Поедем налегке.
Когда они вышли, Сержанов устало поднялся с кресла.
— Вы перечеркиваете не только мое прошлое, но и будущее… Об одном мечтаю, чтоб вы дожили до своего Даулетова, до того, кто придет вам на смену и на все вами сделанное плюнет.
И он плюнул. Громко, с придыхом, плюнул прямо на ковер и вышел, не закрыв за собой дверь.
12
С Каракумского канала, как только закончилась работа экспедиции, Шарипа заторопилась в «Жаналык» навестить отца. Хоть и жил отец у родного брата и, видимо, ни заботой, ни вниманием обойден не был, но все же брат — не дочь, и знала Шарипа, что тоскует старый рыбак, знала, потому что сама тосковала.
Она вышла из машины у поворота на «Жаналык». Отсюда к совхозу тянулся проселок — километра два, но к середине сентября, к разгару страды тракторы и грузовики так истолкли грунтовую дорогу, что пыль стлалась по ней глубоким пышным слоем, будто взбитая перина.
Шарипа сняла туфли, чтоб не загубить замшевую импортную обнову, и шлепая босиком, утопая по щиколотку в мягком теплом пуху. Из-под ступней взвивались серо-желтые фонтанчики. И было ей легко и радостно, как в детстве, и хотелось, как в детстве, побежать, загребая подошвами теплую мякоть, бежать, пока не споткнешься и не шлепнешься на эту легкую землю. Она так бы и сделала, да взрослое благоразумие остановило: неудобно заявляться в гости в таком виде, что и отец родной не признает.
Войдя в аул, легко нашла дом дяди, хоть и не была здесь лет десять — двенадцать. Возле изгороди заметила водопроводный кран с тонкой, видимо никогда не иссякающей, струйкой, с привычной досадой подумав: «Вот и еще кубометр воды в песок ушел», принялась обмывать ноги.
— Ой-бой! — услышала она знакомый голос. — Да никак это Шарипа? — Фарида всплеснула руками. — Похорошела-то как! И не узнаешь. Ты чего же тут плещешься? Проходи в дом. Проходи. Отец жив-здоров. Да сейчас все сама увидишь.
— Ассаламу-алейкум, тетушка Фарида. А вы все такая же. Ни капельки не переменились.
— И хорошо, что не переменилась. В мои годы к лучшему уже не меняются. Зато ты все красивее становишься.
Если б не врожденная смуглость Шарипы да еще и загар, от которого она стала совсем шоколадной, то легко можно было заметить, как зарумянилось ее лицо. Пустяковый вроде бы комплимент, сколько подобных выслушала, а все равно краснела, будто стеснялась своей красоты.
— Куда мне хорошеть, тетушка Фарида. За тридцать уже.
— Э-э… Самый возраст. Только тут красота и проступает. В восемнадцать все милы, да красавицей не любая становится. Всяки цветики красивы, не всяка ягода сладка. Ну пойдем, пойдем, — и Фарида потянула ее за руку в дом.
Отца она застала в гостиной у телевизора. Телевизор работал громко, и старый Нуржан не услышал ни хлопка входной двери, ни голоса дочери, ни шагов ее. Когда она тронула его за плечо, он вздрогнул, обернулся и тут же вскочил. Шарипа еле-еле удержала его. Старик не надел протеза и потому, резко поднявшись, чуть не упал.
— Вот, дочка, — начал он оправдываться, даже не поздоровавшись с Шарипой, — совсем состарился, все забываю. Забыл, что у меня одна опора. Никуда не хожу, вот и не пристегиваю деревяшку — чего зря культю натирать? — он заспешил в другую комнату за протезом.
— Подожди, папа! Посидим так. Ничего страшного.
— Нет-нет. К твоему приезду я уж «обуюсь».
Он удалился, и через минуту Шарипа услышала знакомый стук и поскрипывание… Но побыть вдвоем, поговорить вдосталь им не удалось. Фарида все сновала, как сорока, и стрекотала без умолку.
— Скучает, скучает наш дорогой добрый каин-ага. Совсем истомился. Что ни день, тебя вспоминает, каждую минуту ждет, когда его дорогая доченька приедет. Дождался наконец, слава аллаху. Ты бы пожила у нас тут хоть недельку. А что? Все мы только рады будем. И дядя твой, Ержан, будет очень доволен. Вместе-то веселее. Не чужие ведь, родня. А то и совсем перебирайся к нам. Чем хуже райцентра, места много, дадим и тебе комнату. Если что, то телефон есть. Машину Ержан всегда достанет, сорок минут — и в районе. Подумай. Я плохого не присоветую…
Казалось, что тетушка соскучилась по Шарипе даже больше, чем отец. А впрочем, может, так и есть, только не по Шарипе, а по разговорам. Словоохотлива она по натуре. А тут все одна да одна целыми днями. Приехал Нуржан, но он молчит, все телевизор смотрит, либо у себя в комнате лежит: то ли думает о чем-то, то ли просто отдыхает, тешит старые кости.
— Пойдем-ка, дочка, погуляем, — предложил рыбак.
— Куда это вы в самую жару? — встрепенулась Фарида.
— Да мы к воде. На канал.
— Ох! Не насмотрелась она на каналы. Всю жизнь возле них. Они у нее, наверное, уже в печенках сидят. В глазах у нее рябит, поди, от этих каналов…
— Да нет, пойдем мы, — сказала Шарипа, — отцу полезно немного размяться.
И, несмотря на уговоры, они собрались и вышли.
Крутой, хоть и невысокий склон, короткая тень от камышовой стенки, прямая длинная гладь узкого канала — ни единой морщинки, ни единого пятнышка на его полированной поверхности; сиреневые всполохи жингиля на противоположном берегу, а за ними бескрайний зеленый простор и где-то вдалеке три медленно ползущие голубые хлопкоуборочные машины.
Осень.
Ее еще не видно, нет покуда ни желтизны, ни увяданья, но она уже угадывается. Во всем ощущается какая-то утомленность. Уныло никнет пыльная листва, отяжелевшая вода лежит недвижно, и дежурно светит солнце, светит бесстрастно и ровно, не сверкая, как весной, и не ярясь и не распаляясь, как летом. По пути к каналу Нуржан и Шарипа болтали о всякой всячине, и только тут, усевшись в тени камыша, старый рыбак наконец сказал:
— Ну, говори, дочка, как съездила?
— Да что говорить-то, папа? Как обычно: много колесили, много совещались, спорили, много проводили различных замеров…
— Я же о другом спрашиваю. Нашла воду для Арала?
— Немножко нашла, — Шарипа остановилась, соображая, как бы попроще, подоходчивей объяснить отцу, но поняла, что без цифр ей все равно не обойтись. — На Каракумском канале уходит в почву сорок — пятьдесят кубометров воды ежесекундно.
— Да что ж они. так?! — старик сокрушенно качал головой. Он, как человек, отдавший последний глоток из фляги соседу и увидевший, что тот не столько выпил, сколько расплескал, никак не мог успокоиться и лишь повторял: — Да что ж они так?!
— Они в Туркмении как все, папа. И мы не лучше. Пожалуй, они даже раньше нас спохватились. Прежде в Каракумы уходило больше — шестьдесят кубометров в секунду. — И вдруг пожаловалась тихо, по-девчоночьи: — Уставать я стала что-то от этих поездок. Гостиницы, машины — надоело. Мотаешься, мотаешься…
Старый рыбак взглянул на дочь. Взглянул удивленно. Он уже привык считать ее взрослой и самостоятельной. Привык считать ее умной, образованной, знающей гораздо больше его. Привык советоваться с дочерью и со вниманием выслушивать ее советы. Привык и к тому, что она иногда корит его, любя, конечно, корит, наставляет, как надо делать то-то или то-то. Но вот не припомнит, когда в последний раз слышал жалобу Шарипы, давно, видать. Кажется, когда она еще школьницей была. Уже забыл, когда утешал ее. И вот снова она, как ребенок, потупилась, наклонила голову, и он погладил ее по волосам, погладил ласково, но неумело — короткими отрывистыми движениями, словно потрепал по затылку.
— Ну, ну, дочка. Успокойся. Может, и права Фарида. А? Может, отдохнешь недельку? А то поедем домой… Уходи ты с этой работы. Будешь дома. Книжки писать будешь о воде. А? Или учить пойдешь. А?
— Нет, папа, — она подняла голову и улыбнулась. Улыбка получилась грустной. — Нет. Куда же я от Аму и Арала? Куда я от живой воды? Хорош гидролог — в ванной, что ли, опыты ставить? И хватит обо мне, — она вздохнула, словно хотела очистить душу и выдохнуть из нее все печали. — Расскажи-ка лучше, как ты тут жил. Чем занимался.
— Лежать да по комнатам слоняться — вот и все стариковские занятия. Готовить себе не нужно, прибираться в доме не нужно, все делает Фарида. А я перед смертью ума набираюсь. В доме семь окон — три на улицу, четыре на двор и восьмое окно на весь свет — телевизор. Гляжу, что в подлунном мире люди делают.
Один раз брат Ержан званый ужин устроил. Нажарили, наварили, тарелок выставили — думал, двадцать человек соберутся. А пришли лишь Завмаг да директор с женой. Имя у него, у директора, хорошее — Жаксылык. Я, когда из госпиталя возвращался, одному мальчишке хлеба дал. Может, и ему. Сейчас разве признаешь — лет-то сколько прошло. А он помнит. Это хорошо. Ну вот, посидели, поговорили да и разошлись.
— О чем говорили? — неожиданно для Нуржана Шарипа вдруг заинтересовалась таким пустяком, как рассказ об ужине.
— Так. О разном.
— Мое имя поминали?
— Без твоего имени для меня любой разговор скучен. Говорили и о тебе, дочка. Хвалили все тебя. А я радовался.
— А Жаксылык?..
Она осеклась. Имя вырвалось само собой и теперь добавлять к нему отчество было бы вовсе нелепо. Она поняла, что невольно проговорилась, выдала отцу тайну, не только свою, но и его тайну — Жаксылыка.
Старик насторожился. Сперва кольнула легкая догадка: «Неужели?..» И он ждал, что Шарипа скажет еще несколько слов и подозрение рассеется. Оно и должно было рассеяться, ибо и пришло внезапно и казалось неправдоподобным: когда дочь могла встретить Даулетова? когда успела полюбить? как могло это случиться? и как он — единственный близкий ей человек мог не заметить?
Но Шарипа молчала, и подозрение, показавшееся несуразным, невероятным, моментально начало расти. Старик пристально глянул на дочь и убедился: да, именно так… Так! И ничего уже с этим не поделаешь. Ни уговоры, ни упреки, ни отцовские назидания — ничто не поможет, все уже бесполезно. «Ох, Шарипа, Шарипа, — думал старый рыбак, — угораздило же тебя, девочка моя. Ох, угораздило… И что ж ты у меня такая невезучая? Отдала душу Аралу, а Арала-то, считай, нет — море не море, озеро не озеро. Полюбила джигита, а джигита тоже нет — есть сорокалетний мужчина, муж, отец, директор. Человек не свободный, человек, привязанный к семье и должности, да что привязанный — связанный ими по рукам и ногам. Ох, угораздило… И ведь как получается: спасаешь жизнь чужому мальчишке, а тот вырастет и сломает судьбу дочери, родной, единственной. Как же так? Как же так?»
И не стал Нуржан ни допытываться, ни стыдить, ни упрекать.
— Молчал он, дочка, — только это и сказал. — Молчал… Шарипа проводила отца до дома Сержановых, но в дом дяди не вошла: не хотелось выслушивать уговоров, а остаться она не могла. Не имела права.
Она спешила обратно к шоссе, спешила, боясь ненароком встретить Жаксылыка, хотя — от самой-то себя чего таиться? — все-таки надеялась на нечаянную встречу. Надеялась и страшилась. Страшилась все же больше. Но, как говорится, и говорится именно потому, что часто случается, чего бережешься, на том и обожжешься.
Не успела она и трехсот метров пройти по дороге, как вынырнул навстречу директорский «газик».
— Шарипа! Здравствуй! — Даулетов был удивлен. — Значит, выбралась все же навестить нас?
— Отца навещала. А сейчас обратно еду. Очень тороплюсь. — На последнем слове она сделала ударение, как бы показывая, что беседовать долго не намерена.
— Коли торопишься, садись, подкинем!
Она отрицательно покачала головой. Даулетов вышел из машины, отправил Реимбая.
— Давай хоть провожу.
Они направились к автостраде, но через сто метров, не сговариваясь, свернули с проселка на межу и пошли полями. Не хотели быть замеченными. Будто в самой их встрече, в том, что они сейчас вдвоем и рядом, есть нечто непозволительное, нечто такое, чего надобно стыдиться. Нет, не только скрывать от посторонних, как всегда люди скрывают свое личное, интимное, во что могут быть посвящены только двое, — это было бы естественно. А вот именно стыдиться чего-то они должны. Они и сами бы не могли в точности сказать, чего совестятся и перед кем чувствуют вину, но ощущали, что вина есть, она угнетала, и обоим стало неловко.
Неловкость мешала разговору. Он долго не клеился, а лепился наскоро из каких-то необязательных, второстепенных слов, и они повисали в воздухе и кружили, как мелкие насекомые, досаждая жужжанием и мельтешней. Наконец она спросила его о делах. Спросила без любопытства, так просто, ради проформы. И он тоже ради проформы начал рассказывать о перемере земель, о Мамутове, о начале сбора хлопка, о проекте нового аула. Говорил сперва нехотя, с ленцой, но постепенно увлекся, загорелся, стал вдаваться в подробности, растолковывать, доказывать, убеждать, будто она с ним собиралась спорить.
Она смотрела, как он жестикулирует, размахивает руками, как, сбившись с размеренного шага, теперь то отстает, то забегает вперед и, поворачиваясь к ней, словно гид, указывает на что-то: «взгляни сюда, а теперь посмотри туда…» Она почти не слушала его. Она залюбовалась Жаксылыком, его страстью, его живостью залюбовалась, и тут ей стало совершенно ясно, чем близок для нее этот человек, такой внешне неяркий, неброский. Она прежде никогда не спрашивала себя, за что полюбила его тогда, шестнадцать лет назад, чем снова покорил он ее теперь, спустя годы и годы? Да и что за глупость сам вопрос «За что любишь?». Но в этот миг она знала точно: за одержимость. За то, что сама такая. Сама всему, что дорого, всему, что близко, отдается безоглядно, целиком, до последней клеточки, до последнего нерва, иначе не умеет. Не может иначе.
Да, да, как ни банально это звучит, но именно родство душ, именно оно влекло Шарипу к Жаксылыку.
Но браки между «близкими родственниками» запрещены. Это был печальный вывод. Печальный, но неоспоримый.
Она осознала, что не сможет оторвать его от этого дела, от его дела, от дела, которое, может быть, впервые в жизни пришлось ему и по росту, и по нутру, в котором он весь, целиком. И не вытащить его оттуда. Не увезти с собой. Никуда не увезти. А иначе как же? Остаться здесь, с ним, невозможно. Здесь, где все и вся будет ежедневно напоминать о его прошлой жизни, о его семье, о его жене, о его дочери. Да и не дадут ему тут остаться, если…
Она с какой-то холодящей ясностью поняла, что никакого «если» не будет. Никогда не будет. Она была согласна и на половину счастья, но счастье упрямо не хотело располовиниваться. Как все живое, оно противилось тому, чтоб его раздирали надвое.
Жаксылык хоть и не сразу, но все же заметил, что она расстроена чем-то. Спросил, в чем причина. Она махнула рукой, мол, не обращай внимания, так, мелочи, но, чтобы как-то объяснить свое состояние, пожаловалась на усталость. Он замолчал, а идти еще было долго, и для того ли, чтоб заполнить паузу, или решив, что теперь ее очередь говорить о делах, Шарипа начала рассказывать об экспедиции на Каракумский канал. Рассказ был краток и скуп. Говорила она без интереса, и Жаксылык не узнавал Шарипы. Он помнил, как кидалась она на него там, на берегу Аму, стоило ему лишь словом коснуться воды. Помнил ее азарт, даже остервенелость какую-то, когда они вместе гнались за ветром. А теперь…
Последние метров пятьсот они прошли почти молча. Может быть, десяток слов и обронили, но пустяковых. Говорить о главном, о своих чувствах — не хотели. Оба понимали, что не место и не время.
Сейчас, когда они, таясь от людей, сторонясь постороннего глаза, пробирались между полями, любое слово о любви показалось бы каждому из них фальшивым и даже кощунственным. Любое оскорбило бы. Говорить же о чем-то другом — не могли. Ничего, кроме чувств, пока не связывало их, да и свяжет ли когда-нибудь?.. Два взрослых, самостоятельных, сложившихся человека. Для того, чтобы начать новую, совместную жизнь, одному из них, — это уж обязательно, а то и обоим, — придется перечеркнуть жизнь прожитую. Отважится ли один? Согласится ли с такой жертвой другой?
На остановке стояли недолго. Автобус не заставил ждать себя. Захлопнулась створчатая дверь. Взвилось голубое ядовитое облачко, и покатила красная коробочка к райцентру, а Даулетов медленно пошел к себе. Восвояси.
Он шел, размышляя о Шарипе, и неожиданно для себя понял, что Шарипа вошла в тот возраст, ту пору жизни, когда призвание становится в тягость. Было время, когда оно манило, влекло, заносилось в черт-те какие выси и дали… Но вот уже не крылья за плечами, а ноша. Поклажа. И давит груз, и гнет к земле. Но дорог он, ибо тобой же по крохам собран. И где-то в центре его, в середке этого груза таится тот самый смысл жизни, не всеобщий, не абстрактный, не философский смысл жизни вообще, а тот личный смысл, твоей единственной жизни. И не скинуть груз с плеч долой. Не шмякнуть его оземь. Неси. Терпи.
И еще понял Даулетов, что Шарипа сейчас взрослее и умудреннее его. Уже потому взрослее, что она пришла к поре, когда ощущается тягость призвания, а он, Даулетов, к той поре еще не подошел. Он только-только вроде бы отыскал наконец-то свое призвание. Ему еще предстоит все то, что Шарипа пережила и прочувствовала. Предстоят ему и полеты — если, конечно, он сам себе крылья не обломает, либо кто другой не ощиплет его, как петуха перед бульоном. Предстоят и падения, и усталость, и неминуемое разочарование даже в любимом деле. И убежденность, что от своего дела, как от своей жизни, никуда не деться, тоже лишь предстоит. А Шарипа это уже прошла либо вот сейчас проходит.
И стало тут Даулетову грустно и стыдно. Так грустит и стыдится старший, убедившись в какой-то момент, что младшие мудрее и опытнее его. Так грустит и стыдится мужчина, понявший, что любимая женщина взрослее и словно бы старее его.
13
Этот день начался для Жаксылыка со случая, который поначалу показался забавной нелепицей, но потом до вечера не выходил из головы и под конец стал тревожить как нехорошее предзнаменование.
Утром, направляясь в контору, Даулетов увидел, как трехколесный хлопковый тракторишко тащил, поднатужась, массивную платформу. На ней стоял мощный грузовик, и на запыленном борту (кто-то маханул тряпкой, но маханул небрежно) отчетливо читалось: КПД -00. Две последние цифры так и остались погребенными под слоем пыли. «Да, — улыбнулся Даулетов, — коэффициент полезного действия тут воистину никакой».
В конторе его встретил Мамутов. Ночевал он тут, что ли, или заявился ни свет ни заря? Но не успел директор поздороваться, как парторг протянул ему телефонограмму: «Форсировать уборку хлопка. Ежедневную сдачу сырца довести до двух процентов от общего плана. Продажу молока и бахчевых завершить в течение трех дней. Нажимов».
Даулетов нахмурился и прикусил нижнюю губу.
— Недоразумение какое-то… Вы принимали телефонограмму?
— Бухгалтер. Он тут допоздна засиживается со своими ведомостями… Но я уточнил в райкоме. Звонил дежурному по приемной, тот повторил приказ до точки.
— Положим, это не приказ, — заметил Даулетов.
— Хуже.
— Вот именно, хуже. Как можно выполнить в три дня план поставок молока и бахчевых, когда еще и половины плана нет?
— Нажимов попросил Сержанова заняться этим. На нас, видимо, не надеется, — голос у Мамутова был недовольный.
— Откуда узнали?
— Ержан-ага похвастался. Звонил ему секретарь, такое не скрывают. С рассветом весь аул узнает о личной просьбе высокого начальства.
— Просьба… Ее же не выполнишь. Нет такой силы, которая заставила бы коров давать в день по десять ведер молока. Да и десять ведер не спасут положение. Пятьдесят процентов за три дня — да вы что? Шутите?
— Сержанов вытянет!
— И вы туда же?
— Не я, Нажимов. Ему лучше известно, что может и чего не может Ержан-ага.
Даулетов не понял, что скрывалось в этих словах парторга. Укор или намек? Если укор, то за что? А коли намек, так…
— Намек? — спросил он.
— Считайте, что намек.
— Поясните!
— Потом сами разберетесь.
Уборка шла вовсю. Стрекотали комбайны, гудели грузовики, трактора с тележками и автобусы, развозящие по домам первых горожан, присланных на подмогу.
— Идет дело, — сказал Даулетов, когда «газик» пробегал неторопливо вдоль хлопкового поля. — Два процента должны дать…
— Должны, — согласился секретарь парткома. — Даем, однако, один.
— По сводке?
— Фактически.
— В чем же дело?
На этот вопрос Мамутов не мог ответить. Он сам задавал его себе.
— Загадка какая-то…
— Попытаемся разгадать. Вы, Палван Мамутович, оставайтесь здесь. Изловите бригадира или хотя бы кого-нибудь из комбайнеров и поговорите по душам. Я проеду к Калбаю, попробую у него докопаться до истины.
Мамутов выбрался из «газика», Даулетов покатил дальше. Километрах в двух от того места, где вышел секретарь парткома, лежало поле жамаловской бригады. Картина здесь была та же, что и на соседнем участке. Рокотала хлопкоуборочная машина, гудели грузовики. Только рокот и гул казались приглушенными, словно ветер уносил их на другой край поля. Да и машина-то была одна-единственная и двигалась по рядкам с остановками, как немощный старик, выбивающийся из сил через каждые пять-шесть шагов. Вблизи — ни души. Вдали тоже.
Даулетов решил проехать на участок и выяснить причину странного поведения машины, он уже тронул локоть Реимбая, понуждая его прибавить скорости, но тут заметил голубое пятно, проглядывающее между стеблями придорожного камыша.
— Стоп!
Реимбай затормозил, и Даулетов выбрался из «газика». Голубое пятно теперь было ближе и оказалось всего-навсего бункером хлопкоуборочной машины. Заслоненная стеной камыша, она мирно отдыхала на краю поля: мотор не издавал ни рокота, ни вздоха. А когда Даулетов раздвинул стебли, то убедился, что мирно отдыхал и водитель. Легкий храп доносился из-под хлопкоуборочной машины.
Механизаторов, работающих на хлопкоуборочных машинах, было в хозяйстве не так уж много, и они все уже были известны Даулетову, поэтому опознать спящего не стоило труда. Он глянул под комбайн и увидел не кого иного, как Султана Худайбергенова. Вот тебе и председатель группы народного контроля!
— Султан! — окликнул он водителя.
Без удовольствия, а пожалуй, даже с явным неудовольствием, Султан повернулся на бок и высунул голову из-за огромного колеса, сонно посмотрел на директора:
— Ну?
— Как почивалось? Проснулись? Не окликни я, так бы и прохрапели до конца уборочной.
— Зачем же до конца? До прихода бригадира.
— Без бригадира не знаете, что делать?
— Знаю, да Калбай не разрешает.
Даулетов вошел в хлопковые рядки и утонул по колено в белой пене. Поспел хлопок. Поспел и торопился покинуть тесные сухие коробочки. Казалось, достаточно легкого прикосновения руки или ветерка, чтобы он вырвался на свободу. Наиболее торопливые комочки уже слетели с кустов и прыгали белыми беспомощными птенцами в рядках. Взлететь не могут, тяжелы, а поднять их некому.
— Не разрешает? Вы же народный контроль! Эх, Султан…
— На работе я — рядовой. У меня есть генерал. Он командует.
— А если командует неправильно?
— Устав требует: сначала выполни, потом жалуйся.
— Значит, команда была спать? Заморгал растерянно Худайбергенов.
— Нет, спать не приказывал, — попытался выбраться из глупого положения Худайбергенов. — Но что делать, когда выключен мотор? Не ворон же считать!
— Ворон не пересчитаешь, их просто нет здесь, все на рисовых чеках. Убирать хлопок надо, Султан! Перед вами спелое поле с раскрытыми по всей карте коробочками.
— Этот участок не для меня.
— А для кого?
— Для самого Калбая, наверное.
— Что за чушь! Калбай не механизатор.
— Конечно! Он не сам сядет за штурвал. Найдутся руки. А может, и без штурвала обойдется…
Загадки вывели Даулетова из терпения.
— Зачем темнить! Сговорились, что ли, с Калбаем? Если хитрость какая-то, объясните толком. Мы в трудном положении: вместо двух процентов сдаем в день по одному. По головке а такую работу не погладят…
— Я норму выполняю, — обиженно пояснил водитель. — Даже перевыполняю. И другие ребята не отстают.
— Так в чем же дело?
Вместо ответа — недоуменное пожатие плечами. Сам, видимо, не знал, в чем дело.
— Ну вот что… — Даулетов принял решение — правильное, не правильное, — осмысливать и взвешивать не было времени, торопила горевшая в нем злость. — Включайте мотор — и машину в рядки!
— Жаксылык Даулетович! — взмолился Худайбергенов. — Нехорошо так… Может, у Калбая есть причина задерживать уборку этого участка. Важная причина…
— Слышали приказ? Или нужна команда «генерала»? Так считайте, что перед вами маршал!
— Есть! — подчинился Худайбергенов и полез в кабину. Полез неторопливо, на каждой ступени лесенки, на каждом выступе задерживался, оттягивая время. Надеялся все же, что директор отменит приказ.
И добился своего. Отменил приказ Даулетов. Вернее, не отменил, сама по себе отпала необходимость включать мотор. Из просвета в камыше вынырнул «Москвич» Калбая. Вынырнул и застыл, как осаженный на всем скаку конь. Дверца распахнулась. Калбай, улыбающийся во весь рот, возник перед директором.
— Доброе утро, Жаксылык Даулетович!
— Кабы доброе! Начинаем день с простоя. А что будет к вечеру?
— К вечеру будет план.
Беззаботно так, шутя вроде пообещал Калбай. Строгий тон директора его не смутил.
— Какой план? — сорвался Даулетов. — Мы сдаем от силы один процент, а райком требует два.
— Дадим два.
Каждый раз, выясняя причины срыва сдачи сырца, Даулетов наталкивался на равнодушие, на беззаботность какую-то бригадиров, плановика, бухгалтера. Никого не тревожила опасность. «Соберем, сдадим, выполним!» — скучно отвечали люди. Вот и сейчас Калбай ляпнул: «Дадим два!» Как дадим, когда механизмы простаивают, водители спят? Сказано, чтобы отделаться от занудливого директора или чтоб скрыть некий секрет. Может, действительно сдадут сырца на два процента? Кто их знает? При Сержанове план выполняли, и выполняли досрочно.
— Мне ведь нужны не слова, понимаете, Жамалов?
— Понимаю.
Калбай взял директора за локоть, по-дружески и даже по-братски, и повел его в глубь участка по нетронутым колесами уборочных машин бороздкам.
— Когда райком удумал сдавать по два процента? — довольно фамильярно спросил Калбай.
— Вчера вечером, — не зная, как реагировать на бесцеремонность подчиненного, признался Даулетов.
— Значит, сегодня еще рано. Нынче прибавим половиночку, чтоб видели, как стараемся, и хорош. Опять же на правду похоже. Завтра — один семьдесят — один восемьдесят. Тоже похвально. Ну, а послезавтра — самый раз дать два процента. Нажимов будет доволен, авторитет его поднимется, добился ускорения темпов. И мы молодцами выглядим…
Даулетов слушал болтовню Калбая, возмущаясь и дивясь одновременно. Резонно рассуждал бригадир и знал толк в таких делах, как отношения с райкомом. Психологию Нажи-мова знал, характерец его. Учителем мог быть Даулетову. Даулетову, специалисту, кандидату наук и вообще знатоку сельскохозяйственного производства. Это удивляло. А возмущало то, что Калбай свою тактику строит на хитрости и, возможно, на подлоге. Откуда возьмет он эти два процента?
— Калбай, — сказал Даулетов, — может, вы и три процента способны дать?
— Три много. Не поверит Нажимов. Никто не поверит. Ни одно хозяйство не собирает столько хлопка в день.
— Ну, а если поверят?
— Если поверят, дам три!
— А где возьмете?
— Э-э, Жаксылык Даулетович, тайна пусть останется тайной.
— Сержанову тайна известна?
— Ха, он сам ее изобрел. Насчет тайн Ержан-ага великий мастер.
— А под суд не попадем с таким изобретением?
— Зачем, Жаксылык Даулетович? Никакого обмана. — Приглушив голос, Калбай открыл секрет: — На заготпункт сдаем норму, остальное придерживаем на худой день, как говорится.
— И много придержали?
— Есть кое-что… У меня две дневные нормы, у других, может, и больше.
Не знал Даулетов, как отнестись к признанию Калбая. Виноват вроде бы, прячет сырец, предназначенный для сдачи государству, сведения подает в плановый отдел и бухгалтерию неточные. Тут легко пойти и на злоупотребления. Слышал Даулетов, что некоторые колхозы продают излишки урожая соседним хозяйствам, недобравшим норму. За большие деньги продают. Но и то правда, что хитрит Калбай по необходимости. Как Нажимов командует, так Жамалов и работает.
— Где прячете хлопок? — спокойно, чтобы не вызвать подозрения бригадира, спросил Даулетов.
— Есть местечко.
Дознаваться, где прячет и как прячет хлопок Калбай, не захотел Даулетов. Да и не надо было этого делать. В конце концов, оперативная смекалка необходима, мало ли неожиданностей поджидает земледельца — дождь, буря, падет темп сбора, сорвется график, тут запас и выручит.
— Ладно, — сказал Даулетов. — А почему не даете Султану убирать этот участок?
Калбай ждал вопроса и давно приготовил на него ответ:
— Для ручного сбора оставил.
Невероятное творилось в «Жаналыке». То, что принято называть черным, называлось белым, белое — черным. Птицы плавали по дну, рыбы в небесах летали, деревья росли корнями вверх.
— Руками можно собирать в другом месте, — попытался Даулетов объяснить бригадиру принцип распределения сил на уборке. — Руки понадобятся на подборе, после прохода техники. Или это неизвестно?
— Известно, Жаксылык Даулетович! Так и будет…
— Тогда зачем держите машину в простое?
Тень разочарования легла на лицо Калбая. Недогадлив директор. Просто туп. Элементарных вещей не понимает, а еще пытается поучать.
— Султан пойдет на тот край карты. Там пореже хлопчатник.
— А это поле — руками?
— Почему руками? Тоже машиной.
— Вы же сказали, что оставили под ручной сбор. Калбай усмехнулся снисходительно: туп все-таки директор.
— Так только говорится — ручной сбор, Жаксылык Даулетович. Через недельку, а то и раньше Нажимов потребует, чтобы все взрослое и невзрослое население вышло в поле. Решающий момент борьбы за урожай. Жен наших, сестер, дочерей придется выгнать из дому. Фартук в руки — и пошли. Знакомо вам это?
Даулетов знал, конечно о мобилизации всего трудового населения на уборку.
— Погоним, если нужда прижмет.
— Ой-бой! Наивный вы человек, Жаксылык Даулетович! Наглел Калбай. Немалого труда стоило Даулетову сдерживать себя. А хотелось резким словом осадить бригадира.
— Наивный ли?
— Дело такое, что собирать хлопок заставят наших родственников. И не только заставят, прикажут сведения подавать, кто сколько собрал и сколько кому заплачено. А сколько выйдет на сбор? Сколько соберут? От силы по десять килограммов. Крик на весь район: «Жена главного агронома вышла в поле с маникюром, вытянула хлопок из одной коробочки, как пуховку из пудреницы». Вот как будет, Жаксылык Даулетович! А мы просто прогоним пару раз комбайн по этому участку, и выгрузим из бункера, будто из фартуков, наших жен и дочерей. Заплатим не по копейке за килограмм, а по десять. На последнем же этапе совхоз платит сборщикам двугривенный за каждый килограмм. Так что та же жена главного агронома получит за не собранные ею девятьсот килограммов девяносто рублей. И еще окажется на Доске почета. И не она одна — весь «Жаналык».
«Потрясающе! — с ужасом думал Даулетов. — Какое-то восхитительное, артистическое мошенничество. С благой целью — порадовать Нажимова, укрепить авторитет хозяйства, получить награду… Тут даже слов нет, способных выразить отношение к этому возвышенному очковтирательству».
А Калбай говорил и говорил, и лукаво-радостная улыбка сияла на его губах. И весь он цвел от сознания своей непогрешимости, своего превосходства над этим неразумным, наивным, недальновидным и неудачливым Даулетовым. Над этим Даулетовым-недотепой.
Склонить бы голову перед Калбаем. Обнять, поблагодарить за совет, сказать: «Калбай, родимый ты мой. До чего же мудр! До чего сведущ! Просветил, вразумил! Спасибо!»
Ничего не сказал директор. Пошел молча к «газику» и уже почти из кабины крикнул: «Все машины в поле!» И уехал.
Калбай обиженно глянул ему вслед:
«Пропащий ты человек, Даулетов… Совсем конченый».
14
С тяжелым сердцем ехал он на бюро райкома. Была бы возможность отказаться от участия в заседании, отказался бы. Вообще от всего отказался, что связано с необходимостью говорить, рассказывать, доказывать, оправдываться. Усталость какая-то навалилась на него. Бросил бы все, уехал в степь, нет, ушел просто, и там, среди трав, на осеннем ветру, лежа навзничь, не думая ни о чем, не чувствуя ничего, кроме тишины, избавлялся от мучительной тяжести.
Но ведь не откажешься. Не существует такой причины, кроме тяжелого недуга или самой смерти, чтобы избавила от необходимости быть на заседании, слушать, говорить. Оправдываться.
Оправдываться! Вот что самое противное, самое унизительное. Явился в совхоз, чтоб побеждать, а оказался побежденным. Защищаться должен.
Он еще не знал, от чего защищаться. Но что защищаться придется, знал точно. Подводятся предварительные итоги года, а они для «Жаналыка» печальны. Цифры, как говорят, есть, а за цифрами ничего реального. Хозяйство в разброде. Злые языки уже именуют «Жаналык» развалившимся хозяйством. А если хозяйство развалилось, то есть и сила, которая его развалила. Даулетов, кто же еще мог это сделать. Принял образцовый совхоз, передовой. Сейчас он стоит в сводке на последнем месте.
То, что злые языки говорят, ладно, бог с ними. Сам Даулетов видит этот развал. Расползается хозяйство, а собрать не может. Не слушается его дело. Люди не слушаются. Последний разговор с Калбаем убедил Даулетова, что никудышный он руководитель. Вообще не руководитель.
— Небось жалеете, Палван Мамутович, что связались со мной? — спросил сидевшего рядом парторга.
Спроси Даулетов не так, а по-другому, Мамутов бы ответил. А тут смолчал. Не хотелось быть пристегнутым к директору. Что значит «связался»? Не вязался он ни с кем. Оба впряглись в одну арбу и тянут каждый в меру сил.
— Понимаю, не рады, — заключил Даулетов. — Не получилось у меня ничего…
— Почему не получилось? — отозвался все же Мамутов. — Сломать сломали. И я помог в этом. Но не потому, что «связался» с вами, а потому, что увидел необходимость такой расчистки.
— Ломать мы мастаки, спецы. Тут чисто сработали. Все под корень снесли. Тут, думаю, нас ругать не за что?
Снова Даулетов задал вопрос не так, как надо. Снова поставил Мамутова в затруднительное положение. Сомневался секретарь парткома, что одобрят их разрушительную миссию. Ломать все же не строить. Призывали-то ведь строить…
Молчание секретаря еще больше расстраивало Даулетова. Чувство обреченности одолевало его.
— Хотя могут и поругать. День такой уж выдался. Тяжелый…
Да, день выдался для Даулетова тяжелый. Бюро было посвящено ему, во всяком случае, вторая половина заседания целиком состояла из перечня его дел и его просчетов.
Информация Нажимова о ходе заготовок сельхозпродуктов и уборке урожая началась с упоминания директора «Жаналыка», им и закончилась. Хлопок сдается медленно, урожайность низкая. Самая низкая в районе. Со второго места по урожайности, которое совхоз занимал в прошлом году, он переместился на последнее. Лишь чрезвычайные меры районного комитета партии дали возможность вытянуть хозяйство по сдаче молока и бахчевых. Товарищ Сержанов сумел, используя свой богатый опыт и организаторские способности, в течение недели выправить положение. Не возьмись за это дело товарищ Сержанов, «Жаналык» провалил бы план и по этим показателям. Общее положение в хозяйстве катастрофическое. По настоянию нового директора райисполком включил дополнительную земельную площадь в посевной клин «Жаналыка», освоить же эту площадь Даулетов не смог и, естественно, сорвал план по урожайности. Совхоз становится убыточным.
Разносы всегда настораживают присутствующих на заседании. Им кажется, что удар молнии способен поразить и их, если не сегодня, так в следующий раз… Поэтому смотрят на пострадавшего с сочувствием. С сочувствием смотрел на Дау-летова и секретарь обкома, приглашенный на бюро. Сочувствие его вызвано было причастностью к судьбе молодого директора: ведь это он предложил кандидатуру Даулетова, он наставлял его, отправляя в совхоз, его в общем-то указания выполнял тот, пытаясь перестроить хозяйство. Сочувственный взгляд секретаря обкома приметил и Нажимов. Приметил и испугался: вдруг да остановит его секретарь обкома, постучит пальцем по столу, скажет: «Сокращайтесь, товарищ Нажимов!» Или — еще хуже: «Не с той стороны подошли к вопросу, товарищ Нажимов». Или уже совсем плохо: «Вопрос, по-моему, не подготовлен. Правильнее будет перенести его на следующее заседание». Но секретарь обкома не постучал по столу, не сказал «сокращайтесь». Вообще ничего не сказал. Прослушал внимательно Нажимова и отвлекся лишь на секунду или две, чтобы сделать какие-то пометки на листке с проектом решения бюро.
Молчание секретаря обкома вдохновило на критику членов бюро. Правда, они не столько критиковали, сколько выражали недоумение поступками и стилем руководства нового директора. «Жаналык» действительно покатился вниз и — самое печальное — тянул за собой весь район. Когда с трибуны, оттуда, сверху, кидают в тебя словами и каждое увесисто, будто булыжник, особенно когда начинают острить, потешаться над тобой и зал, утомленный напряжением разноса, начинает разражаться смехом, когда кажется, что ты тут один торчишь словно мишень для любого слова и взгляда, то хочется сжаться, спрятаться за спинку впереди стоящего кресла, чтобы мимо-мимо-мимо пролетали и укоры и взоры. Но это поначалу. А после хочется вскочить и заорать, заглушить криком весь этот обвал красноречия. Но и это еще не конец. Под конец уже ничего не хочется. Чувствуешь, что не спрячешься и не крикнешь. Чувствуешь, что земля ушла из-под ног и ты висишь в каком-то пустом пространстве и внутри у тебя тоже пустота.
Даулетова впервые в жизни разбирали по косточкам и каждую косточку обсасывали всласть. Впервые в жизни его разбирали при всем честном народе, и он вдруг подумал, что надо писать заявление с просьбой «освободить» от всего: от обязанностей, от должности, от прав и от необходимости выслушивать все эти словеса. Жаксылык никогда не считал себя гордым и заносчивым, но подобные удары даже его отнюдь не больное самолюбие не могло выдержать. «А каково же было Сержанову?! Он-то как это сносил? Вот какой кувырок судьбы. Сперва я Сержанова, теперь они меня. Вот такая диалектика, друг Даулетов».
Повис, повис Даулетов как воздушный шарик, закачался в воздухе, поплыл, и, если бы не вмешательство секретаря обкома, не вернуться бы ему на землю.
— Как объясняет создавшееся положение директор «Жаналыка»?
Мамутов, сидевший рядом с Даулетовым, шепнул:
— Давайте все начистоту!
Хорошо, что шепнул. Спасибо, Мамутов.
— Товарищи! — поднялся Даулетов. — Маленькая заслуга хозяйства, которую отметил товарищ Нажимов, выполнение плана по молоку и бахчевым, тоже выдумана. Это не заслуга наша, а наше преступление.
Все, кто был в зале, подняли головы, чтобы увидеть человека, произнесшего такую невероятную фразу. Не звучало еще в стенах райкома признание директора совхоза в совершенном им преступлении. Конечно, среди директоров не было невинных младенцев, непорочных дев и ангелов божьих, те или иные грешки за каждым водились. Но чтобы вот так о себе с трибуны… Ну, Даулетов! Ну, оригинал!
— Не сдавали мы молоко на молокозавод. Мы — купили его. А овощи продали месяц назад на рынке спекулянтам, деньги же внесли согласно твердым оптовым ценам ларькам «Заготплодоовощ». Вот как мы выполнили половину плана за три дня.
— Даулетов! — прервал директора «Жаналыка» секретарь обкома. — Вы даете себе отчет в том, что говорите?
— Даю!
Вызов, звучавший в ответе, смутил секретаря: не в себе, что ли, Даулетов, или довели человека до такого состояния, что пустился на саморазоблачение? Он решил перекинуть мостик через пропасть, в которую явно метил новый директор «Жаналыка».
— Вы дали указание прибегнуть к нарушению закона?
— Никаких указаний я не давал.
Нажимов почуял неладное с ходом изобличения Даулетова и кинул реплику:
— А как же со сводкой? Под ней стоит ваша подпись.
— Я подписал сводку, еще не зная о жульничестве. Оно раскрылось только вчера. От подписи отказаться не могу. Действительно моя рука. Незнание не оправдывает меня.
Все видели лицо Даулетова, и все же людям хотелось еще лучше разглядеть этого отчаянного директора. А может, свихнувшийся? Нормальный разве понесет такое?
— С урожайностью вас тоже обманули? — перебросил еще одну досточку через пропасть секретарь обкома.
— Нет. Я сам себя обманул, — не пошел по досточке Даулетов. Опять норовил кинуться головой вниз.
— Каким образом?
— Включив скрытые посевы в общую посевную площадь совхоза, я тем самым разделил валовой сбор на почти в полтора раза большее количество гектаров. При плановом урожае в тридцать центнеров хлопка в среднем с каждого из семисот гектаров мы с каждого из тысячи ста гектаров получили где-то около двадцати центнеров.
— Ой-бой! — вздохнул кто-то в зале. Двадцать центнеров — это исходный рубеж для новых земель. Его давным-давно перешли. О нем просто забыли.
— Конечно, я мог бы не включать скрытые посевы в план, как это делалось прежде, мог бы не мальчишкой провинившимся чувствовать себя сегодня, а королем. Но совесть моя и секретаря парткома Мамутова, а также точный экономический расчет не позволили это сделать. Нам советовали хотя бы повременить до следующего года. Вот-де будут составляться новые планы, тогда и… Но и на это согласиться мы не могли. Во-первых, нельзя сначала признать, что махинации допустимы, и потом искоренять их. Не поверят люди, сочтут это новой хитростью нового директора. А во-вторых, в будущем плане существующие «скрытые гектары» станут считать освоением новых земель. Нам могут и не запланировать такого освоения. Теперь же мы откровенно говорим: да, у нас площади больше, чем указано в отчетах, и со следующего года нам нужны законные, легальные фонды, семена, техника, горючее и прочее — в общем, все, что положено.
— А что, земля «Жаналыка» не способна давать больше двадцати центнеров с гектара? — спросил секретарь обкома.
— Почему же? Убежден, что может дать и тридцать три, хотя климат у нас суровый, нехлопковый, как говорят. Для тридцати же требуется более тщательная обработка почвы, полная норма удобрений, рациональные поливы.
— Пытались все это дать земле?
— Пытались, конечно, но обработка сразу исключилась, поскольку пришел я в совхоз в конце мая, когда хлопчатник уже пошел в рост. В полной норме удобрений нам отказали, так как плановые площади, то есть утвержденные раньше, получили удобрение, а скрытые в разнарядку не вошли. Можно было добыть удобрения «левым» способом, но я этой техникой еще не овладел и, наверное, уже не овладею. Воду посевы получили, хотя нам поставили в укор большой перерасход влаги. Ну вода, сами понимаете, достается пока еще не левым способом.
Не только члены бюро, но и секретарь обкома тяжело вздохнул. Преподнес Даулетов острое блюдо. Переперчил. И преподнес, когда изменить уже ничего нельзя, нельзя положение поправить.
— Значит, катастрофа наметилась давно и предотвратить ее было не в ваших силах, Жаксылык Даулетович?
— Давно, — признался Даулетов. — Предотвратить мы пытались. Сами… Как умели…
— А умели?
— Нам казалось.
— В таких вещах самодеятельность неуместна. Два человека, директор и секретарь парткома, пытаются повернуть хозяйство на правильный путь! А люди? Люди-то вас поддержали?
— Нет.
Это было уж слишком. Самые равнодушные, а такие тоже участвуют в заседаниях, и те ужаснулись. Ему, этому Даулетову, головы не жалко. Да за такое «нет» взашей погонят с должности и еще вслед строгача пошлют. Партбилет, между прочим, тоже могут отобрать.
Даулетов почувствовал, как сгущается тишина, и понял, что хватил лишнего. Вернее, сказал не так, не совсем точно. И поправился:
— То есть кое-кто поддерживает… Несколько человек…
— Кто они, эти кое-кто?
— Бригадир-рисовод, хлопкороб, механизатор — председатель группы народного контроля… Шофер…
По залу пролетел легкий смешок.
— Не густо. А остальные?
— Остальные не поддерживают, — упрямо повторил Даулетов и, помолчав, добавил: — Пока…
— Вообще никого не поддерживают?
— Почему же? Поддерживают товарища Сержанова. Даже любят. — И опять добавил: — Пока…
Секретарь обкома улыбнулся. Забавно отвечал Даулетов на вопросы. Слишком уж прямо. И пожалуй, слишком искренне. Подкупающей была искренность и чрезмерной. Так, пожалуй, тоже нельзя. Ведь не на исповеди же, не на свидании и не в обнимку с дружком за дастарханом. Душу надо, конечно, открывать, но не выворачивать же наизнанку на каждом совещании.
— Странный народ жаналыкцы, — объяснил Нажимов. — Непонятный…
— Да нет, понять его можно, — полез в рассуждения Дау-летов. — С Сержановым ему было хорошо, со мной плохо.
Глянул еще раз секретарь обкома на Даулетова, загадочно как-то, не то с осуждением, не то с сочувствием, и сказал:
— Дело как будто ясное. Надо принимать решение…
Бюро райкома партии большинством голосов вынесло строгий выговор директору совхоза Даулетову и секретарю парткома того же хозяйства Мамутову и потребовало от них в кратчайший срок ликвидировать недостатки в руководстве хозяйством.
15
О решении бюро райкома жаналыкцы узнали в тот же день. Подробности, конечно, не дошли до них, но то, что Даулетов и Мамутов схлопотали по строгачу, стало известно сразу. Отнеслись к новости, разумеется, по-разному. Одни обрадовались, даже злорадствовали. Другие оставались равнодушными. Третьи — и их большинство — сочувствовали. И не потому, что успели полюбить Даулетова, и не потому, что во всем соглашались с действиями директора и парторга, а потому, что сочувствие — самое естественное, самое нормальное, самое человеческое отношение к пострадавшим, потерпевшим, наказанным. И естественному нормальному человеку кажется, что наказание слишком уж сурово, особенно если осужден не кто-то посторонний, а знакомый. Но выражать сочувствие им было некогда.
Наступили самые жаркие дни для жаналыкцев. Жаркие, хотя осенью уже повеяло и солнце не жгло как прежде. Нет-нет да и набегут облака на край неба, а с края-то и начинается непогода, и жди ее со дня на день. До непогоды надо было убрать с полей и хлопок и рис, провести последний укос клевера, повалить и засилосовать кукурузу второго сева. Дел невпроворот, и все дела срочные, все горящие. Люди в это время уже не ходили, а все чаще бегали, сновали. Редко входили в кабинет, чаще врывались.
Ворвался и Елбай. Он буквально влетел в кабинет Даулетова и прямо на стол директору шлепнул бумагу: «Ведомость».
Уже не первую ведомость подсовывал Елбай директору на подпись. Десятки фамилий стояли в графе «ФИО» и против каждой указывалась выработка и сумма к выплате. В самом низу, рядом со словом «итого», значилось шесть тысяч рублей.
— Сумма все увеличивается и увеличивается, — скосил глаза на правый нижний угол листа Даулетов.
— Поощрять людей надо, Жаксылык Даулетович, — вкрадчиво произнес Елбай. Глаза глядели по-лисьи. Так, наверное, лиса смотрит на ежа, которого нужно бы съесть, да вот колючки мешают.
— Надо поощрять, — согласился Даулетов. — Только кого и за что…
— Наших помощников за старания.
— Я тут вижу знакомые фамилии, они уже были в предыдущей ведомости…
— Глаз у вас острый и память цепкая, Жаксылык Даулетович! — колюче похвалил Елбай. — Были эти фамилии.
— Но среди членов бригады и жителей аула таких людей нет.
— Проверяли?
— Проверил. И не я один.
— Бдительность, Жаксылык Даулетович, у вас тоже завидная. Людей этих в нашем ауле точно нет. Они приехали из разных мест, чтобы помочь нам в трудную минуту. План-то, по вашей милости, срывается. С такой большой площади хлопок своими силами не соберешь.
— Похвально, что бригадир привлекает к сбору урожая силы со стороны. Но привлеченные вами люди на поле ни разу не выходили и ни одного грамма хлопка не собрали. Фартук, если они его надевали, наполнялся не хлопком. Кое-чем другим. Подозреваю, деньгами. — Даулетов впился взглядом в бригадира. Придирчивым, испытующим. Надеялся поразить Елбая, смутить хотя бы. Но не тут-то было.
— Не в фартук деньги кладут, Жаксылык Даулетович, — ехидно усмехнулся Елбай. — В карман обычно кладут…
— Сидя дома, за пиалой чая или водки? — подсказал Даулетов.
— На те деньги, что значились в прошлой ведомости, водку не купишь. Чай только. В этой сумма посолиднее. Выпьют водки и, возможно, конь'яку. У кого какой вкус. Но, полагаю, ни водка, ни коньяк их не интересует. Вы, кажется, не пьете вообще?
Нельзя было, видно, ничем сбить наглость с Елбая, и Даулетов ответил тем же:
— Ошиблись, Косжанов, запамятовали. В поле вместе с вами осушил термос водки. Теперь за это расплачиваться надо.
— Уже расплатились! — торжествующе улыбнулся Елбай. — Вы думаете, на хлопкопункте нам два процента пишут за ваше доброе имя? Нет, мы платим за это.
Даулетов почувствовал, как немеет сердце.
— Сколько платим? — спросил он тихо и угрожающе.
— Пока недорого. Теперь требуют тысячу за десять тонн. Сорок тонн дают, четыре тысячи надо выложить.
— По ведомости — шесть тысяч.
И тут Елбай не дрогнул. Мало того, решил, что теперь уже можно и поторговаться. Для этого, собственно, он сюда и явился.
— Две тысячи нам вернут.
— Хлопком?
— Деньгами. Наличными.
Немота не покидала сердце. Оно тяжелело, как тяжелеет сжатый кулак.
— Что значит наличными?
Теперь Жаксылык почувствовал, будто между ребер ему сунули палку. Так суют палку меж прутьев клетки, чтобы подразнить зверя.
— Это значит — дадут мне две тысячи. Одну оставлю себе, вторую…
Он не договорил и в упор глядел на Даулетова.
— Вторую мне? — подсказал тот. Тихо подсказал, почти шепотом, и тем придал смелости Елбаю.
— На зарплате ведь далеко не уедешь. Какая она, зарплата-то? А тут семья, дети…
— Одна дочка у меня, — снова уточнил Даулетов. И снова тихо.
— Одна ли, три ли, все семья…
Встал Даулетов, бледный, и сквозь стиснутые до боли зубы прошипел:
— Вон!.. Отсюда!..
Елбай не тронулся с места.
— Вон! — это уже был крик. Елбай отошел к двери и гаркнул:
— Дурак! Думаешь, отмоешься? Нет! Прежняя ведомость тоже была липовая…
Даулетов шагнул, чтобы схватить и, может быть, ударить Елбая. Кулак, во всяком случае, был сжат и рука поднята. Но Елбай шмыгнул в коридор и захлопнул за собой створку. Из-за двери Даулетов услышал:
— Не отбрешешься… Не открутишься…
Створка двери испуганно взвизгнула и начала медленно открываться. Старый Нуржан лежал на тахте в отведенной ему комнате. Лежал он лицом к пестрому ковру, спускавшемуся от самого потолка. Ковер яркий, узор по нему мелкий, витой, и, когда нечего делать, рассматривать его можно часами.
В простенке между тахтой и шкафом прятал старик свой протез — он знал, что людям почему-то неприятно видеть эту штуку. Отстегивая его, он всегда приговаривал: «Пусть отдохнет» — то ли о живой ноге так говорил, то ли о деревянной.
Комната была просторной, но загромождена мебелью столь тесно, что старику, чтобы добраться от тахты до двери, приходилось протискиваться боком между столом и сервантом, который не дай бог задеть, а то полетят с него разные статуэтки и побрякушки.
Старик, не меняя позы, повернул голову: взглянуть, кто это пожаловал к нему? Для брата вроде рано. А сноха входит не так, не крадучись, а быстро и по-хозяйски.
— Ассаламу-алейкум, достопочтенный Нуржан-ага! — раздалось из-за двери, и только после этого в проеме показалась голова Завмага.
Старик удивился не столько неожиданному визиту, сколько тому, что в столь узкую щелочку могло протиснуться столь широкое лицо. Но вот и весь Завмаг просочился, и створка, вторично пискнув, затворилась.
— Пришел осведомиться о вашем здоровье, аксакал. Не нужно ли чего? Может, лекарство какое?.. Я ведь могу, сами понимаете.
— Покуда жив-здоров. А за заботу спасибо. — Нуржан и не думал поворачиваться к непрошеному гостю. Заметив это, Завмаг нарочно сделал упреждающий жест рукой:
— Ничего, ничего, лежите, пожалуйста. Я на минутку. Не стану вас беспокоить и утомлять. Как понравились подарки?
— Подарки брата всегда приятны. — Старик сделал упор на слове «брата», как бы намекая, что постороннему не следует соваться в семейные дела.
— Может, еще чего надо? — Завмаг в свою очередь выделил это «еще». — Может, что-нибудь дефицитное. Если не для себя, так для дочки. Она ведь молода и красива. Девушкам многое хочется… — здесь он опять сделал значительную паузу, намекая, что в словах его скрыт какой-то дополнительный смысл, но, заметив, что старику не нравятся эти потайные намеки и что он готов отшить навязчивого пришельца, тут же поспешно добавил: — Не стесняйтесь. Просите что хотите. Я всегда рад…
— С чего такая страсть к, благодеяниям?
— Вот уж что верно, то верно, достопочтимый аксакал. Люди всегда с подозрительностью относятся к добру. И неспроста. Ох, неспроста. Некоторые шутят: за любое благодеяние надо расплачиваться. Их называют циниками. Но в каждой шутке лишь половина шутки, а вторая половина, к сожалению, правда. Один знакомый даже доказывал мне, что добродетельный человек обязательно в конце концов должен пострадать: если он не пострадает, то окажется, что делать добро очень легко и приятно. И все захотят делать добро. А раз так, то оно станет обычным делом и потеряет свою цену. Вы, аксакал, видите, какой необычный ход мыслей.
Старик никак не выразил своего отношения к философическим изыскам Завмага, и тот, помедлив полминуты, продолжал:
— Как интересно порой оборачивается судьба. Нашел человек птенца. Поднял, обогрел. Накормил. С ладошки своей накормил. А выкормыш подрос и превратился в ястреба и унес последнюю курицу со двора своего спасителя. Да что там курицу. Унес, украл, заклевал птицу райскую, птицу счастья закогтил.
— Это кто же курица: не братец ли Ержан?
— Вот и Ержана Сержановича Даулетов тоже обидел.
— Что значит тоже? — Нуржан приподнялся, опершись на локоть. — А птица райская уж не ты ли?
— Куда мне. Я птенец индюшачий. Райская-то пташка одна у вас, Шарипа, доченька ненаглядная. Я видел недавно, как они с Даулетовым гуляли в поле.
Есть люди, в чьих устах обычные слова звучат оскорбительно, мерзко. Тошноту вызывают. Именно так произнес Завмаг слова «гуляли в поле».
— Ах ты мразь! — старик напрягся. — Убирайся! И чтоб духу твоего!.. А не то!..
Но Завмаг и не думал сниматься с места. Он сидел далеко и понимал, что старику до него не добраться, в случае чего дверь рядом. Нет, ретироваться он не намерен. Не за тем шел. Глаза его сузились, и потекла по губам склизкая, плачущая улыбка, какая появляется у отъявленных бандюг, когда они, вынув нож, медленно, враскачку приближаются к жертве.
— Правду говорят, что часто у людей, берущихся разделывать баранью голову, у самих мозги бараньи.
— Что?!
— А то, старый болван, что дочь твоя шлюха директорская! Шлюха!!
Одним рывком взмыл Нуржан с тахты. Метнулся. Не устоял. И со всего размаха — виском об острый угол стола…
Завмаг выждал минуту.
Старик не поднимался.
Завмаг тихо на цыпочках приблизился и наклонился над ним.
Он сдавленно хрипел.
Завмаг вернулся на прежнее место и вдруг заорал:
— Горе! Фарида, горе! Ой горе, горе, Фарида!
Уже под вечер, когда Даулетов был на ферме, проверяя закладку силоса в траншеи, подъехал Мамутов. Встревоженный, мрачный и словно виноватый.
— Товарищ директор! — сказал он холодно. — Поговорить надо. Я ждал вас в конторе. Не дождался…
Официально как-то прозвучало это.
— Срочное что-то? — удивился Даулетов.
— Не то чтобы срочное, но важное. Неприятное, главное.
— Попроще нельзя? — поморщился досадливо Даулетов.
— Можно…
Мамутов отвел Даулетова в сторонку, подальше от людей, суетившихся возле машин, груженных зелеными стеблями кукурузы.
— Ну что там у вас?
— Не у меня. У вас. Письмо из райкома пришло.
— О чем? Где письмо? — стал нервничать Даулетов.
— Письмо со мной, но не вам адресовано, — продолжал официально Мамутов. — Партийной организации «Жаналыка». Мне, как секретарю, предлагают разобраться.
И тени наигранности не было в голосе Мамутова. Он был действительно огорчен и встревожен.
— Ну хорошо, — перешел тоже на официальный тон Даулетов. — Есть письмо, разбирайтесь, судите. Хотя я даже отдаленно не представляю себе, что это может быть и почему меня надо судить. За что? Объясните, в конце концов.
— Не здесь же! — Мамутов кивнул в сторону работавших животноводов, давая понять, что содержание письма не подлежит разглашению. Они отошли еще метров на сто.
Мамутов дал прочесть Даулетову письмо, поступившее из райкома. Короткое письмо. Тетрадный листок с обеих сторон. Небольшое, но страшное. Назван был в письме Даулетов морально разложившимся типом, двоеженцем, позорящим имя руководителя и коммуниста. Одна жена находится в ауле, другая в райцентре. У одной восьмилетний ребенок, у другой ребенок ожидается. Имена обеих жен названы, названы и адреса. В конце приговор: «Может ли такой человек руководить коллективом и носить в кармане партийный билет? Люди не хотят подчиняться моральному уроду и идти за ним».
Подписи не было.
Пока Даулетов читал, секретарь парткома смотрел в степь. Лишь когда почувствовал, что письмо прочитано, повернулся.
— Анонимка, — подтвердил Мамутов. — Они в райкоме не должны такие письма рассматривать. Однако… Нажимовские штучки. Переслали нам. Я тоже имею право не рассматривать, но письмо на контроле. Будут спрашивать. Мне нужна полная уверенность, что…
Мамутов говорил строго и назидательно, пока не заметил, что Даулетов не слушает его. Он стоял задумчивый и отрешенный. Ничего вроде не существовало вокруг. Глаза открыты, но не видят. Ослеп, что ли, Даулетов?
— Неправда все? — спросил Мамутов уже другим тоном. Даулетов молчал. Он все еще будто и не слышал и не видел никого.
— Неправда ведь? — повторил Мамутов. Повторил, подсказывая слово.
Даулетов не принял подсказку:
— Правда!
Задохнулся Мамутов. В нем словно взорвалось что-то. Нервы взорвались. Вспыхнули, как закоротившиеся провода.
— Как посмел? — он даже не заметил, что перешел на «ты».
— Я люблю этого человека, — Даулетов ответил просто и как-то обыденно.
— Он любит! Ты что, один на земле? Один такой поэтичный, романтичный? У одного тебя сердце есть? Да? Одному тебе любить хочется?
— Всем, — согласился Даулетов. — Но мне тоже.
— Все правда? — еще раз спросил Мамутов.
— Не знаю… — Он действительно не знал, беременна ли Шарипа, или врет осведомитель.
— Не знает он. А то, что тебе тысячу человек доверили, это знаешь? Что нет у тебя права подводить их — знаешь?
— Я не узнаю тебя, Мамутов.
— Что из того?
— А то, что мог бы понять. Понимал меня прежде…
— И сейчас понимаю, да оправдать не могу. Дело мы начали… Дело! А ты его предал…
— Не смей так!
— А как? Думаешь, пойдут теперь люди за нами? Жди! Думаешь, в нюансах твоей души разбираться будут? Как же… Нравственность экономики… Нравственность! Ты теперь забудь это слово. Не дай бог кто услышит — засмеют.
Хлестал Мамутов Даулетова. Горечь, боль свою вымещал.
— И ее не пощадят, — продолжал он.
— Ее-то за что? — взмолился Даулетов.
— За что? А за то, что такие дела в одиночку не делаются. Разве один шел над пропастью?
— Прости, Мамутов!
Секретарь не понял, к чему это сказано. Не его одного обидел Даулетов. Да и не в обиде дело. Зачем же перед ним каяться?
— Что ты?
— Прости! Потом доругаешь меня. Казнишь, может быть. Заслужил. Но ее нельзя… Нельзя, Мамутов, понимаешь?
И он, махнув как-то безнадежно рукой, бросился к своему «Москвичу», сиротливо стоявшему возле скотного двора. Бросился не оглядываясь, не обращая внимания на крик Мамутова:
— Не смей! Не делай этого!..
16
Солнце уперлось в горизонт, но тяжелая массивная туча надавила справа и сверху, словно сталкивая его за край земли. Столкнула. Заслонила собой малиновую полоску заката, а затем и прозрачную синеву сумерек. День не угас, а оборвался, будто щелкнули выключателем, и наступила тьма.
Много машин шло в райцентр. К вечеру возвращаются домой рабочие насосной станции, смотрители коллектора, кооператоры, доставляющие товары в степные аулы.
Среди грузовых и легковых бежал и «Москвич» Даулетова. Бежал резво, торопился. Хотя резвости у него настоящей уже не было — возраст не тот и силы не те. Скакуны к старости не обгоняют соперников, стараются лишь не отстать. «Москвич» не отставал поначалу. Но только поначалу. Километров через десять оказался один на дороге. Умчались спутники.
Ночь. Степь. Уже не бескрайняя и вольная, как днем, а сжавшаяся, как туннель, кажется, протяни руку — и упрешься в край. Темнота охватила машину, она приникла к стеклам, она, кажется, давила на крышу. Она словно просочилась в сознание и заволокла мозг Жаксылыка. Лишь где-то в глубине, там внутри, чуть ли не у затылка, пульсировало, вспыхивало мигалкой имя: «Шарипа, Шарипа, Шарипа…»
Он не знал, найдет ли ее, застанет ли дома? А если найдет, что скажет? Он вообще сейчас ничего не знал. Не понимал. Не думал ни о чем. Он сидел недвижно и неотрывно, немигающим взглядом смотрел на дорогу, а она все тянулась и тянулась, лишь изредка по краям ее выскакивали белые ограничительные столбики, словно суслики в степи.
Он так бы и сидел, если бы что-то не начало беспокоить его, тревожить. Сначала даже не понял, что именно. Потом догадался. По зеркальцу метались два огонька. Они простреливали черноту, уходили за рамку и потом снова медленными трассирующими пулями пересекали зеркальце.
Сзади шла машина. Шла к райцентру, и ничего необычного в том не было. И все же неожиданность ее появления удивила Даулетова. Он, оказывается, не один в степи; уже свыкся с одиночеством, и вот еще кто-то. Двое теперь на дороге, а может, трое или четверо.
По вспышке Даулетов определил, что не легковая шла сзади, а грузовая. Фары высоко, широко поставлены, и свет их слишком резок.
«Торопится, как и я, — подумал Даулетов. — И ему надо поспеть».
Вновь запульсировало в мозгу: «Шарипа, Шарипа, Шарипа…» — и вновь трассирующий свет оборвал пульс.
Грузовик, не в пример даулетовскому «Москвичу», торопился умело. Свет возникал все ближе и ближе. Явственно слышался рокот мотора и громыхание скатов. Тяжелая была машина. Дорога вздрагивала под ней, и эта дрожь ощущалась Даулетовым.
Он подумал: «Горят ли сигнальные фары?» Проверил. На щитке четко обозначилось — горят! Раз горят, значит, водитель увидит.
«Не надо думать об этом. Все нормально. Надо думать о Шарипе. Только о ней! Только о ней! И спешить, спешить…»
Но фары сзади мешали думать. Сбивали мысль. Вселяли тревогу, неясную, ненужную и необъяснимую.
Он оглянулся. Почему-то оглянулся. И понял, отчего родилась тревога. Сзади шел самосвал. Он был убежден, что это самосвал, и чудилось ему, что даже во тьме кромешной он различал его нелепый силуэт.
Самосвал шел вслед «Москвичу», не собираясь обходить его. Фантастически яркие лучи фар, то возникавшие, то исчезавшие, выдавали злобную нервозность водителя. Он играл огнями, дразня и пугая Даулетова.
Самосвал! Почему все-таки самосвал?
Он вспомнил старика Худайбергена. На обочине… Мертвого… Сбитого машиной. Говорили, что сбил самосвал, идущий в райцентр.
Мысль соединила прошлое с настоящим.
Уйти! Даулетов прибавил газ, и «Москвич» вроде побежал быстрее. Во всяком случае, ветер зашумел в боковом стекле, и лента шоссе стремительнее понеслась под колеса.
А не ушел. Ровно метрах в пятидесяти, не меньше ни больше, как прежде, катился самосвал. Катился уверенно.
Свернуть! Он посмотрел вправо. Дорога лежала на одном уровне с землей, и самосвал мог свободно пройти следом за «Москвичом» и смять его.
Выброситься из машины! Дверца открывается вперед. Прыгать придется под колеса собственной машины или под колеса того же самосвала.
Ничего не делать! Ехать как ехал. «Спокойно! Спокойно!» — твердил он себе.
Сейчас сбросит газ, и тяжелый самосвал пролетит мимо, как пролетают сотни и сотни попутных машин. Пролетит и сгинет в темноте. А Даулетов вздохнет свободно. Вот-вот. Сейчас.
Впереди показались огни райцентра. Они пересекли черноту длинной тонкой ленточкой. Но Жаксылык почти не замечал их. Маленькое зеркальце заднего вида приковывало взгляд. Оно разрослось и как бы заслонило собой лобовое стекло. Оно, и только оно. И на нем два пугающих огня.
Он чуть повернул, освобождая левый ряд для обгона. Он повернул чуть-чуть…
«Москвич» слетел с дороги, перевернулся и затих мертвой птицей на жухлой траве…
17
Мир возвращался к нему вспышками, осколками, какими-то разрозненными частицами.
Неодновременно.
С паузами.
Первым возник Мамутов. Жаксылык не сразу узнал его: лицо расплывалось. Натужно улыбнувшись, как обычно улыбаются, подбадривая тяжело больных, парторг сказал:
— Живем?
Сил хватило лишь увидеть и услышать. На ответ пришлось собирать новые. А это не просто, когда боль во всем теле, когда голова сжата каким-то раскаленным обручем и гудит, гудит.
— Похоже, что так…
Его подобрал шофер того самого самосвала, который так испугал Даулетова. Водитель увидел, как идущий впереди «Москвич» не вписался в поворот и вылетел в степь, вылетел, кувыркнувшись через кювет. Впрочем, «не вписался» — это так говорится, это для ГАИ. На деле же произошло нечто невероятное: «Москвич», вместо того чтоб сворачивать влево, вдруг резко подался вправо. «Что он!..» — только и успел подумать шофер. Он так и не узнал что. Вытащил Даулетова — дверцу заклинило, хорошо, что оказался он сухощав и легок телом, удалось протащить через окно, — вытащил и, окровавленного, привез в ближайшую больницу. Оттуда позвонили в совхоз, попали на Мамутова, и парторг мигом примчался в больницу к директору.
Даулетов, когда рассказали ему о том, что и как произошло, улыбнулся, превозмогая боль:
— Прямолинейность подвела…
Утром пришла Светлана, невыспавшаяся, заплаканная, перепуганная. Она ничего не могла понять и лишь повторяла:
— Ну как же так? Ну как же так?
А он не мог объяснить, куда и зачем ехал, почему спешил, почему попал в аварию. Не мог. И мучился этим. И чувствовал свою вину. И пытался успокоить жену, поглаживая ее руку кончиками пальцев. Только кончиками пальцев — вся кисть была в гипсе.
В тот же день, ближе к вечеру, его навестили жаналыкцы. Целая делегация. Были тут и Аралбаев, и Худайбергенов, и Жалгас, и еще человек шесть, которых уже знал, но никогда не подозревал даже, что они его сторонники, что они могут так переживать за него. Он говорил несвязно, мешали повязки и швы. Зато слушал. И радовался, слушая. Кажется, он был им дорог. Чем-то дорог. И ему захотелось скорее, как можно скорее поправиться. А он был переломан и перебит, и о возвращении к обычной жизни не могло быть пока и речи. Врачи, во всяком случае, не произносили ободряющих слов «На той недельке…», или «Через две недели выпишем!», или хотя бы «Через месяц…».
На пятый день его навестил секретарь обкома. Просто навестил. Ни о делах, ни о несчастье разговору не было. Только спросил:
— Без вас, Даулетов, кто совхозом занимается?
— Мамутов.
— Сам на выручку пришел или вы назначили?
— Назначил… Я же еще директор.
— Не еще, а директор. И не знаю, удастся ли вам избавиться от этой должности…
Вот и все, что сказал секретарь обкома о делах. Остальное было о жизни. Жизнь-то у него, как и у Даулетова, была трудная. И в семье неблагополучно. Мать болела, сын отбился от рук… Многое может секретарь, многое понимает и, наверное, многое знает. А вот сына своего узнать не в состоянии. Или нет времени…
Даулетов тоже хотел ответить искренностью на искренность, поделиться личным. Хотел, но не смог, вернее, нечем было делиться. С дочкой вроде бы все в порядке. Чудная малышка, умная, отзывчивая. Жена любящая, заботливая. О Шарипе сказать? Так нельзя, не говорят о таком. И не трудность это житейская. Что-то другое. Невыразимое. Тайное.
— Если позволят силы, занимайтесь «Жаналыком», — попросил, уезжая, секретарь обкома. — Не бросайте даже на время хозяйство…
Реимбай бывал каждый день. Привозил что-нибудь, передавал приветы, забирал у Даулетова освободившуюся — посуду. Два раза в неделю с Реимбаем приезжали Светлана и Айлар. Дочурка болтала без умолку, отвлекала его от тревожных мыслей, избавляла от боли.
Как-то, привезя Светлану и Айлар, Реимбай шепнул Даулетову:
— А у нас новость…
Светлана приложила палец к губам:
— Не надо о неприятном!
— Что вы! Для Жаксылыка-ага это приятное известие. — И выпалил уже не шепотом: — Посадили Завмага.
— За что?
— За все, — весело ответил Реимбай. — Обыск был. И дом и магазин опечатали. Теперь мы без магазина…
— Когда забрали? — поинтересовался Даулетов.
— Вчера вечером.
На следующей неделе после большого перерыва появился Мамутов. Преображенный какой-то. В палату вошел с поднятой головой, улыбаясь неведомо чему. Когда заговорил, стало ясно чему.
— Считай, год закончили!
Он обнял сидевшего на койке Даулетова. Осторожно хотел обнять, но не удержался все же и сжал плечо, Жаксылык аж поморщился от боли.
Даулетов, конечно, порадовался, но не за себя, за Мамутова: сделал секретарь невозможное. И огорчился вместе с тем: все важное, все главное прошло мимо. Без нового директора сеяли… без него собрали урожай.
И еще одна печаль угнетала Жаксылыка. Еще одна неизвестность томила его. Та личная и тайная печаль, которой ни с кем нельзя поделиться, та неизвестность, о которой ни у кого не осведомишься. И у Мамутова, конечно, не следовало спрашивать об этом. Но и мучиться уже невмоготу.
— Палван, — сказал он, как бы шутя. — Ты хоть и настойчивый человек, исполнительный, однако не все делаешь, что тебе поручают. Не все до конца доводишь.
Мамутов искренне удивился:
— Не довожу… Что не довел?
— Райком направил тебе жалобу на Даулетова по поводу его недостойного поведения в быту. Разобрался ты в этом деле?
— Вот ты о чем?! — улыбнулся почему-то Мамутов. — Разобрался. Давно разобрался…
— Разобрался и молчишь. А я тут жду приговора. Мамутов протянул руку и тронул плечо Даулетова. Успокоить хотел, что ли?
— Ждешь… Не приговора, однако… — Догадался Мамутов, что в самом деле тревожит друга. — Ее ждешь…
Который раз провинившимся мальчишкой представал перед секретарем Даулетов. Учителем все же был Мамутов, учителем.
— Ну, жду…
Мамутов поднялся с края койки, на которой сидел, и подошел к окну.
— А напрасно… Нет ее… Похоронила отца и уехала…
— Как похоронила? Куда уехала? Зачем?
— Умер старик Нуржан в тот же день, когда ты разбился. Так-то, Жаксылык. Куда уехала, не знаю, а зачем, могу сказать.
Не надо было говорить, Даулетов и сам все понимал.
18
Встал все же на ноги Даулетов…
Совпало это с предзимними холодами. Снег, правда, еще не укрыл землю, но ветер уже нес его из-за Амударьи, и вот-вот засыплет он приаральскую степь.
Утром Реимбай забрал Даулетова из больницы и повез в аул. По примороженной дороге «газик» катился легко и весело, будто летел. Ровно шуршали скаты. В окне посвистывал ветер.
— Не спеши…
Просьба удивила Реимбая.
— Как же не спешить, домой ведь едем… Или не хочется?
— Хочется, хочется, но…
Он сбавил скорость. Сделал это без желания, даже с досадой. Любил стремительную езду. Ведь не пешие, на колесах, чего ж тащиться-то еле-еле.
Даулетов неотрывно смотрел в степь. Будто первый раз Видел ее и боялся пропустить что-то и не заметить чего-то очень важного, чего-то такого, чего, может, и не было в степи. И вообще не было на свете.
На развилке опять попросил Реимбая: — Тормозни у холма.
Это совсем было ни к чему. В ауле ждали их, предупредили, чтоб не задерживались, а тут холм. Пески старой Айлар.
Досадливо прикусил губу Реимбай, но остановился все же. Завидев холм, Даулетов оживился. Не то чтобы повеселел или приободрился. Просветлел, что ли?
«Подниматься нынче вряд ли станет», — подумал Реимбай. Холод, ветер, а директор едва на ногах держится, вернее, на костылях. Поэтому Реимбай не открыл дверцу и не заглушил мотор.
Но все же Даулетов начал выбираться из машины. Выставил сначала костыли, а потом и сам вылез.
Вылез. И ветер тут же окатил его ледяной волной. Да такой мощной и свирепой, что не только больному, здоровому не устоять.
Переждал Жаксылык, пока утихнет порыв ветра. Набычился и пошел. Шел тяжело, неумело. Далеко вперед выбрасывал костыли, потом падал на них грудью, пролетал над дорогой, выставив вперед здоровую ногу, на какое-то мгновение зависал, почти опрокинувшись на спину и упираясь вывернутыми руками в поручни костылей, затем выпрямлялся и снова выбрасывал их далеко вперед.
— Куда вы? — напугался Реимбай. — Нельзя вам!
— Нужно, — ответил Даулетов. Нагнул голову, как конь, идущий против ветра. И, как конь, только стреноженный, заковылял по песчаной тропе.
Реимбай выскочил и побежал было следом:
— Помогу вам.
— Не надо… Я сам.
Костыли мешали, они тыкались в песок, соскальзывали, норовили вывернуться и опрокинуть Даулетова.
— Упадет, сорвется, — шептал Реимбай.
Но он поднялся. Устал невероятно, пот прошиб, губу прокусил — не заметил. Он был счастлив.
Ветер хозяйничал на вершине. Не хозяйничал, а бесчинствовал — рвал, метал, валил.
— Матушка, — прошептал Даулетов. — Вот я из мертвых воскрес. Пришел спросить тебя, доброта-то в чем?
Туча снежная была уже близко, где-то над морем плыла. Ветер торопил ее, мучаясь своим бессилием. Так уж хотелось ему поскорее засыпать степь, этот холм и камень над могилой Айлар.
— В чем доброта? — повторил Даулетов. — Ты назвала меня добротой, а не сказала, как творить ее…
Меркнуть стало зимнее солнце, заслонила его снежная громадина. Холм еще жил в свете, высоким был, а степь у Арала уже погрузилась в сумеречную мглу.
— Доброта в прощении зла, что ли? — допытывался Даулетов. — Или в уничтожении его? Как, матушка? Помнишь, ты говорила, что зло — это одичавшее, распущенное, испорченное добро. И впрямь так. Никто ведь не хочет вреда. Все пекутся о пользе, о благе, но если благо окажется дырявым, если в нем хоть щелка, хоть прореха маленькая — в нее тут же начнет просачиваться вред. Родная земля, когда она плохо обработана; новый проект, когда он недодуман; прекраснейшее из чувств, когда оно становится безоглядным и не желает считаться с умом; ум, когда он вырождается в хитрость, — все самое лучшее, самое святое, все оборачивается злом.
— Пора! — крикнул снизу Реимбай. Даулетов не отозвался.
— И еще я понял, почему ты считала наш аул родиной добра и зла. Невелик Жаналык, но сколько таких аулов. И наша лень, разгильдяйство, чванство, дурь наша способны иссушить моря, поворотить реки, изменить климат половины планеты. Наша лесть, хитрость, изворотливость могут, как эпидемия, заразить миллионы человек. И, напротив, наша добросовестность, наш труд, ум, честь способны растекаться по всей земле и многих осчастливить.
— Нас ждут! — крикнул Реимбай.
— Иду! — отозвался Даулетов, но задержался еще на минуту.
— Вот что хотел я спросить у тебя, старая Айлар. Отчего так получается, что в каждом из нас живет два человека? Один говорит, делает, влюбляется, спорит, ссорится, ошибается. Другой его судит, судит строго и справедливо, не прощает грехов, но сам не совершает никаких поступков. Отчего никак не появится третий, тот, который бы делал и не ошибался?
Даулетов спустился с холма. Спускаться было труднее, чем взбираться. Сел в машину и по дороге думал о том, что не будет уже для него никакой иной жизни, а только эта, которая уже прожита наполовину, а то и больше. И, как говорил старик Худайберген, другой земли тоже никто не даст, а будет только эта, которая к тому же не просто земля, а его земля. И людей других никто не пришлет. Нет, ему, Даулетову, жить и работать с этим составом, с этим народом. С Мамутовым и Сержановым, с «мушкетерами» и Жалгасом, с Реимбаем и Аралбаевым. Других не дадут. А побеждать надо. И победит тот, кто сумеет понять этих людей и поможет им понять самих себя.
Note1
Тулепберген Каипбергенов — Народный писатель Каракалпакстана и Узбекистана. Герой Узбекистана. Лауреат Государственных премий СССР, Узбекистана, Каракалпакстана. Лауреат Международных премий имени Махмуда Кашкарий, Михаила Шолохова, а также премий ВЦСПС и Союза писателей СССР. Победитель конкурсов газеты «Правда» и журнала «Крестьянка». Хаджи.
(обратно)Note2
Курултай — местный, территориальный съезд; собрание, совещание.
(обратно)Note3
Жаксылык — доброта.
(обратно)Note4
Барса-Кельмеc- «Пойдешь — не вернешься», название острова в Аральском море.
(обратно)Note5
Карты — здесь: поливные участки.
(обратно)Note6
Черная шапка — каракалпак.
(обратно)Note7
На территории Каракалпакии есть два места с одинаковым названием — «Пойдешь — не вернешься» — район пустыни и остров в Аральском море.
(обратно)Note8
Ещек-арха — полукруглая глиняная крыша, «ишачья спина».
(обратно)Note9
Чек — участок рисового поля.
(обратно)Note10
А к — ч а й — белый чай.
(обратно)Note11
Каин-ага — старший брат мужа.
(обратно)





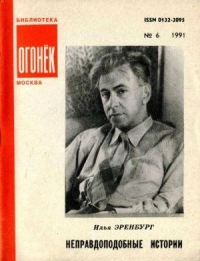
Комментарии к книге «Зеница ока», Тулепберген Каипбергенович Каипбергенов
Всего 0 комментариев