РОМАН-ГАЗETA 18(246)1961 г. 19(247)1961 г.
ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ
Для Всеволода Анисимовича Кочетова всегда был характерен живой интерес к современным жизненным проблемам. Перелистайте страницы его романов «Под небом родины», «Журбины», «Молодость с нами», «Братья Ершовы» — и вы увидите летопись жизни нашей страны в послевоенное время.
Перед вами встанут образы колхозников и рабочих, ученых и студентов, художников и артиетов, передовых людей нашего общества, любовно изображенных писателем в их повседневной жизни, в борьбе за торжество высоких идей коммунизма.
И в новом романе «Секретарь обкома» Вс. Кочетов остался верен себе. Его книга — широкое полотно, отображающее жизнь нашего народа между XXI и XXII съездами партии. В ней даны образы руководящих деятелей и рядовых членов партии, образы передовых беспартийных советских тружеников.
Здесь и первый секретарь Старгородского обкома КПСС Денисов, и секретарь райкома Владычин, и старый большевик Черногус, и писатель Баксанов, и молодая работница Майя, и художница Юлия. Всем этим людям присущ пафос поиска и творческого горения.
Есть в романе и люди, не выдерживающие испытания временем. Это первый секретарь обкома Высокогорский области Артамонов — человек, привыкший командовать людьми, но, когда потребовалась кропотливая, вдумчивая, умелая и конкретная организаторская работа по выполнению ответственных обязательств семилетки, скатившийся к очковтирательству, к обману партии. Это — секретарь Старгородского обкома КПСС по пропаганде Огнев, не имеющий определенных и принципиальных взглядов на явления литературы и искусства, примиренчески относящийся к идеологическим срывам у отдельных представителей творческой интеллигенции. Это и почивший на лаврах, привыкший руководить «вообще» директор химического комбината Суходолов. Это и молодой, с формалистическими, декадентскими «завихрениями» поэт Птушков. Все они терпят поражение потому, что идут не в ногу с жизнью, не отвечают её возросшим требованиям.
Основная удача романа — это образ его главного героя, секретаря обкома КПСС Василия Антоновича Денисова. Человек высокой культуры, смелых поисков и большого личного обаяния, он являет собой пример подлинного партийного руководителя, отдающего все свои творческие силы борьбе за счастье народа. В решении задач коммунистического строительства он находит новые формы руководства и партийного воздействия на умы и сердца людей.
Роман «Секретарь обкома» — страстная книга, ратующая за творческое отношение к жизни, к труду во имя коммунизма, против всего косного, отжившего, что мешает нашему продвижению вперед. Глубокая убежденность автора в правильности отстаиваемых им идей придает произведению большую эмоциональную силу.
Всеволод Анисимович Кочетов родился в 1912 году в Новгороде. Окончив в Ленинграде семилетку, работал в порту и на судостроительном заводе, затем учился в сельскохозяйственном техникуме.
С 1931 года Вс. Кочетов — агроном в совхозах и МТС Ленинградской и Московской областей, с 1935 года — научный сотрудник сельскохозяйственной опытной станции под Ленинградом.
В 1938 году началась журналистская деятельность Вс. Кочетова. В годы Великой Отечественной войны он был военным корреспондентом, сотрудником газеты Ленинградского фронта «На страже Родины».
Его газетные статьи, очерки военных лет, как и первая повесть «На невских равнинах» (1946), посвящены подвигам героических защитников Ленинграда. В повести «Предместье» (1947) показана жизнь прифронтового района. В повестях «Кому светит солнце» и «Нево-озеро» (1948–1949) Вс. Кочетов рассказал о послевоенной гкизни колхозной деревни, ладожских рыбаков. Труженикам колхозного села посвящен и первый роман автора «Под небом Родины» (1950).
В романе «Молодость с нами» (1954) Вс. Кочетов показывает борьбу советских ученых за торжество нашей передовой науки.
Образы передовых представителей русского рабочего класса талантливо запечатлены в широко известных у нас и за рубежом романах Вс. Кочетова «Журбины» (1952) и «Братья Ершовы» (1958).
Читатели глубоко ценят творчество Вс. Кочетова за его партийную страстность, за яркость и самобытность созданных им художественных образов наших современников — активных строителей коммунизма. Нет сомнения, что и новый его роман «Секретарь обкома» будет прочитан с большим интересом.
Г. ХОЛОПОВ
Всеволод Кочетов СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА РОМАН
1
Заседание бюро окончилось в половине шестого. Вопросов было много, потому что, пока Василий Антонович отдыхал в санатории под Москвой, некоторые из наиболее важных дел откладывались до его возвращения.
Первое заседание после отпуска утомило. Начали в десять, в два устроили перерыв на обед, в три продолжили работу, — ничего как будто бы сверх обычного: не раз приходилось заседать и по восемь, по десять часов, и даже без перерыва; но сказывался отпуск, настойчиво напоминал о себе санаторный размеренный режим — без нагрузок, без напряжения, с полным отдыхом тела и в какой-то мере и мысли. Надо было бы после обеда полежать часок да после этого прошагать по лесным дорожкам километров пять-шесть…
Но вместе с тем, беря верх над утомительным напряжением, из-за которого Василий Антонович был вынужден то и дело пересаживаться на стуле или просто-напросто вертеться, в душе у него не угасало бодрое, радостное чувство. К концу дня его серые глаза смотрели из-под загорелого большого лба все так же весело, как смотрели они и утром.
Первый секретарь возвратился в свой обком два дня назад с нетерпеливым желанием работать, работать и работать. Ему радостно было видеть на заседании Лаврентьева, человека инициативного, находчивого, общительного, о котором не скажешь, что он до поста второго секретаря обкома «поднялся на лифте». Несмотря на сравнительно молодой возраст, Петр Дементьевич, ступенька за ступенькой, прошел после армии большую лестницу жизни: был агрономом в колхозе, был председателем райисполкома, работал в облисполкоме. Не скрывая удовольствия, пожал Василий Антонович большую, сильную руку председателю областного исполкома Сергееву, все годы войны провоевавшему в партизанских отрядах; в шутку спросил командующего военным округом, подтянутого сухощавого генерал-полковника Люлько, как у него дисциплинка в войсках; секретарю обкома комсомола Сереже Петровичеву пообещал рассказать что-то очень интересное о комсомольцах.
Весь день лица тех, из кого состояло бюро областного комитета партии, были перед ним. Он всматривался в эти лица, вслушивался в слова, какие говорились на заседании, и вновь входил в привычное, в знакомое, волнующее. Давно ли прогуливался он по лесным санаторским дорожкам, давно ли спину его массировали крепкие и ловкие руки Тамары Ивановны; всего четыре дня назад он пил из мензурки соленое лекарство, принесенное заботливой сестрой Александрой Архиповной, а хмурая девушка из лаборатории излишне глубоко простригла ему палец противно щелкающей железной машинкой — чтобы взять кровь на прощальный анализ; в тот же день, откинувшись в мягком кресле, обтянутом суровым полотном, он ещё смотрел до крайности унылый и в то же время странно бодряческий фильм из жизни рыбаков Аральского моря. И вот все разом отодвинулось так далеко, будто ничего этого никогда и не было. Об отдыхе, о санаторном режиме напоминало только назойливое нежелание спокойно сидеть на стуле.
Закрыв заседание, Василий Антонович ушел в кабинет. Тут тоже все было знакомое, привычное — свое. И хорошо натертый паркетный пол, и высокие окна с приспущенными желтоватыми шторами, которые даже в пасмурную погоду давали хоть небольшое, но все же ощущение солнца, и письменный стол, крытый зеленым сукном, и множество остро отточенных цветных карандашей в стакане из синего хрусталя, и белый телефонный аппарат линии, которая могла немедленно связать Василия Антоновича с Москвой, Свердловском, Владивостоком, — все это по-своему помогало ему в работе, было необходимо, и при встрече с чем после месячного перерыва невольно думалось: «Вот я и дома!»
Дома.… Сейчас он отправится домой, полежит полчасика на диване; а потом, если Соня уже вернулась, можно будет вместе съездить куда-нибудь на речные обрывы или к лесному озеру и подышать воздухом.
Солнце стояло ещё довольно высоко, через приоткрытые фрамуги было слышно, как в парке, окружавшем здание обкома, радостно пели птицы. Листья только-только распускались, были они светло-зеленые, веселые; их запах вместе с порывами майского ветра проникал в кабинет.
Пошагав по ковру, Василий Антонович сел за стол, машинально повернул ключ и слегка выдвинул ящик. Первое, что в нем увидел, была коробка папирос. В санатории он не курил, дал себе отдых и в этом. Отдых окончен, начинается работа, начинается привычное. Предвкушая удовольствие, Василий Антонович долго разминал папиросу в пальцах — табак подсох за месяц; взял было зажигалку, но отложил: запах бензинового дыма испортит первую, самую вкусную, затяжку. Нажал на кнопку звонка и, когда вошел его давнишний помощник Воробьев, попросил раздобыть спичек.
Воробьев держал спички в руках и улыбался.
— Я же знал, чего вам надо, Василий Антонович.
И это тоже было привычное, знакомое, необходимое — чтобы в каких-то случаях его понимали не только с полуслова, но и вообще без слов. Василий Антонович тоже улыбнулся, поблагодарил и, чиркнув спичкой, сделал эту желанную, самую вкусную, затяжку. Сразу слегка ударило в голову, зашумело, в теле возникла воздушная легкость, утомление ушло.
— Василий Антонович, — сказал Воробьев. — Там областной прокурор названивает. Что ответить?
— Скажи, что я уже уехал. Впрочем, с этого начинать не стоит. Соедини. — Василий Антонович взял трубку. Прокурор просил извинения, но дело у него к Василию Антоновичу такое, с каким ему бы не хотелось тянуть: не может ли Василий Антонович принять его ещё сегодня?
Седьмой час, светит вечернее солнце. Где-то за городом речные песчаные обрывы, с которых открываются широкие и голубые дали, где-то весенние пахучие леса с тихими, подобными зеркалам, темными озерами… Соня, наверно, уже давно пришла и ждет его к ужину…
— Хорошо, — сказал Василий Антонович в трубку. — Приезжайте.
Он подошел к окну. Внизу, у служебного подъезда, под зеленеющими липами стояла его машина. Шофер Роман Прокофьевич прохаживался возле нее, отирая тряпкой с черного верха какие-то капли, падавшие с лип. Восемь лет назад Василий Антонович приехал в Старгород из Ленинграда, сначала парторгом на Машиностроительный завод, затем был избран секретарем райкома, затем горкома, вот он уже и первый секретарь областного комитета партии, а Роман Прокофьевич Бойко все с ним и с ним, с заводских времен, из тридцатидвухлетнего стал сорокалетним, отпустил усы, двое ребятишек у него за этот срок родились. До чего же быстро бежит время!
Областной прокурор, седой и расплывшийся, видимо, очень спешил: вошел он, тяжело отдуваясь.
— Понимаю, — сказал, утирая шею платком, — нельзя в первый же день лезть со всякой чертовщиной…
— Напротив, только сейчас и лезть. Пока свежие силы. В чем дело-то? — Василий Антонович был настроен хорошо.
— Две недели назад загорелся дымоход в одном доме, приехали гасить. Стали двигать мебель — то да се: из книг на полке пистолет выпал. Маузер в деревянной кобуре…
— А я вам что, Сергей Степанович, уголовный розыск, что ли? — прервал его Василий Антонович. — У вас есть кодекс, в нем расписаны соответствующие статьи. Что полагается в таком случае, то и делайте. При чем тут я?
— Да ведь это же директор музея истории нашего края, член партии с тысяча девятьсот восемнадцатого года. Хранитель-то пистолета.
— Черногус? — Василий Антонович вынул новую папиросу из стола. — Чепуха какая-то!
— Чепуха-то чепуха, а дело заведено. И по закону…
— Вот и действуйте по закону. Тем более — старый коммунист, должен бы давно усвоить, что безобразничать нельзя. — Василий Антонович хотел встать и этим закончить разговор с прокурором. Но прокурор движением руки остановил его.
— Это ещё не все. С пистолетом разобраться не трудно. Разве бы я вас по такому поводу беспокоил? Есть кое-что более сложное. Когда Черногус был вынужден признать, что пистолет принадлежит ему, и когда работники милиции стали составлять протокол, он наговорил им бог знает чего. Вот листы протокола, вот под каждым его собственноручная подпись. Почитайте, пожалуйста, сами.
— «Пистолет храню с дней борьбы против белогвардейцев, — читал Василий Антонович. — Это мое боевое оружие, с которым я завоевывал Советскую власть».
Протокол был короткий — много ли нарасписываешь про старую, свое отжившую пищаль? Но запись того, что наговорил Черногус в милиции сверх протокола, занимала пять страниц на машинке. Он говорил, что нарушил только одну статью закона, а есть люди, нарушающие их десятками. Он говорил о браконьерах из числа руководящих областных работников, которые бьют лосей и глухарей без разрешения, ловят рыбу в заповедных озерах. Он говорил о том, что в области не мыслят по-государственному: сеют овёс да сажают картошку, ведут бедняцкое хозяйство, не видят перспектив, не желают смотреть вперед. Что виноват в этом областной комитет и прежде всего его секретарь товарищ Денисов, Василий Антонович, который, как прилежный гимназист, знает только от сих до сих и за пределы чего даже и не пытается перешагнуть. «Вот на кого составляйте протоколы! — восклицал Черногус. — Вот кого привлекайте к ответственности: которые утратили революционную страстность в делах и превратились в мелких деляг».
Папироса у Василия Антоновича погасла. Он положил её на край пепельницы.
— Вот так критик! А моя жена его хвалит. Она у нёго в музее научным сотрудником…
— Знаю. — Прокурор коротко кивнул.
— Вот хвалит, а что получается? — Василий Антонович в раздумье смотрел на то, как его собеседник, достав из жестяной баночки ментоловый леденец, отправил его в рот.
Читать, что наговорил Черногус, было неприятно. Озлобленный, вздорный старикашка. Это правда, конечно, что, когда Черногус вступал в партию, ему, Василию Антоновичу Денисову, не было и шести лет. Это правда, что революцию он, Василий Антонович, не делал, что в годы Ожесточенной борьбы партии против троцкистов, против уклонистов всех мастей отнюдь не был на передовых позициях: по молодости своей он и не очень-то знал, тогда, где эти позиции. Но разве же он гимназист, черт побери! Разве же он деляга, да ещё и мелкий!..
— Что там за пистолет полагается? — спросил раздраженно.
Прокурор пожал плечами.
— От двух до пяти, Василий Антонович.
— Ну и судите его, судите, как требует закон! — Василий Антонович отшвырнул от себя протокол.
— А это? Что с этим?.. — Прокурор собирал со стола листы дополнительных записей.
— С этим?.. — Василий. Антонович с полминуты хмуро смотрел на него из-подо лба так, будто перед ним был сам Черногус. Лицо его постепенно наливалось кровью. — Ну что с этим! — взорвался он. — Это же болтовня, стариковский бред. На гвоздике этому место. Зачем вы мне несли?
— Минуточку, — остановил его прокурор. — Не так все просто, Василий Антонович. Некоторые товарищи из следственного аппарата склонны связывать два как будто, отдаленные обстоятельства: хранение пистолета и недовольство Черногуса партийным руководством области…
— Мне смешно! — зло сказал Василий Антонович. — Этакий, знаете ли, бомбист завелся у нас! Борис Савинков областного масштаба. Умрешь со смеху.
— Я человек немолодой, на своем веку всякого навидавшийся, мне от этого нисколько не смешно, мне грустно, потому что из-за таких и даже из-за куда менее значительных совпадений люди гибли. Василий Антонович, вы сами это знаете, — заговорил прокурор. — Но; я так же, как и вы, не могу не в чем заподозрить Черногуса и поэтому пришел к вам, дабы, если кто станет жаловаться в обком на областную прокуратуру, которая прекратила начатое дело в самом зародыше, вы бы уж знали, в чем оно заключается.
— Ну вот правильно, правильно. — Василий Антонович встал. Он досадовал на прокурора за испорченное настроение, ему хотелось поскорее выпроводить посетителя. Но когда прокурор попрощался и уже дошел до дверей, Василий Антонович окликнул: — А с пистолетом-то как, с пистолетом?
— Как требует закон, так и будет.
— Правильно, правильно, — повторил Василий Антонович.
Отдав распоряжения Воробьеву на завтрашнее утро, он спустился к служебному подъезду, сел в машину рядом с Бойко. Бойко вопросительно взглянул на него.
— Домой, Роман Прокофьевич, домой. Время такое — куда же ещё?
— София Павловна заждалась одна, — сказал Бойко, трогаясь с места.
— Такая уж судьба у наших с вами жен, Роман Прокофьевич. Ждать да ждать.
— Что верно, то верно, Василий Антонович. Моя спервоначалу злилась на меня, думала, на стороне где гуляю. Теперь привыкла, убедилась, что не до гульбы уж нам с вами.
Василий Антонович взглянул на него, улыбнулся.
Машина шла по старинным кривым улицам, вышла на набережную, пересекла реку по мосту, снова скользнула в улицы, но уже в новые, прямые и длинные. Василий Антонович любил этот древний город, который рос на его глазах, который за восемь лет стал для него родным. Из года в год город делался все лучше, все светлее, зеленее и чище. Все дальше в окрестные леса и луга уходили его разрастающиеся окраины. Не только каждой новой площади или улице, не только каждому новому дому, — Василий Антонович радовался даже новому фонарю, новой тумбе для афиш, новой цветной рекламе. Во всем ему виделась доля и его беспокойного труда. Выстроили большой химический комбинат в пригороде, — кто знает, может быть, туда ушла частичка сердца Василия Антоновича: врачи говорят, что оно пошаливает, лишившись этой частички. За машиностроительным заводом разбили площадь и от нее повели радиально пять новых улиц, получился целый красивый район, — и может быть, туда ушло какое-либо сплетение нервов Василия Антоновича: врачи нашли у него перед отдыхом функциональное их расстройство. Дела области — животноводство, зерновое хозяйство, сады, огороды, строительство новых селений — они способны и всю кровь из тебя выпить. Область трудная, земли болотистые, сырые, климат капризный… Холестерина в крови прибавилось, врачи утверждают: печень не так уж образцово работает.
В общем-то никаких болезней, никаких недомоганий Василий Антонович не чувствует. Но чувствует он это или не чувствует, а отдача все равно идет, любое сделанное дело отнимает частицу жизни, и, может быть, в конце концов будет наработано столько, что от тебя-то от самого ничего и не останется. Ну что же, не такой это плохой обмен.
Мысли, подобные этим, хоть и были они немножечко грустные, обычно успокаивали, отвлекали.
На этот раз сквозь них пробивалось тревожное ощущение чего-то сделанного не так. «Черногус, Черногус…» — подумал Василий Антонович.
Конечно асе это Черногус своей злой и неумной болтовней задел за что-то очень больное. Рассуждает, бранится, поносит. А разве знает, он его, Денисова, первого секретаря обкома партии, о котором так развязно и безапелляционно судит? Что он о нем знает? Видел где-нибудь на митинге или в кадрах кинохроники — и все знакомство, года два назад одна старенькая актриса из драматического театра тоже рассуждала на собрании: прошло, мол, время, когда мы играли руководителей, директоров заводов, секретарей обкомов, всяческих ударников и зачинателей, теперь театр стал демократичен — простых людей играем, которые в трамвае ездят, и в очереди в баню стоят, и голову моют. А поиграли так год-другой и за голову схватились: без ударников-то и зачинателей искусству не обойтись, без людей, совершающих дела важные и значительные. Просто, бедолага, сама не знала ни одного директора, ни одного партийного работника, потому и от других требовала их не знать. Так и Черногус: не знает, а судит. Судья!
Хмуро смотрел куда-то вдаль перед собой Василий Антонович. Собственно говоря, и он, в свою очередь, ничего не знал о Черногусе. Соня утверждает, что это отличный работник, энтузиаст своего дела, своего края, Но сам-то Василий Антонович видел хоть раз этого Черногуса, встречался ли с ним? Кажется, нет. Во всяком случае, воспоминаний о встрече у него не сохранилось. Были просьбы, проекты, заявления. Иногда бумаги с просьбами приходили почтой в обком, иной раз их приносила домой Соня. Суть всех просьб сводилась к тому, что музею истории необходимо новое помещение, что ему в старом тесно, что он задыхается от обилия ценных материалов, которые без толку лежат в хранилищах. Помещение! Василий Антонович не знает ни одного учреждения в городе и области, которое не жаловалось бы на тесноту и не требовало нового помещения.
Вот пусть его судят, пусть судят болтуна. В тюрьму, конечно, никто сажать такого не станет. Примут во внимание возраст, заслуги… Какие только, интересно бы знать, у него заслуги? Присудят к чему-нибудь условному…
Мысль о том, что Черногуса к чему-нибудь присудят, почему-то ещё больше раздражала.
В дом Василий Антонович вошел, шагая зло и шумно. Он не заметил бумажек в руках отворившей ему Софии Павловны, не заметил слез в её темных глазах, ставших ещё темнее на побледневшем лице.
— Вася, — сказала она.
— Сейчас. — На аппарате обкомовской АТС Василий Антонович стал набирать номер домашнего телефона областного прокурора. Ему ответили, что тот ещё на работе. Набрал рабочий номер. Когда прокурор отозвался, сказал ему:
— Сергей Степанович, то дурацкое дело с Черногусом надо как-то прикончить. Слушайте, договоритесь вы с КГБ, с МВД, с кем следует… Если не можете вы, поговорю я… Пусть ему дадут разрешение на этот старый пугач. Он ему, может быть, дороже жизни… Пусть дадут разрешение, и пусть пуляет из него по воскресеньям. Можно так сделать? Ну вот, подумайте, подумайте.
Положив трубку, Василий Антонович почувствовал, что развязался какой-то отвратительный, до крайности затянутый узел.
— Соня, — окликнул он весело. — Сонь! Послушай, что твой Черногус натворил!..
— Вася, — сказала София Павловна, появляясь на пороге кабинета. Она протянула ему бланк телеграммы. — Шурик приезжает, Шурик…
— Что ж ты плачешь, глупенькая? — Он взял её за плечи. — Радоваться надо. Странный народ эти матери! — Но глаза у Софии Павловны были такие, что насторожился и он. — Что-нибудь случилось?
София Павловна кивнула.
— Очень плохое случилось, Вася. Сашенька умерла. На, прочти, Вася, сам. На!
2
Особой любви или особой привязанности к жене Шурика, Сашеньке, ни у Софии Павловны, ни у Василия Антоновича, казалось, не было, да ещё и не могло быть. Шурик женился на хорошенькой черноглазой студенточке четыре года назад, едва закончив Ленинградский технологический институт и получив место инженера на химическом заводе. На свадьбу ездила одна София Павловна, у Василия Антоновича времени не нашлось: была очередная горячая пора в области. Софии Павловне Сашенька понравилась, мать радовалась за сына: жену выбрал очень-очень не плохую, ничего не скажешь. Сашенька окончила тот же институт, что и Шурик, но двумя годами позже, успев притом родить сынишку.
Этого сынишку, который Василию Антоновичу приходился внуком, молодые родители дважды привозили из Ленинграда показывать деду. Дед и к своим-то детям не был чрезмерно чувствителен, он не принадлежал к той категории родителей, которые теряют голову, едва их чадо чихнет или шлепнется на пол, проглотит пуговицу или порежет палец. Шлепнулся — ну что ж, вставай, милый, вставай, в жизни не то ещё будет, привыкать надо, закаляться; пуговку проглотил — подождем денек-другой, возвратится из путешествия, никуда не денется; палец порезал — чего уж тут реветь, вот смотри, как надо смазывать йодом, как забинтовывать, чтобы бинтик не слетел через минуту. Не сходил с ума дед и при виде внука. С удовольствием держал его на руках, сажал к себе на колени, но говаривал: не позволяй родителям баловать тебя, им-то потом что, пустят курносого в жизнь, а курносому, балованному, и трудненько будет.
И вот Сашеньки, этой молоденькой мамы, жены Шурика, не стало. Спешила откуда-то домой на такси, автомобильная катастрофа, два дня беспамятства на больничной койке и — смерть. И когда пришла эта никак не гаданная, нежданная смерть, все стало выглядеть по-иному. Оказалось, что Сашенька успела крепко войти и в сердце Софии Павловны, и в сердце Василия Антоновича; оказалось, что они, хотя и видели-то Сашеньку совсем немного, хорошо помнят её маленькую, крепкую фигурку, её красивые руки, быстрые черные глаза и даже коричневое пятнышко на виске.
Почти всю ночь провели без сна, говорили и говорили, думали и думали, решали, как быть с Шуриком, с Павлушкой, которому ещё только три года. Василий Антонович позвонил дежурному в обком, просил заказать билет в мягкий вагон до Ленинграда, а София Павловна продиктовала по телефону на телеграф текст телеграммы Шурику о том, что она приедет на похороны.
— Правильно, правильно, — одобрил Василий Антонович, — как раз успеешь. Шурке легче будет. Да и нам с тобой… Нельзя не попрощаться, нельзя. Какая нелепость, какая нелепость! Черт знает что! Только начали жизнь…
Невозможно даже было решить, кого им больше жаль, о ком больше горит сердце: о Сашеньке ли, о Шурике, о Павлушке? В самом начале пути все сломалось в молодой, дружной, жизнерадостной семье. Семьи уже нет, есть Шурик, сын Софии Павловны и Василия Антоновича, и есть Павлушка, сын Шурика, с которым Шурик не знает, наверно, что и делать. То, что находилось между отцом и сыном, что связывало их, Сашенька, перестало существовать. Шурик не только может обойтись без Павлушки, но Павлушка, пожалуй, ему даже станет мешать; а Павлушка — уж так ли ему будет необходим этот папаша, исчезающий утром и появляющийся поздно вечером? Не ближе ли сделаются ему его маленькие приятели и подружки по детскому саду?
— Самое верное, — сказала София Павловна, — если взять Павлика к нам.
— И ты будешь с ним заниматься? — недоверчиво спросил Василий Антонович.
— Что ж, и я. Когда останется свободное время. А вообще-то можно же няню пригласить.
— Няню! — Василий Антонович усмехнулся. — Ты поищешь эту няню. А если и найдешь, то намучишься с ней. Посмотри в нашем скверике завтра, как там эти няни занимаются с ребятишками. Во втором подъезде профессор Спичкин живет, математик…
— Ну знаю, знаю: Спичкин! — перебила София Павловна. — На молодой женился с запозданием, в пятьдесят восемь лет родил дочку, сам вечно занят, жена в педагогическом учится, его студентка, тоже некогда ребенком заниматься…
— Я ж тебе и говорю: посмотри, как нянька пасет их девчонку. Сидит целый день, с другими такими же тетками судачит, а ребенок что хочешь, то и делай. Хочешь — в нос жука засовывай, хочешь — из урны для мусора окурки жуй…
— Вася, ну что ты, ей-богу!
— Именно так. Сам видел. «Няню пригласим!» — передразнил он ещё раз. — Кардинальное решение вопроса.
В середине ночи — как-то так пришлось по ходу разговора о стариковских прихотях — Василий Антонович вспомнил начальника Софии Павловны, Черногуса.
— Тоже младенец нашелся, пистолетик завел, балуется в свободное время, а ведь, по твоим словам, отличнейший человек. Отличнейший!
— Да, очень умный человек, очень эрудированный и преданный делу.
— А ты знаешь, что этот умный человек наговорил о твоем муже? — Василий Антонович, усиливая и сгущая выражения, стал передавать Софии Павловне то, что было записано в милиции со слов Черногуса.
— Не может быть, — повторяла София Павловна недоверчиво и несколько растерянно. — Не может быть. А ты уверен, что они не наврали?
— Какой смысл это врать. Да они и не смогли бы так придумать. Тут же чувствуешь человека, его характер, строй мысли.
— Мне он никогда ничего подобного не говорил, хотя мы вот уже скоро семь лет, как работаем вместе. Удивляюсь, удивляюсь, Вася.
— А это всегда так: надутый пузырь надо чем-нибудь кольнуть, царапнуть, чтобы его прорвало. Пока не царапнешь, он этакий округленький, сияющий, радужный…
Сидели молча, раздумывали.
— А ты бы встретился с ним, Вася, поговорил бы, — сказала София Павловна. — Он же в партии…
— Знаю, знаю: с восемнадцатого года. Не о чем мне с ним говорить, Соня. Пошел он… Примется развивать философию о том, как было в их время и как стало в наше время.
— А может быть, о том, как было в их время, не следует забывать?
— Да, да, конечно, ты историк, для историка существует только прошлое, «как было». А я практический работник, Соня, мне важнее настоящее, понимаешь, настоящее, оно фундамент будущего, ступень в будущее. Мне важно «как есть» и «как будет».
— Ты и прав и неправ, Вася.
— Ну и хорошо, вот и ладно, рассудила, Соломон в юбке.
Он так и уснул в кресле, положив ноги на стул. София Павловна, не раздеваясь, накинув клетчатый плед на спину, лежала, свернувшись на неразостланной постели. Горел ночник возле телефонного аппарата, было так тихо, что слышалось тиканье часов на руке Василия Антоновича.
София Павловна не знала, что будет лучше — разбудить его и уложить в постель или не трогать — а то разбудишь, потом не заснет. Она смотрела в его лицо, слабо освещенное ночником, видела, как подергиваются щека и уголок рта, как вздрагивают пальцы, сцепленные под грудью. Что он там видит во сне, что переживает, с кем воюет? Она знала, что и во сне его беспокоит все то же и то же, чем занят он днем. Он обходит заводы, он объезжает поля. На заводах не всегда ладно с выполнением плана, работе на полях мешают дожди. Где-то кто-то свернул с партийной дороги; где-то не хватает строительных материалов, вхолостую работает один научный институт, для второго неудачно подобран директор; в области с каждым годом все больше рождается ребят, а мест в яслях, в детских садах для них недостач точно, матери жалуются, требуют, протестуют; какие-то иностранные туристы задержаны на территории военного городка — что они там делали со своими неизменными фотоаппаратами? Из Борков, из Дроздова сообщают, что там уже несколько дней нет в продаже сахара, люди ругаются…
Черногус, Гурий Матвеевич, может быть, вы в немалой мере и правы, так резко судя секретаря обкома Денисова. Но если бы вы знали всю сумму проблем, задач, дел, какие даже во сне не дают ему покоя, может быть, вы и не были бы так строги, кто знает. Но я вас все равно уважаю, как бы Вася ни отмахивался от вас, как бы ни говорил уничижительно по вашему адресу. Вася человек, и Васе неприятно, когда его критикуют. Вам ведь тоже не очень радостно слышать от посетителей, что та или иная экспозиция в музее скомкана, что экскурсоводы заштамповались в своих объяснениях до того, что, слушая их, не поймешь, кто это говорит — человек или попугай. Есть ведь и такие записи в книге отзывов. Вы сердитесь на них, Гурий Матвеевич.
«Васенька, — шепчет София Павловна мысленно, всматриваясь в его лицо, — родненький. Тебе и сорока семи нет, а какие-то отеки под глазами. Ты не седеешь, правда. Это хорошо, ты молодой, очень молодой и такой же красивый, как двадцать семь лет назад, когда мы с тобой встретились».
А встретились они в самом начале тридцатых годов в залах Таврического дворца, который в ту пору именовался дворцом Урицкого, на городской комсомольской конференции. Он был делегатом от организации комсомола Технологического института, она — от организации комсомола университета. Ему было двадцать, ей восемнадцать. Она покупала в книжном киоске книгу по истории Греции. «Древними греками интересуетесь, девушка?» — услышала насмешливый вопрос. Рядом стоял сероглазый парень в синей сатиновой косоворотке. «Да, — ответила с вызовом. — А что, это нельзя?» — «Социализм строим, девушка, все силы надо собрать в кулак и бить по наковальне сегодняшнего дня, а не размазываться, не расплываться по векам». — «А вам известно, что говорил Ленин на Третьем съезде комсомола о том, кто может стать коммунистом, то есть строителем социализма?» — «Известно, проходили. Тот, кто овладеет всей культурой, накопленной человечен ством. Но какой культурой — вопрос. Которая работает на наше сегодня и наше завтра, а не путается балластом под ногами». — «Это Ленин так сказал?». — улыбаясь глазами, спросила она.
«Это я так говорю, — твердо и без улыбки ответил он. — Ильич считал, что это само собой разумеется и комментариев не требует».
Он её провожал по длинной и пустой улице Воинова, потом по бесконечной набережной Фонтанки, пересекая проспект 25-го Октября, улицу Дзержинского, Международный проспект. До Прядильного переулка, где жила Соня Стрельникова, идти было более часу. За этот час, который показался им коротенькой минутой, они поругались так, что возле её ворот разошлись не попрощавшись. Он ей признался потом, несколько лет спустя, что в ту минуту хотел обозвать её дурой, едва удержался. Она ему тоже призналась, что, чувствуя это, уже приготовила ответ: от такого и слышу.
Назавтра вновь встретились на конференции, и встретились так, будто никакой ссоры накануне и не было. «Прекрасная гречанка! — воскликнул он, крепко пожимая её руку. — Идущие на смерть приветствуют вас!» — «Аве, цезарь, моритури те салютант! — поправила она. — Но это не греки и не грекам говорили, а гладиаторы римским императорам перед боем на арене». — «Кое-что слышали и об этом, — ответил он, не вступая в спор, и предложил: — Сядем сегодня рядом. В углу возле колонны есть несколько свободных местечек, я присмотрел». Сели рядом — и конференция закончилась без них. Весь день, вырывая листы из блокнотов, они писали друг другу записочки, письменно спорили. Когда был устроен перерыв на обед, ели в столовой пшенную кашу, по десяти копеек порция, и пили чай с сахаром.
Ребята-комсомольцы в университете говорили ей после, что она вела себя безобразно, целый день шушукалась с чужим парнем, что им за нее стыдно, что по сути дела её бы к комсомольской ответственности надо привлечь за использование делегатского места на конференции в личных целях. Но все обошлось, пошумели и бросили. А «чужой парень» перестал быть для нее чужим, сделался самым родным и самым любимым на свете.
И пошла жизнь, пошла, пошла. Полетели годы. Стал он инженером, был начальником цеха. Стал через какое-то время секретарем партийной организации в цехе, стал секретарем парткома, ушел на войну с дивизией народного ополчения, был ранен в бою под Гатчиной, вылечился, вернулся в дивизию; второй раз был ранен на Невском пятачке, снова вылечился и снова вернулся в дивизию. В третий раз его ранили возле Познани, он был тогда уже командиром артиллерийского полка; ранили тяжело, лечился долго. А вылечился — опять на завод, опять в партийный комитет. София Павловна все эти годы то работала в школе, обучая ребятишек истории, то занималась в аспирантуре. А восемь лет назад по решению ЦК приехали оба в этот город, Василий Антонович парторгом ЦК на машиностроительный, она поступила в музей истории края, под начальство Черногуса, заведовать одним из отделов.
Сколько лет пролетело? Много, наверно. Два года назад отмечали серебряную свадьбу. Где-то между нею, серебряной, и золотой, возможно, окончится жизнь. Но скажет ли когда-нибудь София Павловна, что жизнь её прошла напрасно или не так, как бы хотелось, как бы нужно было? Нет, никогда, никогда, никогда. Никогда она ни о чем не жалела, никогда не думала, что могло бы быть иначе, никогда даже в самых сокровенных мыслях не был для нее никто лучше, чем Вася, этот Денисов, Василий Антбнович, практический работник, который всю жизнь строит социализм. Как-то она одна, без него, — так сложились обстоятельства, — отдыхала в Крыму. В тот год ей исполнилось сорок, но выглядела она, будто и тридцати пяти не было, ходила, по обыкновению, подтянутая, во всем аккуратная, свежая, бодрая. Принялся ухаживать за ней один известный артист. Сначала это было интересно, так непривычно, необычно: артист! Но через несколько дней стало просто невыносимо. Он произносил фразы выспренние, высокие, но настолько штампованные, что уже через эти несколько дней София Павловна заранее знала, что и как её ухажер скажет в таком-то и таком-то случае, по тому или иному поводу. Все его содержание исчерпалось в три дня. На четвертый он был катастрофически пуст. Он говорил цитатами, афоризмами, вычитанными из книг, и София Павловна могла бы после каждого его высказывания называть источник: том такой-то, страница такая-то, строка такая-то.
Ей стало нестерпимо скучно, она постаралась сделать так, чтобы с ухажером больше не встречаться, уж лучше гулять одной, или побыть в компании любителей поболтать, попикироваться, или почитать.
С Васей — вот двадцать семь лет прошло — ей ни разу не было скучно. Случается, что он повторит историю, какую уже однажды или даже не однажды рассказывал. Но совсем не потому, что испытывает недостаток в новых, просто память изменит, и только. Уж кажется, до того хорошо его знает София Павловна, что дальше и некуда, и все равно совсем не во всех случаях она способна предугадать, что и как скажет он, как поступит. Двадцать семь лет человек этот на её глазах, день за днем, щедро, не скупясь, раздает себя людям, и все никак не исчерпается.
Сколько пережито вместе — и хорошего и плохого, сколько перетерплено. Никогда не забудет София Павловна тех дней, когда вернулся Василий Антонович с Двадцатого съезда партии, на котором так остро критиковали культ Сталина и последствия этого культа. Он рассказал ей все, и они вместе все заново переживали. Несколько недель они чувствовали себя физически больными, как будто от сердца каждого из них был отхвачен большой, очень важный, живой, пульсирующий кровью ломоть. «Соня, Соня, — говорил он, страдая, — вся же жизнь наша прошла с ним, не мыслилась без него, думалось: мы-то умрем, а он все будет жить и жить. Ведь мы в нем любили Ленина. Помнишь, как он учил любить Ленина, помнишь «Вопросы ленинизма»?»
Они доставали «Вопросы ленинизма» и вновь перечитывали вдохновенные главы об Ильиче. «Соня, Соня, — говорил он, — ведь в нем мы любили партию, нашу родную партию, которая вырастила нас с тобой, выучила, вооружила такой идеей, от которой жизнь трижды содержательней, осмысленней стала. Соня!..» Стоя перед фотографическим портретом Сталина, который висел на стене в домашнем кабинете, он сказал однажды: «Нет, я его судить не могу. Его может судить партия, народ, история. Но не я, Василий Денисов. Отдельно взятый, я мал для этого. Соня, ты можешь меня понять или нет?»
Что она могла ему ответить? Она плакала вместе с ним. Со временем, не сразу, постепенно они отделили объективное от субъективного, свои чувства от исторической реальности, правду от неправды, разобрались во всем том, чем в противоречивом и сложном сочетании было окружено дорогое для них имя. Вспомнилось им, что было время, когда они испытывали досаду и горечь от того, как именем Сталина заслонялось имя Ильича. Да, им бывало очень больно за Ленина. Но прошли годы борьбы с уклонистами, годы индустриализации, затем военные годы… В общих трудных испытаниях имя Сталина недосягаемо возвеличилось.
Со временем и кризисное состояние, и сама болезнь постепенно поутихли. «Ничего, Соня, ничего, — заговорил как-то Василий Антонович. — И люди и партия растут в испытаниях. Мы выдержали тяжелое испытание, но, видишь, выдержали. Будем исправлять недостатки, которые были же, были, ты отрицать этого не можешь, нет? Ну вот! Будем их исправлять, ликвидировать, и будем двигаться вперед, только вперед». И теперь вновь горячо и страстно строил социализм, нет, уже коммунизм, Василий Денисов. Только, сам отлично поняв и другим разъясняя ошибки Сталина, он никогда не забывал сказать, что много лет, как настоящий солдат партии, беззаветно шел за Центральным Комитетом, возглавляемым Сталиным, и что, несмотря ни на какие ошибки отдельных личностей, партия ни в малейшей доле не утратила и не может утратить своей революционной ленинской сущности. «Если когда-то, во имя культа, история улучшалась или ухудшалась, то теперь мы получили полную возможность этого больше не делать. Что было, то было, что есть, то есть». Возвратясь с одного из пленумов ЦК, он ей рассказывал: «Соня, сам первый секретарь сказал… Знаешь, как замечательно он сказал! Он сказал: «Наше прошлое — это наша с вами фотографическая карточка. Не плюйте в свое лицо».
Он радовался этим словам, как мальчишка.
Да, для него, для Васи, невыносимыми были плевки в прошлое партии, в прошлое страны, плевки тех, кто поспешил примазаться к той критике культа личности, которую партия широко и бесстрашно развернула после своего Двадцатого съезда.
«Вася, Васенька, — вновь мысленно прошептала София Павловна. — Нелегкая твоя жизнь…»
— Что? Что ты говоришь? — Он открыл глаза. Она улыбнулась. Это уже не первый раз за последние годы: она заговорит о чем-либо, а он, оказывается, как раз об этом уже думал в ту минуту, или он заговорит, а она уже знает, о чем он будет говорить дальше, она уже думала об этом. А тут даже сквозь сновидения Вася услышал её мысль.
— Я говорю, — ответила она, поднимаясь с постели, — что лучше бы тебе раздеться и лечь как следует.
— Да уж поздно ложиться, светло совсем. — Он выключил ночник, пошел к окну и, цотянув за шнурок, раздернул шторы. — Солнце встает! Может быть, лучше я куда-нибудь съезжу?.. В Загорье, что ли. Там с посевной канителят.
— Съездишь, — сказала она, расчесывая волосы перед трюмо. — Только не в Загорье, а на вокзал. Проводишь меня. Утренний поезд идет в восемь сорок.
И опять их охватила боль за Сашеньку, за разбитую семью Шурика.
Помолчали. Потом Василий Антонович сказал:
— А ты спросилась у этого твоего типа, у Черногуса? А то ещё дело затеет: дескать, секретарша-обкомовша сама себе отпуска устраивает. Пойдет носить на хвосте, что сорока.
— Не пойдет, Васенька, он не такой. Честное тебе партийное слово, не такой. Ты пригласи его к себе все-таки, поговори с ним, поговори. А спроситься я, пожалуй, спрошусь. Правда, рановато звонить ему. Порядочные люди ещё спят.
3
Вездеход свернул с государственной бетонной дороги, и начались дороги «местного значения». Пошли гати, колдобины, целые озера грязной, черной воды, которая веерами расхлестывалась по обе стороны машины; издали машина казалась большим зеленым насекомым, у которого, то опадая, то вздымаясь, трепещут тонкие сверкающие крылья.
Роман Прокофьевич Бойко изо всех сил работал рулем: на разъезженных скользких колеях, глубоко врезанных в мокрую глину, машину сносило то вправо, то влево, то просто в придорожную канаву, которую все шофера, а за ними и ездоки, со времен войны называют не иначе, как «кювет».
Год-два назад Бойко непременно бы высказался по поводу дорог области, но он уже давно перестал делать такие попытки, считая их бесполезными. Только по тому, как стиснуты его губы, как зло щурит он глаза от солнца, Василий Антонович мог догадываться о бурях, бушевавших в душе шофера.
Василий Антонович сидел рядом с Бойко. Сзади расположились второй секретарь обкома Лаврентьев, известный знаток сельского хозяйства области, и Костин, заведующий отделом, занимающимся делами этого нелегкого хозяйства. В тот день, когда Соня уехала в Ленинград, в обкоме было получено решение бюро ЦК по Российской Федерации заслушать в начале июня сообщения нескольких областей об итогах и уроках весеннего сева. В приложенном списке была и Старгородская область. Соня задержалась в Ленинграде, он, Василий Антонович, чуть ли не каждый день выезжает в районы, чтобы подготовить доклад не по сводкам, не по бумагам, а по живым, собственным наблюдениям.
На этот раз он захватил в поездку Лаврентьева и Костина. Втроем они решили добраться до самого дальнего района, где Старгородчина граничит с известной своими успехами Высокогорской областью. Ходят слухи, что у соседей яровые давно взошли и чуть ли не колосятся, а на Старгородчине все ещё сеют. «Если это так, — сказал Василий Антонович, собираясь в путь, — то, следовательно, мы работаем хуже, чем высокогорцы. Значит, у нас слабина в организации дела. Климат-то ведь хот же, что и у них, и земли ничем не отличаются».
Его подбрасывало на пружинах. Он сидел, засунув руки в карманы кожаного, «командировочного», черного пальто, сохранившегося с войны — на уголках воротника ещё видна была стежка от споротых петлиц, смотрел вперед сосредоточенно. Лаврентьев и Костин вполголоса разговаривали позади, он их не слышал. В мыслях все перемешалось — и эта ужасная история со смертью Сашеньки, и уйма проблем, связанных с дальнейшей жизнью и судьбой Шурика, — Соня звонила вчера, что Александр ни за что не хочет отдать Павлушку, что Павлушка для него сейчас всё, что осталось ему от Сашеньки, он с этим расстаться не может. Личное врезывалось в раздумья над предстоящим докладом Василия Антоновича. А пораздумывать было о чем. После недавней ликвидации МТС далеко не все колхозы повели себя, как надо. Одни нахватали, накупили машин столько, что на целый район бы пришлось, и, конечно, машины у таких простаивают. Другие, желая побольше раздавать денег на трудодни, всячески изворачивались, чтобы вовсе не покупать машин, да вот и не справляются с посевной. Иные избегают отдавать свои машины в ремонт на государственные ремонтные станции, ремонтируют сами, своими средствами, ремонтируют плохо, кустарно, неквалифицированно. Кое-где ослабла забота об агротехнике, о научном ведении земледелия. Агрономы из таких хозяйств поразбежались кто куда. Все это надо преодолевать, преодолевать терпеливо и так, чтобы организационно-структурные неувязки не мешали плановому ходу работ в колхозах и совхозах.
Дорога шла на юго-восток. Солнце светило прямо в ветровое стекло, в лица. Майский день начинался ярко и празднично. Слепяще вспыхивала вода на дороге, в канавах, в ямах, из которых брали когда-то торф. Веселая, бодрая зелень пробивалась из черной торфянистой земли; зеленели кривые березки на болотах; завидев машину, настороженно и недовольно подымали свои сердитые хохолки чибисы и, взлетая, пронзительно и грустно кричали. На окрестных высотах тихо стояли деревни; вокруг них, по косогорам, голубыми дымками дымили тракторы; ветер гладил по шерстке зеленую щетку пошедших в рост озимых хлебов. Навстречу по дороге, что корабль, переваливаясь с боку на бок, гоня носом мутную волну, шел тяжелый грузовик, за ним тащились второй и третий. В кузовах каждого из них, держась за верх кабинки, стояли и пели девчата; ветер рвал с их разметанных желтых волос цветные платки.
Бойко посторонился, пропуская колонну. Василий Антонович отворил дверцу, высунулся, стал махать рукой, чтобы встречные остановились. Последний грузовик затормозил.
— Чьи машины, товарищи? — спросил Василий Антонович.
— Колхоза имени Фрунзе! — чуть ли не хором ответили ему женщины.
— Куда и зачем едете?
— На станцию, за минеральными удобрениями!
— Желаю успеха. Привет вашему председателю. У вас Зубавин председателем?
— Зубавин. Илья Григорьевич!
— Ну вот, привет ему. Непременно.
— Передадим, товарищ Денисов. Не беспокойтесь. А к нам-то заедете, или как? Может быть, мимо?
Грузовик, рыча, поплыл догонять ушедшие машины. Тронул с места и Бойко. Денисов улыбался. Ему было приятно, что его узнали. Какая-нибудь из этих певуний была на областном слете передовиков; может быть, в кинохронике видели. Мало ли где. Да и в колхоз он приезжал. Давненько, правда, — в позапрошлом году, когда только что стал секретарем обкома. Они правы: да, мимо, мимо. Колхоз имени Фрунзе — хороший колхоз. Особых забот он уже не требует, прочно стоит на ногах. Едешь обычно только туда, где дело не клеится, где отстают, не справляются, где нужна помощь. А жаль, жаль, — почему бы не полюбоваться на хорошую работу, на людей, которые обрели уверенность в себе, в своих силах, которые плохо работать и плохо жить уже не могут? И в самом деле, не завернуть ли к фрунзенцам? — возникло желание. Нет, пожалуй, нет, время дорого, путь дальний и плохой. В другой раз, пусть поспокойней станет, пусть поубавится габот.
Солнце уже двинулось вниз, когда, преодолев песчаные зыби в живописном лесу из могучих, как бронзовые колонны, вековых сосен, выехали на крутой высокий берег реки. Речка, правда, была пустяковая. Внизу, под обрывом, через нее на тот, низменный, берег был перекинут дощатый мостишко. Но береговой обрыв вздымался так внушительно, что можно было предположить, будто он служил когда-то берегом большой многоводной реке.
За рекой, за мостом, к которому, сползая с обрыва зигзагами, вела проселочная дорога, лежало большое селение. За ним, далеко по равнине, тянулись поля, луга, сенокосы, — до черных лесов на горизонте. А на обрыве, располагаясь в линию вдоль него, над рекой, стояло другое большое селение. Заречное село так и называлось — Заречье. Село над обрывом именовалось Заборовьем, потому, должно быть, что ехать к нему надо было через только что оставленный позади вековой сосновый лес, через бор. Речка Жабинка не только разделяла угодья двух селений — Заборовья и Заречья. Она служила границей и для двух областей — Старгородской и Высокогорской.
Остановились на минутку над обрывом, вышли из машины. Запах леса, воды, полей — весны был такой густой и могучий, что от него, как от вина, подламывались ноги. Опуститься бы на молодую травку, откинуться на спину и, как бывало в детстве, смотреть, смотреть в небо, следить за плывущими в неведомое белыми парусниками высоких медленных облаков, раздумывать, мечтать…
Было так, было лет сорок назад в большом селе Ополье, где родился Василий Антонович, возле станции Веймарн на дороге Петроград — Нарва. Удерешь за кладбище к лесу, лежишь и смотришь в небо, — смотришь и мечтаешь. Мечты казались пылкими, несбыточными. Но думалось ли маленькому лобастому Ваське, который с интересом, с почтением и удивлением смотрел своими серыми сердитыми глазами на каждого приезжающего из города, на каждого «представителя», думалось ли ему в ту пору, что вот когда-то и он сам станет «представителем»?
— Знаешь, Василий Антонович, — Лаврентьев широко развел руки, чтобы побольше лесных ароматов вместила его грудь, — бывало, ляжешь на травку и смотришь в небо. Интересно получалось: будто ты летишь, падаешь в эту синеву. Не она над тобой, а ты над нею. Чего ты смеешься?
— Я не смеюсь, я говорю: летишь в нее и раздумываешь. Так, что ли?
— Абсолютно точео. А ты откуда знаешь?
И засмеялись оба, отлично понимая друг друга.
В селе их никто не встретил: о приезде они не предупреждали. Но едва машина остановилась перед правлением колхоза, тотчас стал собираться, сходиться народ. Оповещенный кем-то, пришел вскоре и председатель, представился:
— Сухин. Иван Савельич.
— Денисов, — назвал себя Василий Антонович, подавая руку. — А это товарищ Лаврентьев… Это товарищ Костин…
— С товарищем Костиным мы хорошо знакомы. А товарища Лаврентьева кто в области не знает?
Сухин улыбнулся. Но настороженное выражение с лица его не сошло. Василий Антонович догадывался почему: работает первый год, руководитель молодой, опыта ещё немного, зачем нагрянули два секретаря обкома да заведующий отделом — не знает, особого добра от такого наезда не ждет; ждет поди проработки, накачки, подтягивания подпруг.
— Может, чайком угостите, Иван Савельевич? — Василий Антонович решил сразу разрушить стену официальности. — Весь день голодные едем. А воздух у вас чудесный, лучше всяких аппетитных капель.
Сухин оживился.
— Пойдем ко мне или в столовую?
— В столовую лучше, — сказал Костин. — Чего твою хозяйку беспокоить. Она же у тебя больная.
— Поправилась, товарищ Костин. Операцию зимой сделали, и поправилась, совсем здоровая стала. Это её аппендицит мытарил. Хронический.
Все-таки пошли в столовую. И Василий Антонович и Лаврентьев посчитали, что так лучше будет. Они по опыту знали, что их приездом взволнуется все население колхоза, что многочисленные желающие посмотреть на представителей, обкома в дом к Сухину не вместятся, будут давка и духота и хозяевам беспокойство.
И не ошиблись, конечно. В столовую, где им подали щи и макароны с мясом, мало-помалу набилось человек сто, большинство мужчины, но были и женщины; ребятишек — кто-то стоял в дверях и не впускал, они заглядывали в распахнутые окна.
Василий Антонович и Лаврентьев, расспрашивали о ходе сева, о том, как перезимовали животноводческие фермы. Их, в свою очередь, расспрашивали о международных делах — хотя и радио в колхозе есть, но услышать про такие дела от секретарей обкома — источник вроде поавторитетней; расспрашивали про всяческие слухи, которые какими-то силами всегда разносятся по дорогам страны Василий Антонович любил разговоры с людьми. Это были крутые разговоры, без дипломатических уверток, прямые, открытые. Ты открой свою душу, и перед тобой душу откроют.
Что касалось посевной, то в Заборовье зерновые посеяли, кончают сажать картошку. Задержка с чем? — с овощами. Овощеводческое дело механизировано плохо. Все вручную да вручную. А как у соседей, за рекой? Так же, Василий Антонович, точка в точку. А с чего бы иначе быть? Земля — не лучше, не хуже. Климат? Один климат. Люди? Да у нас есть такие, что живут там, а работают здесь: ветфельдшер за рекой снял квартиру; а есть, что живут здесь, а работают там: две учительницы. Одинаковые, в общем, люди.
— Вы вот что нам скажите, товарищ Денисов… — Из-за дальнего стола поднялся молодой черноволосый парень, красивый и, видимо, здоровый, сильный. — Как предполагается приближать жизнь деревни к жизни города? Я к чему это говорю? К тому, что, понимаете, народ у нас семилетки кончает, некоторые и десятилетки. Это же среднее образование. В старое время много ли кто гимназии кончал, а у нас каждый её кончать должен, верно? Поучишься семь или десять лет, мир-то для тебя куда шире своей деревни станет. Ты и про древний Египет знаешь, про фараонов там, про их архитектуру, про искусство. Ты и с эпохой Возрождения знаком, и про Кромвеля кое-что слышал. Ядерная физика, электронные машины, кибернетика…
— Да ты, Коля, ближе к делу! — крикнули ему. — А то вроде лекции.
— А я и говорю о деле. Вы меня извините, товарищ Денисов, все сейчас объясню. Вот, например, наша изба, где моя семья живет. С одной стороны, как говорится, на полках триста двадцать книг стоят, даже художественные альбомы есть: сто репродукций с картин Эрмитажа да сорок пять с картин Дрезденской галереи. А с другой стороны, у нас уборная за огородом. Извините, что про такую прозу. Водопровод? Нету. Мать встает в четыре утра да с колодца ведрами таскает. Стены продувные, — на зиму завалинки надо делать, соломой да кострой до половины окон обшивать избу. Рамы в окнах одинарные. Говорят, скоро до нас телевидение дойдет…
— Дойдет, — подтвердил Лаврентьев. — Релейную линию через область уже тянут.
— Ну вот, — продолжал молодой оратор. — Мы бы телевизор, например, купили. И все равно купим. Но что получится? В одном углу телевизор будет стоять, а из другого на него, на то, как «Лебединое озеро» танцуют, будет телок наш смотреть. Новорожденных-то телят зимой в дом таскаем.
«Прав этот парень, — думал Василий Антонович, — совершенно прав. Заборовье — это ещё сравнительно благополучное село, на сухом месте стоит, дома прочные. А есть и такие селения, которые только на снос годятся».
А паренек все говорил:
— У нас, было такое время, бежали из деревни. И не только молодежь, взрослые бежали. Но тогда бежали по экономическим причинам. Плохие заработки в колхозе были. Сейчас положение изменилось. Заработки лучше стали. Так тем более, куда молодежи деваться? Мы хотим жить весело, чтобы развлечения были. Одного кино раз-два в неделю нам мало. Пусть бы театр организовался на несколько колхозов. Пусть бы не чайная была, а хорошее кафе, радиола бы в нем играла, и водки бы там не продавали. Пусть бы…
Он много наговорил. Молодежь из углов кричала: «Правильно! Точно!» Это уже была совсем иная молодежь деревни, совсем не та, что была двадцать или даже десять лет назад. Василий Антонович и радовался, слушая эти выкрики, и горевал. Радовался такому огромному сдвигу в человеческом сознании, горевал оттого, что в год, в два и даже в пять невозможно удовлетворить все претензии, какие предъявляет сегодня деревенская молодежь к быту, к культуре.
— Мы бежать не собираемся, — закончил оратор горячо. — Мы свое село любим. Но мы хотим, чтобы нам помогли поскорее сделать его лучше, чтобы и в него пришло то, что есть в городе, что нас увлекает, что нас манит. Имеем мы на это право?
Василий Антонович отвечал. Говорил он долго. Его внимательно слушали. Он говорил о том, что и у партии, у советского правительства мечта, чтобы как можно скорее в село пришла культура, подобная городской. Говорил о больших планах всенародных переустройств. Он говорил о строительстве клубов, о самодеятельных народных театрах, о том, что дома колхозные надо строить по-другому, отказаться от избушек на курьих ножках, от этих непременных трех оконец на улицу. Само существование избушек мешает устройству водопровода, канализации. А ведь, что говорить, даже новый дом строят — и все по стародедовскому стандарту.
— Мы готовы в квартиры переехать! — крикнул кто-то. — Пусть будут двухэтажные, хоть трехэтажные дома. Да чтоб только по-настоящему все.
Беседа затянулась допоздна. Василий Антонович поинтересовался, а где парторг колхозной партийной организации. Сказали, что в районе, утром непременно вернется. Ночевать пошли к председателю, к Сухину. Там в горнице были расставлены раскладушки, на них положены матрацы, набитые сеном, постелено чистое, свежее белье. Хозяйка, жена Сухина, хлопотала, приглашала ужинать. Но куда уж было, и без того наелись, хотелось лечь, встали ведь рано, утомились за день.
Костин залег на раскладушке под раскидистым фикусом, Бойко, взяв одеяло и подушку, отправился на сеновал. Василий Антонович с Лаврентьевым вышли в огород. «Вот какое дело, — рассуждали они, — парень прав: бегать приходится черт знает куда. Хорошо, если здоровый да погода такая теплая. А если захворал да метель на дворе, мороз в сорок градусов?»
Они нашли в потемках лавочку среди яблонь, сели.
— Был я агрономом, — сказал Лаврентьев. — Окончил институт перед войной. Война. В артиллерии служил, батареей командовал. Потом облземотдел — инвалид, дескать. Самое подходящее дело — канцелярия. Не усидел в канцелярии, в поля махнул, село такое было — Воскресенское, теперь поселок Ленинский. Знаешь его, Василий Антонович. В Дождевском районе. Двенадцать лет прошло, а как все переменилось! Особенно люди. Яблоню посадить, куст смородины — для этого добрый месяц агитировать надо было. «Денег, мол, нет», — одно отвечают. Договор на обработку машинами заключать — тоже торговля шла. Сами, дескать, справимся. На лошадях да вручную. А сейчас — заставь кого-нибудь вот тут, в Заборовье, вспахать хотя бы пять гектаров конным плугом — засмеют.
Сидели, вспоминали каждый свое. Лаврентьев — дела колхозные, Василий Антонович — дела заводские. В то время когда Лаврентьев ещё только поступал в институт, он, Василий Антонович, уже пришел на завод, молоденьким инженериком. И он тоже может нарассказывать Лаврентьеву о тех неслыханных переменах, какие произошли в заводской жизни и вообще в промышленности.
Ветер пролетал над деревней, шумя в садах молодою листвой. Перекликались дергачи во тьме. Слышалась гитара, и девичий голос пел под её аккомпанемент — нет, не страдания, нет, — судя по мелодии, звонкую неаполитанскую песенку.
— Кстати, — спросил Лаврентьев, — что это там говорят насчет Черногуса?
— Кто говорит и что говорят? — Василий Антонович полез в карман за портсигаром.
— Оружие будто бы у него нашли, покушение, что ли, готовил.
— Да ты что, Петр Дементьевич! — Василий Антонович даже папиросу выронил. Пошарил, пошарил рукой по земле под ногами, не нашел, взял другую. — Господь с тобой, как говорится в народе! Болтовня! Вот же, смотри, слонище из мухи разрастается! — Он в нескольких словах рассказал историю с пистолетом, с протоколом, с дополнительными записями.
— Черногуса я знаю, — сказал Лаврентьев. — Мне он казался довольно тихим, интеллигентным старикашкой. Ну не без желчи, понятно. Еще когда я в колхозе работал, он к нам за семенами да саженцами ездил. Приедет, критикует нас. Но в пределах обычного. Удивляюсь: маузер!
— Маузер — маузером. Но нельзя же из этого старичка террориста делать! Ты давай по рукам, Петр Дементьевич, тому, кто болтовней такой заниматься станет. Слышишь? Пойдем-ка спать лучше.
4
Разбудили Василия Антоновича стук и бряк. Открыл глаза. В окнах было светло. Косые лучи всходящего солнца покрыли бронзой старую березу перед домом. Прислушался: стук был отрывистый, металлический. Это был стук рогача о чугуны, стук чугунов бок о бок, глухой скрежет чугунных доньев по кирпичному поду печи, возле задней стены которой стояла раскладушка Василия Антоновича. Приложил ладонь к беленным известью кирпичам — горячо. Хозяйка готовит завтрак — и людям, и корове, конечно, и поросенку, его повизгивание тоже слышно со двора.
Вспомнил свою мать Василий Антонович. Вот так же вставала до света в любую пору года. Колола лучину, растапливала печь, гремела ведрами, сливая колодезную воду в кадку, толкла толкушкой горячий картофель в большом чугуне — тоже для коровы и для поросенка. Потом начинала печь оладьи. И только тогда — не от предшествовавшего стука и бряка, а именно от этого вкусного запаха оладий, от стрельбы масла на сковороде, — просыпались и Васятка, и два его брата, и сестренка, всей оравой спавшие на печи. Бежали потом в школу по снегу — то мокрому, метельному, то скрипучему от мороза; в холщовых сумках, на которых было химическими карандашами жирно выведено: «Василий Денисов», «Михаил Денисов», «Никита Денисов», «Люба Денисова», вместе с книгами и тетрадями несли и те испеченные матерью замечательные лепешки. Бежали в разные классы. Школа состояла из четырех классов, и в каждом из них было по представителю семьи погибшего в гражданскую войну крестьянина Антона Денисова, который как ушел в солдатчину в пятнадцатом году, так больше домой и не вернулся.
Он, Василий Антонович, своего отца не помнил — родился за год до его ухода, — был самым младшим в семье. И, чтобы все они, четверо, смогли окончить четырехклассное, мать с утра до ночи, по двадцати часов в сутки, вертелась белкой в колесе, сама пахала поле, одалживая коня и соху у соседей, сама копала огород, сбивала масло, шила, стирала, мыла полы, ездила в Ямбург на базар, чтобы продать это масло да картошку и выручить на керосин, на одежонку, на сапоги; в лесу она сама заготавливала дрова на отведенных делянках, сама их пилила, колола, возила…
Василий Антонович отбросил одеяло; было больно вспоминать о трудной жизни матери. Они, ребята, ей помогали, как могли. Но много ли они могли тогда?
— Петр, вставай! — сказал он, потрогав Лаврентьева за плечо. — Проспали.
Лаврентьев выпростал из-под одеяла мускулистые, крепкие руки, потянулся.
— Сон видел хороший. Будто мы с тобой, Василий Антонович, в зале заседаний в Большом Кремлевском дворце, и нам перед полным залом переходящее знамя вручают, за отличную работу. Овации, понимаешь, объятия. Весь президиум нам руки жмет.
Он встал, в майке, в трусах; принялся приседать, разводить руками, вращать туловищем — делал утреннюю зарядку.
Проснувшийся Костин сказал:
— А я вот этого не могу, гимнастику. Врачи предписывают, надо, говорят, а то обмен будет плохой. Соберусь, начну заниматься. День пройдет, два — и обязательно чем-нибудь заболею. Раз десять так было, теперь и пытаться перестал.
— А я с детства, с пионеров. И ничего, выдерживаю, — сказал Лаврентьев. — Последний раз во время войны болел. Зуб схватило, на Волховском фронте. На передовой. Где там зубные врачи — никто не знает. Всей батареей лечили. Один говорит: «Товарищ командир, товарищ старший лейтенант, водка хорошо помогает». — «А как, говорю, внутрь или на зуб?» — «Да ведь кому как, говорит, мне, говорит, лучше, когда внутрь. Ну, вы и то и другое попробуйте». Второй махорку жевать предлагает. Третий — кислоты какой-нибудь покапать. Наконец-то один врач из медсанбата приехал. «Щипцы, говорит, у меня есть, чем дергать. Но только, предупреждаю, товарищ старший лейтенант, я не зубной врач, ничего этого не умею, я невропатолог, по части нервных болезней. Рискнете?» А что было делать? Рискнул. Вдвоем за эти щипцы ухватились — выдрали. А больше вот как-то болеть не приходилось. Если, конечно, не считать того, как меня колхозный бык чуть было на тот свет не отправил, да ранения на фронте, из-за чего рука долго не действовала, да и то вернулась к жизни тоже через физические упражнения.
— Завидую, — сказал Костин. — А у меня организм уж очень податливый. Пойду-ка поищу рукомойник.
— На речку пойдем, — остановил его Лаврентьев. — Тоже мне — рукомойник! Закаляться сейчас будешь. Ясно?
В сенях их встретила хозяйка.
— А покушать-то, покушать!.. Куда же вы?
— Спасибо, спасибо, — поблагодарил Василий Антонович. — Скоро вернемся. На речку только сходим. А хозяин ваш где?
— По делам пошел. Должен быть обратно.
Сползли по сыпучим пескам обрыва к береговой кромке. Василий Антонович и Костин начерпали песку в ботинки.
— Сапожки, сапожки надо носить! — Лаврентьев смеялся, подтягивая голенища. — Баретки ваши не для сельской жизни.
Речка, хотя она и называлась Жабинкой, струилась по песчаному руслу, вода в ней была прозрачная, чистая, никаких жаб не видно, в глубине ходят полосатые окуньки, поверху стреляют в разные стороны темно-зеленые тоненькие щучки.
У Костина был чемоданчик, в нем было мыло, были полотенца, была механическая ленинградская бритва, заводившаяся пружиной, как патефон. С помощью этих средств принялись приводить себя в порядок, стали мыться свежей студеной водой из реки. Костин охал:
— Пальцы сводит. Как бы не было обострения. С обрыва к ним вскоре спустился Сухин. За ним съехал высокий человек лет тридцати, представился:
— Лисицын. Парторг.
Завтракали вместе. Василий Антонович подробнейшим образом расспрашивал Лисицына о работе партийной организации, Лисицын рассказывал о собраниях нескольких последних месяцев, о тех вопросах, какие обсуждались, рассказывал о коммунистах, о том, как выполняют они поручения. Но было в его рассказах нечто такое, что настораживало Василия Антоновича. Получалось так, словно бы не парторг сидел перед Василием Антоновичем, не руководитель партийной организации колхоза, а кто-то вроде второго председателя правления, будто бы его двойник. О весеннем севе Лисицын рассказывал точно так же, как рассказывал вчера Сухин. О животноводстве — теми же словами. Одни и те же случаи называли и Сухин, и Лисицын, одни примеры, одни цифры.
— А вот нам вчера ваша молодежь предъявила счет на культуру. Серьезный счет. Культуры хотят люди. Что вы об этом думаете, товарищ Лисицын?
— Так видите ли, Василий Антонович, — начал было Лисицын, — культуру можно строить только на крепкой материальной базе. Прежде всего мы и занимаемся хозяйством, ставим на ноги полеводство, животноводство…
— Это верно, это верно, — согласился Василий Антонович. — Но ведь у вас уже определенная — и не плохая — материальная база есть. Будет неправильно думать, что за культуру можно браться только тогда, когда материальные блага подымутся выше головы. — Он отмерил ладонью над лбом. — Надо же вести работу параллельно. Чем больше материального, тем успешнее пойдет дело с культурой, и чем больше культуры, тем успешнее будут хозяйственные дела. Они друг друга станут подталкивать, тянуть, помогать одно другому. Разве не так?
— Да, оно конечно…
— С партийной учебой у вас, видите, неважно, с идейным воспитанием. А без этого какие мы коммунисты, без идейного вооружения! Так просто, хозяйственники. Вот я вам скажу, товарищ Лисицын. И вы, товарищ Сухин, послушайте. Наши противники, из капиталистического лагеря, обычно нажимают на то, что, дескать, вы, коммунисты, то есть мы с вами, не нашли такой, движущей прогресс, силы, которая была бы равна силе, действующей у них, силе частного предпринимательства, частной инициативы, когда есть конкуренция, которая заставляет-де напрягать творческую мысль и все время искать новое и новое, чтобы не отставать в этой борьбе частных инициатив и не слететь с круга, — словом, силе частной наживы, силе набивания кубышки. Человек, мол, так устроен, что дороже кубышки для него ничего на свете нет и быть не может. Сейчас они, между прочим, в связи с нашими успехами в ракетной, например, технике, в которой мы блестяще обогнали Америку, призадумываются: а нет ли у нас такой силы, которая не только равна их частничеству, но ещё и превосходит его?
Василий Антонович отставил пустой стакан, достал папиросу, закурил.
— И они в своем прозрении правы, такая сила у нас есть. Она возникла вместе с нашей марксистско-ленинской, коммунистической партией. Это сила идей, сила идейности. Почему же партия, выросшая из горстки людей, сумела стряхнуть с плеч народа и трехсотлетнюю династию Романовых, и авантюристическое правительство Керенского, сумела отбить контрреволюционный поход четырнадцати империалистических держав, разбила белогвардейщину Красновых, Деникиных, Врангелей, Юденичей, Колчаков, сумела неизмеримо поднять хозяйство страны, неизмеримо против того, что было при Николае Романове, то есть при частном предпринимательстве, сумела отбить нападение гитлеровской Германии, отбить и разбить фашистские армии, уничтожить само государство Гитлера, сумела построить социализм и строит коммунизм? Почему? А потому, что сила кубышки, конечно, могучая сила, но сила идей, порождающая силу социалистического соревнования, выше нее. У нас есть такое ходячее изречение: на одном энтузиазме, дескать, ничего не построишь. Правильно, энтузиазм должен быть подкреплен материально. Но нельзя забывать и того, что поначалу-то советское государство строилось почти на одном энтузиазме. Ничего ведь не было — ни машин, ни оружия. Ничего, словом. А сейчас что уж тут говорить: «На одном энтузиазме!» Сейчас мы имеем мощную материальную базу, мы второе по экономической мощи государство в мире. Недалек день, будем первым государством. Мы с вами, во всяком случае, доживём до такого дня. Словом, сила у нас есть, сила идей, её надо укреплять и наращивать, надо развертывать и развертывать социалистическое соревнование. Это наша первейшая обязанность, товарищ Лисицын. Они там, в капиталистическом мире, ошибаются — у нас тоже есть кубышка, но кубышка не частная, а общественная, государственная. Существует она, конечно, не как самоцель, а как средство для всестороннего, широкого развития человека, для удовлетворения его все растущих и растущих потребностей. Вот коммунизм — как вы его мыслите, товарищ председатель и товарищ парторг колхоза?
Сухин повертел на блюдце стакан с остывшим чаем, сказал:
— От каждого по способностям, каждому по потребностям.
— А вы, товарищ Лисицын, как думаете?
— Да так же, как Иван Савельевич.
— Вы правильно оба думаете, но потребности ведь мыслятся для человека не только в материальном. Если бы человек был просто животное, ему бы и нужна была только еда в изобилии, да поскольку он, в отличие от других животных, бесшерстный, то и одежа в изобилии, на все сезоны разная, а ещё, поскольку он склонен к комфорту, разные предметы домашнего обихода, и так далее. Но он же существо разумное, существо не только материальной, а и духовной жизни. Поэтому потребности у него тоже не только в изобилии материального, но и в изобилии духовного. Мы вчера здесь это явственно слышали. Правда, товарищ Сухин? Ну вот, почему же мы не можем себе представить человека, духовная потребность которого — заботиться о других, помогать другим, работать для других? Вы, товарищ Сухин, вы, товарищ Лисицын, неся свои нелегкие обязанности — председателя и парторга, работая для других, заботясь о других, вы много откладываете в свою кубышку?
Лисицын только засмеялся. Сухин сказал:
— Был бы я не председателем, а бригадиром, или даже рядовым колхозником, я бы заработал больше. Я работы не боюсь, люблю работу. У нас свинари каждый вдвое против председателя зарабатывают. Доярки есть — дай боже заработки!
— Ну вот, а доставляет вам хоть какое-нибудь удовлетворение, какое-нибудь удовольствие ваша работа председателя?
— Так ведь когда дела идут хорошо…
— Ну, а если плохо? Бросить хочется?
— Бывает, и бросил бы. Но больше бывает иначе — сделать хочется, чтобы было хорошо. Ведь у каждого, как говорится, гордость своя есть. Что, думаешь, ты хуже других, что ли?
— И ночь спать не будешь, если дело требует, и про выходные забудешь, и про все другое? — расспрашивал Василий Антонович.
— А как же! Забудешь про все, это точно.
— Ну вот, а они думают, что только во имя кубышки можно забыть про все иное, только во имя нее не спать ночей, напрягать все силы — мускульные и умственные! Нет, наш двигатель сильнее их двигателя. Их двигатель нового уже ничего не даст, он достиг потолка. У нашего — предела мощности нет. Побольше занимайтесь идейным воспитанием. С приемом в партию-то у вас как?
— Да с прошлого лета никого не принимали.
— Почему же? — Василий Антонович насторожился. — Передовых людей нет?
— Есть-то есть, да… — Лисицын развел руками.
— А вот доярка у вас замечательная, — сказал Костин. — Анна Зверева. Если не запамятовал, она беспартийная.
— Беспартийная, — подтвердил Лисицын.
— Что же так? — спросил Василий Антонович. — Лучшие люди должны быть в партии.
— Комбайнер Кукушкин, — начал перечислять Костин. — Заведующая птицефермой Садовникова. Колхозник есть такой, активный на собраниях, отличный работник, Артюхов…
— Верно, верно, — кивали при каждой новой фамилии и парторг и председатель. — Верно.
— Я вам скажу, товарищи, — заговорил Лисицын. — Мы бы принимали. Есть люди. Самое им место в партии. Да райком тормозит. Надо, говорит, с разбором. Спешить некуда. Зимой хотели было Кукушкина принять, а в райкоме свое: чего торопиться. Вот пусть на весеннем севе себя покажет. А он комбайнер. В зимний период да весной по ремонту работает. Значит, только осенью покажет себя. Время-то и идет.
— Неправильно это, — сказал Василий Антонович Лаврентьеву. — Обрати внимание, Петр Дементьевич, разберись с Новомарьинским райкомом. Жалко, мы секретаря сюда не пригласили. Ну, что ж, товарищи!.. — Он встал. — Мы, пожалуй, поедем. Спасибо, хозяюшка, за хлеб-соль, за угощение. Оладьи у вас очень вкусные. У нас, в городе, даже в лучших ресторанах таких нет. Вот мама моя пекла, бывало, — сходство определенно есть. Спасибо, до свидания!
Вышли на улицу к машине. За рекой играл духовой оркестр. Вовсю трубили медные трубы. «Ух, ух, ух!..» — долетало издали басовое громыхание геликона.
Подошли к обрыву. Начищенная медь сверкала в Заречье, на площади перед домом, над которым развевался красный флаг. Красные флаги мелькали и над толпой собравшихся возле того дома.
— Это что же у них? — поинтересовался Василий Антонович. — Праздник, что ли? Какой сегодня день?
— Сегодня, в общем-то, четверг, — ответил Сухин. — Но у них, и верно, вроде праздника. Переходящее знамя вручают. Областное. За животноводство, кажется. Сам Артамонов, говорили, будто бы должен приехать.
Василий Антонович мысленно представил грузную фигуру секретаря Высокогорского обкома, его седеющую, даже на вид — жесткую шевелюру, пронизывающий тяжелый взгляд, твердую, неторопливую походку, припомнил крепкое, но немножко ленивое пожатие руки человека, который знает себе цену. Три года назад, к своему пятидесятилетию, Артамонов получил орден Ленина, а год назад его ещё одним таким же орденом наградили — за успехи области в сельском хозяйстве. Работать этот человек умел, жизнь в Высокогорье била ключом, о высокогорцах го и дело писали в газетах; в иллюстрированных журналах то и дело мелькали фотоснимки из Высокогорья. Киноэкранами этот народ завладел ещё прочнее — то животноводы перед тобой, то мастера кукурузы, то птицеводы, то самодеятельность.
— А не съездить ли нам туда хотя бы на полчасика? — предложил Лаврентьев. — Как считаешь, Василий Антонович?
— А что делать?
— Ну, поприветствуем соседа. Визит вежливости, так сказать. Всё равно же узнают, что мы тут были, а вот даже поздороваться не захотели.
— А это точно, что он там?
— Точно, точно, — подтвердил Сухин.
— Что ж, съездим, — не очень охотно согласился Василий Антонович. Как-то не хотелось навязывать себя преуспевающему соседу. Может ведь и не совсем правильно понять этот визит. Он человек такой: к секретарям ЦК ходит запросто; надо и не надо, все равно ходит.
Попрощавшись с Лисицыным, Сухиным, с колхозниками, собравшимися вокруг машины, двинулись к спуску на мост. Простучав досками шаткого мостика, машина выехала на ту площадь, на которой только что гремел оркестр и алели красные флаги. К этому времени музыка умолкла, с трибунки, сколоченной из досок и обтянутой красным, уже говорились речи. Артамонов, видимо, свое сказал, потому что вдоль площади летели слова благодарности за награду, говорилось о том, что зареченцы приложат все силы, но доверие областных организаций оправдают, работать будут впредь ещё лучше, ещё продуктивнее, добьются того, чтобы при наименьших затратах в колхозе получались наибольшие результаты.
Митинг окончился, кто-то из зареченских свертывал алое знамя, шитое золотом. Давно заметив приехавших, Артамонов двинулся к их машине. Шел он, как всегда, неторопливо, прочно ступая тяжелыми ногами в крепких сапогах; широкие его плечи и широкая грудь туго обтягивались черной суконной курткой, подобной френчу, которую распирало на животе; седеющая шевелюра ничем не была прикрыта, она была не по возрасту густа и буйно красива.
— Соседям почтение! — ещё издали заговорил Артамонов хрипловатым, видимо, давно сорванным голосом. — Привет, уважаемые, привет! Как же это вы собрались проведать нас? Ну, рады, рады! — Он подавал руку Василию Антоновичу, Лаврентьеву, Костину. Подал руку и Роману Прокофьевичу Бойко. — Водителю привет особый. Дорожки-то у вас в области, народ говорит, того… Героизм нужен по ним ездить.
— А у вас разве не того, Артем Герасимович? — с нарочитым простодушием спросил Лаврентьев.
— Время будет, можем прокатиться, — не глядя на него, ответил Артамонов. — Мы словами не агитируем. У нас на первом месте агитация наглядностью. Пощупай глазами, потрогай руками — убедись. Ну, пошли. Нас хозяева чаем угостить хотят.
Василий Антонович начал было говорить, что времени нет, пора ехать.
— Брось, брось! — Артамонов крепко взял его за локоть. — Это, товарищ Денисов, не по-соседски будет, не по-товарищески, — бежать. И не думай мне доказывать. У всех времени нет, всем ехать надо. Вместе и поедем. Я вам покороче дорогу покажу до Старгорода.
Столы в клубе были выстроены большой буквой «П», накрыты белыми простынями. На столах пестро и тесно раскинулись во множестве тарелки с закусками, граненые стаканы, бутылки с водкой.
— Это уж излишество! — Артамонов окидывал стол довольным взглядом. — За это вам всыпать надо. В общественный карман полезли.
— Но по общественному решению, — ответил ему жизнерадостный толстяк — не то председатель колхоза, не то завхоз. — Правление заседало, все честь по чести.
— Правление! — Артамонов хмыкнул. — Ваши правленцы любое беззаконие покроют. А вы бы вот на общем собрании, у народа спросили: пропить, тыщонку-другую колхозных денежек или на трудодни раздать, — что бы вам народ сказал? Учитываешь?
Толстяк понимающе засмеялся. Артамонов, все ещё держа Василия Антоновича за локоть, направился вместе с ним к перекладине буквы «П», к тем почетным местам за столами, где и закуски были получше и где в соседстве с водочными бутылками стояло несколько бутылок коньяку; вместо граненых стаканов там поблескивали золочеными ободками достаточно вместительные, но аккуратные стопочки.
На торжественное пиршество в клубе собрался, должно быть, колхозный актив, люди в большинстве пожилые, серьезные. Все они деловито наполняли стаканы, а наполнив, ожидающе смотрели на Артамонова.
— Что ж, товарищи, — сказал он, подымаясь со стопкой коньяку в своей большой, уверенной руке. — Видимо, вам предстоит тут одним, без нас, отмечать немаловажное событие в вашей жизни — получение переходящего знамени обкома и облисполкома. Мы сейчас уедем. Дела, дорогие друзья, дела! Не один ваш колхоз в области. Да, кроме дел сельскохозяйственных, есть и ещё кое-какие дела. Сами понимаете. Но вот что я хочу сказать вам на прощанье: спасибо, товарищи, за вашу замечательную, героическую работу. От всей души спасибо. Будь такая возможность — обнял бы каждого. Но ведь вас не один и не два. Да и девушки есть, ещё застесняются. — За столами засмеялись. — А мужья, те и вовсе ревновать начнут, — продолжал Артамонов. Засмеялись ещё веселей. — Словом, и дальше боритесь, — говорил он, — за процветание своего колхоза, за процветание своей родины. Ваше здоровье!
Одним духом Артамонов выпил стопку; не садясь, с вилкой в руке, поискал на столе среди тарелок, чем бы закусить, нацелил было вилку на соленый огурчик, передумал, прицелился в блюдце с маринованными грибами, — бросил вилку, стал прощаться. Ему дружно и весело кричали со всех сторон. Поднявшись из-за столов, шли, обступив вокруг, до самой машины.
— Садись, товарищ Денисов, ко мне, — сказал он. — Я же тебе правду говорю: покажу самый короткий путь до дому. И дорога хорошая.
— Как, товарищи?.. — спросил своих спутников Василий Антонович.
— Рискнем, — ответил Лаврентьев с веселой усмешкой.
Он и Костин остались в старгородской машине. Василий Антонович устроился к Артамонову, рядом с ним, на заднем сиденье. У Артамонова был такой же вездеход-газик, как и у Василия Антоновича. Тронулись в толпе машущих руками, кричащих, напутствующих.
За головной машиной первых секретарей Следовала целая колонна автомобилей: машина Василия Антоновича, машина председателя Высокогорского облисполкома, который тоже, оказывается, приезжал на вручение знамени, машина секретаря райкома, ещё какие-то две машины, набитые людьми.
Километров десять ехали по неважной дороге, ничем не отличающейся от дорог Старгородчины.
— Обожди, обожди, — говорил Артамонов при очередной колдобине. — Увидишь. Имей терпение. — Он рассказывал о том, как здорово в области провели весенний сев, в какие короткие, сжатые сроки. — А у вас как дело? — спросил он.
— Да сеем ещё. Не только с картошкой и с овощами затерло, — зерновые ещё сеем.
— Плохо, милый. Потеряете много. Весной день год кормит. Наши научные деятели подсчитали: опоздание с севом на одни сутки дает потерю урожая по области в две тысячи пудов. Учитываешь? Нет, мы у себя все в кулак собрали. Рапорт Москве отправлен. Завтра-послезавтра в газетах должен быть.
— Поздравляю.
Артамонов молча и с достоинством принял руку Василия Антоновича.
На каком-то повороте, когда объезжали колонну тракторов, сгрудившихся на дороге, Василий Антонович обратил внимание на то, что по большому вспаханному полю двигались сеялки.
— А это что? — поинтересовался он.
— Это?.. — Артамонов не сразу нашел глазами шеренгу сеялок. — Там-то? Очевидно, сверх плана сеем. О перевыполнении отрапортуем отдельно.
Машина выбралась на хорошую, ровную, проструганную грейдером и укрепленную гравийной насыпкой дорогу. Понеслись со скоростью в сто километров.
— И так будет до самого Высокогорска, — сказал Артамонов довольно. — Третий год дорожную сеть в области строим. Всем организациям, всем колхозам определили урок. А как же иначе? Иначе ничего не будет. Помогают и заводы и железнодорожники. Кто чем может. Машинами, людьми, материалами.
Через час езды по хорошим дорогам, на большом перекрестке, Артамонов попросил шофера остановить машину.
— Свернете здесь, — сказал он. — До границы областей отсюда пятнадцать километров. А там на бетонку выедете, на государственное шоссе. Видишь, не обманул вас: укорочение пути получается порядочное.
Распрощались. Артамонов напоследок сказал Василию Антоновичу:
— Ты бы заезжал, если что надо. У меня опыта побольше твоего, посоветовал бы, подумали бы вместе. Учитываешь?
— Спасибо. Учту. Бывает, хороший совет очень нужен.
— Что верно, то верно, — высказался Бойко, когда Василий Антонович перешел в свою машину. — Дорожки у них — только радуйся.
— Талантливый человек товарищ Артамонов, — сказал Костин. — Почет у него заслуженный.
Лаврентьев молчал. Молчал и Василий Антонович.
5
Сидели в столовой за чаем. В соседней комете, которую Василий Антонович считал своим домашним кабинетом и где воистину кабинетного были только письменный стол, привезенный ещё из Ленинграда, да книжные полки, сколоченные уже здесь, в Старгороде, на широкой кушетке спал Павлушка. Двери были приотворены так, чтобы свет лампы из столовой не падал ему на лицо, но все же, чтобы спящий мальчонка был хорошо виден.
— Пока взял отпуск, — говорил Александр, и, на двадцать шестом году жизни для отца с матерью все остававшийся Шуриком. — Я же ещё, в отпуске не был. А дальше… Дальше уж и не знаю, папа.
Смерть Сашеньки была не первой смертью в семье Денисовых. Погиб на фронте брат Василия Антоновича Михаил, офицер инженерных войск. Это было летом тысяча девятьсот сорок четвертого, под Выборгом. Исчезла в немецких тылах сестра Люба, сельская учительница; все следы ее оборвались на пороге одного из страшных гитлеровских лагерей уничтожения. В тысяча девятьсот сорок восьмом не стало и матери. Как Василий Антонович с Софией Павловной ни звали ее жить с ними в городе, она отказывалась наотрез; гостить гостила по недельке, по две раз-другой в году, а насовсем бросить свое родное село и не решалась и не хотела. Так и закончила свою трудную жизнь в Ополье. Мать Софии Павловны, семидесятишестилетняя старушка, была жива; по многолетней привычке она оставалась в семье своего сына, брата Софии Павловны, генерала танковых войск, и вместе с ним кочевала по стране. Но отец Софии Павловны умер, тоже вскоре после войны.
Смерть в семье знали. И все же это были до крайности тяжелые часы — смотреть в непривычно растерянные, погасшие глаза Шурика, потерявшего свою молоденькую подругу, видеть его без нее. В прошлом году они приезжали в отпуск вместе. Он сидел на этом же стуле, что и сейчас, она тесно возле него, рядышком. Такой смешной Шурка: с одной стороны, он как-то стеснялся проявлять к жене нежность перед своими родителями, старался — не без труда, видимо, — не смотреть на нее поминутно за столом, на вопросы ее отвечал небрежно и даже отчасти грубовато. А сам — это же и София Павловна и Василий Антонович отлично видели—ласково-ласково поглаживал ее по спине, нежно-нежно касался ее плеча своим плечом. Родители улыбались глазами, сочувствовали ему. Когда-то же и у них так было. Василий Антонович тоже не был щедр на внешние проявления чувств, особенно при людях, тоже напускал на себя подчеркнутую суровость. Умом София Павловна понимала его. Но сердцем… Сердцу все-таки хотелось, чтобы чувств своих Вася не стеснялся, пусть бы не скупился на ласку и при людях, пусть, видят, чего тут такого.
— Да, — сказал Василий Антонович неопределенно. А что ещё он мог сказать? Он хмуро посматривал на молодую женщину, которая сидела возле Шурки, на месте, где должна была быть Сашенька. — Да, — повторил. Женщина была красивая, яркая, с коротко остриженными и с небрежной продуманностью разбросанными кудрями; когда она улыбалась, то в окаймлении напомаженных светлой помадой крупных губ ослепительно сверкали ровные белые зубы; Василию Антоновичу всегда казалось, что их там в два раза больше, чем полагается нормальному человеку. Синие глаза ее смотрели насмешливо, озорно и умно.
Это была родная сестра Софии Павловны — Юлия. Ей было тридцать с чем-то, может быть только тридцать. Когда Василий Антонович впервые пришел к Соне в дом знакомиться с родителями, там бегала этакая толстенькая девчоночка, едва достававшая головенкой до стола. А вот выросла длинноногая, тонкорукая, до неприличия красивая, вызывающе красивая. Василия Антоновича раздражало, что она моложе Софии Павловны, что она ее красивей, что София Павловна из-за все прибавляющихся сединок вынуждена подкрашивать волосы, делать их темнее, а эта чертовка, напротив, красит волосы так, чтобы ещё светлее были. София Павловна в последние годы стала прихварывать, а эта здорова, как молодая лошадь. В Ленинграде Юлия много лет прожила в их семье. Откровенно говоря, Василий Антонович радовался, когда они уезжали в Старгород: Юлия не могла с ними ехать, она училась в институте. Увидев ее сегодня на вокзале, вслед за Соней и Шуриком выходящей из вагона, он даже потемнел от раздражения: за каким лешим Соня ее привезла! У него ещё не было времени объясниться с Соней, спросить ее, в чем дело. Пока он мог только строить догадки и злиться и на Соню, и на эту синеокую молодую даму, из-за которой у него было немало неприятностей в жизни.
— Я лично считаю, — сказала молодая дама, взяв своими тонкими красивыми пальцами карамельку «лимонная корочка» из вазы, — что Шурику лучше всего переехать сюда, к вам.
— Меня не отпустят, — ответил Александр. — Да, впрочем, разве дело в этом? — Он прикрыл лицо рукой; локоть упирался в стол, и Александр из-под ладони, как из-под козырька, смотрел в синюю скатерть.
— Ив этом! — с ударением сказала Юлия. — Ты не должен забывать, что у тебя есть Павлушка. Одного ты его здесь оставить не хочешь…
— Ни в коем случае!.. — Александр оглянулся на приоткрытую дверь отцовского кабинета.
— А что же ты с ним станешь делать? — продолжала Юлия, катая во рту карамельку.
— Ну не знаю же, говорю. Не знаю. Буду водить в детский сад. Он у нас прекрасно жил в яслях, пока Саша училась. Уже и в детский сад ходил… И ничего, и прекрасно.
— Шуренька, не думай, что все это так просто, — сказала София Павловна. — Детей выращивать трудно. У тебя будут командировки, будут заседания, будут партийные собрания. В театр, в кино, наконец, захочешь сходить.
— Никуда я не пойду, ни в какое кино! — Александр резко поднялся, ушел в кабинет и притворил за собой створы дверей.
Василий Антонович тоже встал из-за стола. Он ушел в спальню. Не зажигая света, сел там в свое любимое кресло возле постели и смотрел в распахнутое окно, за которым вспыхивали и гасли огни шумно проносящихся внизу по улице автомобилей. Раздражение против Сониной сестры нарастало. Обо всем судит, во все вмешивается, не умеет ни помолчать, ни побыть в сторонке. Надолго ли ее сюда принесло? Опять, поди, неудачный романчик, очередной удар любовной лодки о быт. Этих ударов, этих романов, кажется, и числа у нее нет. Подвыпив однажды, она высказалась: «У меня были двадцать четыре больших любви. А мелких — я не считала». София Павловна сказала, что Юленька, конечно же, шутит. Но Василий Антонович утверждал, что в каждой шутке есть и своя доля правды. Недаром Юлия даже ходит как-то так, что на нее все мужики непременно оглядываются.
Вошла Соня, спросила:
— Васенька, ты что?
— А ничего! Зачем ты привезла эту финтифлюшку?
— Вася, ты, кажется, забываешь, что это моя родная сестра?
— Нет, к сожалению, я очень хорошо помню, что это именно так. К величайшему сожалению. Надолго она здесь?
София Павловна походила по комнате. Она нервничала.
— Ей бы хотелось устроиться в нашем городе, Вася, — сказала наконец тихо.
— Что? — Василий Антонович вскочил, шагнул к окну, плюнул на улицу.
— Вася, — сказала София Павловна, — там же люди.
— Чтоб завтра же ее тут не было! — шепотом выкрикнул он. — «Устроиться здесь!» Хорошенькое дельце! Начнутся эти темные знакомства и приятельства с темными типами.
— Прошу тебя, Васенька, ну не шуми. Какая она ни на есть, она человек. И она не плохой человек. Случилась беда у Шурика, Юлия тотчас к нему примчалась, возилась все дни с Павлушкой, ухаживала за Шуриком, старалась хоть чем-то, хоть как-то помочь ему в таком горе, утешить его.
— Представляю, как она утешала!
— Вася, ну не надо, милый. Ты ведь нес такой. Не прикидывайся обывателем. Это тебе не идёт.
Василий Антонович вновь вернулся в кресло.
— Ну, а что у нее там случилось? — спросил уже спокойнее. — Почему ей приспичило уезжать из Ленинграда?
— Ну, Васенька… — На фоне освещенного окна было видно, как София Павловна развела руками. — Судьба у нее такая. Ты для описания ее не жалеешь бранных слов. А Юленька совсем не похожа на то, как ты ее изображаешь. Она доверчива, она искрения…
— О да! Доверчива, дальше некуда!
— Ты ее не очень хорошо знаешь.
— О да! Очень плохо знаю. А кто ее, ещё шестнадцатилетнюю дуру, школьницу девятого класса, из дома какого-то учителя физики уводил? Вася или не Вася? А кто…
— Ну знаю, знаю: Вася, Вася, все Вася. Не надо дальше. Ну сделай ещё раз доброе дело. Хочет хотя бы годик пожить у нас. Но это только говорит: годик. Уедет раньше, не выдержит без Ленинграда.
— А что делать здесь будет?
— Она же художница, она декоратор. Ты разве забыл ее декорации к балету «Красный цветок»? Они нравились тебе. И всем нравились.
Василий Антонович помолчал.
— А если места для художницы в наших театрах не окажется? Тогда что?
— Будет вне штата работать. Пусть меньше заработает. Ну и что же? Разве мы откажем ей в куске хлеба? Но помочь Юлии надо, Вася, надо. Этот подлец, который…
— Он из тех, кто идет по крупному счету в реестре двадцать пятым? — перебил ее Василий Антонович. — Или из тех, которые в счет не идут, из мелких?
— До чего же ты злой. И ехидный. Возраст и на тебе сказывается. Я думала, что ты всегда будешь молодым, добрым.
— А я добрым никогда и не был.
— Вот это верно, это верно. Ты самокритичен.
— Глупая ты, — сказал Василий Антонович и тяжело вздохнул.
Из кабинета долетел звонок телефона. Вошел Александр, сказал:
— Папа, тебе из обкома звонят. У телефона был Лаврентьев. Он говорил:
— Сейчас по радио сообщили — высокогорцы отрапортовали правительству о завершении весеннего сева.
— Надо Артамонову телеграмму послать, поздравить, Петр Дементьевич.
— А ты что так говоришь, Василий Антонович, простыл, что ли?
— Внук тут рядом у меня, спит на диване. Боюсь, разбудить.
— А!.. Ну, я тоже так считаю. Текст телеграммы уже составил, послушай. — Он стал читать. Василий Антонович кивал в тех местах, где полагалось ставить точки.
— Хорошо, — сказал он. — Отправляй.
— Хозяева, — обратилась Юлия, когда все собрались, в столовой. — А где я у вас буду квартировать?
Квартира Денисовых состояла из четырех комнат. Довольно просторными были столовая и то, что в семье называлось кабинетом; площадь поменьше занимала спальня; и совсем маленькой, правда, очень уютной, была комнатуха, расположенная рядом с кухней. Дом был старый, дореволюционный, и комнатуха эта предназначалась строителями для прислуги.
Услыхав вопрос Юлии, Софья Павловна и Василий Антонович окидывали все это квартирное хозяйство изучающим мысленным взором. Неизвестно, как будет с Шуриком, останется ли он тут или вернется в Ленинград; если вернется, то возьмет ли с собой Павлушку или оставит; если оставит, то Павлушке целесообразней всего отвести маленькую комнатку; а если и Шурик останется, то будет правильней отдать ему и Павлушке кабинет, а в комнатуху перебросить рабочее место Василия Антоновича — зачем ему такая большая комната? А Юлия временно-то может в конце концов располагаться на ночь и на диване в столовой.
София Павловна готова была уже открыть рот, чтобы сказать сестре об этом. Но сестра опередила.
— Мне очень нравится маленькая комнатка. — Юлия улыбалась своей ослепительной улыбкой. — Туда у вас, правда, всякий хлам спихан. Но я приведу ее в порядок, засверкает! А главное: удобно очень… Я же в театр пойду работать…. Возвращаться буду, надо думать, поздно. И, чтобы вы не ощущали никаких помех от меня, освою ход по черной лестнице. Там нет лифта, но третий этаж — не так уж и высоко. По вашим лицам вижу, что вы оба согласны. Спасибо, Василий Антонович, спасибо, Софочка! Я, пожалуй, сейчас и приступлю к делу. Как вы считаете? У меня кое-что есть в чемоданах. А чего нет, со временем приобрету.
— Поздно, Юлия, — попыталась остановить ее София Павловна. — Спать пора.
— Ничего, ничего. Я полуночница, ты знаешь. Буду возиться тихо, да там от спальни далеко, вы себе спите, а я потружусь. Страшно не люблю неустроенности. Где у вас швабра, щетки, тряпки для мытья полов, гвозди, молотки?..
Постелив Александру в кабинете, София Павловна сказала ему: — А Павлушку мы с папой к себе возьмем.
— Ни в коем случае, — отказался Александр. — Он вам будет мешать и с первого же дня превратится в тягость. Нет, нет. Я привык вставать ночью, если что надо. Нет, мама, нет! Денисовы-старшие плотно притворили двери спальни; Василий Антонович задернул шторы. Легли.
— Может быть, почитаем перед сном? — предложила София Павловна..
— Можно, — согласился Василий Антонович, включая параллельный аппарат телефона, Но ни один из них к книгам, которые стопками лежали на тумбочках возле тесно сдвинутых кроватей, не притронулся.
— Как ты в область съездил? — спросила София Павловна. — Хорошо?
— Съездил хорошо, — ответил Василий Антонович. — Да дела у нас не совсем хорошие. Вот Артамонов отрапортовал об окончании сева. Первым по нашей климатической зоне! А мы, Соня, всё сеем. Обидно. Ведь, знаешь, подготовились не плохо. Всю зиму работали с напряжением, лишь бы на севе не оскандалиться. А тут весна запоздала, дожди. Ведь это же только четвертый день, как погода установилась… Чудесно сейчас в области, Соня! Тебя вспоминал. Зелень какая, леса ожили, птицы поют!.. Ну ничего, знаешь, пусть мы в хвосте немножко поплетемся. Думаю, после наверстаем. Зато для животноводства закладываем очень солидную базу. Все речные поймы распахиваем, засеваем кукурузой. Отличная культура для силоса. И массу большую дает с гектара, больше, чем что-либо иное, и питательность имеет высокую. С подсолнечником, со всякими ботвами картофельными не сравнишь.
— Я тебя слушаю, Вася, каждый раз — ты же постепенно агрономом становишься. Инженер! Химик! И вдруг!.. — София Павловна провела ладонью по его глазам, по щеке, По губам. — Это очень трудно?
— Народ у нас хороший. Лаврентьев… Он и агроном, он и советский работник, и партийный работник. Сергеев — тоже золотой человек, с богатым практическим опытом. На место председателя облисполкома лучшего не сыщешь… Трудно даже назвать кого-нибудь, кто бы никуда не годился. Если кто меня и тревожит…
— Я знаю, чье имя ты сейчас назовешь. Ты прав: у него взгляд нехороший. Он в глаза тебе не смотрит, как-то все мимо скользит. Скользнет — и мимо, скользнет — и мимо.
— Ну, милая, если по взгляду о человеке судить, мы с тобой, что называется, таких дел наворочаем…
— О тебе я по взгляду судила. Ты болтал ерунду, петушился. А взгляд меня все равно не обманул. Так сказать, кого ты имеешь в виду?
— Ну кого, кого?
— Огнева. Нет, что ли?
— Правильно! Не получается у меня с ним разговора по душам. Исполнителен, пунктуален — все верно. Как человек для аппарата — просто образец! Но разве такой работник должен пропагандой ведать? На этом месте гореть надо, не жалея себя. Светить людям, что факел. Он, в общем, если из человеческих качеств исходить, очень порядочный человек. Но сухой и до чего же скованный! Лишний шаг боится сделать: вдруг, мол, шаг будет неосторожным. Соня, ну можно ли в наше время трусить? И чего трусить? Ну сделаешь неосторожный шаг, ошибешься, может быть… Разве нельзя исправить ошибку? Голову же тебе не отрубят. В наше время даже выговор не так-то легко заработать. Наше время — время большого, огромного доверия к человеку. Ты разве этого не замечаешь? Ну вот. А он чего-то трусит, только и печется о том, чтобы в его хозяйстве везде и всюду было мертвящее равновесие. Слушай, — сказал он вдруг неожиданно. — Я думаю, Шурке надо переехать к нам. Поговорю с Николаем, ведь есть же у них места на комбинате. Лишь бы Шурку уломать.
София Павловна понимала, о каком Николае идет речь — о Николае Александровиче Суходолове, товарище Василия Антоновича с войны. И не просто товарище, а друге, и даже больше, чем друге, — о человеке, которому Василий Антонович обязан жизнью. Суходолов — директор нового, отлично оборудованного химического комбината. Конечно же, у него найдется место для Шурика. А Шурику тоже на таком, по последнему слову техники построенном предприятии работать будет интересно.
— Давай уламывать вместе, — сказала она, обрадованная. — Это было бы самым замечательным, самым правильным решением вопроса.
И в эту ночь уснули поздно. И в эту ночь не выспались. Юлия, хотя она и обещала трудиться в своей комнатке до предела тихо, то и дело хлопала дверьми, ходила, стуча каблуками, по коридору. Время от времени в доме что-то с грохотом падало, звякало, со звоном рассыпалось, как битое стекло. Угомонилась она только под утро.
София Павловна, по обыкновению, открыв глаза первой, хотела было встать как можно тише, чтобы не разбудить Василия Антоновича, — пусть поспит ещё несколько минуток. Но он, не поднимая век, сказал:
— Это нехорошо, Соня. Это нечестно. — И сбросил с себя одеяло.
София Павловна быстро приготовила завтрак: яичницу, поджаренный хлеб и кофе, а Павлушке манную кашу. Обычно они с Василием Антоновичем дома не завтракали и не обедали. У Василия Антоновича в обкоме была хорошая столовая, София Павловна столовалась в буфете при музее. Только ужин она приготовляла сама. А тут вот семьи прибавилось. Ни Шурика, ни Павлушку голодными не оставишь.
Когда поели да повозились немного с Павлушкой, который все спрашивал, а где у них в доме игрушки, и поминутно снимал трубку с телефонного аппарата — слушал, как в ней гудит, — Василий Антонович выглянул в окно. Машина стояла у подъезда. Бойко стирал тряпкой пыль с ее верха.
— Пора, Соня, поедем. — Василий Антонович по дороге в обком всегда подвозил ее до музея.
— Может быть, Юлию разбудить? — Она задумалась, снимая с вешалки плащик. — А то проспит до вечера.
— Меньше о ней пекись. Кстати, что она била ночью?
София Павловна пошла по коридору к кухне, осторожно отворила дверь в комнатуху.
— Вася! — поманила шепотом. — Взгляни! Ты, наверно, ещё такого не видывал.
Полкомнаты занимал старый матрац, утвержденный на кухонных табуретках с отпиленными до половины ножками; с помощью восточного ковра матрац был превращен в тахту; сверх ковра разостланы широкие простыни с кружевами, накиданы подушки. На них, разметавшись, под пуховым одеялом из бордового шелка, безмятежно спала Юлия. На окне, в цвет одеялу, висели бордовые шторы с ярко-желтым неизвестно что обозначающим рисунком. Пахло духами, неведомыми Василию Антоновичу. На стенах пестрели картинки. Разглядывать их не оставалось времени. София Павловна прикрыла дверь.
Спускаясь по лестнице, Василий Антонович сказал:
— Я ее, Соня, убью. Возьму топор и прикончу.
София Павловна знала эту его манеру мрачно шутить без улыбки. В тон ему она ответила:
— Зачем же столько хлопот, Вася? Можно проще: насыплем ей в котлеты толченого стекла.
— Можно и так, — согласился он, распахивая перед нею дверцу машины.
Едва он вошел в свой обкомовский кабинет, следом за ним в дверь заглянул его помощник Воробьев.
— София Павловна у телефона.
— Вася, — торопливо проговорила в трубку взволнованная Соня. — Сегодня ночью у Гурия Матвеевича случился инфаркт. Слышишь?
— Что? У кого? — Василий Антонович не сразу сообразил, кто стоит за этим именем: Гурий Матвеевич. А когда понял, что это Черногус, по телу у него прошел озноб. Он нажал кнопку, чтобы Воробьев распорядился немедленно вызвать машину.
6
Юлия спала до часу дня. Затем перед большим зеркалом платяного шкафа в спальне Денисовых, в которое едва вместилась ее рослая, ничем не прикрытая красивая фигура, она минут пятнадцать рассматривала себя со всех сторон, обдумывала каждое движение. Следующие четверть часа заняли приемы утренней физической зарядки; ещё минут тридцать — мытье в ванне. Зато в кабинет к Александру, где тот играл с Павлушкой, Юлия вошла свежая и сверкающая.
Александр не обратил на нее никакого внимания. Он строил из кубиков гараж для Павлушкиной пожарной машины.
Юлия постояла в дверях, сказала, не то решив, не то только решая это:
— Пожалуй, я сейчас буду готовить обед. Для нас троих. Денисовы-старшие вряд ли позаботятся о своих родственниках.
— Когда же им заботиться? Они работают. А что до обеда — не стоит возиться. Мы с Павлушкой в молочный буфет сходим. Хочешь, пойдем вместе?
— В буфет! Да ещё и в молочный! — Юлия улыбалась, покачивая головой. — Какой ты ещё маленький, Шурик. Ты все грустишь, дорогой мой, да?
— Перестань, Юлия!
— Не злись. Я тебя очень-очень понимаю. — Она повернулась и ушла в свою комнату. Когда Александр и в самом деле собрался уходить с Павлушкой из дому, он заглянул к ней.
— Мы уходим.
Юлия лежала лицом в подушки.
Александр постоял-постоял, ответа не дождался и пошел, ведя Павлушку за руку. Юлию понять трудно, думалось ему. То смеется, то впадает в мрачный транс. Среднего состояния не бывает.
А Юлия, когда хлопнула дверь на лестницу, поднялась со своей тахты, приложив батистовый платочек, осушила глаза, поправила волосы, задумалась. Надо же устраивать жизнь. Рассчитывать на Василия Антоновича не приходится. Он ее не любит. И зря, и зря, между прочим. А почему не любит, Юлия знает это прекрасно. Потому что она ему нравится, он наверняка хотел бы, чтобы его «София Павловна» была такой же, как Юлия. Но в мире материального чудеса невозможны, и вот он злится.
Она достала из сумки книжечку с телефонами и адресами. Это была видавшая виды книжечка в потертой зеленой коже. Имена, фамилии, просто загадочные инициалы, адреса и номера телефонов лепились в ней, перекрывая, перечеркивая друг друга, вытесняя за пределы крохотных страничек. Никто, кроме хозяйки, не разобрался бы в этих записях. На букву «С» был записан «Григорий Иванович», на букву «Д» — «Алексей Семенович», зато под литерой «У» значилось: «массажистка». Кому не надо, тот не поймет, тот, кому надо, разберется. Григорий Иванович записан под буквой «С» потому, что это Юленькин сапожник, отлично тачающий ей туфли по самым модным парижским и римским моделям; Алексей Семенович — это доктор, потому и на букву «Д» занесен. Хороший доктор. Понимающий. А почему массажистка на букву «У»? Как не понять! Потому, что ее фамилия Устинова. Ольга Феликсовна Устинова. И все остальные своеобразности легко объяснимы. Правда, когда надо побыстрее отыскать в книжечке необходимые сведения, их просто не найдешь. Но что в записях нет порядка, это совершенно неверно. Вот, например, там, где буква «М», так и записано:. «Матрац», и следует номер телефона. Это телефон мастера, который перетягивает матрацы. Его фамилия? Да, фамилии почему-то нет.
Юлия листала страничку, за страничкой, перебирала букву за буквой. Не может быть, чтобы в Старгороде не было никого, кто помог бы ей обосноваться на местной почве. Не может быть. И все же — странички листались, а такого не было, не было и не было.
Она отправилась в кабинет Василия Антоновича, села за его стол, потрогала оба телефонных аппарата — городской и АТС обкома. Обкомовский был с белой кнопочкой, расположенной справа под никелированным диском для набора цифр. На столе, под стеклом, был разостлан большой лист с фамилиями и телефонными номерами абонентов АТС. Вот номер Василия Антоновича: 22–14, вот номер его приемной: 22–43; вот этот самый, домашний, который на столе: 44–13. Юлия вела пальцем по колонкам фамилий и цифр. Мелькнуло что-то знакомое: Сорокин! Обрадовалась на миг. Но тот Сорокин, которого знала Юлия, поэт, весельчак, организатор интересного, тот «В. Д.» — Володька, Владимир Дмитриевич, и живет он совсем не в Старгороде. А здешний — какой-то «Ш. В.». Ну, «В» — понятно. А «Ш»… Что это может означать? Шаман? Шамиль? Шатобриан?
И вдруг следом за этим удивительным Сорокиным Ш. В. Юлия углядела фамилию: Суходолов Н. А., и мелкими буковками в скобках: «Химкомбинат». Ну конечно же, Николай Александрович! Он здесь! У него были неприятности в Ленинграде, и Василий Антонович года три или четыре назад, ещё в бытность свою секретарем Старгородского горкома партии, перетащил Николая Александровича сюда, директором только-только вступавшего в строй химического комбината. Николай Александрович знает Юлию с девчонок, в Ленинграде он был постоянным гостем Денисовых. Это веселый, добрый человек. Он и выпить-закусить может, и погулять, и в театр сходить. Только ему теперь что же — лет пятьдесят пять, наверно? Давно Юлия его не видела. Может быть, стал угрюмым, деловым старичком, к которому и не подступись?..
Но другого выхода не было. Юлия набрала номер, стоявший против фамилии Суходолова.
— Суходолов слушает! — ответила трубка холодно и официально. Юлия молчала. — Алло! — громко сказал Суходолов. — Слушаю.
— Николай Александрович? Это вы? — голосом, в котором зазвенели колокольчики, заговорила Юлия. — А это я, Юлия, сестра Софии Павловны.
— Юленька! Здравствуйте, дорогая! Какими судьбами? Надолго ли к нам? Все такая же обворожительная? Я, по-честному говоря, когда последние годы приходил к вам, думал, что в вас влюблюсь. А? — Суходолов весело смеялся.
— Но ведь у вас жена. Очень строгая притом, Николай Александрович, Елена Никаноровна.
— Она уже старенькая. Не обиделась бы. Да, по-честному говоря, и я уже не молоденький. — Он сказал это иным тоном, с грустинкой; возможно, что даже вздохнул в трубку. — Ну вот так, — добавил, и Юлия поняла, что или пора кончать разговор, или заговорить о том, чтб ее интересует.
— Николай Александрович, — решилась она. — Мне нужна ваша помощь. Очень нужна. Но об этом лучше не по телефону. Лучше бы повидаться.
— Так я к вам вечером заеду, если хотите. Заодно Денисовых повидаю. Уже с месяц не встречались. Как они?
— Хорошо бы без Василия Антоновича и без Сони, — ответила Юлия. — Это мое личное.
— Как же тогда, а? — раздумывал вслух Суходолов. — Может быть, ко мне, на комбинат приедете? А может быть, вот что: давайте пообедаем часиков в пять вместе, а?
— Пожалуйста. Но где?
— Да в ресторане гостиницы «Интурист», Там более или менее ничего. Согласны? Ну, тогда ровно в шестнадцать пятьдесят, без десяти пять, значит, ждите меня… Вы город-то знаете? Ах, первый раз, первый раз!.. Да, да, да… Выйдите, значит, в это время из подъезда, и все. Подкачу…
Когда точно, минута в минуту — без десяти пять, подошла машина Суходолова, Юленька на противоположной стороне улицы заметила Александра. Александр держал Павлушку на руках и пережидал движение, чтобы перейти улицу. Она нырнула в отворенную Суходоловым дверцу.
— Вы что так, Юленька? Будто бежите от кого? — спросил Суходолов, усаживая Юлию рядом и пожав ее руку.
— Шурик идет с сыном. Не знаю, заметил меня или нет. Кажется, не заметил. Едемте скорей.
В ресторане в это время было тихо, спокойно. Оркестр играл только с восьми вечера. Устроились за столиком в углу. Суходолов назаказывал официантке закусок и блюд.
— Я голодная, — предупредила его Юлия.
— А как насчет выпивки?
— Грешница — люблю шампанское. Только если не кислое.
— Полусладкого, значит, бутылочку охладите, — распорядился Суходолов. — А мне, тоже грешнику, двести пятьдесят.
— Столичной? — Официантка бесстрастно Записывала в блокнот.
— Ага. Ее, зловредной. Как там родимый наш Ленинград поживает? — Юлия не успела ответить, он сказал: — Чертовски вы похорошели, я бы сформулировал — в силу вошли. — Он внимательно рассматривал ее. — На «ты» уже называть не могу. Вот история! «Юленька» — это ещё язык поворачивается, а «ты» — никак, Юлия Павловна.
За обедом она ему рассказала, что ей надо с годик пожить вне Ленинграда, что, зная несколько неприязненное отношение к ней Василия Антоновича, она обращается не к нему, а вот к Николаю Александровичу, и если у Николая Александровича есть знакомства в местных театрах, то не поможет ли он ей устроиться художником-декоратором. Она привезла эскизы, наброски, фотографии. Пусть посмотрят, если хотят, пусть возьмут с испытательным сроком. Это понятно: должны же люди знать, кого принимают на работу. Но если примут, то Юленька своего рекомендателя не подведет, пусть он не думает.
— Попробуем, — сказал Суходолов. — Попробуем.
Через час они сидели в кабинете директора Драматического театра. Тот очень сожалел, но сделать ничего не мог, весь штат заполнен. Вне штата? Пожалуйста. Но только не знаю, что получится. Затирать будут наши художественные зубры. Народ в театре прижимистый.
— Ничего, ничего, — утешал Юлию Суходолов, вновь усаживаясь в машине. — Я этого человека не знаю, он меня тоже. Так, на всякий случай, заехали сюда. В оперетте будет вернее. В ней администратор рыболов. Мы всю зиму встречались с ним на Верхнем озере. Сидим на льду, что моржи, окуньков тягаем да горилкой обогреваемся. Хороший человек. Лапшин, Тарас Григорьевич. Как Шевченко.
Тарас Григорьевич Лапшин, едва взглянув на Юлию, так сразу же и воскликнул:
— Замечательно! По декорациям нам пока — временно, конечно! — художника не надо. Но есть место художника по костюмам. Можете? Будем рады видеть вас в нашем коллективе, Юлия Павловна!
Маленький, подвижной, энергичный, он то падал в кресло, то вскакивал с него — перебегал на диван, то бросался к окошку, то открывал бутылку с боржомом, и все смотрел восторженными глазами на Юлию.
Юлия видела, какое производит впечатление, и от этого делалась ещё привлекательней. А Лапшин говорил не переставая:
— Со временем все в ваши руки перейдет, Юлия Павловна. Вот вам лист бумаги для заявления. Вот листок по учету кадров. Садитесь, заполняйте.
Но даже Юлия растерялась перед подобной стремительностью событий.
— Нет, — сказала она. — Лучше я это возьму с собой и заполню дома, Я приду к вам завтра. Принесу свои работы, кстати.
— Ну отлично, отлично! Если придете с утра, тут и директор и главный режиссер будут. Сразу все и оформим. Считайте, что вы у нас работаете. С завтрашнего утра.
— Спасибо, — сказала Юлия. — С вами очень приятно.
— Польщен! — Лапшин приложил руку к сердцу, поклонился.
— Ну вот, — сказал Суходолов на улице. — Дело и сделано. Куда же теперь? Не поступить ли нам так? Погуляем часок-другой… Отличная погода… А там — поужинаем и… Нет, нет, совсем не так! Есть более интересный план. Сядем сейчас на пароход. Он идет без пяти восемь. Как раз успеем. Доедем до Георгиева монастыря — час ходу, И обратно. На пароходе буфет…
— Согласна! — Настроение у Юлии было радостное. По костюмам работать, так по костюмам. Что — у нее не хватит выдумки и вкуса? Ого, она ещё не так удивит и этого Лапшина, и его главрежа, и всех старгородских театралов. К тому же Лапшин утверждает, что это ненадолго; есть надежда, что и место декоратора освободится. И, что главное и особо ценное, — дело обошлось без вмешательства Василия Антоновича, без его заступничества и протекции. Когда-то без него ничто в жизни Юлии не обходилось, и это было ужасно, это угнетало, унижало. Ей невыносимо было чувствовать себя вечно обязанной чужому человеку. Окончив седьмой класс, она бросила школу и, не сказав ни слова дома, пошла учиться на курсы кройки и шитья. «Я стану портнихой, — рассуждала она, — хорошей портнихой, знаменитой, меня завалят заказами, и пусть тогда и он и Соня ахнут». Но он, то есть Василий Антонович, всему помешал. Он вернул ее в школу. В девятом классе — новое вмешательство. Юлия влюбилась в учителя физики. Учителю было двадцать восемь, ученице — шестнадцать. Он был холостой. Она стала ходить к нему — сначала за консультацией, потом просто осталась у него. Школу бросила. Скандал был ужасающий. Василий Антонович снова все устроил не по ее, а по-своему. Он увел девчонку от физика, устроил в другую, дальнюю, школу и в конце концов заставил окончить десять долгих и ненавистных классов. Да и потом, и после школы, в театральном институте, сколько было всяческих вмешательств. И в институт-то без помощи Василия Антоновича ее не приняли бы. Соня его упросила похлопотать «последний раз в жизни». Впервые вот большое, серьезное дело обошлось без Василия Антоновича. Ну как тут не радоваться!..
Сидели на крытой палубе парохода. На столике вновь были закуски, вновь бутылка шампанского и графинчик столичной. Старый, доживающий век пароход глухо шлепал плицами по воде, подрагивали в его недрах ещё исправно делавшие свое дело допотопные машины с огромными маховиками. На них можно было любоваться в раскрытый машинный люк. Ярко освещенные лампочками, один возле другого, ходили там стальные штоки с кривошипами — то один, то другой, то один, то другой; это было похоже на боксирующие жилистые руки с внушительными кулачищами.
Быстро смеркалось. Зажглись береговые зеленые и красные огни маяков, засветились окна в прибрежных селениях. Из сумерек, наперерез пароходу, выскакивали лодки с мальчишками. Отставая, они качались на крутой волне, подымаемой пароходом. Ближе к берегам темными силуэтами недвижно стояли на якорях челны рыболовов.
Не часто в жизни Юлии случались такие спокойные, мирные минуты.
— Хорошо! — сказала она и с благодарностью погладила большую руку Суходолова, лежавшую на столе. И Василий Антонович и Соня говорили об этом человеке только доброе. Известно, что Николай Александрович спас жизнь Василию Антоновичу. Еще девчонкой она слыхала рассказы об этом. Не раз в семье вспоминалось о том, как в одном из отчаянных бросков ленинградских ополченцев на захваченное немцами село политрук роты Денисов был тяжело ранен осколками мины в ногу и в руку. Он все видел вокруг себя, все ощущал, а двинуться не мог — голень была перебита, предплечье переломлено. Текла и впитывалась в пересохшую августовскую землю густая кровь. Кругом ревело и рвалось — немцы били по полю атаки изо всех своих орудий и минометов. Разбрасываемая взрывами земля падала на развороченные раны.
Немцы подавили атаку, ополченцы отступали. Василий Антонович видел бегущих обратно, видел бегущих мимо, спотыкающихся, падающих и тоже, как он, больше не способных подняться. Он понимал: все, конец. Было страшно. И вместе с тем немножко безразлично. Жизнь кончалась. Так просто и так скоро кончалась. А ещё совсем недавно о ней думалось, что ее впереди бесконечно много.
Потом он смутно ощущал чьи-то цепкие руки, чью-то жесткую спину, слышал тяжелое, трудное дыхание того, кто его нес на себе полтора километра по низкорослым, царапающим лицо кустарникам. Потом и тот, кто нес, и тот, кого несли, оба оказались в медсанбате, на койках рядом.
— Николай Александрович, — спросила Юлия. — Ну вот, скажите, пожалуйста, что вас заставило остановиться, подобрать Василия Антоновича и тащить такую даль? Какое чувство, какая мысль, какие побуждения?
— Как вам сказать, Юлия Павловна. — Суходолов помолчал. — На подобные вопросы отвечать нелегко. Или в пафос ударишься, или до того приукрасишь живое, дело, что от него иконописью отдавать начнет. Если попросту говорить, то первое, что тут сыграло роль, — его глаза. Такие тоскующие были эти глаза. Они смотрели прямо в душу: бежишь, мол, братец, жить хочешь, а я вот умру сейчас, изрезанный осколками, или немцы пристрелят, умру и тебя забуду, а ты меня не забудешь, глаза мои навеки запомнишь. Василий мне говорил потом, что он меня вовсе и не видел, смотрел в небо, да и небо уже уходило для него в туман. А вот так получилось, так мне подумалось. А дальше, когда поднял, когда понес, — в каком-то остервенении действовал: не отдам, донесу!.. И нес, не думая — живой ли он или уже умер, — нес, пока самого минометом не достали. — Глаза, значит? — повторила Юлия в раздумье.
— Выходит, что они. Не одного же Денисова сразили на том поле. Бой сильный был. Действовали мы не больно ловко и сноровисто. Две недели подготовки и — на фронт. Вояки, как говорится, не первого разряда. Много погибло. А вот не кого иного — Василия отыскал я на веем поле, за него душой зацепился.
Домой Юлия вернулась поздно, в первом часу ночи. Суходолов довез ее до подъезда. Но, взглянув на окна третьего этажа, которые относились к квартире Денисовых, и увидев, что все они темные, она решила идти по лестнице со двора, с так называемого черного хода, ключ от которого предусмотрительно положила в сумку ещё днем. Стараясь как можно тише повертывать его в замочной скважине и как можно осторожнее отворять дверь, переступив порог, она увидела, что старания ее напрасны. Василий Антонович и София Павловна сидели за кухонным столом и пили чай. Василий Антонович посмотрел на нее так холодно, как, пожалуй, никогда ещё не смотрел. «Ну и пусть свирепствует, — подумала Юлия. — Его власть надо мной окончена». С независимым видом она хотела пройти в комнатку, которую уже называла своей.
— Юля, обожди, — сказал Василий Антонович. — Сядь-ка сюда. — Не вставая, он придвинул к столу третий стул.
— Спасибо, я поужинала. Хочу спать.
— Еще выспишься. Завтра день длинный. Садись, садись. Надо подумать о твоем устройстве, о твоей работе.
— А я уже это сделала, подумала. Я уже работаю. И завтра спать до обеда мне не придется. Завтра я пойду…
— Ну сядь, сядь, — повторил Василий Антонович и, взяв ее за руку, заставил опуститься на стул.
Сестра Соня молчала, вертя в руках чайную ложечку.
Что-то они оба уж очень не нравились отлично настроенной Юлии.
— Так куда, ты говоришь, пойдешь-то? — спросил Василий Антонович, глядя не на нее, а в пустую чашку.
— Туда, где я работаю, дорогие товарищи. Можете по поводу меня не переживать, не волноваться, никаких забот обо мне не проявлять, — ответила она с радостным вызовом. — А работаю я в театре оперетты.
— Ну вот что, Юлька, — сказал Василий Антонович, — это в тебе вино играет, поэтому ты такая эмансипированная. Ни в какой оперетте ты не работаешь.
— Да, но завтра я заполню… — Она раскрыла сумку, выбросила на стол листки, взятые у Лапшина.
— Заполнишь это все в Драматическом театре.
— Что вы мне голову морочите?.. А ты чего молчишь? — почти крикнула она на Софию Павловну.
— А потому молчу, — сказала София Павловна, — что Василий Антонович только и делал весь вечер, что твоими делами занимался. У нас тут не дом, а телефонная станция была. Недавно только и отзвонились. Павлушке заснуть не давали. С ним Шурик сейчас там…
— Ничего не понимаю. — Юлия встала.
— Для начала уясни то, что, источая винные ароматы, не следует ходить наниматься на работу, — строго сказал Василий Антонович. — Нечего подагрических старичков в ходатаи к себе приглашать, по ресторанам с ними болтаться, пароходные экскурсии в потемках устраивать.
Юлия примолкла.
— В оперетте никакие мастера костюмов не нужны, — продолжал Василий Антонович. — Перепуганный директор звонил секретарю обкома Огневу, который ведает у нас культурой. Дескать, нагрянула родственница Денисова, взяла за горло администратора… тоже мне нашла силу!..
Юлия грустно усмехнулась.
— Я взяла его за горло? Да он сам вертелся вокруг меня волчком…
— Вот-вот, обворожила любвеобильного гидальго, тряхнула прелестями…
— Что же все-таки будет? — Юлия растерянно смотрела то на Василия Антоновича, то на Софию Павловну.
— Ты пойдешь завтра в Драматический театр, — ответил ей Василий Антонович.
— Но ведь там не надо…
— Да, конечно, подгулявших особ там не надо. Директор был совершенно прав. А хороший художник необходим. Его уже два месяца ищут. Вот так, Юлия Павловна. Возьмешь свои работы, пойдешь покажешь. Если сочтут возможным, примут тебя.
Юлия бросилась в свою комнату и затворилась там, взъерошенная, грызущая губы. Она грызла их от обиды. От ужаснейшей обиды. Неужели же она такое ничтожество, что без посторонней помощи свою судьбу устроить не способна? И как обидно, до чего же обидно, что этой рукой помощи снова и снова оказывается рука холодного и черствого Сониного мужа. Уверенный, видите ли, всезнающий, никогда не ошибающийся!
Знала бы она, обозленная, обескураженная, чтб в эти дни было на душе у того, кого она с таким сарказмом называла всезнающим, никогда не ошибающимся. Утром он приехал в больницу, куда ночью привезли Черногуса. Но в палату к Черногусу Василия Антоновича не пустили: он лишь взглянул на него через слегка приоткрытую дверь. На белой подушке лежала голова с редкими седыми волосиками. Лицо было иссиня-желтое и нос по-птичьи острый, длинный. Поверх одеяла были сложены руки — сухие и коричневые, будто у святых на старинных иконах.
Главный врач сказал Василию Антоновичу, что Черногус безусловно поправится. Дело только во времени.
— А когда поправится? Примерно?
— Как дело пойдет, Василий Антонович. Может быть, через два, может быть, через три месяца. Волновать только его не надо. Вот положили в отдельную палату. Следователю, говорят, так надо…
— Какому следователю! — Василий Антонович возмутился. — Что за безобразие. Не трогайте вы его.
Почему-то он чувствовал себя виноватым в этой истории. Чего-то он недоделал в ней с самого начала. Но чего?
Днем в кабинет к нему зашел Огнев.
— Музей мое ведомство, — сказал Огнев. — История, конечно, неприятная. Но в общем-то и целом, в ней нет ничего экстраординарного. Старичок. Одинокий. Говорят, у него ни родных, ни близких…
— Старичок не старичок, Игорь Михайлович, — сухо ответил Василий Антонович. — А факт тот, что мы чего-то недодумали. И очень плохо, что недодумали. Вот так. — Пробурчал ещё кое-что, неразборчивое, себе под нос, а вслух добавил: — Сами стариками будем. Не думайте, что оно пройдет мимо. И не слишком уж далеко до этого.
Юлия была занята своим. Ни в лице, ни в глазах Василия Антоновича она его огорчений не заметила.
В комнату к ней зашла София Павловна.
— Юля, ты не очень тактично себя ведешь по отношению к Василию Антоновичу. Это нехорошо, Юля. Уж хотя бы потому, что он намного старше тебя, и ты…
— Не читай моралей, моралистка! Нельзя же до такой степени растворять себя в делах и интересах мужа, как ты, Соня, растворяешься. Ты утратила всякую индивидуальность, ты придаток к нему, а не самостоятельный человек. — Все это Юлия выговаривала зло, одним духом, не останавливаясь на знаках препинания. — Ты уже, наверно, и мысли его читаешь на расстоянии. Стоит ему открыть рот, как ты уже знаешь, какое оттуда слово вылетит…
София Павловна зажала уши ладонями и вышла. Да, да, да, Вася совершенно прав: появление младшей сестры всегда вносило в их дом только беспокойство, нервозность и взаимное недовольство.
7
Василий Антонович сидел во главе длинного стола в своем обкомовском кабинете. За столом был Лаврентьев, были председатель облисполкома Сергеев и заведующий отделом сельского хозяйства обкома Костин. Перед Василием Антоновичем и перед каждым из присутствовавших лежали машинописные экземпляры доклада, который Василию Антоновичу предстояло сделать на бюро ЦК по Российской Федерации. Точнее, это ещё не было окончательным текстом доклада, а только одним из его проектов — уже не первым. Все его не раз перечли — каждый у себя, сошлись теперь, чтобы снова и снова обсудить и основные положения, и детали, и выводы.
— Как будто бы все на месте. — Василий Антонович посматривал на своих товарищей поработе в области. — И в то же время чего-то не хватает. А чего? Рассказать о том, как шел сев, как мы к нему готовились, привести все эти цифры, — этого же мало будет для членов бюро, для секретарей ЦК, для всех, кто потом станет знакомиться с нашим докладом по стенограммам.
— Мне кажется, — заговорил Лаврентьев, — что мы обстоятельно и, так сказать, фундаментально констатируем положение вещей. Материал собран обширный, богатый. Наш отдел сельского хозяйства оказался на высоте. В научной работе, например, фактический материал — основа основ. Но именно основа. А для чего основа? Для глубокого анализа, для выявления закономерностей и для теоретического осмысления, которое бы открывало дорогу практике. Вот этого у нас, кажется, и не хватает в докладе. Если вообще чего не хватает.
— Может быть, может быть, — сказал Василий Антонович. — Впечатление от доклада создается такое, будто бы у нас нет перспектив. Дела есть, а перспектив нет. Для чего-то мы пахали, сеяли, осушали, подымали пойменные земли… А, для чего?
— Чтобы зерновое хозяйство поднять, — ска-зал Сергеев. — Кормовую базу расширить. А на этой базе решительно двинуть вперед животноводство.
— Ну, а зачем это? — настаивал Василий Антонович.
— Стоит задача — Америку догнать, — опять сказал Сергеев. Ты вроде как на экзамене нас допрашиваешь, Василий Антонович.
— Будет правильней, если ты скажешь: как на теоретическо-практическом собеседовании. — Василий Антонович засмеялся. — Вот давай поспорим, чего мы стбим как теоретики. Как практики мы более или менее держимся на среднем уровне. У высокогорцев, у тех и практика покрепче.
— Да, — согласился Сергеев. — В большом почете, черти!
— Так с какой же целью, — повторил Василий Антонович, пропустив мимо, замечание о почете высокогорцев, — с какой целью мы взялись догонять и перегонять Америку, пока что богатейшую из стран мира?
— Мирное соревнование, — сказал Костин. — Сосуществование двух систем.
— А для чего это соревнование?
— Для того, чтобы показать всему миру преимущества социализма над капитализмом. Имею в виду экономические преимущества. Социальные, политические давно доказаны.
— Как же это мы докажем?
— Как?.. — Костин задумался.
— А вот как! — Василий Антонович заговорил с воодушевлением. — Высочайшим в мире уровнем жизни, какого можем достигнуть мы и на какой не способен даже такой, высоко оснащенный технически капитализм, как североамериканский. Нам с капитализмом, скажем, Италии или Франции, Японии или Австралии никакой нужды соревноваться уже нет. Они отстают от нас по всем линиям. Наша партия устанавливает для себя, так сказать, наивысший барьер, за которым всему капитализму быть битому — Соединенные Штаты Америки. Но я это совсем не для политграмоты здесь развожу. Ты, Михаил Петрович, мою жену, Софию Павловну, знаешь, конечно. Что она историк, ты тоже знаешь?
— Да уж как-нибудь, — ответил Костин.
— Ну вот, недавно она статью в свой исторический журнал писала. Я полистал ее черновики без ведома автора. Интересные есть местечки в статье. Шаль, что мы редко на историю оглядываемся. У нее сказано примерно так: древняя Греция, мол, особенно в «золотой век» Перикла, достигла очень больших высот цивилизации. Демократия… искусства, наука. Замечательные строительства велись. Словом, золотой век, и только. Но почему-то все цвело, цвело — да и зачахло. Не сумели — та усеченная демократия, тот античный строй, — не сумели они обеспечить благами цивилизации всех до единого граждан своей страны. Понимаешь: всех до единого! Вот что важно. И не могли те греки этого сделать. Вся их демократия, все их процветание на рабах держались. В Афинах при том же прославленном Перикле из четырехсот тысяч жителей половина была рабами. Да и из двухсот тысяч, так сказать, свободных граждан только тысяч тридцать или около того были полноправными гражданами Афин, только для них и существовали и демократия и цивилизация. Любой строй рано или поздно погибает, если он не сможет обеспечить своими благами всех до единого граждан. Погиб рабовладельческий строй — одна из самых изуверских форм эксплуатации человека человеком, погибло пришедшее ему на смену крепостничество, на наших глазах рушится и капитализм. Только социалистический строй дает возможность каждому человеку до единого пользоваться благами цивилизации, или, как мы теперь говорим, культуры. Дает возможность, говорю, да? Но пользуются культурой далеко ещё не все в равной степени. А надо добиться, чтобы все ею пользовались. Надо щедро давать культуру людям. Вот для того мы бьемся и за зерновое хозяйство, и за повышенна продуктивности животноводства. Не как за кусок хлеба или мяса бьемся, а как за материальную базу могучей культуры для каждого человека. Для каждого! Мы бьемся за истинно золотые времена человечества. И вот грош нам цена тогда, если и нивы наши будут тучными, и скот упитан — выше некуда, а жить люди по-прежнему останутся в жалких хатенках, при керосиновых лампочках, до села своего пробираться по колено в грязи… Мы же видим это все, выезжая в область!
— Точно, точно, — подтвердил Костин. Лаврентьев красным карандашом в раздумье рисовал каких-то человечков на листе бумаги. Сергеев, подперев подбородок ладонью, сосредоточенно смотрел в окно на то, как по стеклу бежали струйки мелкого, сносимого ветром дождя.
— Какие наши будут доходы в итоге сельскохозяйственного года, — продолжал Василий Антонович, — какие в результате колхозы смогут бросить средства на строительство, на культуру, чем города смогут помочь селу — вот о чем бы нам следовало рассказать в докладе.
— Пожалуй, это другая тема, — сказал Сергеев. — Нас просят доложить о весеннем севе.
— Если бы кто-нибудь из нас с тобой был старгородским губернатором… — Василий Антонович чиркнул спичкой и закурил папиросу. — Мы бы, пожалуй, тем и ограничились в докладе: посеяно столько-то, в такие-то сроки, таким-то зерном.
Сергеев рассмеялся:
— Кто бы нас с тобой допустил до губернаторства! Свиней бы мы с тобой пасли.
Засмеялся и Василий Антонович.
— Ну что ж! У свинаря Морозова из «Красного луча» — два ордена Ленина и Золотая Звезда Героя. А у тебя, председателя облисполкома, или у тебя, Петр Дементьевич, у секретаря обкома, много ли у вас наград, товарищи дорогие?
— У меня кое-что есть, это ты зря, Василий Антонович, — ответил Лаврентьев. — Три боевых Красных Знамени да четыре. Отечественной войны обеих степеней. Медалей не считаю.
— Смотри-ка! — Василий Антонович удивился. — Ну, извиняюсь тогда. Что же ни разу не надел, даже в праздник?
— У меня тоже кое-что имеется, — сказал и Сергеев. — Вот когда на красных подушечках понесут их впереди, тогда и увидите…
— Слушай! — Василий Антонович посмотрел на него с неудовольствием. — Это не повод для шуток. Не люблю я разговоры о смертях. — Он взглянул на часы. — Давайте, товарищи дорогие, подумаем в таком вот плане, в плане перспектив и осмысления фактов, и затем ещё разок соберемся. Послезавтра, например.
— Может быть, намекнуть, хотя бы вскользь, что мы не прочь посоревноваться с высокогор-цами, — предложил Лаврентьев. Стимул для наших колхозов будет, тянуться заставит.
— Что ты, что ты, Петр Дементьевич! — Сергеев даже руками замахал. — С какой-нибудь другой областью — это ещё туда-сюда. А с высоко-горцами соревноваться…
— Если по принципу «туда-сюда», то лучше и совсем не надо. — Василий Антонович поднялся. — Без десяти четыре. В четыре должен творческие кадры принимать. Давно обещал. — Вместе со всеми он вышел в приемную, спросил Воробьева: — Как там, не готовы ещё?
— У товарища Огнева собираются.
— Когда соберутся, пусть сюда их приводит.
Василий Антонович распахнул окна в кабинете. Дождь шумно орошал листву деревьев в парке. Прячась под листвой, звонко распевали зяблики. Кабинет заполнялся влажной и хорошо пахнувшей свежестью. Стояли последние дни мая, наконец-то область завершила сев — пусть на неделю позже, чем высокогорцы, но завершила, и теплые дожди уже не только не помеха, напротив, они помогают всходам, помогают росту всего живого на полях. Хорошо! Свалились с плеч и то посевное напряжение, и то ожидание ежедневных сообщений из районов о ходе работ, та постоянная готовность ехать туда, где образовались затор, заминка, где, как ты полагаешь, без твоего присутствия дело не выправится, не пойдет.
Василий Антонович вновь закурил, пуская дым в окно. Но дым тянуло назад, в комнату. Появился Воробьев.
— Собрались, Василий Антонович. Василий Антонович бросил недокуренную папиросу в пепельницу, пошел к дверям. В них, один за другим, уже входили руководители местных отделений Союза писателей, Союза художников, Союза композиторов, представители актива атих организаций. Они здоровались, называли себя. Одних Василий Антонович знал, других видел впервые, лица третьих где-то ему встречались.
— Прошу, прошу, рассаживайтесь, пожалуйста! — Василий Антонович приглашал к длинному столу. — Сейчас нам чайку организуют. Мошет быть, окна закрыть? Нет? Ну, тем лучше. Поэтам, говорят; нравится такая лирическая обстановка. Она им создает творческое настроение.
— Творческое настроение как поэтам, так и прозаикам создают хорошие квартиры, — сказал секретарь отделения Союза писателей прозаик Баксанов, острый на слово, жизнерадостный толстяк, очень хорошо выступающий на партийных конференциях, на больших областных собраниях, на совещаниях и слетах.
— Композиторам тоже!
— И художникам!
— Ну вот, с грубо материального начинаем разговор о пище духовной! — В шутливом огорчении Василий Антонович развел руками.
— К слову пришлось, Василий Антонович!
— Это ничего, это, может быть, и хорошо, — сказал он, садясь в свое кресло. — Мы как раз перед вашим приходом и о том и о другом рассуждали. Одно от другого не оторвешь. Обсуждали итоги весеннего сева, а неизбежно заговорили и о культуре села. Сегодня без борьбы за культуру в деревне уже нельзя успешно двигаться дальше.
— Вы правы, — воспользовавшись паузой, сказал художник Тур-Хлебченко. — Минувшим летом я выезжал на этюды в такие глухие, дальние районы, как Долгопольский и Васютинский. И что вы скажете, вокруг меня целый актив сколотился. Ребята, лет так по пятнадцати, по двадцати, тоже, знаете, к изобразительному искусству тянутся. Маслом хотят писать. А ни черта… то есть как это сказать?.. Ничего у них для этого нет. Ни холста… Где они его там возьмут? Ни, тем более, красок.
— У нас и в Старгороде-то порядочных красок нет, — добавил кто-то из художников. — В Ленинград, в Москву надо ездить.
В самом деле, черт возьми, думал Василий Антонович, слушая эти рассказы и реплики, сколько же всего надо, о скольком надо позаботиться! Этюдники, кисти, таинственные муштабели… Не только без дорог, без электричества и водопровода не пойдет культура, но вот и без них, без муштабелей. Что это, кстати, такое? Надо у Юлии спросить.
Разговор шел остро, откровенно, первого секретаря обкома нисколько не стеснялись. Отлично, отличдо, думал Василий Антонович. Вот они боевые и страстные помощники партии в великих делах. Как замечательно было бы, если бы все они, дружно, били в одну цель — своими произведениями воодушевляли людей на строительство коммунистического общества.
— Слушайте, товарищи, — сказал он. — Говорят, у нас в городе завелся молодой поэт, который несет совершеннейшую ересь, но до того через эту ересь нравится женскому полу, что за право побыть в его обществе даже дерутся.
— Василий Антонович, — ответил представитель Союза композиторов, собиратель народных мелодий, известный песенник, старик Горицветов. — Позвольте, я вам объясню. Это, знаете, какого рода явление? Это совсем не новое. Это очень старое. Когда-то их были сотни, таких подражателей Игорю Северянину. Помню их, волосатых, бледнолицых, в бархатных черных блузах. Шел десятый год, одиннадцатый, тринадцатый… Завывали в клубах, на эстрадах, слагали «поэзы». Если позволите, кое-что почитаю? У меня отличная профессиональная память.
Собор грачей осенний, Осенняя дума грачей. Плетни звено плетений, Сквозь ветер сон лучей. Бросают в воздух стоны Разумные уста. Речной воды затоны, И снежной путь холста! Три девушки пытали: Чи парень я, чи нет? А голуби летали, Ведь им немного лет. И всюду меркнет тень. Ползет ко мне плетень.— Ясно? — сказал Баксанов. — Ползет ко мне плетень. Многозначительное ничто. Горицветов прав, Василий Антонович. Этот молодец, о котором вы спрашиваете, повторяет зады; эксплуатирует, можно сказать, недоразработанную жилу мещанства. Мещанство живуче, оно дает свой заказ. Не нашел пиит золота настоящей поэзии, силенок не хватило, набрел на заброшенные штольни с мещанскими самоцветами и давай выдавать на-гора. Мещанство, оно штука такая — хотя и цепкая, хваткая, но без пищи ему трудно, хиреет. А тут вдруг подбросили топлива. Истопник этот и стал кумиром. Верно, за полтора года третья дура в жены к нему идет.
— Такие стихи, что он сейчас пишет, я тоже писал, — сказал Горицветов. — Лет сорок пять назад, когда гимназистом был. Вот вам четыре строчки. — Он встал в позу, стал читать с длинным подвыванием:
И не было сил, чтобы крикнуть набатово: «Ну постой, не спеши, обожди!» А ветер все так же колени обхватывал, И в проспектах рыдали дожди.— Здорово! — закричали, захлопали, засмеялись за столом.
— А почему бы вам, — сказал Василий Антонович, — не писать и не публиковать острых пародий на мещанские стихи, не бороться с литературным мещанством оружием смеха? Это сильное оружие. Более сильное, чем оружие административных мер. Мне рассказывали, что в Польша в тридцатые годы, или перед тридцатыми годами, бурно расцветала обывательская литература, в прогрессивных кругах ее называли литературой «для горничных». Эта наводнившая книжный рынок литература очень беспокоила передовых польских писателей. Но поделать с нею они ничего не могли. И вот одна из писательниц, из прогрессивных писательниц, решилась на такой шаг. Она написала книгу, как бы сгусток, концентрат, эталон, что ли, литературы «для горничных». Остроумно, талантливо высмеяла, высекла и самих сочиняющих для мещан, и их продукцию. И что вы скажете! Говорят, что это сыграло огромную роль. Над литературой «для горничных» даже сами горничные смеялись.
— Скажут, не этично, то да сё. — Баксанов в шутку почесал пальцем затылок.
— Кто скажет?
— Найдутся, скажут.
— А вы, как ЦК наш советует в таких случаях, к Ленину обращайтесь. У Ленина учитесь тому, что этично и что не этично. Самым не этичным для революционера Ильич считал опускание рук, всякие колебания, желание найти обходную дорожку поспокойнее, пресловутый третий путь, в то время когда надо идти решительно вперед, когда надо действовать и действовать революционно, в интересах партии, в интересах народа. Как вы считаете, товарищ Огнев?
Огнев шевельнулся на стуле, поправил очки.
— Да, конечно, Василий Антонович, вы совершенно правы.
Василий Антонович ждал, что он ещё что-нибудь скажет. Но тот ограничился одной этой фразой.
— Мы отвлеклись немножко, — сказал Василий Антонович. — С чем пришли-то, рассказывайте! Какая беда приключилась?
— Дело в том, Василий Антонович, — заговорил Огнев, — что три творческих союза, представителей которых мы видим сегодня в обкоме, чтобы ликвидировать вредную, обедняющую жизнь каждого из них, взаимную разобщенность и оторванность, хотели бы перестроить свою общественную практику. В частности, они обращаются к областной партийной организации с просьбой помочь им в устройстве объединенного творческого клуба.
— Да, да, — заговорил Баксанов. — Мы хотим, чтобы у нас был отличный общий клуб, чтобы он был в одном из лучших зданий, в центре города, на лучшей улице — на проспекте Маркса и Энгельса, чтобы мы все — писатели, композиторы, художники — могли собираться вместе, спорить, обсуждать и жизнь и творчество, обогащать друг друга идеями, наблюдениями, фактами, чтобы к нам на огонек шли бы и работники театров, и научные работники города и области, и архитекторы. Мы беднеем, не общаясь друг с другом. Мы как средневековые цехи. Нет больше такого участка жизни в стране, которого бы не коснулись благотворные перемены последних лет. Только наш участок, участок творческих союзов, будто бы он из гранита, четверть века стоит неколебимо. Уж на что, казалось, были незыблемым, краеугольным камнем сельскохозяйственного строительства машинно-тракторные станции, и те подверглись решительным переменам. Не говорю про промышленность, про всякое иное. А мы…
— Какие-нибудь практические предложения есть?
— Есть, Василий Антонович. — Огнев полистал бумаги в своей папке. — Товарищи просят себе здание Зоотехнического института.
— Вкус у товарищей неплохой! — Василий Антонович улыбнулся. — Бывшее офицерское собрание. А куда же зоотехников девать? Коленом их, что ли?..
— Не коленом, а в монастырь Андрея Первозванного, — ответил Горицветов. — Там отличные помещения. Их запустили только. Это в двух километрах от города.
— Знаю, знаю, — Василий Антонович кивнул.
— Там МТС располагалась с тридцать третьего года. А теперь ремонтно-техническая станция. Для нее надо специальные помещения строить, специальный городок. Поближе к колхозам.
— Ого, сколько перестановок да передвижек! — Василий Антонович встал, подошел к окну. Дождь утих, сквозь тучи, стронутые с места ветром, пробивалось вечернее солнце. Капли воды на ветвях, на листьях вспыхивали то красным, то синим, то опаловым или голубым — всеми цветовыми богатствами радуги. — В принципе я согласен. — Он вновь вернулся к столу, но не сел, оперся руками о спинку своего кресла. — В ваших предложениях мне видится доброе зерно рационального. Но как мы решим — какое здание, кого куда передвигать, куда переселять — об этом надо основательно подумать. Дайте обкому недельки две-три на размышления. За это время мы съездим в Москву, отчитаемся в работе, проделанной за зиму и на весеннем севе. А после, через две-три недельки, снова пригласим вас сюда, за этот стол. А что касается квартир, о которых заговорил товарищ Баксанов, то он прав. Это неверно, будто бы великие творения мирового искусства создавались только на чердаках и в подвалах. У Рафаэля, как известно, был роскошный дворец, и жил великий художник по-княжески. Тициан тоже не мог пожаловаться на недостаток благ жизни. Скажем прямо, не плохо жил и наш сановный соотечественник Гаврила Романович Державин. Имел достаток Иван Сергеевич Тургенев. И так далее. И ведь не плохо у них получалось с творчеством-то, а? Ну, правда, были и другие примеры, и, может быть, в значительно большем числе. Мы знаем Рембрандта, знаем Николая Васильевича Гоголя. Или вот как-то читал я о жизни художника Александра Иванова, который «Явление Мессии» написал. Громадную такую картину. Замечательная картина. Всю жизнь человек бедствовал, грош за грошом вымаливал у тогдашней Академии художеств, у русских меценатов, у царского правительства. Но такие примеры — не доказательство пользы бедности для творческих работников. Окажись у Гоголя и у Иванова побольше средств, живи бы они без необходимости думать о куске хлеба на завтра, кто знает, может быть, ещё и лучшие бы произведения они создали. Словом, вопрос о квартирах тоже вполне законный. Кстати говоря, обижаться на областные организации по этому поводу вы и не можете. Или можете?
— Обижаться не можем. В черном теле нас не держат, — ответил Баксанов. — Но нуждающиеся в хорошем жилье у нас ещё есть.
— Поладим, поладим. — Василий Антонович пожимал руки на прощанье. — Из-за квартир ссориться не станем. Получше только пишите о жизни народа.
Проводив эту большую и шумную компанию, он позвонил в больницу, главному врачу, поинтересовался здоровьем Черногуса.
— Даже лучше, чем можно было ожидать, — ответил главврач. — Насчет инфаркта мы ошиблись. Нас обманул спазм коронарных сосудов. Возможно, что через недельку-другую выпишем.
— А приехать к нему нельзя?
— Лучше бы этого пока не делать, Василий Антонович. Очень нервничает. Пусть успокоится да окрепнет.
8
Еще недавно такая просторная, квартира теперь была довольно плотно заселена. В кабинете Василия Антоновича расположились Александр с Павлушкой; маленькая комнатка возле кухни стала будуаром Юлии; столовую превратили, так сказать, в проходную и общую. Устав за день от встреч и разговоров с людьми, Василий Антонович шел за тишиной в спальню. Зажигал ночную лампочку, садился возле нее в любимое свое старое кресло, пододвигал под ноги стул и что-нибудь читал.
Чтение было его страстью с детства. Такие подсчеты никогда не производились, но если бы их произвести, то оказалось бы, что он перечитал многие тысячи книг. Правда, припоминая теперь «полные собрания» Буссенара и Жаколио, Понсон дю Террайля или Раскатова, в двенадцати томах запечатлевшего потрясающие похождения Антона Кречета, толстые связки трепаных брошюрок в красочных аляповатых обложках, которые «с продолжением» повествовали о приключениях «знаменитых сыщиков» Ника Картера, Ната Пинкертона и Пата о'Коннера, российского Путилина, благородного разбойника Лихтвейса, обитавшего в таинственной недоступной пещере, — перебирая в памяти десятки и сотни иных подобных сочинений, какими он увлекался лет до пятнадцати — шестнадцати, Василий Антонович досадовал на то, что так много драгоценного времени растрачено напрасно.
Лет до двадцати пяти он читал главным образом художественную литературу, не считая, конечно, тех специальных книг, когда учился в институте и затем — когда пришел работать инженером на завод. Он читал все подряд, без системы, что только под руку попадало. Позже читал и на фронте, в дни затиший и земляночного сидения, и, конечно же, в госпиталях. Последний десяток лет, на требовавшей большого напряжения партийной работе, он так разбрасываться уже не мог. Из художественной литературы читал лишь то, о чем возникали толки в читательских кругах; остальное свободное время посвящал книгам, которые как бы являлись главными вехами на пути познания и объяснения человеком жизни на земле. Ему хорошо помнилось, как, полистав несколько страниц старой, переведенной на русский и ещё в прошлом веке изданной геродотовской «Истории в девяти томах», он постепенно зачитался путевыми записями этого замечательного грека, который при тех средствах передвижения, какие существовали на земле две с половиной тысячи лет назад, объездил и обошел весь Египет, окружающие его страны Африки и Азии, побывал в Вавилоне, своими глазами видел легендарный город при жизни, поднимался по Нилу до Асуанских порогов, был даже в степях нынешней Украины, — чуть ли не в тех местах, где сейчас стоит Киев, добрался к скифам и все, что видел, что слышал, подробнейшим и добросовестнейшим образом записал.
В систематическом чтении Василий Антонович, по сути дела, так дальше и пошел от Геродота — через книги, через труды великих историков, путешественников, мечтателей, открывателей нового. От некоторых из них остались жалкие крохи, но зато какие гениальные. Его поразил гений Демокрита — соотечественника и современника Геродота. Поразило его то, что слово «атом» было названо уже тогда, в пятом веке до нашей эры, и хотя Демокрит и не предполагал способности атома расщепляться, но первый материалист все же дошел до мысли, что весь мир состоит из атомов, что мир материален; богу в мире Демокрита места не оставалось, и не потому ли средневековые церковники с таким остервенением выискивали и уничтожали огнем каждую строку, написанную Демокритовой рукой.
Чтению подобных книг способствовало, само собою разумеется, и то, что они всегда были в доме: их покупала или раздобывала во всевозможных запасных книжных фондах страстная книго-любка София Павловна. Усмотрев что-либо особо интересное среди слежавшихся от времени желтых листов, она или тут же прочитывала это вслух Василию Антоновичу, или же, отметив соответствующее место закладкой, советовала ему непременно прочесть в свободное время.
Сидя в кресле, Василий Антонович читал в этот вечер разысканную в музейных хранилищах затрепанную книгу о старгородских древностях, об истории старгородского кремля и его церквей, иные из которых насчитывали по семь, по восемь и даже по десять веков жизни, о забавных преданиях старины, о древних обычаях старгородцев, о их быте.
У окна, за своим маленьким рабочим столиком, при уютном свете лампы с зеленым колпаком, занималась София Павловна, Соня. Из такой же старой книги она что-то выписывала в ученическую, школьную тетрадку. По временам Василий Антонович отрывался от чтения; у него уставали глаза, чего до отпуска ещё не случалось, — они слезились, в них возникал туман, и буквы на страницах книги теряли очертания. Он смотрел тогда на Соню. Он видел Соню сбоку, в профиль. Губы ее шевелились, она перечитывала то, что было перенесено в тетрадь ее пером. Поблескивали Сонины очки. Он вот читает ещё и так, а Соня без очков уже не может. Василий Антонович слышал однажды, ещё в Ленинграде, как Юлия сказала про Соню: «Простушка». Но это же неверно. Соня была женщиной хотя и очень цельного, но многогранного характера, с большой, много вбирающей в себя, не крикливой душой. Со своеобразными мерками Юлии о ней судить было невозможно. Вслух она отвергала наряды, пестрых и пышных, вычурных одежд не признавала, — может быть, ещё и поэтому в глазах Юлии она выглядела простушкой? Но Василию-то Антоновичу известно, с какой тщательностью, с какой продуманностью одевалась Соня. Это было и в самом деле все просто и вместе с тем так изящно, так тонко, что фигурой своей Соня всегда была легка и молода. В последние годы немножко стала сдавать лицом: морщинки, сединки на висках, надо лбом; не тот цвет кожи…
Да, время свое дело делает. Но Соня, эта деловая, ученая Соня, тоже принимает меры, чтобы замедлить, задержать неумолимый процесс; делает она это в строгой тайне от всех, и в первую очередь от него, от Василия Антоновича. Ему попадаются на глаза иной раз какие-то массажные щетки для лица, какие-то карандаши для подкраски волос; но когда Соня пускает в ход всю эту технику, ему ещё видеть не приходилось.
С нежностью смотрит он из угла на свою Соню, с которой двадцать семь лет рука об руку идут они по жизни, и ещё не устали идти, и вряд ли когда-нибудь устанут, потому что с первых дней совместной жизни, с первых дней любви они стали не просто мужем и женой, но и большими-большими друзьями. А известно, что любовь — чувство менее прочное, чем дружба, и, во всяком случае, более эгоистичное. Любовь прочна, длительна и беззаветна лишь в том случае, когда идет в паре с дружбой. Дружба поддерживает ее — и в трудные минуты и на тех скользких участках жизни, какие нет-нет да и встречаются на пути. Где способна спасовать или изменить любовь, там выстоит, все выдержит дружба.
Василию Антоновичу хочется подняться, подойти, обнять Соню. Она же не рассердится, если он ей помешает, если даже и оборвет какую-нибудь мысль. Но он сидит и смотрит. Соня чувствует его взгляд, поднимает голову над бумагами, чтобы взглянуть поверх очков в его сторону. Но он уже снова уткнулся в книгу, опередил ее.
Соня, эта маленькая — ростом, как постоянно записывают ей в санаторных книжках, в сто пятьдесят восемь сантиметров и весом в шестьдесят четыре килограмма, — маленькая и часто беспомощная женщина, которая если возьмется вбивать гвоздь в стену, то непременно отшибет себе пальчики, а молоток уронит на ноги, если задумает шить, то шитье ее длится не более тридцати секунд — до первого укола иголкой; если на всей улице есть хотя бы одно скользкое место, то она непременно на него наступит и, поскользнувшись, шлепнется, а потом горько плачет крупными слезами от обиды, — эта Соня вместе с тем могучее существо, силы которого не поддаются измерению никакими общепринятыми мерками.
Где бы ни была она во время войны, стоило ей получить известие, что Василий Антонович в госпитале, ранен, и где бы ни располагался этот госпиталь, проходило несколько дней, и в самую одинокую, в самую горькую для распластанного на койке Василия Антоновича минуту, в палату, где он лежал, входила она, Соня. И все, конечно же, совершенно менялось. Соня бессменно сидела возле него ночи и дни, она несла бессонную вахту возле его постели — до тех пор, пока он не вставал. Если было надо, Соня могла достать самолет, могла на нем привезти самых выдающихся профессоров откуда угодно — из Москвы, с Урала, из Алма-Аты. Она все могла для него, Соня. Задуматься: кто она, ну, кто? Маленький, крохотный человечек. Но на просьбы этого человечка откликались командующие фронтами, секретари ЦК партии.
«Что значит — кто она? — подумал Василий Антонович, мысленно сказав эти слова. — Любящая женщина. Вот она кто». А любящая женщина, пожалуй, посильнее очень и очень многих сильных по должности. Он того не может, секретарь обкрма, что может она, Соня.
Василий Антонович все же не выдержал, отложил книгу, поднялся, подошел к ней. Обнял рукой ее голову, погладил. «Соньчик. Пуговица». Почему-то иной раз он называл ее пуговицей. Почему? — объяснить бы этого не смог, как миллионы других ни за что не объяснят, почему своих любимых они называют то «Кузей», то «Мумой», то «Рыжиком», хотя имена тех и рядом не стоят ни с Кузьмой, ни с тем, из чего можно образовать «Муму», и цвет волос которых совсем не рыжий, а, скажем, черный, или даже их вовсе уже нет, этих волос.
София Павловна не стала спрашивать, чем объяснить минуту его ласки, она сама испытывала такие минуты, не нуждающиеся в объяснениях. Она только сказала:
— Это почему-то с тобой редко теперь случается. Не очень-то ласковым ты стал в последние годы.
— Работа такая, Соня, — ответил в шутку. Походил по комнате, сказал: — Какого беса Николай не едет. Уже девять. — Но тут зазвонил звонок в передней. — Наконец-то, старый леший!
Суходолов вошел шумно, стал требовать чаю, пирогов; любой посторонний понял бы, что это свой человек в доме Денисовых и ведет он себя так только потому, что уверен в дружеских чувствах к нему.
Чай согрели, сели за стол в столовой. К столу вышел и Александр. Павлушка за спинами сидящих вокруг стола, таская на нитке, катал трескучий автомобильчик. Автомобильчик стукался о ножки стульев, о низ буфета, нестерпимо гремел; было как в мастерской жестянщика.
— Может, нам с ним уйти? — спросил встревоженный Александр.
— А от тебя, думаешь, шуму было меньше? — Василий Антонович посмотрел на него с улыбкой.
— Я был ваш.
— Ох, до чего ты глупый! — София Павловна подняла глаза к потолку. — Николай Александрович, ну подумайте только, вбил себе в голову, что Павлушка непременно всем должен быть в тягость. И такие глупости из-за этого говорит, просто стыдно слушать.
— Дети, брат ты мой, такая штука, — сказал, обращаясь к Александру, Суходолов, — что в тягость ли они или не в тягость, а терпеть их надо. Всех нас, милый, безропотно терпели, и мы будем форменные свиноматки и свинобатьки, если позабудем об этом.
Пока чаевничали, несколько раз звонил обкомовский телефон. Василий Антонович уходил в кабинет, разговаривал с кем-то, кому-то что-то советовал, кого-то довольно раздраженно отчитал. В одну из его отлучек София Павловна спросила:
— Николай Александрович, а у вас на комбинате местечко инженера свободное не найдется?
— Мама, — сказал Александр, — ты же знаешь, я не могу остаться. Зачем этот разговор? Меня не отпустят.
— Ты мне не мешай, Шурик. Если надо будет, отпустят. Дело, Николай Александрович, такое… — Очень деликатно помянув случившееся с Сашенькой, София Павловна высказалась о том, что в положении, в каком оказался Шурик, ему лучше всего переехать в Старгород. Павлушку одного у них оставить он не хочет. Какой же выход? Единственный.
— Есть место, Шура. Есть! — сказал Суходолов. — Хорошее. Начальник, то есть, собственно говоря, инженер участка. Там-то ты что делаешь?
— Тоже участком ведаю, в цехе жирных кислот.
— Ну и у нас такая же должность. А раздумывать — пустят или не пустят… Попросим министерство о переводе, и все. Я попрошу. Ты, конечно, щепетильный, это известно. Но блата здесь никакого нет. Из Ленинграда и, так сказать, в провинцию! Вот если бы отсюда в Ленинград или в Москву — в таком случае можно было бы подумать: не комбинация ли?
— Какая комбинация? — спросил Василий Антонович, выходя из кабинета. — Очередное мошенство?
— У Николая Александровича есть место для Шурика. Заставь его ты, отец. — София Павловна.
— Бриться надо каждый день, дорогой мой. Если кожа нежная, купи электрическую бритву. Придется с Еленой Никаноровной поговорить, что ли? Пусть осматривает тебя с утра, перед тем как выпускать из дому. Есть такие вышедшие из доверия старички, за которыми, как в детском садике, ходить надо.
— Ну брось, брось, Вася, покритиковал, и хватит.
— Я не критикую, я тебе указания даю. Нельзя неряхой ходить. Ты ещё не пенсионер.
— Пенсионером я, Вася, никогда и не буду. Обеспеченная бездельем старость — это не для меня.
— Ну, значит, и держись соответствующим образом.
Суходолов собрался было уходить домой, когда пришла Юлия.
— «Дыша духами и туманами», — продекламировал Суходолов. — Прелестная незнакомка! Только из театра? — спросил он Юлию.
— Ага, только.
— Какая пьеса-то шла сегодня? — поинтересовался Василий Антонович.
— А я и не знаю, я же не актриса, на сцене не играю. Я работала свое. Кажется, что-то Горького. «Враги» или «Дачники»…
— Горький в оперетте? — удивился Суходолов.
Василий Антонович с усмешкой покачал головой:
— В оперетте?.. Эх ты, устроитель темных дел. Великий комбинатор! — Он дружески похлопал Суходолова по спине и проводил до лестницы. — Привет Елене Никаноровне передай.
9
Павлушка в ванной стрелял из пистолета в стену. Он был в восторге от того, как зеленая палочка с резиновой прилипалкой на конце плотно приставала к белым кафельным плиткам. Он с грохотом уронил на пол эмалированный кувшин для воды; с не меньшим шумом сам шлепнулся в таз, в котором Юлия, подливая какой-то магического действия жидкости, полоскала перед сном свои холеные ноги с накрашенными красными ногтями.
Александр, радуясь тому, что сын хоть чем-то занят и не одолевает его бездной всевозможнейших вопросов, на которые, как известно, и десять мудрецов не смогли бы удовлетворительно ответить, разогревал на кухне завтрак, оставленный в кастрюльках и на сковородках Софией Павловной.
Отец накануне уехал в Москву, сказав ещё раз на прощание: «Решай, решай, Шурик. Зрело решай, спокойно, без нервов и мальчишеского упрямства. По-мужски».
Пожалуй, родители правы. Работа у него в Ленинграде, конечно, очень интересная, перспективная; можно в конце концов, не только не отрываясь от производства, но, напротив, — именно на него и опираясь, на его материале, подготовить и защитить кандидатскую диссертацию. Но, в то же время, как там станется с Павлушкой, как? Мама права, неизбежны заседания, совещания, партийные собрания — где на такое время будет он оставлять Павлушку?
Мысль о том, чтобы оставить сына у своих родителей в Старгороде, Александр отвергал категорически. Павлушка для него был частью Сашеньки, всем, что осталось ему от веселой, торопливой, непоседливой жены, короткая жизнь с которой промелькнула, как… Он хотел было сказать: «Как сон». Но бывают такие долгие и мучительные сны, что иная ночь покажется столетием. Нет, жизнь с Сашенькой можно было сравнить лишь с ездой в скором поезде, когда проносишься мимо какого-нибудь прудочка с тихими ивами над ним, с берегами в цветах, с белыми, широко раскрытыми, кувшинками на глубинах и одинокой лодочкой у замшелых мостков. Только потянешься сердцем к этой мгновенной красоте, а ее уже нет, исчезла за поворотом, и уже ползут мимо длинные серые заборы, приземистые пакгаузы из прокопченного паровозным дымом кирпича, крытые черным унылым толем.
Остро запахло чем-то дымным. Одну за другой Александр поднял крышки с кастрюлек — пригорела Павлушкина манная каша. Он подумал о тысячах молоденьких матерей, которых в официальных документах называют: мать-одиночка. Он только десять дней занимается осиротевшим Павлушкой, а как же они, которые своих Валериков и Томочек должны растить в одиночку если не всю жизнь, то, во всяком случае, хотя бы до восемнадцати самостоятельных лет? И при этом работать, зарабатывать и себе и Валерикам с Томочками на хлеб, на одежду, на изнашивающиеся с неимоверной быстротой тапочки, ботиночки, ботики, га-лошки.
— Что-то у тебя пригорело, Шура?
В дверях кухни, обтянутая тонким шелковым халатом, стояла Юлия.
— Каша, — коротко ответил он.
— Давай-ка я возьму это все в свои руки. У тебя оно неважно получается.
— Не надо.
— Перестань огрызаться. Нехорошо. Ну поди, поди, я похозяйствую. — Она оттеснила его плечом от газовой плиты.
Уступив место Юлии, Александр с кухни все же не ушел.
— Ты смотришь на меня глазами своих родителей, Шурик, — сказала Юлия. — И напрасно. Они же в людях ни черта не понимают. А ты посмотри на меня своими глазами. Ты уже давно имеешь право на свой взгляд. Ты мужчина, тебе двадцать седьмой год. Ну, посмотри — разве я урод какой-нибудь? Разве я унылая и способна быть жерновом на шее? Разве я недоброжелательная, злая, неотзывчивая?
Все это она говорила, не оборачиваясь и помешивая в кастрюльках. Александр смотрел на ее смуглую шею в светлых завитках подкрашенных волос, на ее округлые, мягких линий плечи, на туго стянутую талию, на крупные сильные бедра, на ее крепкие, не толстые и не тонкие, ноги. Да, конечно, совсем не урод. Но разве сравнишь ее с Сашенькой! У Юлии все бьет по глазам, ошеломляет, рассчитано на эффект. Сашенька была бесконечно естественна, от нее на людей источался не жар, не огонь, а тепло, доброе, хорошее тепло. Но, может быть, и Юлия была такой в Сашенькином возрасте. В мальчишеские годы Александр мало внимания обращал на свою молоденькую тетку, толком ее той поры не запомнил.
К нему пришла неожиданная мысль: попросить Юлию побыть с Павлушкой — все равно она из дому уходит поздно, и слетать на комбинат к Суходолову, взглянуть, что это за предприятие, приобрести хоть некоторое представление о том, что он получит взамен, если все-таки решится оставить Ленинград.
— Юлия, — сказал. — А я в твоей доброте никогда и не сомневался. Я это знаю — все, что ты о себе говоришь.
Она повернулась к нему, внимательно на него посмотрела.
— Спасибо, Шура.
— Юля, — продолжал он. — А ты не смогла бы побыть часа два-три с Павликом?
— Тебе надо съездить к Николаю Александровичу?
— Предположим.
— Хитрец ты, хитрец! — Юлия засмеялась. — Только потому ты так великодушно и признал все мои качества, которые я перечислила? Ну-ну, не хмурься. Я же шучу. Поезжай и будь спокоен, по возвращении найдешь все в полном порядке.
Александр пошел к телефону, созвонился с Суходоловым, который сказал: «Приезжай. Пожалуйста. Пропуск будет», — выпил стакан кофе, поцеловал Павлушку и умчался вниз по лестнице.
От дома, где жили Денисовы, до химкомбината было около шести километров. Комбинат стоял в старом сосновом бору — чтобы дым из его труб не отравлял воздух над городом. Большинство тех, кто работал здесь, имело квартиры в зеленых окрестностях, в домах, тоже понастроенных прямо среди сосен. А те, кто жил в городе, на работу ездили в автобусах и на трамвае… У многих были велосипеды, мотоциклы, мотороллеры; некоторые приобрели в последние годы и автомобили. Летом до комбината можно было добираться ещё и по реке, речным трамваем.
Подсчитав, что пароходик хорош лишь на короткое летнее время, а трамвай подвержен разным случайностям: ток выключат, снегом пути занесет и всякое такое, Александр поехал автобусом. Автобус — основной вид транспорта, и именно его следовало испытать в предвидении возможного переезда из Ленинграда.
Проехали мимо древнего старогородского кремля с его башнями, с его тысячелетним собором, увенчанным золотыми шлемами куполов, миновали новый район города — целиком построенный за последние пять-шесть лет, пересекли бор, и глазам Александра открылось широкое пространство, среди которого, обнесенные бесконечной бетонной стеной, были разбросаны цехи, газгольдеры; трубопроводы комбината. Надо всем этим подымались две длинные тонкие трубы — они курились дымками цвета той желто-рыжей ваты, которая в папиросных мундштуках густо пропитывается никотином. Знакомый цвет, знакомые дымы, знакомый пейзаж.
Путь от дома до проходной, до бюро пропусков занял около часа. Что ж, столько же времени уходит у Александра на дорогу до завода и в Ленинграде. Разницы пока никакой нет.
Посидели в кабинете у Суходолова, на третьем этаже главного административного здания. Из окон кабинета было видно на три стороны. Подводя Александра то к одному, то к другому, то к третьему окну, Суходолов рассказывал о планировке комбината, о расположении цехов, мастерских, складов сырья и продукции. Потом долго, через дворы, через железнодорожные пути, шли до цеха № 42. Всюду вдоль асфальтовых дорожек и на пустырях меж цехами зеленели молодые деревья.
— Создаем плотное зеленое заполнение свободных пространств, — сказал Суходолов, указывая на них. — Сосны… видишь?.. На макушки, на макушки смотри!.. Сосны к нашей атмосфере не очень положительно относятся.
Да, Александр видел: макушки взрослых сосен были как бы опалены жаром, ветви иссохли и, потеряв хвою, побурели.
— Мы подбираем такие породы деревьев, которые бы химии не боялись. Тополь, кстати сказать, хорошо себя у нас чувствует. Смотри, какой лист лопушистый, интенсивный!
В цехе № 42 Суходолов познакомил Александра с начальником цеха, сказав тому: «Гость из Ленинграда, тоже химик, товарищ Булавин».
Булавин, невысокий, плотный инженер, с выбритой до солнечного блеска головой, ходил вместе с ними. Он что-то объяснял. Но Александру объяснения были не нужны. В цехе стояла знакомая ему глубокая тишина. Для таких цехов, где ничего не точат, не строгают и не куют, она обычна. В аппаратах и в трубопроводах, соединяющих один аппарат с другим в непрерывную цепь, идут беззвучные, но грозные процессы.
Посторонний может догадываться о них только по вращению — или медленному, или быстрому — прозрачной, бесцветной, как вода, но, судя по всему, тяжелой жидкости в стеклянных отстойниках и в контрольных колбах.
Людей было совсем мало, и были это почти исключительно молоденькие девушки. Они появлялись то там, то здесь, то в синих халатах, то в белых. Те, что были в синих, походили на школьниц, те, что в белых, — на медицинских сестер.
— Народ у нас инициативный, — говорил Булавин. — За последний год немало новшеств ввели.
— А майский-то план и не выполнили, — сказал Суходолов. — Увлеклись новшествами да экспериментами, о плане и позабыли.
— Так ведь это не по нашей вине, Николай Александрович! — Булавин горячо запротестовал. — Восемь же дней простояли. А из-за чего?..
— Из-за чего бы ни было, а план не выполнили. И это главное, — перебил Суходолов. — Ссылаться на объективные причины — коммунисту негоже, товарищ Булавин. Какая бы ни была трудность, каковы бы ни были объективные причины, коммунист их преодолевает, перебарывает с этим.
— Николай Александрович, это верно, но…
— Не будем, не будем пререкаться, товарищ Булавин. Покажем лучше нашему гостю бытовку. Ты, Александр, знаешь, что такое бытовка? Ну как же, конечно, знаешь. Но посмотри, посмотри у нас, какая она!
Александр, конечно же, знал, что такое бытовка — специальные помещения с индивидуальными шкафчиками для каждого работающего в цехе, чтобы в них хранить одежду, всякие иные личные вещи, завтрак, если кто приносит его с собой из дому; помещения, где те, кто не ходит в столовую, закусывают домашними припасами и пьют чай; помещения, где есть душевая, отделанная кафелем, где даже есть ванны. Сюда заходят перед работой, сюда заходят в перерыве и после работы.
В цехе № 42 бытовка была отличная. Если на заводе у Александра, на старом, построенном ещё до революции заводе, место для нее было выкроено значительно позднее, чем возник цех, и притом место небольшое, тесное, то здесь бытовку, в ее ослепительном современном виде, так и планировали. Она явилась полноправной частью цеха № 42. В ней было светло, просторно, вентиляторы нагнетали очищенный, летом — охлажденный, а зимой — подогретый, свежий воздух. В ней были соллюксы и кварцевые лампы для насыщения атмосферы ультрафиолетовыми лучами в пасмурное зимнее время года.
В ту минуту, когда Суходолов, Булавин и Александр переступили порог бытовки, в помещении со шкафчиками оказались три девушки. Две из них быстро исчезли, а третья замешкалась. Она никак не могла справиться с рассыпанными по плечам волнами волос удивительного цвета, которые она собралась было расчесывать перед зеркалом. О цвете ее густых волос можно было сказать, что это цвет белого золота: они были и как бы золотистые, и вместе с тем светло-льняные.
Девушка взглянула из-под них своими голубыми глазами, мгновенно покраснела, сказала: «Извините», — и тоже исчезла за перегородкой.
— Майя! — позвал Булавин. Но никто не откликнулся. — Вот дикие девчонки! — воскликнул он. — Это они вас стесняются, нового человека. — Он посмотрел на Александра. — А так-то, вообще, народ у нас бойкий, не теряющийся. Эта Майя — одна из лучших аппаратчиц. Года три назад окончила десятилетку, пришла к нам и отлично освоила свою профессию.
Обойдя цех, все осмотрев, Александр и Суходолов вернулись в директорский кабинет.
— Ну, как? — спросил Суходолов, раскачиваясь в своем кресле за столом. — Ничего комби-натик? Не я начинал его. Его заложили давно, сразу же после войны. Но я завершал стройку. На последнем, так сказать, этапе. Четыре года сижу в этом кресле. Обратно в Ленинград не рвусь. Хотя сердце иной раз и поднывает. Ведь я там родился, Шура. На Английском проспекте. Он теперь проспектом Маклина называется. Знаешь? От Мойки идет, пересекает канал Грибоедова, затем на Покровку… то есть на площадь Тургенева выходит. Там был такой «Дом-сказка», весь в картинах из цветной керамики. Занятный домище. На углу улицы Декабристов. Его разбило бомбой в блокаду. Может быть, даже он и горел — не помню. Мы как раз возле него жили. Не с улицы, правда, не с проспекта, а далеко во дворах, на задах, как говорилось. С последнего года прошлого столетия там жили, Шура. До чего же давно это было!..
Сняв очки, Суходолов прикусил одну из роговых дужек вставными зубами и, щурясь, задумчиво смотрел мимо Александра в окно. Может быть, бежали перед ним в те минуты картины его нелегкой жизни, картины жизни сына рабочего и санитарки из психиатрической лечебницы Николая Чудтоворца, что была неподалеку от Английского проспекта, на Пряжке. Как родители его, он тоже был рабочим, затем бойцом гражданской войны, позже рабфаковцем, ещё позже инженером, вновь солдатом, но уже войны Отечественной, и вот стал директором крупного предприятия. Таковы главные вехи жизни. А сколько было всякого между ними! Рассказать бы кому или стенографистке продиктовать, роман мог получиться. Жизнь Семена Давыдова, жизнь Жана-Кристофа… Но, может быть, кто знает, и жизнь Николая Су-ходолова не менее интересно выглядела бы в книге, — жизнь одного из типичных представителей поколения, которое и в революцию шло, и социализм строило, и неоднократно защищало его…
— Так!.. — сказал он, как бы просыпаясь. — О чем, значит, мы говорили-то?
— У меня вопрос к вам, Николай Александрович.
— Ну, ну, давай, давай твой вопрос!
— А детский сад есть при комбинате? Суходолов посмотрел на Александра изумленно-теплыми глазами.
— До чего же ты нежный папаша, Шура! Мы такими, прямо скажу, не были. Черствее были, жизнь к тому вынуждала. Да, есть детский сад, и не один, а целых два. Устроим твоего Павлушку. Если, конечно, отец с матерью разрешат.
— А я их разрешения и не спрошу. Павлушка мой. Я и решаю.
— Ну давай, ну давай! — Суходолов встал. — Вот тебе моя рука. Все, что надо, она для тебя сделает. Отец укатил, значит? Мамаше привет. И тетке твоей. Как там она?
Вновь Александр ехал в автобусе по асфальтовой широкой дороге, проложенной между городом и комбинатом. В голове была путаница жизненных вопросов. Оставлять Ленинград или нет? Переезжать сюда или не переезжать? Диссертация… А разве здесь она невозможна? Отличное, передовое предприятие. Цех № 42 подобен первоклассно оборудованной научной лаборатории.
Сквозь сплетение этих мыслей проступили большие, испуганные, голубые глаза девушки с ее золотисто-льняными волосами. Они светились одно мгновение. Затем и их, и все иное заслонила собой возникшая перед Александром Сашенька. До встречи с ним ее тоже называли Шурой. Сашенькой она стала только потому, чтобы не было путаницы из-за двух Шур в одной семье. Они и Павлушку поначалу хотели назвать Александром, Шуркой, чтобы одновременно и в честь отца и в честь матери. Но одумались, дабы не давать повода для дешевых острот. И правильно сделали, что одумались: отличное имя — Павлушка.
«Исторический музей» — увидел Александр надпись славянскими накладными буквами из меди на фронтоне двухэтажного длинного здания, должно быть, ещё александровских времен.
Проехав следующую остановку, он посмотрел на часы. Не так уж и страшно, если Юлия ещё с полчасика повозится с Павлушкой. Решил выйти из автобуса, вернуться назад, к музею, и заглянуть к матери.
Он отыскал Софию Павловну в одном из залов. С деревянной указкой в руках, София Павловна на французском языке рассказывала толпе обвешанных фото и киноаппаратами иностранцев о том, что было на месте Старгорода полторы тысячи лет назад; она указывала на внушительные черепки глиняных корчаг, возраст которых определялся двумя, тремя и более тысячелетиями, демонстрировала свинцовые княжеские печати средних веков, покоившиеся в витринах под стеклом. Бывалые экскурсанты в дымчатых очках, прошедшие, должно быть, без малого все страны мира, молчаливо жевали резинку. Они видели камни римского Форума; из любопытства, вместе с богомольцами, они прикладывались к истертой губами католиков ступне бронзового апостола Петра в ватиканском соборе; со всех сторон фотографировали они пирамиду Хеопса и загадочно, много тысяч лет подряд смотрящих вдаль каменных сфинксов; они кормили бананами священных обезьян в сумрачных пещерных храмах Индии; во Дворце Дожей касались любопытствующими пальцами лезвий мечей, которыми в Венеции рубили крамольные головы; так же, жуя резинку, в церкви Санта Мария деи Фрари стаивали перед красочным полотном Тициана, на котором изображено телесное вознесение Мадонны на небо. Удивишь ли их черепками того, что осталось потомству от предшественников древних славян на старгородских землях?
Но вот София Павловна всю эту толпу равнодушных повела за собою в один из боковых гале-рееобразных длинных залов, со стен которого смотрели то суровые, то хитро-усмешливые, то добрые лики бесчисленных святых. Это было драгоценное старгородское собрание древних русских икон.
— Работа Феофана Грека, — говорила София Павловна. В такой-то мере и Александр мог понять ее французскую речь. Пришедшие в волнение, оживившиеся, иностранцы защелкали аппаратами, стараясь получше запечатлеть на пленке обросшего белой гривой и белой струистой бородищей, темноликого, с резкими, меловой краской прочерченными морщинами святого старца.
— Работа Андрея Рублева! — И вновь треск затворов, чтобы на этот раз повезти домой на фотопленках доброе, озаренное золотистым светом лицо Спаса.
Один из иностранцев что-то сказал. София Павловна перевела Александру:
— Говорит, что это гениальная кисть. Иностранец ещё что-то сказал. София Павловна снова перевела:
— Такие, — говорит, — человечные глаза он видел только в Дрездене, у Сикстинской мадонны Рафаэля.
Проводив посетителей, София Павловна позвала Александра к себе в тесную комнатку со старинными сводами и узким церковным оконцем. Комнатка была загромождена всякой всячиной, которой ещё не нашлось места в музейных залах.
— Ну что, сынок? — спросила она, садясь на стул возле стола. — Присядь на эту скамеечку. Где был, расскажи? Как надумал зайти ко мне?
— Мама, ты разве здесь экскурсовод? — спросил и он ее.
— Это особый случай, Шурик. Это очень важные капиталисты. Среди них, кажется, даже искусствовед есть, есть корреспондент крупной газеты. Наши девочки могли бы и растеряться от не слишком-то доброжелательного вопроса. Так как не ты надумал меня навестить?
— Я был у Николая Александровича, мама.
— Да? И что же?
— Не знаю. Ничего я, мама, не знаю. Комбинат у него отличный. Но что из того! Отличных химических предприятий в стране не одно.
— Что же, Шуренька… Ты не спеши. Ты думай. Как папа советовал: по-мужски.
Дома он застал все в полном порядке, — Юлия свое обещание выполнила.
— А ты сомневался? — удивилась она. — Ты, Шура, во мне никогда не сомневайся. Кстати сказать, будь я на твоем месте, я бы женилась на мне. Разница в несколько лет — чепуха. Зато лучшей жены ты бы никогда не нашел во всю свою жизнь. Слышишь? Убежал, чудак!
10
Когда спускались по лестнице, Артамонов взял Василия Антоновича под руку.
— Неплохой доклад, сосед, сделал. Мысли интересные.
Выйдя из подъезда ЦК, они не спеша добрели до площади, на которой возвышался памятник Дзержинскому, постояли, посмотрели на памятник. Было начало шестого. Впереди — бесконечно длинный вечер. Уезжать домой ещё нельзя: на завтра и на послезавтра множество дел — и в самом ЦК, и в Совете Министров, и даже в Академии наук, где Василий Антонович хотел договориться о переводе в Старгород одного из многочисленных институтов, какими ведает Академия. У Артамонова тоже были дела в Москве, тоже, надо полагать, раньше, чем послезавтра к вечеру, домой не соберется.
— Ну, что будем делать-то? — спросил Артамонов. — В «Детский мир» зайти, что ли? Внучатам игрушку поискать. У тебя внуки есть, Василий Антонович?
— Да вот один завелся.
— А у меня их целых три! — Артамонов сказал это не без гордости. — Два парня и одна девчонка. Старшему уже седьмой год.
В «Детском мире» была толкотня и было очень жарко. Отдуваясь, протискиваясь в толпе, добрались до первого попавшегося прилавка, попросили завернуть несколько смешных заводных зверушек, из которых одни играли на скрипках, другие плясали и подпрыгивали.
Василий Антонович ходил за Артамоновым Почти механически. И игрушки он покупал только потому, что так делал Артамонов. А сам ничего не видел и не слышал. Он все ещё переживал свой доклад, сделанный сразу же вслед за докладом Артамонова. Артамонов взял цифрами, показателями, размахом. Артамонов много насеял, он собирается за один год чуть ли не в два раза увеличить поголовье крупного рогатого скота в области, почти в три раза превысить плановое задание по продаже колхозами мяса государству. Сообщение Артамонова было сообщением большого хозяина, отлично знающего, как и что надо делать.
Доклад Василия Антоновича, плод коллективного творчества бюро обкома, по цифрам был значительно скромнее артамоновского; он не был таким эффектным и категорическим, но в нем содержалось немало серьезных раздумий, и внимательный слух секретаря ЦК, который вел бюро, кажется, уловил в словах Василия Антоновича даже некоторые сомнения; и если рассказанное Артамоновым приняли безоговорочно, — то о докладе Василия Антоновича было немало разговоров и споров. Василий Антонович больше половины своего времени посвятил перспективам повышения культуры в области и улучшению в связи с этим партийной и пропагандистской работы. Все три дня совещания он беспокоился о том, не перекосил ли так доклад, не ушел ли в нем от главного? Но сегодня, подводя итоги совещанию, секретарь ЦК сказал добрые слова и о выступлении Артамонова, и о выступлении Василия Антоновича. Василию Антоновичу показалось при этом, что секретарь ЦК даже как-то больше опирался на него, чем на Артамонова. Секретарю ЦК явно понравилась та перспектива, какую наметили стар-городцы, понравились их широкий взгляд, их волнение и беспокойство за будущее, их мысли о неразрывности экономики и культуры.
Василий Антонович ходил за Артамоновым, глубоко раздумывающий. Его толкают со всех сторон — и в бока, и в спину, бьют по коленям сумками, как на грех такими увесистыми, будто в них утюги. Одна ошалелая бабуся с ходу таранила его головой в живот, а пышная гражданка, опорожнившая на себя, должно быть, целую бутылку духов «Красная Москва», уперлась ему в спину своим железным пальцем, да так и движется, не отставая. Он сносит все безропотно. У него отличное настроение. Люди вокруг даже и не подозревают, как хорошо и радостно у него на душе, им совершенно неведомо, какой он переживает внутренний подъем. Может быть, они полагают, что секретари обкомов хулу и похвалу приемлют равнодушно? Нет, секретари обкомов так же радуются доброму слову о себе, о своей работе, как токарь радуется доброму слову о его работе, как радуются пахари или трактористы, птичницы или доменщики, директора магазинов или пилоты воздушных кораблей, как школьники, наконец, когда их труд, их старания замечены и отмечены.
С коробками и свертками в руках вновь выбрались на площадь и дошли до гостиницы «Москва».
— Посидим у меня, — предложил Артамонов.
Василию Антоновичу хотелось побыть одному, хотелось вновь попереживать пережитое за эти три дня. Но и обижать Артамонова не следовало. Зашли в номер к Артамонову, в две его большие комнаты; за окнами одной из них, угловой, были видны Кремль, Манежная площадь, улица Горького и Охотный ряд. Время было вечернее, по улицам мчались потоки автомашин, нагретый летний воздух входил в распахнутые окна.
Решили закусить, вызвали официантку, попросили принести еду в номер.
— Ты совершенно прав, — сказал Артамонов, в ожидании, когда официантка появится с кушаньями. — Насчет культуры… Совершенно прав. Я тоже вот раздумываю: в каждой области должен быть свой мощный культурный очаг. Без ученых, без писателей, без композиторов и художников — без крепкого ядра интеллигенции мы в делах культуры будем только топтаться на месте. Учитываешь? Я даже, знаешь, на что пошел? Я из Москвы, из Ленинграда, из других областей приглашаю к себе творческих работников. Даю хорошую квартиру, создаю все условия. У меня уже есть один писатель из Москвы. Один из Сибири переехал. Из Ленинграда композитор… Хорошие песни пишет.
— А что, своих-то разве у вас мало?
— Мало. В том-то и дело. И даже очень мало. Да потом, такие они, знаешь, областные… Без всякой известности. У тебя, скажем, Баксанов есть. Евгений, кажется, если не запамятовал? Я его роман «Половодье» читал. Хорошая книжка. Ну вот, у тебя — Баксанов. Его читатели знают. О жизни села пишет ярко, умно. А у меня? У меня Баксанова нет. Ищу. Да… И найду! — Артамонов сказал это с твердой уверенностью. — Не я и буду, если не найду такого. Ничего не пожалею. Особняк хочешь? Получи. Дачу тебе надо? Будь здоров, вот тебе дача. Такую построю, что иранский шах позавидует. Только работай, прославляй область, прославляй ее людей. Добьюсь в Центральном Комитете, — журнал учредим. Толстый. Ежемесячный. «Высокогорье», например. Хорошо? Вокруг него актив сколотится. Есть у меня планы, Василий Антонович, много планов!..
Артамонов расхаживал по номеру на своих крепких, прочных ногах, внушительный, массив-, ный, шевелил черными бровями и ерошил седую плотную шевелюру, Глаза его светились живым, беспокойным огнем.
«У него Дело идет, — размышлял Василий Антонович. — Здорово оно идет у Артамонова. А у меня как? Идет ли? По-настоящему ли? Или так — аппарат функционирует? Сводки, ведомости, планы…» Припомнились недавние поездки по области, встречи с людьми в колхозах, в совхозах. От воспоминаний на душе теплело. Нет, все-таки что-то делается — какие могут быть сомнения! Не так, как хотелось бы, не с той интенсивностью, какая бы нужна, но делается, делается. Василий Антонович сожалел, что нет рядом с ним Лаврентьева, нет Сергеева. Вместе бы порадовались успеху доклада, словам секретаря ЦК, сказанным на прощание: «Передайте привет старгородцам. Бюро ЦК надеется, что они ещё себя покажут. Народ у вас боевой».
— Насчет импорта кадров… — сказал он, поддерживая разговор. — По-моему, мы уже миновали то время, когда надо было нажимать на импорт. На местах растут свои замечательные кадры.
— Я и не говорю, что их нет. Только сочетать это надо — рост и импорт. Для ускорения процесса. Помнишь, в свое время: и сами налаживали машиностроение, отечественное, и одновременно завозили станки, прокатные станы, оборудование из-за границы. Для ускорения. И кроме того, не вслух будь сказано и никому не в обиду, — в Москве, к примеру, творческие кадры покрепче, порешительней, чем, допустим, у меня, наши, доморощенные. Москвич напишет роман или повесть — шум на всю страну. У него размах, широкий горизонт. А наши ребята стараются-стараются, напишут, выйдет тысяч десять — пятнадцать экземпляров в областном издательстве, и потолок. Как в народе говорится: от яблоньки — яблочко, а от елки — шишка.
Официантка принесла заказанное, уселись за стол.
— Может быть, коньячку по стопке пропустим? — предложил Артамонов. Он вытащил из чемодана пузатую темную бутыль. — Вчера сходил в Столешников, купил пару таких. Французский.
Год назад Василий Антонович, по приглашению ЦК Французской компартии, ездил во Францию с партийной делегацией. Побывал в Бордо, в Шампани. Французские хозяева угощали гостей хорошими винами. Память о них ещё не выветрилась. Он порассматривал бутыль, прочел название фирмы.
— Не из лучших, — сказал. — Так, средненький коньячишко. Хорошие у них чертовски дорого стоят.
— Попробуем. — Артамонов достал из кармана нож со штопором.
— Не открывай, — остановил его Василий Антонович. — Свези домой лучше. Мне не хочется, да, говорят, и нельзя. Холестерину в крови много.
— Поменьше думай о болезнях. — Артамонов отставил бутылку. — Лечиться только начни, а там и конца этому не будет. Как часы… Хороши до первой починки.
— Да уж начал лечиться, — сказал Василий Антонович. — Вчера заехал в Сивцев Вражек, к глазнику. Дома не мог собраться. Тут собрался. Прописали очки. Хватит, говорят, сопротивляться. Все равно возраст свое возьмет.
— Сколько единиц-то определили тебе? — Плюс ноль семьдесят пять.
— Ну, у тебя ещё все в порядке! А я, когда работаю, уже плюс два с половиной ношу. Между прочим, учти, очень важно правильную оправу выбрать.
— Моя жена тоже говорила, что неудобная оправа переносицу утомляет.
— Я не о Том. — Артамонов улыбался. — От оправы очков во многом карьера зависит. Я знаю одного типа, который процветал только потому, что смолоду надел мощные роговые очищи в восьмигранной оправе. Как задумаются, кого выдвинуть на такое-то и на такое-то место, кого включить в такую-то и в такую-то комиссию, окинут мысленным взором кадры — и первым делом всем припоминаются эти внушительные очищи, а следом за ними и их хозяин. Включают молодца, выдвигают. Так и подымался вверх, что на лифте. Учитываешь? Очки в роговых, в крупных таких, оправах способствуют, я бы сказал, карьере на общественном поприще. В профсоюзах, в обществе по распространению знаний, во всяких подобных организациях. Очки в этакой аккуратненькой, металлической, золоченой оправке с тонкими дужками, — продвижению по ученой лестнице. Они, эти очки, так и называются: «профессорские».
— А партийным кадрам что пристало?
— Партийным? Им, брат, лучше всего без очков обходиться. Выступаешь, например, где-нибудь, — речь написал… Да, если и не написал, а только тезисы набросал… Хоть пропадай! В бумагу через очки хорошо смотришь, а в зал взглянешь — все в тумане. Стоишь на трибуне, одно только и делаешь: надеваешь их да снимаешь, надеваешь да снимаешь. Для партийных кадров — как очки наденешь, сразу вопросик возникает: а не пора ли товарищу на пенсию?
Они посмеялись. Артамонов сказал:
— И ещё есть сорт очков. Вроде «профессорских», но попроще, без золочения, железные, облезлые такие, перевязанные ниткой. Это признак старых заслуг. Революция, гражданская война, период восстановления…
Прежде Василий Антонович не встречался с Артамоновым близко. Случались встречи на совещаниях в ЦК, на пленумах. Больше приходилось о делах Артамонова и его области читать в газетах. Майская короткая встреча в Заречье, конечно, не в счет. А вот так, основательно, с глазу на глаз, видятся они впервые.
Артамонов разговорился. По образованию был он, оказывается, как Лаврентьев, тоже агроном. Дорос на селе до секретаря райкома партии. Во время войны, в звании полковника, возглавлял снабжение одной из армий на Севере. Был тяжело ранен: до сих пор где-то возле позвоночника у него сидит осколок снаряда, из-за которого там ноет перед плохой погодой.
— Я считаю, — говорил он, — если взялся за какое-нибудь дело, то работай на всю железку, вс всю свою силу, рви вперед без оглядки. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Такой у меня характер. Учитываешь? — Он стучал кулаком по столу, глаза у него азартно горели. — А другой, знаешь, как работает?.. И таких немало, учти… Аккуратненько, знаешь, ведет себя. Вперед батьки в пекло не лезет. Мне, говорит, ни почета, ни славы не надо. Мне бы лишь пропорции соблюсти. Тишину обожает. А в тишине — что? Ты замечал, наверно, что в тишине происходит. Там самые зловонные гнойники набухают. Тихо вроде бы, тихо, а внутри воспаление. Я люблю тех, которые шумят, — такие всегда на виду, у них душа открытая. А которые тихие — кто их знает, какая булыжина у них за пазухой греется. Я им не верю, которые изо дня в день твердят: я тихий, скромный труженик, мне орденов не надо, мне ничего не надо. Это, учти, самые опасные, самые завистливые. Они тебе такую, знаешь, свинью могут подложить…
Артамонов налил себе в стакан боржому, отхлебнул.
— Тебе не надоело меня слушать? Извини уж, разоткровенничался. Не каждый день случается. Вот расскажу тебе случай про таких тихонь. Сорок первый год. Я секретарь райкома партии, в районе возле границы с Латвией. Июль. Первые дня. По нашему районному центру лупит немецкая артиллерия. Спешно ликвидируем дела, есть указание эвакуироваться. Напротив райкома здание районного отделения НКВД. Во дворе там тоже жгут бумаги. Дым столбом. Черные хлопья летят. Заходит начальник отделения. Симпатичный был такой молодой парень. Хотя и я в ту пору ещё не был седым дедом. Входит и говорит: «Артем, говорит, Герасимович, не хочешь ли в человеческую душу заглянуть? Может, когда и пригодится такое знание. Зайдем ко мне в отделение». Перешли через дорогу, зашли во двор, где эти бумаги его сотрудники шерстили. Спросил он у кого-то: «Как, мол, артамоновское дело, ещё не спалили?» — «Вот, черт, думаю, артамоновское дело! Слова-то какие серьезные». Передали ему папку, он мне ее подает. Да, гляжу, на обложке так и сказано: «Артамонов Артем Герасимович». Такого-то года рождения. Номер такой-то. Раскрываю… Не поверишь, сердце бьется. Что тут могут сказать об Артамонове Артеме Герасимовиче? И кто скажет?
Он снова отпил из стакана.
— Целый час листал я эту дребедень. Сорок три заявления на меня накатано. Мало сказать — заявления. Доносы! Форменные доносы. Чего только не насобирали! Какой только мерзости. Даже, знаешь… ещё в техникуме я учился… Было у меня там кое-что с одной девчонкой… И то вписали в мое жизнеописание. Видно, болтанул я где-нибудь, молодость вспоминая. Да, вот, мол, — написано, — каков Артамонов: развратник с детских лет. А уж то, что я вредительские планы заставляю планировать в районе, это мелкой пташечкой по всем заявлениям порхает. И кто, главное, пишет-то!.. Эх, сукины дети! Не буду тебе ничего говорить, только скажу — даже один очень ко мне близкий человек руку приложил, трижды заявлял на меня в этакой вот «письменной форме». Сел я там у них во дворе на дрова. До того тоскливо стало. «Не давал бы ты мне это читать, говорю ему. Всю душу перевернул». — «Не переживай, говорит, Артем Герасимович, а выводы для себя сделай». Взял эту папку из моих рук, да в огонь. Конец делу за номером таким-то.
Артамонов подошел к окну, взглянул вниз, на шумевшие улицы, продолжал:
— В конце года, уже в декабре, под Москвой, еду в машине по одной из фронтовых дорог. Мороз, березы в инее. Стоит на обочине знакомая фигура. В шинели, ремнем подпоясан. А все равно мешок мешком, сутулый, с обвислыми плечами, такой, каким и в пиджаках да в партикулярных пальто из бобрика хаживал. Прямо по сердцу меня ударило. «Остановись», — говорю шоферу и выскочил из машины. Улыбается. Конечно же, он, он, тот, который трижды брался за перо кляузы катать на меня и в то же время лобызал, как последний иуда, за мое здоровье чокался за моим столом! Подхожу к нему, чувствую — всего меня трясет. Он было ко мне, чуть ли не на шею… «Спокойненько, говорю, многоуважаемый. Минуточку. Читал, говорю, ваши эпистолы в РО НКВД. Большущее доставили они мне удовольствие. Эстетическое, знаете ли, удовольствие, как по форме, так и по содержанию. Никого вокруг нет, только шофер сидит в машине, он уже со мной если не огонь и воду, то через огонь-то прошел, болтать не станет. Вытащу сейчас «ТТ» из кобуры и шлепну тут тебя, рептилию земноводную, на твои две «шпалы» не посмотрю, где только ты их спроворить успел? Но делать этого, можешь не пускать в брючонки, не буду, живи, авось дойдешь когда-нибудь и до того, что на самого себя кляузу накатаешь». Плюнул я ему на валенки и уехал.
Артамонов замолчал, зло глядя в пол. Видимо, снова и снова и не в первый раз переживая давнюю тяжкую обиду.
— А что же та папка в дело не пошла во всякие нелегкие годы? — поинтересовался Василий Антонович.
— Я его тоже об этом спросил, начальника-то нашего, — ответил Артамонов. — Как же! Но он обиделся: «За кого, говорит, ты меня считаешь, Артем Герасимович? Ты, говорит, мне оскорбительных вопросов не задавай». А я ему ещё: «Оскорбительные? А чего же берег тогда весь этот хлам в сейфе, раньше не сжег?» — «Это длинный вопрос, — сказал он. — Когда-нибудь, может быть, сам поймешь, Артем Герасимович». Да, лежала подо мной этакая бомбища замедленного действия. Распухала из года, в год. Могла бы и сработать в случае чего. Учитываешь? Споткнись я на чем посерьезней, все бы тут в хозяйстве сгодилось. Вот так, Василий Антонович! Пойдем в театр, а? — сказал Артамонов неожиданно.
— Опоздали, — ответил Василий Антонович. — Девятый час.
— Жалко. Спать-то рано ещё.
— Почитать можно.
— А!.. — Артамонов махнул рукой. — Что читать? Возьмешь в руки, страницу-другую одолеешь, и готов, книжка из рук на пол.
— А я, пожалуй, пойду почитаю, — сказал Василий Антонович.
— А что у тебя там интересного?
— Монтескье. «Персидские письма». Вчера купил, в цековском киоске. Прочел несколько главок. Остроумная вещица.
— Ну, будь здоров!
— Будь здоров!
Но Василий Антонович читать не стал. Он спустился в вестибюль гостиницы, купил пару талончиков на телефонный разговор и заказал Старгород — свою квартиру и квартиру Лаврентьева. Сначала дали Лаврентьева. Рассказал ему, как был принят доклад. Просил передать все и Сергееву. Затем услышал в трубке голос Софии Павловны.
— Васенька, — говорила она бесконечно знакомым ему, милым голосом, от которого так хорошо становилось всегда на душе, — приезжай скорее, без тебя скучно очень. Шурик уехал сегодня утром в Ленинград. Он все-таки решил перебираться к нам. Слышишь? Ты как считаешь?
— Очень хорошо, считаю.
— Ну вот, приезжай, снова все соберемся вместе.
Потом он вышел на улицу Горького. Был теплый безветренный вечер. Народу на улице было полно. Он шел среди людей не торопясь, вглядывался в лица, подходил к витринам и чему-то очень радовался. Так всегда бывало, когда он издалека, не побыв несколько дней дома, поговорит по телефону с Соней.
11
Знакомства свои Юлия заводила с молниеносной быстротой. Василий Антонович нисколько не ошибался, утверждая это. Где бы ни оказывалась младшая сестра Софии Павловны, вокруг нее тотчас сплачивалось многочисленное общество. Если Юлия ехала в поезде, то в ее купе со всего вагона набивались чемпионы преферанса или мастера анекдотов; если она приезжала на курорт, там, сопровождая ее на водные или электрические процедуры, в дальние или ближние экскурсии, даже просто к сапожнику или к маникюрше, за нею таскалась толпа курортников мужского пола — от розовощеких юнцов, которых, вопреки этому цвету, упорно называют зелеными, до кичащихся своей зрелостью зрелых мужей. Все они услужали ей и угождали, каждый из них шел на любые ухищрения, лишь бы хоть часок, минутку побыть с нею наедине, увести ее от компании. На этой огненной почве меж поклонниками Юлии возникали бурные сцены или, что бывало чаще, плелись те тихие, но ядовитые интриги, в итоге которых какая-либо из оставшихся дома зкен, рано или поздно, получала фотоидиллию: или на парковой скамеечке, или под пальмой — она она, Юлия. Взблескивали молнии телеграмм, грохотали громы телефонных разговоров. Санаторий начинал гудеть, как разбуженный в омшанике улей, когда в него среди зимы вдруг заберется мышь.
Юлия была сильная, здоровая, крепкая. Она ничем никогда не болела, ее обошла даже почти непременная для детского возраста корь. Она могла спать двадцать часов подряд, но могла и не спать по двое-трое, по четверо суток. Она любила рестораны, дальние поездки по окрестностям, веселые приключения.
Далеко не каждый поклонник Юлии выдерживал двадцать четыре, отсчитанных путевкой, шальных дня такого санаторного лечения: Ни врачи, ни жены, когда их «половины» возвращались домой, никак не могли понять, почему после курорта так расшаталось здоровье почтенного Ивана Ивановича или не менее почтенного Степана Петровича. Врачи пожимали плечами, говорили: «реакция». Жены утверждали, что в медицине сейчас все запуталось, что кисловодский нарзан уже не тот и море в Гаграх похолодало — купание в нем обостряет процессы в суставах.
Жены же, отдыхающие в санаториях вместе с мужьями, боялись Юлию и потому остро ее ненавидели. Они не могли не понимать, что их мужья тоже тянутся в компанию этой молодой женщины, не могли не чувствовать, как тайком посматривают они на ее заманчивые формы. Жены судачили о ней и, объединяясь, следили за каждым ее шагом, выдумывали о ней то, чего и не было. Юлия платила им за это презрением и не упускала случая поддразнить ревнительниц неустойчивой нравственности своих супругов, меняя один рискованный наряд на другой, ещё более рискованный. Проходила мимо них царицей, гордая и во всем их превосходящая.
В Старгороде она, конечно, тоже чуть не с первого дня оказалась в центре многочисленного мужского общества. Стоило ей поступить на работу в театр, как вокруг нее начали собираться художники, режиссеры, актеры. Они вели за собой своих друзей и приятелей, а те — в свою очередь — ещё кого-то и ещё кого-то. Телефон в доме звонил и звонил, басы, баритоны, полумальчишеские голоса спрашивали только Юлию Павловну. Василия Антоновича никто не спрашивал, потому что те, кто мог спрашивать секретаря обкома дома, знали, что он уехал в Москву.
— Юлия, — сказала встревоженная звонками София Павловна, — напрасно ты всем раздаешь номер нашего телефона. Василий Антонович вернется…
— И будет скандал?.. — Юлия взглянула на нее из-под длинных ресниц. — Знаю. Когда он вернется, звонить перестанут. Можешь не беспокоиться. Ах, до чего же ты стала, Соня, правильная! Ты как разграфленная бухгалтерская ведомость. Тут дебет, тут кредит, а вот и сальдо. Оно должно сойтись копеечка в копеечку. «Василий Антонович и Василий Антонович!..» Ничего иного у тебя больше в жизни и нет. Ты бы хоть разок взяла бы да изменила ему, своему Василию Антоновичу.
Соня помолчала с минуту, спросила спокойно:
— А зачем?
— Ну хотя бы затем, что это расширило бы твой горизонт.
— Спасибо за совет, — все так же спокойно, раздражая этим Юлию, ответила София Павловна. — Но, пожалуй, уже поздно. Упустила возможность… Во время войны надо было. Одна жила.
— Лучше поздно, чем никогда! — Юлия засмеялась. — В Ленинграде есть старая балерина…
— Юлия, перестань! — София Павловна сказала это по-прежнему спокойно, но в голосе ее уже чувствовалось раздражение. Юлия обрадовалась.
— Нет, почему же, ты послушай. Она, эта старуха, как говорится, видавшая виды, спросила одну юную примадонну: «Милочка, а ты мужу своему изменяешь?» Та покраснела, вот как ты сейчас, и, конечно же, в ответ: «Что вы, что вы, как можно! Он у меня замечательный». Старуха только руками развела: «Ну и не любознательная же ты, милочка».
— Пошлость, Юлия, никогда не украшала, человека. Смелость, с какой ты переступаешь границы запрещенного у людей по их молчаливому общественному уговору, тебя же унижает. Ты хочешь сделать больно мне, хочешь задеть меня. А мне, поверь, тебя жалко, очень жалко.
— А мне тебя! — Юлия хлопнула дверью. Такие разговоры возникали между сестрами чуть ли не ежедневно. Александр уехал, оставив Павлушку, и они приняли заботу о мальчике на себя. Юлия уходила из дому позднее, чем всегда, София Павловна возвращалась несколько ранее обычного. Передавали Павлушку друг другу, как эстафету, и как раз во время этих передач происходили их короткие, но острые стычки.
Тесен мир или просторен, для законов взаимного притяжения это не имеет никакого значения. Будь он и в тысячу раз просторнее, чем есть, все равно люди, подобные Юлии и самому модному старгородскому поэту Виталию Птушкову, непременно должны были встретиться в нем в полном соответствии с этим законом. Кто-то их в конце концов познакомил. Птушков взглянул в ее синие смелые глаза своими стеклянно-бесцветными, но чрезмерно выпуклыми и потому загадочно блестевшими, и сказал:
— Мы сейчас отсюда уйдем.
Дело происходило в буфете писательского клуба, за общим столом. Птушков взял Юлию за руку и повел к выходу. Им только посмотрели вслед и продолжали давно начатый ожесточенный спор. Юлия послушно шла за этим самонадеянным развинченным парнишкой. Ей было интересно, что же будет дальше. Она уже много слышала о Виталии Птушкове, видела в городе афиши, на которых крупными буквами стояла его фамилия, знала, что на вечера, где он читает свои стихи, билеты всегда проданы ещё за неделю, за две.
На улице он властным жестом руки остановил проезжающее такси, усадил Юлию, сел рядом, сказал шоферу:
— Прямо по Западному шоссе!
Ехали молча. Он смотрел вперёд, загадочный и значительный. Сколько ему было? Двадцать пять? Двадцать четыре? Юлия посматривала на него сбоку. Он на ее взгляд не отвечал. Ей было немножко смешно, но все ещё интересно.
— Вот здесь, — сказал он шоферу, когда сплошная бетонная плита автомобильной дороги взбежала на песчаные холмы, поросшие соснами.
Такси развернулось, укатило в город, который лежал там, позади, далекий и синеватый в прозрачном вечернем воздухе.
Прошли через лес по сухим, поросшим вереском и черникой кочкам, по хрустящим шишкам, густо устлавшим землю. Вышли на склон холма, с которого открывался вид на озера; светлые, они лежали среди лесов, как голубые брызги, упавшие с неба на темную, почти черную хвойную зелень. Их было много.
— Их пропахали те ледники, которые, как плуги, ползли когда-то из Скандинавии, — сказал поэт так, будто декламировал. Юлия припомнила соответствующие строки из школьного учебника. — Кто вы?. — спросил вдруг он, поворачиваясь к ней.
— Незнакомка, — ответила она в тон ему. Он усмехнулся и стал, читать стихи. Одно за другим, одно за другим… Пять, десять, двадцать… Это были стихи о разостланных постелях, о дрожащих девушках-подростках; в них поминались лифчики, чулки и подвязки, простыни и подушки.
Если мужчины не очень-то уважают женщин, которые слишком легко бросаются им на шею, то и женщины не приходят в чрезмерный восторг от мужчин, бегающих за каждой юбкой. Однообразно устремленная их настойчивость не только не привлекает, но отталкивает. Поведи глазом — и он уже мчится следом, — кому это надо? «Жеребчик!» — так квалифицировала Юлия старгородскую знаменитость, пока Птушков истекал перед нею стихами.
Читал он долго. Видимо, это была полная грамма тех вечеров, на которые билеты раскупаются за две недели вперед.
Юлия сидела на сухой теплой земле, жевала горькую хвоинку. Птушков то подымался на ноги и смотрел вдаль на озера, то вновь садился возле нее или откидывался на спину, подкладывая под затылок ладони рук.
Юлия и в Ленинграде встречалась с поэтами, ходила иной раз в Дом писателя на улицу Воинова, слушала там по-настоящему волнующие стихи, сильные и красивые. Она сама знала немало строк на память. В школе, ещё в шестом классе, на одном из вечеров она без запинки прочла всего «Медного всадника», за что, хотя у нее не такие уж были блестящие успехи в году, учительница литературы поставила ей годовую отметку «пять».
Стихи Птушкова были дерзкие, откровенные, что, конечно, и привлекало старгородских слушательниц; но за душу они не трогали, не пробуждали никаких мыслей, кроме, пожалуй, одной-единственной, которую приятель Юлии, художник-ленинградец, в насмешку над подобной поэзией выразил двумя словами: «Пойдем лягим!»
Оглушенная потоком рифмованных полунамеков, намеков и прямых требований отбросить условности, юная слушательница Птушкова должна была немедленно падать в его объятья. Очевидно, так. Потому что, когда Птушков закончил чтение, он долго выжидающе молчал, глядя в небо. Затем, явно удивленный, повернул лицо к Юлии. Она молчала, разглядывая даль, кусая хвоинку. Он сел.
— Ну как? — спросил.
— Что именно? — удивилась и она.
— Как стихи?
— А чьи это? — Юлия притворилась непонимающей.
— А как вы думаете — чьи? Может быть, вы думаете, я вам Есенина буду читать? Про какую-нибудь прекрасную Лалу? Или Блока? Идут Двенадцать?…
— А хотите, я вам почитаю?
Он, видимо, был ошеломлен этим вопросом. Он давно привык к другому, он привык слышать клики восторга. А Юлия старалась припомнить что-нибудь уж такое из декадентского старья, что сбило бы с него спесь окончательно.
— Вот послушайте, — сказала она, отыскав в памяти подходящее.
— Изменить бы! Кому? Ах, не все ли равно! Предыдущему. Каждому. Ясно. С кем? И это неважно. На свете одно Изменяющееся прекрасно. Одному отдаваясь, мечтать о другом — Неиспробованном, не вкушенном, Незнакомом вчера, кто сегодня знаком И прикинется завтра влюбленным… Наглость, холод и ложь — в этом сущность моя. На страданье ответом мой хохот. Я красива, скользка и подла, как змея…»— Кто это вам насочинял? — перебил Птушков хмуро.
— Вам сколько, Виталенька, лет? — сказала добрым материнским тоном Юлия. — Двадцать четыре? Ну я так и думала. Я значительно вас старше… Мне тридцать один. Я пожила уже на свете. Я и ещё знаю много-много стихов, каких вы никогда не слыхали. Хотите — почитаю?
— Ты только что была у проходимца Зета. Во взорах похоти ещё не погаси… Ты вся из убигана, ты вся из маркизета! Вся из соблазна ты! Из судорог ты вся!— Не хочу! — сказал Птушков.
— Но ведь это вам должно быть так близко! — Юлия делала доброе, хорошее лицо, говорила проникновенным, искренним голосом. — Полное созвучие душ.
Он, наверно, внутренне проклинал ее, этот самонадеянный младенец от поэзии. И себя проклинал — за то, что связался с такой змеей.
— Темнеет, — сказал он мрачно. — Сыро. Еще простудитесь.
Вышли к дороге. Дорога была пустынной. Долго шли пешком по остывавшему бетону. Юлия устала. А уже сделалось совсем темно. Над все ещё далеким городом светилось зарево от электрических огней. А вокруг ни одного светлого окошка. Дорога пролегала по болотистой равнине. По сторонам от нее были сырые заросли осоки. Сойди туда — и сразу вода по щиколотку. Гудели комары. Ноги Юлии, ее руки, шея горели от укусов, и когда пролетала одинокая машина, в свете ее фар, как хлопья снега, вихрем вздымались миллионы этих свирепых кровопийц, а с ними мотыльков, ночных бабочек, жуков, мошек.
Птушков семафорил рукой машинам. Они не останавливались. Юлии не было холодно. Но досаждали комары, и она ждала, что он предложит же ей в конце-то концов свой долгополый пиджак. Нр он и не собирался сделать это.
— Холодновато, — сказала она. — Что-то зябну.
Он промолчал. Но, видимо, поразмыслив, решил все-таки прояснить свою позицию.
— Я бы мог вам отдать пиджак. С удовольствием бы отдал. Но меня мучают ангины. Стоит немножко простыть и… — Он кашлянул.
— Боже мой! — воскликнула Юлия. — Я сейчас же сниму кофточку, вы обернете ею горло. — Она сделала такой вид, будто бы расстегивает пуговки на своей легкой, прозрачной блузке.
Он схватил ее за руку.
— Нет-нет, только не это!
Тогда, завидев вдали очередную, несущуюся с холмов к городу машину, Юлия решительно встала лицом к ней посреди дороги и подняла руку. Машина остановилась. Шоферу ничего не оставалось делать, как предложить:
— Садитесь, барышня, в кабину. А молодой человек пусть в кузов лезет.
— Нет-нет, — тут уж запротестовала Юлия. — Пожалуйста, в кабину возьмите молодого человека. Он кашляет.
Но Птушков взобрался в кузов.
Всю дорогу Юлия весело разговаривала с шофером. Достав из сумочки, угостила его новыми сигаретами, недавно выпущенными одной из ленинградских табачных фабрик. Минут через двадцать были в городе. У какой-то автобусной остановки Юлия попросила остановиться. Она дала шоферу десятку, тот сказал: «Зачем, не надо», — и взял деньги. Выйдя из кабины, Юлия увидела Птушкова уже на тротуаре. У него был поднят воротник пиджака.
— До свидания, — сказал он и быстро пошел от нее по улице.
Юлии сначала было очень весело. Постукивая каблуками об асфальт и камни, она бодро шагала к дому. Но приподнятое настроение прошло, и в душе осталось что-то смутное, бесформенное, зыбкое. Она куда-то идет, зачем-то идет; и так каждый день она куда-то и зачем-то ходит. А куда и зачем? Вокруг нее всегда ярмарка. Всем возле нее весело. А ей самой? Ей тоже! Юлия упрямо встряхнула своей разбросанной прической. Прошла так немного, гордо неся голову. Затем вновь ее одолели невеселые думы. Может быть, не она права, а Соня? Может быть, зря она обижает Соню. «Изменить бы! Кому?» — вспомнила стихи. В самом деле, кому она может изменить? Даже изменять некому..
Не сразу вошла в дом. С полчаса посидела на скамейке в сквере против дома. Смотрела на освещенные окна столовой и кабинета. На тюлевых занавесях появлялась Сонина тень. Ходит, конечно, как всегда, неслышно, мягко; движения округлые, спокойные. У Сони не увидишь таких патл, — Юлия дернула себя за волосы, торчавшие в стороны над ушами. Соня причесана, Соня умыта, у Сони свежие блузки, которые почему-то даже и летом пахнут чистым морозным воздухом.
Юлия раздражалась на Соню, и вместе с тем ее к ней тянуло. Старенькая мама, которая жила в семье старшего брата Юлии и Сони, была далекой и уже немножко чужой. Юлия с девчонок в Сониной семье. Соня, конечно, много, очень много сделала для Юлии. Но ещё несколько веков назад кто-то желчный сказал, что ничем так быстро и верно не наживешь себе врагов, как добром, которое делаешь людям. Юлия это прекрасно понимает. Да, ее тяготит ровная Сонина доброта, да, ее раздражает сознание того, что всегда надо помнить о Сониных благодеяниях. Но вместе с тем вот оказался подлецом тот, в Ленинграде… Не хочется даже вспоминать его имя… Зачем-то врал, что не женат. Зачем? Разве это помешало бы чему-нибудь? А через такое вранье все запуталось, на сцене появилась жена, некультурная, грубая, учинила публичный скандалище. И куда? — к Соне, в Старгород, отправилась Юлия, к ней, к своей старшей сестре. Даже и не представлялось, что можно ехать ещё куда-то, кроме Сони.
Юлия вспомнила детство, школу, подруг — по каким краям их всех разбросала жизнь? Вспомнила учителя физики, который — учитель! — не отправил шальную влюбленную девчонку домой, не взял за руку, не отвел силой, а оставил у себя и только презрительно пожимал плечами, когда Василий Антонович, придя за нею, в прямых выражениях говорил ему все, что он о нем думает, о таком учителе…
В дом Юлия вошла тихо, с желанием быть ласковой и тоже, как Соня, доброй. Но ей показалось, что София Павловна как-то не так на неё посмотрела. И все с великим трудом возводимое здание доброты и умиротворения с треском обрушилось.
— Опять мной недовольна? — резко сказала вспыхнувшая Юлия. — Опять что-нибудь не так сделала? Может быть, наследила на твоих натертых паркетах?
— Ты очень долго шла, — ответила София Павловна. — Какой-то обалделый юнец уже два раза звонил. Утверждает, что Юлия Павловна давно должна быть дома. Он будет ещё звонить, он говорит, что ужасно виноват перед Юлией Павловной, что ещё сегодня непременно должен сказать нечто до крайности важное Юлии Павловне, иначе… да, вот так, Юленька… Иначе к утру его не станет.
— Ах, пожалуйста! От этого очень многие выиграют. Если будет снова звонить, скажи ему… это ваш знаменитый поэт Птушков… скажи, что я не вернусь до утра.
Зазвонил телефон. София Павловна сняла трубку.
— Да, это он, Юлия. Объясняйся и выкручивайся сама. Меня в свои приключения не вмешивай.
— Перестаньте, Витик, — лениво и безразлично сказала Юлия, выслушав длинную речь Птушкова в телефон. — Ну, кто же на вас сердится! Вы намажьте на ночь грудку свиным сальцем со скипидаром. Стрептоцидик примите. Ноль три. Затем выпейте малинки. У вас есть сушеная малинка?.. Повесил трубку. Думаю, что до утра-то он, во всяком случае, доживет. Значит, что, Сонечка, завтра снова Павлушке манную кашу варить? Или ещё что-нибудь придумаем?
Обсудив все детали Павлушкиного завтрака, сестры разошлись по своим комнатам. Но уснули не скоро. София Павловна, как всегда, что-то читала до полуночи. А Юлия, закинув руки за голову, при погашенной лампе, ничего не видя, долго смотрела в темный потолок. И раздумывала. Ее это удивляло: нехороший признак. Не к старости ли?
12
Павлушке танцующие зверьки, купленные с легкой руки Артамонова, понравились. Он устроил для них под письменным столом берлогу, орудовал там ключом, смеялся и стукался головой о ящик стола.
Была довольна и София Павловна — тем флаконом французских, духов в белой с золотом коробочке, которую симпатичная девушка в магазине ТЭЖЭ вытащила Василию Антоновичу из-под прилавка. Большелобый мужчина с очень серьезными серыми глазами, видимо, приглянулся чем-то продавщице; возможно, что отлично сохраненной шевелюрой: ведь мужчины в таком возрасте или окончательно лысы, или же тремя чахлыми волосинами полуметровой длины изо всех сил стремятся закамуфлировать безнадежно утраченное.
Василий Антонович рассказывал об этом, по обыкновению, без улыбки, совершенно серьезно, София Павловна радостно улыбалась. Она страшно любила, когда Вася ей что-нибудь дарил. Тем более — такой подарок: духи из Франции. Франция — мать духов.
Били часы в кабинете. С той минуты, когда Василий Антонович вышел из вагона раннего поезда, пролетели три часа. Софии Павловне надо было на работу, Василию Антоновичу — в обком.
— Разбужу пойду Юлию, — сказала София Павловна.
— Ну как тут она? — поинтересовался Василий Антонович. — Уже откалывает номера?
— Работает. Она и я по очереди с Павлушкой возимся. Нет, ничего пока. — Уже в машине София Павловна добавила: — Жаль, что ты ей ничего не привез. Обидится.
— Забыл про нее. Ну совершенно забыл. — Василий Антонович досадовал.
Едва он вошел в свой обкомовский кабинет, за ним следом потянулись туда Лаврентьев, Сергеев, Костин, председатель совнархоза Иващенко; пришел даже Огнев, который не очень-то любил участвовать в обсуждении вопросов и проблем, которые относил к хозяйственным; но тут дело иное: партийная организация области отчитывалась в работе, проделанной за зиму и за весну — за добрых полгода.
Василий Антонович рассказывал очень подробно. И о том, как перед ним выступал Артамонов, и о том, как слушали и Артамонова, а затем и его, Василия Антоновича, какие реплики подавали секретари ЦК, как был оценен доклад.
— В ЦК о нашей работе отзываются неплохо, — говорил он. — Но от высокогорцев мы все-таки отстаем. Это наверху видят, но из деликатности в лицо нам каждый день нашим отставанием не тычут. Считают, что мы сами должны понять и сделать наконец для себя вывод. Средненько крутить маховики областной машины не так уж и трудно: до планчика более или менее дотягиваем, контрольные цифирьки выполняем… Сейчас требуется уже иное. Сейчас от нас хотят жаркой творческой работы. Такой, чтобы все, какие только есть в массах силы, которые пока дремлют, какие ещё скрыты, — чтобы все они были приведены в кипучее, боевое действие. План — это как бы обязательный рубеж, ниже которого нельзя. Он как бы минимум, не дотянуть до которого просто стыдно. И бороться за минимум — не слишком великое геройство. Это вроде принципиального троечничества. Ходить в троечниках, в посредственных…
Василий Антонович умолк. «Начал за здравие, — подумал он, — а кончил за упокой. Тоже — взбодрил товарищей!»
— Бот черта какая в нас выработалась! — Он улыбнулся. — Никогда не быть собой довольными. Даже когда хвалят.
— И ты прав, Василий Антонович, — сказал председатель совнархоза Иващенко. — Чего тут упиваться похвалами, когда ещё столько белых пятен. Покопались мы в областном хозяйстве, — уймища неиспользованных возможностей! Тут тебе и кооперирование предприятий, тут и ликви-дация встречных перевозок, и более рациональное использование сырья, топлива. Любой заводишко, любая артель может без всяких дополнительных затрат, только за счет более разумного использования оборудования, давать в полтора-два раза продукции больше, чем дает.
— Значит, прав Артамонов, который взял на себя обязательство в течение года увеличить в области поголовье скота в два раза? — сказал Василий Антонович. — Мы почему-то не решились назвать такую цифру.
— Не почему-то, а потому, что подсчитали все до последнего овечьего хвоста, и подсчет нам не позволил так размахнуться, — сказал Лаврентьев. — Арифметика штука упрямая.
— Но есть ещё и алгебра, — возразил Василий Антонович. — Есть высшая математика…
— Что дважды два пять — и с помощью алгебры не докажешь, — упорствовал Лаврентьев. — Если бы коровы не телились, а котились — теленка бы по четыре враз, тогда, может быть…
— На кормовую базу надо нажимать, — сказал Василий Антонович. — Я послушал, чем берут иные области. Они берут кормами, обилием кормов. Что кукурузы мы насеяли в этом году вдвое против плана, это замечательно. Это непременно скажется.
— Но скажется в чем? — Лаврентьева было никак не сбить. — В том, — говорил он упрямо, — что возрастет продуктивность скота, больше дадим молока и мяса. Но как ты, даже при обилии кормов, за один год увеличишь вдвое поголовье скота? Как?
День секретаря обкома шел в работе — в телефонных звонках, в разговорах, в переговорах, в составлении документов, в подписывании бумаг. Такие дни были неизбежны и необходимы; как ни любил Василий Антонович выезды в область, в районные города, в села, на предприятия, он понимал, что и без таких аппаратных дней обойтись нельзя. Может быть, в будущем этого не станет. Но, видимо, в очень далеком будущем, когда будет построен полный и совершенный коммунизм. А пока, хочешь не хочешь, нравится это тебе или не нравится, — заседай, составляй бумаги, подписывай, разговаривай и уговаривай, нажимай и даже иной раз прижимай, и крепко прижимай, без чего тоже пока ещё не обойдешься.
В конце дня он попросил Воробьева, чтобы принесли стакан чаю покрепче. Воробьев сказал ему, что Черногус поправился, из больницы вышел и что главный врач звонил два дня назад — если, мол, Василий Антонович желает с ним повидаться, пожалуйста, можно.
— Свяжи-ка меня с ним, Илья Семенович, с Черногусом. — Василий Антонович хотел повидаться с директором музея немедленно. По правде говоря, Черногус не давал ему покоя все эти две долгие недели. Что-то в истории с Черногусом выходило за рамки повседневного. Надо было это прояснить, разъяснить, — нельзя, чтобы старый коммунист и дальше нес в себе такое озлобление против обкома партии, против него, Василия Антоновича. Кто-то тут прав, а кто-то и неправ. Не могут же быть правыми обе стороны. Нельзя было не прислушаться к мнению большевика, участника гражданской войны, если это мнение верное. Но нельзя было оставить его и без ответа, если оно неверное.
— На работе Черногуса уже нет, — сказал Воробьев, наведя справки. — Ушел домой. А дома телефона не имеет. Есть телефон у соседей. В экстренных случаях вызывают через них.
— Попробуй, Илья Семенович, дозвонись. Потревожь соседей. Случай как раз экстренный.
Минут через пятнадцать Черногус был у телефона. Василий Антонович услышал глухой скрипучий голос: «Алло! Чем могу служить, то-варищ Денисов?»
— Хотелось бы встретиться, Гурий Матвеевич. — Василий Антонович почему-то слегка волновался. Это было непривычно для него.
— Когда прикажете явиться? — скрипело в телефоне.
— Я бы не хотел здесь, я бы хотел встретиться у вас.
— Тогда я сейчас же отправлюсь в музей. Пройдет полчаса…
— Не утруждайтесь. Я заеду к вам домой. Черногус помолчал.
— Удобно ли? — сказал он неуверенно. — У меня жилье холостяцкое. Не очень комфортабельное.
— Ничего, ничего. Я не барышня.
— Ну что ж, хорошо, — совсем затихшим голосом согласился Черногус и повесил трубку.
Василия Антоновича он встретил на верхней лестничной площадке старинного двухэтажного дома — бывшего особняка одного из процветавших когда-то в Старгороде многочисленных торговцев лесом. Пока Василий Антонович подымался по ступеням, Черногус стоял вытянувшись, в тщательно отутюженном, но поношенном черном костюме, не очень хорошо выбритый, сухой, истощенный, почти такой же зелено-желтый, каким Василий Антонович видел его на больничной койке.
Рука у него была холодная, в ней прощупывались все косточки, тонкие и хрупкие.
Жил Черногус в двух комнатах. Первая, большая, метров в тридцать пять — сорок, давно не ремонтированная, с потемневшим потолком, с отвисающими обоями, вся была уставлена шкафами и полками с книгами. Дверь во вторую была плотно прикрыта.
Василий Антонович сел в предложенное ему кресло с высокой спинкой, принялся осматриваться. Над шкафом, над книжными полками, по стенам были развешаны, чучела ястребов, соек, дятлов, сов, на шкафах стояли набитые ватой зайцы, белки, ласки, выдры.
Меж полками были прикреплены к стенам плоские ящики под стеклом — коллекции пестрых бабочек и отливающих металлами больших и малых жуков, рогатых, усатых, клешнятых. На многочисленных маленьких столиках, по углам комнаты и на ее середине, располагались самые разнообразные предметы — от клещей, какими дергают гвозди, от плоскогубцев и кусачек, от садовых пил и секаторов до вырабатывающей электричество машины Фарадея, до банок с заспиртованными гадюками, до чугунных Будд и бронзовых Аполлонов. Паркет был почти черный, его, видимо, не только никогда не натирали, но и не очень-то часто мыли, планки поотклеи-лись, покоробились, ходили под ногами.
— Я вас предупреждал… — Черногус видел, как внимательно осматривает все секретарь обкома. — Предупреждал, что живу по-холостяцки.
Он держался официально, сухо, настороженно, стараясь быть независимо-вежливым.
— Да, да, — ответил Василий Антонович. — У вас много книг.
— Их ценность не в количестве, а в качестве. Это редкие книги.
Василий Антонович уже и сам заметил — просто даже по корешкам, — что библиотека Черногуса отнюдь не похожа на библиотеки, какие обычны в современных семьях. Приходя к своим друзьям и знакомым, Василий Антонович заранее знал, что увидит у них в шкафах и на полках: только то, что издавалось в последнее десятилетие Гослитиздатом. Корешки подписных изданий давно примелькались, и, как ни старайся, библиотеку Сергеева не отличишь от библиотеки Лаврентьева, библиотеку Суходолова от библиотеки Иващенко. Только разве шкафы для книг разные, да и то не очень — этакое светленькое дерево, среднее между ясенем, буком и дубом, этакие зеленоватые неровные стекольца в створках.
У Черногуса книги были с незнакомыми лицами, книги-незнакомки; они были старые, захватанные, зачитанные, с потемневшими пестрыми корешками, казались чертовски интересными, так и влекли к себе.
— Разрешите полюбопытствовать? — Василий Антонович встал и направился к полкам.
— Пожалуйста.
Он взял одну книгу, полистал: «Новой и совершенной расчотистой картежной игрок», 1791 год. Взял другую: «Стенографический отчет допроса Колчака», год 1925. Взял третью: генерал Денстервиль — «Поход на Кавказ и Персию. Мемуары». Взял четвертую: А. Булацель — «На родину из стана белых». Пятая, шестая, десятая, двадцатая — и все такие, каких Василий Антонович в руках ещё не держивал.
— Невозможно оторваться, — сказал он. — Вы богач!
— Пожалуйста, если интересуетесь… Я не из тех, кто трясется над своими книгами и никому их не дает. Книги должны служить людям. Если хотите, пожалуйста, берите любую, читайте. Буду рад.
Все это Черногус говорил по-прежнему с удручающей сухой вежливостью. Листая книги, Василий Антонович обдумывал, как лучше начать разговор, как сделать его откровенным, прямым и доверительным.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он.
— Спасибо. Неплохо.
Василий Антонович вернулся в кресло. — У вас тут, кажется, курят?
— Вы же чувствуете табачный дух. Тут все прокурено за двадцать семь лет. Я двадцать семь лет живу в этой квартире. Курите, сделайте одолжение. — Черногус раскрыл коробку табаку, стоявшую на столе, стал свертывать толстую самокрутку. Прикурив от спички Василия Антоновича, он с удовольствием выпустил густой клуб дыма, в комнате сразу стало сизо и сумрачно.
— Врачи грозят гибелью, если не брошу курить. А что же тогда останется? Немощи, недуги, собачья старость? Кому это надо!
— Вам надо основательно полечиться.
— Обратно в больницу меня не тянет.
— Я имею в виду не больницу. Я предлагаю вам… У нас в Ручьях Хрустальных, недалеко от города, есть…
— Знаю, Ручьи Хрустальные.
— Там есть обкомовский дом отдыха. Обычно наши товарищи долечиваются в нем после болезней — после инфарктов, после всяких иных телесных неурядиц.
Черногус насторожился, сухо кашлянул.
— Обкомовский? Дом отдыха? — Глаза его зло сузились, отчего нос стал ещё острее. — А почему это у обкома свой дом отдыха? Вам не кажется, что так выражена тенденция к отделению от масс, к обособлению, к созданию привилегированного положения руководящим партийным кадрам?
Василий Антонович тоже выпустил клуб дыма, разогнал его перед собою рукою.
— Почему же такая дискриминация по отношению к работникам областного комитета партии, Гурий Матвеевич? Всякий порядочный завод имеет свои дома отдыха. У колхоза «Свет Октября» даже собственный санаторий завелся: электропроцедуры, радоновые ванны. Чем же провинился обком, Гурий Матвеевич? Объясните, может быть? Может быть, в обкоме одни тунеядцы засели и бездельники, без зазрения совести проедающие партийный хлеб?
— Я этого не говорю. Я хочу только сказать, что мы жили иначе.
— Это когда же?
— Когда? Вы Ивана Осиповича Коломийцева знаете? — неожиданно спросил Черногус.
— Коломийцева? — Василий Антонович старался припомнить, не слыхал ли он когда-нибудь эту фамилию. — Коломийцева? Нет, кажется, не знаю, Гурий Матвеевич. Не припоминаю, во всяком случае.
— Это был большевик. Молодой товарищ. Студент-юрист. Перед февральской революцией его призвали в армию, отправили в так называемый Баратовский корпус, который действовал в Персии. Я тоже был молодым человеком, тоже студентом и тоже служил в одной из Баратовских частей. Коломийцев занимался разведкой, изучал персидский язык. А я тоже изучал персидский, ещё в университете. Коломийцев взял меня к себе. Затем, после Октября, советское правительство поручило Ивану Осиповичу дипломатическую работу в Тегеране. Иван Осипович, правда, говорил, что у него есть очень серьезный недостаток, который может помешать ему в трудных условиях Востока. Этот недостаток, говорил он, «отсутствие бороды», то есть молодость. Но товарищ Шаумян…. Степан Шаумян… сказал по этому поводу так: «Была бы голова, а борода вырастет». У Ивана Осиповича была отличная голова. В тех дико трудных условиях, когда в Тегеране ещё существовала царская военно-дипломатическая миссия, когда в летней резиденции этой миссии, в Зергендэ, и в парке Атабек Аза-ма, где была ее зимняя резиденция, кутило и бес-чинствовало казачье офицерье, когда англичане шли на Баку, когда советской миссии со всех сторон угрожали расправой, Иван Осипович энергично работал, устанавливал связи с прогрессивными персидскими кругами, пытался завязать отношения с правительством Персии. Хотите, кое-что покажу?
Черногус порылся в ящиках стола, достал папку и из нее извлек старые желтые листы газетной бумаги, просекшиеся на сгибах.
— Это выходивший тогда в Тегеране «Бюллетень Рейтера», — сказал он. — Вот тут подклеен перевод этой обведенной красным заметки» Почитайте.
Василий Антонович прочел: «Российская миссия…»
— Имеется в виду царская миссия, — пояснил Черногус.
Василий Антонович читал:
«…настоящим доводит до всеобщего сведения о том, что измученное насилиями и грабежами большевиков население России, в лице лучших своих людей, депутатов в Учредительное собрание, собравшихся под охраной народной патриотической армии, избрало для управления страной и окончательного освобождения ее от насильников Временное правительство (Директорию), в составе: гг. Авксентьева, Вологодского, Чайковского, Астрова и Болдырева, являющееся единственно законным правительством России».
— Это так называемая «Уфимская директория», — снова пояснил Черногус. — В тот же день их извещение опубликовала и газета «Иран». Так сказать, официоз. Иван Осипович немедленно отправился в редакцию и заставил опубликовать свое извещение. Вот вам и этот «Иран». — Черногус достал из папки ещё одну пачку желтой ветхой бумаги, бережно развернул. — Номер триста девятнадцать. Вот перевод. Читайте.
Василий Антонович читал:
«От представителя Российской Советской Республики. Республиканское посольство Федеративного Российского государства имеет честь довести до всеобщего сведения, что в Уфе, маленьком русском городе, собралось несколько человек карьеристов, убеждения коих резко противоречат устремлениям народа, и назвало себя именем «Российского правительства». Персидскому народу следует узнать, что в Москве представителями российской нации является правительство Советов и (местные) Советы рабочих и красногвардейских депутатов, каковое правительство до сего времени прекрасно справляется со своими задачами и обязанностями и подобных изменников карало и покарает. Кроме того, указывается, что никакая сила в мире не в состоянии с успехом выступить против Российской Советской Республики. Представитель Российской Республики И. Коломийцев».
— Но я не об этом периоде хочу рассказать, не о том, как белогвардейщина, совместно с английской разведкой, хотела уничтожить Коломийцева, — сказал Черногус, — и как он все-таки сумел ускользнуть от громил и убийц. Я скажу вам о том времени, когда Иван Осипович, добравшись наконец до Москвы, получил официальные дипломатические полномочия от советского правительства и вновь направился в Тегеран. Это было уже в конце июля 1919 года. Персидские власти предали его ещё на пути, на дороге из Ленкорани в Персию. Они сообщили о нем белогвардейцам… Вот тут-то, когда белые нагрянули в персидский порт Ашур-Адэ в Астрабадском заливе, где рассчитывали захватить Коломийцева, о котором, я же говорю, белогвардейцам сообщили персы, тут-то и было дело… Иван Осипович с несколькими товарищами ушел из Ашур-Адэ вдоль моря по косе Потемкина. Отход его прикрывали другие. Среди этих «других», товарищ Денисов, был и ваш покорный слуга. — Черногус вновь стал скручивать цигарку. Пальцы его дрожали, табак сыпался на пол. — Один из товарищей Коломийцева отдал мне свой маузер. Да, мы дрались, как могли. Мы сдерживали погоню в расчете на то, что к косе подойдет моторный катер и заберет Коломийцева. Но катер не подошел. Его захватили белые.
Черногус замолчал.
— А дальше? — спросил Василий Антонович.
— Дальше? Дальше получилось плохо. Мы, прикрывавшая группа, под давлением сил противника вынуждены были рассеяться. А Коломийцев сначала скрывался в лесу, потом с каким-то персом, который взялся быть его проводником, пошел к дороге на Тегеран. Но перс оказался предателем — привел его на военный пост. Тут появился некий белый полковник Филиппов, и четырнадцатого августа Ивана Осиповича расстреляли недалеко от Бендер-Геза. Зачем я вам это все рассказываю! — спохватился Черногус. — У каждого из нас есть свои нелегкие, но дорогие воспоминания. Не стоит ими докучать друг другу. Но вы сами вызвали меня на разговор.
— Да, да, я слушал внимательно. Я вам благодарен за рассказ, Гурий Матвеевич. И, конечно, я теперь прекрасно понимаю, почему вы хранили тот старый, ржавый пистолет…
— Нет, он не ржавый. Я извлекал его иной раз из тряпок… он у меня тут за книгами был спрятан… протирал и смазывал. Но, на беду, за этими полками проходит дымоход. В нем что-то загорелось. Стали отодвигать полки, уронили книги. И вот он выпал.
— Неужели же эта история с протоколом могла вас, старого коммуниста, бойца гражданской войны…
— Так напугать, что я схватил спазм коронарных сосудов? Это вы хотите спросить? Не знаю, не знаю, товарищ Денисов. Возможно, что это была именно та капля, которая переполнила чашу. Жизнь у меня не легкая, нет, не легкая. По сути-то дела, я отовсюду выброшен. Вот…
Он стал поспешно вытаскивать из ящиков стола различные мандаты, удостоверения личности, предписания, бланки телеграмм. Документы свидетельствовали о том, что Г. М. Черногус был начальником продотряда, был командиром подразделения Части Особого Назначения — ЧОН, был комиссаром там-то и там-то, был членом Старгородского губисполкома и Старгородского губкома партии.
— А в конце концов — отовсюду коленом под низ спины: иди куда знаешь. Пришло даже и такое время, что и вовсе про человека позабыли. Как медный грош, закатившийся в щель меж половицами. И сто, и двести лет пролежать там может, давным-давно выйдя из обращения. А если его после такой лежки и найдут, то на что и кому сия позеленевшая древность сгодится? В музей, под стекло! Вот и меня, ещё до войны, в музей сунули. Кипел, гремел, работал, вроде вас на автомобиле по губернии летал. Старый такой драндулетище был в губкоме — «мерседес». Теперь нафталин нюхаю. А зачем? Есть ли польза от меня? Тысячу бумаг написал. И тем, кто до вас были в обкоме. И вам писал. О чем? О том, что разве так природные богатства области надо использовать? Наши озера, наши реки были одной из столбовых дорог древних славян. Ладьи, челны плыли караванами. А у вас что? Кроме лягушек, никто водными путями не пользуется. Еще в далекие допетровские времена в нашей области кричное железо добывали. Есть тут не только так называемые болотные руды. Ведь магнитная аномалия, вроде Курской, обнаружена! Меж Бе-лозерьем и Заборовьем. Ставили вы вопрос перед правительством о ее изысканиях, о разработках? Нет, не ставили. А я этот вопрос перед областными организациями не раз ставил. У нас кружевные промыслы были развиты, золототканье, роспись по дереву, чернь по меди… Где все? Одной картошкой мыслим, силосом да свинопого-ловьем. Это узко, это делячески, это ведет к ожирению мозга, к отупению, к потере высоких идеалов…
Черногус волновался. Он ходил по комнате, задевал за столы, ронял с них нагроможденные предметы. «Прорвало», — думал о нем Василий Антонович. Вот так, видимо, прорвало Черногуса и в тот час, когда составляли злополучный протокол. Обругал все областное руководство, и в какой-то мере обругал, в общем-то, справедливо, хотя и свалил в одну кучу и добро и зло.
— Напрасно вы так волнуетесь, — попытался успокоить его Василий Антонович.
— Порядочный человек всегда волнуется. Порядочный человек обязан волноваться. Волнение — это жизнь. А спокойствие — смерть. Всему оно смерть. И как мне не волноваться? Я люблю свой край. Мне он дорог, он мой, мой! Вы поживете, поживете, да и айда снова, если не в Ленинград, так куда нибудь ещё — в Ростов, в Новосибирск, на Дальний Восток… А я родился на Старгородчине, и живу, и жить буду, и умру тут. И дети мои, если бы они были, и внуки, все бы тут жили. Родимый край, родимый дом! Вы понимаете это или нет?
— Давайте уж не все пускать под откос. — Василий Антонович немножко обозлился. — Давайте по порядку. Так, значит, плохо водные пути используем. Это раз. Не ведем изысканий на предполагаемых месторождениях железных руд-Это два. Три, четыре, пять — кружева, роспись, чернь. Допустим, все это так. А что ещё?
— Силосом, говорю, капроновой нитью, поголовьем овец и коров измеряете свои успехи.
— Так это же главное! А чем же, как не промышленностью и не сельским хозяйством, должны мы заниматься прежде всего? Это же основа основ. А если кто хочет бабочек коллекционировать — его личная инициатива, Гурий Матвеевич. Приветствуем ваши коллекции, но планировать их…
— Приветствуете? — Черногус чуть ли не подпрыгнул при его словах. — Для того, чтобы их ловить, приветствий мало. Сачки нужны! А где взять сачки, если вы их не планируете? Или вот… — Он схватил с одного из столов какое-то сооружение из пробки и дощечек. — Это распра-вилка для бабочек. Где ее взять? Ее никто не выпускает. А где эфир, чтобы морить этих бабочек? Его без рецепта в аптеке не дадут. Я вам назову тысячу таких «где».
— Но это мелочи.
— Мелочи? — Черногус снова подпрыгнул. — Если так рассуждать, то и в самом человеке крупного — один скелет. Остальное: сердце, печень, почки, нервишки, мозжишко — мелочи. Вся же жизнь из мелочей состоит! Я лично силосом жить не могу. Я не могу жить без своих бабочек, без своих книг… Да что там! Тьфу! — Он остановился, досадливо плюнул. Сел напротив Василия Антоновича, улыбнулся и сказал совсем другим тоном, спокойным и мирным: — Кофейку не побрезгуете выпить?
Вопрос был поставлен так, что отказаться было неловко.
— Что ж, с удовольствием.
Черногус захлопотал, засуетился; несколько раз выбегал из комнаты, вновь вбегал. Минут через пятнадцать он вошел с кофейником, от которого распространялся приятный запах.
— Кофе — моя страсть, — сказал он. — Правда, в Старгороде хороший кофе редок. Привозят знакомые. Из Москвы, из Ленинграда.
Они пили из каких-то очень тонких, старинных чашечек, оба с удовольствием прихлебывали приятный крепкий напиток.
— С чего же я начал? — задумался Черно-гус. — Да, с того, что мы жили иначе.
— Время было иное, Гурий Матвеевич. Оно идет. Не замечать этого нельзя.
— А я разве не замечаю? Я был бы рутинером, старой перечницей, с упорством ненормального держась за старое. Старое не возвращается, и в этом счастье. Держась за старое, порастешь мохом. Все понимаю. Но тем не менее есть и такое сейчас, что мне решительно не нравится. Стяжательством кое-кто заболел. Домовладельцы появились, которых мы когда-то ликвидировали. Дачи из краденого строят. Спекулянт откуда-то лезет. Это что? Разве приятно, прожив четыре десятка лет при советской власти, такую чертовщину видеть?
— Давайте неё бороться с этим вместе?
— Хорошо сказать — давайте! — Черногус отставил чашку. — Пробовал. Письма писал. Предложения выдвигал. Вам, говорю, писал. И все, как в мусоропровод. «Давайте!» Вы где-то очень высоко. Мы — где-то очень низко. Попробуй — сойдись вместе.
— Но ведь и вы, говорите, были когда-то в губкоме и в облисполкоме. И что же — так вот с каждым запросто встречались? Тоже ведь на «мерседесе» раскатывали.
— И все-таки проще было дело. Маршалов не было — были командармы, Министров не было — были наркомы. Разве не замечательно: народный комиссар! Народный! А?
Квартиру Черногуса Василий Антонович покинул уже в потемках. Когда сел в машину, Бойко ему сказал:
— Тут в доме чудной старикашка, говорят, квартирует. Седьмой десяток, а бабочек ловит, на губной гармошке пиликает.
— Большой человек тут живет, Роман Про-кофьевич, — недовольно ответил Василий Антонович. — Всегда у тебя самые точные сведения. Агенство ОБС? Одна Баба Сказала…
— За что купил, за то и продаю.
13
Александр пришел в цех № 42. Все дела в Ленинграде ему удалось завершить за неделю. Сожалеть и в дирекции и в партийном комитете сожалели, но и создавшееся положение не могли не понимать. Директор напутствовал: «Покажи им класс работы по-ленинградски. А в случае чего — надоест или обратно захочется — приезжай, всегда рады будем».
Два предыдущих дня Александр потратил на то, чтобы определить Павлушку в детский сад. Уже после того, как Суходолов распорядился об этом, в завкоме долго с кем-то созванивались, переговаривались, совещались. Председатель завкома, высохший, болезненного вида блондин с редкими торчащими волосиками, старался внушить ему, что вопрос с яслями и детскими садами — один из самых острых вопросов на комбинате. Пожалуй, поострее, чем трудности с освоением нового оборудования и новой технологии. «Если бы, — говорил он, — помещения всех цехов занять под ребятишек, вот тогда острота, может быть, и рассосалась. Не представляете, товарищ Денисов, сколько ребятишек стало рождаться! Это ж куда народ смотрит! Безо всякой оглядки, как говорится, их куют».
Так было два дня назад. А вчера Александр носился с Павлушкой по различным поликлиникам — и детским, и взрослым, потому что с него в детском саду потребовали штук двадцать справок — не только о Павлушкином здоровье, но и о здоровье Павлушкиной матери и Павлушкиного отца. Александр сказал, что у мальчика нет матери. Тогда давайте справку о том, что у него ее нет. Затем им обоим делали прививки против чего-то.
Наконец только нынешним утром он поднял Павлушку чуть свет, и на автобусе, в котором в ранний утренний час было куда теснее, чем в часы дневные, отправился с Павлушкой на работу. Детский сад находился по дороге к комбинату. Александра с Павлушкой встретила заведующая, шумливо-приветливая краснощекая толстуха, одного с Александром возраста. Обстреляв его из-под густых ресниц черными блестящими глазами, она сказала, что папаша может не беспокоиться, детский садик у них такой, что если мамаши и папаши задерживаются на комбинате, это ничего, их дети все равно под присмотром. «А что, люди часто задерживаются?» — поинтересовался Александр. «Увидите сами, дорогой товарищ Денисов, все увидите».
После детского садика он зашел к секретарю партийного комитета. Тот сказал, что рад приезду ленинградца. «У нас кадры хорошие. Но есть и такие, что рабочей школы не прошли, закалки должной не имеют. От этого в некоторых цехах расхлябанность, дисциплина не очень крепка. Пьянка водится, — спирт же кругом, как устоять! Вот так, товарищ Денисов. Будем, значит, работать».
Начальник цеха, Андрей Николаевич Булавин, вновь знакомил Александра с цехом. Но уже не так, как в первый раз, когда были здесь с директором. А подробно, обстоятельно, профессионально. Он показал Александру участок, на котором должен отныне работать Александр, познакомил с рабочими, с работницами, представил им его, нового инженера участка.
Долго сидели в маленьком, тесном кабинетике Булавина. Кабинет был на третьем этаже цеха, из его окон открывался вид на реку, на противоположный, более высокий берег, поросший лесом. Александр смотрел туда, за окна, и слушал. Булавин говорил:
— Какие у вас отношения с директором нашим, Николаем Александровичем, меня это не касается. Я заметил, конечно, что он называл вас на «ты» и просто по имени… Это, повторяю, не имеет значения. Все равно с первого шага я вам обязан сказать: Суходолов директор неважный. Не такого бы сюда надо. Он выдохшийся. Если и был в нем когда-нибудь заряд энергии, то теперь-то, во всяком случае, ничего от этого заряда не осталось. Он работает так, как те, которые тянут до пенсии. Без риска, без волнения, без инициативы. Ни один вопрос вы с ним не решите. О чем бы ни шел разговор, он не скажет ни да, ни нет. А если уж совершенно деваться некуда, то, сказав «да», через некоторое время добавит и «нет». А когда по одному и тому же вопросу говорится и «да» и «нет», то, значит, не говорится ничего. Развертывается движение коммунистических бригад. В нашем цехе тоже возникло желание поработать по-коммунистически. Для этого же надо от чего-то отказываться — от старого, кое-что перестроить, ввести не мало нового, в чем-то пойти на риск — ведь новое же! «Нет, — говорит, — вы уж как-нибудь так, по-новому-то, по-новому, но, пожалуйста, и без мощных ломок».
— А почему никто не ставит вопрос об этом? — неуверенно спросил Александр.
— Ставили, дорогой товарищ Денисов, ставили. И не раз. Заместитель министра специально приезжал к нам разбираться. Увы. У нас в обкоме есть ваш однофамилец — первый секретарь…
— Это мой отец. — Александр глядел в окно. Он решил сказать об этом сразу, чтобы ни себя, ни Булавина не ставить в неловкое положение.
— Отец? — Булавин откинулся на стуле и с минуту внимательно смотрел на Александра. — Что ж, тем лучше, — сказал он даже с какой-то радостью, как показалось Александру. — Тем лучше. Так вот, товарищ Денисов и в тот раз отстоял Суходолова, и ещё неоднократно отстаивал. Утверждают, что они — старые друзья, ещё по Ленинграду. Когда ваш отец сюда приехал, он через некоторое время перетащил за собой и Суходолова.
— Да, это так, — подтвердил Александр. — Отец и Николай Алескандрович — друзья с военных лет. Николай Александрович вынес моего отца из-под огня. Тяжело раненного. Он спас отцу жизнь.
— Тогда понятно. — Булавин покачивал головой. — Тогда ни черта у нас не выйдет, Александр… Васильевич, конечно? Ведь отца вашего Василием Антоновичем кличут.
Александр промолчал. Булавин встал, походил по тесной комнате, закурил, предложил папиросу. Александр отказался.
— Но ему же на пенсию пора, Суходолову, — продолжал Булавин. — Самое время. Ставка? Выше нигде уже не получит. Пенсию, следовательно, дадут сейчас самую высокую. Годы? Годы вышли. Чего тянет человек! Ну что ж, я рад, что вы у нас будете работать. Значит, Денисов — ваш отец? Здорово! Вот никак не предполагал работать с его сыном. Здорово!
Александр не мог понять, к чему относилось это «здорово», как надо было его истолковывать: то ли в самом деле Булавин обрадован или же он так выражает удивление причудливой игрой судьбы. Александру все это было до крайности неприятно. С первого дня — и такие осложнения. Как теперь сложатся отношения с начальником цеха, с рабочими, которым Булавин наверняка расскажет о степени родства нового инженера и первого секретаря обкома партии, о дружеских отношениях этого секретаря с их директором-рутинером. Напрасно, напрасно послушался он материнского, совета, напрасно дал себя уговорить…
Он встал.
— Я пойду, Андрей Николаевич.
— Что ж, приступайте, — напутствовал Булавин. — Ни пуха вам, ни пера.
Посредине аппаратного зала стоял столик для инженера. Александр сел за этот столик. В аппаратах плескалось, тихо шуршало в трубах, шумели под кровлей вентиляторы. Солнце отражалось в кафельном полу, слепяще, как в воде. Широкие, дымные лучи его падали сквозь окна наискось через весь зал, подобно теплому дождю. Весело зеленели под ними растения в кадках и в горшках.
В другое время Александр несомненно порадовался бы чистоте, порядку в цехе, и солнцу, и растениям. Но со дня смерти Сашеньки он разучился радоваться. Он все время видел ее перед собой. Он видел ее в бинтах, на больничной койке. Он видел её без бинтов, в гробу. И эти страшные зрелища, от которых холодело сердце, преследовали его и днем и ночью. Он держался, держался изо всех сил, держался из-за Павлушки и во имя Павлушки. Но ему это недешево стоило, ему это совсем не легко давалось. Он ходил, как по канату: едва нарушишь равновесие — лети вниз.
От разговора с Булавиным равновесие пошатнулось. Все, что сдерживалось, что заглушалось в душе и в сердце, начинало теперь вскипать. К новому инженеру подходили, у него что-то спрашивали; отвечал он, очевидно, невпопад, потому что отходили удивленные, недоумевающие.
И хорошо, что загудела сирена и окончился день.
Александр добрел пешком до детского сада, сел в его оградке на лавочку среди уже довольно высоких подсолнечников, смотрел, как одна за другой в белое здание заходили женщины всех возрастов — от пятнадцатилетних девчонок, видимо, старших сестер, до совсем старых бабушек, и выходили оттуда, уже ведя за руку или весело подпрыгивающую девчушку с бантом на голове, или степенно ковыляющего хлопца, а то и одновременно девчушку с хлопцем. В душе, кажется, уже откипело, было там тоскливо и одиноко. Среди молодых мамаш раз или два мелькнуло очень напомнившее Сашеньку. Платье ли похожее или цвет волос?.. Вздохнул, пошел за Павлушкой. Снова что-то доброжелательное проговорила пышногрудая черноглазая толстуха. Поблагодарил ее, с чем-то согласился, но с чем — так и не уяснил для себя, что-то пообещал.
Павлушка всю дорогу рассказывал о том, как было в детском садике. Какие там игрушки, какие ребята, какая манная каша. Говорил он во весь голос, на весь автобус. Пассажиры улыбались, задавали ему вопросы. Павлушка охотно отвечал.
— Мамочка ещё на работе поди? — спрашивали его. — С папочкой катаешься.
— На работе, — бодро отвечал Павлушка.
У Александра от этих разговоров подступало к горлу непреодолимое, давящее, отнимающее воздух.
Было только пять часов. Он застал дома одну Софию Павловну.
— Мама, — сказал с отчаянием и тоской. — Мама, мама…
София Павловна все поняла. Поняла, что только теперь Шурик начинает сознавать по-настоящему, какое его постигло горе, какую он понес утрату. Она обняла его за шею, он, склонясь, прижался лбом к ее плечу.
Зацепив ногою шнур, Павлушка с ужасающим грохотом уронил на пол в кабинете телефонный обкомовский аппарат. Рассыпалась на несколько частей трубка, раскололся корпус аппарата. Озадаченный, держа палец во рту, Павлушка появился в дверях.
— Кое-что уже сломано, — сказал он, не без основания подозревая, что его не похвалят, но вместе с тем довольный происшествием.
Было странно, что ему ничего не ответили, не стали укорять и учить, как надо себя вести, чтобы быть хорошим.
Приехавший вскоре Василий Антонович сразу же обнаружил ущерб, нанесенный средствам связи.
— А ты энергичный малый, — сказал он Павлушке. — Дело, пожалуй, только во времени — и мы с твоей деятельной помощью в пещеру переселимся жить. В квартире все будет разрушено, а? — По городскому телефону он позвонил в обком, чтобы прислали монтера с новым аппаратом.
Позже, за ужином, когда сидели вокруг стола, Александр на вопрос Василия Антоновича: «Как первый трудовой день прошел?» — ответил: «Неважно», — и стал рассказывать о своем разговоре с Булавиным.
— На комбинате считают, что ты покровительствуешь Николаю Александровичу, а то бы…
— А то бы, а то бы!.. — Василий Антонович нахмурился, разговор был ему явно неприятен. — А то бы что?
— Давно бы сняли его с работы.
Василий Антонович не ответил и ушел в спальню. Посмотрев ему вслед, София Павловна заговорила вполголоса:
— Папа сам исе это знает, Шуренька. Он знает, что Николай Александрович совсем не тот работник. Быть директором крупного предприятия не по его силам. У Николая Александровича уже в Ленинграде были неприятности. Ему там чуть ли не исключением из партии грозили за развал работы. Но он ее не разваливал. Он просто не мог ее наладить. Папа его выручил, поручился за него, потом хлопотал в министерстве, помог переехать сюда, устроил вот… сказал, что сам будет помогать в трудных случаях. Но где же помогать? Своих дел сколько!
— Да, но…
— Какие же, Шурик, «но»? Попробуй понять папу, попробуй встать на его место. Вот тебя бы кто-то спас от смерти — как бы ты к тому человеку относился?
— Мама, ты сама себя обманываешь! — Александр смотрел ей в лицо. — Я же тебя знаю, мама. Ты не можешь, не можешь одобрить того, кто из чувства благодарности к одному человеку ставит под удар многотысячный коллектив рабочих, инженеров, партийных работников. Посмотри, мама, мне в глаза.
— Хорошо, Шурик, рассуждать со стороны. Папа не электронно-счетная машина без души и сердца. Папа — человек.
— Прекрасное объяснение и оправдание любого безобразия, все мы люди, все мы человеки!
София Павловна знала, что Василий Антонович сам заговорит, поэтому, придя в спальню, она тихо возилась за своим столиком и молчаливо ожидала.
— Соня, — сказал Василий Антонович, отложив книгу, которую держал в руках нераскрытой, — объясни ему все, пожалуйста. Если он не понимает, то пусть поймет.
— Я, Васенька, объяснила. Но ведь как ни объясняй, человек в таких случаях движениям души противопоставляет логику, здравый смысл, и тогда от самых красноречивейших объяснений ничего не остается.
— Да, Соня, да. Это мой крест.
Назавтра Александр вновь поднялся раньше всех в доме, вновь собирал Павлушку в путешествие в детский сад. К нему вышла заспанная Юлия.
— Хочешь, я буду возить Павлика? — предложила она. — Немножко, правда, попозже. В это время чертовски хочется спать. А ты себе езди один, свободно. А, Шура?
Алескандр не мог не оценить ее заботу.
— Спасибо, Юля, — ответил как можно мягче. — Ты очень хорошая.
— Я же говорила тебе это. Ну так как?
— Учту, Юля. Пока не надо. А если будет трудно, воспользуюсь твоим предложением. Спасибо.
День шел ровно, буднично. Александр начал различать лица аппаратчиц и аппаратчиков. К нему подошла комсорг участка, девушка в синем халате, быстроглазая, видимо, веселая и компанейская. Разговорились. Она принялась рассказывать обо всех, кто работал на участке, где кто живет, где кто учится.
— У нас на участке болыпе половины — все молодежь, комсомольцы. Есть, конечно, и пожилые. Тетя Аня, например. Ей пятьдесят восемь. Могла бы идти на пенсию. Не хочет. Это по ее инициативе тут цветы, растения… Полгода назад цех у нас не так хорошо выглядел. Грязновато было. А зеленью и не пахло. Тетя Аня предложила разложить везде тряпки — идешь мимо аппарата, проверяешь работу, — возьми тряпочку и сотри пыль. Тетя Аня первая принесла из дому горшки с цветами. За ней и другие. Директор сначала приходил, говорил: «У нас не швейное ателье и не парикмахерская. У нас химия. Все посохнет». А потом даже приказ отдал, одобрил нашу инициативу.
Подошла другая девушка, спросила, не может ли товарищ инженер похлопотать перед начальником цеха о том, чтобы ей дали отпуск за свой счет, она подала заявление на вечернее отделение института, и на днях уже надо держать экзамены. Очень их боится. Десятилетку окончила два года назад, и, хотя всю зиму готовилась, все равно страшно.
Обещал похлопотать, подбодрил, сказал, что отпуск ей, конечно, дадут, он в этом нисколько не сомневается.
Подходил к нему и Булавин, интересовался, как идет дело, каково настроение.
Настроение было неизмеримо лучше, чем накануне. Все время вокруг люди, люди, ты им нужен, тебя спрашивают, к тебе обращаются, — грустить и раздумывать некогда, надо отвечать, надо помогать, надо организовывать.
Александра удивляло, почему же нигде не видно голубоглазой златокудрой девушки, которую они с Николаем Александровичем встретили в бытовке. Спросить бы о ней. Но как спросишь, если имени не запомнил? Мол, такая: глаза голубые, а волосы — белое золото?
После гудка он уже не так спешил к проходной, как было накануне. Шли вдвоем с одним инженером, человеком лет пятидесяти. Инженер расспрашивал о Ленинграде.
— Ни разу там не был, только мечтаю побывать, и очень удивляюсь, что из такого центра культуры, или, как все говорят, из центральной лаборатории технического прогресса, вы вдруг к нам заехали. Но Андрей Николаевич Булавин сегодня объяснил. Конечно, если родители здесь — да ещё такие родители! — естественно, что с ними жить лучше. А вы женаты, у вас есть дети?
Александр как можно короче рассказал ему о том, что привело его в Старгород.
— Простите, простите! — восклицал инженер. — Это я, значит, задавал бестактные вопросы. Ну, конечно, конечно, тогда все ясно, все понятно. Я вам глубоко, от всего сердца сочувствую. Если понадобится, вы всегда можете рассчитывать и на мою помощь, и на помощь моей жены. Мы здесь недалеко, в комбинатовских домах, живем. Вон в том лесу, где водонапорная башня!..
Черноглазая толстуха в детском саду весело сказала:
— Товарищ папаша, а мы вашему Павлику… очень, кстати, общительный мальчик… мы ему носочки заштопали.
«Ах, мама, — подумал он, — как же это мы прозевали вчера, не осмотрели Павлушкины одежды?»
— Спасибо, — ответил смущаясь.
— А вы не смущайтесь, папаша. — Толстуха заметила это. — Папаши все такие. И наш долг им помогать, чем возможно. — Глаза ее метали черные горячие молнии.
В автобусе, уже когда ехали улицей города, его вдруг ударила мысль: «А что, если?.. А что, если все эти сочувствия, все предложения помощи — только потому, что люди узнали, кто его отец? Только потому… Только потому…»
Александр взволновался, расстроился. Сошел с Павлушкой остановкой раньше, чтобы пройтись по свежему воздуху и подумать. Неужели, думал он, неужели это так? И заведующая детским садом, и пожилой инженер, и девушки в цехе, и комсорг в синем халатике?
Замедлил шаг; постояли, держась за руки, на углу.
— Знаешь, — предложил Александр, — а не зайти ли нам в кафе, сынок? Ну что мы всегда домой несемся? Что нас там ждет уж такое особенное?
Народу в кафе было мало. Чинно стояли незанятые, накрытые белым столики, на них вазочки с гвоздиками и ромашками.
— Давай сядем здесь, в уголочке. Ты есть хочешь?
— Кушать? Покушаю. А что будем кушать?
— Что закажешь?
Павлушка с интересом оглядывался вокруг. Бывать в кафе ему ещё не приходилось. Заходили с отцом в молочный буфет. Но там толкучка, как на вокзале, все стоят у столиков, торопливо едят, поспешно уходят. Тут был строгий порядок.
— А что, — спросил он, — это взрослый детский садик?
— Ты почти угадал, — ответил Александр. — Так что же мы съедим? Яичницу хочешь?
— Ага. Вкусную?
— Так, среднюю, наверно.
Заказав себе кусок жареного мяса, Александр вдруг попросил официантку принести стакан портвейна. «Хорошего только, пожалуйста».
Потом они ещё побродили по улицам. В голове у Александра шумело. Зашли в кино. Александр смотрел на экран, на котором что-то мелькало. Павлушка мирно спал у него на руках, и спал до тех пор, пока ему не понадобилось на улицу; тогда ушли и уже в зал не вернулись.
Сумерничали в городском саду на скамье над береговым обрывом. Снова Павлушка спал на руках. Александр чувствовал его тепло и смотрел на реку. По реке, сверкая огнями, шел пароход; гудок у парохода был басовитый и могучий. Он звал туда, где все по-иному, чем здесь, где все интересно и нет ни печалей, ни забот.
Домой вернулись поздно. У Александра болела голова, был он бледный, усталый, едва тащил сонного Павлушку.
— Где же вы были? — спросила встревоженная София Павловна. — Я уже в милицию хотела звонить. Из цеха ты ушел вовремя, мы с отцом справлялись. Павлика взял тоже вовремя…
— Какие точные сведения! — вяло воскликнул Александр. — Хорошо налаженная служба наблюдения. Мы гуляли.
— Вы гуляли! — София Павловна приложила руку к Павлушкиному лбу, к его раскрасневшимся щекам. — Догулялись, у ребенка жар.
Она поставила градусник; было тридцать восемь и две десятых.
— Папочка — называется! Иди звони, вызывай неотложную.
14
Вместе с Лаврентьевым они стояли перед картой области, занимавшей почти всю стену в кабинете Василия Антоновича. Старгород не был в центре. Он лежал в нижнем левом углу карты. От него на север и на северо-восток пятью лучами шли пять извилистых дорог к пяти городам области: Волоку, Великоречеиску, Дождеву, Сытину и Краснодзержинску. Три из этих городов помнили не только времена Ивана Васильевича Грозного, но ещё и годы нашествия татар, а может быть, даже и половцев. Четвертый и пятый — Краснодзержинск и Великореченск — города новые. Краснодзержинск — город шахтеров, добывающих сланец, город сланцеперегонных заводов; от него к Старгороду идет газ по трубам, а в другие края страны везут битум, мазуты, бензин. Великореченск — центр лесопильных заводов, бумажных и мебельных фабрик.
Меж Старгородом и этими городами, в промежутках между ними и дальше за ними — до самых границ области, — все села, деревни, поселки… Десятки, сотни селений. Иные из них — вот ещё немножко, вот год, два — тоже станут городами вроде Великореченска или Краснодзержинска.
Стоят города и селения на берегах рек, на берегах озер, раскрашенных на карте голубым, стоят в лесных бескрайних пущах, затушеванных зеленым, а по зеленому фону, окружающему их, разбросаны кем-то старательно нарисованные елки, сосны, березы.
На голубом фоне водных артерий и пространств тоже что-то изображено; подойди ближе, увидишь очертания судаков, окуней, хариусов, щук и даже — посмотрите-ка только! — осетров с их длинными острыми носами, этих чешуйчатых, сгибающихся в крутые кольца, огромных рыбин.
Цветные квадратики, треугольнички, рассыпанные горстями кружочки, точки, крестики — обозначают то глубокий карьер, откуда берут песок для стекольных заводов, то залежи глины, пригодной для изготовления фарфора, то места отложений горючих сланцев, то предполагаемые по соседству со сланцами нефтеносные пласты. А это вот бурый уголь; шахты там старые, дореволюционные. Только было взялись в конце тридцатых годов модернизировать их да строить новые, ударила война, и все забросили. А после войны и не возобновляли — разработка местных углей показалась кому-то нерентабельной.
А вот и то, о чем говорил Черногус: чуть ли не пятую часть области — от Белозерья до Забо-ровья, захватывая Волок и Дождев и обширные болота вокруг них, — занимает красноватая клякса, магнитная аномалия, видимо не очень-то многим уступающая по мощности Курской.
— Территория нашей области более, чем в два раза обширней территории Бельгии, — сказал Василий Антонович, шлепая деревянной линейкой по ладони, — страны, неплохо развитой индустриально и с довольно-таки интенсивным сельским хозяйством. Природных же богатств у нас неизмеримо больше, чем у бельгийцев. Возможности наши даже трудно подсчитать, так их много. А как мы их используем? Слабо, очень слабо. Давай, Петр Дементьевич, поднимем весь актив не только на то, чтобы выявить эти возможности, но и чтобы начать составление далеко идущего, перспективного плана превращения области в край подлинного процветания, подлинного изобилия. Убежден, что найдутся горячие сердца и головы, которые вложат в это всю силу своей фантазии. Пусть люди спорят, мечтают. Нельзя же разумными считать только тех, кто по всем вопросам думает одинаково с нами. Давай обдумаем такой план да представим его в ЦК, в правительство…
Они долго рассуждали возле карты. Она не была мертвой, застывшей картой. Каждый год на ней что-то дорисовывалось, подрисовывалось, изменялось. Карта жила. Василию Антоновичу и Лаврентьеву было отрадно сознавать, что и за недолгие годы их пребывания в обкоме на ней кое-что прибавилось. Бумажная фабрика в Великоре-ченске… Сколько хлопот потребовала она, сколько забот, пока вступила наконец в строй. Сколько потрудились прошлым летом областные организации, чтобы семь мелких, разбросанных селений свезти в одно место, объединить в прекрасный поселок Солнечный и в конце концов пометить той красной звездочкой в правом верхнем углу карты. А голубая черта между реками Саввой и Дальней Быстрицей… Прежде чем возникла она на карте, сколько пришлось преодолеть препятствий, обойти учреждений, вплоть до Совета Министров Федерации. Зато появился канал, который вдвое сократил водный путь от Сытина до Старгорода.
Многие ли знают, во что кому-то обошлось то или иное улучшение, то или иное изменение в жизни города, района, области, улучшение, из-за которого кто-то недосыпал, кто-то волновался, куда-то ездил, ставил где-то и перед кем-то вопросы, ссорился, думал, подсчитывал, рассчитывал, убеждал людей, принимал успокаивающие сердце капли, получал замечания и выговоры, но вместе с тем, когда дело было сделано, получал и огромное удовлетворение оттого, что оно все-таки сделано.
— Решаем? — Василий Антонович хлопнул по плечу Лаврентьева. — Займемся перспективным планированием?
— Решаем! — согласился Лаврентьев.
— А теперь давай посидим, — предложил Василий Антонович, опускаясь в кресло. — Что-то ноги не держат.
Закурили, пуская дым к потолку.
— Не получается бросить курево? — спросил Лаврентьев.
— Четыре раза бросал. Был случай, три года с лишним не курил. Перед войной. В войну снова потянуло. А теперь такое решение принял: когда шестьдесят стукнет, брошу окончательно.
— Шестьдесят! — Лаврентьев даже свистнул. — До этого ещё далеко. Когда шестьдесят стукнет, может быть, уже и не то бросить придется. — Он засмеялся.
— Пессимизм, Петр Дементьевич. А напрасно. Сейчас средняя продолжительность жизни в стране около шестидесяти двух или шестидесяти четырех. Средняя, заметь! Следовательно, в шестьдесят два или шестьдесят четыре наше состояние будет ещё вполне среднее. А среднее состояние в таком деле, как жизнедеятельность на седьмом десятке жизни, это, милый мой, совсем неплохо. Это даже просто хорошо. От среднего до ниже среднего — то есть до старости — ещё далеко. Да, старость, старость… — Василий Антонович задумался и затем стал подробно рассказывать о том, как побывал на днях у Черногуса.
— Вот это уже от старости недалеко, — закончил он. — И потому так приблизилось, что не дали человеку своевременно дела в полную силу. Точнее — просто отняли это дело.
— Их бы, таких партийных стариков, — сказал Лаврентьев, — надо бы привлекать к живой, активной работе. Но как это сделать? Я, откровенно говоря, думал на такую тему. Может быть, совет какой-нибудь созвать при обкоме? При бюро, допустим. Старые коммунисты — народ, как правило, острый, к недостаткам непримиримый.
— Совет? Неплохая мысль! Надо подумать. Созовем для начала человек пятнадцать — двадцать, порасспрашиваем их самих. Организуешь?
— Попробую.
После ухода Лаврентьева явился Огнев.
— Такое дело, Василий Антонович, — сказал он, садясь. — В воскресенье в колхозе «Озёры» открывают картинную галерею. Может быть, найдете время, съездите?
— Да, да… — Василий Антонович поискал среди бумаг на столе. — Знаю. Где-то конверт. Вот приглашают. Правление и партийная организация. Откуда они картин понабирали?
— В основном — подарки. От наших художников. От москвичей и ленинградцев… Да и собственные таланты обнаружились. Представляете: председатель колхоза — живописец!
— Как бы колхозные дела не завалил! — Василий Антонович засмеялся. — Между прочим, — сказал он, — а как обстоит дело с клубом художественной интеллигенции? Мы же обещали товарищам через две-три недели ответить. Прошло больше.
— Все подработано, Василий Антонович. Не только ответ, но уже и решение можем, выносить. Зоотехники переселятся в монастырь. Для РТС тоже найдено место. Надо только, чтобы горсовет организовал ремонт здания, которое освободит институт. Чудный был дом когда-то. Подзапу-стили его.
— Что ж, готовьте решение. И ещё у меня один вопрос, если уж вы зашли… Что там у нас с этим юным поэтом происходит? Помните, его тут здорово товарищи обрисовывали? Птушков — так?
— Да, Виталий Птушков. А в чем, собственно, дело, Василий Антонович?
— Жалуются на него, Анатолий Михайлович. Химики жалуются. В клубе у них выступал и такую, пишут, жеребятину нес!.. Из Великоре-ченска тоже. Ездил, говорят, туда по линии какой-то пропаганды литературы. А что пропагандирует? Вот, почитайте! — Василий Антонович псдал Огневу несколько листков с перепечатанными на машинке стихами Птушкова. — И этакая продукция преподносится рабочему классу! Людям, строящим коммунизм! Нам с вами Центральный Комитет что поручает? Воспитание масс в духе коммунизма, в духе новой морали, коммунистического отношения к труду. А это что? Коммунистический дух? Тогда, как говорится, и думать не о чем. Подымем из гроба всю ту постельную литературу, с какой мы давно покончили, подымем голливудовскую развращенную кинопродукцию, да и пустим ее на все экраны…
— А что делать, Василий Антонович? Художник… Творчество… Ни навязывать, ни регламентировать не станешь.
— Правильно, правильно. Но работать все равно надо. Воспитывать надо. Сколько ему лет?
— Около двадцати четырех.
— И возраст-то ещё комсомольский! Комсомолец?
— Механически выбыл. За неуплату взносов.
— Эх, друзья вы, друзья! — Василий Антонович покачал головой. — Приведите-ка его ко мне как-нибудь. Выберу свободный часок, потолкую.
— Хорошо. В ближайшее же время это сделаю.
В тот вечер Василий Антонович спросил Софию Павловну:
— Соньчик! Как твое настроение? Не хочешь ли воскресным днем, то есть после послезавтра, прокатиться со мной в область? В одном из колхозов открывается собственная, колхозная картинная галерея.
— В воскресенье? Единственный день, когда можно кое-что поделать дома… У нас ведь Павлик, Вася. Ты не забываешь об этом?
— Нет, не забываю. Я ещё и о Юлии помню. Может быть, и за ней ты присмотреть должна? Чулочки заштопать, пуговки к лифчикам пришить?
— Зачем такой сарказм? Семья есть семья, Вася. Но если ты хочешь…
— Да, я хочу. Я хочу, чтобы ты сама захотела поехать. Такое не каждый день случается. «Озёры», деревня, так сказать — навоз и свино-поголовье, и вот тебе: собственная картинная галерея! Это не шуточки.
— Убедил, Вася, убедил. Может быть, ещё и Юлию прихватим. Она же художник.
— Нет, Юлия не годится. Мы захватим знаешь кого?.. — Василий Антонович пошел к телефону, полистал страницы телефонной книги, набрал номер, — Мне бы товарища Баксанова, — сказал он в трубку. — Здравствуйте, Евгений Осипович! Денисов говорит. Да, Денисов. У вас нет желания прокатиться в «Озёры» в воскресенье? Знаете, значит? И даже собирались? Ну и отлично. Приглашаю в мою машину. Чего ж тут неудобного! Отлично, берите и жену. Да, да, заедем, конечно. Только пораньше надо выехать. Часиков в девять. Ну есть, есть. Будьте здоровы. — Положив трубку, объяснил: — Он славный малый, Соня, этот Баксанов. Вот увидишь. Начитанный, эрудированный. Тебе будет с ним интересно.
В воскресенье мчались в большой черной машине по шоссе на Краснодзержинск. Вместительная машина эта обычно стояла в гараже без дела. Пользовались ею только в тех случаях, когда приезжал кто-либо солидный из Москвы или появлялись в Старгороде особо знатные иностранцы.
До «Озёр» было около ста пятидесяти километров, из них сто тридцать восемь по вполне удовлетворительному Краснодзержинскому шоссе, и Роман Прокофьевич Бойко заверил, что довезет до места самое большее за два часа. Устойчивая сильная машина летела по временам со скоростью более чем в сто двадцать километров, — до какого-нибудь размыва, до какого-нибудь объезда. А там, понятно, начинали едва ползти, разбрасывая буксующими колёсами комья земли и грязи.
Василий Антонович сказал Баксанову о том, что вопрос с клубом творческой интеллигенции принципиально решен.
— Осенью можете вселяться, можете планировать зимний сезон по-новому. Но уж взамен ждем от вас хорошей работы. — Василий Антонович вновь помянул поэта Птушкова и те жалобы, какие идут в обком после каждого его публичного выступления.
— Видите ли, Василий Антонович, — ответил Баксанов, — вы уж на меня не сердитесь, но тут и ваш грех есть.
— То есть? — Василий Антонович насторожился. — В каком же смысле? Не запрещаю, да? Слишком простое решение.
— Нет, зачем же. Дело не в запрещении. Совсем в другом. Дело в поощрении. Если говорить откровенно, я вот, например, не знаю, какие из книг писателей нашей области обком одобряет, поддерживает, считает книгами, помогающими партии…
— Странно, — удивился Василий Антонович. — Как же вы не знаете? А когда мы план областного издательства утверждаем, разве, включая одну книгу и отклоняя другую, мы не даем ей оценку? А тираж? Одной книге и пятнадцати тысяч жалко. Другой, пожалуйста, хоть сто тысяч. Извините, Евгений Осипович, ваше «Половодье» — книгу острую, умную, истинно партийную, мы издали тиражом в сто пятьдесят тысяч. Не так ли?
— Это верно, — согласился Баксанов. — Тут вы правы, Василий Антонович. Но и «Королеву Марго» Александра Дюма наше издательство выпустило тиражом в сто пятьдесят тысяч экземпляров.
Василий Антонович сухо кашлянул.
— Цифры цифрами, — продолжал Баксанов, — они не каждому видны. А вот вы сейчас сказали добрые слова о моей книге, спасибо вам за это. Но я же впервые слышу от вас такую оценку. Мне ваше мнение совсем не безразлично. Почему в своих докладах вы никогда не помянете нашу продукцию — продукцию писателей Старго-родской области, продукцию наших, художников, композиторов. Обычно в докладе есть этакая общая, дежурная фраза о том-де, что за последнее время улучшили свою работу отделения творческих союзов. Даже если они ничего и не улучшили, все равно им посвящается эта неизменная фраза.
— Ну, не я виноват, дорогие товарищи, что наши областные творцы прекрасного не создали пока таких произведений, которые бы удостоились Ленинской премии. Не виноват, товарищ Баксанов, нет.
— А может быть, в известной мере и виноваты, Василий Антонович. — Баксанов был настойчив. — До Ленинской премии высоко. Но к ней по ступеням идут. Разберите, оцените в своем докладе ту или иную повесть, тот или иной роман, — это же и будет одной из ступеней. А другая ступень… — Он подумал. — А другая — какое-нибудь, вечное перышко писателю от имени обкома… с такой, хорошей надписью.
— Пряник, значит, нужен? — Василий Антонович усмехнулся.
— Да не пряник! Как вы не хотите понять! Я член партии, Василий Антонович. Я тридцать лет пишу о людях нашей области. Я тридцать лет считаю, что делаю так свое партийное дело. Почему же вы думаете, что коммунист-директор завода, коммунист-токарь, коммунистка-доярка нуждаются в оценке того, как они выполняют свою авангардную роль на производстве, а писатель-коммунист или художник-коммунист в этом не нуждаются? Если бы мне, скажем, от имени обкома подарили вечное перо с хорошей надписью: от обкома, мол, писателю-коммунисту такому-то, это для меня было бы самым дорогим подарком, хотя цена ему несколько рублей. Не в рублях дело. В отношении.
София Павловна и жена Баксанова, с интересом прислушиваясь к разговору мужчин, молчали. Софии Павловне очень хотелось сказать свое слово. Она считала, что Баксанов совершенно прав. Коммунист, если он хороший коммунист, не может не думать о том, как его труд оценивает партия, как в данном случае писательский труд Баксанова оценивает не бухгалтерия издательства, а областной комитет.
— Даже я, — сказала, не выдержав, она, — хотя пишу только небольшие статейки, и то хотела бы знать, что о них думает первый секретарь обкома.
Ее шутливое замечание всех рассмешило.
— Ну, ну, — сказал Василий Антонович неопределенно. — Преподнесу обоим по авторучке. Завтра магазины закрыты, куплю во вторник и преподнесу.
Проехали небольшое сельцо. Жена Баксанова, Людмила Сергеевна, пояснила, что это ее родина. Малые Грязи. Но родных у нее там уже давно не осталось.
— Между прочим, Малые Грязи славились частушками, — добавила она и принялась петь вполголоса. Частушки были смешные и озорные. И пела их Баксанова на особый, озорной манер-София Павловна улыбалась. Василий Антонович и шофер Бойко откровенно и весело смеялись.
Бойко не обманул: через два часа и десять минут въехали в улицу Озёр.
Секретаря обкома ждали. Перед новым двухэтажным зданием из уложенного вперемежку, узорами, красного и желтого кирпича, собралось несколько сотен народу. Как на демонстрацию. Было много машин — и грузовых, и легковых. Прибыли сюда не только гости из Старгорода, ко и соседи из окрестных селений. Василий Антонович увидел в толпе Огнева, увидел председателя отделения Союза художников Тур-Хлебченко, товарищей из обкома, из облисполкома.
Было шумно, празднично, играл оркестр.
Подошел председатель правления колхоза — маленький рыжеволосый человек, весь в веснушках; подошел секретарь парторганизации — большеглазый внушительный толстяк, майор в отставке.
— Вас ждем, Василий Антонович, — сказал председатель. — Вот она, наша «Третьяковка!» — Он указал на новое двухэтажное здание. — Вот вам ножницы. Очень просим перерезать ленточку при входе.
— Кому-нибудь из художников бы это сделать…
— Нет, нет, — стали упрашивать со всех сторон. — Пожалуйста, вы!
Василий Антонович взобрался в кузов одного из грузовиков, стоявших поблизости, и сказал горячее слово о селе Озеры, которое сто лет назад ещё было крепостным селом, а вот доросло ныне до своей собственной картинной галереи. София Павловна всегда радовалась, когда он выступал без заранее подготовленного текста. Это были его самые лучшие речи. Самые вдохновенные, самые яркие. Василий Антонович говорил о партии, которая всех их вместе взятых привела на эту площадь, на эту сельскую улицу — для участия в событии, которое является новым большим шагом на пути к коммунизму.
Потом под грохот оркестра, игравшего гимн, под шумные аплодисменты он перерезал красную ленточку у входа в здание из пестрых кирпичей.
Конечно, это была не Третьяковская галерея. Здесь не было прославленных полотен, комнаты были тесноватые, не очень-то устроители галереи продумали систему освещения. Знатоки нашли бы, наверно, уймищу недостатков в «Третьяковке» колхоза «Озёры». Василий Антонович позабыл о них, он их просто не видел. Событие его глубоко волновало. Его волновало тут все — и сама идея, родившаяся в колхозе, создать такой музей, и то, как на призыв колхозников откликнулись в Стар-городе, в Москве, в Ленинграде; даже из Киева известный украинский художник прислал две картины.
И вместе с тем что-то очень беспокоило Василия Антоновича, мешало радоваться в полную силу. Но что? В шуме праздника он ещё не мог разобраться в этом, ещё не ощущал этого отчетливо.
Гости переходили из комнаты в комнату, толкались, стояли перед портретами, перед пейзажами, перед полотнами сложного, сюжетного содержания. Василий Антонович увидел довольно много портретов с подписью «Тур-Хлебченко»;
— Ваши работы? — спросил он художника.
— Да, увлекся, знаете. Вот уже третий год по области путешествую.
— Помню, помню, вы ещё тогда, в обкоме, рассказывали. Насчет муштабелей… Как с ними, с муштабелями, — не улучшилось дело?
— По-прежнему плохо, Василий Антонович. Ну, об этом потом. Пройдите, пожалуйста, сюда, — пригласил Тур-Хлебченко, — полюбопытствуйте. Это комната, где собраны работы художников колхоза «Озёры». Так сказать, хозяев галереи. Посмотрите, на чем бедняги пишут. На фанере, на досках. Как средневековые богомазы. А краски!.. Тьфу это, а не краски! Муть одна.
Василий Антонович коснулся пальцами: да, фанера вместо холста. Он обратил внимание на серию пейзажей. Чувствовалось, что их писала одна рука, и рука эта принадлежала художнику со своим, каким-то особенным взглядом на природу. Стоит одинокая береза над речным обрывом. За нею — широкие, уходящие в горизонт дали, необъятные просторы; и вот среди них — ощипанное ветрами, упрямое дерево. Или другой сюжет: снова простор — бескрайнее, унылое, поросшее клюквой болото, и среди болота — как только там и оказавшийся? — обкиданный лишайниками и мхами, огромный валун. Затем ещё: стреноженная лошадь среди лугов; солнце зашло, и лошадь — только силуэт на угасающем небе. Или вот стог, облитый лунным светом. Дальше — человек на длинной вечерней дороге… На всех картинах — отчетливые тени, отчетливые пятна света. Довольно точный рисунок.
Василия Антоновича поразило общее настроение пейзажей, — настроение раздумья. Если всмотреться, вдуматься, то и береза раздумывает, и валун морщит каменный лоб, и стог о чем-то думает, и лошадь, и человек среди дороги…
— Кто же этот мастер? — спросил Василий Антонович, пытаясь прочесть витиеватые подписи.
Из толпы к нему вытолкнули маленького веснушчатого председателя колхоза.
— Вот он. Мастер!
— Товарищ Соломкин? — поразился Василий Антонович. — Это ваши картины?
— Я, — ответил тот тихо и почти виновато; а сказав, стал медленно, но густо краснеть.
— Поздравляю! — Василий Антонович пожал ему руку. — Это же очень интересно. Где вы учились?
— В школе немного. А главное — сам. Баловался смолоду. Тогда же и забросил все, ленился. Только теперь вот, под старость, дурить начал.
— Какая же старость! Сколько вам? Сорок два? Цветущий возраст. Молодец, товарищ Соломкин! Честное слово, молодец.
— Вот молодец, говорите… — Из толпы вышел старичок, тоже, как Соломкин, рыжеватый, усыпанный веснушками. — А этому молодцу районный исполком выговор прописал. Вот как получается, товарищ Денисов.
Ну, наверно, выговор все-таки не за живопись! — Василий Антонович засмеялся.
— Вот как есть — за нее!
— Это отец мой, — сказал Соломкин, отстраняя старика. — Путает он.
— Где же я, Григорий, путаю? Чего путаю? Сам путаешь, товарищу Денисову голову морочишь.
— Правильно, правильно, — подтвердил секретарь партийной организации Никешин. — Дали Соломкину выговор, Василий Антонович. Сейчас объясню. Шел сев. Весна была поздняя, сами знаете. Отставали маленько. А тут председатель райисполкома, товарищ Шишкин, сам лично прикатил. Обошел поля, с народом потолковал — то да се. И, конечно: «Где председатель?» — «Не знаем», — говорят ему. В одном месте сказали: «Не знаем», да в другом опять: «Не знаем». Злиться стал. Ходит, пушит всех… И натолкнись он на Григория. Сидит Гриша на пригорке в самый что ни на есть крутой момент для колхоза и какую-то опаленную молнией колоду срисовывает на фанерку. Тут ему товарищ Шишкин и выдал в полную мощь. «Такой-то ты, говорит, руководитель! Картинками балуешься, а сев завалил». Вынес вопрос на исполком. Обеспечили Грише выговорок.
— Вот вам и молодец! — снова вступился отец Соломкина. — Кого и слушать-то?
— Да уж кто повыше, того надо слушать, папаша, — сказал Василий Антонович.
— Уж выше-то вас куда! — согласился старик.
Все весело рассмеялись.
— Ничего, товарищ Соломкин. — Василий Антонович дружески положил руку на плечо председателю колхоза. — Не огорчайтесь. Искусство — оно вроде партийной работы, дело взрывчатое. Оно требует риска и жертв. Тоже, бывает, увлечешься чем-нибудь, про все иное забудешь. А тут тебе раз — и напомнят. Ничего.
Он всматривался в рябенькое лицо Соломкина, в его умные глаза в белых ресничках. Многое можно было увидеть в этих глазах. Может быть, именно великие колхозные трудности, может быть, нелепые выговоры ни за что, — может быть, все вместе взятое и положило печать больших раздумий на пейзажи, выписанные рукой Соломкина, человека, судя по всему, с тонкой, чуткой душой.
— Ничего, — повторил Василий Антонович. — Выговоры забудутся, а пейзажи ваши останутся, товарищ Соломкин.
В окружавшей толпе он увидел человека, лицо которого ему показалось знакомым. Но кто это, припомнить не мог, и все на него посматривал. Тот наконец подошел.
— Не признаете, Василий Антонович? Я Лебедев, инженер.
— А! С Машиностроительного? Да, да, да!
— Вы зимой у нас были. На мой участок зашли.
— Вспомнил, вспомнил. Что, тоже на открытие картинной галереи приехали?
— По другому делу. Я уже пятый день здесь. Между прочим, чудаки эти хотя и вбили себе в голову, что им непременно картинная галерея нужна, а у самих, Василий Антонович, труд на производстве организован, как при царе Горохе. Никакой, ну ни малейшей механизации. Кроме, понятно, пахоты, уборки зерновых да молотьбы. А что касается животноводства, заготовки кормов — на нижайшем уровне живут.
— Это верно? — спросил Василий Антонович председателя, слушавшего разговор.
— Верно, Василий Антонович, — ответил тот. — Врать не буду.
Лебедев продолжал:
— У них бы и этого здания не было, если бы не мы, не завод. Мы же их шефы. Кирпич им дали, лес дали, краски дали. Наши ребята — штукатуры, столяры, маляры — всю зиму сюда ездили. Они ведь ни черта здесь сами не умеют. А с механизацией… посмотрел я, посмотрел… я же инженер-механик, Василий Антонович. Посмотрел, говорю, и решил заняться их колхозом. Что думаю сделать? Устрою им в коровнике автопоилки. Установлю транспортную систему для подачи кормов, для очистки скотных дворов от навоза. Механизирую подготовку грубых кормов. Все будет делать машина: измельчивание, запаривание, из-вееткование. Словом, к зиме они у меня начнут жить по-другому.
Лебедев не стеснялся в словах, в выражениях, вовсю ругал руководителей колхоза «Озёры». Те стояли и терпеливо слушали. Так терпеть могут только того, кого уважают, за кем считают право разговаривать в таких тонах.
— Вообще, — продолжал Лебедев, — за весь район бы взяться надо. Представьте себе, я подсчитал, исследовал: сенокошение механизировано только на сорок семь процентов, сгребание сена — на двадцать восемь, копнение — на три, а стогование и того меньше — на два и восемь десятых. Это, конечно, весело: «бабы с граблями рядами ходят, сено шевеля», как было сказано когда-то. Да с тех времен сто лет прошло. Хватит уж граблей. Из восьмидесяти четырех животноводческих ферм в районе только двадцать пять имеют автопоилки, тринадцать — внутрифермский транспорт, электродойка налажена на одной.
— Электричества нету, — сказал кто-то. — Какая тебе электродойка?
Лебедев только рукой махнул.
— Вентилятор вам всем надо вставить в одно место, — сказал он со злой досадой. — Чтоб поворачивались поживей. Вот чего вам не хватает.
«У этого дело пойдет», — подумал Василий Антонович, пожимая руку Лебедеву.
— В случае чего помощь, скажем, нужна будет, обращайтесь в обком, к товарищу Лаврентьеву, к Костину, ко мне, товарищ Лебедев. И вообще, информируйте о механизаторских делах. Договорились?
Домой возвращались поздно. Вспоминали выступления колхозной самодеятельности, вновь обсуждали ту или иную картину галереи, смеялись над злоключениями Соломкина. Машина мчалась по дороге, освещая ее ярким светом фар. Выскакивали из придорожных кустов и путались в этом ослепительном свете зайчишки, молодые лисы. В одной из деревень пришлось остановиться — прямо перед радиатором стоял ошалелый баран. Он, должно быть, ничего не видел. Лиловые глаза его горели, как фонари. Еле согнали круторогого красавца в сторону.
Там, где дорога шла сырыми низинами, перед машиной все время кружились болотные белые луни.
Хорошо было ехать так через ночь. Хорошо думалось в дороге. Василий Антонович начал ловить себя на том, что все чаще возвращается мыслью к картинной галерее, в дверях которой он так торжественно перерезал в тот день шелковую ленточку. Беспокойство, возникшее днем, теперь нарастало. Способствовал этому разговор с Лебедевым о хозяйстве колхоза, о труде, которого почти не коснулась механизация, о труде тяжелом и малопродуктивном. Все отчетливее становилась мысль о том, что затея с галереей в таких условиях не только преждевременна, а просто нелепа. Зачем эта галерея, которой сегодня все, в том числе и он, Василий Антонович, так искренне радовались? Кому она нужна? Ну, походят в неё несколько дней жители Озёр да окрестных селений. А дальше? Закроют на замок и будут отворять только в случаях, когда в колхоз наедут знатные посетители из области, из Москвы, Ленинграда. А сколько средств ушло, сколько дефицитных строительных материалов. Прав Лебедев, прав: на эти средства можно было машин купить, новые коровники построить. Да просто раздать часть их по трудодням, поднять материальный уровень жизни колхозников. Пыль в собственные глаза — эта галерея, и больше ничего.
Мысль была неприятная, неприятная оттого, что не пришла вовремя, ещё тогда, когда начинался разговор о создании галереи в «Озёрах», Василий Антонович услышал о намерении озёр-цев ещё год назад, но не разглядел в нем признаков ненужной затеи, напротив, поддерживал колхозных энтузиастов. «Забежали, забежали вперед, — думал он с раздражением. — Хотели приблизить коммунистический образ жизни, а по сути дела отдалили его, ослабив в колхозе материальную основу».
15
Поэт Птушков почти две недели добивался свидания с Юлией. Но у Юлии не было никакого желания встретиться с ним ещё раз. Он ей показался тогда неинтересным, излишне надутым, как молодой индючок, до крайности эгоистичным, таким, который лишь снисходит до того, чтобы, как должное, принимать знаки внимания от окружающих, утомленный этим вниманием и, так сказать, уже едва влачащий бремя рухнувшей на него славы областного масштаба. «Мальчик, — думала она о нем. — Пусть гуляет со своими обожательницами-девочками». Он звонил ей домой, приходил в театр. Юлия отговаривалась крайней занятостью, что, в общем-то, вполне соответствовало истине. Театр готовил две премьеры к новому сезону, и Юлия усиленно работала над оформлением одной из них.
При всей путаности своей натуры Юлия обладала хорошим вкусом. Формалистические искания ее не увлекали. Если в жизни она тянулась к романтике, то в творчестве была сугубой реалисткой. Беспомощные метания некоторых постановщиков, когда зрителей загоняют на сцену, а актеров в зрительный зал, когда рабочих сцены, сменяющих декорации, включают в число действующих лиц, когда возрождают хор античного театра, но выпускают его не в свободных, живописно раскинутых одеждах — драпировках древних греков, и не под голубые небеса Афин, а в пиджаках, по швейному прейскуранту обозначаемых артиклем за номером таким-то, и под давно не ремонтированные колосники, с которых падают хлопья пыли, — все эти безвкусные ухищрения, дополненные ещё и кокетливым отказом от занавеса, Юлию откровенно раздражали. «Это когда-то уже было, — говорила она, когда затевались споры о таком ложном новаторстве, — и все это отвергнуто. Отвергнуто жизнью».
Она нисколько при этом не чуралась эффектности оформления. Но признавала только одну эффектность — эффектность эмоциональную. Ее работы отличались яркостью и хотя и скупым, но до неожиданности впечатляющим воспроизведением действительности. Она считала, что театр и без того достаточно условен, чтобы ещё нуждаться в подчеркивании своей условности. Нарочитая условность снижает силу воздействия искусства на человека. Она может удивлять, поражать, но не волновать. Формальные ухищрения недолговечны. Они могут наделать шума, могут на время привлечь к себе внимание, затмить собою даже истинно ценное. Но важен все-таки реализм, который, какие бы ни обрушивались на него удары, является естественным методом восприятия и отражения реальной жизни человеком с неповрежденной психикой.
Птушков звал Юлию к себе — в его одиннадцатиметровую, как он называл, мансарду, хотя «мансарда» была на втором этаже четырехэтажного дома, — вызывался прийти к ней. Юлия отказывалась и от того и от другого. Он звал ее в луга, в леса — «в далекое и близкое». Она не хотела и туда. «Вы даже не знаете, что делаете, — говорил он. — Вы делаете большое зло. Будет плохо, будет очень плохо».
Поэт влюбился в женщину лет на семь, на восемь старше его. Она его поразила, и поразила именно в те минуты, когда бесстрашно читала циничные стихи: «Изменить бы! Кому?» Он понимал, что теми стихами она хлестала его по щекам, она читала их от полного презрения к нему, он был убежден, что она считает и называет его ничтожеством, фигляром, канатным плясуном. Тот страшный день, тот вечер и ночь после них были для него днем, вечером и ночью позора. В ту ночь, повязав шею шарфом и надев пальто, он дважды приходил к ее дому и из соседнего сквера все смотрел на ее темные окна. Таких он ещё не встречал. Были обожательницы, были почитательницы, заискивательницы, гордившиеся не только тем, что «Виталий Птушков — сам Птушков! — поздоровался со мной за руку», но даже минутным пребыванием в обществе, которое почтил присутствием молодой кумир, даже если кумир и не заметил обожательницу, даже если она была где-то там, в задних рядах.
Все прошлое показалось ему теперь пустяком. Все ценности мира были для него сосредоточены только в ней, только в Юлии. Она не нуждалась в нем, она была богатая. Но он без нее не мог; он без нее мог лишь прозябать, но не жить.
В какой-то вечер Птушков подкараулил Юлию возле театра и, встав перед нею, загородил дорогу.
— Юлия Павловна, — сказал, глядя в темный тротуар, — ни о чем не прошу — уделите полчаса времени. Только полчаса.
— Но меня ждут дома.
— Вы уйдете, вы уйдете домой. Только полчаса… Полчаса…
— Вы странный юноша. Родители, видимо, избаловали вас. Подай ему игрушку, да и только.
— Это не игрушка, Юлия Павловна. Нет, нет. Поймите… Это жизнь или смерть.
Они сидели в городском саду, над рекой, на той самой скамье, на которой две недели назад сидели Александр с Павлушкой. Юлия все-таки уступила отчаянно-настойчивым просьбам Птуш-,кова. А он, добившись этого, сидел молча, впервые в своей жизни не зная, как начать разговор с женщиной. Она тоже молчала, смотрела на реку, на зеленые и красные огоньки бакенов, слушала гармошку и песни с проплывающих в темноте лодок. Она думала — а не дать ли во второй картине первого действия вот такой задник: темная река с отблесками зеленых и красных огоньков, лодки, плоты…
— Мне ничего не надо, — сказал наконец Птушков. — Абсолютно ничего, Юлия Павловна. Поверьте. Только не избегайте меня, только не гоните. Иначе… Я не знаю, что будет иначе. Но знаю, что вот уже сколько дней я не могу написать ни строчки. У меня горит сердце, горит голова.
— А может быть, это и к лучшему? — сказала она с непривычной для нее жестокостью.
— Что к лучшему? Что не пишу? Юлия Павловна!.. Хотите, я брошусь с обрыва? — Он шагнул от скамейки к реке.
— Хочу, — сказала Юлия. — И очень.
Он сел рядом с ней и заплакал. Скупые огни далеких фонарей отражались в его мокрых щеках. Юлия вынула из сумочки надушенный носовой платок, стала прикладывать к его глазам. Ее начинала интересовать эта игра. Птушков схватил ее руки и стал целовать ладони, пальцы. Она их не отнимала.
— Я вас люблю! Я вас люблю! — повторял он.
— Позвольте, но у вас жена, — сказала Юлия.
— Зачем, зачем вы так говорите? Зачем? Любовь выше всего. Сегодня там кто-то есть, завтра не будет. Это от одиночества, от тоски.
Он не видел в темноте ее улыбку. Если бы он ее видел… Юлия улыбалась грустно, сожалеючи, жалея не его, конечно, — ту девчонку, которая звалась его женой, а вместе с нею и всех тех жен, мужья которых вот так однообразно, без всякой выдумки, одними и теми же словами предают их, объясняясь в своих чувствах другим женщинам. Он, конечно же, скажет сейчас, непременно скажет: она меня не понимает, мы разные, она мещанка, поженились второпях, был молод… Птуш-ков так и сказал:
— Она меня не понимает. Мы разные. Зачем об этом говорить?
— Она мещанка? — спросила Юлия. — Поженились второпях?
Он насторожился.
— Смеетесь, — сказал. — Вам смешно. Что ж… Я все стерплю.
— Мне, дорогой Виталий, надо идти. — Юлия поднялась. — До свидания.
— Нет, нет, ещё минуту… — Он крепко держал ее за руки. — Позвольте хоть иногда бывать с вами.
— Чтобы потом и обо мне, сидя тут с кем-нибудь, на этой скамейке, вы могли говорить: мещанка, не понимает, ошибка юных лет? Да?
Он вдруг обнял ее и стоял так, волнующийся, нервный, растерянный.
— Хорошо, — сказала она, осторожно высвобождаясь из его рук. — Хорошо. Иногда мы будем встречаться. Но предупреждаю: не часто, — и при том условии, что вы будете писать хорошие стихи. Не эту чепуху, которую читали мне тогда в лесу. Слышите?
— Да, Юлия Павловна, да.
Он бережно вел ее под руку до дому, молчал, вздыхал. Что-то серьезное происходило у него в душе. Юлия это понимала. Но все равно он был ей не нужен, был безразличен и неинтересен. Был он, по ее мнению, бесперспективен. Пороху такие не выдумывают. Они только щедро жгут чужой. Она была уверена, что он достиг потолка в своем творчестве и головой его не пробьет. «Нет, нет, пусть гуляет со своими гимназистками», — думала она, прощаясь с ним возле дома.
Назавтра, — Птушков ещё спал, — ему принесли записку от Баксанова. Ответственный секретарь отделения Союза писателей сообщал, что его, Птушкова, приглашает к себе сегодня к трем часам дня секретарь обкома Огнев. «Чего это я пойду, я беспартийный», — было первой мыслью поэта. От приглашения в обком добра он не ждал. Они, эти Огневы, поэзии не понимают. Это чиновники. Из обкома перебросят такого в банно-прачечный трест, потом ещё куда-нибудь. Везде Огнев будет осуществлять «общее руководство». Горячей водой, мылом и вениками заниматься — пожалуйста, заведовать дровами на дровяном складе — тоже будьте любезны. Культуру возглавить — и за это может взяться. А ему, поэту Виталию Птушкову, всю жизнь писать свои стихи, быть совестью народа.
Обругал мысленно Баксанова, певца электродойки и зяблевой вспашки, побрился, потребовал чистую рубашку у той тихой девчушки, которая пришла, к нему минувшей зимой в жены, — и отправился.
До этого он ещё никогда не бывал в обкоме. Не без робости предъявил при входе милиционеру свой паспорт и талончик пропуска, полученного в бюро пропусков; шел по коридорам не очень-то уверенно; читая таблички на дверях, разыскивал комнату номер тридцать два. Тихо все было, чинно, таинственно.
Посидел минут десять на клеенчатом диване в приемной у Огнева. Поразглядывал круглые часы на стене, стол-конторку, немолодую женщину, сидевшую за этим задвигающимся столом; было досадно, что она не обращала никакого внимания на посетителя. Стал думать о Юлии. При мысли о ней у него холодело в груди. Ему даже показалось, что сердце дает перебои. Пощупал пульс. Но тут его пригласили в кабинет.
Огнев усадил посетителя в кресло, порассмат-ривал, крутя в руках, цветной карандаш, спросил:
— Над чем работаете сейчас, товарищ Птушков?
— Да… так… стихи. — Птушков почему-то растерялся от этого вопроса. С трудом и не сразу нашел нужный тон. — Творчество не спланируешь, товарищ секретарь. Найдет волна — пишешь. Нет волны…
— Гуляешь? — Огнев улыбнулся.
— Почему «гуляешь»! У творческого работника понятия «гулять» нет. Даже, как вы говорите, гуляя, работаешь. Жизненный материал… впечатления…
Огнев снова улыбнулся.
— Вы знаете, почему я вас спрашиваю, над чем вы работаете? Нам бы, областному комитету партии, да и всей партийной организации области хотелось бы, чтобы такой одаренный молодой поэт, как вы, не растрачивал силы по пустякам, по мелочам. Вам, товарищ Птушков, по плечу большие темы, большие полеты…
Разговор поворачивался в добрую сторону. Птушков, сидевший на краю кресла, сел поглубже, закинул ногу на ногу, спросил, можно ли курить, и с удовольствием закурил сигарету. Огнев говорил о семилетнем плане, о движении к коммунизму, о том, что людей надо воспитывать в коммунистическом духе.
— Это значит, что прежде всего в них надо развивать чувства, — возразил Птушков, перебивая его речь. — Без развитых чувств к коммунизму не придешь, на одной практической работе…
— Что вы имеете в виду? — поинтересовался Огнев.
— То, что на романах о силосе, об электродойке или о выплавке чугуна человека, тем более строителя коммунизма, не воспитаешь. На такой литературе можно воспитать доярку, скотника, доменщика, но не человека. Человек — это эмоции, человек — это единственное живое существо, которое может смеяться, плакать…
— Но он и единственный, который может за-кладывать силос и выплавлять чугун, — сказал Огнев.
— Да, это верно. Но все равно, поэзия — область чувств, только чувств. Поэт должен пробуждать чувства.
— Вот мы и призываем вас: пробуждайте в людях чувства дружбы, товарищества, интернационализма, чувства любви к родине, коммунистического отношения к труду…
Птушков развел руками.
— Это же для брошюр, — сказал он. — Я пишу о моем, собственном отношении к действительности. Все проходит через мое сердце, через мою душу…
Разговор пошел по зыбкому руслу рассуждений, что такое есть поэзия, чему она должна служить, в какие области жизни вторгаться, какие опасливо обходить, дабы не превратиться в прозу.
— Маяковский, например, не чурался ни одной из бесчисленных сторон и граней жизни, — говорил Огнев. — Я не знаю случая, чтобы он отстранился от чего-либо, из чего состояла жизнь его времени. Поэтому он так актуален и сегодня, и поэтому, как иные ни стараются свалить его с пьедестала, это им не удается и не удастся.
— Во-первых, он давно уже не актуален, — возразил Птушков. — Во-вторых, он и есть не поэзия, а проза, крик. Его не станешь читать вполголоса, в полутьме, шепча на ухо.
— Да, верно, он требует разговора в полный голос.
— Вот это и есть проза. Он раздут, преувеличен. Его, так сказать, в определенных условиях и определенные люди раздули. Определенной цитаткой. Жизнь, требующая только правды от художника, все это пересмотрит.
— Никто его не раздувал. Напротив, его яростно травили. Вы человек молодой, может быть, этого не знаете. Его не раздували, а защищали. Его партия защищала, и будет защищать. Все «сто томов его партийных книжек» ещё долго останутся на нашем вооружении.
— Дело вкуса, дело вкуса, — сказал Птушков. — Баксанов вот от него в восторге. В каждом докладе, в каждом выступлении непременно вспоминает Маяковского. Что-нибудь такое: «И песня и стих — зто бомба и знамя, и голос певца подымает класс».
— Замечательные слова! — Огнев смотрел на Птушкова и думал: «Хорошо Денисову говорить — воспитывай! А как его воспитывать? С какой стороны подходить? Молод-молод, но взгляды сложившиеся. Маяковского — долой, романы Бак-санова — долой».
— Вам бы, товарищ Птушков, с первым секретарем обкома не плохо бы встретиться, — сказал он, памятуя слова Василия Антоновича: «Поговорю сам», — С Василием Антоновичем Денисовым.
Птушков, смущенный в первые минуты ходьбы по обкомовским коридорам, уже освоился с обстановкой.
— Что ж, — согласился он. — Могу и товарищу Денисову высказать всю правду. — Он вновь вспомнил Юлию, и вновь у него похолодело в груди от захватывающего волнения. Юлия ныла там, сидела занозой, болела — остро, раняще, и вместе с тем так, что пусть бы эта боль никогда не проходила. — Скажу, — добавил он вяло.
— Вам нездоровится? — спросил Огнев участливо.
— Что-то с сердцем. Устал, наверно. Несколько ночей не сплю.
Огнев сказал, что встречу с Василием Антоновичем он ему непременно устроит, и проводил до дверей.
В столе у Огнева хранились не только те стихи, какие Птушков публиковал в газетах и журналах, какие вошли в его две книжки, выпущенные — одна в областном издательстве, другая в Москве, но были у него и неопубликованные строки Птушкова, — те, что Птушков читал на вечерах, и даже такие были, что читались лишь в самом узком кругу друзей. Их переписывали на машинках и в машинописном виде распространяли почитательницы. Некоторые из подобных стихов нравились Огневу: смело и хлестко пишет, хотя и молод. Несомненно талантлив, несомненно. Игра стоит свеч. Надо им заняться, и основательно. Надо его вовлечь в общественную работу. Надо, чтобы пошел на завод, поехал в деревню, надо чем-то нагрузить. Пусть почувствует ответственность. Не может быть, чтобы не поддался влиянию, если влияние будет оказываться тонко, умно, тактично. Огнев подумал о Луначарском. Анатолий Васильевич умел, умел работать с творческой интеллигенцией. Каких людей, какого кремневого характера, перетаскивал он на свою сторону, на сторону советской власти.
А Птушков тем временем вышел из обкома окрыленный. Поняли здесь его силу! Заискивают теперь, обрабатывают… С Денисовым встретиться? Пожалуйста. Можно. Только для разговора с Денисовым он, Птушков, уже соответствующим образом подготовится; так, как сегодня, когда его застали врасплох, уже не будет.
В другое время он бы торжествовал. Но полному торжеству мешала Юлия Павловна. Что-то очень сложное и непривычное вошло вместе с нею в его жизнь". Она его не понимала, нет, не понимала. Подобно Огневу, она требует от него каких-то других, хороших стихов. Это значит, что он должен отказаться от самого себя, стать кем-то другим. Это невозможно, невозможно. Но невозможно и не любить Юлию…
В тот вечер он вновь подкараулил ее возле театра.
— Вы разрешили, — сказал, целуя ей руку.
— Но не каждый же день, Виталий.
Он видел: недовольна его появлением. Ну ничего, ничего, привыкнет, он ее приучит к себе. Он будет терпеливым. Он будет каким угодно, лишь бы завоевать ее, лишь бы находиться с нею.
— Я пойду с вами. Я провожу вас. Молча. Без всяких слов.
Он так и не раскрыл рта до ее дома; поцеловал руку и ушел.
Было поздно. Юлия зашла в дом с черного хода, чтобы не беспокоить Денисовых — возможно, они уже спали: в окнах темно. На кухне застала Александра. Электрическим утюгом он гладил Павлушкины одежды.
Она отстранила его от стола, принялась сама гладить. Александр сел на стул возле; подперев подбородок рукой, следил, как движется утюг по белым, темным, пестрым тканям.
— Просто игра какая-то, — сказала Юлия. — Почему ты должен так мучиться? Почему вы не пригласите в дом няню к Павлушке? Можно же найти хорошую, пожилую женщину. Пенсионерку, например. Не понимаю Соню.
— Мама тоже так говорит, — ответил Александр. — Но я не хочу, я. Отец не любит посторонних в доме.
— Да уж это я знаю!
— Ничего ты не знаешь. Не прикидывайся жертвой моих родителей. Не в этом дело. Отец за день утомляется. Он хочет тишины хотя бы дома. Я его отлично понимаю.
— Можно няньку попросить не петь страданий и не плясать барыню. — Юлия усмехнулась. — Ну-ну, не черней, — поспешила она сказать, видя, что Александр нахмурился. — Ты шутки перестал понимать с тех пор, как стал дет-ным. Эх, Шурик, Шурик! — Юлия отставила утюг. — Давай ужинать. Я сейчас что-нибудь сооружу. — Она схватила передничек Софии Павловны, висевший на крючке, надела его, зажгла газовую плиту. — Давай выпьем немножко. У меня есть очень хорошее винцо. Еще из Ленинграда. Марочное. — Все в ее руках закипело.
Александр вспомнил Сашеньку. Вот так же кипело и в Сашенькиных руках. Так же, чтобы никого не беспокоить в доме, сиживали они, бывало, с нею на кухне.
Юлия разогрела котлеты, приготовила яичницу. Сидели у стола, поглядывали Друг на друга, ели, чокались чашками — за рюмками идти в столовую Юлия не захотела.
Винцо было и в самом деле хорошее. Бутылка подходила к концу.
— За мной один поэт здешний бегает, — сказала Юлия ни с того ни с сего.
— Уже? — сказал Александр.
— Что значит «уже»?
— Ну то, что уже кого-то ты нашла?
— Не я, он нашел. И вообще, почему так пренебрежительно? Может быть, думаешь, что и ты не найдешь рано или поздно?
— Юлия!..
— Есть Юлия, товарищ командир! Не дергайте так зло лицом. — Она подержала руку возле воображаемой фуражки, отдавая приветствие воображаемому командиру. — Шаль, что во время войны я была ещё девчонкой. А то бы сегодня передо мной тянулся ты. Не меньше бы полковника была. Эскадрильями командовала — как Гризодубова. Партизанским отрядом. Смеешься? Эх, ты! Никто из вас меня не знает. Никто не знает, кто такая я. — Она стукнула кулаком по столу. — Сволочи вы все — мужики! — Резко встала и ушла в свою комнату.
16
Перед Василием Антоновичем сидел Влады-чин, секретарь Свердловского райкома партии. Светлые его волосы, зачесанные на косой пробор, время от времени падали на лоб, на глаза; Влады-чин поправлял их быстрым броском руки, встряхивал головой и от этих падающих волос, от этих энергичных движений казался совсем молодым, значительно более молодым, чем полагалось бы первому секретарю райкома в таком крупном и важном районе города, как Свердловский.
— Я, конечно, не очень по инстанции пришел к вам, Василий Антонович, — говорил Влады-чин. — В известной мере нарушая субординацию. — Глаза его живо и почти весело посматривали на Василия Антоновича. — Но я, как полагается, сначала обращался к Родичеву, не считал возможным в таком деле обходить секретаря горкома. Товарищ Родичев мне сам посоветовал: поди к Василию Антоновичу, все упирается в него. Мы, дескать, делали попытки, но безрезультатно. Вот я и пришел, Василий Антонович. Нужда заставила.
Владычин жаловался на Николая Александровича Суходолова, директора химического комбината, расположенного в Свердловском районе.
— Суходолов превращается в тормозящий фактор, Василий Антонович, — говорил он.
«Тормозящий фактор! — думал Василий Антонович. — Молодой вы, товарищ Владычин, горячий. Вам человека отправить на пенсию, все равно что сбросить в сторону костяшку счетов. Щелкнул пальцем — и нет костяшки». И вместе с тем Василия Антоновича раздражало то, что претензии Владычина совершенно справедливы — и к Сухо-долову, и к нему, первому секретарю обкома. По комбинату уже давно идет глухой гул, отголосок которого Александр принес из цеха домой в первый же день работы. А письма? Мало ли писем поступает по поводу непорядков на комбинате? И Родичев не соврал Владычину: да, горком обращался к обкому с просьбой что-то сделать с Су-ходоловым — или, мол, пусть по-настоящему займется работой, или же уходит.
— В чем же вы обвиняете Суходолова? — спросил Василий Антонович, насупясь.
— Мы его не обвиняем. — Владычин смотрел прямо в глаза Василию Антоновичу. — Не в этом дело. Он просто не тянет. Говорят, вы его давно знаете. Может быть, в свое время он и был отличным работником. А сейчас только шуточками, только смешками отделывается. Нет у него ни деловитости, ни привычки держать слово: чего хочешь наговорит, наобещает, но не сделает. Люди приходят, ставят вопрос: так и так, надо, например, цех останавливать на плановый, профилактический ремонт, или надо модернизировать что-либо из оборудования, или новую технологию предлагают. Сейчас много волнений и переживаний в связи с движением коммунистических бригад. На комбинате сорок второй цех хочет целиком, всем коллективом участвовать в этом движении. И что вы скажете? В любых случаях у Суходолова один ответ: «Дайте только срок — будет вам и белка, будет и свисток». А срок приходит, проходит, и ни белки, ни свистка. Видимо, Василий Антонович, есть биологический предел полезной деятельности человека. У каждого свой, конечно. Гёте и в восемьдесят лет писал прекрасные стихи. Тициан, утверждают, ещё и в девяностодевятилетнем возрасте начал новую картину, да только смерть помешала, чума, кажется. А вот у Суходолова заряду и на шестьдесят лет не хватило.
— Вы правы, Тициан работал до последнего дня и умер, по новым данным, в возрасте около девяноста лет. Это хотя и не сто, но тоже не малый возраст. А что касается Николая Александровича… — Василий Антонович побарабанил пальцами по столу. — А вам сколько лет, товарищ Владычин?
— Тоже не так уж мало, Василий Антонович. В январе будет тридцать восемь.
— Тридцать восемь? — Василий Антонович был явно удивлен. — Мне думалось, ну никак не более тридцати — тридцати двух.
— Я ревматик, знаете ли. А ревматики, говорят, лицом не стареют. Они стареют суставами да кровеносными сосудами.
— Ощущаете? — Василий Антонович взглядом указал на его колени.
— Бывает. Погоду иной раз довольно точно предсказываю. Это у меня с войны, Василий Антонович.
— А вы где же воевали?
— Много где. На Свири, в Седьмой армии. Потом на Волховском фронте. Там я и подцепил ревматизм. В очень сырых землянках обитали, вода по колено. А потом мало-помалу до Берлина дошел.
— По образованию инженер, кажется?
— Нет, я филолог, Василий Антонович. До войны два курса Ленинградского педагогического института имени Герцена окончил. Да после войны, после демобилизации ещё три.
— Филолог? — Василий Антонович смотрел на Владычина с интересом.
— Бывший, конечно, — сказал тот. — Приехал сюда в конце сорок восьмого. В институт меня прислали, преподавать. А там, чуть ли не в первый же день, в партбюро избрали. А дальше — в члены районного комитета. Так и пошло. Уже шесть лет в райкоме. Сначала отделом заведовал, потом стал секретарем по пропаганде. А вот уже два года, как вы знаете, первый секретарь. Какой уж филолог! — повторил он. — Промышленность пришлось изучать, машиностроение, химию. Во все вопросы быта людей влезать. Ну что я вам рассказываю! Сами знаете.
— Дети есть? — Василия Антоновича все больше заинтересовывал этот человек.
— Какие дети, Василий Антонович! Даже жены нет.
— Что ж так? Невесты не найти?
— Примерно. До войны была. Думали, институт закончим — и поженимся. Пропала, как пропали тысячи. Искал, не нашел. Может быть, и в живых нет. Может быть, замуж вышла. Не знаю, Василий Антонович. А потом — времени не стало. Закрутился в работе. Некогда все. Ну представьте: институт заканчивать пришлось с полным напряжением сил. За годы войны отстал, позабыл все начисто. Занимался так, что, думалось, к стулу прирасту, и не оторваться будет. Потом сюда приехал, в новый для меня город. Пока осматривался, то да се, время и прошло: в райком взяли. А в райкоме — дело мое конченое. Даже и не представляю, где я, с кем и когда могу встретиться. Сейчас я мог бы жениться только при одном условии… При том, если бы встретилась такая, которой с первого раза можно было бы сказать: выходите за меня немедленно замуж. На обдумывание — вам тридцать пять секунд, а то через шестьдесят секунд я уже должен ехать на бюро, на заседание, на открытие клуба, на партсобрание на такой-то завод, в такой-то институт и те де, и те пе.
— Преувеличиваете, — сказал Василий Антонович, но при этом вспомнил своего товарища по Ленинграду, генерала авиации, который, овдовев, только потому женился вторично, что заболел и лечила его женщина-врач, тоже вдовая. По ходу лечения они и смогли объясниться. «А то бы как иначе? — говорил обычно генерал. — На танцульки не хожу. На чьих-нибудь именинах?.. Там все знакомые да друзья собираются со своими женами. Не будешь у товарища последнюю жену отбивать».
— Я ведь ещё пишу, знаете, в свободное время, — сказал смущенно Владычин. — Очень много интересного вокруг происходит. Люди встречаются замечательные. Роман у меня не получится, знаю. А что-нибудь вроде «Записок партийного работника», думаю, и напишется… Тоже работка трудоемкая, большого времени требует.
Много острых проблем сейчас в жизни. Качественно момент новый. Социализм решительно побеждает. Но и капитализм изворачивается изо всех сил, даже хорошим людям засоряет мозги мусором индивидуализма. Пишу о таких, нестойких. О дачниках всяких, которые, понимаете, во что бы то ни стало хотят огородиться забором и отгородиться им от общества, от нашей действительности. О тех, которые клочок земли коллективного сада превращают в источник наживы, спекуляции, обираловки, которые были коммунистами, а стали кулаками. Смотришь на такого, глазам своим не веришь: да ты же Тит Титыч натуральный. А вместе с тем, вот движение ударников коммунистического труда. Потрясающей силы есть примеры. Люди уже сегодня хотят работать и жить, как предстоит жить и работать их детям, их внукам в коммунистическом обществе. Сидишь ночью, в тишине, в спокойствии, записываешь и о тех, и о других, и о третьих, обдумываешь, анализируешь, и самому многое становится яснее. Бумага и чернила не плохая вещь, Василий Антонович.
— Да, но при том условии, если голова на месте, — согласился Василий Антонович. — А то есть такие сочинители… — Он достал из стола одно из стихотворений Птушкова, принесенное на днях Огневым, и стал читать. — Таким, — сказал, закончив чтение, — и чернила с бумагой во вред.
— Птушков сочинил? — догадался Владычин. — Крутит головы девчонкам. Вот вам и ещё один из примрров. Рядом стоят — и коммунистический труд, и этот, на потребу обывателям старающийся, пиита.
Заговорили о писателях области, о художниках. Владычин почти всех знал. Баксанов, оказывается, выступал недавно в районе на партийной конференции. Оставил хорошее впечатление у партийного актива. Тур-Хлебченко в студия Дома культуры Машиностроительного завода помогает начинающим художникам. Молодой поэт Юрий Луков руководит литературной группой на химкомбинате.
— Творческие работники в городе сильные, — сказал Владычин. — Одна беда: размаху у них маловато. Покрупнее бы темы им брать. Это уж, я считаю, наша недоработка, Василий Антонович, недоработка горкома и райкомов. Не воодушевляем товарищей, не умеем зажечь их хорошей, волнующей темой. Ведь как Алексея Максимовича Горького умел зажигать Ильич!
— Ну, хватили, товарищ Владычин! — Василий Антонович даже руками развел. — То Ильич! То Горький!
— А пример-то и нам и писателям. Я, Василий Антонович, знаете, как считаю? Я считаю, что партия все может. Для нее невозможного нет. Честное слово! Но надо работать, надо формировать сознание людей. Скажу о себе. Был парнишка как парнишка, но довольно рано попал на общественную работу, — уже в школе комсоргом был. Потом война. Как говорят, испытание огнем, боевая закалка. Потом снова много общественной работы. Это определило и мировоззрение, и привязанности, и симпатии с антипатиями. Я не могу, например, не соизмерять все на свете с борьбой двух миров. Не могу быть посторонним наблюдателем. Смешно: сидишь в кино, какой-нибудь спортивный киножурнал смотришь… Вот недавно смотрел: международные соревнования по боксу. Гляжу, наш советский боксер побивает гедеэровского. Вроде бы и отрадно, наша берет, патриотизм, и так далее. А сидишь и думаешь: ну лучше бы ты англичанина или американца лупил. Ведь гедеэровец-то из социалистического лагеря, из нашего. Смешно, верно? А вот такое видение мира. Может быть, это плохо?
— Я не считаю. Но, наверно, есть и такие, которые скажут, что плохо, что вы не объективны.
— Вот поэтому, Василий Антонович, невозможно мириться и с тем, как работает Суходолов, — вдруг неожиданно вернулся к разговору Владычии. — Он, конечно, наш человек, очень каш. Но своей уклончивостью, топтанием на месте уже является изрядной помехой для социализма.
— Это вы хватили через край, дорогой товарищ. — Под Василием Антоновичем заскрипело кресло.
— Может быть. Но я смотрю на вещи с принципиальной точки зрения. И кроме того, она не только моя точка зрения, — так считают и парторганизация комбината, и вся районная партийная организация. Мое личное мнение можно было бы и отбросить.
— Подумаем, товарищ Владычин, подумаем, — уклончиво ответил Василий Антонович. Признаваться в своей неправоте, в том, что в истории с Суходоловым виноват только он один и никто другой, ему не хотелось. Но он понимал и то, что дело принимает такой оборот, когда его уже надо решать. А как решать? — это было ещё неизвестно, и поэтому беспокоило. Во всяком случае, он не считал себя вправе отдавать Суходолова на съедение. — Подумаем, — повторил. — В таких случаях спешка пользы не приносит.
— Зато промедление приносит прямой вред, — упрямо и убежденно настаивал Владычин.
— Хорошо, говорю, разберемся. — Василий Антонович встал.
Встал и Владычин, понимая, что это знак ему. В глазах его было недовольство, недоумение, осуждение. Он попрощался сухо. Рука у него была горячая и сильная.
«Писатель! — думал, глядя ему вслед, Василий Антонович. — Ему что! Ему до возраста Николая ещё четверть века. Целая эпоха! Такой и не вспомнит там, в будущем, когда Суходоловыу же будут давно лежать под кладбищенскими камнями, не вспомнит, кто ему вымостил дорогу в это будущее». Глаза Василия Антоновича скользили по листу бумаги на столе, вновь видели пометки красным карандашом, сделанные во время разговора с Владычиным: «дачники… домовладельцы… спекулянты с партбилетами в карманах»… Спрятал этот лист в ящик стола. Затем, вызвав машину, сказал Бойко:
— Давай-ка, Роман Прокофьевич, прокатимся по Свердловскому району. Ты хорошо его знаешь?
Свердловский район был одним из новых районов города. От старого остались в нем две-три улицы бывшей городской окраины; одна из них вела к вокзалу и так и называлась: Вокзальная. Все остальное возникло после революции, и, главным образом, после войны, и особенно в последний пяток лет. Кварталы жилых домов, химический комбинат, завод радиоаппаратуры, Машиностроительный завод, выросший на месте механических мастерских, бульвары, скверы, большой районный парк с прудами, несколько школ, швейный техникум, научно-исследовательский институт органической химии…
Колесили по району. То там, то здесь Василий Антонович просил остановиться, выходил из машины, осматривался. Чувствовалось, что хозяин в районе был: прочные мостовые на улицах, удобные подъезды к предприятиям; чисто, подметено, вымыто моечными машинами; вовсю цветут цветы в скверах, улицы в молодых деревьях.
Остановились и в сосняке возле заборчика хим-комбинатовского детского сада. Ребятишки возились в песке, под деревянными грибками, качались на качелях, съезжали с дощатой горки. Крик стоял, гам. Василий Антонович попытался разглядеть в этой суете Павлушку. Но пестрый ребячий муравейник так отчаянно-весело возился, что сделать это не удалось.
Выехали к реке, к полукруглой, обнесенной каменной балюстрадой, площадке над водой. Река в этом, месте делала изгиб, и с площадки был виден весь город: кремль с башнями, колокольнями, многоглавым собором, большой новый мост через реку, пароходная пристань и дома, дома, дома — почти до самых стен Георгиева монастыря, который, как утверждают старожилы, лет ещё тридцать назад находился в трех добрых верстах от города. «Все на свете, видите ли, он соразмеряет с борьбой, двух миров! — думал Василий Антонович. — А что же другие? Иначе смотрят на жизнь? Старый коммунист-хозяйственник Суходолов — уже нечто отжившее, мертвое, уходящее?..»
Задал себе этот вопрос Василий Антонович и не ответил на него, и стало ему очень больно оттого, что такого ответа, какой бы хотелось найти, он не находит.
Вернулся в обком. Его уже ожидали Лаврентьев, Костин и двое, как пошутил Лаврентьев, ходоков из Заборовья: председатель колхозного правления Сухин и парторг Лисицин.
— С планами перестройки своего села прибыли, — сказал Лаврентьев, вводя приезжих в кабинет Василия Антоновича.
— Да уж так, — подтвердил Сухин. — Уж вы нас пристыдили, Василий Антонович, разобидели. Мы и осерчали. Правление было, общее собрание было. Решили покончить с территориальной раздробленностью. У нас же ещё и второе селение есть, в лесу, двадцать один двор. «Леший хутор» — так и называется. Да ещё по кустам, по мелколесью дворов сорок разбросано. Решили в одно место свозиться и, для опыта, два двухэтажных дома построить, квартиры на четыре каждый. Чтоб не тесно люди жили — по три там комнаты, например. Может, и по четыре. Чтоб сразу видели, что такое коммунистическая жизнь.
— У нас план наполеоновский, Василий Антонович, — добавил Лисицин. — Поддержите или нет… Ванны хотим, чтоб были. Санузлы. Может, и газ, если нам будут баллоны жидкого пропана отпускать в городе.
— С этим пока трудно, — ответил Лаврентьев. — Вот, когда газопровод Ставрополь — Ленинград пройдет через область, да от него к Стар-городу нитку протянут, тогда, пожалуй…
— Обождать можно, — согласился Сухин, — Словом, товарищи обком, помогайте. Задумали опытно-показательный культурный очаг в центре села создать, чтоб был наглядным примером, чтоб, видя его, колхозники сами выбирали: как им — в избах жить и до ветру в огород гоняться или вот так, по всем возможностям культуры.
— Идея хорошая, — согласился Василий Антонович. — А материалы, рабочая сила, деньги — вы это подсчитывали? Не разорите колхоз?
— Будьте спокойны. Поднажмем. Уж больно всем нашим интересно, как это получится: двухэтажные дома, квартиры!..
— Так… — Василий Антонович почиркал карандашом по бумаге. — Ванны, значит, будут, водопровод, всякое такое… А дорога как? Мы тогда до вас полдня шестьдесят верст ехали по вашим проселкам от шоссе. Без дорог, товарищи дорогие, до культуры далече.
— А что дорога? — сказал Сухин. — Нашего участка там, может, километров десять — двенадцать. Допустим, мы на него, на свой участок, подналяжем, сделаем его, будет дорога. А кто же остальные-то сорок восемь делать станет?
— Всеобщий план нужен, — добавил Лисицин. — Областной. Или, в крайности, районный. Координация сил. Как у высокогорцев…
— А как это у высокогорцев? — Василий Антонович насторожился. — За опытом туда наведываетесь, что ли? К соседушкам?
— Приходилось, Василий Антонович, наведывались. У них координация. Всю карту области расчертили, и будь здоров, каждый свой урок выполняет. В таком году столько, в другом столько, в третьем ещё столько, и в итоге — общая картина: сто процентов дорог современного уровня.
Когда Василий Антонович провожал колхозников, часы били семь. Он позвонил домой Софии Павловне.
— Соньчик? Чем занимаешься?
— Да вот Шурику помогаю… с Павлушкой…
— Не пропадут эти типы и без тебя. Съездим лучше в театр. Сегодня видел в городе афишу. Кто-то на гастроли приехал. Говорят, интересная постановка. Молчишь? Ну это вернейший знак согласия. Одевайся. Посылаю за тобой машину. Не забудь, пожалуйста, что начало в восемь. А сейчас уже десять минут восьмого. Вот так, товарищ Денисова. До встречи!
17
После первого разговора с начальником цеха Александр опасался, что начальник примет официальный служебный тон, — всегда будет помнить о том, что Александр — сын первого секретаря обкома, и поведет себя с ним до крайности осторожно. Но Булавин, откровенно высказав свое мнение о Суходолове, о покровительстве Суходо-лову со стороны отца Александра, казалось, тем и ограничился. Он был не слишком молод, но и не стар: возраст его подходил, очевидно, к сорока годам; был весь какой-то плотный, крепкий, уверенный; волосы стриг коротко, ежиком, отчего они задиристо щетинились над его высоким лбом. Глаза тонули в узком разрезе и, когда Булавин улыбался, почти исчезали в складках век. В цехе его многие учились — кто по вечерам, кто заочно; учился и сам Булавин. Окончив в свое время техникум, он давно понял, что для руководителя большого, важного цеха такого образования слишком мало, и вот уже преодолевал четвертый курс заочного отделения химико-технологического института. Был Булавин, как рассказывали аппаратчицы, человеком жестковатым, но справедливым. Шутки с ним не очень-то шутили, зато с любыми вопросами — от самых что ни на есть узко-специальных, производственных, до сугубо личных — и рабочие и специалисты прежде всего шли к Булавину. В их делах он разбирался не спеша, серьезно, даже мелочь рассматривал с разных сторон, взвешивал все «за» и все «против», рассуждал вслух и заставлял рассуждать своего собеседника.
В первые дни он то и дело появлялся возле Александра, рассказывал, объяснял, показывал, незаметно втягивал его в разговоры все с большим и с большим кругом людей в цехе. Прошли три-четыре недели — и Александр уже запросто мог встретиться и поговорить не только с рабочими и техниками своего участка, но и с любым работником цеха, на каком бы участке тот ни работал.
Интерес к Александру в цехе был, конечно, повышенный, — никуда деться от этого было нельзя; но, пожалуй, только в самые первые дни он объяснялся, положением, какое занимал в области отец нового начальника участка. Более стойкий и даже нарастающий интерес, особенно среди женской части, значительно превосходящей по количеству мужскую часть коллектива цеха, вызывало совсем другое: то, что в таком молодом возрасте Александр овдовел, то, что он так трогательно заботится о своем сынишке, которого каждое утро приводит в детский садик и каждый вечер уводит домой; и все сам, без чьей-либо помощи; счастливая была у него жена: вот любовь так любовь, — как в книжке, в жизни такой теперь и не бывает.
Александру, когда он однажды расхаживал по аппаратному залу, невольно пришлось подслушать разговор двух пожилых работниц. Он стоял за станиной компрессора, а работницы, поднявшись на стремянки, в отдалении одна от другой, протирали широкие — во всю стену, и высокие — до потолка, окна.
— Дело молодое, Дмитриевна, — громко говорила одна. — На молодом, какая болячка ни будь, все одно заживет. Это мы с тобой уже — что чурки сухие. А он красавчик, инженер, молоденький. Еще такую кралю себе сыщет…
— А то нет! — согласилась Дмитриевна. — Кровь-то, Егоровна, себя окажет. Чай, не судак мороженый. Шивой человек!
Александр понял, что это о нем. «Плетут невесть что», — подумал недовольно и тихо ушел в другой конец зала. Наткнулся там на девушек — он уже их хорошо знал: высокая, плотная — это Люся Шумакова, пухленькая, подвижная — Галя Гурченко, а рассудительная, степенная — Сима Жукова. Только что горячо спорили, размахивали друг перед другом руками; завидев его, умолкли, выжидающе смотрят в три пары внимательных глаз. Тоже, конечно, о нем вели речь, — по этим любопытствующим глазам видно.
Подошел день, когда к Александру явилась целая девичья делегация.
— Товарищ Денисов! — было сказано ему. — Александр Васильевич! Сегодня суббота, и мы устраиваем цеховой молодежный вечер. Очень просим быть.
— Спасибо, девушки, — поблагодарил Александр. — Большое спасибо. Но я не смогу.
— Почему же, Александр Васильевич? — По ряду причин, девушки.
— Нет, нет! — заговорили они почти враз. — Не отказывайтесь. А то весь вечер сорвется. Это вечер сплочения. Если мы хотим бороться за то, чтобы цех стал цехом коммунистического труда, надо получше узнать друг друга, и узнать не только на производстве, а и в быту, на отдыхе. Очень, очень просим, Александр Васильевич!
Александр задумался.
— Вашего сына, — настаивали делегатки, — девочки могут взять в общежитие. Накормят, уложат спать, присмотрят за ним.
— Не беспокойтесь, Александр Васильевич!
— А если хотите, мы отвезем его к вам домой.
— Я подумаю, — ответил Александр. — До конца смены ещё полтора часа.
Идти на какой-то вечер, где будут танцевать, веселиться, смотреть художественную самодеятельность, совсем не хотелось. Пойдет он, как всегда, домой с Павлушкой, погуляет с ним, повозится перед сном, потом по примеру родителей почитает в ночной тиши. Что может быть лучше! Но, с другой стороны, девушки были такие хорошие, доброжелательные, искренне заинтересованные в его трудной судьбе — он это видел в каждом их слове, в каждом взгляде, — что обижать их тоже никак не хотелось. «Можно будет зайти на полчасика, — подумал Александр, — да и сбежать потихоньку». Поэтому вернее всего — оста-еить Павлушку у них в общежитии, которое неподалеку от Дома культуры, а затем сказать, что он хочет посмотреть на сына, и под этим предлогом покинуть вечер.
Так и решил, так и ответил девушкам, когда они снова подошли после окончания смены.
До семи вечера — до часа сбора в Доме культуры — времени оставалось ещё много. Пошел к реке, сел там на лавочку на каменной площадке, возле балюстрады, где несколько дней назад стоял его отец, и тоже стал смотреть на город, раскинувшийся по речным берегам. Сашеньке Старгород очень нравился. Каждый раз, когда приезжали с нею сюда, Сашенька восторгалась старгородскими древностями — церквами, хранившими драгоценную роспись Феофана Грека и Андрея Рублева, могилами гордых старгородских князей, которые так и не подпустили к городу ни мрачных скандинавов, морских королей-разбойников ярлов, не раз по рекам и озерам подбиравшихся почти к самому Старгороду на быстроходных парусных и весельных драккарах, ни железные строи крестоносцев из прибалтийских земель, ни конницу Батыя. Сашенька с обожанием относилась к Софии Павловне: «Какая у вас работа! Какая интересная работа! А у нас с Шуриком — химия. Тоже, конечно, интересно. Но у вас лучше, София Павловна! Вы так далеко видите в прошлое. А для меня оно — сплошной туман. У нас скверная историчка была в школе. Злющая, всех нас почему-то терпеть не могла. А мы ее. И вместо учения шла непрерывная война. Она старается нас согнуть, унизить, чтобы мы ей в ножки поклонились. А мы мстим, мы мстим… Уж даже сама не знаю, как хотя бы тройку-то удалось получить на выпускном экзамене по истории. Если говорить по правде, я и на двойку ее не знала. И весь класс тоже».
«Сашенька, Сашенька, Сашка!..» — повторял про себя Александр, и в сердце щемило, и было так жаль утраченного, прошедшего и безвозвратно ушедшего, что закрыл бы глаза и не открывал бы, уснул бы и не просыпался.
Долго бродил над берегом, следил за тем, как ласточки-береговушки прямо с неба, смаху, влетают в свои норки, просверленные в песчаных обрывах, и затем с пронзительным острым писком вновь вырываются на волю, устремляясь к небу. Смотрел, как рыбаки тянут невод. Они долго заводили его с двух лодок, охватывая им чуть ли не полреки, долго тащили, перекрикиваясь и переругиваясь, с лодки на лодку и с лодок на берег. Трудов было много, волнений ещё больше, а добычи — две или три прутяных корзины белесой мелкоты.
В седьмом часу отправился в детский сад. Там на лавочке в палисаднике его уже дожидались Галя Гурченко и Сима Жукова.
— Хотели взять вашего Павлика, — сказала Галя Гурченко. — Но нам его не отдали.
Заведующей уже не было, были дежурные няньки и сестра. Сестра сказала:
— Какие хитрые! Так всякие будут приходить да и хватать чужих ребятишек…
— Мы не чужие, — степенно ответила Сима Жукова. — Это ребенок из нашего цеха.
Павлушка был парнем спокойным и компанейским, — сказывалась предыдущая жизнь в яслях. Он охотно отправился в общежитие. Там ему натащили для развлечения множество разнообразных предметов: ломаный будильник, гитару с разбитой декой, ломаный электрический кофейник, большую куклу с отломанной рукой, истрепанные журналы мод, неработающий старый патефон; все было битое, рваное, ломаное и, может быть, поэтому особенно интересное.
— Я уйду на часок, Павлик, — сказал Алек-садр. — Ты здесь побудешь с молодыми тетями?
— Побуду, — согласился Павлушка, занятый осмотром раскинутых перед ним сокровищ.
Вечер начался с концерта самодеятельности. Девушки постеснялись сесть рядом с Александром, и он одиноко торчал во втором ряду — справа и слева от него было по одному пустому месту. Он слушал певиц, смотрел на лихих танцоров, улыбался наивным фокусам доморощенных фокусников и ещё более наивным остротам конферансье, обязанности которого выполнял электромонтер из цеха. Были, конечно, и акробаты. Четверо ребят работали, как подлинные профессионалы, чисто, легко и весело. В черных обтянутых костюмах Александр их не узнавал, хотел спросить, кто они, — но ни справа, ни слева соседей не было.
После первого отделения устроили длинный антракт. В фойе пели под аккордеон. Хорошо пели — и девчата и ребята. И вновь вокруг Александра никого не было. В цехе девушки вели себя смелее; здесь чего-то стеснялись, не подходили «Пора, наверно, отступать», — подумал Александр. Но только он направился к выходу, его окружили:
— Куда же вы, Александр Васильевич? Сейчас танцы будут.
— Да я танцор-то какой? А кроме того, надо сына проведать.
— С Павликом все в порядке, — сказали ему. — Девочки уже ходили смотреть. С ним сидят по очереди.
Согласился ещё немного побыть, — и снова от него все отошли. Понял, что существует, видимо, неписаный закон, в согласии с которым девушки во время таких вот публичных событий должны вести себя соответствующим образом, а именно: только в том случае каждая из них может быть с молодым человеком, если не побоится людской молвы; а не побоится лишь та, которая свои отношения с этим человеком определила, то есть его невеста; с чужим же можно быть, не опасаясь молвы и не теряя своего достоинства, лишь во время танцев.
И в самом деле, как только начались танцы, к нему стали подходить одна за другой: «Ну, Александр Васильевич, ну что же вы сидите? Пойдемте, приглашайте…»
— Танцор-то я какой! — повторял Александр. — Еще ноги вам оттопчу.
— Ничего, у нас все такие танцоры. Пошел с полненькой Галей Гурченко, покрутился по залу.
— Вы же замечательно танцуете! — восхищалась Галя. — А говорили: ноги оттопчете. Какой вы! Ни разу даже не наступили. Водите, что бог.
— Все-таки бог, наверно, лучше водит. — Александр шутил. Но на душе у него не было спокойно. Он ощущал свою неправоту перед памятью Сашеньки, Не надо было соглашаться, не надо было приходить сюда.
Неожиданно в веселой толчее он увидел ту девушку с голубыми глазами и локонами из белого золота. Почему-то он ее так и не встречал все это время в цехе.
— Кто она? — спросил Александр свою партнершу, указывая глазами на голубоглазую.
— Это Майя Сиберг. Аппаратчица.
— А почему ее никогда не видно в цехе?
— Наверно, потому, что она этот месяц в вечернюю смену работает.
После перерыва снова два места возле Александра пустовали. Едва дождался следующего антракта и, стараясь сделать это как можно незаметнее, скользнул к выходу. Черное небо было в крупных звездах. Теплый июльский воздух пах резедой и душистыми табаками. В клумбах стрекотали кузнечики и мерцали светляки.
Нашел общежитие, нашел комнату, где должен быть Павлушка. За прикрытой дверью было тихо, постукивали часы-ходики. Приотворил дверь: Павлушка спал прямо перед ним на постели; загородив свет ночной лампочки газетой, возле него сидела и читала книгу… да, это была, конечно же, она, Майя.
Удивленный, вошел, сказал:
— Добрый вечер. Но вы же были на танцах. Я видел…
— Да, я была. — Отложив книгу, Майя поднялась со стула. — Но после танцев наступила моя очередь дежурить. Мы так написали на бумажках, и я вытащила из Галиной шляпы третью очередь. — Девушка смущалась, густо краснела, как было в первый раз, тогда, в бытовке.
— Спасибо, — сказал Александр. — Большое спасибо. Мы сейчас отправимся. А вы спешите на вечер. Там ещё долго…
— Как? Вы уходите? А ещё придет дежурить Сима, потом Нина, Валя…
— Нет, нет, мы поедем. А то автобусы перестанут ходить.
Александр стал одевать сонного Павлика; тот не просыпался, только недовольно хныкал и валился на подушку.
— Очень беспокойство мальчику, — сказала Майя. — Может быть, лучше ему остаться. А утром мы его привезем. Завтра на работу не надо, завтра воскресенье.
Александр слушал ее голос, ее речь: Она говорила с каким-то удивительно приятным акцентом: растягивала гласные, твердо выговаривала согласные; казалось, что Майя не говорит, а поет вполголоса, поет мягко, задушевно, успокаивающе.
Он все-таки собрал Павлушку в путь, поднял его на руки. Павлушка продолжал спать, обхватив его за шею, положив головенку на плечо.
— Я вас должна проводить, — сказала Майя. — Сейчас немножко темно, вы можете оступиться.
Она шла по улице впереди него, заботливо указывая путь.
— У вас красивое имя, — сказал Александр. — Майя!
— Это не совсем настоящее мое имя, — ответила она. — Мое правильное имя — Майму. «Майя» — так меня по-русски называют.
— А вы разве не русская?
— Я эстонка. Моя родина Нарва. Такой город на самом востоке Эстонии.
— Я знаю Нарву, — сказал Александр. — Лет десять назад мы ездили туда с отцом. Мы тогда в Ленинграде жили. Красивый город. Старинные крепости. Быстрая Нарова…
— Был красивый. У меня есть много фотографий, отец снимал. Меня ещё тогда не было… Но прежней красоты уже не осталось. Все разрушили немцы.
Александр слушал и слушал песню-речь Майи. От этой песни на душе делалось тихо и спокойно.
— А как же вы оказались здесь? — спросил он.
— Это был сложный путь, — ответила Майя. — Вот мы пришли. Здесь остановка. Я не успею вам рассказать.
— Ничего. Один автобус можно и пропустить. Мы посидим на скамейке. Сейчас только одиннадцатый час.
— Хорошо, — согласилась она, чинно усаживаясь возле Александра. — Может быть, подержать малыша? Вы устали.
— Нет, нет, не беспокойтесь. Рассказывайте лучше.
— Моя мама, когда мне было всего два года, утонула в реке. Она купалась. Ее унесло течением на глубокое место, и она утонула. Это было перед войной. Мой папа скоро женился, потому что он не мог один справиться. Нас, детей, у него было трое. И двое притом очень маленькие. И когда он женился, сразу началась война. Новая женщина, на которой он женился, когда папу призвали в армию и когда немцы были уже совсем рядом с Нарвой… это было в августе тысяча девятьсот сорок первого года… та женщина решила, что не надо оставаться у немцев, и, забрав нас, чужих ей детишек, поехала на военном грузовике в Ленинград. В Ленинград многие ехали из Эстонии. Я плохо это помню. Но мне рассказывала старшая сестра. Ей тогда было двенадцать. Потом, уж через год или через два года, выяснилось, что моего папу убили на фронте. Эта женщина, его новая жена, сказала, что мы ей теперь никто и что ей с нами не справиться; не прокормить нас… Это все, конечно, старшая сестра рассказывает… И она нас отдала в детский дом. Детский дом несколько раз переезжал из города в город. Старшая сестра все заботилась, чтобы не растерять нас, своих младших, меня и нашего братика. Но братика так, знаете, и не удалось сохранить. Он очень простудился. Сестра рассказывает, что у него получилось сильное воспаление легких. И он у нас умер, бедный. Вот и все.
— Позвольте, — сказал Александр. — Совсем не все. А как вы оказались здесь? Почему вы не вернулись в Эстонию?
— Ах да! Я позабыла. Мы, конечно, вернулись в Эстонию. Сразу же после войны. Мне уже было тогда семь лет. Но мы ничего не нашли, — ни дома, в котором когда-то жили, ни даже улицы, на которой он стоял. Сестра рассказывает… ей было уже много — больше шестнадцати лет… Она рассказывает… ей так сказали… что в этих страшных развалинах, какие остались от трех с половиной тысяч красивых домов, дождались конца войны только два горожанина. Можете себе представить? Мы где-то поселились и два длинных-длинных года жили очень плохо. Потом моя сестра вышла замуж за русского офицера. Он был тогда лейтенант, а сейчас уже майор. Он служил в Нарве. Ну, а когда его перевели сюда, в Старго-род, сестра, конечно, поехала с ним. И меня, конечно, взяла с собой. Я была ещё маленький ребенок. Это теперь мне скоро двадцать два. А тогда…
— Не скучаете по родным местам?
— Я отвыкла немножко. Конечно, у нас там красивая природа. Там очень хорошо. Иногда бывает грустно. Но мне нравится и здесь. Извините, вы уже два автобуса пропустили. Вот идет третий, приготовьтесь, пожалуйста. Может быть, вас проводить до дому?
— Что вы, что вы! Мы с моим соней и так у вас слишком много времени отняли. Вы уж нас простите.
— О, это ничего! Бывает, что время совсем пропадает даром.
Александр поднялся в подошедший автобус, сел возле окна. Он видел, как Майя стояла под фонарем, на остановке, как, подняв руку, помахала ему вслед.
Дома его встретила рассерженная София Павловна. Рассерженная — это значит, разговаривающая совершенно сухо, коротко, какими-то казенными словами.
— Мы тебя только к утру ожидали. Ты слишком спешил. Опять, наверно, затаскал ребенка до температуры. Я вынуждена буду возбудить ходатайство о лишении тебя прав отцовства. Так нельзя. Это возмутительно. Я не спрашиваю тебя, где ты был, ты достаточно взрослый для этого, но…
— Я был на молодежном вечере нашего цеха, мамуся. Я знаю, конечно, что ты кандидат исторических наук, и это не может не отражаться на твоих материнских качествах. Но все равно, ты — мамуся, и тебе не идет сердиться.
У Александра было хорошее настроение, ему не хотелось выслушивать нотации, оправдываться. София Павловна его тона не приняла.
— Александр, пожалуйста, не дурачься. Воспитание детей — не шутка. Между делом оно не делается. Что — и он сидел с тобой на вечере? — Она хотела взять у него Павлушку.
Но Александр не отдал, принялся сам раздевать его, сонного, и укладывать на отцовский диван.
— Нет, он спал у девушек в общежитии.
— Сначала кафе, теперь какие-то девушки… Александр, ты его скоро потащишь в пивную.
— Мужчинам, мамочка, и полагается быть мужчинами.
— Свинство какое! Вася, Василий! — Из спальни вышел Василий Антонович. — Вася, скажи своему сыну, что нельзя таскать ребенка по увеселительным заведениям. По крайней мере скажи ему, что это ещё рано для Павлушки. Снизойди хоть до этого.
— Где ты был, Шурик? — спросил Василий Антонович миролюбиво.
— Я был на молодежном вечере цеха, папа.
— Это хорошо. Для Павлушки это прекрасное препровождение времени, свободного от детского сада. Субботний отдых малыша на танцульке… Это прекрасно!
Александр засмеялся.
— Да нет, он спал. У девушек там…
— Чудесно. Деда это тоже интересует. Может быть, дашь адресок?
София Павловна, видя, что ее разыгрывают самым бессовестным образом, рассердилась окончательно, выпрямилась во весь свой не слишком-то большой рост, сердитая и внутренне кипящая, смерила их обоих испепеляющим взглядом и, громко стуча каблучками, ушла в спальню.
— Ну в самом деле, — сказал Василий Антонович уже серьезно. — Нельзя же так, милый. Пошел бы к автомату, вынул из кармана пятиалтынный и позвонил домой. Мать, Шурик, всегда остается матерью. Можно об этом помнить или нельзя?
Александр потупился.
— Да, папа, в этом смысле я виноват. Промашку допустил.
— Это ты пойди и скажи ей. — Василий Антонович кивнул в сторону плотно закрытых дверей спальни. — Я-то и не такие хамства видывал в жизни. Меня не удивишь. А ей больно.
18
Еще в тот день, когда Василий Антонович беседовал с Владычиным и когда затем путешествовал по Свердловскому району, в котором Влады-чин был секретарем райкома партии, у него возникла мысль: не свести ли их вместе, этого Владычина и Суходолова? Пусть бы встретились на той или иной нейтральной почве, где не было бы ни секретаря райкома, ни директора большого комбината, ни секретаря обкома. А были бы просто люди, с их обычными людскими интересами, радостями, заботами, горестями. Пусть Владычин, молодой, энергичный, горячий, в неофициальной, товарищеской беседе подкрутил бы, подвинтил Николая, который и в самом же деле давно нуждается в тонизирующих, бодрящих средствах. А Николай, в свою очередь, с его опытом, с его трезвыми, устойчивыми взглядами на жизнь, мог бы сдерживающе повлиять на излишне резкого в суждениях Владычина. Пусть узнают друг друга получше, пусть отнесутся один к другому не как противник к противнику, что случается иной раз от элементарнейшего взаимоневедения, а как единомышленник к единомышленнику, которые общими усилиями обязаны найти наилучший выход из трудного положения.
— Соньчик! — сказал Василий Антонович дня за три до срока, намеченного им для подобной встречи. — Мне хотелось бы кое-кого пригласить к нам в воскресенье. Есть у нас такой молодой товарищ секретарь райкома, Владычин. Человек острый, знающий. По образованию — филолог.
Еще бы Николай… — Он посмотрел на Софию Павловну в раздумье. — И знаешь, кого бы здорово пригласить? — воскликнул, радуясь этой мысли. — Твоего Черногуса! Может получиться потрясающий диспут представителей разных поколений. Старый большевик, старый хозяйственник и молодой партийный работник! А?
Если Василию Антоновичу хотелось кого-либо позвать в дом, София Павловна никогда не чинила ему препятствий. Она сама любила гостей, любила общество, интересные разговоры.
— Хорошо, — ответила она. — Значит, кто же будет?.. Николай Александрович с Еленой Ни-каноровной — двое. — София Павловна загнула два пальчика. — Твой Владычин… Очевидно, тоже с женой? Четверо, значит…
— Он холостой, Соньчик.
— Вот как! Значит, не четверо, а пока трое. Гурий Матвеевич… Он один. Четыре. Да нас четверо. Вот и восемь.
— Каких четверо? Нас двое, Соня! Что с тобой?
— А Шурик? А Юлия? Их в мусоропровод, может быть?
Василий Антонович поморщился, поскреб пальцем за ухом.
— Ну Шурка — ещё туда-сюда. Хотя и он будет тем элементом, который сковывает. Но уж Юлия!.. — Он даже рукой махнул.
— Странно, Вася. Сковывающий элемент! Ты же их не на бюро обкома приглашаешь, а домой, в свою семью. Люди даже могут удивиться: а где, интересно, семья у Денисова если ты всех нас разгонишь.
— Ну как — всех, Соня? А мы с тобой?..
— Мы? Я, например, надо полагать, буду занята на кухне. Вот и сиди с ними один. Так именно и будет — как на бюро.
— Ну ладно, — начал сдаваться Василий Антонович. — Шурка пусть. А…
— А без Юлии я просто не справлюсь. Ты же знаешь мои хозяйственные способности. Если хочешь, чтобы все было вкусно, надо просить Юлию…
— Ах, ещё и просить? Умолять, значит? Лучше тогда мы пойдем в ресторан.
— О да! Величайший ходок по ресторанам! Да ты боишься показать нос в ресторане, дорогой друг. Как бы чего не подумали о секретаре обкома, как бы не осудили.
Василий Антонович окончательно сдался.
— Действуй, Соня, как знаешь. Все отдается на твою полную ответственность.
И вот вокруг раздвинутого на одну доску обеденного стола сидят Владычин, Черногус, Суходолов с Еленой Никаноровной и он, Василий Антонович. Соня посидит-посидит, да и вскочит, умчится на кухню. Юлия появилась только на минуту — в кокетливом, обшитом кружевами белом передничке, в белой полотняной шапочке, раскрасневшаяся, яркая, но очень деловая. А Шурка куда-то ушел. Забрал Павлушку и чуть ли не с утра отправился. «Чего я тут буду сидеть среди сплошного начальства! — решил он. — Они к тебе придут, а не ко мне. Только помешаю». Как ни упрашивали, все равно ушел, упрямый черт.
Владычин одет просто и со вкусом: хорошо сшитый костюм, белая сорочка с подкрахмаленным воротничком, неброский, скромный галстук. «По-современному, культурно», — подумал о нем Василий Антонович. На Черногусе был его давно уже не новый, но тщательно вычищенный, отглаженный черный костюм, и тоже белая сорочка, и тоже галстук, не бьющий по глазам. А вот милейший Николай Александрович, товарищ Суходолов, директор химкомбината, советам секретаря обкома не внял. Елена Никаноровна позаботилась, видимо, о том, чтобы костюм муженька был отутюжен. Но заношенная, залоснившаяся темно-синяя ткань пиджака и брюк металлически-неряшливо поблескивала при каждом движении Суходо-лова, бордовый галстук, повязанный большущим толстым узлом, назойливо пламенел, рубашка была какого-то трудно определимого лилово-серо-голубого колера. И только доброе, большое, пухлое лицо Николая Александровича сияло, как ни у кого другого за столом. Он уже давным-давно заготовил себе провиант: на его тарелке были бутерброды с икрой, ломоть заливного поросенка, пара малосольных огурчиков, консервированный красный помидор; с боку он ещё примостил несколько ложек салату, налил в рюмки — себе и соседям: Василию Антоновичу и Черногусу, — нетерпеливо потирал руки в предвкушении удовольствия, какое ему приносила первая рюмка постоявшей в холодильнике водки.
— Ну где там женщины-то, ей-богу! — Он оборачивался к дверям, нетерпеливо покашливал.
Примчалась София Павловна, села на свое место. Ее сосед, Черногус, спросил, что София Павловна выпьет, и до крайности удивился, когда София Павловна ответила: водочки, конечно.
— Ну что ж, дорогие друзья… — начал было Василий Антонович, поднимая рюмку. Но Черногус его перебил:
— Извините, Василий Антонович. Вам, возможно, это сделать будет неудобно, а нам, гостям, это просто необходимо сделать. Я хотел бы, чтобы первым тостом за этим столом и в этом доме был тост за хозяйку, за чудесного человека, за Софию. Павловну. Да, да, это чудеснейший человек. Я не первый год работаю с Софией Павловной… правда, и не десятый… И София Павловна меня многому научила. Научила выдержке, научила… А что там говорить! Счастливец вы, Василий Антонович! С такой женой и горе — полгоря, зато если радость, так вдвойне. За вашу супругу! За ваше здоровье, София Павловна!
Застучали вилки и ножи. Пошли разговоры. Сначала о мелочах, затем о событиях более крупных. А дальше круг разговоров становился всё шире и шире, охватывая жизнь человечества в ее международных масштабах. Василий Антонович внимательно наблюдал за гостями — чтобы никто не скучал, чтобы никто не был забыт. Народ собрался, видимо, непьющий: Владычин после каждого тоста отпивал по четверть рюмочки; Черно-гус просто нюхал свою рюмку или из вежливости обмакивал в ней губу; у Елены Никаноровны была больная печень, и она пила только боржом, да и то непременно в подогретом виде. Сам Василий Антонович мог выпить три-четыре рюмки коньяку; но если выпивал пятую, то наступала вялость, апатия, и он должен был тогда идти спать; поэтому шагнуть за опасный рубеж Василий Антонович решался лишь в тех случаях, когда ему случалось простыть в области, промочить ноги, попасть под ливень.
Один Суходолов никаких принципов не придерживался. Елена Никаноровна говорила ему время от времени вполголоса: «Николай, Николай, ты с ума сошел, снова наливаешь». — «Сегодня, Леночка, выходной. День отдыха. Понимаешь? Отдыха! Вот я и отдыхаю».
Владычин завел с ним разговор о делах комбината, сказал, что на комбинате неладно с плановым ремонтом оборудования. Люди жалуются.
— Дорогой товарищ Владычин, — ответил весело Суходолов. — А план свой комбинат выполняет? Или нет?
— Даже перевыполняет. Но…
— А министерство нашей работой довольно?
— Это викторина, товарищ Суходолов, а не серьезный разговор. Сегодня выполняете, сегодня вами довольны. Но когда оборудование окончательно истреплется, все по-другому пойдет. И план перестанет выполняться, и никаких похвал министерства вы не получите. Если довольны вы и если олимпийски спокойны вы, то мы, партийная организация района, не можем примириться с таким положением на комбинате.
— Горячность, горячность! — Суходолов добродушно улыбался. — Молодость. Бывало, и я, конечно… По молодости, по неопытности…
— Игорь Владимирович!.. — Наблюдательная София Павловна придвинулась к Владычину. — Что-то вы плохо едите. Может быть, это невкусно? Вам не нравится? Переменить тарелку?
Поняв, что Соня хочет поговорить с Владычиным, Василий Антонович завязал с Черногусом и Суходоловым разговор о неиспользованных природных богатствах области, о запасах местного сырья для химкомбината. Черногус воодушевился, заговорил о сланцах, о том, что в недрах края наверняка будет найдена и нефть. Суходолов стал жаловаться на инертность планирующих организаций, которые с удивительным упорством из года в год планируют комбинату дальнепривозное сырье и совсем не работают над тем, чтобы найти его поближе.
София Павловна тем временем тихонько рассказывала Владычину, кто такой Суходолов, как он спас жизнь Василию Антоновичу, какой это был отважный боец; теперь он, правда, уже не тот, он многое пережил, он был тяжело ранен, у него осталась одна почка, он был контужен, после войны стал нервным, неуравновешенным. Владычин понимающе кивал головой.
— И все-таки, София Павловна, — сказал он мягко, но настойчиво, — и все-таки ему или измениться надо, или уйти на пенсию. Перед его заслугами я снимаю шапку. Но с тем, как он легкомысленно хозяйствует — лишь бы план выполнить, без взгляда в будущее, с этим я примириться не смогу.
— Да, нам придется воевать. — Суходолов краем уха услышал их разговор. — Я обязан давать продукцию стране. Во что бы то ни стало. — Он стукнул легонько кулаком по столу. — И я буду ее давать! Это мой партийный долг. Товарищ Черногус, мы с вами не молоденькие, мы всякого навидались на своем веку. Скажите молодому человеку, что для нас никогда не было ничего выше и незыблемее указаний и требований партии. Партия с меня требует выполнения плана…
— Но партия всегда требовала, чтобы все делалось разумно, — сказал Черногус, ещё не совсем уяснив, о чем идет речь. — Партии важно не только что делается, но и как делается, какими методами.
— Вот именно, правильно! — воскликнул Вла-дычин. — Совершенно правильно. За счет износа оборудования выполнять план на своем предприятии — это значит срывать общегосударственные планы. Дорого нам ваша продукция обойдется, товарищ Суходолов!
Владычин подсел к Черногусу, к тому, кто в его глазах был представителем старой большевистской гвардии, стал пересказывать свой недавний разговор с Василием Антоновичем, — разговор об отклоняющихся от линии партии, о спекулянтах, готовых участок государственной земли превратить в средство наживы, о тех, кто уходит из общественной жизни.
— Щелку нашли, щелку. Слабину, — согласился с ним Черногус. — А их по рукам надо, по рукам! А как же! Семьи у меня нет, времени поэтому много: просматриваю почти все газеты. И столько в них удручающих фактов… Был, например, боевой летчик, на счету у него четырнадцать гитлеровских самолетов. Герой, ас. А вот, летая на гражданских самолетах из Москвы в какие-то золотоносные места Сибири, вступил в сообщество с расхитителями золота на приисках, сбывал краденое темным элементам в Москве. И что же? Построил дачу. А затем, рано или поздно, попался. Жаль человека, до слез жалко. Кто же, спрошу я вас, виноват в его грехопадении? Мы с вами, дорогой товарищ Владычин, мы виноваты! Если есть соблазн, есть и соблазняемые, не так ли? Мы должны были очень внимательно, очень зорко следить за появлением соблазняющих факторов. Мы не имеем права развешивать уши и распускать губы. Когда-то, борясь с воровством, в некоторых странах ворью рубили руки. Мы должны рубить дачные участки, и рубить безжалостно. Уже от этого одного многое улучшится. Или вот читаю: поезд такой-то, Москва — Юг. Летит домой, в Москву, от него за версту фруктами пахнет. Проводники в нем, работники вагона-ресторана — спекулянты. Покупают где-то там, на юге, груши, яблоки, дыни за копейку, в Москве продают за рубль. На что им эти деньги, столько денег? На прожиток? На прожиток и зарплаты хватит. Железнодорожники, как известно, получают хорошо. На что же, следовательно? Опять же на то, что дачи строят. А каждая дача в большую денежку обходится. Василий Антонович заезжал ко мне. Может быть, обратил внимание, Василий Антонович, на нашу улочку? Окраинная такая, глухая. Что ни дом, то частное владение. А прошлой осенью и целый дворец появился. Двухэтажную хоромину возвел один тип. И ведь не подумаете кто. Рабочий с химического комбината! Член партии. Сделайте опыт, зайдите к нему в калитку — кобели разорвут. Два здоровенных таких черта носятся по участку, гавкают день и ночь, соседям спать не дают.
— С комбината, говорите? — поинтересовался Суходолов. — Кто же такой?
— По фамилии — Демешкин, до имени Елизар. Трубопроводчик.
— Надо будет поинтересоваться. — Суходолов похлопал себя по карманам, чего-то, видимо, в них не обнаружил, сказал жене: — Запиши, Леночка, фамилию. Демешкин. Елизар.
Елена Никаноровна раскрыла сумку, стала записывать на клочке бумаги. Василий Антонович обратил внимание на то, что фамилию эту пометил в своей записной книжке и Владычин.
Был съеден суп. София Павловна и Юлия стали вносить тарелки с жарким. После этого Юлия вышла к столу уже без передника. София Павловна указала ей место рядом с Владычиным, который, как заметили и София Павловна и Василий Антонович, явно обрадовался соседству. Споры и разговоры о делах немедленно окончились; заговорили о театре, расспрашивали Юлию о будущих премьерах.
Юлия вовсю кокетничала с Владычиным, бросала острые словца Суходолову и даже Черногусу, который при этом каждый раз удивленно покашливал. Потом Юлия уселась за пианино, заиграла и запела. Мужчины ей охотно подтягивали.
София Павловна посмотрела на Василия Антоновича, улыбнулась: какой, дескать, это элемент — мешающий, отвлекающий или привлекающий?
— Да, Соня, да, — пользуясь всеобщим шумом, ответил ей вслух Василий Антонович. — Мужик всегда остается мужиком. — В голосе его было больше деланного, чем подлинного неудовольствия.
Юлия спорила со всеми; переспорить ее было невозможно: все она знала, об всем имела свое суждение. О театре? Пожалуйста. Рассуждает о театре. О живописи? Тем более. О модах? Можно было подумать, что именно она их все и придумывает. О генерале де Голле? О, вы ещё увидите, какие он коленца будет выкидывать! Сухуми? Прелестное местечко! Только не надо толочься на «пятачке», где весь бомонд. Надо туда, за Синоп, ездить, где в ущельях бегут чудесные речки. Идти, идти по ущельям… заросли… ужасно интересно, таинственно. Что-то остроумное сказал Илья Чав-чавадзе? А, это тот князь, у которого было имение за Мцхетой, в Сагурамо! Кибернетика? А вы слышали, что в Америке создали электронную машину, специально для того, чтобы она предсказала будущее капитализму, и машина, проработав два дня, сгорела от перенапряжения? Перикл? Гениальный грек! У него был феноменально длинный череп. Кто-то о его голове сказал, что она «вовсе не кончалась». Поэзия? Юлия одно за другим читала стихотворения, которых никто из присутствующих не знал.
— Она сегодня в особенном ударе, — сказала София Павловна Василию Антоновичу.
— Увы! — ответил он. — Все пошло прахом. Их от нее теперь уже не оторвешь.
София Павловна сказала Юлии:
— Я поиграю. Ты поди потанцуй.
Юлия танцевала с Черногусом. Черногус рассказывал ей, что у него много интересных книг, в которых. Юлия сможет почерпнуть немало такого, которое ей ещё неизвестно. История театра, например. Знает ли Юлия, что декорации придумал и применил… Да, да, она, Юлия, знает: их придумал и первым применил Софокл в Афинах. Это элементарно. Но все равно, она с удовольствием воспользуется его библиотекой. Спасибо. Она непременно его навестит на днях.
Танцевал с ней, припрыгивая и дурачась, топчась как попало, Суходолов. Затем она сама пригласила Владычина. Владычин танцевать умел. Ходил спокойно и красиво.
— Уж не балетную ли школу вы окончили? — спросила Юлия. — Что-то подозрительно хорошо водите.
— Да, заочную, — ответил он серьезно. — Полный курс: танцы западные, бальные, народные и кое-что из этнографических. Сейчас, в порядке повышения квалификации, осваиваю рок-н-ролл и хула-хуп. Буги-вуги уже этап пройденный.
В том, как он шутил, было похожее на манеру Василия Антоновича шутить: очень серьезно, без улыбки, доверительно.
— Вот вы какой! А мне казалось, что партийный работник непременно должен быть сухарем, что только по степени сухости его и избирают на партийные должности.
— А разве Василий Антонович сухарь?
— А что вы думаете! Конечно.
Сказав, что ей жарко, что она устала, Юлия взяла Владычина за руку и увела в кабинет. Там они сели на диван, и она спросила, почему он один, почему не привел жену.
— У меня ее нет, Юлия Павловна. — Еще короче, чем в беседе с Василием Антоновичем, Вла-дычин повторил Юлии свою историю. Юлия кивала головой.
Вошла София Павловна:
— Нас не так много, чтобы потеря двоих не отразилась за столом. Юленька, мы должны обеспечить общество чаем.
Юлия поднялась, недовольная.
— Чай, чай! — заворчала она. — Мещанская привычка. А люди, может быть, ещё водки хотят. Вы хотите водки, Игорь Владимирович?
— Нет, Юлия Павловна, не хочу. София Павловна права — лучше бы чаю.
— А если со мной, по рюмке, а?
— Юля! — с укоризной сказала София Павловна.
— Нет, Юлия Павловна, нет, — повторил Владычин.
— Ваша воля. — Юлия усмехнулась, повела плечом. — Может быть, кефиру принести из холодильника?
— Юля!
— Софочка, не воспитывай меня хотя бы при посторонних. — Юлия ушла в свою комнату и больше не появилась, как София Павловна ее ни упрашивала.
Василий Антонович сказал, неслышно для других:
— Соня, брось с ней возиться. Ничего же у тебя не получится. Истерия. Следствие неустроенной личной жизни. Как ты не понимаешь!
После чаю, после долгого курения и новых разговоров Владычин и Черногус собрались уходить. Они благодарили Софию Павловну, справлялись, чтб с Юлией Павловной. «А, голова разболелась? Очень жаль. Большой ей привет, самые лучшие пожелания».
Василий Антонович пошел провожать на улицу, до угла. Он долго смотрел им вслед. Черногус держал Владычина под руку и что-то горячо ему говорил. Они останавливались, и тогда Владычин брал Черногуса за лацканы его старомодного пиджака и, в свою очередь, что-то говорил, не менее горячо.
Суходолов предложил сыграть в карты. Василию Антоновичу играть не хотелось. К столу подсела София Павловна, которая считала, что если ты пригласил гостя, то его желания для тебя закон, ты обязан всеми средствами его занимать и развлекать. Суходоловы и она играли втроем. Василий Антонович лежал в кабинете на диване. Нет, думал Василий Антонович, Владычин по отношению к Николаю совершенно непримирим. И, конечно, он прав, да, прав. Николаю надо уходить, Николай должен освобождать место для другого, более энергичного, более современного. Теперь он хорош только за столом, хорош для совместных воспоминаний о минувшем, для лирики, а не для трудовой прозы. Как сам-то он этого не понимает, как не догадывается подать заявление, зачем ждет, чтобы ему сказали об этом другие?
19
Лето проходит всегда удручающе быстро. Думать о нем, готовиться к нему начинают с осени, когда полетят листья с деревьев, когда по голой земле, с которой собран урожай, ударят первые затяжные, холодные дожди. Люди смотрят сквозь мокрые стекла на улицу и думают: что ж, — октябрь, ноябрь, а там уже и зима, а в марте солнышко начнет пригревать. Проходят октябрь и ноябрь, — остается дотянуть до Нового года, а там… Ну ещё крещенские морозы, послабее — сретенские; ну февраль снегу подсыплет, зато март подберет! И вот так живет человек, день за днем ожидая этой благодатной поры — весны, а за нею и лета. Древние люди, наши диковатые предки, расставаясь с очередным уходящим летом, не на жизнь, а на смерть биясь с природой в глухие зимние месяцы, всегда боялись, а вдруг-де новая-то весна, новое лето и не придут. Всеми силами задабривали они своих деревянных и каменных богов, в страшные дни предвесеннего ожидания приносили им в жертву все лучшее, что удалось сохранить зимой. Но зато, когда боги, приняв жертвы, вняв мольбам человеческим, посылали на землю теплый весенний апрель, тут-то начинались великие гульбища в благодарность добрым богам: весна пришла, значит будет и лето!
Да, вот так, ждем его, желанного лета, когда и природа и человек сбрасывают сковывающие тесные одежды, дышат полной грудью, легко и вольно; ждем, а лето проносится курьерским поездом мимо полустанков: громыхнули колеса на стрелках, мелькнула красивая девушка на пригорке, помахала вслед рукой, не успели вы разглядеть девушку, уже и нет ее.
Так прошел сенокос в области. Постояли, постояли среди лугов веселые молодухи-копны, с которыми, рвя с них платки и задирая подолы, наигрались теплые июньские ветры; постояли, да и легли в молчаливые, бурые стога, будто состарились и стали подобиями сгорбленных строгих бабушек. Так прошли жатва и обмолот — веселая, шумная пора, когда день и ночь рокочут моторы комбайнов и тракторов, скрипят колеса подвод и стучат молотилки. Посеяли озимые. А вот уже и пора силосования, копки картофеля, рубки капусты..
Василий Антонович снова надел свое черное кожаное пальто со следами споротых петлиц на острых углах воротника, снова ездят они вдвоем с Бойко на вездеходе-газике по районам, по селам области. Мелко секут силосорезки сочную зелень кукурузы, гонят измельченную массу по трубам в силосные башни, в силосные ямы и траншеи; плотно утаптывают ее там слой за слоем женщины и мужчины в резиновых сапогах. Мелькают в полях железные пясти тракторных картофелекопалок — когтистые пальцы разворачивают ещё не уплотненную дождями податливую землю, выбрасывают из нее желтые, что янтарь, или розовые, будто утренняя заря, увесистые клубни. Картофель в ворохах, картофель в мешках, в кузовах машин, под навесами, в сараях, в ямах, в хранилищах — всюду. «Второй хлеб» дал урожай отличный.
Завернули в колхоз «Озёры». «Третьяковская галерея» закрыта на замок, — люди в поле. Председателя-живописца тоже нашли в поле; маленький, рыженький, он путался в просторном, не по росту, плаще из черной клеенки и на чем только свет стоит, и так и этак, костил тракториста, который заехал на участок белокочанной капусты.
Переправляясь через реки то по мостам, тона паромах, огибая болота, вместе с Бойко, на утренних и на вечерних зорьках они не раз слышали ружейную пальбу.
— И что вы не охотник, Василий Антонович! — высказывался Бойко. — При таком видном положении, как ваше, охота — самый спорт.
— А когда же я буду заниматься этим спортом, как ты считаешь, Роман Прокофьевич?
— Ну, Василий Антонович, и сказанули же вы! Какой, извините, нахал станет проверять, куда на день или на два уехал первый секретарь обкома? Первый! Подумать только. Мало ли у него государственных забот.
— Эх, и погулял бы ты, я вижу, если бы избрали тебя секретарем обкома!
— Да уж не растерялся бы, Василий Антонович!
В селе Хромые Гуси встретили Сергеева. Председатель облисполкома тоже путешествовал по области в газике-вездеходе. На ногах у него были болотные сапоги с раструбами.
— Как мушкетер! — сказал Василий Антонович. — Шикарные чоботы.
— Охотничьи, — объяснил Сергеев. — Я и ружьишко захватил, Василий Антонович. Да только стрелять некогда. Сам же знаешь, как с вывозкой у нас. Зерно ещё не все вывезли. А про картошку, про овощи и говорить неохота. Транспорту поджилки рвем. Сейчас смотрел, как машина из ямы вылезала. Хорошая трехтонка, сильная. А вся дрожит, бедняжка, от натуги. Того и гляди, думаю, оторвется передок, уйдет один по дороге, а кузов так и будет в яме зимовать.
— Не зря же я говорю о дорогах. Не пойдет у нас дело без дорог, Иван Иванович.
Время было вечернее. Остались в Хромых Гусях ночевать. Вместе с колхозниками смотрели в клубе кино — глупую, сентиментальную иностранную картину.
— Кто их покупает, такие? — спросил Сергеев.
— Во всяком случае, не я, — ответил Василий Антонович.
Уставшие за день колхозники зевали, некоторые подымались со своих мест, не досмотрев картину и до половины, уходили, ворча и ругаясь.
— Черт! — сказал досадливо Василий Антонович, когда сивый бред на экране окончился. Он пошел к механику порасспросить его, как эта продукция, рассчитанная на зарубежного обывателя, попадает к людям, которые взялись строить коммунизм.
— Облкинопрокат, товарищ Денисов! — Механик развел руками. — По своей воле я это беру, думаете? С этой мути везде уходят, не вижу, что ли? А сделать ничего не могу. Что дают, то и бери. Да только и в облкинопрокате ничего поделать не могут. Им сверху такую продукцию спускают. Вы начальство, товарищ Денисов, вы и разбирайтесь. А мы, механики, что? Крутим вот и плачем. Плачем и крутим.
В горнице, которую им под ночлег отвел в своем доме председатель колхозного правления, послушали перед сном последние известия по радио. Среди других новостей услышали сообщение из Высокогорска о том, что Высокогорская область перевыполнила план продажи зерна государству, заканчивает сдачу картофеля.
— Удивляюсь, — сказал, закуривая, Василий Антонович. — Чем объяснить, что у них вот так, а у нас вот этак? Почему мы от них всегда отстаем? Ведь не сидим же сложа руки, работаем по совести, неплохо работаем. Не понимаю.
— Да мы, в общем-то, и не отстаем, Василий Антонович, — принялся размышлять вслух Сергеев. — В конце-то концов план у нас всегда выполнен. А бывает, и перевыполнен. Например, по силосованию, знаешь, какой у нас показатель на сегодняшнее число? Сто сорок восемь процентов плана! В два-то раза план перекроем. Это уж точно. Об этом можно не беспокоиться. Вот я и говорю: у нас тоже всегда все выполнено. Но у них — что? Обскакивают по срокам. Мы ещё плывем да плывем по уши в посевной, в уборочной, в молотьбе. А они, будь здоров, уже отрапортовали. Мы, как говорится, тоже к финишу подходим, но на нас, извиняюсь, полнейший ноль внимания: пеночки славы-то уже и сняты.
— Значит, не умеем сосредоточивать усилия, Иван Иванович. Не умеем наносить массированный удар. Так, милый мой, и на войне бывало. Один командир бросает людей по горстке в бой, — успеха нет, только потери. Другой как двинет все силы, — противник и не выдержит, не выстоит. Может, неважно мы командуем? Как считаешь?
Долго ворочались оба на сенниках, курили в темноте, — не спалось. Утром Василий Антонович спросил:
— Отсюда до Высокогорска сколько езды?
— Доехать сначала до шоссе — это километров двадцать. Да по шоссе — сто десять. Часа два хорошего хода. А что?
— Не махнуть ли нам к Артамонову? Посмотрим его дороги, порасспросим, как он их строит. Может, все дело как раз в дорогах: что убрал, обмолотил, то сразу же и вывез, без греха и канители.
Машину Сергеева отправили в Старгород, на машине Василия Антоновича помчались в Высо-когорск. На полях Высокогорской области, так же, как и в Старгородской, копали картошку, срубали капусту. Трудовые картины тамошней жизни ничем не отличались от трудовых картин Старго-родчины.
В Высокогорск приехали к часу дня. В приемной Артамонова им сказали, что идет бюро обкома и товарищ Артамонов на бюро.
— Неудачно получилось. — Раздосадованный, Василий Антонович сел на диван. Он уже готов был ругать себя за горячность. Можно же было предварительно созвониться с Артамоновым. В Хромых Гусях телефон есть. Но помощник Артамонова успел сходить в кабинет и доложить о гостях из Старгорода.
В дверях появился сам Артамонов.
— Гости дорогие! — приветствовал он радушно. — У нас ещё часа на два работы. Но я передам бразды правления второму секретарю, вот только закончим очередной вопрос. Да вы заходите, заходите.
Василий Антонович стал было отказываться — не хотим, дескать, мешать, посторонние люди.
— Э, дорогие товарищи, так значит, если я, скажем, к вам прикачу, вы меня на свое бюро не пустите? — Артамонов притворился обиженным. — Нехорошо так. Какие же вы посторонние? Вы соседи. А мы с тобой, Василий Антонович, оба члены ЦК. Хотя ты, кажется, кандидат?
— Кандидат.
— Словом, пошли, пошли к нам! — Почти насильно он втащил старгородцев в свой кабинет, где было человек двадцать народу, представил членам бюро, усадил в сторонке, у окон.
— Итак, продолжаем, — сказал, усаживаясь на свое место за столом, покрытым зеленым. — Считаю вопрос ясным. Товарищ Крутиков, секретарь Лобановского райкома партии, плохо справляется с порученным ему партией делом. Он не сумел сплотить коммунистов района, собрать их в единый ударный кулак, распылил силы, и сейчас, когда мы в целом отрапортовали о завершении плана продажи хлеба государству, Лобановский район все ещё молотит, плетется в хвосте, позоря партийную организацию области. — Я правильно формулирую?
— Правильно! — раздалось несколько голосов.
— Итак, значит, какие предложения? — Артамонов обвел взглядом присутствующих на бюро. Все молчали. — Тогда у меня будут некоторые соображения… — Он встал, прошел к окну и, заложив правую руку за борт своей синей куртки, смотрел на улицу. — Вот так, пишите… — Не поворачиваясь, он куда-то назад властно указывал откинутой левой рукой. Стенографистка за отдельным столиком замерла над раскрытой тетрадкой. — Констатирующая часть… — Стенографистка черкнула пером по бумаге. Почти дословно Артамонов повторил то, что им было уже сказано. Затем, снова указывая рукой назад, стал диктовать: — Пункт первый. Исходя из вышеуказанного, секретарю Лобановского райкома КПСС, товарищу Кругликову, Владимиру Ивановичу, объявить строгий выговор с занесением в личное дело. Возражений нет?
— Нет!
— Единогласно. Пункт второй. Председателю районного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, товарищу Соснину, Дмитрию Григорьевичу, объявить выговор. Возражения есть?
— Нет.
— Единогласно. Пункт третий…
Василий Антонович и Сергеев переглянулись украдкой: вот, мол, как тут дело поставлено, потому и успехи такие. А мы, как нас иной раз в шутку называют: главноуговаривающие в области.
— Ну так, — сказал Артамонов, отдиктовав все пункты решения. — Сейчас поведет бюро Петров. Мне с товарищами-соседями надо заняться. Гостеприимство прежде всего.
Он увел их в соседнюю комнату, распорядился, чтобы принесли чаю; Василий Антонович и Сергеев поздравили его с выполнением плана хлебосдачи, — вчера, мол, услышали по радио. Артамонов стал рассказывать о том, как область поработала летом, об урожаях, о том, что животноводство за этот год крепко продвинулось вперед.
— Задача такая: поголовье увеличить в два раза, а мяса продать государству против прошлогоднего минимум в два раза и девять десятых. Подходящая задачка?
Потом разговорились о дорожном строительстве.
— Это надо ставить на широкую ногу, — объяснял Артамонов. — Кустарщина тут вредна. Года три назад было так: один колхоз свой участок оборудует, замостит, а другой колхоз — нет. Постепенно разрушался и замощенный. В позапрошлом году мы всем урок задали одновременно. Первым делом всюду простругать дорожное полотно, прогрейдерить. Затем организовать покрытие — кто чем сможет. Булыжником так булыжником, щебенкой так щебенкой, гравием так гравием. А доротдел обязали по этому покрытию накатать асфальт или залить битумом. У нас теперь и кольцо есть областное, и радиальные дороги есть. А от них лучи к колхозам, к совхозам. Обязали деревьями обсадить. Обсаживают. Учитываете?
О дорогах Артамонов рассказывал с удовольствием и с большим знанием дела. Потом он пригласил гостей к себе домой, обедать.
Радостными криками «деда, деда!..» Артамонова встретили дома два мальчугана — одному из них было года три, другому лет шесть — и девочка лет пяти.
— Внуки, — сказал с гордостью Артамонов и принялся возиться с ребятишками. Видимо, и он их очень любил, и они его любили.
Жена Артамонова, приятная женщина лет пятидесяти, усердно угощала за столом Василия Антоновича и Сергеева пирожками, бульоном, пельменями. Артамонов подливал в рюмки коньяку.
Василий Антонович присматривался к обстановке, в какой жил Артамонов. Было все просто, было мало мебели, зато очень много игрушек для внуков — десятки лошадок, автомобилей, груды строительных кубиков; и ещё чего было много, — книг, на полках вдоль стен. Это были книги по всем отраслям сельского хозяйства.
Заметив взгляд Василия Антоновича, Артамонов поднялся, стал снимать некоторые тома с полок, хвастался редкостями. Были у него старинные монографии, записки губернатора местного края, старые сборники, в которых агрономы прошлого века и некоторые из помещиков высказывались о перспективах сельского хозяйства в Высокогорье.
С разговоров об этих книгах перешли к разговорам об уборке, о подготовке к зиме.
— Спрашивайте, спрашивайте, — говорил довольный Артамонов. — На все отвечу с полной откровенностью. У меня от друзей, от соседей секретов нет. На одном деле стоим, за одно болеем.
Василий Антонович слушал его, наблюдал за ним; вспоминались лица членов бюро, единогласно одобрявших каждое слово Артамонова; вспомнились те, поспешно кивавшие головами. Но были же и такие, которые сидели молча, хмуро глядя в стол и перед собой. Василию Антоновичу было известно подобное состояние людей. Они или ещё не все себе уяснили, или в чем-то сомневаются, или вообще не согласны с тем или иным решением вопроса. Он знал, что их, если даже они и молчат, непременно надо порасспросить, надо суметь сделать так, чтобы они разговорились, чтобы высказали свои сомнения и возражения. Иначе вопрос может оказаться решенным не полно, однобоко, и даже совсем неправильно. Больше всего надо опасаться глядящих тебе в рот, подхватывающих каждое слово, шумливо и поспешно все, что ты сказал, одобряющих. Это народ бездумный и ненадежный. С такими легко выносить решения, но зато трудно их выполнять.
Еще там, на бюро, Василию Антоновичу показалось, что Артамонов излишне доверчиво относится к дружным ответам «нет!» на его вопрос, есть ли у кого возражения. Человек не арифмометр, у которого — крутанул ручку — и действие произведено. Человек должен поразмышлять, должен пораскинуть мозгами. А на это требуется время и время. Так гнать «вопросы» — не полезно для дела. Для канцелярии, может быть, оно и годится, а для живого дела — нет. И когда уж слишком дружно что-то выкрикивают, значит толком не подумали или отнеслись к делу с безразличием.
С каждым годом Василий Антонович все больше и больше убеждался в том, как мудро партия поступила, порвав гипнотические сети культа личности. Да, это были именно сети, и люди в них путались, барахтались и всегда видели только тот путь для себя, только тот выход, какой указывал один человек, и считали правильным только то, что считал правильным он. Не повторяет ли Артамонов уже отброшенное жизнью? Не преувеличивает ли значение своей личности в области, не пытается ли взять на себя все то, что под силу только коллективу, большой партийной организации Высокогорья?
Но успехи, успехи! — они же сами говорят за себя. Может быть, в деревне и рановато переводить все на такие широкие демократические начала, как делают старгородцы? Все-таки деревня слишком долго была отсталой и темной. Доросло ли общественное сознание крестьянина до сознания рабочего?
Василий Антонович раздумывал, а Артамонов все листал перед ним страницы книг, ворошил папки отчетов за минувшие годы, рассказывал о своих обширных планах.
После долгого и обильного обеда гости собрались уезжать, поблагодарили гостеприимную хозяйку, дружно, как у Артамонова на бюро, высказались о ее кулинарных способностях. Артамонов отправился их провожать. По городу ехали на его машине.
— Стоп! — сказал он шоферу, — Останови здесь. — Вышел на тротуар, догнал пожилую женщину с продуктовой сумкой, подал ей руку, поговорил, попрощался; женщина с благодарностью смотрела ему вслед.
— Славная бабуся, — сказал, возвратись в машину. — Нянька из больницы. Лежал зимой, думали — аппендицит, хотели резать. Оказалось, что-то вроде почечной колики. Вот ухаживала за мной. Спросил ее — как дела, не надо ли чего, не нуждается ли в чем. Нет, говорит, спасибо, ничего не надо. Вот народ самоотверженный! И зарплата у нее поди невелика, и комнатенка метров в десять. А ничего не надо, видишь ли! Другой за глотку тебя хватает: дай того, дай другого, третьего… Растрогала меня бабуся. Замечатель- | ный человек. Партийная. Одной из первых комсомолок была в Высокогорье. Ей около шестидесяти. «На пенсию, говорю, иди Мария Васильевна». — «Ни за что, отвечает. Я ещё жить хочу».
На окраине Высокогорска распрощались. Осенний день приближался к концу, смеркалось. Зажгли фары, полетели по мокрому от меленького дождичка ровному шоссе. Сергеев, видимо, размышлял над увиденным и услышанным за день — молчал; Василий Антонович тоже все снова и снова перебирал и обдумывал события дня, — тоже не затевал разговора. Сцена с нянечкой из больницы его поразила. Беспокоила мысль: как бы в таком случае поступил он, Василий Антонович? Остановил, бы машину на улице, вышел бы к той, которая ухаживала за ним во время болезни? «Да или нет? Да или нет?» — придирчиво спрашивал себя. И с полной самокритичностью признался в конце концов, что не уверен в этом. А разве он черствый, неотзывчивый человек? Так в чем же дело? Разве ему не известно, что больше всего люди ценят внимание к себе? Очень правильно сказал писатель Баксанов, когда ездили в колхоз «Озёры»: подарите мне вечное перо ценой в несколько рублей, напишите на нем добрые слова от имени обкома, и это мне будет самой высокой премией, потому что через нее я увижу ваше внимание ко мне, внимание партии к коммунисту, к его труду, увижу оценку моей работе. Пообещал тогда Баксанову и Соне подарить по ручке, купить послезавтра. И не сделал этого. Пусть в шутку было обещано, а выполнять обещание надо было всерьез. Артамонов бы, наверно, не упустил случая проявить внимание к людям, и правильно бы сделал.
Василий Антонович был собой недоволен. Мало руководить на бюро, на пленумах, на конференциях, в своем кабинете. Надо завоевывать сердца и чувства людей каждым повседневным делом, при каждом общении с ними. Прав, прав Артамонов. В чем-то он, может быть, и не прав — вспомнилось, как Артамонов, стоя у окна, не оборачиваясь, диктовал пункты решения стенографистке, — а в чем-то очень и очень прав; перед глазами встала старая женщина с продуктовой сумкой в руках, благодарно глядящая вслед секретарю Высокогорского обкома партии.
Бежала мокрая, черная дорога, обсаженная по сторонам березками и молодыми дубками. Березки уже были голые, тоненькие, озябшие, а на дубках ещё крепко держались бурые листья.
Не доезжая большого селения Лобанове за которым вскоре должна быть граница Старгород-чины, увидели на обочине изрядно потрепанную на сельских ухабах серую «победу». Около нее стояли под Дождем люди в плащах и сигналили поднятыми руками.
— Как?.. — спросил Бойко, слегка тормозя.
— Что — как? — ответил Василий Антонович. — Люди бедствие терпят. Может, какого винтика не хватает. Останавливайся.
Проехав мимо «победы», остановились шагах в десяти впереди нее. Люди поспешно подошли к «газику».
— Масляная трубка лопнула, — сказал один из них. — Случаем, нет запасной?
Бойко полез в багажник. А Василий Антонович присматривался в потемках к терпевшим бедствие.
— Слушайте, — сказал он. — Где-то я встречал вас. Лица знакомые.
— Встречали, товарищ Денисов, — ответил один из них. — Сегодня, на бюро обкома. Моя фамилия Кругликов. Секретарь райкома. Лобановского. А это товарищ Соснин. Именинники мы. По выговорочку приобрели.
— Да, — сказал Василий Антонович, чувствуя себя не очень удобно. — Неприятная штука. Хорошо, когда взыскание справедливое, за дело. А то ведь и без дела дают, под горячую руку, или стечение обстоятельств бывает нескладное.
— Мы лично скажем, что выговора получили зря, товарищ Денисов. Вот вы, тоже секретарь обкома, рассудите, пожалуйста. Им там рапортовать надо. А у нас, и верно, не все зерно обмолочено, ещё молотим. А на нас жмут: давай хотя бы сводку о том, что окончили молотьбу и завершили продажу хлеба, если уж не сумели этого на деле сделать. Как же дать преждевременные сведения? Обман будет. Позавчера вечером мы отказались от такой комбинации. Вот с товарищем Сосниным отказались. А сегодня, будьте здоровеньки, два выговорка!
— Позвольте? — спросил Сергеев. — Ну а план продажи хлеба у вас выполнен.
— Нет, не выполнен. Это верно.
— Так вам же за это отставание выговора-то дали, — настаивал Сергеев. — Мы своими ушами слышали с товарищем Денисовым. Про сводку и слова не было сказано.
— Так это ясно, об этом не скажут. А по сути-то дела — за что? И кроме нашего есть районы, где план не выполнен, — их на бюро не тащат. — Кругликов говорил с нескрываемой обидой. — Мы тоже не дурачки. Кое-что понимаем.
Бойко нашел трубку, отдал ее шоферу «победы». Распрощались с огорченными руководителями Лобановского района, поехали дальше. Миновали Лобанове. Василий Антонович подумал о женах Кругликова и Соснина. Где-то в этих домах с освещенными окнами две женщины ждут своих мужей, срочно вызванных на бюро обкома, сидят, волнуются, по опыту зная, что для объявления благодарности в область так экстренно не вызывают; подходят к окнам при шуме каждой проезжающей машины, вглядываются в темень, ждут, ждут, а чего дождутся, какую радость им везут мужья?..
— Плетут, наверно, ребятки. Как считаешь, Василий Антонович? — сказал Сергеев. — Кто бы и как бы ни получил выговор, за дело ли, без дела, всегда скажет: «зря». Никто же не признает себя виновным.
— Разно бывает, — неопределенно ответил Василий Антонович. — Кто их, конечно, ведает. Чтобы выяснить, где правда, где неправда, надо покопаться в деле, разобраться. Высокогорский обком, наверно, разобрался все-таки. Нам с налету судить трудно.
Он все думал об этих женщинах, о женах секретаря райкома и председателя райисполкома. На месте одной из них он представил Соню; как бы переживала Соня, как бы волновалась, как бы порывалась куда-то идти, что-то кому-то доказывать, бесстрашно сражаться за него, за своего Василия Антоновича. У нее сердце разрывалось, если она видела, что кто-то и как-то обижает ее мужа. Она не могла этого переносить, не могла с этим мириться. Наверно, и эти женщины так же. И им больно и горько. И у них сердце разрывается, когда обижают их мужей.
20
Юлия свернула в улицу, в настоящую окраинную улицу бывшего губернского города — без мостовой и без тротуаров, с домиками, в которых окна плотно заставлены цветами в горшках, с длинными дощатыми серыми заборами, за которыми стоят тихие, заросшие яблоневые и вишневые сады, с тем брехом собак из подворотен, когда виден лишь черный мокрый нос и свирепо оскаленные желтые зубы. Такие улицы живописны летом, они порастают травой, по ним утром — в поле и вечером — с поля гоняют козье стадо. Забредешь в такое местечко теплой июльской порой, вдохнешь запахи садов, услышишь тишину, тревожимую только криками ребят, которые где-то играют в прятки или в «попа-загонялу», и мысли твои примут благостное, умильное направление: переехать бы сюда, в эту улочку, с тех каменных главных городских магистралей, где ты живешь сейчас, променять бы шум центра на эту патриархальную тишину, на эту непосредственную близость ко все исцеляющей матушке-природе.
Иное дело осенью. Юлия скользила на глинистых колеях, разъезженных посредине улицы, с трудом отыскивала, куда бы ступить, обходила огромные застойные лужи; каблучки ее вязли, засасывались в почву. Она шла мимо черных от дождя, мокрых и, если коснуться, скользких заборов, мимо голых пустынных садов. Даже псы в эту пору молчали, уныло сидя в своих будках.
Кто-то, шлепая башмаками, быстро шел сзади. Юлия не обернулась: она обдумывала, как бы половчее перескочить через неширокую, но предательскую — с очень скользкими краями — канавку. Она вскрикнула от неожиданности: чьи-то руки ее подхватили и перенесли через грязь.
— Виталий? — Она рассматривала раскрасневшееся лицо молодого поэта. — Как вы здесь очутились?
Юлию раздосадовало появление Птушкова. Он ей мешал, он был неинтересен. Он ничего не понял в тот воскресный вечер, когда Соня не дала ей побыть с Владычиным, когда обидела ее и, как Юлии казалось, просто оскорбила своими неуместными замечаниями. Юлия не высидела тогда дома. После ухода Владычина и Черногуса, после того как Соня села играть в карты с Суходоловыми, Юлия выбежала на улицу, не зная, куда пойти, к кому кинуться со своими обидами. Ей припомнился адрес, названный однажды Птушковым. Она нашла его дом, прочла под аркой ворот в списке жильцов: «В. Н. Птушков, кв. 14», нашла эту квартиру и там, в длинном коридоре, постучала в дверь, на которую, небрежно кивнув головой, указала впустившая ее соседка поэта.
Зачем все это Юлия делала, она объяснить бы не смогла. Делалось все в торопливом нервном ознобе, какой не раз испытывала Юлия в своей бестолковой и тоже нервной, торопливой жизни.
На стук, распахнув дверь, вышла очень молоденькая женщина, о которой лучше было бы сказать — девочка, и ангельски звенящим голоском пригласила: «Пожалуйста, проходите». Но, увидев Птушкова, лежавшего на диване с книгой в руках, и поняв, конечно, что этот ангелочек — его жена, Юлия сказала: «Нет, нет, я не войду. Мне нужен на минутку товарищ Птушков».
Птушков уже успел вскочить с дивана, он торопливо притворил дверь перед носом Юлии, и Юлия слышала, как он полушепотом говорил за дверью: «Это из ВОКСа, понимаешь? Из Всесоюзного общества культурных связей с заграницей».
Юлия уже бежала через двор, ей уже не нужен был никакой Птушков, лишь бы поскорее убраться из этой, как ей казалось, ямы. Но Птушков догнал Юлию. Он взял ее под руку; она дернулась, стараясь вырвать локоть из его пальцев. Не вырвала, он держал ее крепко.
— Вы божественная! Я никогда этого не забуду.
— Чего? — Всем лицом она резко повернулась к нему. В глазах ее было бешенство. — Чего вы не забудете?
Он был несколько озадачен.
— Что вы пришли ко мне. Сами пришли. Я так вас ждал все это время, так ждал…
— Я ошиблась адресом! Понимаете?
— Нет, вы не ошиблись адресом, Юлия Павловна. Вы спросили меня, назвали мою фамилию.
Юлия не ответила, повернулась, пошла. Он шел рядом. Он предложил зайти в кафе, она согласилась.
Сели за дальний столик, в желтый от шелковых абажуров сумрак. Птушков заказал вина, закусок. Он бережно поглаживал тонкую, маленькую кисть ее руки, лежавшую на столе, смотрел добрыми теплыми глазами.
— Вы меня избегаете, я боялся вам навязываться, но ещё не было минуты, нет, не было такой минуты, клянусь вам, Юлия Павловна, чтобы я не думал о вас.
— А как же ваши стихи, поэзия? — с усмешкой сказала она. — Если вы думали только обо мне?
— Что стихи, что поэзия! Для меня единственная поэзия — вы, вы, Юлия Павловна! Я это понял, только вы.
— А тот ангелочек… у вас в комнате… Это же, надо полагать, ваша жена, супруга, мадам Птушкова?
— Я вам говорил: сегодня она есть, завтра ее не будет.
— Но с тех пор прошло довольно много времени, было не одно «завтра».
— Юлия Павловна, не в этом же дело.
— Впрочем, да, не в этом. Налейте-ка мне. Что это у вас — «Розовый мускат»? Вы пьете такую сладкую гадость? Закажите лучше водки. Если у вас нет денег… — Она раскрыла свою сумочку.
— Что вы, что вы! Почему вам так нравится обижать людей?
У Юлии и без этого шумело в голове после обеда. Водка, которую она потребовала, ещё добавила шуму.
— Куда же мы поедем? — сказала она, бесстрашно глядя ему в глаза, и закурила папиросу.
Он, от стихов которого, визжа, краснели и, краснея, визжали десятиклассницы и первокурсницы, растерялся, пожал плечами.
— Дома — вы видели сами… Можно бы в лес. Но сейчас там сыро…
— Вы меня не так поняли, милый, — с безжалостной прямотой оборвала его Юлия. — Я не под куст вас зову на поспешных пятнадцать минут. Я о другом, совсем о другом. Вы способны сейчас, сию минуту бросить всё, своих девочек, свою тахту, чернильницу, галстуки — и уехать, уехать отсюда, насовсем уехать. Со мной. Навсегда. Куда-нибудь. Куда билет купится. На целину, в Братск, на Камчатку?.. Можете? Вы же называете себя поэтом. Вы должны летать на крыльях фантазии. А вы сидите и думаете, зеленый, растерянный, как прозаик, неповоротливый и тупой прозаик. Ну?!
— Сегодня? Сразу? У меня книжка сдана в набор… Надо будет читать гранки.
Юлия рассмеялась так громко, что кто-то за соседним столиком на нее обернулся.
— Значит, я вам нужна лишь как дополнение к тому, что у вас уже есть, как дополнение к тем, которые штопают вам носочки и стирают рубашечки? Прощайте, Птушков. Вы мелкий, вы ординарный. Вы не поэт.
Она бросила на стол сотенную бумажку, поднялась и быстро вышла. Он остался сидеть за столом, он не решился догонять ее на глазах у публики. Могла ведь и ещё что-нибудь сказать при всех, убийственное, обидное, злое.
И вот он вновь стоит возле нее среди осенних луж окраинной тихой улочки, на которой она разыскивает дом Гурия Матвеевича Черногуса. Подкарауливал, значит, следил, гнался следом, подкрадывался.
— Как здоровье вашего ангелочка? — спросила она, чтобы нарушить тупое молчание.
— Ее уже нет, Юлия Павловна, — ответил он, глядя в сторону. — В тот вечер был крупный скандал…
— За ней, надо полагать — несовершеннолетней, пришел ее отец, или отчим, или старший брат и бил вас по щекам?..
— Нет, она ушла сама.
— Я, значит, виновата?
— В таких случаях — зачем искать виновных? Никто — жизнь, судьба виноваты. Разрешите мне с вами? Куда вы?..
Тащить Птушкова к Черногусу совсем не входило в планы Юлии. Она шла к директору музея, пользуясь его приглашением, шла, чтобы порыться в его книгах, о которых он так горячо говорил. Выдалась подходящая минута, нашло подходящее настроение, она и отправилась, вспомнив приглашение. Что будет делать Птушков в квартире старого большевика? Только глупостей наговорит.
— Я иду в гости, — ответила она. — К человеку, которого вы не знаете. Будет не совсем удобно…
— Тогда я вас подожду возле дома, на крыльце.
— А если я буду сидеть там до утра?
— И я буду ждать до утра.
— Но это глупо.
— Любовь никогда ещё не бывала умной.
— Любовь! — Юлия усмехнулась. — Красивое, но бессмысленное слово.
Юлия остановилась возле крыльца в полной нерешительности. Был шестой час. Созваниваясь утром с Черногусом, она сказала, что придет ровно в пять. Вечерело. Птушков стоял в густеющих сумерках, унылый, одинокий, отнюдь не собирающийся уходить.
— Хорошо, — сказала она, — можете тащиться за мной. Но не я в ответе, если этот человек выставит вас за дверь.
Когда они вошли в квартиру к Черногусу, тот прежде всего посмотрел на часы; Юлия поняла, что этим он сообщил ей свое мнение о ее аккуратности и точности; затем коротким, быстрым взглядом окинул Птушкова, с его пестрым галстуком и пестрыми носками, деланно кашлянул и отвернулся; Юлия и это поняла: дает понять, что недоволен ее самовольством, тем, что привела кого-то без опроса.
Юлия поспешила представить Птушкова, назвав его известным старгородским поэтом.
— Птушков? — Черногус поднял глаза к потолку, будто силясь припомнить эту фамилию. — Птушков?.. Нет, извините, не знаю, не слыхал. Я на старой литературе воспитывался. Некрасов, знаете, Никитин… Из новых — Демьяна Бедного уважал, Маяковский мне близок. Современников некоторых знаю. Но Птушков… Извините, молодой человек, не приходилось читать. Это, впрочем, вина не ваша, моя. В вашем возрасте и Пушкина не очень знали. Вам сколько? Ах, вот как! Да… Лермонтов лишь на пару лет пережил ваш возраст. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Рад вторжению юности в мою стариковскую берлогу. Может быть, кофейку попьем? Я сейчас!.. А пока — вот полки… Действуйте, ройтесь. Маркс говорил: книга — моя служанка, как хочу, так ею и распоряжаюсь. Я тоже против парадных библиотек под стеклом и под замками. Ройтесь.
Он варил кофе. Юлия и Птушков листали книги на полках. Действительность превзошла ожидания Юлии. Книги были такие, что все их хотелось забрать с собой, хотелось тут же сесть и начать читать одну за другой, одну за другой — вот так, прямо с краю этой полки, потом за вторую взяться, за третью…
— Ну, а чем вы занимаетесь, товарищ Птушков? — спросил Черногус, наливая кофе в чашки. — Прошу присаживаться.
— Стихи пишу.
— Нет, я имею в виду вашу профессию. Профессия, профессия?..
— Поэт… Я не понимаю… — Птушков и в самом деле не понимал вопроса.
— Ну так, прямо с пеленочек, на них, что называется, расписываясь, и принялись сочинять?
— Окончил десятилетку. Два курса медицинского. И стал писать. Да.
— А доктор Чехов окончил все курсы медицинского и практиковал как медик. А Пушкин окончил лицей и состоял на государственной службе. А Михаил Юрьевич Лермонтов так и пал, сраженный, в своем мундире русского офицера. И Лев Николаевич Толстой послужил в армии, прежде чем засесть в Ясной Поляне. У каждого жизненный путь был, с которого и несли наши гении правду и достоверность в литературу.
— Меня в армию не взяли, — сказал Птушков. — По здоровью.
— А что же институт, не окончили?
— Во-первых, понял, что это не мое призвание — медицина. А во-вторых… — Может быть, впервые Птушков сказал самому себе, что никаких «во-вторых» и не было. Выбыл из института в связи с неуспеваемостью, а вновь поступить уже и не пытался.
— Впрочем, это дело спорное, — сказал Чер-ногус, видя, что он молчит. — Я не настаиваю на своей концепции. И со школьной скамьи сходили гиганты нашей литературы. Был бы талант. Может быть, почитаете что-нибудь?
Птушков отказался. Он понимал, что своими стихами должного впечатления на Черногуса не произведет.
— Для этого настроение требуется, — ответил он.
— Да, да, конечно, — согласился Черногус и стал читать стихи Никитина, Брюсова, Маяковского… Потом спросил: — А вам, молодой человек, не бывает иной раз этак тоскливенько оттого, что вы в сторонке от жизни держитесь? Ведь то, что вы принимаете за жизнь — это только надстройка над нею. Вы не задумывались о своей роли поэта в обществе, о том, что…
— «И песня, и стих — это бомба и знамя, и голос певца поднимает класс»? — с вызовом продекламировал Птушков. — Это вы хотите сказать?
Черногус посмотрел на него с удивлением.
— Примерно. Вы даже лучше меня сказали. Да, да, вот это вам не приходило в голову?
— Приходило. Только время бомб и знамен прошло. И классов у нас нет, Есть человек. А человек — всегда человек. Всегда он любил и будет любить. Всегда у него были и радости и горести, и будут радости и горести. Всегда были счастливые и несчастливые, и будут всегда одни счастливыми, другие несчастливыми. Была и будет ревность, была и будет чувственность, была и будет…
— Похоть?
— Да, если на то пошло: и она была и будет.
— А что же мы тогда сделали в октябре тысяча девятьсот семнадцатого года? — Черногус улыбался.
— Что? Для таких, как я, и для себя, надо полагать — тоже, в том октябре вы завоевали право быть самими собой, право быть свободными в творчестве. Спасибо вам, конечно, за это, большое спасибо. Но сколько можно напоминать о благодеянии и попрекать нас этим?
— Да вы же, такие чижики, от чьего имени так гордо произносятся эти слова: «мы», «нас», — кто вы? К нам, в наш лекторий при музее, ходят тысячи молодых людей. Они вам, пожалуй, от их имени рассуждать так не разрешат. Вы уж от себя философствуйте: не «мы» и «нас», а «я» и «меня». Вернее будет. Было немало в свое время чирикающих декадентиков, они тоже обожали изрекать от имени масс: «мы». Ни я, ни тем более вы, их уже и не помним. А Маяковский не прятался за «мы», он всегда говорил «я», потому что его убеждения, его взгляды не расходились со взглядами, с убеждениями народа, партии. И он не боялся говорить «я». Зачем же с помощью словечка «мы», имея единицу, пытаться создавать впечатление массовости, зачем прятаться за спины других? Говорите о себе: меня, мол, тяготят призывы служить народу, я пекусь лишь о себе, о своей известности, о так называемой славе.
Заложив руки за спину, Черногус расхаживал по своей заставленной мебелью комнате. Из того, как он говорил о Птушкове, о его творчестве, о его взглядах, Юлия заключила, что он лишь прикинулся не знающим творчества молодого стар-городского поэта; наверняка он знал и стихи Птушкова, и его похождения, и все скандальные истории, связанные с этим именем. С одной стороны, Юлия сожалела, что привела сюда Птушкова — поэт помешал разговору с Черногусом, а разговор с этим острым, эрудированным человеком мог бы получиться интересный. С другой стороны, ей думалось: пусть Гурий Матвеевич выдаст как следует этому зазнайке.
— Не сомневаюсь, что вы меня не поймете, — говорил Черногус. — Вернее — не захотите понять. А может быть, и в самом деле не поймете — потому что не знаете жизни. А раз не знаете, то и не цените ее. Живете как живется. А где, в чем, какова ваша цель? Бомб нет, знамен нет, классов нет. Что же есть? Постель, обожательницы, коньяк… А ещё что? Не мало ли для мыслящего, разумного существа, каким является человек? И медведи способны водку пить, и медведи, если их обучить, не плохо пляшут буги-вуги, и медведи — извините, Юлия Павловна, за грубость — спят с медведицами.
Когда они распрощались и вышли на крыльцо, на улице уже совсем стемнело. Вдали, на углу, горел фонарь. Шлепая по грязи, держали путь на его свет.
— Не хотелось, Юлия Павловна, обижать эту старую развалину, — сказал Птушков. — Еще умрет от разрыва сердца. Не стал спорить. А то бы от него и мокрого места не осталось.
— И вам не стыдно так говорить? — Юлия балансировала, держа в обеих руках по связке книг. Птушков предлагал ей понести их, она отказалась.
— А чего стыдно? Это ему должно быть стыдно. Сидит весь в нафталине, и ему все думается, чтр сейчас его любезный военный коммунизм: ать-два, левой! Проспал целую эпоху.
— А мне думается, Виталий, что просыпаете эпоху вы.
— Спасибо.
— Пожалуйста.
Выбрались на мостовые, на тротуары.
— Юлия Павловна, — сказал Птушков примирительно. — Пойдемте ко мне? Пожалуйста. Ну не отказывайтесь. Я одинок. Я совершенно одинок. Я живу, как в пустыне. Почему? Да, и вы и он правы: обожательницы, слава, коньяк… Правда, буги-вуги — это неверно, я даже и не видел, как их танцуют. Где тут, в нашем захолустье, буги-вуги? А то, другое, все верно. Но почему, почему? Потому что нет возле меня человека, которому бы я мог посвятить свою жизнь, каждую свою мысль, каждую строку, нет той, которой можно бы сказать: «Я помню чудное мгновенье!» Все доступные вокруг, дешевые… 'Пойдемте, Юлия Павловна?
— Вы полагаете, что я вам обойдусь дороже? Нет, Птушков, я к вам никогда не пойду. Был порыв, я предлагала, сама предлагала: уедемте. Куда угодно, только уедем, немедленно, без раздумий и без оглядки. Вас на это не хватило.
— Вы убьете меня.
— Будем надеяться, что не до смерти.
По улице, в свете фонарей, шла красивая, полная сил и жизни молодая женщина, нагруженная книгами, шла стремительно, легко, едва касаясь ногами тротуара. На нее невольно оглядывались. А за нею, плетясь, еле поспевал тоже — что говорить! — не старый человек. Но безвольные плечи его висели по-стариковски, руки вяло лежали в карманах пальто. Скажи — и никто бы не поверил, что она всю жизнь жила сугубой прозой, а он целью своей жизни называл поэзию.
— Значит, никогда? — спросил Птушков.
— Да, Виталий, никогда.
— Что ж, вы меня больше не увидите, Юлия Павловна. Прощайте.
— Прощайте, Виталий.
Он свернул в боковую улицу и скрылся в темноте. Она тут же забыла о нем, она думала о книгах, которые несла. Надо не показывать их ни Соне, ни Василию Антоновичу. А то сейчас же утащат в свою спальню.
21
Художественная интеллигенция Старгорода открыла свой объединенный клуб. Рассказывали, что был интересный вечер, выступали писатели, композиторы, художники, актеры. Был устроен смешной «капустник», о котором по городу идут разговоры, авторов и исполнителей просят повторить программу в заводских домах культуры.
Василий Антонович на открытии не был, не смог. Он обещал заехать в свободное время, посмотреть помещение. Такое время наконец подошло. Баксанов водил Василия Антоновича из комнаты в комнату, показывал отлично восстановленную лепку потолков и стен, фресковую и масляную роспись — наследие офицерского собрания, массивные двери из наборного дерева, с бронзовыми ручками, живопись и графику, которые в своем клубе выставили художники, собрание книг, изданных после войны в Старгороде местными писателями. Баксанов был представлен здесь двумя романами, четырьмя повестями и двумя пьесами.
— Это неплохо, неплохо, — одобрил Василий Антонович, листая его книги.
— Но ведь существует теория, — сказал Бак-санов, — что в искусстве, чем — меньше, тем лучше. Я в свете этой теории очень плохо выгляжу. Почти халтурщик.
— Чем меньше, тем лучше, — это лозунг снобов, товарищ Бакеанов, — ответил Василий Антонович. — Я согласен с лозунгом: пусть меньше, но лучше, чем много, но плохо. Это верно, это да. Но «чем меньше, тем лучше», — по меньшей мере идиотизм. Это кто же так рассуждает?
— Да у нас, в наших кругах, — уклончиво ответил Баксанов. — Нам, например, утверждают такие, достаточно одной-двух хороших книг в год, одного-двух хороших спектаклей.
— Если человек мало читает и мало ходит в театр, ему, возможно, этого и достаточно. А вы поговорите с народом, товарищ Баксанов. Рабочих, колхозников, интеллигенцию поспрашивайте…
— Спрашиваю, Василий Антонович, спрашиваю. В один голос: мало книг о современности, о нас, мало спектаклей., мало кинофильмов о нашей жизни, о проблемах и вопросах, волнующих людей сегодня.
— Вот видите. А кстати, вы сами-то сейчас над чем работаете?
— Роман задумал. О культуре села, о крупных изменениях в жизни деревни, об изменениях в сознании колхозников, в их быте, в их интересах и стремлениях. Интересный есть материал.
— Хорошая тема!
Они сидели в небольшой, почти круглой, угловой гостиной, окна ее смотрели сразу на три стороны, на три улицы. Шум города врывался сюда даже через двойные рамы, через толстые зеркальные стекла.
В гостиную заходили писатели, художники, архитекторы, — кто присаживался на диваны, на стулья, кто стоял в дверях и даже за дверями, подымаясь на носки, вытягивая шеи.
— Хорошая тема, — повторил Василий Антонович. — В деревне происходят поразительные изменения, идут глубочайшие процессы. — Он встал, он увлекся. — Задумайтесь хотя бы вот над чем. В то время, когда некоторые стяжатели в городе строят себе особняки, отгораживаются от живой жизни заборами, вооружаясь безменами, идут торговать на рынке ягодами и овощами, в это время среди крестьян, колхозников уже появляются такие, которые заявляют: мне не нужна эта изба, мне не нужна эта усадьба, — дайте хороший, городского типа дом, дайте квартиру, дайте жить, как в городах живут. Потрясающе, не правда ли? А давно ли мы говорили об отставании общественного сознания крестьянина? Давно ли крестьянин готов был убивать ближнего на меже, убивать из-за пяди земли. И торговать на базаре многие колхозники уже не хотят. Я, говорит, не хочу позориться. Мой, говорит, портрет в газете напечатан. А я на базар пойду! Пусть колхоз организованно продает нашу продукцию, пусть нам деньги выплачивают, как зарплату. Вот какой колхозник стал ныне! Хорошую тему выбрали, товарищ Баксанов.
— Можно мне слово? — Поднялся худощавый пожилой человек, с такими очками, о которых Артамонов говорил, что при их помощи только ученую карьеру делать, — в тонкой золоченой оправе. Баксанов шепнул Василию Антоновичу: «Забелин, архитектор». — Я хочу сказать вот что. Мы с вами находимся в этом здании… Хорошее здание? Да, отличное, прочное, удобное, красивое. Нас радуют и эта лепка, и эта роспись, и эти, отнюдь не монотонные, не однообразные линии. Это здание построил мой отец, о чем на камнях цоколя, если вы обратили внимание, более полувека назад была учинена соответствующая надпись. Отец построил за свою жизнь семь или восемь зданий в городе, и все они заметны, все имеют свое лицо. Сын старого строителя, то есть ваш покорный слуга, сооружает жилые дома в Свердловском районе Старгорода. Он печет их, как блины, напек раз в двадцать больше, чем его отец настроил, и они, подобно блинам, похожи один на другой.
— Это вы к чему? — спросил Василий Антонович. — К тому, что чем меньше, тем лучше.
— Не только. Еще и к тому, что вы говорили тут о деревне. Если такие дома-близнецы строить в деревне, деревня потеряет свое лицо, утратит поэзию, порвутся ее органические связи с природой. Взгляните, как выглядит старое село: в центре церковь, устремленное к небу сооружение строгих, чистых линий, белостенное, с зелеными кровлями куполов. Обнесена оградой, в ограде непременные кущи ив, тополей, лип. Во все стороны разбегаются улицы и проулки.
— Да, крытые соломкой избы, — подхватил Василий Антонович. — С гнилыми венцами, про-1 дувные, на зиму их навозцем надо обкладывать — завалинками. Удобств — никаких. Плетни вокруг. Грязь по колено. Издали, конечно — чудесно, лирично, ласкает взор, побуждает к меланхолическому течению мысли. Вы жили в деревне?
— Нет.
— А я там родился. Нет, товарищ архитектор, не в церковках надо искать красоту.
— Позвольте, я не закончил. — Забелин протер очки лоскутом замши. — Я не за тем просил слово, чтобы позвать назад, к церквам. Я считаю, что для села надо разработать такую архитектуру и такую планировку, чтобы органическая связь деревенской жизни с природой не нарушалась. Пусть будут дома в несколько этажей, на несколько квартир… Но чтобы они были такими… как бы сказать?.. чтобы органически вписывались в пейзаж.
— Полностью вас поддерживаю. — Василий Антонович дружески кивнул Забелину. — И не только поддерживаю, но просто прошу принять участие в разработке таких проектов, таких типов домов. Вот переустраивают свое село в Забо-ровье…
— Ну да! — перебил его Забелин. — Разработаешь, как будто бы и согласятся, похвалят. А потом и пойдет: это убери — излишество, то исключи — украшательство. А в итоге ящик с дырками для дверей и окон. Посмотрите жилые кварталы Свердловского района. Стесняемся и расписываться на таких сооружениях.
— Вот это вы уже не совсем хорошо сказали. — Василий Антонович достал портсигар, взял папиросу, закурил. — Продолжение вашей мысли такое: пусть что ни дом, то памятник эпохе, пусть их будет меньше, но пусть они будут дворцы, пусть в них живут немногие счастливчики, зато как живут! Так? Не ошибаюсь?
— В общем, это недалеко от моей мысли.
— Нет, дорогой товарищ… Простите, как ваше имя?
— Николай Гаврилович.
— Дорогой Николай Гаврилович! Страна наша богата. Но ещё не до такой степени, чтобы каждый уже сегодня мог жить во дворце. Мы способны построить очень много, но ещё не дворцов. Значит, как же быть? Значит, пусть одни живут в тех дворцах, которые мы будем строить в год по штуке — с лепкой, позолотой, штофной обивкой. А другие? Другие, то есть миллионы и миллионы, пусть смотрят на них и облизываются, пусть живут в старом гнилье, доставшемся нам ещё от царя? Нет, Николай Гаврилович, Центральный Комитет нашей партии с таким умонастроением не согласен. Центральный Комитет нашей партии и наше правительство хотят, чтобы как можно быстрее было покончено с халупами, с развалинами и полуразвалинами, с бараками, чтобы каждый советский человек жил в жилье светлом, чистом, теплом, с ванной, с газом, со всем, что делает человеческую жизнь удобной и здоровой. Вы хотите сегодня дворцов, которые бы прославляли эпоху коммунизма. А мы меньше всего думаем о прославлении. Мы хотим, чтобы строители коммунизма жили хорошо. Надо строить дешево, чтобы на одни и те же средства построить как можно больше. В данном случае правильным будет только такой лозунг: чем больше, тем лучше.
— А потом нас проклинать станут за эту ско-ростройку, за звукопроницаемость, за то, что нет кладовок в квартирах, за узкие коридорчики, тесные передние, за однообразие.
— Скажите, а вы проклинаете тех, кто строил бараки вокруг Кузнецкого металлургического, вокруг Челябинского тракторного, вокруг Ростсельмаша, вокруг… вокруг сотен и тысяч новостроек первых пятилеток?
— Что ж тут проклинать? Так надо было. Другого выхода не было. Теперь их ломают, эти бараки, во многих местах уже и сломали, на их месте построены наши коробки.
— Ну вот и нам потомки простят наши, как вы говорите, коробки. Они, потомки, будут богаче нас, как мы стали богаче тех, кто строил бараки. На месте коробок они построят дворцы. Это уже их дело.
— А все-таки…
— А все-таки… — Василий Антонович не дал себя перебить. — А все-таки, даже и при том условии, что надо строить дешево и экономно, на коробках успокаиваться нельзя. Это уже дело ваше, дело архитекторов, пофантазировать, подумать, поиграть мыслью, поискать наилучших решений. Дома должны быть и красивыми. Разве для этого непременно надобны золото и лепка? А цветной цемент? А разноцветная керамическая плитка? Почему она должна быть только рыжей и серой? Да из нее можно мозаичные картины выкладывать, если захотеть да подумать как следует. Мало ли возможностей у человека со вкусом! Иной из желудей, из сосновых шишек, из палок и веток такие чудесные фигурки делает, что у другого из бронзы, из мрамора не получается.
Через несколько дней Баксанов позвонил и сказал, что он хотел бы, чтобы Василий Антонович принял их вдвоем с архитектором Забелиным всего на пять минут Василий Антонович назначил время. Они пришли и заявили, что хотят поехать в Заборовье, о котором помянул в беседе Василий Антонович, и помочь колхозникам поразмыслить над благоустройством села.
— Там место, главное, очень хорошее, — сказал Баксанов. — Высокий берег, обрыв, село издалека видно.
— Каждое уродство будет в глаза бросаться, — добавил Забелин. — Нельзя этого допускать.
— На флоте в таких случаях говорят: добро! — Василий Антонович пожал руку Забелину, затем Баксанову. — Очень, очень рад вашей инициативе, товарищи.
После их ухода он созвонился с редактором областной газеты, пусть, мол, напишут о таком начинании известного писателя и старгородского архитектора. Может быть, почин их и другим понравится.
Василия Антоновича до крайности удивило, что после заметки об этом в «Старгородекой правде» появилась другая заметка: поэт Птушков, оказывается, заявил корреспонденту, что полностью поддерживает Баксанова и Забелина, что деревня сейчас предъявляет большие требования к культуре, и поэтому он, Птушков, едет в деревню изучать жизнь, хочет окунуться в действительность, чтобы затем отразить ее в своих произведениях.
Пригласил Огнева, спросил, не знает ли тот, в чем дело, откуда такой поворот в сознании поэта.
— С тех пор, как вы обратили на него мое внимание, Василий Антонович, — ответил Огнев, — я с ним упорно и повседневно работаю. Получалось пока что плохо — он упрямый. А вот пришел и говорит: еду. Ну я позвонил в редакцию, посоветовал, чтобы организовали соответствующий материал.
— Очень хорошо, если человек за ум взялся. Значит, не безнадежен. Я же вам говорил. Жаль только, что у меня не нашлось времени потолковать с ним.
— Я с ним много говорил.
— Вот и результат! — Василий Антонович был доволен. — Прекрасный результат.
Потом появилась ещё заметка — о том, как встретили Птушкова в селе Озёры, какое ему отвели жилье, как он пришел в библиотеку, в клуб, что сказал, что говорили ему. «Наша жизнь, наша действительность способны воспитать даже такого развинченного человека, — размышлял Василий Антонович. — Мичурин говорил, что нельзя ждать милостей от природы, надо их брать у нее. Так, конечно, и с человеком. Неправильно сидеть и дожидаться, пока он сам придет к сознанию необходимости перемен в своем поведении, надо умело побуждать его к этому».
На призыв Баксанова и Забелина откликнулся не только Птушков. Многие писатели, архитекторы, художники заявили о своей готовности помогать селу культурой. «Старгородская правда» изо дня в день сообщала об этом на своих страницах. Такие заметки Василий Антонович прочитывал с интересом, с волнением. «Хорошо, хорошо, — радовался он. — Лиха беда начало. Потом пойдет лучше».
Одним пасмурным ноябрьским утром сидел он над газетой и красным карандашом отчеркивал заинтересовавшие его места в статьях. Вошел Сергеев.
— Странная вещь, Василий Антонович. — Председатель облисполкома был явно встревожен. — Из сельсоветов сообщают, что по колхозам ездят какие-то закупщики и закупают у колхозников скот. Я навел справки. Оказывается, это из Высокогорской области. Они что, рехнулись, что ли? У самих поголовье чуть ли не вдвое скакнуло против прошлых лет, а ещё чужое скупают. Этак они нам могут большие неприятности причинить. Я позвонил другим соседям Высокогорья — в Приозерскую область. Да, тоже, говорят, заметили подобное явление.
— Мне это не нравится, Иван Иванович. — Василий Антонович был озадачен. — Давай-ка поговорим с Артамоновым. Что за фокусы! — По телефону он заказал разговор с Высокогорским обкомом. Через несколько минут на проводе был Артамонов.
— Артем Герасимович? Здравствуй, дорогой сосед! Как жизнь идет?
— Идет, — спокойным басом ответил Артамонов. — Как у вас? Я, правда, и сам слежу за сводками. Привычка такая. Не люблю, когда меня в чем-либо обгоняют. Пока вроде впереди вас идем. Может, нужда возникла, помощь требуется? Всегда рады.
— Помощь, помощь, Артем Герасимович. Народ сообщает, что ваши, высокогорские, у наших колхозников скот скупают: бычков, телочек летошних, коров, овец. Что ещё за штука? Ты не в курсе?
Артамонов молчал.
— Да, да, — сказал наконец. — Кое-что знаю. Колхозники тут наши инициативу проявляют. У нас скот, сам знаешь, непородистый, малопродуктивный. Ну, видимо, попородистей коровок ищут. Ваша, старгородская, порода издавна славится. Замена, замена, Василий Антонович. Тут уж по-соседски надо, по-товарищески. На одном деле стоим.
— И овец, значит, заменяют?
— Про овец не в курсе. А коровенок — да, заменяют.
— Так ведь можно было бы и без ущерба для нас это делать. Давали бы нам на обмен своих малопродуктивных, нам все равно мясозакупки выполнять.
— А разве не так делают?
— Да нет, что-то по-другому. За ценой не стоят. Так, бывало, только торгаши-перекупщики действовали.
— Ну это я прикрою. Нагоняй дам, если что. На одном деле стоим. Сообщу потом.
Положив трубку на рычаг аппарата, Василий Антонович пригласил Лаврентьева, и уже втроем они принялись обдумывать положение.
— Сейчас буду звонить по райкомам, — сказал Лаврентьев. — Пусть принимают меры, пусть разъясняют вред этой продажи в другую область. В племяобмен я, откровенно говоря, не верю, Василий Антонович. Артамонов дымовую завесу пускает.
— Петр Дементьевич прав, — поддержал и Сергеев. — Дело нехорошее. Буду тоже звонить по райисполкомам.
История встревожила весь старгородский обком и весь старгородский облисполком. Партийные организации районов, советская власть в районах начали принимать энергичные меры, про-, дажа скота в Высокогорскую область прекратилась. Но подсчеты показали, что его уже довольно много утекло. Оказалось, что такая торговля началась ещё с полгода назад. Просто раньше не обратили, внимания и не спохватились своевременно.
Артамонов через несколько дней, как и обещал, позвонил.
— Кое-кому всыпали за самовольничание, — сказал он. — Так что, будем, соседушки, считать инцидент исчерпанным. Надеемся искупить вину.
Мало ли, помощь понадобится. Учитываете? Ну вот. Лады.
Василий Антонович не любил это хмурое ноябрьское время, когда прошли праздники, когда сократились дни и удлинились вечера, а утром тоже встаешь во мраке, не по солнышку, а по звону будильника. Солнца нет неделями. Низко висит серое тяжелое небо. Из него то падает снег, то льется дождь; а не то пойдут и дождь и снег вместе. На земле слякоть, гололедица. Скользят и падают люди; скользят и чаще, чем в другую пору, натыкаются одна на другую машины. Нервы напряжены. Раздражаешься по пустякам. И так весь взвинчен, а тут ещё сюрпризик этот преподнесли соседи. Василий Антонович доходил бы, наверно, до бешенства, до битья посуды дома, если бы не Соня. Сама иной раз нервничавшая больше, чем следовало, эта верная, умная Соня, когда не ладилось у него, умела отбрасывать все свои неустройства и неудовольствия и все внимание сосредоточивала на нем, на Василии Антоновиче. Она тащила его в театр, в кино. Он упирался, сопротивлялся, но шел. Она приглашала гостей. Он сердился, говорил, что нашла для этого самое-де неподходящее время. Но сидел с гостями и мало-помалу отвлекался от однообразных, заботящих дум. Она шла к нему с бесконечными вопросами, которые и сама могла, без него, разрешить, — лишь бы он отвлекся от своего, назойливого. Она читала ему вслух интересные места, встретившиеся ей в той или иной книжке, рассказывала о посетителях музея, о новых экспозициях, о Чер-ногусе, о его, сказанных кому-нибудь, очередных резкостях.
Соня, Соня… Что бы делал Василий Антонович, как бы жил на свете, если бы рядом не было Сони? Вот так кипишь, клокочешь весь день в работе, как будто бы и нет на свете никакой Сони, забыта Соня, не до Сони. Но это лишь кажется, что ее нет. Если бы ее не было на самом деле, то и не клокоталось бы так и не кипелось. Многое, очень многое — почти все — делается только для нее, из-за нее и во имя нее. С первых дней совместной жизни, что бы ни начинал молодой Денисов, первой мыслью его было: а что об этом скажет Соня? Ему всегда хотелось, чтобы обо всем сделанном им Соня говорила только хорошо, чтобы она одобряла это, чтобы оно ей нравилось. Почему? Во-первых, потому, что он очень любил свою Соню; а во-вторых, — и, может быть, именно поэтому он ее так и любил? — мысли его, желания, стремления удивительно совпадали с мыслями, желаниями и стремлениями Сони. Сначала комсомолка, а затем и член партии, Соня была его совестью. Он никогда не облекал это в сколько-нибудь определенные формулы, но сердцем, душой, всеми чувствами ощущал, что лукавить, хитрить, изворачиваться перед Соней — неизбежно будет лукавством, хитростью и изворотливостью перед самим собою, перед своими убеждениями, будет раздвоением его сущности. Он хитрил и лукавил перед Соней только в мелочах. Зная, как больно реагирует Соня на то, что связано с неприятностями для него, он многое из наиболее неприятного скрывал от Сони; всеми силами стремился он охранять ее от ударов, беречь ее, долго беречь, и сберечь. Дороже Сони у него никого и ничего не было. Ему могли бы задать вопрос: а партия? Он бы ответил: а для меня они, знаете ли, неразделимы. И это не были бы красивые слова. Кто знает, может быть, и коммунистом он не был бы таким, если бы рядом с ним постоянно не находилась его совесть — Соня; может быть, и работник из него получился бы похуже, если бы не постоянное его желание заслужить одобрение Сони, если бы не боязнь, что Соня будет недовольна, что Соня осудит, что Соня в нем разочаруется.
Он не хотел рассказывать Соне о том, что область потеряла довольно много скота. Но София Павловна сама заговорила об этом: кто-то сказал Черногусу, а Черногус передал ей.
— Ты должен сообщить в ЦК, Вася, — сказала она. — Непременно, слышишь?
— Соньчик, это не этично. Он же говорит: хо-тел заменить беспородных породистыми. У нас ведь и правда — скот хороший. А потом, он же разобрался в деле и принял меры.
— Вася, ты рассуждаешь, как купец. Другой купец ему нанес ущерб, они сели в чайной, выпили, закусили и порешили дело полюбовно. Вы не купцы, вы государственные деятели, и ущерб нанесен не тебе, а области, многим людям, государству. Как ты этого не понимаешь!
Он слушал и молчал. В общем, она была, конечно, права. Надо об этом сообщить в ЦК, надо. Но он все-таки этого не сделает, он не может это сделать. Даже, если так советует Соня.
Он подошел к ней, обнял ее, поцеловал в голову, в волосы, пахнувшие чем-то хорошим.
— Соньчик, Соньчик, — сказал грустно. — Не будь кровожадной.
22
С наступлением холодов с Павлушкой стало труднее. Даже и в эти темные утра вставал он довольно бодро, сам хлопотал о своих сборах, чем мог, тем и помогал отцу. Но все-таки он был ещё до отчаяния мал. На него надо было натягивать теплые рейтузы, валенки с галошками, пальтецо на шерстяном ватине, обвивать его поднятый меховой воротник пуховым шарфиком, завязывать под подбородком тесемки шапки с ушами, надевать и уговаривать не терять вязаные рукавички.
Это была долгая и кропотливая работа. Иногда, чтобы помочь Александру, выходила София Павловна; иногда вставала и Юлия. Но только иногда. Обычно же Александр все делал сам. Как он чувствовал себя в этот утренний час, судить можно было по вопросам, которые ему задавал миролюбиво настроенный Павлушка.
— Папочка, почему, как утро, ты такой сердитый? Ты ложился бы пораньше. Ты, наверно, не наспишься ночью?
Превращенный с помощью теплых одежд в неповоротливый тючок, Павлушка еле шагал по улице. Александр хватал его на руки, тащил до автобуса почти бегом.
Но и в автобусах в зимнее время стало хуже. То ли народу в них прибавилось, — летом все-таки речной трамвай помогал, да и пешком кое-кто бегал, или на велосипеде, — то ли из-за теплых одежд, из-за ватных пальтищ, люди увеличились в объеме. Так или иначе, но в автобусах стало очень тесно. Павлушке, правда, местечко посидеть выгораживали. Сочувствовали иной раз и его папаше, расспрашивали: а где же мамочка?
Ни одно утро не обходилось без происшествий: то варежку потеряли, то галошу с валенка; а то и вместе с валенком. Хорошо, если заметят вовремя и выбросят из автобуса вслед. А то и увезут; ходи спрашивай в автобусных парках или покупай новые. А новые — не каждый раз и не сразу найдутся нужного размера.
— Шурик, — глядя на мучения сына, сказала София Павловна строго. — Мы с папой решили пригласить к Павлику няню. Слышишь?
— Прекрасно слышу. Но нянчить она будет тебя с папой, мама. А я уйду. Сниму частным образом комнату.
Он ещё упорствовал. Но силы его понемногу таяли.
И вот пришло такое осложнение, перед которым Шурик просто дрогнул: Павлушка заболел. Простудился и заболел. В одно непрекрасное утро он не смог встать. Измерили температуру: сорок. Вызванный Александром врач сказал, что ничего, в общем, опасного, пройдет, но мальчику придется побыть в постели, и побыть по меньшей мере с недельку. Он выписал Александру больничный лист: освобожден от работы для ухода за больным ребенком.
Александр был ошеломлен. Он не может сидеть дома. С недельку! — это же катастрофа. Идут ответственные дни — на десять дней раньше срока цех решил завершить годовую программу, к двадцатому декабря. Не может он сидеть дома бесконечно долгую неделю. Юлия сказала:
— Ну что ты так отчаиваешься? Когда ты уезжал в Ленинград, я и твоя мать сидели по очереди. Снова посидим. Сегодня я ещё не могу, а завтра…
— А завтра будет: послезавтра! Знаю. Все прекрасно знаю.
А София Павловна решительно заявила:
— Начинаю искать женщину. Понял? Павлушка был непривычно тихий в тот день.
Смирно лежала его светлая головенка на подушке. Глаза были закрыты. Он открывал их по временам — чтобы взглянуть на отца и хоть немного да улыбнуться ему, или когда просил: «Папочка, дай попить». Александр сидел рядом, с книгой, но чтение не шло. Каждый час ставил градусник — а вдруг температура уже снижается? Она не снижалась. Юлия леред уходом в театр сходила в аптеку, принесла прописанные врачом лекарства. Александр позвонил в цех Булавину: так, мол, и так. Булавин сказал, что пусть он не переживает, все будет в порядке, лишь бы поскорее поправился сынок.
Часа в три дня в дверь позвонили. Александр отворил и не мог даже слова сказать — так удивился. За дверью стояли Сима Жукова и Майя Сиберг.
— Извините, Александр Васильевич, — сказала Сима.
— Да, да, входите! Пожалуйста, входите! — Александр засуетился от неожиданности. — Что-нибудь серьезное случилось?
— У нас ничего, — ответила Сима, подталкивая вперед Майю. — Но девочки позвонили, что вы не пришли на работу, что у вас мальчик захворал и вы с ним возитесь. А нам сегодня в ночную смену заступать. Мы и решили навестить вас: может быть, нужно что? Мы все сделаем.
Александр разволновался.
— Нет, нет, ничего не надо, ничего. Спасибо. Большое спасибо.
Майя смотрела на него огромными ясными глазами, того цвета, какой лесные эстонские озера принимают в утренний ранний час, когда в них до самого дна отражается безоблачное летнее небо.
— Если бы вы позволили, — сказала она, — я бы посидела с вашим ребенком. Я очень хорошо умею заниматься с детьми. У моей сестры двое детишек. Позвольте, пожалуйста, я приеду к вам завтра утром?
— Что вы, что вы, Майя! После ночи? Вам же спать захочется.
— Я буду потом спать. Вечером. Вы не знаете мою жизнь. Если бы знали, так бы не говорили. Мы с сестрой перенесли много лишений. Мы очень… Мы очень… — Она искала слово. — Да… — сказала, найдя его наконец. — Мы очень закаленные.
Александр не мог отвести взгляда от ее добрых красивых глаз, ожидающих его ответа; он смотрел на упавшее до плеч белое золото ее волос, на эти крепкие широкие плечи, на руки, большие, с длинными сильными пальцами.
— Вы занимаетесь музыкой? — спросил он неожиданно.
— Да, — ответила Майя просто. — Я могу играть на рояле и могу петь. Моя сестра учит своих детей музыке. Я тоже учусь вместе с ними. Я приду завтра, Александр Васильевич?
— Нет, нет. Спасибо, большое спасибо. Этого делать не нужно, девушки. Что вы!
Они ушли. На прощание Александр попросил их передать всем в цехе привет. Он был взволнован такой заботой, таким вниманием. Для него приход молодых аппаратчиц означал, что он прочно и основательно принят коллективом; и ещё это означало, что он обязан платить коллективу теми же чувствами.
Вечером он спросил Софию Павловну: ищет ли она няньку.
— Да, — ответила София Павловна. — Конечно. Но это не так просто — найти ее. Я рассказала всем своим знакомым. Обещали поспрашивать. Время необходимо, Шурик. Ты сам, милый, немножко виноват, что так долго упорствовал.
Утром, когда он ещё лежал в постели, к нему пришла в халатике Юлия.
— Шура, вставай и отправляйся на завод. Я вижу, как ты мучаешься. Поезжай, поезжай, все будет, как надо, за Павликом будет полный уход. Ты же знаешь меня. У меня в эти дни такая работа, что ее можно делать и дома. Вставай, Шура, не торгуйся со мной.
Но когда он возвратился с завода, Юлии дома не было. Возле Павлушки, одетая в белый медицинский халат, сидела Майя.
— Вы? — сказал он. — Как? Почему? Что это значит?
— Я немножко опоздала утром, — ответила Майя, смущаясь и краснея. — Вы уже ушли. Здесь была сестра вашей мамы. Я сказала ей, что меня прислали из детского сада. Но я не совсем сказала неправду. Я заходила к заведующей детским садом. Она мне вот этот халат дала.
Получалась нелепость. Работницы его участка в ущерб своему отдыху возятся с его ребенком… Что же это такое?
— Майя! — Он был строг. — Вы этого не должны делать.
— Извините, Александр Васильевич. — Майя поднялась со стула. — Я это очень должна делать. Вы сами говорили, что наш участок станет участком коммунистического труда. Значит, мы уже теперь обязаны относиться друг к другу так, как будет при коммунизме.
Александр понял ее маленькую хитрость и улыбнулся. Тогда улыбнулась и она:
— А разве не правда?
— Правда, Майя, правда. Но делать этого все-таки не надо.
Его радовало, что Павлушке было уже значительно лучше, что градусник, как Майя дважды записала на листе бумаги, показывал тридцать семь и восемь и тридцать семь и четыре, что Павлушка уже вовсю возится в кроватке с сеткой. К нему туда были перетащены почти все его игрушки; он сидел среди плюшевых медведей и жестких железных пожарных машин, автобусов, обломков «металлоконструктора» и то и дело звал: «Тетя Майя, тетя Майя!..»
Александр попросил:
— Майя, может быть, вы сыграете что-нибудь? У нас, правда, не рояль, а пианино. И его давно не настраивали.
— Нет, ничего, — ответила она. — Я пробовала. Я играла вашему малышу баю-баю. Хорошо, я, пожалуйста, сыграю.
Майя пошла к пианино, в столовую; Александр поставил стул в дверях, чтобы одновременно видеть и Майю и Павлушку.
У Майи не было техники, играла она любительски. Но вкладывала в игру такое чувство, что пианино негромко и задумчиво пело под ее пальцами. Майя играла незнакомые Александру небольшие и несложные пьески.
У всех в семье были свои ключи от квартиры, никто из Денисовых не звонил у дверей. София Павловна, возвратившаяся с работы, так и застала Майю у пианино и Александра на стуле в дверях.
После появления Софии Павловны Майя пробыла не более пяти минут, попрощалась и ушла, сказав, что ее ждет сестра, что уже скоро и на работу надо. Александр сказал, что проводит ее до автобуса, и, как Майя ни упрашивала его не ходить на улицу, отправился вместе с нею.
— Я ведь завтра все равно приду снова, — сказала Майя мягко, но упрямо, когда они уже стояли на автобусной остановке.
— Я это понял, — ответил Александр. — И хорошо, что послезавтра воскресенье, иначе вы бы свалились сами.
София Павловна встретила его вопросительным взглядом.
— Кто эта златокудрая фея, сын мой? Хотя бы в общих чертах. И как она здесь оказалась? А?
— Это, мамочка, я же тебе сказал: Майя Си-берг, аппаратчица из нашего цеха. А как она здесь оказалась, с этим вопросом ты лучше обратись к своей сестре, к Юлии Павловне.
Оба они, и Александр и София Павловна, дружно набросились на Юлию вечером, едва та возвратилась из театра.
— Я одно тебе скажу, Шурик, — ответила Юлия, — не всему, что происходит с нами в жизни, непременно надо сопротивляться. Так ведь, ненароком, и очень хорошее оттолкнешь от себя. Иногда полезно поплыть немножко по течению.
— Юлия, оставь эти теории при себе, — сказала София Павловна.
Александр не сказал ничего.
Майя пришла, конечно, и назавтра. И, действительно, хорошо, что затем было воскресенье, а к понедельнику Павлушка окончательно поправился, иначе, по мнению и Александра и Софии Павловны, она бы уже не смогла стоять на ногах. Но это только по их мнению; сама Майя утверждала, что чувствует себя прекрасно, а Юлия сказала о ней:
— Чудаки вы! Молодая и крепкая девушка, не изнеженная, выросшая в труде и заботах… Вы даже не представляете запаса ее сил и ее возможностей, уважаемые.
В понедельник Александр свез Павлушку в детский сад и сразу же встретил в цехе Майю: наступила такая неделя, когда Майя работала в дневную смену. Они поздоровались, как старые, хорошие и добрые друзья.
— Я этого никогда не забуду, Майя. Она промолчала.
В тот день Булавин сказал Александру:
— Я иду сегодня к директору. Буду острейшим образом ставить вопрос о ремонте оборудования. Может быть, сходим вместе, Александр Васильевич?
«Он же знает отношения отца и Суходоло-ва, — подумал Александр. — Почему он зовет с собой меня: потому ли, что мне не верит, или потому, что как раз верит?» Его сомнения рассеялись в кабинете Суходолова. Булавин начал там разговор так:
— Я нарочно привел с собой Александра Васильевича. Вы друг его отца, и вы не сможете заподозрить его в том, в чем постоянно обвиняете меня: в петушиных наскоках на вас, в предвзятости, в склочничестве. Александр Васильевич — человек принципиальный, это уже все в цехе по-чувст Еовали. Пусть он меня опровергнет, если я хоть в чем-то неправ, хоть что-то преувеличиваю. Цех надо останавливать. Мы не можем…
— Нельзя его останавливать! — Суходолов поднялся с кресла. — Ни в коем случае. Вы обязались на декаду раньше выполнить годовой план. Вот и выполняйте. И перевыполняйте. А затем… уж тогда… с Нового года…
— Это риск, риск! — Булавин повысил голос.
— Вы пределыцик! — повысил тон и Суходолов. — Напрасно вы притащили с собой инженера Денисова. Вы и его хотите втянуть в интриги, в свою мышиную возню.
— Николай Александрович, — сказал Александр. — Начальник цеха прав, требуя остановки на ремонт. Лучше мы потом наверстаем упущенное.
— Да? Потом? А год закончим с позором? Нет, дружки дорогие! Так большевики никогда не рассуждали. Кровь из носу, а дай то, что от тебя требуют, что ждут от тебя партия и правительствен И я дам продукцию сверх плана, чего бы это и вам и мне ни стоило! Ясно?
— Но это же неразумно. Это просто глупо! — Александр краснел от волнения.
— Тебе рано, Александр, судить старших. Ты же не этот крикун и склочник. — Суходолов кивнул на Булавина. — Я пожалуюсь отцу.
— И я пожалуюсь отцу, — твердо ответил Александр. — Но не как сын, а как член партии и инженер, и не как отцу, а как секретарю обкома и кандидату в члены ЦК.
— Воспитали тебя здесь, Шуренька, воспитали!.. — Суходолов опустился в кресло, с деланным сожалением смотрел на Александра.
— Меня хорошо воспитали. И не здесь. А ещё в комсомоле начали воспитывать. Я бы не хотел, чтобы вы думали, будто только один вы и заботитесь о выполнении планов комбината, будто только вы, и никто другой, в ответе перед партией и правительством. Начиная с уборщицы и самой молодой из аппаратчиц…
— Пожалуйста, хоть ты-то меня не учи. Устал от наставлений. Довольно, будьте здоровы. Идите и работайте. Митинги устраивать не позволю. А не угодно — подавайте заявления и ищите другое место. Оба.
— Это вы должны подавать заявление! — сказал Булавин. — Но никаких мест уже не искать, а идти по-честному на пенсию.
С улыбкой, за которой с трудом скрывалась ярость, Суходолов сказал:
— Прошу очистить помещение! Хамье! Мальчишки!
Уже к вечеру всем начальникам цехов, всем инженерам и мастерам несли, чтобы прочесть под расписку, приказ директора: начальнику цеха № 42 инженеру Булавину и начальнику участка инженеру Денисову Суходолов объявлял по строгому выговору — за безобразное, развязно-недопустимое поведение в его кабинете, и предупреждал их о том, что при повторении подобной выходки оба будут немедленно уволены.
— С боевым вас крещением! — сказал Була-вин Александру, надписывая поперек листка с текстом приказа: «Это директорское самодурство, и больше ничего. Булавин». «Присоединяюсь. Денисов», — надписал и Александр. — Наплевать и забыть, как говорил Чапаев, — добавил Булавин. — А мы на своем все равно стоять будем. Собирайтесь-ка, пойдем в партийный комитет комбината.
23
Юлия сидела возле аппарата обкомовской АТС; из кабинета, занятого Александром и Павлушкой, его перенесли в спальню — на тумбочку к постели Василия Антоновича. Юлия глубоко ушла в мягкое, податливое кресло, в котором любит отдыхать и читать Василий Антонович. С этого места хорошо виден рабочий столик Софии Павловны, на котором уживались рядом и томики собраний сочинений Тарле, и книги Бильбасова, и маникюрный прибор, коробочки с лекарствами, которые Соне прописывают, но она их никогда не принимает, смешные японские фигурки из кости, ножницы для бумаги, клей в баночке.
У Сони, с точки зрения Юлии, монотонная и малоинтересная жизнь, в которой уже не будет ни открытий, ни неожиданностей, все размерено, всё далеко определено вперед, — определено не ее, а Василия Антоновича общественным положением: секретарь обкома в Старгороде, потом может оказаться секретарем другого обкома — в другой области, в другом краю; не исключена возможность, что его возьмут, скажем, в ЦК. Ну, а дальше? Дальше — пенсия. А Соня живет так, будто бы впереди ещё тысячи лет жизни, сотни перемен и возможностей, будто она и ее Василий Антонович только начинают жизнь; у Сони уйма замыслов: работает над докторской диссертацией, пишет статьи в журналы, собирается следующим летом раскапывать могильники в Заозерье; Соня по-своему счастлива. Странно.
Если бы дали полную возможность Юлии, она бы жила не так. Она бы объехала весь мир, Пусть бы мелькали сосны, озера и камни Финляндии, виноградники Франции, сады Ватикана и картинные галереи Флоренции, вырубленные в скалах древние храмы Индии, бумажные домики Японии; пусть бы несли ее по свету комфортабельные многопалубные белые корабли и скоростные самолеты, под которыми бы плыли то красноватые Альпы с белой шапкой Монблана, то синие Гималаи, сплошь покрытые голубыми пластами снега и льдов, то желтые пустыни Африки или темная зелень океанов.
Соня и ее муж воображают, что Юлии нужны только мужчины, много мужчин. Какая чушь! Как и всем, ей нужен только один, один. Но где он? Это лишь дерзкие слова о том, что у нее было двадцать четыре больших любви, а мелких-де она и не считала. Было несколько нелепых историй, оканчивавшихся очень горько. Но совсем не двадцать четыре; и совсем не нужны ей двадцать четыре. Она хотела бы, очень-очень хотела, одну, только одну, — красивую, все охватывающую большую любовь. Но где она, где?
Вот мелькнул этот своеобразный, острый Вла — дычин, секретарь Свердловского райкома, — и что же он так бесследно исчез, что же не оправдывает мнения Сони и Василия Антоновича о том, что за юбкой Юлии бежит каждый, перед кем она тряхнет этой юбкой?
Во всем виновата Соня, виновата, что не дала поговорить, с ним как следует, не дала сказать каких-то таких слов, с которых начинается взаимный интерес, начинается тяга друг к другу. Не первый день подходит Юлия к обкомовскому аппарату, давно запомнила она номер 23–11. Это номер телефона Владычина, в его райкомовском кабинете. Но что и как она скажет, если и наберет цифры 23–11? Одно дело сидеть рядом на диване, покуривая папироски, рассуждая обо всем на свете. И совсем другое — вот снять так трубку…
На этот раз у Юлии есть что сказать. Через несколько дней, в субботу, премьера ее первого в Старгороде спектакля. Надо пригласить его на премьеру — и всё.
Юлия решается, она берется за рычаг аппарата. Но в коридоре звонит другой аппарат, городской, звонит торопливо, суматошно, резко: междугородная. «Вас вызывает Озёрскнй сельсовет».
— Алло! — Сквозь шумы и шорохи, сквозь скороговорку дальних телефонисток слышит она знакомый голос, но не признается, что слышит и что его узнает. — Алло! — кричит Виталий Птуш-ков в трубку. — Юлия Павловна, ведь это же вы. Никто другой в такое время у вас дома не может подойти к аппарату. Ответьте, пожалуйста. Очень вас прошу.
— Алло, — наконец отвечает Юлия. — Ах, это вы, Виталий? Где вы? Откуда?"
— Я в гуще жизни. Приезжайте сюда. Или разрешите к вам приехать? Я без вас не могу. Вся жизнь моя — вы.
— Какие глупости, честное слово! Вы только за этим звоните?
— «Только за этим»! Разве этого мало? Юлия Павловна…
Юлия повесила трубку.
— Пошел к черту! — сказала зло. — Ну что это в конце-то концов?
Уже не колеблясь, она возвратилась в спальню и энергичными движениями пальца набрала 23-И.
— Да, — ответил ей голос, который ещё не был так знаком, чтобы узнавать его и в телефон. — Владычин слушает.
Помедлив мгновение, сказала:
— Здравствуйте, Игорь Владимирович. Это Юлия Павловна.
Возможно, что он не сразу сообразил, кто такая «Юлия Павловна», потому что тоже медлил с ответом. Наконец воскликнул:
— А! Юлия Павловна! Здравствуйте. Что это вас давно не слышно и не видно?
— Но ведь я же не член бюро вашего райкома. Где же вы меня можете видеть и слышать?
— Да, да, вы правы. Правильно. Раньше, чем на очередной районной конференции, мы вас в райком, а следовательно, и в бюро райкома избрать не сможем.
— И тогда не изберете. Я беспартийная, Игорь Владимирович. Это сестра моя — большевичка. А я неустойчивый, неорганизованный элемент.
— Ну, ну, ну! К чему такая беспощадная самокритика? Надо взяться, видимо, за ваше перевоспитание.
— Я трудновоспитуемая. Предупреждаю. Но это все шутки, Игорь Владимирович. У меня к вам есть и деловое предложение. В субботу премьера спектакля, который оформляла я. Ну, декорации, эскизы костюмов…
— С удовольствием бы посмотрел!
— Вот я и звоню, чтобы пригласить вас на премьеру. Сможете прийти?
— Буду стараться. Думаю, что — да. Суббота — день короткий. Очень удачный день для премьеры. Буду, буду, Юлия Павловна. Спасибо.
— Тогда я пришлю вам билеты.
— Мне не нужны билеты, мне нужен билет. Неудобно будет стоять и торговать вторым на паперти вашего театра.
Все складывалось до крайности удачно. Место рядом с ним Юлия оставила для себя. По окончании спектакля, если спектакль, конечно, понравится, зрители могут вызвать на сцену и художника, поэтому к последнему действию надо будет уже уйти за кулисы и ожидать там. Но два первых действия она пробудет рядом с ним.
Юлия раздала десятка два билетов своим знакомым, в том числе, понятно, предложила и Соне с Василием Антоновичем. Но те имели места в особой, боковой, ложе, напротив директорской, и от ее билетов отказались.
Спектакль шел хорошо, принимали его тоже хорошо. В двух местах поаплодировали художнику. Во второй картине, когда открылась ночная синяя река с мерцанием зеленых и красных сигнальных огоньков, с идущим по ней светящимся пароходом, и в четвертой, действие которой происходило на жатве хлебов. Снопы, солнечное небо, дальний лес, весенний теплый вечер — это, видимо, было знакомо и близко зрителям, пробудило в них воспоминания о лете — вспыхнули горячие дружные аплодисменты.
— Знаете, — сказал Владычин в антракте, — откровенно говоря, не этого я ожидал от вас, Юлия Павловна. Я ведь думал, вы такая ленинградская штучка, с несколько западнической ориентацией. Будет, думал, многозначительная мазня и всяческая эквилибристика. А вы реалистка, вы чудесно чувствуете и передаете природу. Как так? — сугубая горожанка! От всей души поздравляю вас с удачным дебютом в Стар-городе! От души!
Юлия была взволнована, обрадована.
— Рано, рано. Подождем конца. Неизвестно ещё, как дальше примут.
Во втором антракте она собралась уходить.
— Только вы не убегайте, — попросила его.
— Я подожду вас в кабинете директора. Хорошо?
— Да, да, хорошо!
Что с ней творилось, что с ней происходило? Это был сказочный день, день сплошных радостей, это был день щедрой отплаты за трудности и горести последних лет. Её вызывали, да. После того как вышел на сцену автор пьесы, старгород-ский писатель Баксанов, смущающийся, краснеющий, старающийся скрыться за спинами артистов, после того как пожали руки актерам режиссер спектакля, а за ним и художественный руководитель, дошла очередь до Юлии. Она вышла неловко, споткнулась обо что-то. Но ей отовсюду улыбались, ей сочувствовали, все прощали, ей были благодарны.
Владычин, как было условлено, ожидал в кабинете директора. Туда уже набилось немало народу. Там шумели, спорили, смеялись. И они вдвоем выскользнули, почти не замеченные никем. Они вышли на людную улицу. Прошли немного.
— Сказать честно, домой идти не хочется. Разгулялся как-то, знаете. Студенческие годы вспомнились. Но и по улицам расхаживать не слишком приятно. Холодище какой! В кафе, что ли, зайти? Было бы дело в Москве, зашли бы. А у нас… Не принято у нас ходить партийным работникам по кафе.
— И напрасно. Я этого не понимаю. Может быть, тогда скорее бы кабацкий дух там выветрился.
— Ну, вот не принято, Юлия Павловна, и не принято. Ничего поделать не могу. Знаете… — Он подумал, подумал. — А вас очень смутит, если я предложу зайти ко мне домой? У меня там мама, старушка.
— Господи! Вы так спешите сказать мне о маме, будто мы в прошлом веке. Идемте, конечно.
Квартира Владычина состояла из двух больших комнат. В одной жила его мать, в другой он. Мать уже спала на кушетке. Владычин ее разбудил, представил ей Юлию и сказал, что было бы очень хорошо, если бы как-то соорудился чаек.
Они сидели затем в его комнате, в уютных креслах возле низкого круглого столика. Юлия осматривалась. Комната была обставлена не без вкуса. Мебель легкая, не громоздкая, но и не стандартная, из хорошего дерева; много книг на полках, несколько тщательно подобранных эстампов на стенах, в тонком ореховом багете.
— А у вас уютно. Это не типично для холостяка.
— Бываю здесь мало, поэтому, если уж бываю, так чтобы отдыхалось хорошо. Ну вот и чай!
Мать Владычииа внесла поднос с чайниками, с чашками, сахарницей, с корзинкой печенья и сухариков.
— Спасибо, мамочка, — сказал Владычин. — Мы уж теперь сами. Ты поди спи. Извини меня, пожалуйста, за беспокойство.
— Не так уж часто беспокоишь, Игорек. Чего там «извини»! Материнское дело такое.
Владычин разливал в чашки. Пили чай. Разговаривали. Поначалу разговор шел, понятно, только о спектакле, об успехе Юлиной работы. Потом Владычин сказал, что и он не чужд искусству, писал в юности стихи, а теперь пишет нечто, о чем всем говорит: записки партийного работника, на самом же деле это роман, большой роман. Посмотрите только! Он показывал толстую пачку листов, исписанных мелким неторопливым почерком. В ней было, наверно, уже страниц пятьсот, не меньше.
— Да, пятьсот тридцать, — подтвердил Вла-дычин. — И ещё будет страниц сто. Громадный труд. Второй год он меня мучает. А я его. Вот так сяду поздним вечером, да и скриплю пером до полуночи. Трудно, тяжело, устаю, недосыпаю. А бросить не могу, большая радость в душе от этого. Хотя, может быть, и дрянь получится.
— Может быть, почитаете? — попросила Юлия.
— Нет, нет, что вы! Еще не окончено. Как же!..
— Ну да, понятно, по старому народному правилу: дуракам полработы не показывают.
Он смутился. Юлия засмеялась. Засмеялся, он. Виновато развел руками.
— Вы знаете, — Владычин перебирал листки, — когда у меня хорошо идет здесь, то, странное дело, и на работе хорошо работается. И наоборот, когда в райкоме дела ладятся, здесь тоже идет успешно. Одним дополняется другое.
— Недаром же говорят, что в том совершенном обществе, которое у нас строится, в коммунизме, искусство станет достоянием каждого человека, и оно органически сольется с производственным трудом. Вы уже вступили в коммунизм, Игорь Владимирович.
Разговор шел концентрическими кругами, касался все большего числа самых разнообразнейших предметов и вопросов. Он много знал, Владычин. С ним было интересно и непривычно. В своих словах, в своих действиях он не был похож на многих других. Он ещё не пытался, как бы невзначай в оживленном разговоре, положить свою руку на ее полное круглое колено, над которым вздернулся подол юбки. Он ещё ни разу не заглянул к ней за лифчик, хотя она и не очень хлопочет о том, чтобы окружать глухой тайной то, что находится за лифчиком. Он ведет себя с нею, как с хорошим, добрым товарищем, он доверяет ей свои мысли, видимо сугубо личные, сокровенные, не предназначенные ни для кого. И от сознания этого почему-то очень хорошо. Она тоже ему рассказывает, рассказывает об Альпах, которые бы хотелось повидать, о Гималаях, о древних храмах Индии и садах Ватикана; рассказывает — и с удивлением убеждается в том, что ее уже совсем не так туда тянет, что ей неплохо и здесь, в этой комнате, окруженной полками с книгами, за этим уютным низким столиком. А он говорит:
— Это же не так трудно сделать. Приобретите туристскую путевку и поезжайте в сады Ватикана или на Елисейские поля. Хотите, я организую вам поездку?
— Да, но ведь это денег стоит, Игорь Владимирович.
— А что же делать? Копить надо деньги. На сберкнижку откладывать.
— А у вас много отложено?
Он засмеялся:
— Я гуляка. Я их прогуливаю на книги.
Она рассказала ему о книгах Черногуса.
— Черногус… — Он подумал. — Интересный человек. Чистый. Ясный. Очень хорошо, что я у вас с ним познакомился. Но о книгах его не знал. Надо бы сходить к нему. Сходим вместе?
— Конечно! — воскликнула она и вдруг застеснялась: почему она так кричит и радуется? Почему она так навязывается Владычину? Может быть, зто уже и есть тот процесс трясения юбкой, о котором говорит Василий Антонович? Нет, нет, перед Владычиным трясти юбкой стыдно, неуместно, пошло. Что угодно, любой грех, — только не пошлость. Юлии взгрустнулось.
— Я пойду, пожалуй, — сказала она. — Третий час ночи. Вам надо спать.
— Я провожу вас. — Он подал ей в передней шубку, тоже оделся, и они вышли на морозную улицу. Он не взял ее под руку, но Юлия чувствовала, что следит за нею, — подхватит и не даст упасть, если она поскользнется. «Хороший, — думала она, — милый, добрый, умный». Все, что было в ее жизни прежде, вдруг исчезло, растворилось, рассеялось. Если бы надо было что-то вспомнить сейчас из прошлого, она бы не смогла, не вспомнила бы. Было только непривычное, была эта ночь под синим звездным небом, скрипучий снег да их торопливые, в ногу, дружные шаги по нему.
У ворот её дома он пожал руку Юлии и ушел по улице обратно. Она выглядывала из-за железной калитки и смотрела ему вслед до тех пор, пока он не свернул вдали за угол.
Дома все спали. На кухонном столе лежал лист бумаги, и на нем красным карандашом Сонина рука вывела: «Юленька, мы тебя горячо поздравляем. Прекрасный спектакль, прекрасные декорации. Жаль, что не дождались, Василий Антонович хотел выпить рюмку за твой успех». Стояли три пустых рюмки: очевидно, Василия Антоновича, Сонина и Шуринова. Четвертая была наполнена — для нее. Юлия повернула бутылку этикеткой к себе: «Черный мускат», — редкое, хорошее вино. Подняла рюмку и с удовольствием, маленькими глоточками, выпила вкусную и ароматную влагу. Вино пахло так, как пахнет хорошо созревший виноград, разогретый жарким днем на солнечном припеке. Оно пахло югом, жизнью, радостью.
Стучал будильничек на стуле возле тахты. Светящиеся его стрелки ползли и ползли по светящимся цифрам. Юлия лежала под одеялом, закинув руки за голову. Уснуть не могла. Никак не спалось. По-разному приходит любовь к людям. Иной раз медленно и крадучись, месяцами, годами, вползает она в сердце человека. А иной раз и так, будто ею выстрелили ему в сердце. В Юлию выстрелили любовью. Она и чувствовала себя, как настоящий раненый. Она крутилась, не в силах найти такое положение, чтобы наконец уснуть. Она вновь и вновь взбивала подушки, перекидывала их то так, то этак. Она сбрасывала с себя одеяло и, озябнув, вновь натягивала его до подбородка. Если бы кто послушал со стороны, то он мог бы поклясться в том, что Юлия даже постанывала слегка, сама того не замечая. Или вот так укладывалась — руки за головой, и думала, думала; но спокойно лежала недолго: снова кручение, взбивание подушек, сбрасывание одеяла. «Смешно, — она пыталась даже смеяться над собой. — Что я — девчонка, что ли, институтка? Тридцать один год! Анна Каренина к этому возрасту давно погибла. Возраст сентиментальности прошел. Ха-ха!» Но «ха-ха» ее было фальшивое, вымученное. Что же делать, что же делать? Что будет дальше? Ну завтра или послезавтра они пойдут к Черногусу смотреть книги. Хорошо. А потом? Ее охватывал страх, что этого «потом» может уже и не быть. Покрутившись в волнении, она все-таки старалась найти что-нибудь такое, что утешило бы. Ну почему, почему не будет? Пойдут к Черногусу, а там ещё можно придумать повод для новой встречи. Лишь бы к Черногусу пойти. Лишь бы не порвалась, пока что до обиды, до слез тоненькая, связывающая их ниточка, лишь бы не исчез он в своих райкомовских делах, не скрылся за своим номером 23–11, который так трудно набирать ни с того ни с сего.
Заснула Юлия только перед, тем, когда Александру уже надо было вставать на работу, и, конечно же, проспала до полудня. Ее разбудил суматошный звонок междугородной станции.
— Гражданку Стрельникову вызывает Ленинград, — скрипучим металлическим голосом прокричала телефонистка. — Ответьте Ленинграду. Ленинград! — говорите.
«Кто, кто?» — хотела спросить Юлия. Но в Ленинграде, — может быть, в кабине междугородной переговорной на улице Герцена, может быть, у себя дома, — ненавистным голосом уже заговорил тот, кто отравил ей два последних года жизни., «Что он хочет, зачем это?» — думала Юлия, почти не слыша его слов. Он звал ее обратно в Ленинград, он понимает, что совершил большую ошибку, понимает, что обидел, ее, он просит прощения, он, если Юлия захочет, немедленно приедет за нею. Он…
Юлия тихо опустила трубку. Междугородная подняла отчаянный трезвон, но она до аппарата уже не дотронулась.
Неужели нельзя, чтобы этого не было? Неужели оно так и будет всегда тянуться, тащиться за нею следом?
На кухне в квартире Денисовых, рядом с газовой плитой, ещё сохранялась старая плита, дровяная. Юлия открыла один, из многочисленных чемоданов, привезенных ею из Ленинграда, достала из него туго набитый портфельчик и пошла с ним к этой плите. Поспешно, не рассматривая, не вчитываясь — потому что, только начнешь перечитывать, наверняка дрогнешь и откажешься от своего намерения — она принялась выбрасывать из портфельчика в топку пачки писем, груды записочек, старые записные книжки и, чиркнув спичку, подожгла ворох белой, розовой, голубой бумаги, от которой, хотя подчас на неё падали и не духи, а слезы, почему-то пахло все-таки духами. Бумага горела, корчилась; обугливаясь по краям, угасала. Юлия ворошила ее медным прутиком, и огонь разгорался вновь. Она продолжала эту работу до тех пор, пока в плите не осталось ни одного бумажного клочка, пока все не превратилось в черные мертвые хлопья. Все. Прошлого у Юлии не стало. Ни письма, ни отчаянные звонки, ни проникновенные речи с тисканьем рук — ничто ее уже не вернет к прошлому.
Снова затрещал звонок междугородной. Юлия начала одеваться перед зеркалом платяного шкафа. В театре сегодня читают новую пьесу. Художественный руководитель сказал вчера Юлии, что и этот спектакль оформлять будет она. Так уже решено.
24
Дальше тянуть было невозможно. Общественность давила, и была она в своих требованиях права. Николаю надо было уходить, и уходить как можно скорей. Звонят и пишут из партийного комитета комбината, ставит вопрос райком, ставит вопрос горком. Горком мог бы и сам решить все без него, без Василия Антоновича, и Василий Антонович был бы рад, если бы решили без него. Год назад так и хотели сделать. Но тогда ввязался он, помешал людям, и те полагают теперь, что без согласия Денисова к Суходолову уже не подступишься.
Александр буквально кипит яростью против Николая Александровича. Он уже сходил с начальником цеха и в партком комбината, и в райком. Дело поворачивалось так, что Василий Антонович играл в нем не очень красивую роль, такую роль, когда даже родной сын должен выступать против родного отца. Все это было не очень приятно, и вместе с тем Василий Антонович не мог не признать, что сын у него молодец. Вот говорят, плохо воспитываем детей: брюзжать они умеют, а работать, добиваться своего, бороться — нет. Об Александре этого не скажешь. Упрямый, настойчивый и убежденный. Главная заслуга тут принадлежит, правда, матери, а не отцу. Это мать, София Павловна, с детских ранних лет учила Александра смотреть на любое явление общественной жизни с точки зрения интересов классов, борьбы классов. «Самое страшное, — говорила она, — воспитать гуманиста-нейтралиста, который на все взирает с так называемых общечеловеческих позиций. Пока на земле есть классы, пока есть угнетение и эксплуатация человека человеком, общечеловеческих позиций, Вася, быть не может. Позиции могут быть только или за эксплуатируемых и против эксплуататоров, или против эксплуатируемых и за эксплуататоров. Одновременно белое и черное быть не может же? В общественной жизни, в политике, в искусстве — во всем, пока на земле есть антагонистические классы, нельзя рассматривать человека и человеческое через прекраснодушные призмы гуманизма вообще». И она никогда не жалела времени на то, чтобы терпеливо разъяснять Александру, ради интересов какого класса совершено в мире это, произошло то, готовится третье. «Пока ты не забыл о существовании классов и классовой борьбы, ты марксист, ты ленинец. Как только ты об этом позабыл, ты просто деляга. Какое-то время у тебя по инерции и может что-либо получаться, но позже все неизбежно зайдет в глухой тупик. Без компаса в океане плавать нельзя. История тоже океан, и океан опасный, грозный. С ним не шути. Поддаст волной и смоет».
За Шурку матери великое спасибо, — семью Денисовых парень не посрамит. Но нельзя не видеть, что дело идет к тому, когда сын и отец вступят в очень острый конфликт. А вступить в конфликт с Александром, значит, конфликтовать и с его матерью, а конфликт с нею — конфликт Василия Антоновича с его собственной совестью.
Василий Антонович приехал на комбинат. Суходолов, секретарь партийного комитета, главный инженер водили его по цехам, рассказывали, показывали. Затем Василий Антонович закрылся вдвоем с Суходоловым в директорском кабинете. Пощелкивало в трубах парового отопления, было тепло; для увлажнения воздуха на особом столике стоял большой аквариум, и в нем, лениво шевеля прозрачными шлейфами пышных хвостов, плавали японские рыбки. По стенам были развешаны графики и таблицы, из которых явствовало, что комбинат неизменно выполняет и перевыполняет планы.
Предстояло нечто тягостное, трудное, неприятное. Василий Антонович медлил. В душе шла борьба. Нет, то, что этот шаг сделать необходимо, Василий Антонович для себя уже решил. Шли размышления о средствах, о тактике, о том, как лучше это сделать.
— Николай! — Он закуривал, должно быть, уже третью папиросу. — Почему ты сам не понимаешь? Почему вынуждаешь других напоминать тебе об этом?
— О чем?
По беспечно-недоумевающему тону, по всему его поведению Василий Антонович видел, что Суходолов даже и не догадывается, о чём идет речь.
— О том, Николай, что тебе надо уходить.
— Как? Куда? — Суходолов медленно поднялся, лицо его стало красным, пальцы с папиросой дрожали. — И ты?.. Значит, единым фронтом?.. Значит, и тебя обработали?.. Может быть, дело в приказе? В выговоре Александру? Но он же связался с этим Булавиным…
— Я не знаю ни о каком приказе, ни о каком выговоре, не глупи, не мельчи, когда дело идет о судьбе комбината.
— О судьбе комбината? — Суходолов рванулся к графикам и диаграммам на стенах. — Смотри! На, смотри! — Пеплом папиросы он мазал бумагу, тыкал рукой в цветные столбики и в круги, в зигзаги черных линий. — Не было случая, чтобы мы… — Он швырнул окурок в аквариум. Вода зашипела. Важные рыбки испуганно метнулись в глубину, в сплетение водорослей. — Нет, этого не будет! Я сегодня же еду в Москву, в министерство. Вы начинаете травлю. Что с тобой случилось, Василий? Кто тебя против меня настроил?
— Ты, и никто другой. Ты хвалишься выполнением планов. Да, комбинат пока их выполняет. Потому что это новый комбинат. Новенький! Он и без директора выполнял бы свои планы. Но, с другой стороны, ты треплешь оборудование, не желая его ремонтировать. С другой стороны, противишься увеличению производительности оборудования, отвергая все рационализаторские предложения рабочих и инженеров. На движение ударников коммунистического труда ты смотришь как на тяжкую необходимость, как на обременительную очередную кампанию. Ты ничего в этом не понял, ты никого в этом не поддержал. Ты против инициативы, ты за тупое исполнительство. Ты стар, Николай, безнадежно стар. Ты должен уйти, уйти сам, уйти как можно скорее.
— В гроб гонишь? — Суходолов выкрикнул это сорвавшимся голосом. — Намыливай веревку.
— Глупости говоришь. От пенсии до гроба далеко.
— Нет, Василий, ты не большевик. Ты партийный чиновник. Для тебя человек ничто. Для тебя нет дружбы… Большевики на каторгу шли за друга, за товарища. Не дрогнув.
— Они даже чужого выносили из огня? Это ты хочешь сказать?
— Да, и это. Большевики…
— Спасибо за напоминание, Николай. Но об этом я никогда и не забывал. И, кажется, поэтому виноват перед партией. Большевики, Николай, прежде всего помнили и соблюдали интересы партии, вот за что они шли на каторгу. А я уже давно делаю противоположное: я выгораживаю тебя вопреки тому, чего от меня требует партия. Ты не справляешься. Да, да, да, ты не справляешься. Ты уже давно и не вожак и не организатор. А почетных, сенаторских, должностей мы ещё не учредили. И думаю, что нужды в них никакой нет. Тебе дадут пенсию, гуляй, отдыхай. В чем дело?
— Ты что, смеешься? Я советскую власть строил, я за нее боролся, я сколько крови пролил, здоровья сколько отдал, — и что, за это за все меня в сторону, а вы, молокососы, жар будете загребать?
— Положим, я уже не молокосос, Николай, Через какой-нибудь десяток лет, может быть и раньше, и я должен буду уступить дорогу более молодым и по тому времени более современным.
— Ну и валяй, валяй! Кроите, как знаете, все, но после меня, после! А мне дайте умереть на своем большевистском посту. Дайте умереть спокойно.
— Запел, знаешь, Лазаря! Умереть, умереть!.. Словом, так, Николай, или ты немедленно подаешь заявление, или я принимаю свои меры. Перед тобой я ни в чем не виноват, а перед партией — очень.
Суходолов руки ему на прощание не подал, провожать не пошел.
Возвратись в обком, Василий Антонович позвонил в Москву, министру химической промышленности, рассказал все по порядку и попросило том, чтобы, если в течение нескольких дней не будет заявления от Суходолова, министерство действовало бы и без его согласия. Замена Суходолову есть на месте, есть отличный специалист, знаток производства, нынешний главный инженер. Министр был полностью согласен с Василием Антоновичем. Он сказал, что министерство давно настроено заменить Суходолова, но все утверждают, будто секретарь обкома Денисов горой стоит за него. Василий Антонович промолчал, повторил просьбу.
Вечером Суходолов примчался к Софии Павловне.
— Он что — взбесился, твой Васька? Самому, должно быть, не по плечу работка. Дело не идет, вот он и бесится, хочет отоспаться на других.
София Павловна не выносила пренебрежительного тона в разговорах о Василии Антоновиче.
— Николай Александрович. — Она выпрямилась перед ним. — Очень вас прошу в таком тоне о Василии Антоновиче не разговаривать. Иначе мы очень жестоко поссоримся.
Он притих на минуту. Сидел у стола красный, взъерошенный, разглаживая ладонью свое круглое лицо, тяжело дышал. София Павловна молча налила из графина и поставила перед ним стакан воды.
— Что же я скажу своим детям, Соня? — Он перевел на нее тоскующие глаза. — Один на севере сидит, на льдине, Ленька-то, гидролог… Рано или поздно узнает и там. Другой, Михаил, в Ленинграде — до него сейчас же дойдет. Ну что я им скажу? Я же их учил жить. Я учил их любить родину, внушал им, что служить родине надо до последнего часа жизни, до последнего вздоха, и вдруг сам, на их-то глазах, заделаюсь дачником, начну клубнику выращивать и стоять с безменом на базаре, среди баб-спекулянток. Да ты что, Соня, в уме?
— Зачем же такие крайности? Вы всегда, Николай Александрович, можете найти другую работу, на которой бы от вас не зависели тысячи людей, поспокойней…
— А я не желаю спокойней. Я всю жизнь на людях, и среди людей, и для людей. Ясно? — Лицо его вновь налилось кровью, вновь он смотрел на Софию Павловну зло, непримиримо, в упор.
— Вот поэт здешний, Птушков, уж такой был знаменитый в городе, такой, казалось, невозможный для воспитания, для каких-то внутренних перемен, и тот нашел себе место, — сказала София Павловна. — Он поехал в деревню. Увлекся и сейчас налаживает культработу в колхозе «Озёры». И, говорят, очень доволен. А то мотался по городу, заводил интрижки, опускался на глазах.
— С кем ты меня сравниваешь, Соня? — С каким-то сопляком. Обидно слушать! Может быть, вы с преподобным Василием Антоновичем хотите, чтобы я тоже в колхоз отправился? Маком, братцы, маком! Поздно меня в колхозы отправлять. Бывал там. В тридцатых годах. Вот так! Сам их организовывал. Для поэтика вашего, для недоросля, это, может быть, техникум или целый университет. Не знаю его образования. А для меня подготовительный класс. После моей жизни в приготовишки не ходят. Знай, Соня, меня так просто не возьмешь. Я буду драться, что лев. Я завтра же еду в Москву. Мы ещё посмотрим, чей будет верх.
София Павловна смотрела на этого человека, негодовала от его слов о Василии Антоновиче. Но вместе с тем ей было его и жаль. Она отбрасывала сентиментальные рассуждения о том, дескать, что если бы не Николай Александрович, то у неё уже не было бы ее родного Васи; она не сомневалась в том, что, если бы ранен был Суходолов и его обнаружил бы Вася, то Вася поступил бы точно так же, как поступил Суходолов. Не в этом дело. В другом. В том, что он и в самом деле десятки лет был среди людей, жил для них, работал для них, заботился о них. И вдруг завтра должен будет запереться у себя дома и видеть жизнь лишь сквозь стекла окон или, сидя на скамейке в скверике, среди нянек и таких же, как он, вышедших в тираж стариков. А что делать, что? Шурик тоже вот почти каждый день негодует против Суходолова. Владычин как схватился тогда с Николаем Александровичем.
Она вспоминала другого Суходолова, того, послевоенного, энергичного, боевого, жизнерадостного. Может быть, в ту пору она многого не замечала? А сейчас, оглядываясь на прошлое, уже с высоты большего жизненного опыта, София Павловна склонна была и эту постоянную веселость его, и кипучую энергию, которая далеко не всегда давала результаты, рассматривать более зрело и трезво. Сильным работником Николай Александрович не был никогда. Он был видным, заметным, действовал эффектно, броско, и это создавало ему репутацию. Он не умел работать кропотливо, усидчиво, не умел организовывать людей, направлять и подправлять их так, чтобы малозаметная эта, тяжелая работа сказалась в полную силу позже. Ему надо было шуметь, греметь, красоваться, любоваться своими успехами. Конечно, и такой тип работника возможен, иной раз он даже полезен, необходим. Но вот не всегда, — наступает момент, когда это оружие устаревает. Три тысячи сто с лишним лет назад в Грецию вторглись дорийцы. Ахейцы не знали, железа, у них не было мечей, они знали только бронзу и делали из нее кинжалы. Дорийцы пришли с железными мечами. Длина мечей и качество металла, из которого они были выкованы, решили схватку: ахейцы сошли с арены истории. Длина мечей — то есть совершенство оружия всегда решало и решает дело, — оружия военного, оружия идейного, идеологического, оружия организаторского, — любого. Надо вовремя перевооружаться, или…
Николай Александрович бряцает бронзовыми клинками. Сказать ему об этом, — он не поймет, он обидится, начнет ссылаться на ордена, которые хранит в красных коробочках в письменном столе, на трудовую книжку, испещренную записями былых благодарностей, будет называть адреса, где работал когда-то, и имена известных людей, с которыми не только работал, но которые были его учениками. Ну и что? Жизнь безжалостна к тем, кто от нее отстает. Можно продолжать носиться с прекраснодушными идеями, но если родились, быть может, менее прекраснодушные, зато более жизнетворные идеи и овладели массами, ты останешься смешным одиночкой, маньяком, и только; жизнь прогрохочет вперед, без оглядки на тебя. Не пыжься, не воображай, что можешь остановить, задержать ход истории, всегда иди с людьми в ногу.
Вышел из кабинета Александр, поздоровался с гостем и ушел обратно, затворил дверь. Хотел, видимо, принять участие в разговоре, да раздумал.
— Так вот, Соня. Буду драться, что лев, — повторил Суходолов. — А где он, Василий? Уже девятый час.
— Москва запросила материалы к пленуму ЦК. Сидят, готовят.
— Да, пленум на носу, — сказал Суходолов. — По вопросам сельского хозяйства. Вот бы и нажимал на деревенские дела, а, то… Брал бы пример с Артамонова. Вот где работают! Год заканчивают блестяще. Рост поголовья, рост, удойности, сотни новых ферм, урожайность хорошая… В общем так, Соня. Ты ему скажи… скажи, чтобы не глупил. От него зависит, как со мной будет. Слышишь?
— Нет, я этого не скажу, Николай Александрович. И от него это больше уже не зависит. Мне | очень жаль, но…
— Ясно, ясно. Сверхидейный муж, сверхидейная жена. Второе особенно опасно, Я пошел. Желаю святому семейству здравствовать.
Уже надевая пальто, Суходолов столкнулся с пришедшей с мороза Юлией. Щеки у нее были розовые, свежие, а глаза усталые, грустные.
— Вот человек, который ходит всегда по земле, ступая на всю ступню! А не тянется вечно на цыпочках. — Суходолов пожимал ее холодную руку. — Махнем в ресторанчик, может быть? Нам терять нечего, мы гонимые…
Юлия с удивлением отняла у него руку.
— Кто же вас гонит, Николай Александрович?
— Свою сестрицу спросите.
Юлия видела, как делает ей знаки глазами Соня: дескать, перестань, не ввязывайся в разговор, пусть уходит. Но Юлия, сбросив шубку, развязывая шарфик, спросила:
— Ну сказки, Сонечка, в чем дело?
— Ничего Сонечка вам, Юленька, не скажет, — перебил Суходолов. — Ваш любимый зять… или кто он вам?.. Василий Денисов… Он желает отличиться и, заигрывая перед крикунами, задумал принести в жертву меня.
— Это ложь! — воскликнула София Павловна, — Это отвратительная и бессовестная ложь.
— Это правда. А правда всегда глаза колет! — ответил Суходолов резко.
— Простите, Николай Александрович, — сказала Юлия. — Я не знаю, о чем у вас речь, но ни в какие низкие побуждения Василия Антоновича я поверить не смогу. — Она шагнула мимо Сухо-долова к скрылась в своей комнатке.
Суходолов пожал плечами и хлопнул за собой дверью. Как только он ушел, все — София Павловна, Юлия и Александр — собрались в столовой.
— Он такие мерзости говорил об отце, — сказал Александр, — что я хотел выйти и отсо-бачить его, и даже… Жаль, что он старше меня.
— Его надо понять, Шурик, — ответила София Павловна. — Он переживает критический момент своей жизни.
— Не понимаю, в чем дело? — Юлия вопросительно смотрела на Софию Павловну, — На пенсию, что ли, его отправляют?
— Приблизительно. Просят освободить директорское место.
— Но он ещё прекрасно ухаживает за женщинами. — Юлия рассмеялась. — Какой из него пенсионер! На таких ещё можно пахать.
— Я ему и сказала про колхоз. Он так взорвался!..
Приехал Василий Антонович. Сели пить чай. Василий Антонович был хмурый, неразговорчивый. Только, когда София Павловна налила ему второй стакан, он снял галстук, расстегнул пуговку воротничка, спросил, обращаясь к Александру:
— Ты что, какой-то выговор уже успел получить?
— Дошло, значит, и до тебя? Да, получил. За непочтительность к старшим. — Александр стал рассказывать о том, как ходили они с Булавиным к Суходолову.
— Зачем же от отца скрываешь?
— А что, я тебе про всякую чепуху буду рассказывать. У тебя и своего, наверно, хватает.
— Вася, он здесь был. Только что, — сказала София Павловна.
Василий Антонович понял, конечно, о ком речь. Он спросил:
— Безобразничал?
— Что ты! Мне его стало очень жаль, Вася. Может быть, ему подыскать другое местечко. В самом же деле: всю жизнь человек работает, работает, работает… И вот тебе — благодарность.
— Будем думать, Соня, будем думать. Нехорошо это все, неприятно. Но ты мне верь — другого выхода нет.
— А я, Вася, и не сомневаюсь.
Василий Антонович встал, принялся ходить от стола к окнам, от окон к столу. Все наблюдали за ним, все понимали, как тяжело дается ему история с Николаем Александровичем. Да, конечно, позиция Суходолова куда красивей, чем позиция Денисова. Суходолов спас жизнь Денисову, и вот, поправ не только фронтовую дружбу, скрепленную кровью, но и чувство простейшей благодарности, Денисов снимает с работы Суходолова. Кому ни скажи, каждый пожмет плечами, скажет: «А чего вы хотите! Рыцарские времена прошли». Все понимали, какая тяжесть на сердце у Василия Антоновича. И даже Юлия, с ее противоречивыми, сложными, путаными отношениями к нему, и она готова была — неизвестно только чем? — помочь Сониному мужу, разделить с ним его душевную тяжесть.
— Юлия, — сказал Василий Антонович. — Тебе привет. Видел его сегодня. Подходит, привет, говорит, Юлии Павловне. Успела-таки, а?
— От кого привет, Василий Антонович? Кто подходит?
— Ну кто? Владычин, конечно.
Юлия вспыхнула. У нее даже шея покраснела.
— Ну, ну! — Василий Антонович заметил это. — Извини, не буду.
Юлия вскочила и ушла.
— Не очень я удачно, кажется, высказался. — Василий Антонович был искренне огорчен. — Вот чудачка! — Он снова походил. — Там сложная ситуация. Владычин мне рассказывал как-то: только, мол, женился, а тут война, жена исчезла, нет ее и по сей день. А вновь жениться не может. Некогда, говорит. С человеком посидеть некогда, не только какие-то чувства ощутить… Паренек он, ты, Соня, наверно, сама заметила, изрядно заносчивый, но не глупый, не глупый. В районе к нему, отношение хорошее. Шла бы Юлька за него. Кончилась бы ее неврастения, неупорядоченность. Он что-то пишет, она рисует, оба — служители муз, общий язык нашли бы. А главное — баба она энергичная, решительная. Он говорит — единственно, на что у него хватит времени, это успеть сказать: выходите за меня замуж. А на выслушивание ответа останется только тридцать секунд. Юлия самая подходящая для него пара. Ей и тридцати секунд будет много.
— Вася, ну что ты, честное слово! — София Павловна тоже покраснела — обиделась за сестру. — Уж ты о ней так говоришь, так думаешь, будто бы она…
— Да, да, она именно то, что ты не договорила, Соня.
— Перестань, перестань! Или я рассержусь. И очень рассержусь.
— Шурик, ты веришь, что наша мама способна очень рассердиться?
— Что ж, минут пять тут будет такое бомбометание, такой ураганный огонь…
— Бессовестные вы оба! — София Павловна запустила в Александра салфеткой. — Чего только я от вас не терплю!
25
Виталия Птушкова поселили у вдовы Наталии Морошкиной. Изба, как Птушков назвал ее дом, была у Морошкиной большая. Молодой плотник Илья Морошкин, вместе со своим батей, плотником, и двумя старшими братьями, тоже шедшими по отцовской линии, срубил ее за год до войны, перед тем как жениться на красивой двадцатилетней Наталии.
Середину избы занимала, как водится, русская печь. На улицу, тремя окнами, смотрелась горница. В горнице к печи была примазана лежанка. Четвертым окном на улицу выходила комната-боковушка. Была ещё в избе кухня, отгороженная от горницы дощатой стенкой, и каморка — проход из кухни в боковушку. Полы в горнице были гладкие, крашеные; перед окнами на табуретках стояли в кадушках темнолистые раскидистые растения; хозяйка именовала их китайскими розами. Был и стол, накрытый зеленой плюшевой скатертью, были венские стулья, была ножная швейная машина, тоже накрытая зеленым, но не плюшевым, а вязаным, было трюмо с попорченной, в рыжих пятнах, амальгамой, и на стене мирно тикали ходики. Под ходиками стояла деревянная домодельная кровать со множеством — пирамидой — подушек.
Радушная хозяйка отвела квартиранту горницу, а для спанья определила свою хозяйскую кровать. Сама она перебралась на жительство в каморку.
В первый же день, едва распаковав чемоданы, Птушков улучил минуту, когда в доме никого не было, и с интересом осмотрел все помещения. На кухне тоже был, конечно, стол, были лавка у оконца и табуретки. Был узкий буфетик со стеклянными створами, были полки с посудой. Возле входной двери, на стене над кадушкой, висел медный умывальник. На печном шестке стояли чугуны и кастрюли.
В каморке, куда на большой сундук перенесла свою постель хозяйка, было тесно, тепло и сумеречно. Свет проникал сюда через плотные занавеси с кухни и сквозь дверные щели из боковой комнатки.
Отворил дверь в боковушку, увидел у стены железную кровать, застланную белым пикейным одеялом; над кроватью — полки с книгами, возле окна на улицу — столик вроде письменного; на гвозде в углу — гитару с пышным алым бантом на грифе. Пол, как в горнице, был крашеный, но покрытый ещё и лохматым ковриком из цветных тряпочек. Пахло не то дешевыми духами, не то пудрой или кремом для лица.
Были в избе сени, были кладовки; из сеней ход вел во двор.
Обтрогал печку со всех сторон. Тёплая штука и, должно быть, надежная: на дворе мороз шестнадцать градусов, а в доме теплота, уютно.
Птушков ещё не жил в деревне. Родился он в Старгороде, учился в Старгороде; случалось, ездил к родственникам в Москву и в Ленинград. Бывал в Киеве, в Сочи, в Высокогорске. Деревни видел только из окон поезда: умилялся на белые украинские хатки, на крытые соломой кирпичные или бревенчатые домишки под Курском и Орлом. Изба Морошкиной, сложенная из толстых сосновых стволов, прочная, что крепость, его поразила. Ему в ней нравилось, определенно нравилось. Мельком посмотрел на хозяйкину дочь — Светлану, которая никогда не видела своего отца, потому что родилась за три дня до начала войны и за пять — до того, как отец ее, Илья Морошкин, навсегда ушел из дому. Да и сама хозяйка была ещё неплоха. Тридцать восемь лет, здоровая, крепкая, лицо молодое, круглое, румяное, глаза острые. А бедра и грудь!.. Птушков, как взглянул, так и косился на них — до тех пор пока Морошкина не сказала: «Ну располагайтесь, молодой человек, по-свойски, по-домашнему. А мне на ферму пора. Вечерняя дойка. Вот ключ, вот замок. Хозяйствуйте».
В первую ночь поэту долго не спалось. Он думал, думал и думал. Другого пути, как только заехать сюда, у него не было. С той доброй, любящей девочкой, о которой Юлия Павловна сказала: «Куколка», иначе не разделаться. Уйти-то к родителям она ушла, но каждый день приходила к нему плакать. Он уже не мог ее больше видеть. Он мог думать только о Юлии, о Юлии Павловне. Юлия Павловна его мучила, Юлия Павловна его дразнила. Юлия Павловна почему-то считает его мальчиком, она никогда не говорит с ним всерьез.
Но он без нее все равно не может, он добьется, добьется ее. Ей смешны его стихи, но ей не будет смешно, когда он напишет честную большую поэму о судьбах народных, (широкое эпическое полотно. Она хочет от него хороших стихов, — хорошие стихи будут, будут назло всем.
Птушков размышлял о тех, кого считал своими врагами, — о Баксанове, Огневе, Денисове, о поэте Залесском, о художнике Тур-Хлебченко, о всех, кто пытается его чему-то учить, кто самонадеянно берется его воспитывать. Это примитивные люди, с мелким интеллектом, люди, которые сделали себе шоры на глазах из того, что они называют партийностью, и видят поэтому только прямо перед собой, мир вправо и мир влево для них уже не существует.
Когда-то он состоял в комсомоле и вышел из него. Его враги объясняют это тем, что он разгильдяй, не платил, дескать, целый год членские взносы, и так далее. Но он вышел из этой организации совершенно сознательно. Партийность для художника — ограничение его мира. Художник должен быть абсолютно свободен. Он совесть народа, он голос народа. А народ не однолик, народ — организм с миллионами лиц и сердец. В один устав и в одну программу стук этих сердец не заключишь. Да, он напишет поэму о народе. Но так напишет, чтобы у тех, кто будет ее читать или слушать, перехватывало дыхание от избытка чувств. Это будет картина подлинной народной жизни, со всеми ее горестями, со всеми радостями. Только правда, одна правда питает высокое, непреходящее, истинное искусство. Человеческая правда не в тех домищах в семь или восемь этажей, которые строятся сейчас по всей стране бешеными темпами, а в этих тихих, дремотных избах; не реактивные самолеты выревы-вают правду турбинами, а выстукивают ее позеленевшие от времени маятники старых ходиков; не вельможи Денисовы и Огневы и не их прислужники Баксановы и Тур-Хлебченки несут знамена правды, а такие вот, исплакавшие себе глаза, вдовы, вроде той, что спит сейчас на сундуке в каморке за печью.
Он прислушивался к ночной тишине. Не было в ней ни звона трамваев, ни топота грузовиков, ни крика сирен «скорой помощи», ни внезапного истошного вопля запоздалого пьяницы. Только тикали ходики над головой, да ещё было что-то такое, что можно была принять и за шорох ветра в сенях, и за мерное дыхание спящей хозяйки. Птушков напрягал слух: да, конечно, это дыхание женщин — матери и ее дочери. Он старался увидеть их обеих сквозь печь, сквозь стену. Ему хотелось поймать, ощутить тревожный, волнующий незнакомый запах тех комнатушек.
Он уснул только тогда, когда досчитал в уме до двух с чем-то тысяч. Уснув, увидел Юлию. Он обнимал ее, обнимал горячо, страстно, но она превращалась то в тоненькую и нервную, что молодая зеленая веточка, хозяйкину дочь, то в самое хозяйку, жаркую и мягкую, то все они вместе уходили от него в студеную густую метель.
Проснулся от холода. Одеяло сползло на пол. Встал, потрогал печку — совсем холодная. Крашеный пол — ледяной.
Пошел шарить в сенях, на что-то натыкался, ударялся коленями. Чего искал, не нашел. Вернулся в горницу, оделся, снова вышел в сени, затем во двор, и там в углу отыскал дощатую будочку. В нее задувало, под жиденькую дверцу лезли, облизывая пол, длинные языки снега.
Больше уже не спалось. Зяб. Встала хозяйка, принялась колоть дрова. Затрещали щепки на шестке, мерцающий свет желтого огня проникал в горницу. Понемногу становилось теплее. Завозилась хозяйкина дочка за стеной, потом забря-кала медным умывальником. Обе женщины непрерывно уходили и тотчас вновь приходили. Хлопала дверь из кухни в сени, и с каждым ее хлопком в горницу врывалась волна холода. А в окнах ещё было темно; не было и семи утра.
Встал разбитый, измученный. Женщин уже не было, ушли. Отправился в столовую, которую ему с вечера показывал председатель колхоза Соломкин. Есть не хотелось. Лениво и вяло жевал вареную баранину, пил жидкий чаек. Потом пошел разыскивать Соломкина, чтобы условиться о своей жизни в колхозе.
— Все в вашей воле, дорогой товарищ, — сказал ему Соломкин. — Что найдете нужным, то и делайте. Мы писателей уважаем. Писатель — первый помощник партии. Есть у нас клуб, — пожалуйста. Есть библиотека, — пожалуйста. Есть, сами знаете, картинная галерея, — пожалуйста. Есть народ молодой. Самодеятельность у них что-то не очень получается. Захотите помочь, — пожалуйста. А если думаете материал для книг собирать, — тоже трогать не станем, не потревожим, — пожалуйста. Мой вам совет: найдите секретаря нашего партийного бюро, товарища Никешина, с ним полный, подробный план действий составите. У вас материальное-то положение как? Можно ведь и на трудодни вас посадить, а можно и на зарплату.
— Да есть пока деньжата, — ответил Птушков. — Недавно сборник стихов вышел. Десять тысяч строк.
— По рублю за строчку, что ли? — Соломкин хотел, видимо, показать свою осведомленность в гонорарных вопросах.
— Побольше, — ответил Птушков уклончиво.
— Ого! — Соломкин изумился. — Доходное, значит, дело.
— Расходов, во всяком случае, больше, чем доходов. Имею в виду расход нервной энергии.
— Понимаю. — Соломкин вздохнул. Может быть, вспомнился ему выговор, который получил он от председателя райисполкома за увлечение живописью. — Охота пуще неволи.
Птушков нашел Никешина. Вместе осмотрели клуб, просторный, удобный по расположению помещений, но запущенный и неуютный. Заведовала клубом девушка, почти девочка, Настя Белкина, она же была и библиотекарем. Книг у Насти в библиотеке было много, но порядка там Птушков не увидел никакого..
— Придется нам с вами этим заняться серьезно, Настенька, — сказал он, оглядывая девушку со всех сторон.
— Что ж, помогайте. Будем только рады. У нас ещё ни один писатель не бывал в колхозе. Нам всем очень интересно. — Белкина радостно улыбалась.
Никешин на улице сказал:
— Это она верно. Весь колхоз вами интересуется. Книгу про нас писать будете?
— Возможно, возможно.
— Написать есть о чем. Народ у нас золотой. Вот хозяйка ваша, Наталья-то Морошкина… Зав молочной фермой. У нее удои — из первых по области. Орден «Знак Почета» имеет, медаль «За трудовую доблесть», дипломы, грамоты… А это ещё при том, имейте в виду, что с механизацией на ферме у нас дело плохо. Вот «Третьяковку», как народ называет, соорудили. А на скотных дворах даже автопоилок нет. Налаживаем сейчас. К нам, вроде вас, один инженер из Старгорода ездит, товарищ Лебедев. Тоже человек с головой. Полюбопытствуйте. Свое инженерское дело на заводе делает, а к нам сверх всяких лимитов времени катит. Сейчас он-то в отъезде. А бригада его работает. Слесаря, монтажники. В Старгород уехал. Чего-то не хватает, железа какого-то. Но он достанет, он такой. К марту, говорит, все будет — и автопоилки, и подвесной транспорт, и с кормами механизация. Кое-что сами закупили. Кое-что завод изготавливает. Смычка города с деревней! — Никешин хорошо улыбнулся. — Не курите? — Из кармана черного полушубка с выпушкой он достал кожаный кисет, предложил.
Птушков неумело, просыпая табак, порвав бумагу, кое-как свернул самокрутку.
В тот вечер, нагулявшись по морозу, продрог-нув в своем городском коротком пальтишке и в ботиночках, ок рано забрался в постель. Почти не философствовал, уснул с неведомой ему до этого быстротой.
Шли дни, мало-помалу Птушков осваивался в колхозе. Одну из клубных комнат он занял под свой кабинет. Добился того, что клуб стали отапливать.
— Послушайте, товарищ начальник, — говорил он Соломкину. — Вы же деньги на ветер пускаете. Десять печек, — они, знаете, сколько дров за зиму сожрут? Поставьте котел, проведите трубы с батареями. Котлы в городе продаются. Очень экономичные. Каждый дачевладелец себе котел и центральное отопление ставит. А вы печки топите. Это же каменный век! Котел торфом топить можно. У вас торф кругом. Пожалейте леса свои.
— Котел можно, котел будет. Но не сразу, — ответил Соломкин. — А пока вот дровишки. Если в случае чего, Насте Белкиной подайте знак, молодняка своего наведет — по ней враз четверо парней сохнут, — напилют, наколют, натаскают. Так у нас дело делается. Штатных единиц на то, чтоб каждый плевок подтереть, не заводим. У нас и добровольно трудятся.
— А материальная заинтересованность?
— Не в каждом деле она полезна. Производство — одно, а культурная работа — другое. Одна дура своему мальчонке по трояку за каждую отметку… если отлично, если «пять» то есть, принесет… Она, говорю, по трояку за это платила. Уж до того балбес дошел: мать чихнет, с нее тоже рублевку требует. «А за что же, сыночек?» «Да я ж тебе «будь здорова» сказал». Свихнулся парень. За «будь здорова» — целковый, за отметку — трояк, шевельнул ногой — десятку, лопату с земли поднял — четвертной. А мы же коммунизм строим, когда труд — потребность, удовольствие. Хорошенькое удовольствие, ежели за него деньги гребешь лопатой!
— Это у вас чисто хозяйственная, председательская точка зрения. За труд все-таки, и верно, платить надо.
— За труд. А не за клуб. Клуб дело такое — к нему всей душой человек тянуться должен. Тогда только он клуб, когда человека силой от него не отгонишь.
Хотел было Птушков за Настей Белкиной приволокнуться. Но председатель правду сказал, вокруг нее всегда кто-нибудь из четверых ее ухажеров вился. С одной стороны; это было очень удобно: все, что надо в клубе, в библиотеке, всегда будет сделано. Но и нескладность с этим немалая: никогда девушка не бывает одна.
Купил в сельмаге валенки и полушубок — как у Никешина, такую же лохматую шапку с ушами. Мог гулять по селу, не ежась и не торопясь поскорее под крышу, к печке. Ходил в лес, к обрывам над замерзшими снежными озерами; пробирался к ним меж сосен и елей по глубокому снегу, едва не черпая его высокими валенками. Видел чьи-то следы, но не понимал, чьи — может быть, лисьи или волчьи, а может быть, беличьи или ку-ницыны, — кто же их знает? Звериные, словом. Видел раз лося. Стоял рогач и объедал ветви с куста. Не стал его тревожить, замер за сосной, долго смотрел на большущего сильного зверя, любовался им.
Начал захаживать по вечерам в чайную. Официально она была открыта до девяти. Но, заперев двери с улицы, в нее впускали со двора ещё и в десять. Из спиртных напитков в буфете были только разноцветные наливки да ещё было шампанское. Но бутылки с ними так и стояли на полках, нетронутые. Водку посетители приносили с собой, выливали ее из бутылок в пузатые белые чайники, — и получалось, будто бы кипяточек попивают, крякая после каждого выпитого залпом стакана и торопливо заедая его грибком или селедочкой.
В чайной возникали споры, диспуты, перебранки. А чаще за столами текла мирная беседа про все, кто что знал. Стоило городскому писателю появиться в чайной, его непременно начинали расспрашивать про писательскую жизнь. Верно ли, что у такого-то писателя сто миллионов на сберегательной книжке? А верно ли, что такой-то вообще денег не считает, правительство определило ему открытый счет — бери из банка сколько хочешь? А над чем работает сейчас такой-то? А почему не видно, не слышно такого-то? — выпустил после войны книжку, и на этом точка. Были и другие, которых интересовало: а как это пишут, как что придумывают? Или все из жизни? Ну, а с чего начинают, ну как вот начало получается? Даже старики не были равнодушны к писательской жизни, к делам литературы. По-своему, по-разному, но дела эти занимали всех. Терпеливо объяснял и разъяснял Птушков, отвечал на десятки вопросов. Попытался было почитать свои стихи. Слушали вежливо, тихо, но и реагировали только из вежливости: «Да… вот как… что ж!..» Огорчился, решил, что слушатели, видимо, не доросли до понимания настоящей поэзии. Его стихи рассчитаны на людей с тонким восприятием, с воспитанными, развитыми чувствами. А тут народ был неинтеллектуальный, огрубевший в борьбе с природой, сухой.
Он, в свою очередь, расспрашивал посетителей чайной о их жизни, о их желаниях и думах. Высказался однажды о русской печке — какая в ней заключена поэзия и какая животворная сила: печка греет, печка кормит, на печке можно спать, на печке люди родятся.
Посмеялись, сказали: это хорошо вот так, из города на время приехав, умиляться. Русская печка, верно, была великим изобретением народа. Но, дорогой товарищ, бери печку нашу вместе с избой, дай нам добрую городскую квартиру с водопроводом и газом. Меняем, не задумываясь; в придачу ещё и корову с поросенком получишь, коромысла и ведра, чугуны и вилы, решето и толкушку.
Однажды в чайную зашел широкоплечий человек в черном полупальто с барашковым серым воротником, в такого же меха высокой шапке, в белых, обшитых коричневой кожей бурках. По тем приветственным восклицаниям, какими его встретили, Птушков понял, что это тот самый инженер Лебедев, который занимается механизацией животноводства в колхозе. Присутствующие в чайной их познакомили.
— Очень рад, — сказал Лебедев. — Они здесь — черти дремучие. К ним культуру пожарным насосом качать надо. А мы, как известно, шприциком ее вводим. Что, неверно говорю? Засмеялись. Кто-то сказал:
— Верно или неверно, но и от истины недалеко.
— Так что очень хорошо, товарищ Птушков, что вы здесь. Может быть, вокруг вас этакий вен-тиляторчик заработает, воздух освежится. Только за ихними девками не вздумайте бегать. Это же чертовки, русалки.
— Особенно вдовы! — снова сказал кто-то, и после этого смех стал всеобщим.
Лебедев ухмыльнулся.
— Вот видите, — обратился он к Птушкову, — каждый шаг знают. Дремучий народ, говорю. И на что, думаете, намекают? На то, что я с вашей хозяйкой, с Натальей Дмитриевной, все вместе да вместе. Жених, говорят, да невеста. Эх, вы, олухи царя небесного! Да у меня детей двое, старшему двадцать первый год.
— Ну вот сынок бы ваш с дочкой, а вы, как говорится, с мамой!..
Лебедев махнул рукой: ну вас, таких не переговоришь.
— Харч-то есть тут какой-нибудь? Ему принесли борщ, принесли гуляш.
— А вообще, — сказал он, — был бы я не женатый… Замечательная она женщина, товарищ Птушков, Наталья-то Дмитриевна. В чрезвычайно трудных условиях подняла в колхозе молочнотоварную ферму. И ещё выше пойдет со своими показателями. Умная, настойчивая, энергичная…
Лебедев говорил, прихлебывая с ложки горячий борщ, а Птушкову вновь виделась крепкая хозяйкина фигура, ее бедра и такая грудь, какими вдохновлялись самые талантливые мастера времен Возрождения.
— Да, да, да, — поддакивал он Лебедеву, все дальше и дальше уходя мыслью от застольной беседы. На днях он звонил Юлии. Не хочет разговаривать, вешает трубку. Неужели она не понимает, что сидит он здесь из-за нее.
— Согласны? — услышал он вопрос Лебедева.
— В каком смысле? — спросил, чтобы выйти из положения.
— Ну как — в каком? Возьмем ружья да и отправимся.
— Ах, вы имеете в виду охоту!
— Не имею в виду, а прямо говорю о ней.
— Нет, товарищ Лебедев, я не охотник… Откровенно говоря, ещё и ружья никогда не держал в руках. Да и жалко же будет убивать животных. Я предпочитаю любоваться природой. А…
— И зря! Охота ни с чем не сравнимое удовольствие. А то бы пошли? Ружей у меня целых три. Запасу всякого огневого тоже хватит.
— Не смогу, не смогу, нет. Спасибо. Лебедев ушел, большой, шумный, уверенный в себе, влюбленный в жизнь, в работу, умеющий сразу находить с людьми общий, простой, доверительный язык. Птушков смотрел ему вслед с завистью и с раздражением. Сам он был находчив лишь один на один, и притом с женщинами; находчив, может быть, больше, чем надо бы. Только вот Юлия, Юлия… Она обломала ему крылья. Со дня встречи с нею, с того вечера в лесу и блужданий по ночной дороге он стал непривычным для себя, безвольным. Ах, Юлия, Юлия… Ах, если бы, если бы… Если бы вы были с ним, — все бы встало на место; мало того — все изменилось бы, он бы писал стихи, каких, может быть, никто ещё и не знает.
Расплатился, надел свой полушубок, намотал на шею шарф, нахлобучил шапку, вышел на улицу. Снег хрустел под ногами, искрился от лунного света. Над крышами, в тихом воздухе, стояли дымы, — запоздавшие хозяйки готовили ужин.
Шел медленно. С ним приветливо здоровались девушки. Ребята-школьники забегали вперед и, глядя ему в глаза, орали: «Здравствуйте, дяденька писатель!» Кивал головой, отвечал. Но ему было скучно и одиноко в этой закинутой в зимние снежные леса далекой деревне. Без городского шума нет жизни, есть что-то, недалеко ушедшее от первобытности. Здесь все для брюха, для брюха, для брюха — удои, урожаи, мясопоставки, обмолоты… И ничего для чувств. Литература, искусство — они для мира, в котором главенствуют чувства. В Озёрах Виталию Птушкову делать нечего. Это мир Лебедевых. Они здесь в своей тарелке, их нисколько не тревожит мысль, что не хлебом единым жив человек.
Подойдя к дому Морошкиных, увидел освещенное окно Светланы, услышал за ним веселую музыку, — завела радиолу, полученную мамашей в премию, крутит дурацкие пластинки. Не пошел бы в дом, сел бы на лавочку возле ворот, переждал бы шумиху. Но сядешь — озябнешь. А больше — куда в этой глуши и пойдешь? В клуб? — там Настины ухажеры хозяйничают. Аккордеон поди притащили, лупят каблуками в пол.
Ничего не оставалось, — вошел во двор, пошаркал ногами о половик в сенях, толкнул дверь.
26
Если бы можно было на каком-нибудь летательном аппарате подняться на такую высоту над землей, откуда стала бы видна вся Старгород-ская область — до самых дальних ее пределов, и ещё, если бы можно было с помощью сказочных средств снять кровли со всех зданий, цехов, домов и домиков в городах и селениях и сделать так, чтобы видеть все крупно — в деталях, в подробностях, то оказалось бы, что сказочные средства эти дали человеку возможность увидеть самую что ни на есть реальную реальность, но не по частям, а во всем ее, сливающемся в нечто единое, пестром многообразии.
Оказалось бы, что в тот вечерний час, когда поэт Птушков, не зная, куда девать себя, томился тоской в селе Озёры, — секретарь обкома Петр Дементьевич Лаврентьев выступал с докладом перед партийным активом шахтерского города Крас-нодзержинска; заведующий отделом сельского хозяйства обкома Костин сидел в правлении далекого колхоза «Красный Октябрь», в болотистом, заозерном краю, и вместе с председателем, агрономом, парторгом, бригадирами обдумывал план осушения обширной сырой луговины, которую, если взяться за дело поэнергичней, через год-два можно превратить в житницу кормов для общественного животноводства; Александр Денисов в красном уголке своего цеха проводил занятия по органической химии с аппаратчицами и аппаратчиками — это была школа повышения производственного опыта; сын его, Павлушка, дожидался тек временем в детском саду, в особой группе ребятишек, родители которых задерживались на работе; председатель облисполкома Сергеев, уполномоченный Комитета госбезопасности и начальник областной милиции рассказывали Василию Антоновичу о происшествиях в области за последний месяц, — были, оказывается, и убийства, были кражи, были ограбления, — но в помощь государственным органам уже шла общественность, комсомольские и рабочие патрули; послезавтра Василий Антонович едет в Москву, и такие сведения тоже могут пригодиться на пленуме, а затем и в беседах с секретарями ЦК.
Куда бы ни взглянуть — на просторах области, в ее лесах, на берегах заснеженных рек и озер, в городах и поселках, в деревнях, под стеклянными кровлями заводов и фабрик, под шиферными крышами колхозных ферм, под черепицей, под жестью и даже ещё и под соломой жилищ — всюду огни, всюду люди, всюду думы, заботы, планы — жизнь! Десятки тысяч рабочих, десятки тысяч колхозников, сотни и тысячи техников, инженеров, партийных и советских работников, доктора наук, профессора, студенты, школьники, старики, молодые парни и девицы, художники, писатели — каждый что-то делал, что-то добавлял к тому, что уже было, вкладывал свои кирпичики в строительства, в материальные и культурные накопления области.
Оказалось бы ещё, что в час блужданий поэта Птушкова по Озёрам прозаик Баксанов находился за сто восемьдесят километров оттуда, в другой части области, в селе Заборовье, на границе с Высокогорщиной. С Баксановым был архитектор Забелин. В заборовьевском Доме для приезжих одна из шести комнат, самая большая, превратилась, как назвал Забелин, в архитектурную мастерскую. Из нее вынесли кровати, втащили на их место большие и малые столы, чертежные и школьные доски. На столах, на досках, на стенах были расшпилены и разложены листы бумаги. На самом большом столе, взятом в столовой, лежали один возле другого два листа. На левом — план Заборовья в том виде, какой село имеет сейчас, а на правом — план его переустройства. Но это ещё не было окончательным планом. Еще каждый колхозник мог зайти в «архитектурную мастерскую», помозговать над тем и над другим листами и предложить любые изменения и дополнения. Мог даже взять в руки один из десятков карандашей, разбросанных по столам, и почеркать на бумаге, испробовать свои силы планировщика и архитектора.
В Заборовье была школа, была больница, было почтовое отделение, был сельмаг, но не было постоянного электрического света. Нефтяной движок давал ток по утрам, когда шла дойка в коровниках и качали воду из колодца в железные баки, да по вечерам, когда шла вторая дойка; ну ещё если кино приедет и, конечно, в тот день, когда созывалось или партийное, или общее собрание колхозников. А так, в рядовые вечера, жгли керосин; молодые ребята, правда, устанавливали на своих домах ветряки с динамками, заряжали от них аккумуляторы и как-то, словом, изворачивались.
Под потолком «архитектурной мастерской» развесили четыре лампы-молнии. Большие диски покрытых белой эмалью абажуров отбрасывали на столы довольно яркий свет; к тому же «молнии» давали ещё и немало тепла.
По всем причинам, взятым вместе, «архитектурная мастерская» никогда не пустовала. Сюда, к Баксанову с Забелиным, что называется — на огонек, заходили и стар и млад. У входа стоял жбан хлебного квасу, до которого великим охотником был Баксанов, и были термосы с кипятком — потому что Забелин раз двадцать в день заваривал крепчайший чай, которым мог угощаться каждый.
Спланировать новый поселок оказалось делом чрезвычайной сложности. Двенадцатый день сидят Баксанов с Забелиным в колхозе. Составлены десятки вариантов, но нет ни одного такого, на котором бы сошлась хотя бы половина добровольных участников обсуждения их работы. Разнобой полнейший. Забелин, который так стройно рассуждал на открытии клуба творческих работников в Стар-городе, в Заборовье встал в тупик. Механически копировать то, что бывало прежде? Вместо церкви разместить в центре селения клуб или правление колхоза, увенчать башней, остроконечной, подоб-ной колокольне, вышкой? А вместо кладбища раз-бить парк? Скукой потянет от подобной перелицовки минувшего, отжившего и изжитого. Даже колхозники и те говорят: «На черта нам эта башня посередке? Улицу дай, главную, чтоб на ней все руководящие организации, чтоб магазины тут же; чтобы вышел ты сюда и, не таскаясь из края в край по поселку, все, какие надо, дела сделал, все, что надо, купил».
«Город людям нужен, город, — размышлял Забелин. — А не этакая «деревня-нува», модернизированный медвежий угол, так сказать — берлога, но с парашютной вышкой и с аркой, зовущей: «Добро пожаловать!»
В тот вечер, когда Птушков, под звуки радиолы за стеной, расстилал постель на прочной, устойчивой хозяйской кровати, в ста восьмидесяти километрах от него, в «архитектурной мастерской» Забелина и Баксанова шел разговор.
— Ну, а если, граждане дорогие, вот такой вариант! — Забелин чертил мелом на черной школьной доске. — Вот улица, хорошая улица, прямая, вдоль обрыва. А перпендикулярно к ней другая — от леса к обрыву, то есть — въезд в поселок. На скрещении их, естественно, площадь. А дальше — ещё улицы. Но они второстепенные. О них после. Давайте думать о главных. Что можно расположить на ваших главных улицах?
— Сельсовет, — сказал один из присутствующих. — Правление колхоза.
— Почту, сберкассу, — добавил второй.
— Чайную.
— Клуб, библиотеку.
— Школу!
— Продуктовый магазин и промтоварный.
— Парикмахерскую.
— Так, так, — делал пометки Забелин. — Видите, сколько всего набегает. И строить это все надо по-городскому. Магазины с большими, привлекательными витринами. Верно? Школа с широкими окнами, с парадным входом…
— Мостовую надо. И панели, — сказал кто-то. — А то витрины будут, а к ним по колено в грязи пробирайся.
— А на скрещении улиц, как я говорил, — продолжал Забелин, — площадь. Тут вот кольцо такое, подъездное, асфальтированное. В середине сквер с клумбами. А там павильон автобусной станции.
Все дружно рассмеялись.
— К нам ездить — автобус-вездеход нужен!
— Извините, — сказал Забелин. — Мне известно, что руководители вашего колхоза пообещали секретарю обкома ещё нынешней зимой заняться дорожным строительством. Разве не так, товарищ Сухин?
— Примерно так, — ответил председатель колхоза.
— Лет через пяток замечательная жизнь может быть в Заборовье, — сказал Баксанов, наливая в кружку квасу из жбана. Он пил, отдувался, лицо и шея у него краснели. — Я у вас тут лопну, ребята. Кто это такой фирменный квас варит?
— Сельповский.
— Здорово варят. Надо будет рецептик узнать.
Он чувствовал себя в колхозе отлично. Все его здесь волновало, все радовало. Он видел, конечно, бездну неурядиц. Не было, например, электрического света, не было водопровода, канализации; насчитывался добрый десяток стойких пьяниц, которые своими дикими выходками портили жизнь окружающим; кинокартины привозили в колхоз скверные; библиотека пополнялась новинками редко, сельмаг торговал неумело, тупо — за многими необходимыми мелочами колхозники должны были ездить или в районный центр, или даже в Старгород. Но вместе с тем было здесь и нечто такое, что он считал главным, что не могло не волновать писателя, тридцать лет связанного с деревней, тридцать лет пишущего о людях сельского труда, о их делах.
Окончив Коммунистический институт журналистики в Ленинграде, Баксанов начинал свой писательский путь с работы корреспондентом в маленькой районной газетке. Было это в годы коллективизации, в ту пору, когда только-только возникали первые МТС. Труднейшие были годы, труднейшие времена. Самое трудное заключалось в том, что, вступая в колхоз, участвуя в коллективном труде, крестьянин все же по-прежнему тянулся к собственному, личному, индивидуальному. Сила собственного была ещё могуча. И вот миновало тридцать лет — и какие огромные перемены! Выросла сила коллективного, общего. Выросли потребности в материальном, но выросли они и в духовном. Люди хотят жить по-другому, и они будут жить по-другому. И чтобы увидеть это, стоило пройти через все трудности, через бесчисленные испытания жизни. Стоило бегать по осенним и зимним дорогам пешком десятки километров за информационными заметками о вывозке навоза на поля, об успехах первых колхозных доярок, о досрочном завершении сева, о том, кто и сколько получил на свои трудодни. Все стоило. И повести, и романы, и пьесы, какие позже написал Баксанов, они тоже сыграли какую-то роль в том, что деревня сегодня стала иной. Один литературный сноб сказал ему было: «Излишне спешите, дорогой товарищ Баксанов! За жизнью все равно никто из литераторов не угонится. Служенье муз, как всех нас учит Пушкин, не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Нельзя, знаете, писать по тому принципу, какого придерживаются иные повара: за вкус не ручаюсь, а горячо будет». — «Извините, — ответил Баксанов. — Я воевал и сейчас воюю. Я не гурман, а солдат, и по себе знаю, что в боевой обстановке кружка кипятку, вот этой самой горячей, клокочущей воды, дороже самых изысканных яств. Извините. Вы устроились у литературного камина, заложив нога за ногу и подставив огню подошвы домашних туфель. А я в походе».
— Хороший квасок, — повторил он, отставляя стакан. — Вы бы спрятали его от меня, а то пузо неудержимо растет. — Баксанов расстегнул тесный пиджак. — Гляжу я на вас, — заговорил он, — и ей-богу, радуюсь. Над чем мучаетесь! Это же подумать только! Бывало — какие сомнения?
Ставь избу вдоль дороги, в двадцати шагах от нее — вторую, дальше третью… Что солдатушки, бравы-ребятушки, по ранжиру. Каждая — три оконца на улицу. Слева крылечко о трех ступенях, рядом с крылечком — ворота. А то и ворот нет, плетень, да и только. Однообразно, уныло, бедно, никаких фантазий, никакой выдумки, никакого шевеления мозгами. А сейчас — витрины, мостовую, тротуар!.. Вот бы Лисицын да Сухин взялись и написали в газету о колхозных планах, о своих раздумьях.
— А чего писать! — сказал Лисицын. — Об этом и без нас что ни день пишут. В Самотаевке уже прошедшим летом центр поселка по плану заложили. Мы с председателем ездили, посмотрели. Не понравилось нам.
— Пожарную команду в середке поставили, — добавил Сухин. — С башней. На которой брезентовые кишки развешивают для просушки. И дома вокруг какие-то трулялясистые. Под древний российский лад: петухи на крышах, флюгарки, наличники резные, ставни расписные, подпоры у крылец пузырями разделали, как у хором боярских. Такого нам и даром не надо. Это будет вроде так, если мы в расшитые косоворотки разоденемся, в сапоги гармошкой да поясами с кистями подпояшемся. Это не для жизни, а для ансамблей, раз в году со сцены показываться.
— Будем думать, будем думать! — сказал Забелин, поправляя свои очки в тонкой «профессорской» оправе. — Соединим усилия практиков и теоретиков и, может быть, найдем приемлемое.
Квартировали Баксанов с Забелиным по соседству, в том же доме для приезжих — только пройти в конец коридора. Но спать ещё было рано, идти к себе не хотелось. Баксанов предложил:
— А не сходить ли нам к учительницам, Николай Гаврилович?
— Да уж мне седьмой десяток по женщинам-то ходить, Евгений Осипович. Нет уж, если угодно, я с вами по селу пройдусь. А к прелестницам — увольте.
— Этим прелестницам, если сложить их возраст вместе, даже не седьмой, а уже и девятый десяток. — Баксанов рассмеялся.
Они пошли по улице села, дошли до школы, которая по давней традиции была построена за околицей, в поле, обвевалась, обсвистывалась всеми пролетными ветрами, заносилась снегами, на которых по утрам, почти возле самого крыльца, иной раз были видны следы волчьих лап. Два оконца в школе неярко светились.
— Сидят, — сказал Баксанов, — тетрадки проверяют. Скучища поди. Неужели не зайдем? Обрадуются-то как живым людям!
Забелин нехотя согласился зайти на минутку, Баксанов сказал правду, учительницам вместе было более восьмидесяти лет. Но разделялся этот возраст отнюдь не на равные части. Марии Ивановне было около шестидесяти, она почти тридцать лет прожила в Заборовье, в этой комнате при школе. Нина Сергеевна только что окончила институт, этой осенью начался первый год ее самостоятельной работы.
В одном Баксанов ошибся. Учительницы не сидели в одиночестве и никаких тетрадок не проверяли. В комнате у Марии Ивановны застали колхозного агронома. Он немноншо смутился, сказал:
— Давненько учился, товарищи. Да и плохо, наверно, учился. Вот статью в газету написал, а боюсь посылать: вдруг грамматических ошибок наделал. Марию Ивановну эксплуатирую по этой части.
— Да, да, Семен Егорович, вам бы в школу ещё походить не мешало. «Встреч» с мягким знаком написали, а «вокзал» через «г» ухитрились изобразить.
— Но это же от невнимательности, это описка, Мария Ивановна! — вскричал, смущаясь ещё больше, агроном.
— А уж, милый мой, мы в такие психологические тонкости не входим. Напутал — получай двойку.
За стеной слышались голоса, выкрики, шум.
— Что там? — спросил Баксанов.
— Ниночка литературный кружок проводит, товарищ Баксанов. Вы бы зашли. Писателю такое дело обходить нельзя.
В комнате Нины Сергеевны, молоденькой и черноглазой, с темными, вьющимися на концах волосами, сидело с десяток девочек и мальчиков, видимо, самого старшего, седьмого, класса. Все притихли, увидев гостей, и дружно встали.
— Сидите, ребятки, сидите, — сказал Баксанов, здороваясь за руку с учительницей. — Стихи, наверно, читали, а?
— Да, вот Ася Рыбкина читала, — ответила Нина Сергеевна. — Продолжай, Асенька! Товарищ писатель послушает.
Девочка принялась читать свои смешные, детские стишки. Баксанов слушал ее и вспомнил себя, такого же четырнадцати или пятнадцатилетнего, школьный литературный кружок, которым руководил почему-то учитель химии, такие же вот вечерние чтения. А потом другой кружок — лит-группу при районной газете. Ему хорошо помнился товарищ в полувоенной форме, у него была странная фамилия: Граф. С первого же раза он представился кружковцам как член Союза поэтов. Что он написал, они не знали, а сам он этого не говорил, но тем не менее товарищ Граф казался им всем существом из миров нездешних и заоблачных. Глядя на него, они уже не сомневались ни в существовании Олимпа, ни в существовании Парнаса, где обитали подобные товарищу Графу. Он разбирал их стихи и рассказы, одни признавал никуда не годными, другие хвалил, уносил с собой, обещая кому-то их порекомендовать. Тем дело и кончалось. Потом он исчез. Но Баксанов его всегда помнил. Товарищ Граф был величествен, он никогда не опускался до ординарных движений и действий, до обыденных слов. Он шествовал, он священнодействовал, он изрекал. Подняться до него Баксанов так и не смог, хотя уже много лет имя Баксанова хорошо известно в литературе. Он не научился загадочно пыхтеть трубкой при людях и фотографироваться с нею в профиль, отчего взгляд получается устремленным не только в пространство, но и в толщу времен, недоступных простым смертным. Не решился он отрастить бороду, завивающуюся вперед из-под подбородка, как у скандинавских шкиперов, — такая борода тоже признак незаурядности. Не умеет Баксанов ходить в бойскаутских коротких штанишках по-западноевропейски, демонстрируя окружающим кривые волосатые ноги. Говорит, когда бы надо молчать с тупой многозначительностью, и говорит так, что всем все понятно, а это тоже признак заурядности. Художник Тур-Хлебченко сказал ему: «Старик, не огорчайся. Ты знаешь высказывание по этому поводу остряка Ларошфуко? Ларошфуко сказал: «Величавость — это непостижимое свойство тела, изобретенное для того, чтобы скрыть недостатки ума». Непостижимое! Понял? Так что и не бейся впустую. Оно легко дается только скудоумным».
В кратчайший миг промелькнули все эти картинки прошлого перед Баксановым. Минуту спустя он уже сидел среди ребят, рассказывал им о том, как сам начинал писать, прочел несколько четверостиший из своих полузабытых детских стихов. Все весело смеялись. Потом он стал читать стихи настоящих поэтов, и ребята притихли, заслушались.
— Вы знаете, — говорила молоденькая учительница, отпустив ребят, — есть несколько юношей в колхозе, и девушки такие есть, которые очень интересуются литературой. Некоторые даже что-то пишут. Они бы с радостью занимались. Но с кем? Не с кем. Я, например, руководить ими не могу. Им бы опытного в литературе товарища надо. А я… Что я!
На обратном пути и Баксанов и Забелин молчали. Мороз поддавал холоду, подняли воротники, прятали руки в карманах. Потрескивало окрест, промораживалось, расщеплялось.
Раздеваясь в своей комнате, Баксанов сказал:
— Понимаете теперь, Николай Гаврилович, остроту положения? Культурных-то сил на Стар-городчине не хватает. Или точнее — неправильно они распределены. Убежден, что если не в каждом селе, то через одно — во втором, или через два — в третьем, есть молодые тайные поэты, есть и прозаики. Им развивать свои способности хочется, им руководители нужны. А где они тут, руководители? Наше старгородское отделение Союза писателей — двадцать два человека. Капля в море. Да и не все пойдут в деревню, да и что толку от кавалерийских наскоков культуртрегеров? Свои центры культуры должны возникать на селе, свои! Своя интеллигенция здесь нужна. Много интеллигенции. Разной: производственной, научной, художественной. Ведь если бы вы или я жили здесь постоянно, не будем хвастаться, но факт остается фактом, много хороших дел могли натворить. Не верно говорю?
— Я отлично понимаю вашу мысль, Евгений Осипович. Отлично. Так надо строить колхозные села, такой насыщать их бытовой культурой, чтобы интеллигенция не бежала отсюда, а напротив — ехала бы сюда. Значит, правы колхозники, не кустарничать надо, не по внешней видимости идти, а в глубину копать, перестраивать все радикально.
— Не зря, значит, я вас к учительницам повал? — спросил Баксанов, приседая в трусиках возле постели, отчего в коленях у него шла отчаянная стрельба. — Неплохие прелестницы!
— Полезный поход, полезный, — согласился Забелин. — Одно меня удивляет. Приехали мы сюда вместе, время проводим вместе. Когда вы туда дорогу нашли, за околицу?
— Чисто профессиональное качество, Николай Гаврилович, — смеясь, ответил Баксанов. — Чутье особого рода.
— Потом напишете, наверно, обо всем об этом?
— Как сказать. Может быть. Сейчас я об этом пока не думаю. Пишешь ведь тогда, когда материал давит на тебя, когда уже не можешь не сесть за стол.
— А вот я слыхал, — сказал Забелин, лежа под одеялом, — один высказывался… Имени его не назову, это не столь существенно. Старгород-ский поэт один. Он говорил так: беда нашей литературы в том, что у нас пишут, не рассчитывая на века, пишут, рассчитывая на сегодняшнего читателя. Это верно?
— А вы как думаете?
— Не могу судить квалифицированно. Я читатель. Я только читаю книги. Среди них попадаются интересные, но есть неинтересные, есть глубокие и неглубокие, волнующие и неволнующие.
— Думаете, это только сейчас так?
— Убежден, что всегда так было. Это нормальный процесс в искусстве. Но, может быть, с точки зрения специалистов должно быть иначе? Может быть, каждая книга должна стрелять куда-то в будущее?
—. Если книга правильно и ярко отразит современность, о ней можно не беспокоиться, она будет жить долго, Николай Гаврилович. Значит, беспокоиться надо о другом — о том, чтобы современность отражать правильно и ярко. Значит, надо думать о ней, о ней, о современности. Этот ориентир не подведет. У нас, например, есть такой… мы его «классиком» зовем… он только и думает о том, как бы в будущем его не позабыли. Пишет сухо, схематично, по-гимназически — то есть грамматически правильно, но не о том, что сам увидел и прочувствовал, а о том, чему его научили в гимназии. И вот этот человек дошел до того, что каждое свое письмецо, кому бы ни писал, непременно через копирку дублирует. Для одиннадцатого и двенадцатого томов собрания сочинений. У классиков в одиннадцатом и двенадцатом томах всегда письма публикуются. Вот как бывает. А в общем-то, Николай Гаврилович, меня бессмертие мало волнует. Меня больше волнует, как я выполняю свой сегодняшний гражданский долг, есть ли польза от моего труда сегодня. А что будет потом… Маяковский сказал: «Умри мой стих, умри, как рядовой!» Пусть и мои романы гибнут в бою, как рядовые. Лишь бы они сражались. — Баксанов щелкнул выключателем на стене. — Спокойной ночи, Николай Гаврилович. Пойдем в объятия Морфея.
27
В приемных секретарей обкомов сидят, как правило, спокойные и очень вежливые люди. Они отвечают на бесчисленные звонки, они выслушивают, они разъясняют по телефону и объясняют, они распоряжаются, чтобы бюро пропусков выдало пропуск тому, кого в этот день должен принять секретарь; при появлении в приемной посетителя они предлагают ему присесть, затем, сообразуясь с обстановкой, заходят в кабинет к секретарю, докладывают о посетителе, молча пропускают посетителя в дверь, потом молча отмечают ему пропуск.
Почему они скупы на слова? Почему с ними невозможно затеять болтовню, как можно сделать это с представительницами всемогущего племени секретарш, населяющих приемные начальников разных рангов?
Потому что это люди, обремененные бесконечным множеством дел. Это помощники секретарей. Они ведут всю почту, они должны все помнить и знать. Когда секретарь уходит или уезжает на какой-то срок, его кабинет, если можно так выразиться, не должен молчать, он должен жить, — и все это тоже в обязанностях помощника. Сколько всяческих дел и вопросов стекается к помощнику за день! О тех, что посерьезней, он непременно доложит, а те, что помельче, постарается решить сам: куда надо позвонит, о чем следует договорится, — человека неправильно уволили, не разобрались где-то, отмахнулись, проявили нечуткость, бюрократизм, — тут помощник и сам вполне правомочен.
Обычно эти люди по многу лет работают бок о бок со своими руководителями; переезжают, если такое случается, вместе с ними из города в город, из области в область.
Илью Семеновича Воробьева Денисов узнал ещё на войне. Тогда это был студент-юрист, мобилизованный в армию. Дослужился он до старшего сержанта. Был тяжело ранен в локоть, отчего и после поправки рука его владеть оружием уже не могла. На тыловые дела сержант перейти в дни боев не хотел. Так он попал в связные к Василию Антоновичу. Они подружились. Воробьев был интересным собеседником, эрудированным, думающим. Василий Антонович всегда находил ему место возле себя. Он был уверен в Воробьеве, знал, что тот сделает все так, как надо, знал, что с Воробьевым «тылы» у него обеспечены. В очный институт Воробьев не вернулся, учился заочно в Ленинградском университете. Закончил его, но Василия Антоновича все равно не покинул. Он знал характер Василия Антоновича, все его привычки до мелочей, и очень редко ошибался в своих действиях.
Но тут, когда Василий Антонович должен был назавтра уезжать на пленум ЦК, помощник, кажется, сплоховал. Позвонил Черногус и попросил соединить его с товарищем Денисовым. Василий Антонович ещё и ещё раз просматривал материалы к пленуму, которыми был набит его портфель, окантованный длинной застежкой-молнией.
С одной стороны — не следовало бы в такое время беспокоить Василия Антоновича. Но с другой — Василий Антонович так внимателен к Чер-ногусу, так заинтересован его делами, его здоровьем…
— Василий Антонович, — сказал Воробьев, заходя в кабинет. — Черногус вас просит на минутку. Что сказать?
— Давай соедини, — ответил Василий Антонович рассеянно. — Алло! Да, да, я, Гурий Матвеевич. Сегодня? Даже сейчас? Я же завтра уезкаю, Гурий Матвеевич.
Это было совсем некстати — куда-то ехать и терять дорогое время. Но Черногус настаивал, уверял, что Василий Антонович не пожалеет и увидит такое, которое пригодится ему и для пленума.
Активность Черногуса разбудил человек дела — Петр Дементьевич Лаврентьев. После разговора с Василием Антоновичем о том, что стариков, ветеранов революции и первых лет строительства советской власти, следовало бы как-то организовать, Лаврентьев созвал их в обкоме.
Собралось около пятидесяти человек. Старики высказали немало претензий; почти все они страдали оттого, что их позабыли, что никому не нужны ни их опыт, ни далеко ещё не израсходованная, не истраченная энергия. О результатах беседы Лаврентьев доложил на бюро обкома, и как-то так, коллективно, родилась мысль — создать из этих заслуженных людей нечто вроде совета при обкоме.
Старикам идея понравилась. На первое заседание они сошлись в кабинет Василия Антоновича.
Седые, белые, шаркающие стоптанными каблуками по паркету. Но в глазах у большинства — молодой, неугомонный блеск. «Живуче революционное племя! — с душевной теплотой думал о них Василий Антонович. — Через какие испытания ни прошли, а на покой не хотят, хотят дела». Иные были одеты по-старомодному — не успели за временем, и привычками своими, бытом были в прошлом: музейные толстовки и курточки, старомодные галстуки и штиблеты с металлическими крючками для шнурков. Где только они берут такой реквизит? Ни одно предприятие ничего подобного уже давно не выпускает.
Ветераны порешили, что, если они будут заседать все пятьдесят разом, толку из этого не получится. Они распределились по комиссиям: одна по делам, промышленности, другая по делам сельского хозяйства, третья и четвертая — по организации быта трудящихся и по делам социалистической законности. Возникла и такая комиссия: коммунистической морали. Возглавить ее поручили Черногусу. И вот он звонит и требует, чтобы Василий Антонович непременно съездил с ним по какому-то адресу и непременно перед пленумом кое-что посмотрел.
Некстати, некстати это, совсем некстати. Но и старика обижать не хотелось. Согласился слетать куда-то на полчасика. Выходя, сказал Воробьеву:
— Подвел, брат, ты меня со страшной силой. Вот бы и ехал сам.
Воробьев только руками развел: знаю, мол, что подвел, понимаю.
Черногус ожидал Василия Антоновича в подъезде музея. Одет он был тепло, на ногах боты с застежками. Вместе с ним собрались ехать ещё два белых деда, закутанных в шарфы. К удивлению Василия Антоновича, был тут и секретарь Свердловского райкома партии Владычин.
— Меня тоже пригласили, Василий Антонович, — сказал Владычин. — На том-де основании, что субъект, которого они нам с вами хотят продемонстрировать, работает в Свердловском районе. О нем Гурий Матвеевич уже рассказывал. Помните, у вас?
Василий Антонович посадил всех четверых в свою машину; через несколько минут уже свернули в улицу, на которой жил Черногус, миновали его дом и добрались до того конца, где улица упиралась в заброшенное кладбище. Возле кладбища, за глухими заборами, среди занесенного снегом большого фруктового сада, стоял двухэтажный, окруженный верандами и беседками оштукатуренный дом.
Черногус попросил остановиться, не доезжая дома.
— К соседям сначала зайдем.
Одна из соседок, старушка пенсионерка, бывшая работница текстильной фабрики, начала свой рассказ так:
— С трудов праведных, товарищи дорогие, не наживёшь палат каменных. Это народ уже давно определил.
— А тот дом разве каменный? — поинтересовался Василий Антонович.
— Каменный, каменный, батюшка. Из шлакоблоков. А сверху штукатурка. Красиво, ничего не скажешь. Восемь комнат в нем, при четырех душах живого народу. Сам, значит, хозяин. Хозяйка. Сын да сынова жена-молодуха.
— А кто он, хозяин-то? — поинтересовался Василий Антонович. — Я что-то запамятовал.
— Рабочий, — сказал Черногус. — С химического комбината.
— Вот то-то и дело, батюшка, — воскликнула и соседка. — То-то и дело что рабочий, а не нэпман, с которого бы и спросу всего — буржуй и только. А тут рабочий. Трубопроводчик он. Из кожи лез, дом строил. Три года строил. Все у него краденое — и шлакоблоки, и лес, и цемент, и крыша цинковая. Все, как есть, левачи ему по дешёвке возили. Три года, говорю, ездили. Курочка по зернышку клюет… А сад у него!.. Из Мичуринска яблони выписал. Корней двести понатыкал всюду — яблонь, груш, слив. Под ними, чтоб земли ни вершка не гуляло, — черная да красная смородина, клубника всякая, цветы… Букеты режет, у кого свадьба или похороны. Сад он уже давно насадил, ещё дома не было, в сторожке квартировал. Цепкие, и он и она, что кулаки. Зубами до этого богатства прогрызались. Ребята к нему, бывает, в сад норовят залезть. Кобелей двух завел — волкодавов. На ребятишек-то, на шалунов, — и волкодавы! Пролетарий трудящий!. Псы и те сознательней его. Ребята их подкармливают, — не трогают псы ребят. Обождите, говорит, проволоку по забору пущу электрическую, она вам даст! Вредный до чего, паразит. У меня сон плохой. А он в помощь своим кобелям сучонку в будке посадил, тявкалку. Аккурат здесь, за нашим забором. Брешет всю ночь, ворочаюсь, не усну. Пошла к нему, вызвала звонком к воротам, внутрь-то не зайдешь, кобели изорвут. Вышел. Говорю ему: так и так, батюшка, убери ее, прошу тебя, в другое какое место, за дом за свой, что ли, все не так слышно будет. «Да, да, — говорит, — «убери»! А вы сквозь забор — доски пооторвете — лазить приметесь. У меня возле забора самые ценные сорта растут». Так, подлец, и не дает людям спать. У нас в доме один машинист с паровоза живет. Давайте, говорит, отравленную коклету той сучке бросим. Говорить говорит, а не он, ни другой кто, не можем сделать такое. Жалко собачонку, она-то ни в чем не виноватая. — Старушка утерла лицо передником, спохватилась: — Чегой-то я! И не приглашаю. Люди стоят. Присаживайтесь, присаживайтесь! Стулья вот, диван, на табуреточку можно. Обмахну только… Поблагодарили, вышли на улицу.
— А сам-то он дома? — поинтересовался Василий Антонович, стоя возле внушительных глухих ворот, даже и снизу плотно заложенных толстой доской-подворотней. — «Демешкин», — прочел он на жестянке, прибитой возле калитки. — «Е. Т.».
— Елизаром Трифоновичем его зовут, — объяснил Черногус. — Дома он, дома. Поэтому мы вас и пригласили. У него выходной скользящий. Зайдемте.
Василий Антонович взглянул на другую надпись: «Во дворе злые собаки» — и, нажав на железную лепешку, которая приводила в действие щеколду калитки, с силой толкнул калитку. Калитка отворилась. Навстречу Василию Антоновичу вылетели два ревущих лохматых пса. Василий Антонович твердо шагал по расчищенной цементной дорожке к дому. Шли за ним Владычин с Черногусом, а следом и два белых деда. Псы гавкали, крутились вокруг, но подскочить к людям, которые не обращали на них никакого внимания, не решались.
На крыльцо вышел коренастый, плотный человек в валенках, в ватнике, ожидающе смотрел на непрошеных гостей.
— Принимай, хозяин, — весело сказал Владычин. — Собачки твои нас уже дружески поприветствовали. Славные собачонки.
Хозяин «принимать», видимо, не собирался. Все так же хмуро стоял на крыльце. Голова у него была не покрыта, ветер шевелил пряди седеющих волос.
— Можно и здесь потолковать, — сказал Василий Антонович. — «Мой дом — моя крепость». Без приглашения врываться не будем.
— Гражданин Демешкин! — с возмущением в голосе сказал Черногус. — Перед вами секретарь обкома партии товарищ Денисов и секретарь райкома партии товарищ Владычин. И мы вот три старых коммуниста… Извольте это понять, гражданин!
— А я что — пожалуйста!.. — Что-то дрогнуло в лице Демешкина. — Он распахнул дверь в дом. — Прошу, прошу! Я ж не знаю — кто. Мало ли…
— Ну да, конечно! Мало ли, вдруг махновцы налетели!..
Все были введены в большую светлую комнату, обставленную новой красивой мебелью, какую изготавливают где-то в Прибалтике, в Риге или в Таллине. Судя по всему, это была столовая.
— Прошу, прошу, — повторил хозяин. — Садитесь. Да вы, может, польты снимете? У нас] тепло.
— Горячие батарейки! — Черногус потрогал батареи отопления. — Так и пышут. Чем — углем отапливаетесь?
— Котел уж такой, угольный. Другим чем — не получится.
— А уголек где приобретаете?
— Да ведь, где выйдет. Со склада там… Отсюда, оттуда…
Хозяин был насторожен, напряжен. В сердце него, наверно, уже шевелился страх за свое добро.
Василий Антонович скинул пальто на один из стульев.
— Товарищ Демешкин! — сказал он, подсаживаясь к столу. — Вот товарищи утверждают, что вы член партии. Правда это?
— Точно. С тысяча девятьсот сорок третьего года. В армии вступал.
— Воевали, значит?
— А как же! По тому возрасту, какой у меня был в ту пору, все воевали. Не без этого. Орден Отечественной войны имею, шесть медалей.
— А как вы жили до приобретения этого дома? Где?
— По первоначалу, как демобилизовался, мне квартиру дали на Вокзальной, две комнаты. Потом домишко у одной вдовы купил, аккурат на этом месте стоял он, где дом сейчас. Так, халупка была.
— За сколько же вы его купили?
— А за двадцать пять тысяч. С участком вместе, с огородом, садом. У нее, верно, сад плохонький был. Я перепланировал.
— А где она, прежняя-то хозяйка?
— К сыну уехала. А уж куда, я и не знаю. Старая была. Одной жить неуютно. Уехала. За-брала монету и подалась.
— Так, А монета — двадцать пять тысяч — не малая монета. Откуда сумма такая у вас образовалась?
— Копил, товарищ секретарь. Откуда же ещё? Коплю и коплю, на книжку откладываю.
— Хорошо. Бережливая, значит, у вас натура. А вот соседи рассказывают, что вы яблоками, ягодами, цветами торгуете.
— Это жена.
— Но ведь ваша жена. Или чужая?
— Моя. Так куда же их девать? Не выбрасы-вать на улицу. Выйти на середку да и вывалить? Так, что ли?
— Просто столько не выращивать, чтобы не было товарных излишков. Самый простой путь.
— А тогда пусть земля, гуляет?
— Вот ты кто такой, — сказал Черногус. — Земля есть — занять ее надо. А занял — навыращивал больше, чем в рот вмещается. А навыращивал излишков — продать надо. Так коммунист торговцем стал, базарным делягой. А зачем столько земли хапанул? Обработал бы, если уж такой мичуринец, грядку-другую, да и достаточно. Посадил цветочков, яблонь пару. А ты же, как помещик, промышленный сад развел. Ты частный предприниматель, Демешкин, а не коммунист.
— А это можно и по-разному поворачивать, — ветил Демешкин. — Можно и в тюрьму человека ни за что посадить. И ославить как хочешь.
— Хорошо, хорошо, — примирительно сказал Василий Антонович. — А вот этот домик — в нем сколько комнат?
— Восемь. Если и маленькие считать.
— Куда же вам столько? Восемь?
— План такой архитектор составил. Жить говорит, надо по-коммунистически, просторно. К коммунизму, говорит, идём, товарищ Демешкин. Строить так строить. Я и махнул рукой.
— И квартирантов поди пустили?
— Двоих тут… Студентов. Не хотят в общежитии жить, Я не виноватый.
— А во сколько он вам, домик ваш, обошелся?
— Не считал, товарищ секретарь. Тут и своего труда немало. Его в стоимость — как вставишь?
— Тысяч двести, наверно? — сказал Владычин.
— Что вы, что вы, товарищ! — Демешкин даже руками замахал. — Откуда такие деньги у меня?
— А вот давайте считать… — Владычин вынул блокнот, вечное перо. — Сколько пошло шлакоблоков? Сколько кирпича? Дерева? Железа?..
Как ни вертелся Демешкин, Владычин, настойчиво заставляя его называть каждую цифру, прикидывал количество материалов, стоимость рабочей силы, оплату транспорта, с помощью которого подвозились материалы. Василий Антонович с интересом следил за этими подсчетами. Да, как ни приуменьшай расходы, дом обошелся приблизительно в сто восемьдесят тысяч рублей!
— Вы без малого миллионер, товарищ Демешкин! — воскликнул он, поражаясь. — Вы очень своеобразным путем вступаете в коммунизм: через развитие частной собственности. Заработали это все по способностям — способности у вас отличные. Живете по потребностям. А ну-ка покажите ваш партийный билет. Он у вас с собой?
— Он у меня в железный ящик запертый.
— В сейф, значит. Как у всякого порядочного предпринимателя у вас и сейф есть. Ну принесите свой партбилет.
Демешкин вышел.
— Грандиозно! — сказал Василий Антонович. — Это что же такое получается? Человек уже сейчас может открывать торговлю или заводишко небольшой купить? Правда, что он рабочий?
— Правда, — сказал один из белых дедов. — Мы любопытствовали на комбинате. Трубопроводчик.
Демешкин тем временем принес партбилет. Может быть, он думал, что расстается с ним навеки: когда подавал его Василию Антоновичу, руки у него дрожали.
Василий Антонович стал листать странички.
— Тысячу четыреста, тысячу шестьсот, — называл он месячные заработки Демешкина, с которых тот платил взносы в партию. Самая большая получка была в мае: две тысячи сто.
— Одну срочную работу выполняли. Аккордно, — пояснил Демешкин.
— Понятно, понятно. Я вот к чему об этом говорю. К тому, что сто восемьдесят тысяч с такой зарплаты не накопишь. Сколько вы в месяц могли откладывать? Ну примерно? Ну, допустим, пятьсот рублей. Больше уж вряд ли, а? Сколько же надо лет, чтобы накопить сто восемьдесят тысяч?
— Если в год откладывать по шесть тысяч, то есть по пятьсот рублей в месяц, то до ста восьмидесяти тысяч надо тянуть ровно тридцать лет, — сказал Владычин.
— Вот, товарищ Демешкин, тридцать лет! — Василий Антонович потряс указательным пальцем. — А вы за какую-нибудь пятилетку так здорово развернулись. Что-то вы от нас скрываете.
.— А старый-то дом я продал, — быстро сказал Демешкин. — Это вы в расчет не взяли. Старый-то. За что купил, за то и продал. Двадцать пять-то тысяч.
— Ну давайте четыре года скостим, — согласился Василий Антонович. — А все равно двадцать шесть лет ещё остаются. Двадцать шесть! Четверть века!
— Украл ты все, украл! — сказал другой белый дед, глядя прямо в глаза Демешкину. — Товарищ Денисов стесняется тебе сказать это. А я скажу. С жуликами связался. Один тебе машину краденого кирпича. Другой три машины краденых блоков. Третий железо прёт со стройки. Бревна. За гривенник на рубль покупал. Левачи краденое по дешевке спускают, абы сбыть. Моя бы воля, и часу тебя в партии не было. Какой ты партиец? Ты ведь, если правильно тебя назвать, жулик и мошенник. Разложенец ты.
— Не имеете права! — Демешкин поднялся, схватился за грудь. — Я рабочий класс! Я кровь на войне проливал! — Он выскочил, принес какую-то шкатулку, стал выбрасывать из нее на стол орден, медали, справки из госпиталей, приказы с благодарностями.
Да, это у него все было, было. Да, он был рабочим, орденоносцем и хранил в железном ящике партийный билет.
— Все равно ты кулак, — настаивал белый дед. — Кулачина.
— Кстати, — сказал Василий Антонович. — А как вам удается обрабатывать такой громадный сад и огород? У вас, кажется, даже тепличка есть, я заметил?
— Рассаду там выращиваем в весенние месяцы, — подтвердил Демешкин. — А как обрабатываем? Нас четверо, все здоровые.
— Но ведь и они, молодые-то ваши, где-нибудь работают. Или нет?
— Сын работает. Он по радиоделу. Приемники, телевизоры ремонтирует в мастерской. А сноха — дома.
— У нее что — дети?
— Детей ещё нет. Два года как поженились. Будут и дети. Как без них!
— Задумайтесь, товарищ Демешкин, над своей жизнью, над тем, какую линию вы себе избрали, — сказал Василий Антонович на прощание. — А то и из партии можете выпасть и вообще из общества.
— Посадите, что ли? — с вызовом спросил Демешкин.
— Сами, дорогой мой, изолируетесь от людей. Замкнетесь в этих восьми комнатах, за своим забором. Вокруг коммунизм люди строят. А вы свой частнособственнический мирок куете. Товарищу Черногусу не мешало бы ваше хозяйство взять на учет как филиал исторического музея: смотрите, мол, товарищи, вот вам живой обломок прошлого. Так-то, многоуважаемый! Желаю здравствовать и как следует поразмыслить.
Кобели, не видя теперь глаз людей, а только их ноги и пятки, осмелели, рвались с ревом вслед. Но Владычин обернулся и так пнул одного из них, что тот, вопя, удрал за дом. Второй тоже отступил на почтительное расстояние. Гавкал издали.
Захлопнулась позади глухая калитка. Василий Антонович вновь прочитал надписи: «Демешкин. Е. Т.», «Во дворе злые собаки».
— Ну, что бы хоть у одного из таких жмотов нашлось юмору написать: «Во дворе добрая собака», — сказал он. — Непременно пишут «злая».
Сидя в машине, Черногус заговорил:
— Товарищи Горохов, Синцов и я для того пригласили вас сюда, Василий Антонович, чтобы вы все увидели и благословили бы нас, нашу комиссию по коммунистической морали, заняться этим делом, проверить все и поговорить как следует с гражданином Демешкиным. Он, сами слышали, на чем играет: посадите, что ли? Единственно чего он боится. Но пусть узнает, что есть и другой суд. Пусть увидит, что такое суд старых коммунистов. Судьи в суде полистают свои законы и отпустят его с миром. Против их параграфов Демешкин ничего особенного не сделал: не пойманный — не вор. А мы другие законы имеем: устав партии, мораль коммуниста. Как вы смотрите, Василий Антонович?
— Пожалуйста, — ответил Василий Антонович. — Я не против. Надеюсь, что это не будет, как бывало в бурсе, вы не устроите ему смазь вселенскую и не станете лупить розгами, разложив на лавке?
— Нет, это будет не как в бурсе, а как в партии, — сказал Черногус.
— Ну, вот, вот, я так и думаю. Что же, действуйте, действуйте!
Довезли Черногуса до музея; там же, как ни предлагал Василий Антонович развезти их по домам, сошли и белые деды. Остались в машине вдвоем с Владычиным.
— А вообще, Василий Антонович, — сказал Владычин, — мы уже говорили с вами на эту тему. Демешкины портят общественную атмосферу. Трудно их видеть рядом с тем замечательным народом, который работает в бригадах коммунистического труда. Вы кандидат в члены ЦК. Поставьте вопрос в Москве. Зачем нормальному человеку столько земли? Зачем такие домища в два этажа и в восемь комнат? Почему коммунистам можно торговать на рынке? Верно же говорят товарищи: и на ста квадратных метрах, то есть — десять в длину, десять в ширину, — можно и несколько яблонь себе вырастить и цветов с избытком насадить.
— Да, да, — ответил Василий Антонович. — Вопрос серьезный. Я с вами согласен. Об этом, надо говорить. И старики, по-моему, интересное дело затеяли. Вы поинтересуйтесь, когда они его обсуждать будут.
Возвратясь в обком, Василий Антонович сказал Воробьеву:
— Не переживай. Поездка была полезной. Хорошо, что они меня на такую экскурсию вытащили. Сам бы, пожалуй, никогда не собрался.
28
Пленум был большой. Собрались на него не только члены и кандидаты Центрального Комитета партии, не только члены Центральной ревизионной комиссии КПСС, но и добрая тысяча передовиков сельского хозяйства. Заседали поэтому не в том круглом и высоком, украшенном лепкой, освещенном мягким светом зале, где обычно проходили пленумы, а в Большом Кремлевском дворце, в зале заседаний Верховного Совета СССР.
На примере нескольких союзных республики областей участники пленума обсуждали острые и важные, решенные и нерешенные вопросы развития сельского хозяйства. В выступлениях довольно часто поминалась Высокогорская область, а вместе с нею называли и имя секретаря Высокогорского обкома партии Артема Герасимовича Артамонова. Ещё по дороге в Москву, в поезде, Василий Антонович и Лаврентьев услышали сообщение по радио о награждении большой группы высокогорцев орденами и медалями. Восемнадцать человек получили ордена Ленина, семьдесят четыре — ордена Трудового Красного Знамени; были «Знаки Почета», были медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». А семеро, в том числе две доярки, свинарь, два тракториста и комбайнер, удостоены звания Героя Социалистического Труда. Седьмым среди них был первый секретарь обкома — товарищ Артамонов.
Больно кольнуло это сообщение в сердце Василия Антоновича. Лежа на мягкой постели, слегка подбрасываемый размятыми пружинами, он до полуночи курил папиросу за папиросой, Лаврентьев, лежавший на соседней постели их двухместного купе, сказал: «Да, загуляют теперь ребятки», — и уснул. А Василий Антонович все перебирал и перебирал в уме каждую известную ему деталь в работе Артамонова. Василий Антонович не был излишне завистлив, но не мог он быть и безразличным к успехам соседей. Высокогорцы располагают тем же, чем и старгородцы, но вот идут впереди, решительно впереди. Они лучше используют свои возможности, лучше хозяйствуют, лучше работают. Василия Антоновича беспокоило чувство вины перед людьми его области. Он вспоминал имена и лица председателей колхозов, доярок, бригадиров, птичниц, трактористов. Онитоже работают отлично, самозабвенно, они тоже достойны не меньших наград, чем высокогорские передовики. Так в чем же дело? Не в том ли, что обком, да, да, да, Старгородский обком и лично он, Василий Антонович Денисов, не сумели ещё сделать так; чтобы разрозненные успехи отдельных людей слились в мощный успех всей области, чтобы не было лишь отличных показателей передовиков, а были бы отличные показатели по всей области, как у высокогорцев?
Чувство это было назойливое, нудное, неприятное. Значит, что же, спрашивал себя Василий Антонович, значит, ты, Денисов, не умеешь работать так, как умеет Артамонов? Но ты же делаешь все, что можешь, ты не знаешь, что такое лень, ты даже отдыхаешь плохо, торопливо, беспокойно, ты не справляешься ни с чем личным, постоянно отставляя его во имя дела, порученного тебе партией. Значит, что же ещё? Значит, организаторских способностей у Артамонова больше, чем у тебя. Да, вывод неутешительный.
Пихают в бок пружины, щелкают, позванивают. А ты лежи и думай, лежи и думай…
Но не только там, в поезде, трудно и упорно размышлял Василий Антонович. Нацепив на ухо пластмассовый прозрачный крючок с белой пуговкой трансляционного устройства, он хотя и слушает выступления, но в каждом из них непременно старается найти общее или с делами своей, Стар-городской, области, или соседней, Высокогорской. Хорошо, как и подобает имениннику, выступил Артаманов. Он рассказал о людях, которые обеспечили успех области, о росте поголовья скота, об урожайности, о строительстве дорог, о перепланировке селений. Ему шумно аплодировали. Но в перерыве Василий Антонович обратил внимание на то, что некоторые из секретарей обкомов, комментируя речь Артамонова, — правда, не в полный голос, а так, между собой, вполсловечка, — не очень-то сочувственно высказывались по поводу его манеры держаться на трибуне. «Что Наполеон. Невозмутим и величествен». — «Сам таким будешь, когда почести на тебя посыплются». — «Может быть, может быть. Не знаю. Не сыпались пока». Заметили даже, что Артамонов ни разу не обернулся на реплики секретарей ЦК; отвечал на них не то чтобы с достоинством — это качество люди любят, ценят и уважают за него; нет, тут было чувство не столько достоинства, сколько того состояния, когда под воздействием счастливых обстоятельств человек начинает обретать уверенность, будто ему уже все можно, все позволено, все по плечу.
Артамонов ходил по фойе, по Георгиевскому залу, по Грановитой палате, на поздравления, на кивки, на рукопожатия отвечал сдержанно, без улыбки, серьезно, спокойно. Только навстречу Василию Антоновичу он радушно распахнул широкие объятия: «Здравствуй, здравствуй, сосед! Что-то давно мы с тобой не виделись. Навещу тебя сегодня-завтра. Не возражаешь? В каком номере устроился? Это на шестом этаже? Зайду, зайду». Василий Антонович любил пленумы ЦК. Кого только не встретишь на них, с кем не переговоришь. В киосках, открывающихся на время пленумов в Грановитой палате, накупишь книг, журналов. Или вот там, в правом углу, где всегда торгуют две приветливые женщины — Анна Трофимовна и Циля Ефимовна, возле их прилавка с карандашами, вечными ручками, записными книжками, пачками бумаги, портфелями и пишущими машинками, собираются любители интересных новинок: необыкновенных электрических бритв, перочинных ножей со множеством предметов, механических точилок для карандашей.
В этом киоске Василий Антонович, не любитель хождений по московским магазинам, непременно покупает что-нибудь для Софии Павловны, — иной раз перчатки, иной раз крохотную книжечку с алфавитом. Соня очень любит эти маленькие, но дорогие для нее знаки его внимания.
За много лет Василий Антонович не пропустил ни одного пленума ЦК. Он записывает отдельные мысли и примеры из выступлений участников пленумов, с интересом рлушает речи членов президиума ЦК и руководителей правительства. Это ему помогает видеть и думать не только масштабами Старгородской области, а масштабами всей страны, масштабами коммунистического движения во всем мире, помогает отрешаться от местничества, от мелкого делячества, на которое так легко сбиться, если замкнешься только в областных делах. Но сам Василий Антонович так и не привык выступать с кремлевской трибуны без волнения, без глубоких душевных переживаний. Какую бы ни приготовил речь, как бы тщательно ее ни продумал, она ему всегда кажется бледной, неглубокой. Он завидовал тем, которые на трибуне пленумов ЦК чувствовали себя отнюдь не более стесненно, чем на бюро своего обкома.
На этот раз Василий Антонович в канун открытия пленума созвал к себе в номер всех, приглашенных в Москву от Старгородской области. Были Лаврентьев и Сергеев, были председатели двух колхозов, секретарь одного райкома, были комбайнер и заведующая молочнотоварной фермой, был директор свиноводческого совхоза, — народ опытный-, бывалый. Василий Антонович прочел им все десять страничек своего выступления, прочел неторопливо, с расстановкой, чтобы до всех дошло, ничто бы не ускользнуло. «Ну как? — спросил, закончив. — Давайте свое мнение. И только без скидок, без вежливости». Кое-что посоветовали дополнить, кое-что убрать. А в целом одобрили, сказали, что очень хорошее, дельное, умное выступление. «А интересное? — спросил Василий Антонович. — Если неинтересное, люди слушать не будут». — «Самое интересное у вас в выступлении, Василий Антонович, — сказал секретарь райкома, — это вопрос партийной работы. Если разовьете эту часть, будет и все интересно. Вы совершенно правы. Партийную работу надо развертывать шире, значительно шире. Народ очень растет. А значит, и кое-что новое вносить в партийную работу приспело время».
До полуночи сидел Василий Антонович над речью, развивал мысли о партийной работе. Ни он, ни секретарь райкома не ошиблись. Выступление Василия Антоновича вызвало большой интерес. Ему хорошо аплодировали, на его речь ссылались другие ораторы, в перерывах к нему подходили, расспрашивали, рассказывали о своем опыте работы. Потом его нашёл товарищ из секретариата и сказал, чтобы после пленума он непременно зашел к секретарю ЦК, — товарищ назвал фамилию. Секретарь ЦК хочет с ним побеседовать. Это было очень кстати, потому что Василий Антонович все равно хотел договориться о приеме, у него было много неотложных вопросов. В один из вечеров в номер к Василию Антоновичу зашел Артамонов.
— Ты не плохо выступил, — сказал он. — Но мне думается, немножко переложил в вопросах партийной работы. Партийная работа не самоцель. Учитываешь? Партийная работа — средство. О нашей с тобой партийной работе, знаешь, по каким пунктам будут судить? Дал мясо, дал хлеб, дал молоко — вот тебе и партийная работа. Раньше в народе, помнишь, говорили о модниках и пижонах: на брюхе шелк, а в брюхе щелк. Некоторые теоретики могут в таком положении оказаться: весь цитатами обклеен, а брюхо пустое. Из цитат штанов не сошьешь и борща не сваришь.
— А я что — борец за цитаты, что ли? — ответил Василий Антонович. — Я за такую работу, которая одновременно была бы и организационной и воспитательной, при которой и продуктивность хозяйства росла бы, и люди бы росли идейно. Одну только такую, всеохватывающую работу знаю: партийная!
— Недостает ее у тебя в области? — Артамонов барабанил пальцами по столу, смотрел на Василия Антоновича искоса, исподлобья.
— Не в том дело. Просто ее ещё лучше можно повести. Вот колхоз, например. Есть такие коллхозы, где по пятьдесят, по семьдесят коммунистов… Но колхоз колхозом. А ещё есть на той же территории коммунисты какого-нибудь сортоиспытательного участка, опытной станции. Делают, в общем, они одно дело: подымают производство, подымают культуру села. А почему им не объединиться? Почему не собраться вместе? — их будет сотня и больше. Почему вместо мелких, разрозненных парторганизаций не образовать целый партийный комитет, который бы все охватывал, все объединял, все координировал?
— Вот мне и кажется, что тут ты перехватываешь лишку. Гигантомания. Бюрократизм. При мелких парторганизациях гибкости больше, больше местной инициативы. А в общем, можно и так и так. Главное, говорю: дал мясо, дал хлеб, дал молоко — вот критерий нашей с тобой партийной работы. Слушай, — сказал Артамонов, делая такой жест рукой, будто бы отстранял этот разговор, как окончательно исчерпанный. — Давай поохотимся на днях вместе, а? Можно на лосей, можно волчишек обложить. А то и на самого батюшку Топтыгина пойти.
— Канительное дело, — ответил Василий Антонович. — Проходишь за этими батюшками неделю, времени сколько ухлопаешь…
— Ну уж ты зря! Отдыхать все равно надо. Охота — отдых замечательный. Все твои заботы и волнения — долой. Все мысли сосредоточиваются на мушке ружья. А воздух!.. Дышишь чистым кислородом. Вся кровь обновляется. Как через фильтр проходит. А что до канители, так это зависит от того, как организовать дело. У меня лесные сторожки есть… Лесники… егеря…
Артамонов с таким смаком принялся рассказывать об охоте, об охотничьих хозяйствах области, что Василия Антоновича подмывало прямо высказать ему свое мнение об охотнике, который один палит, а сто человек к нему дичь сгоняют. Но что-то мешало сказать об этом вот так прямо, откровенно. Все же он не удержался, хоть иносказательно, но сказал, как бы к слову пришлось:
— Помню, под Ленинградом, в Ропше, студенты ельник корчевали. Частый такой, густой ельник. До того густой, не продерешься. Рассказывали, что это для фазанов насаживали еловые чащи. Фазанники. Фазаны почему-то именно в таких любят водиться. Ты не слышал?
— Нет. А к чему ты об этом? У нас фазаны редкость.
— Там тоже редкость. Это их специально для Николая Второго разводили.
— А! Ну понятно, намекаешь. И зря, Василий Антонович, зря. Мы с тобой, милый, столько работаем, такой труд в общее дело вкладываем, что некоторые развлечения иной раз имеем право себе позволить.
— Но ведь егеря, охотничьи домики, такие порядки, когда кто-то тебе волков обкладывает, а ты палишь, — привкус тут не особенно приятный. Ильич вот сам-один ходил с ружьишком по лесу. Или, на крайний случай, с лесником на пару. А кричане, поезжане, доезжане… Кто там ещё?.. Барство это, Артем Герасимович, барство.
— Демократ ты, гляжу. — Артамонов усмехнулся.
— Это что — вроде ругательства у тебя?
— Да нет, напротив, одобряю. А я вот не дорос до такого. Во мне ещё пережитки сидят. — Артамонов кокетничал. — Но ты, в общем, подумай, подумай. Может, съедемся на границе областей, сорганизуемся. Учитывай вот что. Нынешней зимой волков много развелось. Постреляем их, полезное дело сделаем.
— Хорошо, — сказал Василий Антонович. — Подумаю.
Артамонов ушел. Василий Антонович только было взялся за трубку телефона, чтобы заказать Старгород и вызвать Соню, как в дверь постучали, вошел секретарь обкома Приморской области Ковалев, западный сосед Денисова.
— Не знал, стучать ли, — сказал он. — От тебя Артамонов вышел. И без меня, думаю, голову человеку заморочил. А ещё и я возьмусь…
— Входи, входи, Дмитрий Дмитриевич. Садись. У меня голова крепкая. Ее не так легко заморочить.
— Смотря кто за это возьмется! Артамонов все может. Не знаю, как ты, а я, сказать тебе откровенно, его не очень люблю. Ячества в нем много: я, мы, нас, мое, мне!..
— Но дело у него идет здорово, Дмитрий Дмитриевич.
— Идет. Это верно. Вести народ за собой умеет. Ну леший с ним, оставим его при всей славе. Кто чего заслужил, тот то и получает. Исполать ему, болярину именитому. Я, знаешь, зачем к тебе зашел?
В дверь постучали. Появился Лаврентьев.
— А, привет, привет! — Ковалев поздоровался с Лаврентьевым. — Ну вы оба здесь. Тем квалифицированней разговор будет. По нашей области течет река Лада. Сто километров. По вашей области течет река Кудесна. Двести десять километров. Впадает в Ладу. Итого триста десять километров отличного полноводного пути. А как он используется? Так, кое-где. Катеришки местного значения. Баржи. Плоты. Старые пароходишки. Почему не организовать образцовую водную магистраль? Ваша глубинка получит выход к морю. Почти окно в Европу. Я ведь не о вас, в общем-то, пекусь, хотя и вы мне не безразличны. Я о тех ста километрах берегов Лады, которые проходят по нашей области. Пойдут пароходы, поедут туристы, приедут гастролеры — театры, концертные бригады. И так далее, и тому подобное. Энергичнее культура начнет вторгаться в прибрежные села. Какое значение имел в свое время древний водный путь «из варяг в греки»! У нас есть расчеты, есть всякие соображения. — Он вытащил из кармана записную книжку, стал называть цифры.
— Давайте, товарищи, закажем сюда ужин и поговорим на эту тему поосновательнее, — предложил Лаврентьев.
Все согласились, вызвали официантку, назаказывали, кто чего хотел.
— Мне эта идея нравится, — сказал Василий Антонович, когда разделались с заказом. — Вот что мне сейчас, и именно сейчас, пришло в голову. У этого пути может оказаться огромное будущее. У нас же в области аномалия вроде Курской! Черт знает сколько руды, может быть, лежит в наших недрах. Достать ее да двинуть на ваши металлургические заводы!.. Ты слыхал, Петр Дементье-вич? — Он повернулся к Лаврентьеву. — Слыхал, как Черногус жмет на эту аномалию? Обвиняет обком в бесхозяйственности. Хочу ставить вопрос перед правительством. Надо разведку организовывать. Да, да, да, Дмитрий Дмитриевич, неплохая идея у тебя. Мы с Петром Дементьевичем согласны: давай двигать вместе.
Они наперебой принялись рисовать перспективы будущего пути из Приморья в Старгород-чину. На Ладе и Кудесне появятся многопалубные быстроходные теплоходы; может быть, и такие, что ходят на подводных крыльях: как рванут — путь в триста километров за четыре часа отмахают. А сейчас железной дорогой, кружными путями вокруг озер и болот, почти сутки едешь. Фантазировали, как ребятишки. Но ведь поначалу все фантазии кажутся ребячьими. А потом оказывается, и под водой плавать человек может, и на Луну ракету отправит, готовясь сам к полету туда. Фантазия сегодня — первый шаг к реальности завтрашнего дня.
Когда принесли еду, принялись закусывать. Ковалев рассказывал смешные истории. Василий Антонович и Лаврентьев от души смеялись.
— Одно беда, — сказал Ковалев к слову. — Возраст, собака, начинает сказываться. Так ещё вот ходишь, здоровяк здоровяком, ногу прочно на землю ставишь. А пришлось недавно, через канавку прыгнул. Этак, знаете, как в былые времена, козликом. А ноги-то того, подогнулись. Чуть носом землю не вспахал. Удивился, огорчился, в раздумья ударился. Вот оно проклятье человеческое — старость, а за ней и… Давайте по рюмке выпьем! В порядке борьбы со старостью.
Официантка принесла графинчик.
— Да, — сказал Лаврентьев. — Как бы все изменилось, если бы и в атом деле можно было придумать обратный ход. Смотри, как в природе, то есть в растительном царстве. Кипит оно весной молодостью. Зреет, вступает в силу летом, дает плоды осенью. А потом… Нет, не умирает. Уходит на покой, до весны. Весной вновь бушует по-молодому, обновленное, возрожденное.
— Ты поэт, Петр Дементьевич, лирик. Но не материалист, — сказал Василий Антонович. — Ты же агроном! Как ты не понимаешь, что не на покой растительное царство уходит к зиме. Оно умирает тоже. Кроме деревьев да многолетников. Но и у тех срок есть. А травы все, цветы… Увы, Петр Дементьевич! Следующей весной не они, а их дети растут и цветут — от корней, из семян, из отростков. Вечного ничего нет, кроме материи. В этом смысле и мы все бессмертны.
— Да, но это не утешает, — сказал Лаврентьев. — Возродиться в виде куста чертополоха!
— А может, розочка из тебя получится? Этакий бутончик! Красотки будут любоваться, пальчики колоть о тебя.
— Вот я вам скажу, если красоток дело коснулось, — заговорил Ковалев. — Ко мне один пришел и говорит: «Мучаюсь, говорит, сомнениями, товарищ секретарь. Разъясните мне, освободит» душу от груза размышлений. Как жить человеку? Можно строить, создавать, всю свою жизнь посвятить людям. Это хорошо?» — «Хорошо, говорю, очень хорошо». — «Вот и я так думаю. А товарищ мой один совсем иначе считает. Он говорит: иди ты со своими стройками, умирать будешь, что вспомнишь? Доменную печь или шагающий экскаватор. А я Дусь своих вспоминать буду, которые меня любили и я которых любил. А это как понимать, товарищ секретарь?» — «Что ж, говорю, и Дуси не плохо. Любовь, дорогой друг, чудесное чувство. Боюсь, что без него и доменных печей не было бы, и шагающих экскаваторов. Ни доменной печью Дусю не заменишь, ни Дусей доменную печь. Как-нибудь уж так, в комплексе рассматривайте все». — «Считаете?» — «Да, считаю». Так что вы думаете? Вчера в ЦК заскочил в обеденный перерыв, кляузу мне показали. Накатал-таки на меня цидулю. Секретарь обкома на моральное-де разложение его ориентировал!
Разошлись поздно. Василий Антонович заказал Старгород, поговорил с Софией Павловной. Слышно было не очень хорошо. Половины он не понял. Но ему важно было услышать ее голос, и спать он лег довольный.
Дни шли, пленум работал. Василий Антонович встретился за это время с министром химической промышленности, окончательно договорился о замене Суходолова. Министр повторил, что в министерстве давно сложилось мнение о Суходолове как о слабом работнике, но освобождать его не решались из-за него, Василия Антоновича, который занял другую позицию и поддерживает Суходолова. Конфликтовать не хотели, секретарь обкома — это секретарь обкома, ему на месте многое виднее, чем работникам министерства в Москве. Министр распорядился подготовить приказ о назначении новым директором на Старгородский химкомбинат главного инженера комбината.
Дело как будто бы было сделано. Но на душе у Василия Антоновича было нехорошо. Во-первых, удручало, что так легко расстаются с Николаем: чернильная загогулина росписи на листе бумаги — и человека нет. Во-вторых, беспокоило то, что именно он, его друг, хлопочет об освобождении Николая, о назначении нового директора. И, в-третьих, вновь Василию Антоновичу указали на его вину, что дело тянулось так долго.
К концу пятого дня пленум закончил работу. Выступали секретари ЦК, подводили итоги обсуждения вопросов, дали анализ положения в сельском хозяйстве, развернули программу новых работ.
Назавтра Василий Антонович отправился в ЦК, к секретарю, имя которого ему было названо ещё в тот день, когда Василий Антонович выступил на пленуме.
Поговорили о делах в области, Василий Антонович перечислил все вопросы, какие его волновали: строительство дорог, переустройство селений, механизация, реконструкция водных путей. Секретарь ЦК во всем его поддерживал. А затем заговорил сам:
— Я с вами вот о чем хотел поговорить, — сказал секретарь ЦК. — Вы интересно рассуждали о партийных комитетах на селе. Разверните такой опыт пошире. Посмотрим вместе, что получится. Сообщайте о результатах. Это очень интересно.
Василия Антоновича подмывало рассказать о разговоре с Артамоновым, который считает, что можно и так и так, не в том, мол, суть, а только в том, чтобы давать мясо, хлеб, молоко. Но не сказал. Посчитал, что это будет уж слишком мелко. Не ссылаясь на Артамонова, он высказал свои мысли об идейном воспитании коммунистов, о том, что для коммуниста годятся далеко не все пути, ведущие к цели, а только те, которые соответствуют идеалам строительства коммунистического общества, высоким, светлым и благородным.
— Безусловно, — поддержал его секретарь ЦК улыбаясь. — Тут у нас с вами расхождений нет и быть не может.
Секретарь ЦК ещё несколько лет назад сам был секретарем обкома. Он понимал Василия Антоновича с полуслова, отлично разбирался во всех его трудностях и сложностях, и разговаривать с ним, конечно, было легко. В его кабинете Василий Антонович чувствовал себя просто и значительно уверенней, чем на трибуне Кремлевского зала. Он сказал об этом секретарю.
— Честно говоря, — ответил тот, — я тоже и до сих пор, хотя уже не раз побывал на этой трибуне, все равно волнуюсь. Ведь тебя слушают тысяча, а то и две тысячи людей, и сказать им надо такое, чего хотя бы частично они не знали без тебя, сказать хотя бы немножко нового, а если уж и не нового, то, во всяком случае, и о старом по-новому. Иначе ты пропал. Требовательная трибуна. Понимаю вас, товарищ Денисов.
Из Москвы, как всегда, выехать было не легко. Ходили с Ковалевым в министерство речного транспорта, ходили с Лаврентьевым по другим министерствам, о чем-то договаривались, что-то согласовывали. Договорились о разведке магнитной аномалии. На все это ушло ещё дня три. Выехали под самый Новый год, так, чтобы только-только успеть в Старгород к утру тридцать первого декабря. Ехали довольные, получившие хорошую душевную зарядку. Возможно, что иногда думали об одном и том же, потому что когда Лаврентьев сказал: «Цыплят по осени считают, Василий Антонович», он ответил Лаврентьеву: «Да, да, вот именно. У нас народ не хуже, чем у них. Еще посмотрим. Может быть, ещё и на соревнование их вызовем».
29
София Павловна хлопотала о встрече Нового года. Времени оставалось мало: Василий Антонович приедет утром тридцать первого, сразу же, конечно, отправится в обком, ни о чем с ним не посоветуешься, все надо решать самой — кого приглашать, чем угощать.
Созвать гостей дело очень и очень не простое. Надо ведь так созвать, чтобы люди знали друг друга, доверяли друг другу, хоть в какой-то мере взаимно нравились, вызывали взаимную симпатию, не сковывали бы соседа. Самыми трудными и тягостными бывают те разношерстные компании, в которых людей никто и ничто, кроме закуски и выпивки, не объединяет. Такие компании собираются чаще всего на новосельях. Счастливые, получившие новую квартиру хозяева рассуждают так: надо позвать того, надо позвать этого, тот помогал нажимать там-то, этот звонил туда-то, нельзя быть неблагодарными. А ещё надо позвать подругу, а то она обидится, позвать приятеля — тоже может надуться, если не позовешь. Кроме того, как обойтись без тети Клани и дяди Кости? И вот соберутся все, кого надо благодарить, все, кто сочувствовал; в них растворится некоторое число самых близких друзей, да втиснутся на приставленных табуретках тети и дяди, — никто никого не знает, сидят, молчат, жуют и пьют, — да и то вяло. Какой-нибудь энтузиаст — такой непременно найдется — шумит, рассказывает анекдоты, провозглашает тосты, но в конце концов и он утихает. Хозяева все больше торчат на кухне, носят оттуда холодцы и винегреты, открывают бутылки, консервные банки и никак не могут понять, почему за столом такая тягостная атмосфера, — и свежие помидорчики среди зимы раздобыли, и ло-сосинку спроворили, такую свежую, малосольную, и грузди чуть ли не из Кашина специально привезли.
А то бывают компании другого рода, но все равно немыслимо тоскливые. Случается это у хозяев, для которых гости — мероприятие, упрочивающее их общественное положение. Приглашается товарищ из высокого учреждения, пусть он третьестепенное лицо в том высоком учреждении, но от него, именно от него, зависит протолкнуть, продвинуть какое-то важное дело хозяина дома; а уж к тому товарищу подгоняются другие гости — из друзей и знакомых хозяев. Они должны составить некий антураж, дабы гость из высокого учреждения видел, кем обычно окружены хозяин и хозяйка. Очень важно в таком случае заполучить какую-нибудь знаменитость — пусть посидит час, не больше, пусть скажет слово, не больше, пусть просто многозначительно молчит и ест салаты, но пусть товарищ из важного учреждения видит, кто запросто бывает в том доме. Хозяева в таких случаях оживлены, хозяйка сидит возле товарища из высокого учреждения, обнимается с его женой, хозяин демонстрирует свою оригинальность в суждениях. Поскольку все внимание хозяев сосредоточено на одной точке, гости мало-помалу разбиваются на группки, разбредаются по комнатам, на столе ничего не съедено, ничего не выпито, и в итоге хозяева даже не помнят, когда кто ушел и уехал, они провожали только гостя из высокого учреждения.
У Софии Павловны и Василия Антоновича созывались люди по признаку взаимного тяготения и ни по какому другому. Василий Антонович был до крайности щепетилен в таких делах. Иной раз и позвал бы человека, да опасается, как бы тот не подумал, что перед ним заискивают. За столом у Денисовых не скучали. И София Павловна, и Василий Антонович считали, что гостей надо занимать. Позвал — занимай. Если только поесть, люди могли бы и в ресторан пойти. Нет, ты их и корми вкусно, и сделай так, чтобы им было интересно и весело. Уставали оба за вечер, проводив гостей, валились в постель почти без сил, но гости уходили довольные, шумные, поминая хозяев добрым словом.
Поэтому так трудно было Софии Павловне готовиться к Новому году без участия Василия Антоновича. Кого звать — всегда решали вместе, тщательно обдумывая каждую фамилию. Как быть, например, сейчас с Николаем Александровичем? Шурик говорит, что Суходолов уже готовится сдавать дела на комбинате: из Москвы позвонили, что министр подписал приказ о назначении новым директором главного инженера. Будет бросаться на Василия Антоновича, будет взывать к массам. Но не это главное. Главное, что все так нехорошо случилось, что сам вовремя не догадался уйти и что именно Василий Антонович, его друг, вынужден был снимать с работы своего друга. И все-таки София Павловна позвонила Суходолову. Но тот категорически отказался. «Нет, Соня, нет, — сказал твердо. — К твоему мужу я больше ни ногой. Старая большевистская гвардия так не поступала. Он для меня отныне чиновник и канцелярист, а не человек с душой и сердцем. Извини. Поздравляю тебя с наступающим. Желаю счастья». Пробовала уговорить его жену. Тоже ничего не вышло. Предновогоднее приподнятое настроение изрядно омрачилось.
Не знала София Павловна, как быть с Влады-чиным и с Черногусом. Юлия сказала, что она только в том случае будет встречать Новый год дома, если будет Владычин. Если Владычина не будет, она уйдет. Куда? А не все ли равно! К Птушкову в Озёры поедет. Но София Павловна чувствовала, что Василий Антонович относится к Владычину настороженно. Нет, нельзя было приглашать Владычина, нет. А Черногус, когда София Павловна завела с ним предварительный, разведывательный разговор, сказал, что вот уже много лет он Новый год встречает в семье какого-то старого друга и обычаю своему изменить не может. Традиция. И если нарушить ее — это плохой знак, что-нибудь да будет нехорошо в году. Что ж, значит, как всегда — Лаврентьевы, Сергеевы, ещё двое или трое — старая, испытанная компания, которую и она, София Павловна, и он, Василий Антонович, очень любят и в которой чувствуют себя, как среди родных. Ну и хорошо, что так получается.
Шурик сказал, что он пока не знает, как будут обстоять дела у него с Новым годом. Кажется, он встретит его с товарищами по цеху. Его приглашают в клуб. А как же с Павлушкой? Девочки это берут на себя. Устроят.
— Девочки, — сказала София Павловна — и с грустью и в то же время с некоторой легкостью на сердце; и погладила сына по голове, как бывало в детстве.
С утра, — ещё не пришел поезд, на котором должен был приехать Василий Антонович, — Александр упаковал Павлушку в теплые одежды, сказал: «Ну, мамочка, с наступающим! Я тебе ещё позвоню. А пока — желаю и тебе и отцу много счастья. До свидания, мама», — взвалил на руки довольно-таки тяжелого Павлушку и ушел. Отогнув край шторы, София Павловна смотрела на темную улицу, ждала, когда Александр будет ее переходить к автобусной остановке. «Девочки…» — повторила она грустно. Ну пусть бы, пусть девочки, пусть найдется такая, что вернет его к нормальной человеческой жизни. Это же невыносимо, как он живет сейчас, какие тащит на себе тяготы. Двух женщин приводила в дом София Павловна. Обеих Александр забраковал. Нет, он не чувствует к ним доверия; равнодушные, безразличные, разве можно поручить им Павлушку? Нет и нет. И вот таскает, вот идет, скользит на разъезженной мостовой, бережно несет своего сынишку; вот ему уступают дорогу, его уже на остановке знают, подсаживают в автобус. Поехал. Софии Павловне припомнилась недавняя добровольная Павлушкина сиделка — Майя, девушка из цеха Шурика. Она интересная — ничего не скажешь. Но, кажется, излишне грустная. И умная, ли?
Шурик уехал. А София Павловна все стояла у окна; теперь она ждала машину Василия Антоновича. Роман Прокофьевич Бойко давно отправился его встречать. Перед обкомом Василий Антонович непременно заедет на минутку домой.
Александр тем временем трясся в автобусе. Павлушка пальчиком протаивал светлое пятнышко на обмерзшем, обметанном пушистым инеем окне, Александр размышлял. Он сказал вчера Софии Павловне правду: он ещё толком не решил, где ему встречать Новый год. Дома? Там будет своя, отцовская, компания. У них будут свои разговоры. Зачем ему туда лезть? В клубе, куда приглашает молодежь цеха? Будет скучать, нервничать, беспокоиться о Павлушке. Кому радость этот Новый год, а ему одно беспокойство. — Учтите, товарищ Денисов, — сказала заведующая детским садом, — что сегодня у нас будут дежурные няни. И если надо, можете оставить сынишку хоть до утра и даже на завтрашний день. Для ребятишек устроена елка, будут подарки, все будет.
— Спасибо, — сказал Александр.
— А если что, — добавила заведующая, — если, например, вы ещё не решили, где встречать Новый год, у меня компания собирается. Милости прошу.
— Спасибо, — и на это ответил Александр. — Учту. — Он улыбнулся, пожал руку заведующей. — Но только меня уже в клуб пригласили.
Он опоздал на несколько минут. Дневная смена приступила к работе. До вечера, до двенадцати ночи ещё далеко, а многие с утра приодеты, все в приподнятом настроении, работа идет хорошо. В цехе все сверкает.
— Ну вот, — сказал ему Булавин. — Своего мы добились. Бог правду видит.
Александр понял его.
— А что, новый уже приступил? — спросил он.
— В приказе сказано, что с первого января, то есть с завтрашнего дня ему приступить. Но я с ним уже говорил. Числа с пятого или с десятого начнем ремонт оборудования. Ничего. Недели две, конечно, простоим. Потом наверстаем.
Александр подумал о том, как будет встречать Новый год Николай Александрович. Вздохнул.
— А молодец ваш папаша, — сказал Булавин. — До этого он был для меня личностью безразличной. И даже я на него крепко злился за всю эту проволочку с директором. А сейчас уважаю. Нелегко так вот со старым другом поступить. Нашел в себе силы. Принципиальный человек.
Александр промолчал.
— Я пойду в завком, Александр Васильевич, — сказал Булавин. — Итоги подводим… Премии сегодня будем обсуждать, благодарности. Я же член завкома. А вы командуйте.
Александр прошелся по аппаратному залу. Старшей в зале в тот день была Майя Сиберг. Подобно медицинской сестре, она была в белом накрахмаленном халате, туго затянутом поясом, в белом платочке, повязанном так, будто это тоже медицинская шапочка.
— О, доктор! — сказал Александр. — Здравствуйте!
Майя, конечно, покраснела сначала. Затем тоже сказала:
— Здравствуйте, Александр Васильевич. Как поживает ваш сынок?
— Очень хорошо он поживает, Майечка. О вас спрашивает.
— Ну это вы говорите так, из любезности. Вы хотите мне сделать приятное.
Они ходили рядом по залу. В аппаратах еле слышно шумело, мирно побулькивало в трубах. Чуть заметно вздрагивали чуткие стрелки приборов, показывая давление и температуру жидкостей, участвующих в тихих, но грозных процессах распада и синтеза.
— Вы будете сегодня в клубе? — спросил Александр.
— А вы, Александр Васильевич? — Майя ожидающе смотрела на него своими большими голубыми глазами.
— Вы отвечаете вопросом на вопрос, — сказал Александр. — Это хитрость.
— О нет, я совсем не хитрая! — воскликнула Майя. — Я не знаю просто. И сестре надо помогать дома. И с подругами хочется быть тоже.
— И у меня положение сходное с вашим. Дома — родители… Могут обидеться, если сын от них уйдет в такой вечер. И вот молодежь пригласила…
— Вы так говорите это слово «молодежь», будто вам уже очень много лет, Александр Васильевич. Вы тоже «молодежь». — Майя улыбалась. — Вы совсем немножко старше меня. На четыре года.
— А вы откуда знаете?
— Знаю. — Майя улыбнулась ещё веселее. — Я про вас много что знаю.
— Ну что, например?
— Нет, я не буду вам этого говорить. Зачем говорить? Вы и сами всё знаете.
Александру было приятно разговаривать с Майей. Не в словах дело, слова были обычные, он в них не очень-то и вникал. Он слушал музыку ее голоса, как будто это была не речь, а пение, которое трогало за душу, проникало в сердце.
— Хороший вы человек, Майя, — сказал он.
Майя вновь покраснела, хотела что-то ответить, но Александра окликнули к телефону. Его тоже вызывали в завком. Там возник спор вокруг каких-то фамилий, Булавин просил прийти и поддержать.
И вот, когда на участке никого из начальства не осталось, когда Майя была тут единственной хозяйкой, она с ужасом заметила, как дрогнули и заметались стрелки индикаторов. Было по-прежнему тихо, безмятежно в аппаратном зале. Только метались стрелки. Майя поняла: приближается что-то страшное, может быть, катастрофа: химия такая стихия, которая способна взбушевать в любую минуту.
Надо было немедленно принимать решение. Прежде всего надо было всем покинуть цех. Майя включила рубильник звонка. Во всех помещениях зазвенела тревога. Это был сигнал на выход, на немедленный выход. Люди цеха были воспитаны в духе беспрекословного уважения к сигналам. Здесь было как на фронте: дана команда, ее немедленно выполняй. Люди хватали одежду и выбегали на двор. Многие выскочили, не успев даже одеться, они бросились от холода в соседние цеха. Одетые стояли в отдалении на снегу, смотрели на свое здание, готовые к любым неожиданностям. Все знали, что такое химия. Из соседних цехов звонили в дирекцию, в партийный комитет, в завком.
Цех молчал, грозно и багрово поблескивая стеклами в косых лучах низкого декабрьского солнца.
К входу промчались вызванные звонком Александр и Булавин.
— Там кто-нибудь остался? — на ходу успел крикнуть Александр.
Он не слышал ответа. За ним хлопнула дверь. Тотчас хлопнула она и за Булавиным.
В пустом аппаратном зале была Майя. Она торопливо крутила вентили, поворачивала рукоятки. Она поняла, что взрыв неизбежен, что ударить может в любое мгновение и уже ничто не способно предотвратить это. Можно было лишь уменьшить размеры катастрофы, выключив из цепи реакции как можно больше аппаратов.
У Майи не было мысли бросить все и бежать. Нет, нет, нет. Ей доверено такое огромное дело. Ну что ж, она погибнет, что ж? Сколько раз она могла уже погибнуть с сестрой; братик так и погиб. И разве это страшно? Нет, это совсем не страшно. Надо только ни о чем не думать и быстро закрывать эти краны, ещё, ещё и ещё… Страшно, когда погибаешь глупо и никому не нужно…
— Куда вы? Куда? — закричала она отчаянно, увидев Александра, вбегающего в аппаратный зал. — Сюда нельзя!
Позади нее ударил оглушительный взрыв. Страшная сила толкнула ее в спину, согнула, скрутила и бросила к ногам Александра. Майя слышала только грохот, но ни боли от этого бешеного толчка, ни боли от удара всем телом о каменный пол уже не почувствовала.
30
Морозы в январе стояли крепкие. Снег перепадал редко, но обильно, лежал он пухло, пышно, покрыв периной землю, обкидав ветви елей, белыми дугами согнув тонкие стволы берез. Дни держались тихие, солнечные, ночи шли скрипучие, в звездах, в мягких лунных разливах. На далеких лесных опушках, исходя тягучей тоской, выли озябшие волки; по утрам вокруг огородов, за плетнями, — печаталась на сугробах суматошная вязь заячьих следов и вилось между ними осторожное лисье хождение.
Забелин уехал. Не потому, что все было решено с перепланировкой и перестройкой Забо-ровья, с превращением его из старого в новое. Решили только основное — то, что дома надо строить городского типа, без кокетничания историческими и национальными традициями российской деревни, без того, о чем можно было бы сказать: стиль «рюсс нуво», без соединения современных шлакоблоков с былинными петухами на крыше. Красиво спланировали центр нового Заборовья, — его две главные магистрали. Непременно, уже в наступившем году, в селе должен быть водопровод; неясно ещё только, откуда вести воду — с помощью насосной станции из реки Жабинки, или взяться за дело поосновательней и пробуравить в толще прибрежных песков скважину артезианского колодца.
Обо всем этом надо будет думать и думать, и Забелин ещё приедет. Его вызвали для участия в сдаче домов в Старгороде, которые построены по его проектам и под его наблюдением.
Баксанов остался в комнате один. «Архитектурную мастерскую» не разоряли. В ней так же лежали на столах и были приколоты к школьным доскам листы чертежной бумаги с набросками планов, с почти готовыми планами во множестве вариантов; по-прежнему вечерами здесь, как в клубе, собирались под лампами-молниями колхозники и фантазировали о будущем.
Ранними утрами, ещё до света, при звездах, Баксанов закидывал за спину ружье, становился на лыжи и по нетронутым снегам шел встречать зарю, то в сторону от реки — к темным лесным чащобам, то через реку — в коварные молодые березнячки и соснячки, в которых, не будь солнца, указывающего страны света, можно было бы легко заблудиться; или устраивался на береговом обрыве и с тщательно выбранной позиции наблюдал за световыми и красочными переменами в небе над той частью горизонта, из-за которой час спустя выползал край огромного солнца.
Рождение каждого нового дня природа обставляла величественной торжественностью; вначале не было ни фанфар, ни барабанов, ни восторженных, ликующих кликов, — был только свет, были только краски, они заменяли все. Густая синь ночи на востоке, будто в нее понемножку подливали воды, постепенно превращалась в аквамарин, аквамарин сменялся бледно-сиреневым нежным свечением, которое охватывало добрую половину горизонта, оттесняя первозданную синеву к западу. Это были как бы первые запевы флейт, к которым едва-едва присоединяли свой голос кларнеты.
Затем на тонкий задумчивый сиреневый грунт, расплываясь, падали первые брызги радостно опаловых красок. Так вступали трубы. Они крепли, ярчали, набирали все больше розовой желтизны. В небо веером взлетал фонтан золотых, все сметающих на своем пути пламенных стрел. Это вскрикивали тысячи звенящих фанфар, — и под гром огромных барабанов в золотом огне являлось солнце. Сначала оно только показывало лоб и один глаз над горизонтом, как бы спрашивая: а что тут нового на земле, все ли в порядке? И только тогда подымало все свое горячее слепящее лицо.
А какие перемены происходили на земле! Как мелодично и музыкально становился то синим, то сиреневым или розовым снег. Как бриллиантово вспыхивал он при появлении солнца. Как длинные тени деревьев становились постепенно короче, как в канавах, в оврагах, в глубоких колеях залегала прозрачная холодная голубизна.
Из-за всего этого стоило вставать до света, вместе с хозяйками, с доярками, с петухами. Никакая сокровищница мира не располагала такими богатствами, какие за один утренний, рассветный час щедрыми пригоршнями разбрасывала по земле царица-природа.
У Баксанова дыхание захватывало от радости, от восторга в этот заветный час. Он совсем позабывал, что уже недалек день, когда ему стукнет полсотни, забывал, что он толстяк, тучник, который никак не может справиться с распухшим животом. У него вырастали крылья молодости. Он мчался на лыжах, не разбирая дороги, не помня об одышке. Сверкающая снежная пыль вихрилась позади, медленно опадая в лыжни. Он отыскивал местечко поживописней, доставал из кармана полушубка бутерброды и бутылку с ещё не совсем остывшим, тепленьким чайком и завтракал под открытым голубым и солнечным небом.
В часы хождения на лыжах хорошо думалось. Случилось так, что в голове сама собою начала складываться новая повесть. Общение с Забелиным, с колхозниками Заборовья подтолкнуло Баксанова на это. Возникала повесть о старом архитекторе, который обрел вторую молодость, попав случайно в условия, подобные тем, что были в Заборовье. В воображении рождались хорошие люди, люди с мечтой о новой, красивой жизни, формировались их характеры, заострялись конфликты.
Обдумав очередную главу в таких блужданиях по лесам и полям, Баксанов затворялся после обеда в своей комнатке и до вечера, до того часа, когда в «архитектурную мастерскую» начинал сходиться жаждавший общения колхозный народ, торопливо, в азарте, исписывал добрый десяток листов бумаги. «Вот беда-то, — думал он иной раз, — не вовремя прорвало. Всяких общественных дел уймища, в Старгород ехать надо, а тут вот что получается». А из Старгорода и в самом деле названивали чуть ли не каждый вечер. Кто-то поссорился, кто-то чего-то не поделил. Зовут разнимать, разбирать. Тянул, не ехал. «А ну ещё главку. А ну ещё», — назначал себе срок за сроком.
В солнечном лесу, на солнечных опушках, среди голубых снегов все забывалось, все старго-родские страсти казались мелкими и пустыми, и думать о них не хотелось.
В один из таких дней, встретив очередную зарю, Баксанов скатился с обрывов на лед Жабинки, пересек ее вкось и углубился в молодые сосняки. Лыжи легко скользили по просекам, по лесным дорогам. Кто-то куда-то тут езживал на дровнях: следы полозьев, окованных железом, следы лошадиных копыт, сено, вычесанное придорожными ракитами из саней… Бежали лыжи, упруго толкались о снег бамбуковые палки, увесисто давило спину двухствольное ружье двенадцатого калибра, в патронташе, тугим поясом стянувшем необоримый живот, медными рыжими глазками поблескивали капсюли патронов.
В стороне грохнуло несколько выстрелов. Баксанов не обратил на них внимания, — в эти дни охотников в окрестностях Заборовья встречалось не мало. Били зайчишек, били лис, куропаток.
Но вот он вышел к лоскутьям красной материи, развешенным на веревке толщиной почти в полпальца. Веревка змеилась вправо и влево по мелколесью, на высоте его пояса, уходя в темные чащи. Вдоль нее было натоптано, и вдоль нее прямо оттуда, где Баксанов только что слышал выстрелы, вывалив язык, мчался ошалелый, запыхавшийся волк. Увидев человека, волк метнулся в сторону от красных флажков. Но Баксанов, охваченный охотничьим азартом, уже сбросил через голову ружье, уже перезарядил его картечью и успел ударить вслед волку из обоих стволов. Он видел, как падали на снег срезанные выстрелом ветки молодых сосенок и березок, видел, как летели клочья пыжей. Но не сразу сообразил, что же с волком.
А волк с разгона ушел мордой в рыхлый снег и лежал шагах в семидесяти впереди, возле почерневшей от старости, кособокой елки.
С бьющимся, разволновавшимся сердцем Баксанов медленно пошел к нему.
— Молодой человек! — услышал он грубый, властный окрик. Из чащи наперерез ему, ступая широкими охотничьими лыжами, шел грузный большой дядя в просторной куртке из зеленого сукна, в высоких черных валенках; большой ручищей без рукавицы он легко держал за резную шейку ложа ружье, положив его стволами на плечо. — Ты кто такой? — спросил, подойдя вплотную. Седые волосы были обметаны инеем, инеем пушились и мохнатые брови, из-под которых тяжелым взглядом смотрели холодные глаза.
— А вы кто такой? — ответил Баксанов достаточно вежливо для той лесной обстановки и для столь бесцеремонного вопроса.
— Если я спрашиваю, надо отвечать, — сказал грозный охотник. Он уже не назвал Бакса-нова, молодым человеком, очевидно разглядев вблизи, что это не совсем так.
— Пожалуйста, отвечу. Я лицо несекретное и не номенклатурное, — сказал Баксанов с улыбкой. — Я писатель. Фамилия моя Баксанов.
Охотник кашлянул.
— Евгений? — спросил менее грозно. — Так точно. Евгений Осипович.
— Будем знакомы! — Охотник переложил ружье в левую руку, правую подал Баксанову. — Артамонов. Секретарь здешнего обкома. А вы, товарищ Баксанов, на чужую территорию заехали! — Он засмеялся. — Нарушитель госграницы. Пойдем посмотрим волчишку.
Пока шли к убитому волку, в лесу, спеша за Артамоновым, появились ещё люди с ружьями. Баксанов с интересом рассматривал знаменитого Артема Герасимовича, «отца» области, которая под его руководством одерживает одну победу за другой. Он не плохо знал Василия Антоновича Денисова. Интересно было разобраться, чем же Артамонов отличается от Денисова, чем берёт над ним верх.
— А вы его здорово, товарищ писатель!.. — Артамонов тронул волка ногой. — Наповал! Перехватил, дорогой мой, у меня. Я вон там стоял. Ждал его, бродягу.
— Будем считать добычу совместной, — предложил Баксанов миролюбиво. — Для меня, во всяком случае, она случайность. Я не очень охотник. За всю жизнь убил с десяток зайцев, одну лису, с полсотни уток да десятка два тетеревов. Волк этот — первый настоящий зверь. Сам удивляюсь, как я его спроворил!
— Что ж, победу надо отметить, — сказал Артамонов. — Тем более что первая. Тут недалеко у нас привал устроен. Пойдем, выпьем чарку. Пойдем, пойдем, не отказывайся. Нехорошо соседей обижать.
Баксанов пытался было отнекиваться, ссылаться на то, что его ждут в Заборовье. Артамонов и слушать ничего не хотел. Пришлось уступить. Утешался только тем, что получил возможность понаблюдать за такой знаменитостью, которая, как говорят, идет в гору, и не исключена возможность, что подымется до руководящих постов в ЦК.
С километр шли на лыжах. Артамонов расспрашивал о том, как обстоят дела на Старгород-чине. Баксанов рассказывал о планах перестройки Заборовья, о работе, какую они проводят с архитектором Забелиным.
— Это правильно, — одобрил Артамонов-Покультурнее нашему народу надо жить. Он этого заслужил. Замечательный народ.
Вышли к полянке, на которой толпилось довольно много людей, стояло с десяток розвальней, набитых для мягкости сеном. На снегу возле них лежали ещё три волка. Лошади косились, всхрапывали, стучали копытами.
— Двух царапнул я, — с гордостью сказал Артамонов. — Ну, поехали, поехали! — Он обернулся к людям в белых военных полушубках. — Оставь лыжи, товарищ Баксанов. Забудь о них. Привезут. Садись сюда, на сенцо. Вот так, рядышком. Ну, двинули!..
Через полчаса езды, во время которой Артамонов рассказывал о том, как ему удалось «царапнуть» двух волков, добрались до нескольких строений на опушке леса. Был здесь и большой, двухэтажный, обшитый новым тесом дом. В нём оказалась вода, ее качали мотором из колодца, была, следовательно, и канализация, было электричество — столбы шагали сюда от ближайшего районного центра. В комнатах держалась теплынь от батарей центрального отопления.
— Вот так и живем, товарищ Баксанов! — Артамонов сбросил зеленую куртку и меховую шапку. — Раздевайся. Будем обедать. Гостю рад.
Люблю я вас, деятелей литературы и искусства. Народ вы путаный. Но интересный. Не обижайся. Что правда то правда, чего там, сам же знаешь. Вымыли руки, обхлестанные морозом лица, сели на диван.
— А что это за дом? — поинтересовался Баксанов.
— Сторожка нашего охотничьего хозяйства, — небрежно ответил Артамонов. — Перебирался бы, между прочим, товарищ Баксанов, к нам, в Высо-когорск. И к Москве на триста километров ближе, и вообще, у нас почет творческим работникам. Квартиру бы дали, какую только захочешь. Специально бы оборудовали. Наметили бы в строящемся доме и оборудовали по твоему личному плану. Кабинет бы, изолированный, звуконепроницаемый. Я же вас, писателей, знаю. Вам тишина нужна. Всякие радиолы и телевизоры за стенкой — для вас убийство. Неправду говорю?
— Совершеннейшую правду, Артем Герасимович. — Баксанов с ещё большим интересом смотрел на Артамонова. — Это заманчиво, чертовски заманчиво. Не все вот так, как вы, понимают нашу общую беду. У нас же учреждения, конторы какой-нибудь нет. Наше рабочее место дома. Работаем дома, надомники. Верно?
— Конечно, верно. Переезжай, всё будет. «Башню молчания» тебе соорудим. Как была у Павлова, у Ивана Петровича, в Ленинграде.
— Нет, не выйдет ничего, Артем Герасимович. Я ведь в Старгороде и родился. Поздно мне бегать. Привык. Каждый кустик в области, каждое болотце — родное оно мне, свое. Поздно.
— В обком бы тебя избрали. Депутатом сделали. Хороший вы писатель. — Он называл Бакланова то на «вы», то на «ты», вперемежку. — О деревне с большим знанием дела пишете. Вы не агроном ли часом?
— Нет, журналист.
— Тоже профессия широкого горизонта. Так вот, говорю, хороший ты писатель, наш, партийный. Для такого ничего не жалко. Но я смотрю шире. Я забочусь, чтобы у меня в области были творческие работники разных направлений. Заели было одного в Приморской области, у Ковалева. Драматург, пьесы пишет. Критикуют да критикуют: мещанские-де пьески. Взял его к себе, квартиру дал, дачу. А пьески… Чего от него хотят? Ведь заграничные-то пьесы у нас идут? Идут. А у него ничуть не хуже заграничных. Даже ещё лучше. Публика смотрит. Театр сборы делает.
— Не согласен я с вами, Артем Герасимович. — Баксанов сказал это с явным огорчением. — Заграничные, они почему такие? Там иначе не умеют. У них материал, другой, мировоззрение иное.
— Ошибаешься, товарищ Баксанов, ошибаешься. Догматизмом от твоих установок отдает.
— Если стоять на позициях ленинских взглядов на литературу как на часть общепролетарского дела, если стоять на позициях выступлений товарища Хрущева по вопросам литературы, которыми, развиваются и продолжаются ленинские позиции, — если это догматизм, то только в таком случае я догматик, Артем Герасимович.
— Горяч ты, брат! Пойдем лучше за стол. — Артамонов поднял Баксанова за локоть с дивана.
За обедом он подливал ему в рюмку коньяку. Баксанов с беспокойством думал о том, как же это он, узке достаточно утомившийся от ходьбы на лыжах, такой толстый, не слишком легкий на ноги, да ещё вот напившийся коньяку, потащится теперь в Заборовье. Выдержит ли сердце?
Артамонов осторожненько выспрашивал его о Денисове. Как тот работает, как к нему относятся. Он спросил:
— А вот так, запросто, он вас, творческих работников, принимает? Общается? На охоту, например, взял бы да и пригласил писателей. А?
— Съездить в область, в колхозы — бывает, приглашает, — ответил Баксанов без особого желания продолжать подобный разговор. — А на охоту… Он не охотник, Артем Герасимович.
— Ханжа он у вас! — резко сказал Артамонов. — Вот он кто. Выпить? — рюмочку, не больше. На охоту? — ни-ни. Откуда только у него дети взялись?
— У него один сын.
— Все равно, непонятно откуда? На цитатках замесили, что ли, в колбочке?
— Я бы не хотел, Артем Герасимович, чтобы вы так говорили о Василии Антоновиче. — Баксанов отложил вилку. — Я его уважаю. Он руководитель нового типа. Без вождизма, без позы… Он…
— А я, значит, старого, типа? — Артамонов тоже отбросил вилку. — Что-то у этого нового типа дело не очень идет. А у старого — область гремит. У старого Герои Труда растут. Старый сам кое-какие звания получает. Что вы мне с этим новым типом! Народ не уважает главноуговаривающих. Народ любит главноработающих. Он у вас носится с партийной работой, не понимая, что эти времена прошли. Ты член партии? — спросил он резко.
— Член партии, да.
— Вот видишь, — спрашивать надо! Было когда-то и без этого видно. А теперь спрашивать надо. А почему? Потому, что беспартийные выросли, даже переросли иных коммунистов. Вот как. Учитываешь?
— А может быть, просто некоторые коммунисты отстали от беспартийных? Может быть, их зря в партию приняли?
— Как ты ни, крути, писатель, практическая, организаторская работа важней всякой иной, хоть партийной, хоть распартийной. Никакими теоретическими семинарами не сделаешь того, что делаю я лично. Я воодушевляю людей, вдохновляю их. Я сказал — сделают. А Денисов твой скажет — и что? Ничего.
— Вы что же, за культ личности? — спросил Баксанов прямо.
— Смотря какой личности, — ответил Артамонов. — Я терминов не боюсь. Меня пугали некоторые, да не испугали. А что — личность? Без личностей тоже дело не пойдет. Народу вожди необходимы.
— Вожди, личности… Но не культ их. — Баксанов встал из-за стола, отошел к окну, закурил папиросу. — Культ — это дурман, близкий к религиозному. Он все сковывает, все омертвляет, он отнимает у людей инициативу, самостоятельность…
— А не от каждого нужна эта инициатива, — перебил его Артамонов. — Чаще надо, чтобы слушали и выполняли.
— Я очень рад, что живу в Старгороде, а не в Высокогорске, — сказал Баксанов. В полной растерянности он наблюдал за тем, как смеркалось, темнело за окнами. — Слушайте, Артем Герасимович, — спросил, — а сколько отсюда до Заборовья?
— Здесь переночуешь. Далеко до Заборовья. Не знаю сколько. А что тебе не сидится? Красотку там поди завел. Вы, писатели, на это дело народ шибкий. — Артамонов засмеялся, сказал: — Ну, садись, ещё по рюмке выпьем да кофею попросим.
После обеда они долго играли в шашки. Все время выигрывал Артамонов. А выиграв, каждый раз шумно радовался, говорил, что в Старгороде даже в шашки играть не умеют, где им область поднять. Сидеть с ним уже не хотелось. Хотелось спать.
Но ускользнуть в комнату, где Баксанову была приготовлена постель, удалось только часов в десять. Как только разделся и коснулся подушки щекой, тут же и уснул. Сколько спал, неизвестно, — разбудили выкрики. Через стену был слышен голос Артамонова.
— Алло, алло! — глухим, беспокойным, бьющим по голове требовательным голосом кричал Артамонов. — Дай-ка, милая, мне квартиру секретаря райкома. Квартира Степченки? А это кто? Жена? Разбудите-ка, дорогая, супруга. Что значит — спит? Скажите, Артамонов звонит. Да, да, Артамонов. Степченко? Ну как с вывозкой удобрений? Нет, дорогой мой, своим транспортом обходиться надо. У обкома парка грузотакси нет. Плохо, товарищ Степченко! Поменьше спать надо.
— Алло, алло! — кричал он дальше. — Да, милая, длинный гудочек секретарю райкома, Луговому. Луговой? Что это у тебя голос такой, вроде ты спал? Спал? Так, так. Только секретарю обкома в праве на сон отказано. Остальные спят, что медведи в берлогах. Зима, дорогой мой, это только для медведей время сна. Для нас, партийных работников, это самое трудное время. Как поработаем зимой, так и весенний сев проведем. А как весенний сев проведем, такой и урожай у нас будет. Учитываешь? Ну как — с вывозкой удобрений? Не подбивали итогов? Да ты, брат, вроде канцеляриста стал. У партийного работника все цифры в голове должны быть. Ну подбей, подбей, да сообщи в обком к утру.
— Алло! Алло!.. — кричал он дальше.
Баксанов зажег свет, взглянул на часы: половина третьего. Закрыл было второй подушкой ухо. Не помогло.
— Алло, алло!.. — и сквозь подушку проникал бьющий по темени голос. — Да что вы полчаса не отвечаете. Вымерли все, что ли? Или понос у вас там? По уборным сидите? Артамонов говорит, вот кто. Секретаря райкома давай, трещотка. Гусаков? Тебе одного выговора мало? Второй заработать хочешь? Почему два дня никаких сведений не представляешь в обком? Как вывозите удобрения, рассказывай. Плохо! Считай, что второй выговор уже за тобой. Десять лет будешь их отрабатывать. Вот так.
— Алло, алло!..
Покрутившись ещё часа два под эту страшную музыку, Баксанов тихонько оделся и по деревянной лестнице сошел вниз. Внизу, в комнатах, тоже всюду спали люди. Кто они? Артамонов с ними его не познакомил, и Баксанов их так и не знал. Во дворе стояли распряженные сани, в конюшне слышно было, как, хрупая, жевали лошади. Отыскал в большом холле нижнего этажа свое ружье, отыскал в одних из саней лыжи. Было зябко от того, что недоспал, ноги идти не хотели. Но встал на лыжи и, делая усилие за усилием, пошёл Куда? Определял по звездам. Вот Большая Медведица. Ведя прямую линию от нее, находишь Полярную звезду. Надо держать курс так, чтобы Полярная звезда была все время строго слева. Тогда выйдешь к Жабинке. А уж по Жабинке доберешься и до Заборовья.
Шел, шел, шел, тяжело шел, пока в темную синь на востоке не стали подливать воды, пока не просветлел восток аквамарином, пока не охватил его нежно-сиреневый свет. Тогда остановился на глухой полянке, лег в снег и стал смотреть, смотреть в небо, на игру красок, слушать неслышные флейты, трубы, фанфары и барабаны. Что ни говори о ней, как ни порти ее, как ни осложняй, а жизнь все-таки прекрасна.
31
— К Сиберг, — ответил Александр на вопрос старушки, которая выдавала пропуска. — Во второе хирургическое, в шестнадцатую палату.
— Придется обождать, молодой человек, — ответила старушка. — У Сиберг уже и так двое посетителей. Выйдут, тогда… Раньше надо было приходить. Следующий?..
Александр сел в углу больничного вестибюля, на белую скамью, механически следил за входившими и выходившими. Те, кому пропуск уже выдали, получали в гардеробе халаты, надевали их и шли к лестнице, мимо молоденькой медицинской сестры, которая очень строго просматривала предъявляемые ей талончики пропусков.
Впуск посетителей начался минут за пятнадцать до прихода Александра, никто поэтому с лестницы обратно ещё не спускался. Неизвестно, сколько тут просидишь, пока от Майи уйдут те двое. Интересно, кто они? Если это Галя Гурченко и Сима Жукова, ее подруги, то их, конечно, не дождешься, — просидят до вечера, до того часа, когда посещения закончатся.
Поерзав на скамье минут десять, Александр не выдержал, подошел к сестричке у лестницы.
— Извините, пожалуйста. Как ваше имя?
— Рита. А вам зачем?
— Риточка, помогите мне. Дело в том, что там уже есть два посетителя. — Александр указал пальцем наверх. — А по вашим правилам одновременно у постели больного…
— Ясно. Вы хотите быть третьим? Это не полагается. Но я бы вас пустила. Не от меня зависит. Халатов больше нет. Подождите, пока хоть кто-нибудь выйдет и освободит халат.
Снова сидит Александр на белой скамейке, раздумывает. Семнадцать дней прошло с Нового года, семнадцать дней лежит в больнице Майя. Пока что посещать ее разрешали только родственникам, положение было тяжелое, неясное. И это первый впускной день, когда выдают пропуск к Майе Сиберг посторонним.
Александр уже несколько раз побывал у сестры Майи, расспрашивал ее о Майе, как чувствует себя, не хочет ли чего; ему хотелось непременно спросить, не пострадали ли голубые Майины глаза. Когда он, тоже в момент взрыва, Сбитый взрывной волной на пол, вскочил на ноги и бросился к Майе, ее лицо заливала кровь. Он схватил ее на руки и бросился прочь из аппаратного зала: могли же быть и ещё взрывы, и ещё большей, неизмеримо большей силы.
Майя, ему казалось, была мертва, безжизненно висели ее руки, безжизненно откинулась окровавленная голова. Он положил ее на чье-то пальто, разостланное на снегу; но уже спешили медики с носилками и санитарной сумкой, уже за воротами кричала сиреной машина скорой помощи. Тогда только Александр подумал о Булавине, оставшемся в аппаратном зале. Рванулся обратно, но у него подогнулись ноги, и он тоже упал на снег. Он был контужен.
Семнадцать дней прошло, а у него все ещё немного шумит в ушах. В больницу он ехать отказался, его отвезли домой, куда девушки позже доставили и Павлушку. Ухаживали за ним мама и Юлия. Полежал два дня, — встал; ещё три дня погулял с больничным листом в кармане, не выдержал, отправился в цех. Ему уже давно сообщили по телефону, что Майя жива, только сильно разбилась от удара об пол головой, всем телом, что состояние у нее хотя и тяжелое, но врачи не сомневаются в благополучном исходе. Он говорил по телефону с Булавиным, ругал себя за то, что бросил его одного в аппаратной. «Вы поступили очень правильно, Александр Васильевич, — ответил Булавин, — вы спасли человеку жизнь. Если бы не вы пришли на помощь Сиберг, то сделал бы это я, а вы остались бы в аппаратной».
Когда Александр пришел на комбинат, там ещё не утихли разговоры о Майе, о ее подвиге. Да, да, да, то, что она сделала, все называли подвигом. Если бы не Майя, взорвались бы не два аппарата, а вся их длинная цепь, опоясывающая зал, с лица земли был бы снесен и цех № 42 и соседние с ним.
Булавин крепко потискал его руку. «Вы настоящий человек, Александр Васильевич! Можете считать меня своим другом, можете всегда на меня рассчитывать».
То, чего они вместе добивались почти полгода, теперь осуществлялось. Волей-неволей цех был поставлен на ремонт. Работали ремонтники, монтажники; работы велись и в воскресные дни, и вечером, и ночью — в три смены. Такой цех, как цех № 42, не мог напрасно простаивать ни часа. «Шурик, — спрашивала его София Павловна иной раз, — а что вы все-таки там вырабатываете, не пойму. Куда это идет, на что?» — «Мамочка, — отвечал он многозначительно, — частично это идет вам, женщинам, на кофточки и на те чулки, которые кажутся кукольными, а если растянуть, то сгодятся и на слониху. Вот все, что я могу тебе сказать, не разглашая государственной, а может быть, и военной тайны. Неужели ты хочешь, чтобы я разгласил военную тайну?»
Александр сидел в больничном вестибюле, на белой скамейке; время шло, и он начинал нервничать.
Миловидная сестричка заметила это.
— Слушайте, — сказала она, — возьмите мой халат и идите. Шестнадцатая палата — второй этаж направо. Только потом не забудьте отдать.
Он помчался по лестнице, натягивая халат на ходу. Перед дверью шестнадцатой палаты постоял с минуту, перевел дыхание; входить было почему-то страшно. Набрался сил, нажал на ручку двери. В светлой, с большим окном, палате — у стен справа и слева — стояли две койки. На той, что была справа, лежала Майя. Видимо, она только что весело слушала Галю Гурченко и Люсю Шумакову, тесно сидевших на одном стуле возле ее постели. Увидев Александра в распахнутой двери, она мгновенно покраснела и быстро принялась натягивать одеяло до самого подбородка. В глазах ее были растерянность, волнение, даже испуг. Чего она испугалась? Александр спросил:
— Можно войти?
— Александр Васильевич! Александр Васильевич!.. — захлопотали Галя и Люся, вскакивая со стула. — Садитесь. Пожалуйста. Садитесь. Он не очень ловко, роняя стаканы, какие-то пузырьки, положил на тумбочку коробку с конфетами, которую его заставила купить Юлия, сел на стул. Девушки пристроились в ногах у Майи. — Здравствуйте, Майя, — сказал он, вглядываясь в ее испуганное лицо. Чего же она испугалась? Неужели все из-за этих шрамиков — над левой светлой золотистой бровью и на подбородке? С них, видимо, совсем недавно сняли швы и повязки. Они были ещё как бы не остывшие. Вот зеркальце на тумбочке. Она, конечно, рассматривает их раз по двадцать в день, и они ее удручают, она не хочет, чтобы их видели. Чудачка! Во-первых, на ее молодом лице эти рассечинки со временем исчезнут бесследно. А во-вторых, пусть даже и останутся они, разве хуже стало из-за них открытое, ясное, красивое лицо Майи?.. Майина красота в ее глубоких, добрых, любящих весь мир глазах. А глаза ее по-прежнему добры и ласковы, — только этот никчемный испуг затуманил, затемнил их сегодня.
— Здравствуйте, — ответила Майя без улыбки. Она искала в его глазах, на его лице ответа на свои мысли: что думает он о ней, такой, какой стала она после этого несчастья, как посмотрит на нее такую. Он смотрел хорошо, очень хорошо. И Майя наконец-то улыбнулась. — Здравствуйте, — повторила и, вытащив из-под одеяла, подала ему свою белую руку с длинными пальцами.
— Майечка, — сказал он, держа ее руку в ладонях. — Я тогда так испугался. Вы даже и представить не можете.
— О, а я не успела испугаться! — Майя улыбнулась ещё светлее.
— Нам пора, — сказала сообразительная Галя. — Да, да, — подтвердила Люся. — Сегодня ещё столько дел, столько дел. Мы рады, что тебе лучше, что ты поправляешься. Не скучай, в четверг, может быть, снова придем. А не мы, так другие девочки. И так вчера жребий тянули. — Они по очереди почмокали Майю в лоб и в щеку, попрощались с Александром и ушли.
И вдруг на какое-то мгновение стало нечего говорить. Александр косился на старушку, которая лежала на соседней койке, на её посетителей — многопудовую, медлительную толстуху и на сухонького, тихого старичка, который говорил так, будто бы шуршали осенние листья на деревьях. Но те были заняты своим и ни на него, ни на Майю не обращали никакого внимания.
— Я очень рада, что вы пришли, — сказала наконец Майя.
— И я очень рад вас видеть. Я же вам говорю: очень, очень тогда испугался.
— А я не успела даже ни о чем подумать. Увидела вас — и на этом все кончилось.
— Вам было очень плохо, мне рассказывали. Но теперь вам будет хорошо. Все миновало.
— Да, конечно. — Она вытащила и вторую руку из-под одеяла. — Жарко. — Рука была в лубках. — Разбился локоть. Боялись, что не будет здесь сгибаться. Но профессор сделал все так хорошо, что рука останется совсем целая. — Она помолчала и добавила: — А мне сказали, что вы тоже болели.
— Чепуха. Легкая контузия.
— Нет, все-таки это очень неприятно. А как ваш малыш поживает?
Александр стал рассказывать о Павлушке, о его проделках. Майя слушала с улыбкой.
— Он очень милый, ваш малыш, — сказала она. — Я люблю таких озорных мальчиков. Озорные — всегда умные и добрые. А вот бывают тихие, — кажется, просто ангел. Они нехорошие. Они жалуются, дни подглядывают. Они жадные, они только думают о себе. Ваш мальчик шалун, но очень добрый. Он хотел, чтобы я взяла себе все его самые лучшие игрушки.
— Да, это на него похоже. Он каждый день что-нибудь утаскивает в детский сад, какую-нибудь игрушку. Ухитряется прятать под одеждой, уж не знаю даже где. Я же сам его одеваю.
Они так и проговорили о Павлушке до того часа, когда вошла дежурная сестра и попросила посетителей оставить больных в покое.
— До свидания, Майя, до свидания! — Александр поглаживал ее мягкую, теплую руку. — Если позволите, в следующее воскресенье я снова приду.
— У нас не только по вос… — начала было Майя и страшно смутилась, покраснела так, как ещё, пожалуй, с ней и не случалось.
Александр постарался сделать вид, будто этого восклицания не расслышал, что ничего не заметил, ещё раз погладил ее руку и вышел. Он, конечно, позабыл о том, чей халат наброшен на его плечи, и если бы сестричка не окликнула сама, он так бы и сдал его гардеробщице.
София Павловна спросила дома:
— Как себя чувствует эта девушка? Ты, надеюсь, передал ей привет от меня.
— Нет, мама, позабыл. Всю дорогу помнил, а пришел туда и позабыл. Чувствует она себя хорошо.
Юлия утащила его в свою комнату.
— Шура, ты должен на ней жениться. Это судьба. Ты понимаешь? Судьба!
— Юля, зачем эти глупости? Я не собираюсь жениться, я не хочу жениться. У меня…
— Ты хочешь сказать, что у тебя ещё в сердце кровоточит рана? Да? Перестань об этом думать. Так нельзя. Ты молодой, ты должен жить. Она, эта девушка, тебе во всем поможет. Ты верь моему опыту — такие, как она, встречаются раз в столетие.
Александр усмехнулся.
— А ты, Юля? Ты же говоришь, что лучше тебя никого и на свете нет.
— Да, вот я — вторая. — Улыбнулась и Юлия. — Но я все-таки хуже, хуже ее. Я эгоистка. Я не смогу пожертвовать собой, я не смогу отказаться от своего счастья во имя счастья другого. А она может. Она все может.
— Ты как Сивилла прорицаешь.
— Не смейся. Все, что я говорю сейчас, я говорю серьезно, очень серьезно. — Она с минуту смотрела в глаза Александру, и вдруг из-под ее ресниц быстро покатились крупные слезы. — Шурка, Шурка!.. — с каким-то тяжким стоном сказала она и уткнулась лбом ему в плечо. — Ничего, ничего-то ты не понимаешь.
Он неуклюже погладил ее по спине, усадил на тахту, принес из кухни воды в стакане.
— Выпей!
— Не хочу, дорогой мой. Не хочу. Спасибо. Он потом сказал Софии Павловне:
— Мамочка, с Юлией-то что-то не того… Чего-то вы с отцом не учитываете.
— Мы всё, Шурик, учитываем. Но сделать ничего не можем. Она влюбилась. Может быть, впервые в своей жизни. И, кажется, безнадежно, без взаимности.
— Что ты говоришь, мамочка! А в кого же она влюбилась?
— В Игоря Владимировича Владычина. — В секретаря Свердловского райкома?
— Ну да.
Александр вновь зашел в комнату к Юлии. Она лежала на тахте, лицом в подушки. Он погладил по её подкрашенным жестким волосам, невольно вспомнил белое золото локонов Майи, нежное и шелковистое; Юлия не обернулась, не подняла головы и ничего не сказала.
Потом Александр позвал Павлушку.
— Пойдем-ка, братец, погуляем. Хоть уже и темно на улице, а ещё только восемь часов, подышим перед сном свежим воздухом.
Он нашел в сквере местечко на дальней скамье, возле детской площадки с качалками и шведской стенкой для ребячьего лазания, сел там, засунув руки в рукава пальто. Павлушка носился вокруг. Ему очень нравилось кататься с разбега по разъезженной ледяной дорожке. Он злился на двух довольно-таки плотных мам среднего возраста, в меховых шубах. Этим мамам тоже нравилось кататься на ледянной дорожке.
— Мальчик, давай по очереди, — уговарили они его. — Ты прокатишься, потом я, потом опять ты, потом эта тетя…
Две другие мамы медленно и плавно качались на доске-качелях. Доска потрескивала под ними, но их это не смущало.
А дети всех мам, сошедшихся на площадку, толпились тем временем в кустах за скамейкой, на которой сидел Александр, и рассуждали на международные темы.
— Папа сказал, — говорила одна девочка лет семи. — Папа сказал: если они посмеют пускать в нас ракеты, мы нажмем кнопку и…
— Что ты понимаешь — кнопку! — передразнил мальчик немного постарше ее. — Ты бы уж лучше молчала. Мы воевать не собираемся. У нас будет мирное шу… счи… су… шчи…
— Шущиствование! Не умеет, а говорит! — закричала вторая девочка.
— Мы замагнитим все их самолеты, все пушки, все! — сказал ещё какой-то мальчуган. — Они даже с места не смогут стронуться.
— А я их всех зарублю!
Александр с удивлением обернулся на этот звонкий голос. Конечно же, и он уже там! В ребячьей толпе стоял и на равных правах принимал участие в дискуссии Павлушка. Плотные мамы в шубах свободно катались на ледяной дорожке одни.
Он стал думать об этих мамах: кто они, чем занимаются, кто их мужья? Сашенька была совсем не похожа на таких, слоняющихся без дела, ищущих хоть какого-нибудь занятия. У Сашеньки дел всегда было хоть отбавляй. Она изучала два языка, она была активисткой в профсоюзной организации, отвечала за культурно-массовую работу-Ее постоянно приглашали в райком комсомола, — с путевками райкома она ездила по заводам читать лекции. И очень сердилась, когда Александр говорил, что так нельзя, надо же и для дома оставить время, с Павлушкой почаще заниматься. «Вот стану старой, — говорила она, — вот тогда и буду сидеть целый день дома». — «И так старуха; — поддразнивал Александр. — Смотри, усищи какие растут»-. — «Тебе смешно, тебе смешно, — чуть не плакала Сашенька, — а ведь они и вправду растут! Что я с ними буду делать? Ну что, что, что? Стану, как дура, усатая!» Он, смеясь, утешал ее, говорил, что у всех женщин, которые оставили след в истории, непременно были усы. «Я не хочу оставлять следов! Пусть мне делают операцию. Я не могу с усами!» Усами и усищами она называла несколько смешных и трогательных волосков, которые едва можно было разглядеть над уголками ее губ. Эти волоски были самым убийственным оружием против нее. Она их очень стеснялась. «Сашка, Сашка… — думал Александр, замерзая на скамейке. — Неужели ничто уже и не вернется больше?» — «Ты молодой, ты должен жить! — слышал он голос Юлии. — Она тебе во всем поможет. Такие встречаются раз в столетие». — «А такие, как Сашенька, встречаются, может быть, и ещё реже», — ответил он мысленно на эти вновь услышанные слова и окликнул Павлушку.
Василий Антонович уже был дома, когда они вернулись с гулянья.
— Ну как у вас в цехе? — поинтересовался Василий Антонович. Он задавал этот вопрос почти каждый день.
— Все идет, как надо, папа. Привезли новое оборудование. Монтируем. Развернулся ремонт старого. Через месяц, не позже, цех вступит в строй.
— Целых полтора месяца простоя! Огромные потери.
— Твой Николай Александрович виноват.
— Знаю, знаю. Хватит, тебе об этом!
— Конечно, о неприятном — всегда: «Хватит!».
— Шурик, — сказала София Павловна, — дай отцу спокойно покушать.
— Пусть ест. Дело не в этом. Народ у нас очень зол против Суходолова. К нам приезжал Владычин, мы ему говорили, что так легко с этим разделаться нельзя, что надо, чтобы бывший директор ответил перед коллективом… Владычин говорит…
— Меня не интересует, что там говорит твой Владычин, — сухо перебил Василий Антонович. — Владычин — это ещё не истина в высшей инстанции. Он молод и горяч.
— Он умный и принципиальный. Если он ошибается, он на ошибке настаивать не станет. Из ложной амбиции в бутылку не полезет. Но если он не ошибается, если прав, он…
— Слушай, ты мне, кажется, читаешь морали. Иди к чертям! — перебил Василий Антонович довольно зло.
— Нет, я к чертям не пойду! А вот ты, если будешь так говорить: «молод, горяч!», ты можешь оступиться, отец. Это стариковское брюзжание типа: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Богатыри, не вы!» А ты хорошо знаешь молодежь?
— Не хуже тебя.
— Хуже, хуже, хуже! Ты с молодежью не общаешься. Разве только с секретарем обкома комсомола, с Петровичевым. Он, кстати, замечательный парень. Он приезжает иногда на комбинат. Молодежь его очень любит. Веселый, говорит горячо, интересно, не по бумажке. Но и его, я уверен, ты неважно знаешь. Вызовешь, поднака-чаешь, и иди, Сережа Петровичев, действуй на свое усмотрение. А хочешь, я тебя познакомлю с молодежью поближе, хочешь?
— Как же это, например?
— Возьму да и приведу к тебе из цеха человек двадцать. Поговори с ними по душам. Или сам приди к нам.
— Ты меня этим не очень напугал. Будем иметь в виду такое мероприятие.
— Видишь, мама, ты заступаешься за отца. А посмотри, какой он стал. С молодежью встретиться, поговорить — это для него мероприятие!
— Пошел вон, Шурка! — рассердилась София Павловна.
— Да это я прекрасно знаю, ещё с таких вот пор, — Александр показал рукой на полметра от пола, — что поддержки я у тебя не найду против отца, так же, как и у него против тебя. У вас с ним круговая порука, рука руку моет, один за другого горой стоите, даже когда и неправы.
— Правильно. На том и стоим, — сказал Василий Антонович мирно, встал и отправился читать в спальню, в свое любимое кресло.
— А я это не шутил, мама, — сказал Александр, проводив его взглядом. — Комбинатовский народ зол на Суходолова. Зол и на отца. Придется, наверно, ему встретиться с коллективом. Владычин как раз об зтом и говорил…
— Может быть, ты думаешь, что папа боится разговора с народом? Ты, Шурик, его плохо знаешь. Я тоже считаю, что он немножечко виноват в этой истории с Николаем Александровичем. Но он же человек, человек, пойми.
— Майя Сиберг тоже человек, мама. И только дело случая, что этот человек не погиб. Почти чудо.
— Ого, как ты заговорил, Шурик! — София Павловна поднялась за столом, пристально и изучающе смотрела в глаза Александра. — Я замечаю некую эволюцию.
— Ничего ты не замечаешь. Это твоя фантазия. — Александр тоже встал и, затворив за собою дверь, ушел в кабинет.
32
Анатолий Михайлович Огнев был доволен: в отделениях творческих союзов — у писателей, композиторов, художников — установилась относительная тишина. Народ они беспокойный, труд ный, ладить с ними не легко. Василию Антоновичу хорошо рассуждать: сплачивай людей, доходи до сердца каждого. Попробуй сплоти их, дойди до сердца каждого! С одним будешь хорош, — другой этим недоволен. С другим начнешь индивидуальную работу, — первый на тебя косится, подозревает в однобоких пристрастиях. Приходится вести себя со всеми равно, со всеми одинаково, все, мол, вы по-своему хороши и ценны. Писатель Баксанов, художник Тур-Хлебченко, композитор Горицветов считают такой подход уравниловкой, дезориентирующей массу. Они считают, что обком должен определить свое отношение к творчеству каждого и ясно показывать это отношение. Одних это подбодрит, окрылит, других заставит призадуматься и подтянуться. А вот есть и такие, поэт Птушков, например, которые за это называют их догматиками, утверждают, что как только обком определит свое отношение к творчеству каждого, творчества уже не будет, не будет свободы, будет давление, регламентирование, начнется приспособленчество. Кто прав? Ленин требовал, чтобы литературное дело стало частью общепролетарского дела. Он говорил: долой литераторов беспартийных; то есть понимай — таких, которые хотят стоять в сторонке от событий современности, взирать на них сбоку, быть бесстрастными судьями жизни и истории. Но ведь это было в начале века, и совсем в других условиях. Все же изменилось с тех пор! Может быть, и в самом деле пора, как утверждает Птушков, отказаться от непременного требования партийности в литературе? Может быть, надо, чтобы у нас вырастали свои, советские, Оскары Уайльды, Октавы Мирбо и даже Сологубы, черт возьми, и Бальмонты. Почему им не быть?
Огнева мучили подобные вопросы, он путался в них и глубоко страдал в душе от такой путаницы. И вдруг все утихло и успокоилось само собою. Он, правда, считал, что произошло так отнюдь не само собою. Он приписывал это себе, своему такту, своей гибкости. Он считал, что до крайности плодотворно поработал с Птушковым, одним из главных возмутителей спокойствия в отделениях творческих союзов. Дошло, дошло до молодого поэта проникновенное партийное слово, понял наконец, что пора и за ум браться. Вот отправился в колхоз; скоро месяц, как он там, — и не бежит обратно. Нет, политика Огнева правильная, очень правильная: не раздражать, не обострять, не допускать конфликтов. Разве не замечательно будет, когда, тот же Птушков, который по молодости лет подражает декадентам, возьмет да и выдаст отличную поэму из жизни села!
В одну из минут таких размышлений к Огневу пришел Владычин. Секретарь Свердловского райкома партии был моложе секретаря обкома Огнева не более, как на десять — на двенадцать лет, но по сравнению с обремененным заботами Огневым выглядел мальчиком. В нем было что-то ещё очень задиристое, петушиное. Огнев знал, что в районе Владычина любили. Но что из этого! Почему, разобраться, любили? Не потому ли, что он в известной мере демагог? Не потому ли что уж слишком заигрывает с массами? Демократичен — дальше некуда; всегда с народом, в народе, — там выступил, там сказал речь, здесь провел беседу, ещё где-то весь вечер отвечал на вопросы. Подумаешь, какой Сократ, проповедующий на площадях! Бродячие проповедники никогда добром не кончали. Того же Сократа, как известно, когда он доболтался до ручки, народ Афин довольно дружно приговорил к смерти и в одно прекрасное греческое утро преподнес ему чашу с настоем цикуты.
Они сидели друг против друга. Владычин закуривал сигарету. Огнев постукивал по стеклу на столе карандашом.
— Я к вам, Анатолий Михайлович, с несколькими вопросами. — Владычин вытащил записную книжку. — Я кое-что выписал из постановления ЦК о задачах партийной пропаганды в современных условиях. ЦК требует активнее использовать идейное и эмоциональное, воздействие лучших произведений художественной литературы и искусства для повышения воспитательной роли, популярности и действенности пропагандистской работы. Так?
— Да, так. Совершенно верно.
— А могу я у вас получить списочек таких лучших произведений, чтобы именно их использовать в целях повышения воспитательной роли, популярности и действенности пропагандистской работы?
— Ну, дорогой мой товарищ секретарь райкома!.. — Огнев откинулся на спинку кресла и с веселым недоумением развел руками. — Дорогой мой товарищ Владычин, мало-мальски культурный, хотя бы средне образованный человек должен это и сам знать.
— А если я не очень культурный и образованный ниже среднего — тогда что?
— Тогда — дело ваше плохо. Тогда не надо быть секретарем райкома.
— Это мысль плодотворная. — Владычин улыбался. — Но поскольку сегодня или завтра меня ещё не освободят от моего поста, даже если я сейчас же напишу заявление, то все же прошу вас помочь-таки мне в трудном деле: дайте списочек произведений, чтобы я мог их использовать в целях повышения воспитания…
— Вы что, смеетесь надо мной, товарищ Владычин? — строго спросил Огнев.
— Нет, я прошу помощи.
Огнев пошел к большому книжному шкафу, достал с полки тонкую папочку, извлек из нее несколько листов бумаги, скрепленных в левом углу скрепкой, вернулся к столу, сел, стал читать. Он называл книги Горького, Алексея Толстого, Фурманова, Серафимовича, Гладкова, Николая Островского, Фадеева, Шолохова. Список рос и рос. Время от времени Огнев говорил, подымая глаза на Владычина:
— Ну что, этого вам мало. Или ещё назвать?
— Ещё, — говорил Владычин. — Пожалуйста, ещё.
Огнев читал дальше. Называл и называл десятки имен советских писателей. Владычин следил за его взглядом и, когда глаза Огнева дошли до конца третьей странички, а за третьей уже ничего не было, спросил:
— Всё?
— Да, пока всё. Мало?
— Нет, это не мало, это много. И, пользуясь таким списком, можно вести большую пропагандистскую работу. Вы назвали хорошие книги, яркие и боевые. Но… — Владычин раскурил новую сигарету. — У нас все шире развертывается движение бригад и ударников коммунистического труда. Вы знаете об этом, конечно, Анатолий Михайлович. Ну вот, ведя пропагандистскую работу среди людей, которые решили работать по-коммунистически, мы будем оглядываться на пример Павки Корчагина, на пример Чапаева, на пример Давыдова, на фадеевских молодогвардейцев, ажаевского Батманова, кавалера Золотой Звезды Бабаевского… Примеры прекрасные. Но люди могут спросить: а вот о нас, о нас, об ударниках новой эпохи, эпохи строительства коммунизма — что есть почитать? Как должен я им ответить?
— А так, что литература не хлебопекарное производство. Будут и такие книги, будут. Время надо.
— Когда «Мать» была написана? В ту самую эпоху, когда все больше накалялась общественная атмосфера в России — по горячим следам событий, даже опережая их. Когда первая книга «Поднятой целины» была написана? В самый разгар коллективизации. По горячим следам событий, и даже опережая их. Когда «Цемент» был написан?..
— В разгаре событий восстановительного периода, и даже опережая их, — в тон Владычицу подхватил Огнев.
— Совершенно верно. Для оживления в зале оснований не вижу. И вот почему. Ко мне приходят люди и говорят: а как быть со стихами Виталия Птушкова? Птушков их пишет вовсю. И в областном альманахе их издают. И областное партийное издательство только что выпустило его новую книжку. — Владычин вытащил из кармана пиджака красиво изданный сборник. — Почитать, может быть?
— Зачем? Я это тоже читал.
— Ну вот, как же такие стихи активнее использовать в целях повышения воспитательной роли пропагандистской работы? Прошу это мне разъяснить. Потому что, когда меня об этом спрашивают, я становлюсь в тупик, я не умею это объяснять. Я считаю, что у нас слишком велики исторические задачи, слишком велика ответственность перед нашим народом и перед всем коммунистическим движением в мире…
— Неужели вы всерьез думаете, товарищ Владычин, что от стихов какого-то Птушкова пострадает мировое коммунистическое движение? — Огнев даже головой покачал, с явным сожалением.
— Я не думаю, что оно пострадает. Но я думаю, что книжки подобного толка и помочь ему не смогут. Ни в какой другой области мы не допускаем холостого хода — ни в металлургии, ни в энергетике, ни в легкой промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни на главных направлениях науки. Там только движение вперед, только вперед, без топтания на месте, без попятных маневров. А почему здесь так? — Тыльной стороной руки Владычин ударил по книжке.
— Потому, что это более тонкая и более специфическая область деятельности человека, товарищ Владычин. Область духовного творчества, область чувств, связанная с формированием сознания. А это процесс долгий, сложный. Легче десять доменных печей возвести и в Голодной степи вторую Ферганскую долину раскинуть, чем сформировать сознание хотя бы этого же Птушкова. — Огнев потыкал пальцем в переплет книжки, брошенной Владычиным.
— Все это верно. Но надо не формировать, а не сидеть сложа руки.
— Это в вас молодость, горячность говорит. — Сбившийся было со, своего уверенного, спокойного тона, Огнев вновь заговорил веско и внушительно, как подобает секретарю обкома. — Вы же не знаете, какую длительную и углубленную работу обком ведет, скажем… Ну уж раз назвали фамилию Птушкова, то, скажем, с ним, с этим молодым поэтом. После бесед со мной — что вы думаете, он не задумался? Нет, дорогой товарищ Владычин, задумался и призадумался. Не навязывая, а так, чтобы он сам дошел до этой мысли, я вел его к решению углубиться в жизнь народа. Сейчас он в колхозе «Озёры», участвует в работе клуба, библиотеки, устраивает литературные вечера. Все время в народе, в народе. А главное… Это именно самое главное… Он пишет новую поэму. Широкую такую, о народной жизни. На большом дыхании. — Огневу до того хотелось, чтобы Птушков написал именно такую поэму, что он сам себя уверил, что и поэт хочет этого же и что уже вовсю работает, вдохновленный окружающей его в «Озёрах» трудовой жизнью.
— Если это так, то это неплохо, — согласился Владычин. — Будем ждать поэму. А что — уже есть наброски?
— Есть, конечно. Он читал их мне, вот в этом кресле сидел, где вы сидите. Крепкие места читал. Волнующие. Человек-то талантливый.
Владычин молчал.
— Ну что же, рад, очень рад, — сказал он затем. — А то, знаете, тычут мне товарищи в лицо этим Птушковым, его стихами. Коммунистический труд — и рядом декадентские стишки. Как, мол, понимать такую ситуацию?
Владычин ушел. Огнев был доволен. Отбил атаку этого хорохористого петушка. Блестяще отбил. По всему фронту. Чудаки! Они там, эти секретари райкомов, имеют дело с цементом, с кирпичами, арматурным железом, с выполнением и перевыполнением производственных планов. Они даже и понять не способны всей сложности его, Огнева, работы. Не хватит чего-либо, пойдут в совнархоз, потребуют там, докажут, — им и отгрузят. А что отгрузят и откуда ему, Огневу? Сам должен добиваться всего, сам, сам, на месте. Ни жаловаться никуда не пойдешь, ни требовать. Василий Антонович иной раз недоволен работой отделов, которыми руководит Огнев. А попробовал бы сам поруководил. Общие-то установки давать не так уж и трудно. Ты конкретно, вникая в детали, поработай. Ну вот обождите! Выдаст Птушков поэму, все станет ясно — кто прав, кто неправ, как надо и как не надо работать.
Пришла в голову мысль. Снял трубку, позвонил редактору областной газеты.
— Товарищ Данилов, Огнев говорит. Здравствуйте. В колхозе «Озёры» хорошо работает по линии культуры поэт Птушков. Помнится, вы его письмо печатали, — что едет в деревню. А теперь вот и позабыли о нем. Надо поддержать товарища. Дайте очерк, как там человек живет, как с народом дружит. А то — ругать, так мы здесь, а похвалить — нас и нету. Поэму он пишет. Отрывок бы напечатать. Замечательно? Конечно, замечательно. Это наше общее дело — поставить талантливого человека на ноги. И ещё — вот книжечка у него вышла… Что-что? Ругательная рецензия?.. Это напрасно, это напрасно. Так только отпугнем, человека. Вы что? Обком столько сил на него тратит, а вы одной статейкой все под откос пустите! Кто это нацарапал? Кандидат филологических наук Остапов? Нет, нет, я категорически против. Пришлите-ка эту рецензию ко мне. Обком будет решать вопрос, товарищ редактор! Что значит — плохая книжка? Вся, что ли, она плохая? Есть и хорошие места. На них надо ориентироваться, а не на промахи. Он молодой ещё. Да, да, вот так, предоставьте право обкому решать такие вопросы. — Он положил трубку. — Скажи, пожалуйста! — произнес вслух в пустом кабинете. — Плохая книжка! Чем же она плохая? — Взял сборничек, оставленный Владычиным, раскрыл наугад страницу, стал читать. Да, этот стишок, действительно, не из лучших. Весь про то, как плохо, если попадется скрипучая кровать. Ну, а вот другой… Почтенный старец подглядывает из кустов за купающимися девушками. Они без купальников. Старец в восторге. Он молодеет на тридцать лет.
Еще полистал. Все в том же духе. Отложил в сторону книжку. Поерошил в досаде волосы. Неизвестно — может быть, Птушков пишет такие стихи, протестуя против чего-то. Может быть; он протестует против баксановской прямоты, которая граничит с прямолинейностью; может быть, не такие, как, Баксанов, должны руководить писательской организацией; может быть, Баксановы раздражают таких, как Птушков. Откровенно говоря, и его, Огнева, Баксанов раздражает. Когда он появляется, надо отвечать на тысячу вопросов; притом отвечать или «да» или «нет», а не посередке; надо что-то делать, занимать такую позицию, после чего сразу начинается шум в писательской организации, возникают споры, несогласия, рушится с немалым трудом налаживаемый мир. Как ни странно, Баксанов — писатель очень современный, острый, партийный, а к руководству лучше бы его не допускать, без него спокойнее. Только Василий Антонович упорствует, уж очень он уважает книги Баксанова. А то бы давно можно было посоветовать Баксанову на очередных выборах в отделении Союза заявить самоотвод из списка на голосование. Пусть бы писал, сочинял свои книги и жил бы спокойно в сторонке. Талантливый же человек!
33
За окном в ранней зимней мгле шумел ветер. К стеклам липли большие, как бабочки, белые хлопья; их мело и швыряло по ветру; с запада шла оттепель, повышалась температура воздуха, падало атмосферное давление; старики в такую погоду чувствовали себя неважно: болело в суставах, было вяло в сердце; больше, чем когда-либо, чувствовалось одиночество, и больше, чем когда-либо, хотелось брюзжать по любому поводу.
В этот вечер были забыты и суставы, и давление, и все недовольства. Девять стариков собрались в одном из помещений обкома. Это была комиссия по вопросам коммунистической морали. Председательствовал не Черногус, а как сами старики установили, согласно алфавиту, — Алтынов, Василий Васильевич, семидесятичетырехлетний худой и костистый высокий человек, в белой рубашке, с галстуком в горошину, в просторном пиджаке с обвислыми плечами. Это был ветеран старгородской полиграфии, за печатание нелегальных большевистских листовок отбывший в добрые царские времена, с девятьсот пятого по семнадцатый, двенадцать лет сибирской каторги.
Приглашенные Василий Антонович, Лаврентьев и Огнев устроились в сторонке, чтобы не мешать, не бросаться в глаза, почти вне досягаемости двух ламп под зелеными абажурами на председательском столе.
Возле этого стола, сбоку, так, чтобы лицо его видели и председатель и члены комиссии, сидел на стуле Елизар Демешкин, владелец двухэтажного дома на Колокольной улице.
Еще более старый, чем председатель, белый усатый Егор Демьянович Горохов, побывавший тогда же, когда и Василий Антонович, у Демешкина, только что рассказал об этом посещении членам комиссии. Он рассказывал подробно, красочно, дал полное описание дома Демешкина, сада с парниками и теплицами; не забыл даже и свирепых псов.
— Вопросы к товарищу Горохову будут? — . спросил Алтынов, когда Горохов сел на место.
— К Демешкину будут.
— Тогда лучше дадим Демешкину высказаться, а потом уж вопросы, — предложил Алтынов. — Никто не против? Член партии Демешкин, встань и расскажи старым коммунистам, которые партию строили, которые советскую власть завоевывали, расскажи им, как дошел ты до жизни такой? Кто ты есть, расскажи, кем ты был и кем стал?
— Кто я есть, сами знаете, — заговорил Демешкин. — Кем был? Рабочим был. Им же и остался.
Перед скоплением белых голов, сивых усов и чего только не повидавших сверлящих глаз Демешкин хотя и пытался ершиться, но чувствовал себя все же очень и очень неважно. Это тебе не молоденький милиционерик из отделения, не какой-нибудь только что окончивший техникум землеустроитель из райисполкома, не товарищ из райфо.
— Ты увильнул от ответа, — сказал Алты-нов. — Ты расскажи, как рабочий человек в частного предпринимателя превратился, как, вступивший в коммунистическую партию, решил в капитализм пробиваться? Вот что слышать хотим.
— А что, по-вашему, я один так живу, да?
— Как там по-нашему, мы ещё скажем, — подал голос второй дед, побывавший на Колокольной, Максим Максимович Синцов. — А ты рассказывай про то, как по-вашему получается.
— Вот что, — сказал Демешкин, вставая. — Я вам расскажу. Но и вы мне потом расскажете. Я расскажу. Мне глаза прятать от вас нечего. Дом краденый? Нет, не краденый. Земля краденая? Нет, не краденая. Вы мне про коммунизм будете рассказывать, как там через сто лет будет. А мне через сто — это ни к чему, мне сегодня, сейчас пожить в свое удовольствие хочется. Кому я мешаю? Никому. У меня восемь комнат? Да. У меня сад хороший? Да. Ну и что особенного?
— Ты не дорос до этого своим сознание! — сказал Синцов. — Вот что особенного. В твоем сознании от такой жизни, от возов яблок, которые ты на базар везешь, от двух десятков ульев с медом, которым ты всю зиму торгуешь, от того, что с весны по осень баб работать в огороде нанимаешь, от излишков жилплощади, которые ты по мародерским ценам сдаешь квартирантам, — от всего этого у тебя в сознании капитализм реставрируется. Вот что особенного! Что ж ты думаешь… — Синцов закатал рукав сорочки до локтя, показал длинный шрам на руке. — Думаешь, мы для того под казачьи шашки бросались, для того дрались за советскую власть, чтобы вместо купцов Кубышкиных и Ермишкиных купца Демешкина вырастить? На-кось выкуси! — Он показал Де-мешкину увесистую дулю.
— Товарищ Синцов, — сказал председательствующий Алтынов. — Это излишнее. Я прошу обсуждать вопрос по-деловому.
— А чего тут обсуждать, — почти закричал Демешкин. — Нечего обсуждать. У меня все по закону. Оттого и дулю он тычет. Больше крыть нечем.
— По закону? — сказал Алтынов. — Не знаю. Но знаю, что не по уставу партии, не по ее программе. Мы с тобой, как с человеком, у которого партбилет в кармане, разговариваем, а не как с подсудимым гражданином Демешкиным. Сознание твое от избытка, так сказать, личной собственности набок свихнулись, Максим Максимович верно про это оказал. С соседями ты в войну вступил, электрическую проволоку даже задумал вдоль забора пустить, будто комендант Освенцимского лагеря, псов брехливых под окна людям сажаешь. А главное, уважаемый, ты от жадности своей самое элементарное перестал исполнять. Как ты членские взносы платишь? А? С каких сумм?
— Обыкновенно. С чего получаю, с того и плачу.
— Извините, — сказал Черногус, вставая. — Мы произвели полную проверку за три последних года. Все три года товарищ Демешкин платил в партию только с той зарплаты, какую получал по ведомости на химическом комбинате. А за это время он ворочал огромными суммами. За это время он продал не менее ста пудов меду, около трехсот пудов яблок, слив и вишен. Он продал много клубники, смородины, крыжовника, картошки, капусты, луку… И все это по рыночным ценам. С доброй суммы в полумиллион товарищ Демешкин не внес в партийную кассу, то есть зажилил не менее пятнадцати тысяч рублей. Укрыл их от партии. Эх, коммунист, коммунист! Вот же к чему ведет частное предпринимательство.
— Из таких, как вы, Демешкин, — сказал Алтынов, — немцы себе помощников на нашей земле вербовали, городских голов и сельских старост. Таким, как вы, карман дороже партии, дороже родины.
— Я бы просил меня не оскорблять! — Демешкин схватился за ворот рубашки. — Я головой не был. Я всю войну от Москвы, от Сталинграда до Берлина прошел. Может, сто тысяч километров телефонной связи протянул. Если не убитый, так бог спас. А раненый не хуже Синцова — и в обе руки, и в ногу. Могу тоже хоть порточину скинуть, подходи, любуйся каждый!
— Дайте слово! — поднялся плотный старик, наголо обритый — и голова и лицо; только к сти-_ стые белые брови с чернью шевелились над его хмуро посматривающими глазами. Это был Петр Федорович Севастьянов. Когда-то он служил в охране Кремля, дослужился до комбрига, по нынешнему до генерал-майорского звания, и ещё перед войной вышел по возрасту в отставку, на пенсию. — Мы с товарищем Абрамовым, — он указал на сидевшего рядом с ним такого же плотного старика, — мы с ним по поручению нашей комиссии проделали одну работу. Вот ведь чем вредны такие Демешкины. Они, как говорится, сторона, которая в недрах своих рождает спрос. А как известно, спрос, в свою очередь, рождает и предложение. Нет спроса на мошенничество — нет и самого мошенничества. Есть спрос на мошенничество — есть и мошенничество. Мы вышли с Ильей Семеновичем Абрамовым сначала на Высокогорское шоссе, потом два дня провели и на других, магистралях. Идет грузовик, в его кузове и в кузове прицепа — кирпич, много тысяч штук. Везут на стройку. Подымаем руку, останавливаем, оглядываемся этак по-воровски по сторонам, нет ли, мол, блюстителей порядка, говорим: «Хозяин, а не раздобудешь ли и нам кирпичишек, а?» Тоже оглядывается туда-сюда. «А куда везти-то?» Он, подлец, даже о цене не торгуется. «Куда везти-то?» — весь вот и весь сказ. Цена, значит, есть, давно установленная вот такими Демешкиными. Цена краденому кирпичу «божецкая» — она вдвое дешевле той, что в магазинах стройматериалов. Останавливаем тяжелый грузовик, тоже с прицепом, но такой, без кузова, одни козлы. Кряжи дубовые везут, сантиметров по пятьдесят — шестьдесят диаметром. «Эй, хозяин, может, лишние? Уступи». — «Эти не могу, по графику должен доставить вовремя. Скажите адресок, завтра такие же подброшу. Как из пушки». И опять, подлец, о цене ни слова. Значит, что? Значит, тоже есть цена, установленная Демешкиными. Мы бы с Максимом Максимовичем могли на небоскреб за три дня назаготавливать стройматериалов. Кирпича, цемента, бревен, досок, стекла оконного, гвоздей, бутового камня, а ещё бы и земли для огорода, каких хочешь удобрений. Вот что делают Демешкины. Гниют сами и других в эту гниль вовлекают. Скажи, Демешкин, прямо, поклянись на партбилете, что ты краденого не покупал? Ну?
— А чего на меня нукать? Я не мерин. Откуда мне знать — краденое у него или купленное. Если он повез налево, я за него не в ответе. У каждого своя голова и свое соображение.
— Вот видите! — Севастьянов сел. — Вот и весь сказ: у каждого свое соображение!
— Дело, в общем, товарищи, ясное, — заговорил Алтынов. — Разговаривать по-настоящему, по-партийному Елизар Демешкин не хочет. Понимать нас не хочет. А может быть, и понимает, но душа хозяйчика, которую он в себе носит, мешает ему не дает честно признаться в этом. Мы не партийное собрание, полномочий у нас таких нет, исключить его из партии не можем. Но нам совершенно ясно, что это уже не коммунист, и мы его исключаем из своего сердца…
— Обожди, Василий Васильевич. — Руку поднял Синцов. — А может, вот как сговоримся. Товарищ Демешкин, может, ты ещё не сгнил подчистую. Может, в тебе ещё что и живое осталось. Не думаешь ли ты на такую тему? А что, если взять тебе да вот так по-большевистски, по-человечески да и отдать свой особняк, скажем, под детский сад. Замечательный детский сад будет.
— Верно, Демешкин, — обрадованно сказал и Алтынов. — Добрая идея! Сдай, к черту, свой дом городскому Совету, разделайся с этой петлей, которая тебе шею давит, дышать полной грудью не дает. Среди нас областное руководство сидит, попросим, квартиру тебе дадут. Хорошую квартиру.
Как, Василий Антонович и Петр Дементьевич?
— Мы не горсовет, — ответил Василий Антонович. — Но не сомневаюсь, что горсовет откликнется на ваше ходатайство. Получит товарищ Демешкин квартиру. В новом доме, со всеми удобствами. Идея хорошая.
Демешкин, которому давно надоело стоять у стола, уже сидел на стуле, сидел, потупясь, раздумывая, прикидывая, переживая.
— Ну как, Демешкин? — спросил его Алтынов. — Какое будет твое решение? Или время надо для обдумывания?
— А мне нечего обдумывать. Дом отбирать не имеете права. Если и отнимете, в Москву поеду, жаловаться буду, не отступлюсь, пока вам по рукам не дадут. Рабочего человека прижимать — да это что же такое! Это вам какая страна у нас? Советский Союз или что?..
— Дом мы у вас отнимать не собираемся, — сказал Черногус. — Это не функция партии. Мы добьемся того, чтобы у вас отобрали партийный билет. С вашими размахами, Демешкин, вам в партии тесно. Партия сковывает вашу инициативу.
— В общем, вот, Демешкин, вот вам наша рекомендация, — как бы подвел итог Алтынов. — Кажется, все на этом сходимся? Идите и подумайте с недельку. Основательно подумайте. Или сидеть вам за вашим забором, под охраной ваших кобелей, и все дальше отходить от общества, от жизни, от партии. Или покончить с этой самоизоляцией и стать полноправным гражданином своей страны, строителем коммунистического общества. Как, товарищи, правильно я сформулировал?
— Правильно! — ответило одновременно несколько голосов.
Демешкин встал и, не прощаясь, вышел. Секретари обкома пересели поближе к председательскому столу.
— Хорошо, товарищи! Очень здорово вы потолковали с ним, — сказал Василий Антонович. — Но как вы думаете, что он решит? Согласится или нет?
— Думаю, что нет, не согласится, — ответил Алтынов. — Он проржавел насквозь. Того гляди… воск-то у него есть от пчеловодства… того гляди, свечной заводишко откроет в сарае у себя. Свечки для церквей будет производить. Смотрит волком. Видели, глаза у него какие? Прозевали, Василий Антонович, прозевали человека. Нехорошо. Сами мы виноваты. Партийной организации комбината вовремя бы это заметить было надо. Еще когда он на старухин домик нацеливался. Вмешаться бы тогда, и порядок был бы, отвели бы человека от беды.
Василий Антонович понял, что уже не Демешкина начинают прорабатывать, а его самого, секретаря обкома, и весело улыбнулся.
— Ну, а теперь пойдем ко мне в кабинет, чайку, что ли, попьем? — Обняв Синцова и Алты-нова за плечи, он повел их по коридорам. Следом двинулись и остальные, принимавшие участие в первом.
В кабинете Василия Антоновича были отворены фрамуги, от них настыло. Он закрыл их, сказал:
— Еще простудится кто. Беды не оберешься.
— Мы народ закаленный, не изнеженный, — ответил Синцов.
Расселись за столом. Воробьев распорядился — принесли чай, сахар, ломтики лимона, бутерброды. Василий Антонович принялся рассказывать о планах развития хозяйства области, о том, что в наступившем году начнутся широкие работы по разведке залежей железной руды в районе магнитной аномалии, о предполагаемом большом водном пути по Кудесне и Ладе, который свяжет Старгород с открытым морем, о строительстве дорог, о реконструкции сел и деревень, о повышении урожайности полей, продуктивности животноводства, о развитии местных художественных ремесел, о том, что правительство, видимо, утвердит проект строительства гидроэлектростанции на Кудесне, и это даст возможность решительно электрифицировать и механизировать сельское хозяйство. Он увлекся, показывал на карте один пункт за другим, прикидывал на ней новые пути, чертил схемы. Он сам даже поражался, какие, оказывается, подготовлены громадные работы. Годы пребывания его в обкоме прошли совсем не даром. Исподволь, как будто бы и незаметно, заложен основательный фундамент для большого строительства, для того, чтобы можно было широко шагать дальше.
Старики стали высказывать свое, предлагать ещё что-то новое, фантазировать. Алтынов сказал:
— Мы, конечно, порядком здоровья отдали делу партии. Многие наши друзья и товарищи и жизнь за нее сложили. Но до чего же приятно видеть, во имя чего это все делалось! Откровенно говоря, когда листовочки мы оттискивали на «американках» да расклеивали их на заборах, рассовывали по карманам в толпе рабочих возле заводских проходных, и не думали мы, что доживем до такой жизни.
Они разговорились и не скоро разошлись по домам.
Василий Антонович, оставшись один в кабинете, позвал Воробьева и спросил, нет ли чего срочного.
— Срочного, Василий Антонович, ничего. Но вот… — Воробьев мялся.
— Ну, ну, говори, Илья Семенович? Неприятность какая?
— Кляуза, Василий Антонович.
— На кого же?
— Да на всех сразу. И на вас, и на товарищей Лаврентьева с Огневым. На меня даже есть, «Сидит цербер Сухорукий у клеенчатых дверей».
— Стихи декламируешь?
— Стихи, Василий Антонович. Сейчас принесу.
Воробьев принес с десяток исписанных на машинке листков, подал Василию Антоновичу.
— Целое сочинение. «В эти двери, как налимы, пролезают подхалимы. А за нею, нелюдим, — самый главный подхалим».
Василий Антонович прочел заглавие:
«Боярин Василий Десница и его дружинушка верная. Старинный сказ».
Дальше шла запевка:
Шил Василий свет Отцович, По прозванию — Десница. Володел землей обширной. В ней водились зверь и птица. Было подданных сто тысяч, Мужиков трудолюбивых, Да ещё сто тысяч люду — Горожан-мастеровых. Да ещё таких, что пели, Да на гусельках играли, Да пером день-ночь скрипели, Все Десницу прославляли. Тех, кто целился в десятку, Да ни разу не промазал, Награждал Десница щедро. Сыпал им в карманы злато, Терема им возводил. Ну, а был один строптивец, Песнопевец, винопиец, — Тот ему не угодил. Не вонзал стрелу в десятку Подхалимства, сладкопевства, Был всегда свободен мыслью. Все по-своему судил. И расправился Десница с незадачливым пиитом, Раза два в ладоши хлопнул, Мальцу выдали по вые, Отослали в заозерье, В скиты дальние, лесные. Там пером гусиным, острым, Неподкупным и правдивым Эту песню он сложил. Пусть летит она, как птица. Пусть разит собой Десницу.Василий Антонович читал и читал, листая страницу за страницей. Земля, которой володел боярин Десница, была очень похожа на Старгородскую область, образом Василия Десницы автор явно намекал на него, на Василия Денисова; в окружавшей Десницу дружинушке верной сочинитель хотел, чтобы угадывали Лаврентьева, Огнева, Сергеева, других ответственных работников. Да, был тут и Илья Семенович Воробьев: «Сидит цербер Сухорукий у клеенчатых дверей». «Ну и мерзавец, — подумал Василий Антонович, — даже искалеченную руку заметил, не пожалел человека».
Физически больно стало в сердце, когда дело дошло до описания жены Десницы. Сочинитель зло высмеивал «боярыню», ночную кукушку, которая всех дневных перекуковывала. Она тайком подкрашивала волосы, старательно затягивала полнеющее чрево, слыла в Десницыном царстве просветительницей, изучала фряжский да франкский языки, значилась покровительницей хранилища древностей.
Что и говорить, Десница правил своими землями отвратительно, бездарно, деспотически, проматывал денежки, выжатые из народа, мстил непокорным, душил вольнодумцев, истреблял таланты, главным законом в земле Десницы было: «Я так сказал, да будет так!»
— Злая штука, Илья Семенович. — Василий Антонович отложил листы. — Под копирку, значит. Это, должно быть, третий или четвертый экземпляр. Довольно слепо оттиснуто. Кто принес-то?
— По почте пришло. Штемпель старгород-ский.
— Отдай Огневу. Это по его ведомству. Пусть читает и наслаждается. Пока, Илья Семенович. До завтра. Я, пожалуй, поеду.
Но он не поехал. Он отпустил машину и пошел пешком. Мокрый снег бил в лицо, барашковый воротник быстро намок, шее было неприятно от этого. На тротуарах начиналась слякоть. Василий Антонович ничего не замечал, шел, слизывая с губ мокрые хлопья. «Старинный сказ» почему-то, он даже не мог объяснить почему, его очень ранил. Было обидно, было вяло, вдруг ощутились годы, которых до этого не замечал; их оказалось уже довольно много.
Шлепал по мокрому снегу и недоумевал: в чем дело? Мало ли приходилось видеть и испытывать кляуз и прежде, мало ли видел он отвратительных анонимных писем не только о себе или Соне, — о всей партии, о советской власти. Разное бывало в жизни. И тем не менее «Старинный сказ» превосходил все по скрытой, тщательно обдуманной подлости. Василия Антоновича нисколько не занимал вопрос: кто это мог быть, кто автор? Достаточно, что такой автор нашелся, достаточно, что существовала черная душа, выносившая в себе подобную мерзость.
34
Новая постановка давалась Юлии значительно труднее, чем та, в которой она так блеснула лирическими летними пейзажами. Все три действия, все восемь картин новой пьесы происходили в обычных комнатах обычной средней современной квартиры. Что тут придумаешь? Буквально ничего. Стены, окна, древтрестовская светленькая мебель. Юлия набрасывала эскиз за эскизом, ломала голову — чтобы внести хоть сколько-нибудь живое, оригинальное в ординарность, обусловленную замыслом автора пьесы. Кто-то сказал ей в театре: «Дорогая Юлия Павловна, а как в те добрые старые времена, когда придерживались трех аристотелевских единств: времени, места и действия, — как тогда художнику приходилось изворачиваться? Тоже ведь все происходило под одной крышей, в одних стенах». — «Да, — ответила Юлия, — но под какой крышей и в каких стенах? Или дворец, в Венеции, или замок английского короля — какого-нибудь Ричарда, или апартаменты Клеопатры… Олимп, Парнас… Можно было фантазировать сколько угодно, можно было поиграть красками, цветом, светом. А что я сделаю здесь, в этих комнатушках?»
Настроение было плохое, тем более плохое, что и в сердце у Юлии было сумрачно, непонятно, взбаламученно. «Что это, — размышляла Юлия, — неужели я влюбилась в этого Влады-чина? Почему? Зачем? Что я о нем знаю? А что я знала о тех, о других?.. Но я же их никогда и не любила, это было, как говорят сейчас, сосуществование, — хорошо, если мирное, а то ведь бывало и совсем не мирное. Говорят, любовь окрыляет. Где же крылья? Ноги и те еле движутся. Ползаю, что сонная муха».
Самое страшное во всем этом было то, что она нигде не могла поймать Владычина, нигде не могла с ним встретиться. Была надежда, что Денисовы пригласят его на встречу Нового года, она об этом сказала Соне. Но, во-первых, Соня не позвала его, видите ли, потому, что Василий Антонович не очень любит Владычина; а, во-вторых, даже если бы и позвала, встреча Нового года, как известно, не состоялась из-за взрыва в цехе Александра; не сильно, но Александр в тот день все же пострадал, и Соня с Василием Антоновичем просидели ночь возле его постели.
Что тогда делала Юлия? Отправилась в Клуб творческой интеллигенции, там ее пригласил к своему столику художник Тур-Хлебченко с компанией, они веселились, они были остроумны и жизнерадостны, но Юлия так и не настроилась на новогоднюю волну; художники, наверно, подумали о ней не очень лестно — скучная, мол, надутая дура, и она возвратилась домой, когда ещё не было и четырех утра, когда Соня и Василий Антонович все ещё сидели возле тяжело дышавшего контуженного Шурика.
Ну где, где искать теперь Владычина? Пойти в райком? Туда без партбилета не пускают. А и пустили бы, что она скажет, как объяснит свое появление? Ловить на предприятиях, куда он выезжает каждый день? А как узнать, на какое из них он отправится сегодня, на какое собирается завтра? Пригласить в театр? Новая премьера ещё не готова. Дожидаться у подъездов, бегать следом, писать записочки?.. Увы, тот возраст прошел безвозвратно.
Однажды, в мятущемся своем состоянии, Юлия отправилась к Черногусу. Дома сидеть было невозможно; встречаться с кем-либо из театра не хотелось. Черногус — это какая-то другая, незнакомая, не такая, как у всех, жизнь. С ним можно было говорить о чем угодно; а можно было и ни о чем не говорить.
Гурий Матвеевич встретил Юлию, как всегда, приветливо.
— А этого юного балбеса с вами нет? — спросил он, выглядывая на всякий случай за дверь.
— Он в деревне. На перековку отправился, — ответила Юлия. — Можно, я у вас немножко побуду? Я вам не помешала?
— Что вы, что вы, Юлия Павловна! Кому и как может помешать такая интересная женщина! Вы меня извините, но вы очень интересная женщина. Вы вполне оправдываете свое имя.
— Мое имя? А у него есть значение? — Юлия заинтересовалась. — Мне никогда не приходило это в голову.
— Как же, как же, Юлия Павловна! Неужели вам никто об этом не говорил? «Юлия» — женская форма от «Юлий». А «Юлий» по-латыни значит — «блестящий». Вы блестящая, Юлия Павловна, вот вы кто.
— Интересно. — Юлия даже улыбнулась. — Но мне кажется, Гурий Матвеевич, что если я и была в свое время блестящей, то весь блеск с меня давно сошел.
— Не стыдно вам! Вот сейчас сварю кофе, выпьем по чашечке, настроение у вас и поднимется. У вас, наверняка, гипотония, пониженное артериальное давление. Никогда не измеряли? Вот ведь вы какая!
Черногус включил электрическую плитку, достал из шкафа маленькие кастрюлечки из белого металла, сделанные так, будто их затянули в талии корсетом, полез в недра письменного стола за банкой, как он сказал, самого заветного кофе; кто-то привез ему года три назад из Англии.
— Новозеландский! Не кофе, а тысяча и одна ночь.
Когда кофе было сварено и налито в чашечки, когда его ароматом заполнился весь дом, Черногус достал из шкафа две рюмочки и наполнил их ликером.
— Попробуйте, Юлия Павловна. Чудесно с ликером.
Юлия не любила ликеров; но из вежливости попробовала, и даже похвалила:
— Да, приятно. Очень. — Затем, без всяких переходов и подходов, она вдруг спросила: — Гурий Матвеевич, как вы считаете, что такое любовь? Это непременно окрыляющее чувство? Или оно может и угнетать?
Черногус долго и внимательно вглядывался в лицо Юлии, мелкими глотками, едва касаясь губами, прихлебывая кофе из чашечки.
— Вы, конечно, любили, не сомневаюсь, — добавила Юлия. — Как было, у вас?
— У меня было так, Юлия Павловна. — Черногус отставил чашечку. — Был я студентом… — Он пошел к столу, порылся в ящиках, извлек пожелтевшую фотографию миловидной молодой женщины, в тугой блузке, с пышными рукавами, в длинной, обтягивающей фигуру юбке. — Вот влюбился в нее. — Черногус положил фотографию на стол перед Юлией. — Аннушка. Анна Шашкова. Дочка хозяина дома, в котором я квартировал. Пела, рисовала. Отвечала взаимностью. Все было решено. Но в шестнадцатом году меня мобилизовали в армию, отправили в Персию. Вернулся не скоро, в двадцать первом. Ее уже не было. Уехала с папашей и мамашей в эмиграцию. Исчезла. Много боли, много разочарований причинила мне эта любовь, Юлия Павловна. Для молодой души разочарование всегда страшнее, чем для души, покрытой коростой житейского опыта. Но была и другая у меня любовь. Это уже в двадцать пятом году. Я работал в губкоме партии. Она тоже была активисткой… Но даже вот и фотографии от нее не осталось… Все были заняты, заняты, — сфотографироваться некогда. И детей не завели, откладывали до более спокойного времени… Умерла. Простудилась, выезжая в деревню… Воспаление легких. Ни пенициллинов, ни сульфидинов, ни террамицинов, — ничего такого в ту пору не водилось. Поил клюквенным морсом, сидел возле, держал ее руку в своей. Пульс считал день и ночь. Все кризиса, перелома ожидал. Перелом пришел, да только в худшую сторону. Задремал раз на стуле. Проснулся, а ее уже и нет. Даже и не простились…
Он встал, походил по комнате. Закурил. Юлия сидела тихо, следила за его движениями. Он мог бы больше и не говорить, он ей ответил, сказал все, что мог. Она смотрела на него с изумлением, с уважением и вместе с тем с некоторой жалостью. Человек прошел такие испытания, рядом с которыми ее, Юлины, горести ничего не стоят. А что получил он взамен от жизни? Новые горести, новые удары.
— Вот так, — сказал он. — А все же любовь окрыляет человека. Да, окрыляет. Крылатое чувство. Без любви жить нельзя. Но дело в том, Юлия Павловна, как понимать любовь и что считать любовью. — Он подошел к полкам с книгами, порылся в книгах, достал одну из них, полистал страницы. — Вот что сказал когда-то Платон. Он сказал, что для молодого человека, точнее — для человека, начинающего жизнь, любовь заключается в любви к телу его возлюбленной. Только в ее теле для него вся красота материального мира. Затем человек от тела идет к душе. Платон говорит, что по мере обретения опыта человек начинает видеть и духовную красоту возлюбленной, и эта красота берет верх над красотой телесной. Второй, значит, шаг любви. Постигнув прелесть красоты духовной, человек обращает взоры к красоте нравов и законов жизни. Он идет от частного к общему, от малого к большому. Его уже влечет красота учений, красота наук. Возраст, опыт делают свое дело. Я бы добавил, что человек начинает в конце концов видеть красоту своего времени, любить свое время, свою эпоху, дела своего народа. Он приходит к большой любви, к человечности, к гуманизму. И все это любовь, любовь и любовь. Я это понимаю хорошо. Мне седьмой десяток. А вы этого, очевидно, понять не сможете. Ваша любовь может делать только первые шаги. Вы ещё очень молоды.
— Не очень. Мне все-таки четвертый десяток. — Юлия улыбнулась.
— Одно время я изрядно злился на вашего родственника, на мужа вашей сестры, на Василия Антоновича. И это было похоже на настоящую ревность, — говорил Черногус. — Представьте себе: вы любите прекрасную, бесконечно дорогую вам женщину, и вдруг ею завладевает некто, налетевший со стороны, не спросивший даже о ее чувствах к нему. Он женится на ней. Родители, скажем, так повелели и выдали. Вы в отчаянии, не правда ли? Вам кажется, вы это ясно видите, что любимой вашей с ее внезапным мужем, с вашим соперником, плохо, что она страдает, что она, недорого доставшаяся, не очень-то ему и нужна, что он обращается с нею плохо. Страдаете, следовательно, и вы и, страдая, со страшной силой ненавидите соперника. Для меня, на моем этапе жизни, такой любимой является мой родной край, вот эта самая Старгородская область. Я влюблен в ее просторы, в ее реки, в озера, в людей, в ее прошлое, в настоящее и в будущее, я знаю все ее тайны, все ее богатства. Но… Но не мне она досталась, не мне, а ему, мужу сестры вашей, Василию Антоновичу Денисову, секретарю обкома, как бы слетевшему на нее с небес.
Юлия засмеялась. Черногус продолжал: — Да, да, да. Я страдал, мне казалось, что все делается не так, как надо, что люди не понимают ни души, ни красоты моей любимой. Какой то силос, кукурузу сеют, о каких-то поросятах и курах-несушках хлопочут, строят комбинаты синтетического волокна. А красота озер, красота рек, запасы в недрах земли… А художественные ремесла — кружева, строчка, резьба, чеканка — древние народные искусства, — они позабыты, заброшены. Я об одном, а те, в обкоме, о другом… Он налил себе остывшего кофе, выпил чашечку, продолжал:
— Я ошибался, Юлия Павловна. Я грубо ошибался. Только теперь я это понимаю. Но ведь любовь и особенно ревность — ослепляют. Я был слеп. Я хотел бы поступать со своей возлюбленной, как те любящие мужья-эгоисты, которые живут сегодняшним днем и не смотрят в завтрашний, которые холят, нежат, украшают свою любимую, не дают ей лишнего шага сделать, жалеют ее и щадят, а через пять лет видят, что она превратилась в домашнюю индюшку, отсталую, ожиревшую, и начинают от нее бегать к молодым курочкам. Оказывается, тот муж мудрее, который заставляет жену совершенствоваться, трудиться, учиться, идти вперед. Он ее меньше холит, зато она от этого крепче, самостоятельней становится. А значит, не только не стареет и не отстает, а расцветает, совершенней делается, привлекательней. Может, свежего кофейку сварить?
— Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Я засиделась. Отняла у вас целый вечер.
— Напротив, вы мне его подарили. Заходите ещё. Всегда заходите. Как только найдет на вас такая минута.
На улице, после недавних оттепелей, вновь установились морозы. Снег певуче скрипел под ногами, шаги прохожих далеко отдавались вдоль заборов. Юлия шла быстро, снег под ее подошвами коротко и пронзительно взвизгивал.
На главных улицах его уже соскребли с тротуаров, там был черный асфальт. Было холодно, и Юлия зашла в кафе, выбрала себе местечко за дальним столиком, села, что-то заказала официантке, раздумывала. Если принять систему Платона, то что же ее привлекает в Игоре Владимировиче Владычине? Красота телесная? Да, он незауряден и внешне. Он, наверно, был заядлым физкультурником в студенческие годы, он хорошо сложен, высокий, руки крепкие, лицо интеллигентное, держится свободно, уверенно. Значит, самое что ни на есть первичное? Тело? Разве так? А разве ей не интересны его смелые и своеобразные суждения? Разве, не заметила она его эрудиции? Разве не интересует ее то, что он вот уже второй год пишет по ночам, украдкой? Разве была бы она счастлива, если бы раза два в неделю он приглашал ее к себе в постель и затем деликатно, но настойчиво выпроваживал домой?
Юлию покоробило от этой мысли. Пусть и это, пусть, конечно. Но ей бы хотелось быть возле него всегда, хотелось бы заглядывать в его рукопись, хотелось бы сидеть рядом долгими часами и разговаривать обо всем, обо всем на свете, хотелось бы готовить ему что-нибудь вкусное, — она же умеет это, ее кулинарное искусство всегда так хвалят. Хотелось бы, смешно сказать, штопать его носки. Вот так засунуть в носок старую перегоревшую лампочку и затягивать на ней ниткой проношенное место.
«Как глупо, — подумала она. — Я становлюсь индюшкой. Я не похожа на себя. Что это? Может быть, я нездорова?» Она хотела встать и уйти, но официантка принесла еду, и убежать уже было невозможно.
— Здравствуйте, Юлия Павловна! — услышала она. — Разрешите сесть к вам?
Возле ее столика стоял молодой художник, о котором Виталий Птушков говорил, что это его приятель. Фамилию художника Юлия не запомнила:
— Пожалуйста. — Она пожала плечом.
— Что вас давно не видно, Юлия Павловна? — спросил он приветливо.
— Работа… — ответила она неопределенно.
— Да, я слышал. Новый спектакль оформляете. От Виталия никаких известий нет?
— По-моему, вы это должны знать лучше меня.
— Я? — художник явно удивился. — А почему же, Юлия Павловна?
— Вы же его лучший друг. Он во всяком случае, так говорил о вас.
Художник засмеялся.
— Юлия Павловна! Он добряк, конечно, этот Птушков, если так отзывается после всего, что было.
Юлия промолчала.
— Вы разве не знаете, какая у нас с ним история произошла?
— Извините, пожалуйста… Я не запомнила вашего имени… Но меня совершенно не интересуют ни Птушков, ей его истории.
— Простите. — Художник был смущен. — Моя фамилия Столяров. Алексей Столяров. А историю я бы хотел вам рассказать, чтобы вы мою фамилию с фамилией Птушкова так прочно не соединяли.
— Основополагающая история? — спросила Юлия с иронией.
— Да, многое объясняющая. Видите ли, Юлия Павловна, я принадлежу к тем, кому очень нравится ваша манера работы. К этим же людям принадлежит и мой учитель Тур-Хлебченко, Виктор Тихонович. Поэтому я чувствую к вам симпатию и так запросто, доверительно с вами разговариваю. В отношениях к искусству мы, очевидно, единомышленники.
— А мне говорили, что вы в формализме путаетесь.
— Да, есть и такие разговоры обо мне. Это, знаете ли, один критик пустил слух. У меня были ошибки, были заблуждения. Чего-то искал необыкновенного, за чем-то гнался. Но Виктор Тихонович меня вовремя предостерег. А тот критик, года три-четыре назад, вознес меня именно за старые заблуждения. Ловко так сбивал с пути. Ну, печатное слово и сделало свое дело: Столяров — формалист, надежда некоторых ультралевых. Ко мне даже иностранцы затесались в прошлом году. Но их постигло разочарование. Интересного для себя в моей мастерской они не нашли. Они искали западничества, а точнее — упадочничества. Теперь о Виталии Птушкове… Он тоже прослышал о том, что Столяров — формалист, западник. Звонит мне, что хотел бы со мной познакомиться, зайти в мастерскую, посмотреть работы. Что ж, говорю, пожалуйста, товарищ Птушков. Только ничего интересного у меня пока нет. Молодо, мол, зелено, незрело. Ничего, ничего, говорит, вы не прибедняйтесь. Договорились на какой-то день, на какой-то час. А тут, именно в тот день, но часа за два до появления Птушкова, зашел ко мне Виктор Тихонович. Я ему все рассказываю, сомневаюсь. А он говорит: «Алешка, зто замечательно. Бумага у тебя есть?» Бумаги, как на грех, не оказалось. Нашел он у меня рулон обоев, от ремонта осталось. «Давай, говорит, работать, Давай, говорит, убирай быстренько со стен, отовсюду, свои этюды, свои наброски, портреты, картины, таскай на антресоли. А я займусь этим». Нарезал обоев, на их обратной стороне принялся малевать жуткий бред всеми красками — акварелью, гуашью, просто чернилами. Я таскаю свои работы на антресоли, пыль глотаю. Он бешено малюет. Потом и я ещё успел парочку бредов создать минут за пятнадцать. Словом, изготовили так штук двадцать «полотен» в духе тех, что на выставках современного искусства демонстрируют в Венеции. Расшпилили кнопками по стенам. «Ну, теперь можем принимать ценителя», — сказал Виктор Тихонович.
Птушков пришел, долго ходил вдоль стен, внимательно этак, оценивающе рассматривал. Мне стыдно, краснею, лепечу что-то. Виктор Тихонович грозит пальцем, смотри, мол, не подведи. Поговорили, то да сё. Стал он называть имена каких-то своих литературных богов. Виктор Тихонович каких-то живописных богов назвал. Птушков и говорит: «А эти вещицы продаются?» Я рта не успел открыть, Виктор Тихонович уже отвечает: «Да, конечно. А для чего же их мастер создавал. Не для себя же. Для народа, для воспитания чувств и вкусов». — «Так, так, — говорит Птушков. — А сколько каждая вещь может стоить?» — «На круг, — говорит Виктор Тихонович, — по восемьсот рублей». Я взял и вышел. Постоял в передней, перевел дух, вернулся. Они уже снимают мазню нашу со стен, свертывают в рулоны. Пять штук унес Птушков. Благодарил уходя, сказал, что непременно на днях ещё зайдет. Когда он ушел, Виктор Тихонович упал на диван и хохочет, хохочет. А я чуть не плачу. На столе-то пачка денег лежит. Толстая пачка. «У него, говорит, только четыре тысячи нашлось. Пока больше нет. Получит, за остальными полотнами зайдет». — «Это мошенство, говорю. Это нечестно, это уголовщина, Как ни уговаривал меня Виктор Тихонович, не мог я взять деньги. Отправил их обратно Птушкову. А Виктор Тихонович отправил ему заодно и остальные картинки на обоях. Все со временем стало всем известно. Птушков подошел ко мне как-то и сказал великодушно: «Вам, Столяров, я прощаю. Вы молодой, вас запутали, обработали, втянули в грязную историю. Но Туру вашему Хлебченке плохо ещё придется. Это он все подстроил, понимаю. Обольется кровавыми слезами». Писал потом эпиграммы на Виктора Тихоновича, сплетни пускал. Вот какая история, Юлия Павловна.
— Я этого не знала.
— Сам Птушков ведь не расскажет. — Столяров усмехнулся. — Он очень злобствует сейчас, сидя в деревне. У него нелады в колхозе. Один его приятель рассказывает, что Птушков поэму написал, все, дескать, закачаются. Полная правда жизни. Пока в списках ходит, а со временем в «Старгородском альманахе» напечатают.
Они вышли из кафе вместе. Столяров провожал Юлию до дому, рассказывал неизвестные ей местные происшествия. Она слушала рассеянно. Она думала о том, что с кем угодно можно встретиться в городе, даже вот с незнакомыми, с едва знакомыми, но только не с тем, к кому так влечет, с кем так хочется встретиться.
35
Василий Антонович сидел за длинным, покрытым красной материей столом, на ярко освещенной сцене, между Владычиным и новым директором комбината Архиповым, смотрел, в зал. В зале Дома культуры собралось более тысячи коммунистов — почти вся партийная организация этого большого и важного предприятия Старгорода. Целиком был заполнен партер, полон был амфитеатр; пустовал только балкон. Доклад делал заместитель директора, старый инженер-химик. Он рассказывал о том, как на комбинате выполнен план первого года семилетки и что делается для того, чтобы семилетний план выполнить с опережением графика.
Доклад был интересный и откровенный. Комбинат план выполнил, отечественная промышленность получила много ценной его продукции, и получила вовремя. Но план выполнялся за счет большого трудового напряжения коллектива и за счет слишком быстрого износа оборудования.
— Скажем прямо, — говорил докладчик, — работали не только не по-коммунистически, но даже и не по-социалистически. Не передовыми, словом, методами. Не заглядывая в будущее, не заботясь о завтрашнем дне.
Он не сваливал вину на бывшего директора, на Суходолова, как того можно было ожидать. На своем веку Василий Антонович перевидал всякого. Сколько знал он случаев, когда человеку, освобожденному почему-либо от работы, сыпались вслед обвинения во всех смертных грехах; когда получалось так, что во всех грехах оставшихся был виноват только он один, ушедший. Но вот время идет, и другими становятся люди; все меньше в них мелкой трусости, все меньше оглядки па другого, все меньше ссылок на то, что-де моя хата с краю. Люди становятся тверже, смелее, самостоятельней. Заместитель директора мог бы с успехом валить все на Суходолова, — Суходолова на собрании нет, он уже снялся с партийного учета на комбинате, он не выступит, не возразит, не одернет, — плети давай, что на душу ляжет, выгораживай себя. Нет, его заместитель этим не воспользовался, он себя не выгораживает. Точно и ясно анализирует он прожитый год, называет и всесторонне разбирает не только промахи Суходолова, но и свои собственные, отнюдь не менее серьезные, чем суходоловские.
— Мы оказались делягами, а не политиками, — говорил он. — А в борьбе за построение коммунизма, то есть выполняя задачу не только экономическую, но и политическую, просто спецами быть нельзя. Советский хозяйственник не может не быть политиком. Мы гнались за выполнением и перевыполнением планов, нам нравилось получать премии…. а кому это не нравится? Нам нравилось из рук представителей министерства и ЦК профсоюза принимать шитые золотом переходящие знамена. Под треск парадных барабанов о многом важном мы позабыли. Мы позабыли о движении рационализаторов. Наши изобретатели с великим трудом добивались чего-либо, без нашей помощи, только за счет своей настойчивости. А кто был менее настойчив, тот и ничего не добивался, и от этого терял кто? — он один? — нет, теряли мы, терял комбинат, теряла вся наша промышленность. Мы позабыли о совершенствовании организации труда, мы работали по раз установленному шаблону. Мы позабыли о профилактическом ремонте оборудования, мы трепали его без зазрения совести. И результатом был взрыв в цехе номер сорок два, к счастью, или, вернее, благодаря только героизму некоторых работников цеха, обошедшийся сравнительно благополучно. Могло быть в тысячу раз хуже, и это нам суровый урок.
Василий Антонович рассматривал лица сидевших в зале. Люди слушали внимательно, серьезно; стояла тишина. Василий Антонович думал о том, что вот закончится доклад, начнутся прения, будет, наверно, резкая критика и по адресу Суходолова, и по адресу партийного комитета, и, надо полагать, не пощадят и обком и его самого, первого секретаря обкома. Надо будет выйти на эту трибуну, на которой стоит сейчас Докладчик, так же точно, ясно и определенно, как он, выступить перед сидящими в зале людьми. Их более тысячи, они коммунисты, они его единомышленники, и никакие увертки перед ними не помогут. Да он, Василий Антонович Денисов, и не мастер уверток, его мысль никогда не работала в поисках уверток. Он привык говорить людям только правду, зная, что убедительней, чем правда, ничего на свете нет.
Он осматривал зал, стараясь найти в нем Александра. Но не находил.
Александр сидел в дальнем ряду. Сын предвидел, что отца будут критиковать, и ему не хотелось в такие минуты находиться среди товарищей по цеху, он сел среди незнакомых, среди коммунистов не то механического цеха, не то ТЭЦ. Он волновался. Еще вчера вечером у него был разговор с матерью. Он говорил Софии Павловне, что на комбинате знают, почему так долго обком не реагировал на сигналы о неблагополучии в руководстве комбината; на собрании могут об этом спросить отца, пусть отец приготовится.
— Шурик, — ответила София Павловна. — тебе известно, что папа очень считается с моим мнением, он во многом непременно советуется со мной. Но вот что, где и как сказать коммунистам, это один из тех случаев, в какие я не считаю себя вправе вмешиваться. Это полностью папино дело. Предоставим это ему. Не беспокойся, папа сумеет обойтись и без нас с тобой.
Отец, конечно, обойдется, это правда. Но вот сидящие вокруг Александра чужие люди, перешептываясь, отпускают по адресу и Суходолова и Денисова такие замечания, что лучше бы их и не слышать. И ничего им не скажешь: в основе они правы. А раз правы в основе, то требовать какой-то изящной формы для выражения основы — это детская игра, это смешно и глупо.
После доклада был устроен перерыв. Покурили. Начались прения. К удивлению и Александра и Василия. Антоновича, в прениях ругались мало; все больше говорили о том, как ликвидировать недостатки, как сделать так, чтобы работа шла лучше, вносили практические предложения. «Почему так? — думал Василий Антонович. — Может быть, потому, что доклад был до предела откровенным и самокритичным. Или люди настолько выросли, что уже не желают копаться в том, что прошло, — смотрят только в будущее, устремляются только вперед?»
На стол президиума падали записочки. Некоторые были адресованы ему, секретарю обкома. Разные задавались вопросы. В одной записке кто-то спрашивал: «Будет ли в текущей семилетке разведана магнитная аномалия в области? И начнется ли ее разработка?» А рядом была другая записка: «Почему на своей машине вы нарушаете правила уличного движения, совершаете левые повороты, где не положено, обгоняете всех в городе, останавливаетесь даже там, где есть знаки запрещения этого? Разве правила не для всех одинаковы? Группа товарищей». Спрашивали: «Правда ли, что Суходолов ваш приятель?» Спрашивали: «Какая у вас месячная зарплата?»
Перечитывая эти записки и понимая полную закономерность подобных вопросов, Василий Антонович тем не менее понемножку вскипал, накалялся. Начал сказываться его характер полемиста. Не заденут — спокоен, рассудителен, даже, может быть, вяловат. Задели — мобилизует все чувства, мысль работает активно, остро, возникают образы, метафоры, доказательства — одно неожиданнее другого. Нет, устроить над собою судилище он не даст. Он стал набрасывать тезисы на листках бумаги, раскиданных по столу президиума.
Перед заключительным словом, когда уже выступили и секретарь партбюро Осипенко, и секретарь райкома Владычин, — кстати довольно миролюбиво выступивший, — часу в одиннадцатом попросил слова и Василий Антонович.
Было несколько жидких, разрозненных аплодисментов в разных концах зала; пока шел к трибуне, шумок ожидания пронесся по рядам.
Потом установилась напряженная тишина. Заговорил. Заговорил о том, как в первый год семилетия поработала вся область, о том, какие у нее перспективы на будущее, о широких планах подъема культуры на селе, об осушении болот и орошении засушливых почв, о предстоящих разведках в зоне магнитной аномалии, говорил обо всем, о чем так часто приходилось выступать перед бюро обкома, на партийных активах, на пленумах, в кабинетах министров в Москве, у секретарей ЦК. Увлекся, позабыл, где он, благо слушали с интересом. Потом опомнился, заговорил о месте комбината в общих областных планах, о том, чего и область и страна ждут от коллектива старгородских химиков. Чувствовал, что контакт с залом мало-помалу устанавливается. Оживленно гудят там, где и следовало ожидать этого, смеются над анекдотичными примерами, кое-где аплодируют. Это ободряло.
Раздумывал, как быть с вопросом о Суходо-лове. Сказать сейчас, вставив это в речь, или потом, отвечая на записки. Решил, что записка привлечет излишнее внимание, лучше уж тут сказать, пока все идет так успешно.
— Мне очень понравился доклад заместителя директора, — заговорил он, приближаясь к концу. — Умно, самокритично. Это хороший стиль, стиль прямоты, тот стиль, когда отбрасывают увертки и соображения ложной амбиции. У нас у всех бывают ошибки. У одних помельче, у других покрупнее. Я вам прямо скажу: я тоже ошибся в одном из важнейших вопросов жизни вашего комбината. Ко мне давно шли сигналы, настойчивые сигналы, о том, что Николай Александрович Суходолов не годится на месте директора. Вкус к новизне, к новаторству потерял, работает по старинке, по методу: «Раз, два, взяли! Эх, зеленая, сама пойдет». Виноват, сильно виноват я, что сопротивлялся. Думал, может быть, человек ещё одумается, перестроится.
В затихшем зале кто-то громко сказал:
— А говорят, что он ваш приятель. Верно это?
— Верно, — ответил Василий Антонович. И зал загудел. Это было грозное гудение. Оно могло перерасти в бурю. Василий Антонович поднял руку: тише, мол, товарищи тише. — Верно вам сказали, товарищ…
— Ющенко!
— Совершенно верно, товарищ Ющенко. Вы на фронте были?
— Был. С августа сорок первого по день Победы.
— Ранены были?
— Три легких ранения. Одно тяжелое.
— А тех, кто вас с поля боя эвакуировал, вы запомнили? Тех, кто фактически вам жизнь спас?
Зал с интересом слушал этот удивительный диалог секретаря обкома партии и токаря из ремонтно-механического цеха.
— Помню, — ответил Ющенко. — Одна деваха, героиня, под самым огнем меня перевязывала.
— Вот такой, товарищи, девахой-героиней оказался для политрука-ополченца Денисова ваш бывший директор Суходолов. — По залу прошел гул. — Полтора километра тащил он меня на своей спине, полумертвого. Сам был тяжело ранен. И все-таки дотащил, и вот я живу. Теперь судите: приятель он мне или кто…
Может быть, треть, а может быть, и половина из тех, что были в зале, прошли войну, знали цену помощи на поле боя, знали цену фронтовой дружбы. Зал гудел все сильнее и сильнее.
— Еще объяснять? — спросил Василий Антонович.
— Нет! — почти одним дыханием сказала сотня, может быть, несколько сотен голосов, и это было как мощный вскрик. — Ясно!
— Ну, если ясно, так пойдем дальше. Позвольте, отвечу на некоторые записки. Насчет разведки железных руд я уже сказал, насчет строительства гидростанции на Кудесне — тоже, о водных путях помянул, о жилищном строительстве рассказывал. Так… Вот вопросик, товарищи! «Почему на своей машине вы нарушаете правила уличного движения, совершаете левые повороты, где не положено, обгоняете всех в городе, останавливаетесь даже там, где есть знаки запрещения этого? Разве правила не для всех одинаковы? Группа товарищей».
Кое-кто в зале засмеялся. Но на большинстве лиц, которые Василий Антонович окинул взглядом, прочитав записку, было ожидание: что-то, мол, скажешь, товарищ секретарь обкома, ведь и верно — твои шоферы правила движения нередко нарушают.
— Что ж, — ответил Василий Антонович, — вопрос как вопрос. Я догадываюсь, кто эта «группа товарищей». Это, конечно, владельцы собственных машин. — Смешки в зале усилились. — Ездят многие из них неважно, тоже, как говорится, правила нарушают. За это автоинспекция их штрафует. — Смех в зале стал ещё веселее. — Не так, что ли?
— Так! — крикнули. — Точно!
— Он, знаете ли, такой сосредоточенный, крутит бараночку, заняв середину улицы, катит не торопясь. И товарищу обидно, когда мимо него, с шумом и свистом, проносится секретарь обкома партии. Обогнал, видите ли, товарища собственника, да ещё и левый поворот сделал в неположенном месте. — С веселого тона Василий Антонович перешел на серьезный, нажал немножко на голос. — А что, товарищи, должен делать секретарь обкома, если он уже собрался к вам на собрание, а тут вдруг ему секретарь ЦК позвонил из Москвы и двадцать минут шел разговор об очень серьезных вопросах развития области? Что делать, когда до начала вашего собрания осталось семь минут, а ехать из центра города до комбината — сколько? Прикиньте сами. Трюхать позади собственничка прикажете в таком случае? Нет, товарищи, в таких случаях, когда дело касается встреч с людьми, когда меня ждут, когда дело надо делать, в таких случаях я обгоняю и буду обгонять! — С последним словом Василий Антонович сделал решительный жест рукой, отметающий в сторону записку с этим вопросом. Дружные аплодисменты шумно ударили в зале.
Василий Антонович утер лицо платком.
— С вопросами, кажется, все, — сказал он, когда в зале затихли. — Остается пожелать вам…
— Извиняюсь! — выкрикнули из третьего ряда. Там кто-то поднялся. — А насчет зарплаты был вопросик.
— Да, да, был, — Василий Антонович порылся в записках. — Не нахожу. Завалилась. — Он смотрел на человека в третьем ряду, который снова сел на место. Что-то знакомое было в этом человеке. Видел его Василий Антонович где-то, определенно видел. Седеющая шевелюра, насупленные брови. Глубокие складки возле губ. Плотный, с короткой сильной шеей. Но где же, где?.. — В общем так, вопрос был такой, товарищи… — сказал он. — Да, вот она, эта записка! Не о зарплате рабочих и служащих в ней спрашивают. А о личной моей зарплате: «Какая у вас месячная зарплата?»
Зал вновь зашумел. Василий Антонович ждал, что, может быть, крикнут: «Не надо». Но не крикнули. Он сказал:
— Всякие, конечно, могут быть вопросы. Но я, например, не спрашиваю, какая зарплата у этого товарища в третьем ряду.
Сказал и понял, что совершил грубейшую ошибку. Зал зашумел, как ещё не было, — изумленно, гневно, от края до края.
— И плохо! — крикнул кто-то.
— Надо спрашивать!
— Надо интересоваться! Поднял руку, переждал шум.
— Правильно, плохо, что не спрашиваю. Я согласен. В вопросах зарплаты ещё не все ладно, руководители обязаны… — И вдруг он вспомнил, кто этот круглоголовый человек в третьем ряду. Да это же он, владелец двухэтажного дома на Колокольной улице. Тот, кого недавно прорабатывала комиссия по вопросам коммунистической морали. — Правильно! — чуть не крикнул он, радуясь, что оговорка перерастает в хороший тактический ход. — Вопрос законный. И секрета никакого здесь нет. Я коммунист, у меня в кармане партбилет, там точно сказано, в какой месяц и с какой зарплаты я уплачиваю партийные взносы. Партбилет, как известно, документ отнюдь не секретный. Подходите каждый — любому покажу. И вы увидите, что многие из сидящих в этом зале получают не только не меньше, но иные и больше, чем секретарь обкома. О другом хочу сказать. А знаете ли вы, спрашиваю вас, кто задал мне этот вопрос о зарплате?
— Знаем! — крикнули несколько голосов.
— А если знаете, то почему же так загудели, когда я сказал что не спрашиваю, какая у него зарплата? Если я его сейчас спрошу, сколько он зарабатывает в месяц — и не только на комбинате, конечно, — то вам же придется разбирать персональное дело, товарищи.
На этот раз гул в зале не затихал, и все нарастал и нарастал.
— Позвольте слово! — крикнули из рядов. К сцене, к трибуне шел кто-то энергичный, взволнованный. — Товарищи! — крикнул он, становясь рядом с Василием Антоновичем. — Товарищ Денисов так и не назвал эту фамилию. А я назову. Вопрос о зарплате секретаря обкома задал Демешкин. Ничего в этом вопросе удивительного нет, задай его порядочный человек. Так ведь кулак задал вопрос! Вот что возмутительно и обидно. Торгаш, паук, спекулянт. Я тоже трубопроводчик, как и Демешкин… Соловьев моя фамилия… И мне ребята поручили сейчас от их имени сказать: извините, товарищ Денисов, семья не без урода… — Грохот аплодисментов заглушил его слова. Он что-то ещё говорил, а что, было не слышно. Он махнул рукой и соскочил со сцены, в гуле пошел к своему месту.
— Итак, дорогие друзья, — заговорил вновь Василий Антонович. — Я подзатянул свое выступление. Дорвался, что называется, до аудитории. Прошу и меня извинить. От всей души желаю вам больших успехов в вашем замечательном труде на благо нашей родины. Думаю, что совместными усилиями мы не допустим больше та-, ких промахов, какие у нас с вами случались в прошлом.
Ему долго и дружно аплодировали, сливая разрозненные аплодисменты в общие дружные хлопки: раз, раз, раз, раз… Он собрал бумажки на трибуне, пошел к столу президиума, на свое место. В зале все ещё аплодировали. Поаплодировал и он залу. Председатель принялся звонить в колокольчик, едва успокоил собрание.
Закончили поздно, в час ночи. Так давно не случалось на комбинате.
Напереживавшийся Александр видел, как отец шел к машине в толпе рабочих и инженеров, как пожал на прощанье несколько рук и уехал. Он стоял в темноте, на морозе, до тех пор, пока чья-то рука не взяла его за плечо. Это был Булавин.
— Молодец у вас папаша, Александр Васильевич. Не первый раз это говорю. Идет прямо на опасность. А ведь вечерок был острый. Ведь можно было и провалиться. Представьте, если бы его освистали… Плохо бы выступил, неудовлетворительно бы, а? В отставку ведь тогда подавать надо. После такого скандала от его авторитета ничего бы не осталось. Нет, молодец, молодец! Уважаю таких людей. Ну что — по домам?
— Не знаю, где сын. Надо в детский сад зайти. Иной раз, когда задерживаюсь, девушки в общежитие его забирают.
Отправился в детский сад. Но Павлушки там уже не было. Девушки, оказывается, отвезли его домой. Будто предчувствовали, что собрание будет долгое.
Отец и София Павловна дожидались Александра за столом. Видимо, только что пришла и Юлия, — пили чай.
— Ну как? — весело спросил Василий Антонович. — Ты там среди народа сидел, все слышал.
— В общем, народ хорошо к тебе относится, — ответил Александр. — Только больше не рискуй со своими приятелями. Жизнь спас — это хорошо, это тронуло. А если ещё начнешь про кого-нибудь объяснять, что на одной парте с ним сидел да вместе коров пас, уже не поможет.
— Ну и ядовитый ты леший, Шурка! — сказал Василий Антонович добродушно. — Чужие люди и те, что называется, снисходительней, чем родной сын.
— А чужим, может, не так больно, когда чей-то родной батька спотыкается.
— Ладно, ладно. А то и тебе кое-что преподнесу. Доколе чужой труд будешь эксплуатировать? Мать говорит, девчонки из цеха Павлушку твоего домой привезли. Ты что им головы-то всем крутишь? Ты уж какую-нибудь одну выбери. А то, как на выставке мод, — то одна появится, то другая, то две или три враз. Вот уж на этом деле мы с тобой можем здорово споткнуться. Понял?
— Как-нибудь обойдется. Не споткнемся. Юлия ни о чем не спросила, ничего не сказала. Допила чай и ушла к себе.
— Плохо дело? — спросил Василий Антонович, указывая глазами ей вслед.
— Очень, — ответила София Павловна. — Неужели нельзя там что-нибудь… как-нибудь… — Не найдя слов, она поделала что-то руками, желая хоть так объясниться.
— «Что-нибудь… как-нибудь»! — передразнил Василий Антонович. — Сводник я, что ли? Когда мне надо было с тобой встретиться, — подошел, заговорил.
— Ну ты же мужчина: А она женщина.
— Зато какая! Десятерых мужчин стоит.
36
Виталий Птушков лежал на своей постели в горнице, поверх одеяла, не раздеваясь и не зажигая света. Было ещё рано, можно бы куда-нибудь ещё и сводить, да не хочется идти по холоду.
Луч только что появившейся луны высветлил окна легкой серебристой зеленцой; мерцая и переливаясь, на стеклах засверкали морозные узоры, в печке подвывал ветер. За дощатой стеной слышались голоса хозяйкиной дочери Светланы и ее ухажера, немножко застенчивого, рослого, крепкого парня, которого она называла: Костик. Птушков давно заинтересовался Светланой; тоненькая, гибкая, стремительная, девушка эта была так перенасыщена юной энергией, что если пройдет мимо, — со столов бумаги летят. Давно раздумывал, как подойти к ней, какими ключами отомкнуть ее сердце; может быть, уже и подошел бы, но мешает этот Костик, слесарь с ремонтной станции. Станция — за две деревни от Озёр, — далеко, казалось бы. Нет, не ленится каждый день скрипеть сапогами восемь километров по морозу.
Нынешний вечер у них праздничный. Портрет Светланы напечатали на первой странице областной газеты: мол, два года назад девушка окончила десятилетку, уезжать из родного села не захотела, пошла на молочно-товарную ферму, которой заведует ее мать, стала дояркой и вот добилась таких результатов, что имя ее занесено на областную Доску почета. Фотокорреспондент «Старгородской правды» заснял Светлану очень хорошо. Гордая девчонка строго и загадочно повела бровью, смотрит в упор и не то зовет, не то предупреждает: не вздумай приставать, такой отпор получишь, что не обрадуешься.
Птушков повернулся, скрипнуло его деревянное ложе, на котором, может быть, и началась жизнь этой строгой дивчины.
В кухне сидела и разговаривала другая пара: хозяйка Наталья Фадеевна и старгородский инженер Лебедев. И если из разговоров Светланы с ее Костиком можно было понять лишь отдельные слова, то в разговоре хозяйки с Лебедевым было слышно каждое слово. Они сидели за кухонным столом и шуршали бумагами: что-то планировали. Лебедев рассказывал об автопоилках и кормозапарнике, о подвесных вагонетках, о жмыходробилках. Все это уже раздобыли, все это полным ходом устанавливалось, монтировалось, опробовалось.
Птушков старался не слышать ничего — ни из кухни, ни из-за стены. Он раздумывал о своем. Он раздумывал о том, что поездка в Озёры и почти двухмесячное сидение здесь ничего ему, в сущности, не принесли. Сатирическая поэма о Василии Деснице, которую он написал, могла быть с успехом написана и в городе. Несколько стихотворных зарисовок природы мало что прибавили к его творчеству. «Ода русской печке» — так, пустячок, мелочишка. Задумывалась она как протест против увлечения стройками и перестройками, ломками старого, традиционного, кондового. Но этот протест имел бы смысл и успех лишь в том случае, если бы идеи, ломок и перестроек шли сверху, а в низах не вызывали бы ни интереса, ни поддержки. А то происходит встречный процесс.
Свою «оду» Птушков почитал в чайной, почитал в библиотеке — молодежи. В чайной кто-то сказал: «А ну ее, вашу печку. Инкубатор для тараканов». Даже слова какие в ходу: инкубатор! А в библиотеке вообще ничего не сказали, завели радиолу и принялись танцевать. Печка физически еще живет, но морально она отживает… Воспевать, ее — значит, тянуть людей назад. Ну, а если воспевать грядущее центральное отопление? Не поется. Не лезут эти ребристые батареи и калориферы в поэзию.
Было бы лето, — пошел бы пешком по деревням, послушал девичьи песни, заглянул в дома, во дворы, в сады, — в сокровенную сельскую жизнь. Сами они, чудаки, видимо, не понимают той родниковой жизни, от которой стремятся к жизни механизированной и индустриализированной. Что ж, можно бы раскрыть им глаза на красоту того, от чего они готовы так легко отказаться, — страстным поэтическим словом рассказать о вешних зорях, о цветенье яблонь и вишен, о запахах трав в лугах, о гроздьях огненных рябин, о песнях жаворонков и малиновок, о стуках дятлов и пронзительных выкриках сов. Но не повезло — зима. Простуды, ангины, — все время какой-то зуд в горле, так и ходишь, будто по лезвию ножа, — по краю болезни. Вот хваленая изба, вот воспетая им, хваленая печка!.. С вечера тепло, уютно, домовито. А к утру? Что там — к утру! Уже к полуночи лезешь с головой под одеяло. К утру такая устанавливается холодина, что и подыматься не хочешь.
— Красивая женщина вы, Наталья Фадеев-па, — услышал он неожиданные слова. Ничего общего с автопоилками это уже не имело. — Очень красивая, — говорил Лебедев. — Почему замуж не идете?
— Поздно как-то, Михаил Петрович, — ответила хозяйка. — При такой-то взрослой девке. Это, знаете, в городе ничто значения не имеет: и при грудном младенце выходят, и тогда даже, когда у детей свои дети появляются. В деревне порядки строже. Совестно: дочь — на выданье, и мать — невеста!
— Значит, в монашках жить лучше?
— Хорошего мало, Михаил Петрович. Но ведь нас таких, вдов солдатских, не одна я. Может, миллион. А может, и больше. Бумагу подписали: мир. А что покалечено войной, бумагой не спишешь, в дело не подошьешь, в архив не отправишь. Живет оно и покалеченное.
Потом трещали лучины на шестке, пахло жареным, салом и яичницей. Был слышен отчетливый шлепок ладонью по бутылочному донцу, булькало в чашки или в стаканы.
— От этого не откажусь, — сказала хозяйка. — Только привычка у меня, Михаил Петрович, с одного раза выпить — и точка. Второй раз не пригубливаю, не могу, противно. Так что налей полный.
Звякало стекло о стекло. Пили.
Ну почему бы им не позвать его, Птушкова, к столу, не угостить стопкой? Знают же, что лежит он тут, неприкаянный, одинокий. В Старгороде одна девчушка выкрикнула раз о нем на вечере: великий! Перехватила, конечно. Но не это важно — важна вся атмосфера, тенденция. А здесь? Здесь только показатели давай. Надоил — слава! Накосил — слава! Вспахал, посеял, намолотил — слава, слава, слава! Кого читают? Баксанова читают. Почему? Потому, что именно он и провозглашает славу тем, кто надоил, намолотил, насеял. Ловок оказался — заигрывает со своими героями. Тоже служитель культа. Только теперь у него уже культ народа. Народ, народ, труженики… «Владыкой мира будет труд!» В чем же разница между писателем Баксановым и партработником Денисовым? Один зовет к труду, другой воспевает труд, то есть тоже зовет к труду. Все разум, разум и разум. А где же сердце? Без сердца нет не только искусства, но и вообще жизни нет. Такую машину, которая бы выполняла функцию мозга, которая бы думала, создать можно; их, этих машин, уже сколько угодно. А попробуйте создайте машину, которая бы любила, выполняла бы функции сердца! Чувства неизмеримо выше разума, разум нанесло на человека, с чувством он родился. Не только думать, но еще и ходить-то человек не умеет, еще зубов у него нет, а он уже любит, — любит свою мать. Нет, он прав, прав, воспев русскую печку. Пусть это против разума и так называемого здравого смысла, — зато по любви, по большой любви к народному.
За дощатой стеной шушукались, озорно посмеивались, как от щекотки; в кухне тоже перешли на шепот. В шорохах, в шепотах было что-то жаркое, тревожное, шальное. Птушков приподнялся на локтях, вслушивался, ловил каждый звук. Вот она жизнь-то, вот она, здесь, в закутках, в тесных каморках, за печками и на печках, а не во дворцах культуры и не в лекториях. На смену лекториям еще что-нибудь придет, на месте дворцов культуры вырастут дворцы физкультуры — мало ли что бывает! А шелест губ вечен, его не заменишь ничем, он будет жить, пока жива вселенная.
Птушков больше не мог, не мог оставаться в доме. Он слез с высокой постели, надел валенки, надел пальто, проходя через кухню, сказал: «Извините», — и плотно затворил за собой дверь. Он дошел до чайной. По шуму за окнами, закрытыми плотными шторами, понял, что она еще вовсю действует, но заходить в нее надо было уже со двора. За столами увидел с десяток поздних гуляк. Его окликнули, налили ему стакан; выпил, повеселел. Белые, холодные глаза его засветились. Попросили прочесть про боярина Василия Десницу, прочел главу. Пьяные хохотали, стучали кулаками по столам, запрокидывались от смеха на стульях.
Потом все вместе прошли по селу; кто как мог, так и пел про то, что все они два берега у одной реки, и еще, что они любят тебя, жизнь. Камыши, как видно, отшумели, пошли главным образом на изготовление стройматериалов, стрежни, к которым несколько сот лет все выплывали и выплывали из-за острова Стенькины челны, тоже перестали котироваться в хмельных компаниях; время, как говорится, прошло, на смену им явились, правда менее стойкие, но все же достаточно эмоциональные вокализы, в миллионных тиражах распространяемые киноэкранами и грампластинками.
Компания мало-помалу таяла, рассеивалась. В конце концов Птушков остался вдвоем с малознакомым ему колхозным шофером, который затащил его к себе домой. Разбудили жену шофера, его двоих ребятишек; сидели, еще пили и еще пели, пока Птушков не заснул на лавке у окна.
Он проснулся в темноте, почувствовал, что укрыт полушубком, но тем не менее в бок ему сильнейшим образом дуло от окна. Не сразу сообразил, где он, у кого. А когда все-таки сообразил, то поднялся и, отыскав свое пальто при свете спичек, вышел на улицу. Луна еще светила, но уже в другой части неба. Была она очень высокая и очень далекая.
Добрался до дому, тихо-тихо отворил двери, тихо-тихо ступал валенками по половицам, тихо-тихо взгромоздился на свою постель. В доме давно спали, ни Лебедева, ни этого парнищи, Костика, не было. Громко стучали ходики. Не спалось и не лежалось. По телу волнами ходил не то жар, не то озноб. Мысль была беспокойная, тревожная, все слышались шорохи, шепоты…
Поднялся и, в носках, отправился на кухню, из кухни шагнул на цыпочках в боковушку. Там было тепло, там дышала хозяйка; он ее не видел, только чувствовал.
Добрался до двери в комнатку Светланы, стал осторожно, медленно отворять; свет луны, светивший в комнату, проник через дверь и в боковушку, осветил лицо, плечи, грудь хозяйки, Натальи Фадеевны. Но не она, не хозяйка, влекла в этот час его, поэта Птушкова, а юная, тонкая, стройная былинка, которая уютно свернулась на своей железной кроватке в боковой комнате. Светлые волосы раскиданы по подушке, одна рука под щекой, другая, тонкая, белая, в лунном свете — будто из хрупкого фарфора…
Постоял, постоял возле постели, — нет, не решился нарушить девичий сон, не смог. Полюбовался; осторожно отступил, медленно притворил дверь. Вновь полный мрак и частое дыхание хозяйки. Остановился над нею. От нее шло тепло. Опустился на колени возле постели, уткнулся лицом в мягкое и горячее, обхватил руками.
Щелкнул выключатель на стене, под потолком зажглась лампочка. Большие серые хозяйкины глаза смотрели на него с удивлением. Он сел на край постели.
— Наталья Фадеевна. Наташа… — зашептал, вновь пытаясь ее обнять.
— Товарищ Птушков, товарищ Птушков, — тро сказала хозяйка, садясь на постели и прихватывая рукой сползающую рубашку, розовую, в мелких цветочках. — Не в себе вы, идите, пожалуйста, спать. Идите, товарищ Птушков.
— Желанная! — сказал он какое-то непривычное, странное для него слово.
— Это от хмеля я вам желанная, — ответила она. — Без малого в матери вам гожусь. Идите, пожалуйста, идите.
В голосе ее не было ни злобы, ни негодования, были жалость и сочувствие. И это действовало куда убийственней, чем будь тут злость и ярость.
Он встал, пошатываясь. Встала и она; поддерживая за спину, довела до горницы, помогла лечь, укрыла одеялом, заботливо, как самая родная из родных. Он схватил ее руку, поцеловал. Рука пахла молоком, подойниками, чем-то еще, совсем уже незнакомым; но эти запахи не отталкивали; они были уютные и добрые.
— Спите, милый, — сказала хозяйка, осторожно высвобождая руку. И ушла.
Он был разбит, убит, уничтожен. Он вздохнул и заплакал. Заплакал, не хныча, не хлюпая носом, нет, — всеми нервами, всем существом. Он лежал недвижно, и слезы текли по щекам, по шее, на грудь и на подушку…
Назавтра ему было немножко стыдно встретиться с Натальей Фадеевной. Но она держала себя так, будто ничего и не случилось, будто и не было этой ночной истории. Он пил чай, она подавала на стол вкусные ржаные лепешки. Не отрываясь он смотрел на нее. Лебедев прав, она красивая, она очень красивая. Дело совсем не в пышной груди, которая так поразила его с первого раза, не в ее округлых, женственных плечах, не во всей крепкой фигуре. Странно — инженер разглядел это, а он, поэт, не заметил, — красота Натальи Фадеевны была в ее глазах. Это была красота души и сердца, это была красота той, которая и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, и в битву за родное ей, дорогое, пойдет не колеблясь, и любить будет, если полюбит, но так, как он, Птушков, любить не способен.
— Наталья Фадеевна, я очень перед вами виноват. Я… — начал было он.
— Ну что вы, что вы!.. — Она подняла руку, предупреждая возможные его излияния. — Не надо об этом. Зачем? — Надела свою черную овчинную шубку с белым воротником, повязалась платком, обдала доброй улыбкой и ушла на ферму.
Нет, так жить он больше не может. Он вернется в Старгород… Вернется. И что? Что? Неизвестно. Но возвращаться надо, пора. Из клуба этого озерского ничего не выжмешь. Веселятся они тут по-своему, и развлекаются по-своему. Танцы, песни, Драмкружковцы желают только свои, деревенские, пьесы ставить. Струнный оркестр тоже держит курс на давно избитую музыку. А кроме как в клубе да в библиотеке, где он тут может приложить свои силы? Не пахать же и не сеять. В памяти одна за другой возникали милые, отзывчивые, покладистые городские девчушки, так не похожие на этих деревенских гордячек, на этих серых неотесанных дур без всякого воображения.
По двору проскрипели быстрые шажки, в дверь влетела раскрасневшаяся с мороза, цветущая, сияющая — глаз не оторвешь — одна из таких «дур», Настенька Белкина.
— Виталий Саныч! Вас к телефону. Старгород вызывает. Срочно, сказали. Запыхалась вот вся.
Оделся, едва поспевая за девушкой, отправился в клуб, к телефону. Звонил приятель Виталия, молодой драматург Герберт Остроженский.
— Виталий, — заговорил Герберт. — Ну и дел ты наворочал, почтеннейший. Муравейник гудит со страшной силой.
— А что, что такое? — В душу Птушкова вползал холодок от не очень-то приятных предчувствий.
— Сам, что ли, не знаешь! Черт тебя дернул этот «Древний сказ» сочинять. Тоже мне Эзоп нашелся.
— А я Эзопом и не прикидывался, — крикнул, озлобляясь, Птушков. — Я в глаза кому угодно это могу сказать. Это мой долг, священный долг: бичевать пороки. Поэт — совесть народа, совесть эпохи. Иначе жить не стоит.
— Твое дело — рассуждать и философствовать. Мое дело — предупредить тебя, понял? Словом, имей в виду, что могут попросить объяснений. Приготовься. Будь здоров!
Когда повесил трубку, долго стоял возле умолкнувшего аппарата. Начал понимать, что наделал глупостей. Ну почему, почему его потянуло на этот «Древний сказ»? Полез не в свое дело. Его дело — чувства, чувства. А не политика, будь она неладна. Объясняйся теперь, уточняй свою позицию.
Как бы подтверждая его опасения, следом за Остроженским позвонил заместитель Баксанова поэт Залесский и сказал, что в пятницу состоится заседание правления, на котором ему, Птушкову, надлежит присутствовать, дело касается его. В чем заключается дело, Залесский по телефону рассказывать не будет, но дело неприятное; Птушков, надо полагать, о нем догадывается и пусть поразмышляет до пятницы, определит свои идейно-творческие позиции.
— Так, так!.. — сказал Птушков, бросая трубку. — Вот оно! Начинается. Карающая Десница! Быстро отреагировали.
Ни в какую пятницу он никуда не поедет! На черта ему эта пятница? Спасибо. Ну, а что же делать? Очень просто, что делать. Он заболеет.
Отправился домой, лег в постель. Два дня лежал, отказываясь от еды, только пил и пил квас, брусничник, чай. Приезжал врач из амбулатории, слушал легкие, ставил градусник. Сказал, что температуры нет, но это ничего не значит, появился бестемпературный грипп, который дает серьезные осложнения, надо полежать до полного восстановления сил. Наталья Фадеевна и Светлана ухаживали за ним попеременно. Заходил председатель Соломита, забегала Настя Белкина, приходили девчата и ребята из самодеятельности; заглядывали даже собутыльники, уговаривали выпить стакашку с перцем — как рукой смахнет этого холодного гриппа.
Пятница тем временем неотвратимо приближалась. Оставаясь один, Птушков думал только о ней, о ней, об этой чертовой пятнице. И не хотелось бы думать, а думалось; и вообще обо всем Старгороде бы не думал. Совсем о другом были думы. Пусть бы жил он здесь, в этом домике, любил бы Наталью Фадеевну, Наташу, спокойную, уверенную в том, что справедливость непобедима, убежденную, что доброе в человеке выше злого. Может быть, и она бы его полюбила. Она бы укрыла его от всех бед, защитила, заслонила собой.
Но нет, это невозможно, невозможно. Это глупые мечты поэта. А реальность… Реальность — пятница.
Соломкин уже знал о том, что Птушкову надо ехать в Старгород, и уже спрашивал, когда готовить транспорт. До станции двенадцать километров, отвезут на машине.
В четверг, поздно вечером, оделся, побежал в клуб. Долго вызывал Старгород, в Старгороде попросил соединить с номером таким-то, когда дали номер такой-то, спросил Юлию Павловну.
— Да? — услышал знакомый, немножко грубоватый и тем более привлекательный голос.
— Юлия Павловна, — почти закричал, стараясь, чтобы она услышала каждое его слово. — Юлия Павловна, вы извините, что снова звоню. Но не могу не звонить. Вы однажды сказали, что согласны уехать. Вы укоряли меня, что в тот час я не мог этого сделать. Юленька! Юлия Павловна, умоляю. Уедемте. Я готов. Куда угодно. Завтра, послезавтра. Сейчас! Юлия Павловна!..
— Вы опять напились, Виталий, — ответила Юлия равнодушно. — Когда же это кончится! — И повесила трубку.
— Черт бы побрал, все! — сказал Виталий и отправился к колхозному шоферу.
Тот спал, но, разбуженный, не обиделся. Увидев Виталия, тотчас поднялся, сбегал к соседям, принес пару бутылок; но Виталий, только что жаждавший напиться, пить не смог. Его сжигало волнение.
— Нет, — сказал Виталий, — нет. Я за другим пришел. Отвези меня завтра на станцию. Пораньше. Когда поезд на Старгород?
— В девять пятнадцать.
— Вот к нему и отвези. Слышишь?
— О чем разговор! У меня уже и путевка есть. Председатель распорядился.
Не спал Птушков в эту ночь. Он писал письма. Благодарил Соломнина за доброе отношение. Сочинил четверостишье Светлане, желая ей счастья. И длинно-длинно написал Наталье Фадеевне. Он писал, что любит ее, что только потому и уезжает, что не надеется на взаимность. Он так искренне верил себе в эти минуты, так искренне любил хозяйку, что сами собой на бумагу падали его крупные горючие слезы. «Прощайте," Наташа, — заканчивал он письмо. — Прощайте, сероглазая женщина! И знайте, что никогда-никогда Вы не уйдете из моего сердца. Вечно Ваш В. Птушков».
Оставив письма на столе в кухне, он покинул дом до свету и дождался шофера в колхозном гараже.
Грузовичок весело бежал по разъезженной снежной дороге. Двенадцать километров пролетели за двадцать минут, приехали рано. Выпили по стопке в станционном буфете. Шофер хотел было обождать прихода поезда, — с трудом уговорил его ехать обратно.
Поезд на Старгород пришел и ушел. Птушков на нем не уехал. Он слонялся по тесному залу ожидания, в котором несколько пассажиров жались возле натопленной печки, раз десять заходил в буфет и только в середине дня, сверившись с расписанием, подошел к кассе..
37
Огнев был взбешен. Только что перед ним сидел редактор газеты «Старгородский комсомолец».
— У вас нет никакого понятия о литературной политике! — кричал Огнев, тиская кулаком сукно письменного стола. — Вы всегда все путаете. Вы мешаете работать.
— Кому? — спросил редактор удивленно.
— Мне, мне, секретарю обкома, а, следовательно, обкому, партии. Вот кому. Партии.
— Если газета сказала о сборнике стихов поэта Птушкова, что это плохой сборник…
— Какой бы он ни был, этот сборник Птушкова, а если секретарь обкома считает, что выступать о нем в таком тоне нельзя, значит… Значит, надо соображать. Предположим, товарищ редактор, что стихи не очень хорошие. Разные тут стихи, в этой книжке. Предположим. Но ведь еще и тактика существует. Вы неправы в тактическом отношении. Можете это уяснить? В тактическом! Птушков — человек молодой, талантливый…
— Средне талантливый.
— Талантливый, говорю. У него свой читатель есть. Мы должны бережно выращивать Птушкова.
— Оберегать от критики — это означает выращивать не поэта, не художника, а зазнайку, литературного вельможу, который, придет час, вам же на голову, извиняюсь, сходит.
— За мою голову не беспокойтесь. — Огнев даже встал с кресла, так был разъярен. — В данном случае разговор о вашей голове, дорогой товарищ, которая не утруждает себя особыми раздумьями.
— Товарищ Огнев! — встал и молодой редактор. — Прежде всего вы не имеете права на меня кричать. Во-вторых, о ваших тактических соображениях я не мог знать, поскольку вы мне о них ничего не говорили. Вы говорили, оказывается, редактору «Старгородской правды». Но это же не мне. В-третьих, пусть бы и мне сказали. Что толку! В Советском Союзе не две наши газеты, а сотни газет, всем рот не зажмешь во имя ваших странных соображений. И, в-четвертых, освободите меня от редактирования газеты. Я очеркист, пойду писать очерки о наших людях — это интересней, чем выслушивать нотации. А ваши распоряжения о том, кого критиковать, кого обертывать ваткой, пусть выполняет другой. Я иду сейчас в обком комсомола и подаю заявление.
Он повернулся и ушел.
Но это бы еще что! Это мелочь по сравнению с тем, что вскоре после его ухода положила на стол Огнева секретарь. Принесли дневную почту, и в том числе вот эту центральную газету, вот с этим убийственным фельетоном. Что они, сговорились все, что ли? Ведь сегодня, именно сегодня в отделении Союза писателей должны обсуждать «Древний сказ» о Василии Деснице и его дружине. К четырем часам приглашен Птушков. В два, — Огнев взглянул на, часы: было без пятнадцати два, — он пригласил Птушкова к себе. Не может быть, чтобы такую злобную дребедень написал Птушков. А если и написал, так его кто-нибудь толкнул на это. Можно было бы вновь поговорить с человеком по душам. Пусть бы выступил на заседании правления, пусть бы чистосердечно признал вину, он еще молодой, неоформившийся, не закаленный идейно. Даже Василий Антонович стал соглашаться с таким решением вопроса. Огнев всю неделю ходил вокруг него, рассуждал о специфике творческого труда, о сложности воспитательной работы среди творческих работников, оправдывал возможность и даже неизбежность ошибок в этой трудной человеческой деятельности — в литературе и искусстве.
Но теперь получается сплошное «бы»: «было бы», «мог бы», «пусть бы»… После этой рецензии, после этого фельетона с Птушковым уже не поговоришь. Хорош все-таки редактор «Старгородской правды». Сам рецензию не напечатал, — указание секретаря обкома выполнил. Но сообщил в центральную газету, и вот, пожалуйста, — фельетон о нем, об Огневе, о зажимщике критики! «Высокий покровитель», Огнев вновь и вновь перечитывал и это заглавие фельетона, и отдельные его места, в которых рассказывалось, как он вызвал редактора «Старгородской правды», как потребовал оттиск критической статьи о сборнике стихов Птушкова, как положил ее под сукно.
Целый сговор, целый сговор! Огневу виделись мрачные групповщики в лице редакторов «Стар-городской правды», «Старгородского комсомольца», ответственного секретаря писательского отделения Баксанова, его заместителя поэта Залесского, художника Тур-Хлебченко, композитора Горицветова, еще доброго десятка беспокойных, неуживчивых людей. Сидели поди вместе, сочиняли этот пасквиль, потирали руки, предчувствовали удовольствие. А того не поняли, какой груз несет на своих плечах тот, о ком они так презрительно отзываются: «Высокий покровитель».
Часы ударили два. Огнев обождал минуту, нажал на кнопку звонка. Вошедшего секретаря спросил:
— Ко мне никого нет?
— Пока нет.
— Как только появится поэт Птушков, сразу же впустите.
Он подождал с полчаса, позвонил в Союз писателей.
— Товарищ Залесский? А Баксанов где? Все еще в колхозе? Второй же месяц на исходе! Да что это он такое? А вы звонили ему? Ну ладно, ладно, понятно. А Птушков?.. Связались с ним? Лично? К четырем, значит? Ну хорошо, хорошо. Обождем.
«Разгильдяй, — подумал он о Птушкове с неприязнью. — За него бьешься, его спасаешь. А что в ответ? В ответ одно хамство». Он бы разбушевался, наверно, в своем большом кабинете. Но его вниманием все больше завладевала только что возникшая мысль о групповщинах. Баксанов, правда, вот уже скоро два месяца, как сидит в Заборовье с архитектором Забелиным. Но разве это дело могло обойтись без него? Он противник того, что называет «возней» с Птушковым, он в хороших отношениях с редакторами газет, он сумел сплотить вокруг себя и художников и композиторов, он умеет эмоционально выступать на областных и городских партийных конференциях, к нему хорошо относится партийный актив.
Звякнуло в аппарате обкомовской АТС, зажегся зеленый глазок. Вызывал к себе Василий Антонович. Тоже, значит, прочитал фельетон…
Выходя, еще раз сказал секретарю насчет Птушкова: пусть обождет. Но сказал без особой надежды на то, что поэт все-таки появится: шел четвертый час; следовательно, если и появится, то уже только там, в Союзе.
Василий Антонович, как всегда ровный, спокойный, пригласил сесть. Да, Огнев был прав, перед первым секретарем обкома на столе лежала развернутая газета; фельетон был обведен красным карандашом; красным же были подчеркнуты и отмечены отдельные строки.
— Это все правда? Или надо писать опровержение?
— Видите ли, Василий Антонович… Можно взять действительный факт, но так его извратить, в таком виде представить…
— Что здесь извращено? Вы запрещали печатание критической статьи о сборнике стихов Птушкова?
— Можно и так, конечно, истолковать при желании. Я не запрещал. Я потребовал оттиск статьи. Имею я на то право или нет?
— Конечно, имеете. Вы секретарь обкома, газета «Старгородская правда» — орган обкома…
— Затребовал… А пока читал, пока что… Время шло. Оно идет быстро.
— И месяц с лишним статья пролежала у вас в столе? Фактически-то получается, что помешали напечатать, а? Как ни кинь, все клин. Вот, дорогой мой Анатолий Михайлович, вот к чему ведет опека некоих избранных. Появись эта статья вовремя, — может быть, и не поднялась бы рука Птушкова на ту стряпню, которую он назвал «Древним сказом». Задумался бы человек. А вы поспособствовали развитию в нем сверхмерного самомнения. Плохо, Анатолий Михайлович, очень плохо.
— Сегодня с ним в Союзе товарищи поговорят. — Огнев смотрел в стол. — Мы это все исправим, Василий Антонович. Но должен вам сказать, что в такой обстановке работать не очень легко.
— В какой именно? Чем вам не нравится обстановка, Анатолий Михайлович?
— Появление этого фельетона наводит на грустные размышления. Ну как вы думаете, как он мог появиться?
— Очень просто. Редактор «Старгородской правды» рассказал об этом случае корреспонденту центральной партийной газеты — он имел на это полное право — и вот пожалуйста.
— Если бы так, Василий Антонович! К сожалению, у нас групповщина процветает. И редакторы газет в нее входят, и писатели, и художники, и театральные деятели. А во главе — Бак-санов, как ни жаль, человек партийный, пишущий о современности.
— Что-то не слышал о групповщине. Ну-ну, расскажите.
Огнев длинно и обстоятельно стал рассказывать о том, как он представляет себе рождение фельетона, как, по его мнению, собирались и обсуждали фельетон групповщики, как диктовал основные тезисы Баксанов. Еще час-полтора назад это было домыслом, предположениями. Сейчас Огнев полностью уверовал в свою выдумку, он был убежден, что дело обстояло именно так, как он рассказывал Василию Антоновичу, он готов был в этом поклясться на партийном билете.
Василий Антонович вызвал Воробьева.
— Илья Семенович, пожалуйста, найди по телефону Баксанова, Тур-Хлебченко, Горицветова… Кого еще, Анатолий Михайлович?
— Баксанова так сразу не найти, Василий Антонович, — сказал поспешно Огнев. — Он в Заборовье.
— Давно?
— Второй месяц.
— Оттуда, значит, руководит. — Огневу показалось, что по лицу Василия Антоновича прошла весьма скептическая улыбочка. Это было до крайности неприятно.
— Я их сам потом могу вызвать, Василий Антонович, — предложил он.
— Так вот, Илья Семенович, соедини пока что с Тур-Хлебченко и Горицветовым.
Чтобы не терять времени, Василий Антонович позвонил по обкомовской АТС редактору «Старгородской правды».
— Редактор? Читал фельетончик? «Высокий покровитель». Как относишься? — Прикрыв трубку рукой, объяснил Огневу: — Правильный, говорит, фельетон. А ты какое отношение к нему имеешь? — Опять к Огневу: — Весь материал, говорит, подготовил для корреспондента. А больше там никто? Баксанов, например. Да, да, я знаю. Совсем пропал. Где-то в области. Ну, а Тур-Хлебченко, Горицветов… Плохо с ними знаком? Это уже зря, дорогой мой. Народ партийный, хороший. Ну пока, будь здоров.
Вошел Воробьев.
— Не выполнил поручения, Василий Антонович. Тур-Хлебченко на сланцевых рудниках., Портреты пишет. Жена так объяснила. А Горицветов в Средней Азии, в гости к какому-то композитору поехал. На озеро Иссык-Куль, если не вру.
— Спасибо, Илья Семенович. — Когда Воробьев вышел, Василий Антонович сказал: — Вот чертовы групповщики! Работают! Колхозы перестраивают, портреты шахтеров пишут, народные мелодии записывают. А те, против кого они группу свою сколотили, грязные «сказы» сочиняют да критику в печати зажимают. Оригинальненько получается, Анатолий Михайлович. Не из той ли они группы, о которой кое-кто говорит «лакировщики» и о которой Никита Сергеевич сказал: хотя я и не писатель, но в какой-то степени отношу себя к этой группе? А? Если из той, то вы и меня, Анатолий Михайлович, зачисляйте в нее, пожалуйста. Что-то, гляжу, нервишки у вас сдают. Лечиться вам надо, дорогой мой.
Снова вошел Воробьев.
— Из Союза писателей товарища Огнева спрашивают. Очень срочно, говорят. К себе пойдете, Анатолий Михайлович? Или можно сюда соединить?
— Давай сюда, — сказал Василий Антонович. — Чего бюрократизм разводить.
— Это насчет Птушкова, — объяснил Огнев и взял трубку. Он слушал и явно менялся в лице. — Искать надо, — сказал взволнованно. — Искать, дорогие товарищи. В колхоз, в Озёры, звоните, домой езжайте. Что же вы такие беспомощные? Мы вам не няньки. — Положив трубку, добавил: — Не явился Птушков, вопрос отложили.
— Видите ли, Анатолий Михайлович, человек, который способен на такое сочинение, как «Древний сказ», о нашей действительности, это не просто заблудший. Он уже перешагнул за рамки того, что обычно может позволить себе живущий в обществе и хотя бы в малой мере, но считающийся с обществом. Он уже не считается ни с кем и ни с чем. Он разрушил связи с обществом, у него перед ним нет никаких обязательств. — Василий Антонович взглянул на часы. — Прошу извинить, предстоят еще встречи. Если Птушков ваш обнаружится, сообщите, где пропадал. А что касается фельетона, придется, значит, признавать: факты, мол, подтвердились. Значит, на бюро, видимо, надо выносить его обсуждение?
Огнев не ответил, постоял минуту и вышел. Василий Антонович пригласил к себе в кабинет заведующего отделом промышленности.
— Товарищ Шубников, — сказал ему, когда тот подсел к столу. — Есть у нас в городе какое-нибудь — и не очень чтобы большое, и не очень маленькое — директорское местечко? Ну-ка поразмышляйте?
Два дня назад к Денисовым приходила Елена Никаноровна, жена Суходолова. Плакала. Говорила, что не может видеть Колю своего без работы, пенсионером, что он изводится, сидя дома, рвет и мечет, проклинает свет. Особенно обрушивается на него, на Василия Антоновича — заманил в такую дыру, в провинцию, и тут обрубил руки-ноги. Будь дело в Ленинграде, Николай Александрович возглавил бы другой завод, может быть еще и покрупнее, чем этот химкомбинатишко. В Ленинграде его знают, ценят, у него там сотни друзей, тысячи людей, из которых каждый чем-нибудь ему обязан. А здесь? Здесь он полностью зависит от произвола обкома, от его, денисовских, капризов.
Обо всем этом Елена Никаноровна рассказывала, конечно, не Василию Антоновичу, а Соне, и уже Соня передавала ему весь тягостный разговор. «В чем-то они правы, Вася, — говорила Соня. — Им надо помочь. Нельзя так. Отбрось личные чувства и побуждения, смотри на него просто как на человека. Он нуждается в помощи, в устройстве судьбы».
Да, конечно, нуждается. О чем говорить! Но куда его устраивать, как сам-то не понимает? Куда ни устрой, начнется старая история. Он должен оставаться на пенсии, должен. И вместе с тем Василий Антонович не может не откликнуться на крик несчастной женщины, на крик, который сливается и с голосом его собственного сердца.
— Вот если на мотороремонтный завод? — сказал, поразмыслив, Шубников. — Заводик, правда, маленький, сугубо местного значения. А кому такое местечко понадобилось, если не секрет?
— Суходолову, Суходолову, товарищ Шубников. — Василий Антонович даже вздохнул. — А что делать? Ну что, что?
— Это верно, — согласился Шубников. — Трудновато Николаю Александровичу. Я не сказал вам… Он приходил на днях, крыл тут всех со страшной силой. И бюрократы, и чиновники, и все прочее. Графин воды за таким разговором у меня выпил. По человечески-то его понимаешь, Василий Антонович.
— А мы и должны понимать людей по-человечески. На то мы и обком, партия. А что там, на мотороремонтном? Куда директор подевался?
— Умер, Василий Антонович. Спазмы, знаете, сердце. В час ночи хватило, к утру человека уже и нет.
Василий Антонович задумался.
— Нет, не годится, — сказал он. — Психологически не годится. Что ведь скажет? Одного, скажет, на тот свет уже отправили на этом месте. Теперь меня туда, на дожитье?
Задумался и Шубников.
— Ну, а если ему лакокрасочный завод дать? Тоже вроде химии. Там директор кандидатскую диссертацию защитил, в научно-исследовательский институт уходит.
— А что у них, не гуталин ли изготавливают, не пасту для чистки кастрюль?
— Нет, настоящее дело, Василий Антонович. Лаки и краски высокого качества. Для автомобильной промышленности, для авиационной. По-моему, даже для спутников наша продукция пошла. Не ручаюсь. Но слух такой есть.
— Слушай, вызови его, товарищ Шубников, Да поговори с ним поаккуратней. Убеди, что место это для него самое подходящее…
Сказал Василий Антонович и вновь задумался. Суходолову-то место, может быть, и подходящее. Но подойдет ли он сам для этого места? Чему обрадовался? Тому, что через какое-то время вновь начнутся жалобы на Сухо дол ова, вновь пойдут неурядицы на хорошо работавшем заводе… И тогда что? Снова снимать человека с должности, снова давать объяснения коммунистам, снова налаживать разваленную работу, и разваленную во имя чего?
— Попробуем все-таки, — сказал, стараясь переубедить самого себя. — Вызови, вызови его, товарищ Шубников. Завтра же вызови, не откладывай. И потом доложи мне.
Проводив Шубникова до дверей, Василий Антонович принялся ходить по кабинету. Если бы не этот фельетон об Огневе, бросающий тень на всю область, если бы не беспокойство о Суходолове, настроение его могло быть не просто хорошим, а даже отличным. Геологи уже прибыли в область, готовятся к началу разведочных работ; проект большого судоходства по Кудесне и Ладе в общих чертах утвердили в Совете Министров республики; министерство речного флота будет размещать заказы на суда, а пока, как только реки очистятся ото льда, откуда-то будут переброшены старые, но капитально отремонтированные пароходы и теплоходы. Весной начнутся работы по прокладке газовой линии в область, сначала в Старгород, затем и в другие города. Сланцевый газ можно будет переключать в крупные села или развозить в жидком виде, в баллонах. У инженера Лебедева нашлось немало последователей. Десятки старгородских специалистов поехали в колхозы, чтобы заняться механизацией труда на животноводческих фермах. Предприятия активно помогают селу в таком важном и нужном деле. Облисполком сумел развернуть и другое очень важное и нужное дело. Куда ни поедешь сейчас, на всех дорогах увидишь горы песку, гравия, щебня, булыжника. Колхозы, совхозы, предприятия области, пользуясь зимними путями, вывозят строительные материалы. Этим заняты грузовые автомашины, гусеничные тракторы с прицепами; возят и на конных подводах. Сортоиспытательные станции, семеноводческие хозяйства подготовили к нынешней весне такое количество сортовых семян, что несортовыми или семенами малоурожайных сортов не будет засеян ни один гектар зерновых. Это, конечно, большая победа, и главным образом победа энтузиаста сортового семеноводства — Лаврентьева. Он много вложил труда в это дело, еще когда был начальником областного отдела сельского хозяйства, а затем и заместителем председателя облисполкома.
«Ничего, ничего, — думал Василий Антонович. — Мы себя еще покажем, еще потягаемся!..» Он не называл имени того, с кем намеревался тягаться. Но и так было ясно — с кем.
Часы били восемь, когда вошел Огнев. На лице его была явная растерянность.
— Что случилось? — спросил Василий Антонович.
— Птушков пропал, понимаете ли! Из колхоза уехал рано утром к поезду. А в Старгород вот не явился.
— С чем вас и поздравляю! — ответил Василий Антонович, подавая руку изумленному Огневу.
38
Только что закончились большие февральские снегопады, открутили над землею метели. Дороги занесло, снежные струги, ревя, пробивались сквозь толстые плотные пласты косых наметов, и где они проходили, следом тянулись уже не дороги, а глубокие траншеи в снегу. Небо расчистилось от серой мглистой хмари, разголубелось, рас-сиялось так, будто и оно чуяло приближение марта. В ярких лучах разогревающегося солнца сверкали облепленные снегом придорожные тополя, вязы и липы; рогато стояли плотные голубые дубы; до земли распустились струистые белокурые прически берез. Кое-где, в затишьях, капало с крыш.
Упрямый «газик»-вездеход бодро бежал по трудным дорогам, — карабкался на гребни заносов, месил снежную кашу в пробитых бульдозерами траншеях, сам неплохо пропахивал снег там, куда еще не дошли дорожные машины. В деревнях к его колесам бросались взбодренные близкой весною красные и белые петухи, грозно трясли багровыми гребнями и рыли снег когтистыми шпорами, негодуя, что железный жук так быстро промчался, а то бы они ему ужо!.. Доверчивые курчишки с обожанием взирали на своих топыривших перья воинственных мужей. Со времен палеолита, со времен пещерных обитаний жены неизменно любят только грозных, только бесстрашных, только воинственных мужей; они хотят видеть их такими даже и в тех случаях, когда мужья давным-давно облысели, давным-давно носят в карманах таблетки валидола и если еще в какой-то мере плечисты, то только благодаря изобретательности портных.
Василий Антонович и Петр Дементьевич Лаврентьев, одетые в шубы, валенки и теплые шапки, на весь этот открывавшийся за стеклами вездехода оживающий мир взирали радостными глазами. За три дня они объехали несколько районов, всюду ощущая предвесеннее взволнованное напряжение. Они бы ехали и ехали еще и еще, останавливались бы в селах, деревнях, поселках, встречались бы, беседовали с людьми, осматривали бы фермы крупного рогатого скота, свиноводческие, птичьи фермы, заходили в хранилища семян, запускали бы руки в закрома с холодными, тяжелыми зернами пшеницы и ячменя, выбирались по сугробам за околицы в поле, смотрели, как растут там на белом чистом снегу черные пирамиды торфа или навоза, серые бугры суперфосфата под навесами; слушали бы стук молотков в кузнях, визг резцов и сверл, всплески дуговой сварки в ремонтных мастерских.
Но вчера их озаботило одно в высшей степени странное событие. Вчера они были в Дождеве, где к осени должен вступить в строй крупный станкостроительный завод, присутствовали при опробовании большой автоматической линии металлообрабатывающих станков. Это было не просто интересно, это захватывало воображение. На линию поступали грубые отливки, а в конце ее сходили готовые изделия, детали к станкам, выполненные с величайшим тщанием, с большой точностью и совершенством. А управляют всей линией техник и двое рабочих. Вместо многих десятков людей разной квалификации — только трое.
Василий Антонович не удержался, сказал взволнованную речь в цехе, пофантазировал о будущем, о том времени, когда все трудные физические работы человек переложит на стальные плечи машин, а сам в новом, красивом обществе посвятит себя тому, к чему лежит его душа, — науке, изобретениям, искусствам, физическому самосовершенствованию, будет развиваться гармонично, радуясь жизни и пользуясь ею во всей полноте.
— Может быть, и мы еще успеем к этому времени. Во всяком случае, молодежь, присутствующая здесь, она-то определенно к нему успеет. Ну, а не успеем, так пусть те, кому на пользу пойдут плоды нашего труда, пусть они вспомнят, помянут нас добрым словом, как сегодня помним и чтим, мы тех, кто под водительством партии большевиков вырвал у царя и капиталистов России власть для народа, для нас с вами. Нет ничего страшнее, чем жить без цели. И нет ничего радостнее, чем видеть всегда перед собой заветное, во имя которого хочется жить и жить.
Там же, на заводе, его вызвали к телефону. Из Высокогорска звонил Артамонов. Ему непременно надо встретиться с Василием Антоновичем. Дело не то чтобы горит, но и тянуть с ним не хотелось бы. Когда Василий Антонович будет в Старгороде? Он, Артамонов, тоже приедет в тот день. Договорились на субботу, — раньше просто не поспеть по таким дорогам.
Суббота завтра. Сегодня к вечеру доберутся до Старгорода, помоются с дороги, отдохнут, с Артамоновым встретятся утром. Сказал, что подымется с полночи и будет к одиннадцати часам, не позже. Чего ему надобно, — трудно догадаться. Во всяком случае, задумал, видимо, нечто очень важное, если снизошел до того, что сам едет к маломощному соседу. Вот уж что для Артамонова не типично: обращаться с просьбами к кому-либо, кроме секретарей ЦК и министров. А может быть, у него и не просьба, а какой-нибудь диктат? Неизвестно, неизвестно. От Артамонова можно ждать всего.
Проехали селение, перед которым на указателе было сказано, что это поселок Ленинский. Красивые веселые домики, в центре несколько двухэтажных зданий, здание правления, Дом культуры, магазины, множество довольно высоких деревьев вдоль улиц и на центральной площади.
— Так ты еще и не побывал здесь, Василий Антонович? — сказал Лаврентьев.
— Каюсь. Но мне известно, кто был агрономом в этом поселке.
— В этом, Василий Антонович, не пришлось. Это детище Антона Суркова. Агрономствовал я вон там, в низине, где развалившаяся церковь видна. Там было село Воскресенское. От него только церковь и осталась. Село снесли. Гнилое было место. Да…
Василий Антонович видел, что воспоминания взяли за сердце Лаврентьева.
— Может быть, остановимся? — спросил его. — Нет уж, Василий Антонович. На минуту останавливаться — нет смысла. А на дольше — нельзя, не успеем до сумерек в Старгород. Жми, дорогой товарищ Бойко!
Василий Антонович знал, что с этими местами связаны романтические страницы жизни Лаврентьева. Искалеченный, пришел он сюда после войны, агрономом в колхоз, — не захотел сидеть в канцеляриях облземотдела. Здесь он воевал с какими-то районными бюрократами, здесь у него были любовные истории, отсюда он уехал в райисполком председателем и отсюда же увез жену, которая возглавляет теперь областную сортоиспытательную станцию. Была простой колхозницей, — миновало тринадцать лет, стала кандидатом наук, директором важного учреждения. А село Воскресенское превратилось тем временем в поселок Ленинский. Люди все могут, пределов их возможностям нет. Только чтоб были они, эти люди, с горячим сердцем и светлой головой. Страшнее всего такие, которые, что называется, отбывают номер, «ответственные исполнители», по сути дела — чиновники, канцеляристы. В социалистическом, а тем более в коммунистическом обществе не должно быть «исполнителей» даже со столь громким титулом: «ответственные». Коммунизм — это творчество, и строить его должны не исполнители, а творцы. Каждый человек, каждый работник в таком обществе должен быть творцом, смелым, убежденным, знающим, настойчивым.
Поселок Ленинский давно скрылся за поворотами лесной дороги, а Лаврентьев все оглядывался, все смотрел по сторонам, на лице его была взволнованная улыбка.
— Ну, что? — сказал Василий Антонович. — Будто старый дневник листаешь?
— Много всякого перевидал я в жизни, — ответил Лаврентьев. — А вот тут самый большой кусок сердца оставил. Идут годы, забывать бы надо, а совсем наоборот, все сильнее сюда тянет. Летом непременно приеду хотя бы на недельку. Пошлите уполномоченным.
— На сенокос, например! — Василий Антонович засмеялся. — Хорошее дело — быть уполномоченным на сенокосе! Погода — что надо! Девчата — что надо! Весело.
— Плоховато, Василий Антонович, ты еще знаешь сельское хозяйство, — сказал Лаврентьев. — Не очень-то хорошая погодка случается в сенокос. Бывает, дожди льют. Скосишь травы, выберешь солнечный час. А по ней как даст дня на три сеногной этакий. Волком воешь, не знаешь, что и делать. Потемнеет сено, все питательное из него дождем выколачивается. Вешала придумываешь, под навесами сушишь. Кое-как провялишь, словом, — начнешь в стога складывать, — опять дождь. Горит оно в стогу, преет. Сунешь туда щуп — шомпол такой, стальной или железный — нагревается.
— Ну, а девки-то, девки, — они-то от дождя не линяют! — подшучивал Василий Антонович.
— Какие уж девки! Все время выговор над тобой висит, проработка какая-нибудь. Не до девок.
— А я иной линии держался, когда по молодому делу ходил, — сказал вдруг Бойко. — Я, Василий Антонович и Петр Дементьевич, если неприятности какие, о них, о девчатах, не то что не забывал, а как раз тут-то и помнились они мне особенно. Пойдешь к ним, все и забудется. Девчата — народ душевный. Притулишься к которой, согреет, приласкает, слово окажет, и вся эта неприятность — как ветром ее снесет.
— Ты так считаешь?.. — ответил Василий Антонович рассеянно, вновь вспомнив об Артамонове. — Может быть, может быть…
Назавтра Василий Антонович и Лаврентьев ожидали Артамонова в кабинете Василия Антоновича. Пробило одиннадцать, и Воробьев отворил дверь. Вошел Артамонов. Тяжелый, в сапогах, в неизменном темно-синем кителе, седой, но, как всегда, крепкий; острые глаза колюче смотрели из-под бровей. Нет, он выглядел не просителем.
Василий Антонович распорядился принести чаю, сказал Воробьеву, чтобы их никто не беспокоил, — сели к столу. Артамонов оглядывался по сторонам.
— А неплохой кабинетик. У меня поскромнее. — Зато дела у тебя в области посолиднее наших. Артамонов промолчал.
Принесли чай, он бросил в стакан несколько ломтиков лимона и четыре или пять кусков сахару, принялся мешать ложечкой.
— А здорово у вас за дорожное дело взялись, — сказал, отхлебнув глоток. — Еду-еду, везде песок, везде гравий… Смотрите, истреплете на этой штуке транспорт. К посевной без тракторов, без автомашин останетесь. Без горячки к такому делу надо подходить. Вы что — за год хотите выполнить задачу, какую мы четвертый год одолеваем? Не выйдет, соседушки любезные. Выше головы не прыгнешь.
— Ну это вы, Артем Герасимович, самому себе противоречите, — сказал Лаврентьев. — Вы же за год решили продажу мяса государству увеличить втрое. И увеличили, верно? Звание Героя Социалистического Труда получили. Прыгнули значительно выше головы. Ведь для этого понадобилось, конечно, чтобы каждая корова вместо одного трех телят принесла.
Артамонов поднял на него режущий взгляд.
— Шутник ты, товарищ Лаврентьев. Ты на что намекаешь? На ту дурацкую историю, когда наши чудаки в вашей области скот закупать принялись?
— И не только у нас. К приморцам забрались, к…
— Ладно, ладно. Знаю, куда они забирались, ты мне эти списки не перечисляй. Всем самостийникам бюро обкома дало по рукам, — я говорил об этом Василию Антоновичу. Учитываешь? И вообще не через это мы свое обязательство выполнили. Трех телят коровы, понятно, не приносили. Но свиноматки дали и по десять и по двенадцать поросят. Поставили на откорм. Интенсивно. Научно. Свинари наши себя показали. А эти закупки… Нашел, что вспоминать, старье всякое. Приезжай и ты, покупай у нас, если деньги есть. Пожалуйста! Слова не скажу.
— Да, конечно, — миролюбиво согласился Василий Антонович. — Старое вспоминать незачем. Петр Дементьевич это для примера привел. В том смысле, что предела ничему нет. Думаю, что, опираясь на хороший опыт вашей области, Артем Герасимович, мы уже не за четыре года, а, скажем, за два, за три решительно улучшим сбои дороги. Все-таки нам легче, вы, так сказать, указали верный путь.
Пили чай, рассуждали, ходили вокруг да около той или иной темы в разговоре. Ни Василий Антонович, ни Лаврентьев не могли понять, зачем прикатил Артамонов, почему так спешно понадобилось ему встретиться с ними. Он рассказывал о новых клубах в колхозах, о новых скотных дворах, о том, что хочет развернуть в области пчеловодство. С одним не знает, как справиться, — с тем, что от опыления полей химикатами пчелы гибнут. Заговорили об этой проблеме, острой и для Старгородчины. Потом Артамонов сказал, что слышал о решении поставить судоходство по Ладе и Кудесне на государственную ногу. Он бы тоже хотел присоединиться к союзу Ковалева и Денисова. Если от Кудесны пробить канал к реке Шее, то так общий водный путь можно удлинить еще километров на двести — до самых глубин Высокогорской области.
Выпив третий стакан чаю, он отодвинул его от себя, взял папиросу из коробки на столе, медленно, со смаком, размял ее в пальцах, закурил.
— Помощь мне от вас нужна, товарищи, — сказал, откидываясь на спинку кресла. — Не безвозвратная, понятно, взаимообразная. По моим сведениям — вы их публиковали в газетах, — у вас силоса в этом году заложено в два с половиной раза больше, чем в прошлом. Скот, следовательно, — я подсчитал, — обеспечен кормами не только до весны, но до самого июля, когда уже пойдут молодые зеленые корма. Дайте силосу. — Он сказал это, провожая взглядом к потолку клуб табачного дыма.
Просьба была такая, что ни Василий Антонович, ни Лаврентьев никак ее не ожидали. Чего угодно могли ждать, только не этого. Они даже растерялись на минуту.
— Понимаете, — слыша их молчание, стал объяснять Артамонов. — По прежним, так сказать, контингентам нашего стада, мы бы вполне уложились в те корма, что заготовили. Но мы стадо увеличили, резко увеличили. И это не только наше личное, областное, дело. Это дело общегосударственное. Учитываете? Мы, так сказать, идем на прорыв установленных рутинных нормативов. Мы, вы тут верно сказали, прокладываем путь. Надо помогать нам. Это общепартийное дело. Если провалимся мы — значит, все мы вместе провалились. На радость противнику. Что — я неверно говорю?
Он говорил верно. Но силоса ему надо было не пуд и не два, а несколько тысяч тонн. Отдать эти тысячи тонн кормов — значит пойти на сознательное снижение надоя молока в области в самые ответственные весенние месяцы.
— И кроме того, — сказал Василий Антонович, выложив эти соображения, — кроме того, колхозы не согласятся оставить свой скот без кормов.
— Во-первых, что значит: оставить скот без кормов? — заговорил Артамонов. — Об этом и речи нет. Поделиться прошу. Кто сколько может. Чисто добровольно. От пуда килограмм, от башни пару-другую грузовиков. А во-вторых, на то и обком, на то и партийная организация в области, чтобы разъяснить колхозам необходимость помогать соседям, тем, кто выполняет такое ответственное обязательство перед партией и государством. Будь я на вашем месте, я бы поднял на ноги всех сельских коммунистов.
Василий Антонович слушал его и удивлялся. Совсем недавно он говорил, что для него коммунисты — каждый, кто выполняет план, а не только тот, у кого партбилет в кармане, что партийная работа — это прежде всего хозяйственная работа. А тут вдруг коммунистов вспомнил, вспомнил о той силе, которую несет в себе партийная организация, о влиянии ее на сердца и на умы колхозников.
— Пожалуйста, — говорил Артамонов, — мы тоже можем вам помочь. Хотите, весь транспорт области подниму… Вот возьму сейчас трубку, позвоню в Высокогорск — и пойдет работа. Как на штурм подымемся, будем возить вам на дороги стройматериалы. Хотите?
Он шел на все, он обещал что угодно, он доказывал, подсчитывал, он говорил не переставая.
— У меня даже разверсточка есть. Вот! — Он извлек из кармана несколько листов бумаги. — Вот ваши районы, пограничные с нашей областью, вот ближайшие колхозы, их семьдесят четыре, и шестнадцать совхозов. В среднем от каждого колхоза по двадцать тонн силоса, это же мелочь для колхозов, а для нас будет тысяча четыреста восемьдесят тонн. Да по пятьдесят тонн от каждого совхоза. Стоит ли о том говорить! А для нас это еще восемьсот тонн. А вместе, что называется, итого: две тысячи двести восемьдесят тонн. И в целом ни вы не пострадаете, ни мы не ударим перед международным мнением лицом в грязь. Вот в чем сила коммунистического строя! Проверьте все расчеты, посмотрите сами. Я не с голыми руками приехал, я поработал основательно.
Да, он был прав, этот хваткий, дотошный Артамонов. Конечно, если вот так разбросать общую сумму по хозяйствам, от каждого сравнительно и не много получается.
— Ну, как? — сказал Василий Антонович, смотря в глаза Лаврентьеву.
— Тяжелый случай, Василий Антонович, — ответил тот. — Надо с бюро посоветоваться.
— Что ж, это верно, — сказал Артамонов, досадливо шевельнув бровями. — Берите трубку да обзванивайте членов бюро, и делов-то. А я бы, что касается меня, по такому делу никого бы и беспокоить не стал. Подумаешь — ракету в космос решили запустить! Всего-то ничего; силосом поделиться.
— По телефону, пожалуй, оно не выйдет, — ответил Василий Антонович, несколько смущаясь. — Бюро у нас собирается по вторникам. Во вторник вопрос этот и обсудим. Ведь дело не горит. Скот у тебя не падает от голоду, Артем Герасимович.
— Бюрократы вы, братцы, эх и бюрократы же! — Артамонов встал. — От того вот, что все обсуждаете, по любому поводу заседаете, оттого и тащитесь ни шатко, ни валко в хвосте. Смелее надо на себя принимать ответственность за решения. Пока вы так обсуждаете, у меня уже дело сделано.
— Видишь ли, — ответил Василий Антонович. — Ни я не губернатор, о чем мы с тобой уже как-то говорили, ни Петр Дементьевич не вице-губернатор. Мы коммунисты, облеченные довернем — с одной стороны, Центрального Комитета, с другой стороны, партийной организации области. Отвечаем и перед тем и перед другой. Ответственность слишком велика, чтобы столь легко размахиваться направо и налево. Обсудим во вторник, обдумаем, решим. Если и помогать соседу, то на законных, ясных, прямых, открытых основаниях.
— Ну идет! — Артамонов спорить не стал, потому, видимо, чтобы не раздражать упрямых соседей. — Только дело такое, сердитесь не сердитесь, во вторник снова приеду. Бюро во сколько?
— Да прямо с десяти начинаем. Но ты не спеши. Когда ни приедешь, вне очереди этот вопрос пропустим.
— Есть! — Он крепко пожал руки Василию Антоновичу и Лаврентьеву. — Верю, что без помощи не оставите. Вы народ крепкий, хотя еще и не очень опытный, отчего и колебания идут. Итак, до вторника.
— Остался бы, пообедали.
— Нет, нет, дел уйма. Ни минуты не могу терять. На мою область вся страна смотрит. Учитываете?
Он уехал. Василий Антонович и Лаврентьев долго сидели друг против друга, посматривая один другому в глаза.
— Штука, — сказал Василий Антонович.
— Штуковина, — сказал Лаврентьев. — И главное, Василий Антонович, дело все в том, что придется давать ему силос. Не поймут нас люди, если не дадим, если откажем в помощи. Высокогорцы — само собой. Те просто будут думать о нас черт знает что. Но и наши удивятся. Все-таки он прав. Коммунистические отношения — совсем другие, особые отношения. Одно досадно: нашим, как говорится, горбом почести будет себе зарабатывать.
— Ну это уж мелочи, Петр Дементьевич. Стоит ли говорить об этом.
— Отчего же, и об этом поговорить не лишне. Если бы он этих звезд не хватал с неба, у всех на виду, я бы лично так внутренне не противился ему помогать. А тут, извиняюсь…
— Зависть, значит? Черная, недостойная большевика, зависть. Эх, эх, товарищ Лаврентьев!
— Не зависть, а естественный протест против несправедливости.
— Дорогой Петр Дементьевич, если ты видишь несправедливость, убежден, что это несправедливость, и можешь ее доказать, заявляй в Центральный Комитет, не молчи, действуй, как подобает коммунисту.
— Все дело в том, что доказать я ничего не могу, Василий Антонович. Чую, ощущаю, но доказать не могу. Количественные и качественные показатели на его стороне.
— Так в чем же дело?
— А в том, что существуют еще и моральные показатели. В капиталистическом обществе они, может быть, не имеют никакого значения. В коммунистическом такие показатели по меньшей мере равны тем, материальным, а с моей точки зрения, пожалуй, стоят и повыше них.
39
Александр отпросился у Булавина и, взяв такси, к двенадцати часам дня приехал в больницу. Было немножко неприятно оттого, что не он один явился за Майей. В больничном вестибюле ее ожидала старшая сестра, на которую очень походила и младшая — такая же беловолосая, голубоглазая, с тихим голосом, приветливая; но по вискам ее, надо лбом, в отличие от младшей, уже успела пройтись седина. Был тут и муж старшей сестры, розовощекий, моложавый майор с артиллерийскими знаками на погонах. Все трое встречались и прежде — то здесь, в вестибюле, то в палате, возле Майиной постели; поэтому поздоровались как старые знакомые, и, когда сестру Майи позвали для оформления выписки, у Александра с майором нашлась тема для разговора. Заговорили о взрывчатых веществах, над которыми работал майор. Тоже, дескать, химия и тоже всяческие неожиданности. Потом заговорили о ракетной технике, и ни тот, ни другой не заметили, когда в вестибюле появилась Майя.
Александр был вознагражден: поцеловав сестру, прикоснувшись к руке майора, Майя тотчас шагнула к нему и, не растеряйся он в этот миг, она бросилась бы, ему на шею, обняла бы его горячо и сильно. Но Александр на лету схватил ее руки, стиснул их и почувствовал, что от волнения бледнеет. Майя, конечно, краснела.
— Вот я и снова здоровая, — пропела она радостно, сияя озерной голубизной огромных глаз. — Но зачем вы беспокоились? Я бы и сама доехала до дому.
Этот вопрос: «зачем беспокоились?» был наивной, детской маскировкой истинных ее чувств. Он заменил собою радостный, счастливый возглас: как хорошо, что вы здесь, что моя новая жизнь начинается именно со встречи с вами, что, бросив все, вы приехали за мной, я этого никогда не забуду, это счастливейший день моей жизни.
У сестры Майи и у майора тоже было такси. По настоянию Александра его отпустили, уселись в то, на котором приехал Александр. Впереди, рядом с шофером, — майор, сзади остальные трое; Майя посерединке между сестрой и Александром. Майя все смотрела на него и улыбалась, улыбалась, показывая белые-белые ровные зубы. Никогда не крашенные губы ее большого рта и без того были достаточно ярки, молоды, раскрывались в каком-то необычном, красивом изгибе.
Он тоже смотрел на нее и думал: что это, почему он так рад этой девушке? Неужели только потому, что именно он был первым, кто пришел ей на помощь, что именно он разделил с ней смертельную опасность? Да, конечно, опасность сближает, — это правда. Минутная опасность дает иной раз возможность людям узнать друг друга лучше, чем годы спокойной безоблачной жизни. Но если это так, если дело лишь в разделенной опасности, то почему он всматривается и в эти изгибы губ, и в эти длинные светлые ресницы и почему ему ужасно хочется коснуться ее золотисто-белых волос, провести осторожно пальцем по еле заметным, поджившим шрамикам над бровью и возле рта?
Ах, не все ли равно: что и почему? Зачем, это самокопание, когда на душе так хорошо. Хорошо и хорошо — и это главное. И пусть бы всегда так было.
Но машина остановилась возле подъезда дома, где жили Майя, ее сестра и муж сестры, и надо было расставаться. Чтобы всегда было хорошо — так в жизни, явно, не бывает.
Загрустив, Александр стоял возле распахнутой дверцы машины и помогал выходить сначала Майе, затем ее сестре. Майор взял несложные вещички из багажника; Александру оставалось вновь сесть в машину, отправиться на завод, и на этом все будет кончено. Через несколько дней, когда истекут дни отдыха, определенные больничным листом, Майя явится в цех, займет место возле новых аппаратов, которыми заменили те, искалеченные взрывом, и пойдут ровные, нормальные трудовые будни. Вновь: «Здравствуйте», «До свидания», «Как поживает ваш малыш?».
Скрежеща по железу, внутри водосточной трубы с грохотом поезда пронеслись ледяные слитки и потоком сверкающих осколков выплеснулись на закапанный с крыши, оттаявший тротуар. Майю шатнуло к Александру; на миг, испуганная, она крепко ухватилась за рукав его пальто. Потом засмеялась:
— Ведь уже немножко весна, кажется! Сегодня двенадцатое марта?
— Да, — ответил Александр. — День свержения самодержавия в России.
— О, какой интересный день! Его будет легко запомнить. — Майя взглянула в глаза Александру. — Зайдемте к нам, Александр Васильевич. Ну на минутку.
— Хорошо, — согласился Александр, и они стали подыматься по лестнице на третий этаж.
Семья Майиной сестры жила тесно. В двух небольших комнатках располагались так: в одной из них, где был обеденный стол и буфет, стояла еще и тахта, которую на ночь превращали в постель. Здесь обитали майор и сестра Майи. В другой были три кровати: одна побольше и две поменьше. Здесь спали Майя и двое детишек сестры.
Александра усадили на тахту в той комнате, где были стол и буфет. Майор сел напротив него на стул; сестра Майи звякала и брякала посудой. А сама Майя ходила из комнаты в комнату, снова и снова рассматривала давно ей известное, но давно не виденное, будто надеялась найти перемены в привычном. Но все было так, как и было, все оставалось на прежних местах. Должно быть, только появились новые духи на туалетном столике в углу, потому что она тотчас подушилась ими и спросила сестру, сколько они стоят.
Сели за стол пить чай с вареньем. Майор спросил, не хочет ли Александр пропустить по рюмочке. Александр ответил, что он и вообще-то не очень пьющий, а днем, когда еще надо на комбинат ехать, ему тем более не до рюмочек. Александру было хорошо в этой тесной квартирке; рядом была Майя, светились ее радостные глаза, в солнечных лучах, заглядывавших в окна, переливался золотой шелк ее локонов.
Весь остаток дня, слоняясь по цеху, отдавая по привычке то или иное распоряжение, отвечая на вопросы, он думал о ней. Он вспомнил первую встречу в бытовке, очень ясно, отчетливо вспомнил. Уже тогда девушка эта поразила его, привлекла внимание. Но в ту пору в душе у него было все перекорежено, измято, сожжено горем.
«А сейчас? — спросил он себя. — Где твое горе сейчас? Неужели ты уже забыл Сашеньку, свою маленькую подружку, так страдавшую из-за каких-то, только в лупу различимых, усиков в уголках губ?..»
Он с трудом дождался сирены и почти бегом побежал в детский сад за Павлушкой. Павлушка хотел идти ногами, но Александр схватил его на руки и нес на руках до автобусной остановки.
— Что ты меня так давишь? — спросил он. — А, папочка? Мне тесно от тебя.
Это было все, что осталось от Сашеньки. Он крепко держал это в объятиях, боялся отпустить. Это была Сашенька. Она уходила, уходила… Еще немножко — и ее уже не будет совсем. Павлушка вырастет, перестанет быть частью Сашеньки, его уже не взгромоздишь на руки, длинного и неуклюжего юного верзилку.
Дома никого еще не было. Он закрылся от Павлушки в кабинете. Тут на столе, в ореховой светлой рамке, стоял фотографический портрет Сашеньки. Сел напротив него, смотрел в смеющиеся глаза и тосковал. Он был между двух могучих сил; могучих, но уже неравных. Неравных только потому, что одна осталась позади, в прошлом, а другая была впереди. Грядущее всегда, рано или поздно, берет верх над тем, что осталось в прошлом. Это главный и не поддающийся никаким изменениям извечный закон жизни всего — и человека, и солнца, и незримой частицы атома, и того загадочного, уходящего в черную холодную жуткую бесконечность мироздания.
Через несколько дней Майя пришла в цех. А еще через два или три дня Александр пригласил ее в театр. Майя сразу же согласилась; в тот вечер они вдвоем отвезли Павлушку домой, дождались, когда придет София Павловна, и отправились в театр к Юлии. Шла новая пьеса, для которой, как рассказывала дома Юлия, ей так и не удалось сделать приличное оформление. Но и Александру и Майе все очень нравилось: и содержание спектакля, и декорации, и музыка.
— Это, значит, кто же она вам, Александр Васильевич, та милая женщина, сестра вашей мамы? — спрашивала Майя. — Она вам тетя. Вы это знаете?
— О да, конечно! — смеялся Александр.
— Она очень способная, — продолжала Майя — Это очень трудно, когда все действие происходит в комнате, сделать неутомительные декорации.
— Неутомительные? — переспросил Александр. — Вы замечательно сказали, Майя. Об этом надо непременно рассказать Юлии. Она обрадуется. Вы правы. Искусство не должно утомлять. Иначе оно не искусство. Какой бы ни была серьезной книга, пьеса, живопись, она все равно будет воспринята и доставит удовольствие, если не утомит читателя и зрителя. А если утомит… Ничто не спасет такое искусство. Мы найдем потом Юлию. Хорошо? Ведь вы же с ней знакомы.
— Хорошо, — сказала Майя. — Я буду очень рада сказать вашей тете о моем впечатлении.
Юлия страшно обрадовалась, когда они во втором антракте нашли ее за кулисами. Она с интересом выслушивала все, что, краснея и смущаясь, говорила ей Майя.
— Да, да, — ответила она горячо. — Вы меня поняли. Я именно над этим и ломала голову чуть ли не полгода: как сделать так, чтобы зрителю не надоели комоды, столы и стулья, из которых только и должна была состоять обстановка этого спектакля.
Они договорились о том, что после окончания пойдут в кафе.
— Ведь сегодня суббота, завтра вам спешить некуда, — сказала Юлия.
В кафе отправилась довольно большая компания: такая большая, что Майя было застеснялась и, потрогав Александра за рукав, сказала, что, может быть, лучше ей уехать домой. «Что вы, что вы, Майечка! — ответил он. — Тогда и я убегу. Мне без вас тут неинтересно». Потом, когда сели за сдвинутые два столика, когда она оказалась возле Александра, Майя немножко успокоилась.
Компания была веселая и доброжелательная. Были три художника, в том числе солидный фундаментальный Тур-Хлебченко, была одна известная в Старгороде поэтесса с мужем и был постановщик спектакля.
— Товарищи! — сказала Юлия, когда на столе появились закуски и были наполнены рюмки. — Я должна вас познакомить с одной замечательной девушкой, которая присутствует среди нас. — Все посмотрели на Майю, и она покраснела так ярко, как еще, пожалуй, не краснела никогда, потому что никогда не бывала в подобной компании. — Вы слышали, конечно, про историю на химкомбинате, читали в газетах. Вот героиня!
— О! — вскрикнули почти все разом, встали, подняли рюмки.
Только Майя встать не могла, отказывали ноги от волнения. Александр понял это, помог ей за локоть. Майя поднялась, но рюмка у нее в руках не держалась, руку так трясло, что из рюмки выплескивалось.
— Ничего, ничего, — ободрила поэтесса, подходя к ней и обнимая за плечи. — Не волнуйтесь, дайте вашу рюмочку, я за вас чокнусь со всеми.
За Майю выпили, мужчины целовали ей руки, она улыбалась испуганно, была почти в обмороке.
— И это тот человек, — сказал Тур-Хлебченко, — который не дрогнул даже под грозным дыханием взрыва… Вот вам, товарищи деятели искусств, загадка человеческого характера, вот вам ответ на вопрос, кто такие герои и что такое героизм.
Юлия сообщила о том, как высказалась Майя о декорациях: неутомительные.
— Вот вам и представитель рабочего класса, создатель материальных ценностей! — сказал один из художников.
— Я не совсем рабочая, — поспешила сказать Майя, боясь, как бы ее не заподозрили в обмане. — Я окончила десять классов. И я учусь заочно в институте.
— Но это же и есть наш типичный сегодняшний рабочий класс, — сказал Тур-Хлебченко. — Друзья мои, вот вам мой альбом, нате, посмотрите! Это карандашные зарисовки… Портреты… Это я прошелся по заводам. Все рабочие, все рабочие. Всмотритесь. Ну?.. Что за лица! Что за глаза! Вот эти складки на лбу, возле губ. Это люди мысли прежде всего. Это люди воли. Это органическое соединение интеллигента с человеком физического труда. Что — нет? — Все листали, рассматривали его рисунки. Он говорил: — А вот придите в мою мастерскую, я вам покажу работы студенческих лет, годов так двадцать пятых, тридцатых. Тех, когда страна индустриализировалась, когда нужны были рабочие, когда их ряды росли за счет деревни. Совсем иные лица увидите. Честное слово, пусть на меня никто не обижается, но вот таких лиц рабочих-академиков еще не было. Время идет. Люди шлифуются. Тот же чудесный процесс, как процесс превращения алмаза в бриллиант. Дело в шлифовке, в обретении неисчислимого числа граней. Чем граней больше, тем больше игры. А мужички какие были! У меня это тоже есть в альбомах. Приходите, пороемся. Мужички-то!.. Во, бородищи! — Он показал рукой до пояса. — Мох из носа, из ушей. Я еще некоторых из них в лаптях рисовал, в онучах, опоясанных вервием, в посконных портах, в рубахах до колен. А вон, видите, вон за тем столиком… — Все обернулись, смотрели на рыжеватого маленького человека в сером костюме, похожего на бухгалтера, и на его соседа, солидного здоровяка из той породы, к которой принадлежат директора крупных предприятий — в черном широком пиджаке, в белой рубашке с загнувшимися уголками накрахмаленного воротника и в темно-бордовом галстуке. — Кто они, как думаете?
Тур-Хлебченко поднялся, пошел к тому столику, привел обоих, представил:
— Григорий Иванович Соломкин, председатель колхоза «Озёры». Он же художник-любитель. И Иван Савельевич Сухин, председатель колхоза «Заборовье». Художник в другом смысле: село свое на городской манер решил перестраивать. Садитесь, товарищи, садитесь. Здесь все свои. Мы сейчас только говорили о тех мужичках, которые еще лет тридцать назад вот в этаких бородищах путались.
— Шестнадцать электробритв у нас в колхозе, — сказал Сухин, усаживаясь между поэтессой и Тур-Хлебченко, — А электричество, понимаете, от движка. А движок два раза в день по часу работает, воду качаем на скотный, и так далее. Так наши электробрилыцики, как услышат: застучал движок, откуда ни на есть, с поля — с поля, со скотного — со скотного, подхватятся и бежать к домам, механизацию свою включают. С бородой теперь скорее в городе встретишь.
— Ага! — Постановщик спектакля кивнул головой. — Борода как признак повышенной интеллектуальности.
— Нет, главное — необходим возомоторный насморк, — сказала поэтесса. — Ну какая утонченная натура сможет обойтись без возомоторного насморка?
— Да, да, — подтвердил режиссер. — Аллергия.
— Аллергия? — оживился Соломкин. — Как раз у меня эта штука, врачи говорят. Чешусь весь от нервности. Извиняюсь, конечно, не для стола такие примеры. Но факт — чешусь, что пудель. Значит, она не только у интеллигентов, аллергия-то.
— Милый мой Григорий Иванович, — сказал Тур-Хлебченко. — Уж коли тебе выговоры дают за увлечение живописью, то кто ж ты есть, если не самая что ни на есть махровая интеллигенция. — Он рассказал историю выговора, полученного Соломкиным. Все весело смеялись.
В двенадцать часов стали расходиться. Всей компанией, включая обоих председателей, отправились провожать Юлию, Александр повез на автобусе Майю. Сойдя с автобуса, они еще долго шли, кружа по улицам, не очень спеша приближаться к дому Майи. Еще морозило, но воздух уже обрел специфический весенний свежий запах, зима стронулась со своего ледяного фундамента, мартовские ветры атаковывали ее со всех направлений.
— Мне очень понравились эти люди, — сказала Майя. — Но я была среди них совсем деревянная. Я не доросла. Они всё знают, обо всем говорят так свободно, А мне надо сначала долго думать. И все равно я так не скажу.
— Но они же старше вас, у них опыта больше, — сказал горячо Александр. — Они привыкли быть в таком обществе, вы — нет. Только и всего. Дело времени.
— А я думаю… Там про алмаз очень хорошо говорили… Сколько граней. Когда вот так сказали, я посмотрела на вашу тетю, Юлию Павловну, она вся сверкает, у нее много-много граней. А я… Плоскость, и все.
Они постояли у подъезда Майиного дома, подержались за руки, сказали: «До понедельника», — и разошлись — она в подъезд, он к автобусу.
Родители спали, когда он вернулся домой. В комнате у Юлии горел свет. Заглянул к ней. Он должен с кем-то побыть в такие минуты душевных смещений, должен с кем-то поговорить.
— Ты слышал? — Юлия большой гребенкой расчесывала волосы. — В последних известиях передавали по радио о том, что ее наградили орденом Красной Звезды. Указ.
— Кого, Юлия?
— Майю твою. За героизм, проявленный на трудовом посту. Василий Антонович и Соня слышали. Они записку тебе оставили. Не видал? Там, в кабинете, на столе.
Бросился в кабинет, ударился о диван ногой, чуть не разбудил Павлушку, который забормотал спросонья. Да, рукой Софии Павловны было написано: «Шуренька, мы с папой очень рады, поздравляем тебя, милый. Майю твою наградили орденом Красной Звезды, как бойца на фронте, боевым орденом. Мама и папа».
Рванулся было куда-то. А куда? Не побежишь к ней домой, не станешь будить. Там другие люди, они спят, наверно. Они, может быть, об этом тоже слышали, и Майя уже знает. Но до чего же хотелось сказать ей это первым, первым принести радостную весть. Да, мама права, боевой, фронтовой орден Красная Звезда, орден истинно геройский. Вот вам и загадка человеческого характера, как сказал художник Тур-Хлебченко, вот вам и ответ на вопрос о природе героизма.
Свет настольной лампы падал на портрет Сашеньки. «Сашенька, вот видишь, — сказал он мысленно, — вся жизнь состоит из проблем, вопросов и загадок». Положил записку родителей под рамку с портретом, вернулся в комнату Юлии.
— Не спится? — сказала Юлия. — Я тебя понимаю. Я понимаю, Шурик, как никто другой. Но ты будешь счастлив, я это знаю, уверена, убеждена в этом. Счастье идет к тебе навстречу. А я уже не буду счастлива никогда.
Это не было обычной декламацией Юлии. Александр слышал горькие надломы в ее голосе; не видел, но ощущал слезы в ее глазах.
— Почему? — сказал он. — Это глупо. Ты молодая и красивая.
— Поэтому. Наверно, поэтому, Шурик. По-настоящему счастливыми бывают только некрасивые. Слишком многим была нужна моя красота. Чем красивей женщина, тем большему числу людей она принадлежит. Некрасивая — только одному. Потому что только ему, одному, она и кажется красивой. И я всю жизнь хочу только одного, одного, одного… Мне не надо этой вечной суеты. Я устала от этого. Я хочу носки штопать, слышишь?
— Но кто мешает тебе, Юлия?
— Кто? Не кто, а что. И прежде всего то, что я-то ему не нужна.
— Но ведь ты же не знаешь…
— Нет, я знаю. Если бы хоть вот на такую долечку я ему понадобилась, — она ноготком большого пальца отчертила маленькую черточку на указательном, — вот на такую крохотную долечку, то он бы искал меня, он бы позвал меня.
— Но отец говорит, что это чертовски занятый человек. Ко всей большой партийной работе он еще что-то и пишет. Мемуары. Или роман.
— Он показывал мне стопу этих листов. Да, вот видишь, они ему дороже знакомства с какой-то крашеной фифой. Не понимаю, что ли? Я все, Шурик, понимаю. Я, милый, все прошла в жизни. Ты говоришь, я молодая. Но если бы ты только узнал мое полное жизнеописание, у тебя волосы встали бы дыбом.
— Ну что ты на себя наговариваешь! Удивительная женщина. Хочешь, я пойду, найду его, поговорю с ним? Может быть, он не очень догадывается.
— Глупый. Глупый. — Юлия отбросила одеяло до пояса, села в постели. Открылись ее плечи, ее грудь под тонкой сорочкой; матовым нежным шелком светилась ее розоватая теплая кожа. — Дай я тебя поцелую, и иди, Шуренька, спать. Хочешь, дам таблетку снотворного. Хорошее средство.
— Да, да, как раз! — сказал Александр. — Разные барбитураты, от которых свихиваются. Не хватало мне еще психом стать.
— Ну поди сюда! — Она обняла его голову теплыми, мягкими руками, и он поймал себя на мысли о том, будто это Майины руки, будто к Майиной душистой щеке прижимается его холодный, вспухший от дум и сомнений лоб. А волосы у Юлии были жесткие, почти царапающие; может быть, от белой этой краски?
— Она чудесная, — сказала Юлия на прощание. — Ты будешь счастлив.
— Да, но она тоже красивая, — ответил Александр, останавливаясь в дверях. — Как быть?
— Ничего. Как-нибудь. Может быть, в одном-то случае будет допущено исключение из правил.
Рассвет застал Александра в кресле возле Павлушкиной постели. Он не стал ни раздеваться вчера, ни ложиться. Он вот так полусидел, полулежал, ворочался с боку на бок. Был весь мятый, невыспавшийся, дурной. За окном, на балконе верхнего этажа, где в дощатом ящике с дырками хранили припасы, неистово орали воробьи. Что у них происходило, человеку не понять, конечно, но, видимо, развивался до крайности острый конфликт. Иные из них, слетая с балкона, садились на подоконник и взволнованно заглядывали в окно кабинета, как бы призывая людей на арбитраж.
Александр потянулся, захрустело в суставах и, кажется, в сухожилиях. Встал, подошел к окну. Дворники скалывали лед с мостовой. Один за другим под их ломами отделялись от затоптанного грузовиками массива слоистые грязные ломти. Рукастая машина-подбиралка загребала их на транспортер, и под ним открывался чистый асфальт.
Что делать? Как быть? Куда идти? Еще очень рано. Примчаться к Майе в такой час смешно и нелепо. Как жаль, что в квартире у нее нет телефона.
40
Черногус и София Павловна приехали в Заборовье. Это было фантазией Черногуса, и он уговорил Софию Павловну на такую поездку. В записках любителя-краеведа конца XVIII века, разысканных в архивах музея, Черногус прочел о том, что в те давние времена район Заборовья — десяток-другой сел и деревень — славился кружевами. Была-де, чуть ли не в пору Аввакума, сослана в Никольско-Жабинский монастырь последовательница неистового протопопа, одна из родственниц боярыни Морозовой; она-де завезла в сей край плетение кружев шелковых, нитяных и золотых. Поначалу мастерство высокое переняли у нее черницы, а там и пошло, пошло оно из рук монашенок от села к селу, от посада к выселкам. Поповы дочки да попадьи развлекались от нечего делать хитроумной вязью на коклюшках, приохочивались к ней захудалые лесные боярышни. От них и к народу мастерство это перекинулось — в избы да в землянки. Мало-помалу из средства, коим убивалось пустопорожнее время, плетение кружевное превратилось в средство заработка, в целую промышленную отрасль, в которой нашел применение исключительно лишь женский труд. «Русские боярышни отличались дебелостью и были всегда полновесны, — изящно изъяснялся автор записок. — Нарядов требовали солидных и прочных. Кружева заборовьевские были посему основательны и нетленны, и образцы их хранятся в семьях крестьянских, будто не двести им лет и не триста, а будто только что сняты с коклюшек».
— София Павловна, съездимте, — уговаривал Черногус, — обследуем местность. Может быть, и до сего дня кое-что сохранилось.
Софью Павловну смущали два обстоятельства. Она не любила оставлять Василия Антоновича одного дома. Ей в таких случаях казалось, что он непременно голодный, что он за собой не следит, что ему тоскливо по вечерам. Когда по требованию врачей волей-неволей приходилось ездить в санаторий лечиться, она не столько там лечилась, сколько изводилась тревогами о Василии Антоновиче. А тут еще и вторая причина — как быть с Павлушкой. Много ли, мало ли, но она помогала Шурику заниматься его сыном. «Не волнуйся, мама», — сказал Шурик; «Все будет в порядке, — сказала Юлия, — я присмотрю за ними»; «Съезди, съезди, Соня, — согласился и Василий Антонович. — Каждый день буду звонить тебе по телефону. Сейчас весна начинается. Погода чудесная. Сапоги только надо тебе купить».
Но на маленькие ноги Софии Павловны, на ее «тридцать пятый номер», сапог в магазинах не нашли, и пришлось их заказывать «модельному» сапожнику, которого разыскала в Старгороде Юлия. Он их сшил за пять дней. Мог бы, сказал, и быстрее, но товар должен «сесть на колодках». В этих сапожках, в плотном темно-сером костюме, который был сшит так, что в его выточках и складках не затерялась ни одна из форм Софии Павловны, София Павловна выглядела удивительно хорошо и молодо.
— Первая часть путешествия, — сказал Василий Антонович, осмотрев ее в таком виде со всех сторон, — была, как можно будет записать в научном отчете, чрезвычайно плодотворной и дала отличные результаты.
— Нет, правда, Вася. Как это, ничего? — София Павловна была очень озабочена.
— Не ничего, а просто, говорю, отлично, Соньчик. Был бы я помоложе, я бы в тебя непременно влюбился. Сейчас уже поздно: жена, дети, внуки…
Хотя они и не собирались сидеть только в Заборовье, поселились все же в этом большом селе. София Павловна в школе, у учительниц, у Марии Ильиничны и у Нины Сергеевны, которые предоставили ей на время маленькую комнатку. А Черногус — в доме для приезжих, где все еще сидел и что-то писал писатель Баксанов и куда недавно вновь возвратился из Старгорода архитектор Забелин. Общество было интересное, приятное. Но, к сожалению, бывать в нем много не удавалось. Директор музея и заведующая одним из отделов все дни разъезжали на рессорной двуколке по окрестным селам. Бывало так, что даже и ночевать не возвращались в Заборовье.
Софии Павловне очень нравились эти поездки. Утром рано, когда только выезжали, — дороги были прочные с ночи, подмерзшие, колеса двуколки стучали по ним, как по камням; днем, от солнца, всё развозило, вдоль дорог в канавах шумели потоки талой воды, колеса вязли в глубоких колеях, иной раз даже и по ступицу. Хорошо, что председатель колхоза Иван Савельевич Сухин распорядился выделить им такую сильную, крупную лошадь по кличке Мальчик, золотисто-рыжую, с широкой богатырской грудью, с обросшими длинной шерстью ногами, с могучими шеей и спиной. Она только пострижет ушами, покосит добрым лиловым глазом, напряжется слегка — и двуколка выбирается из любой лужи, из какой угодно топи.
— Как вы думаете, Гурий Матвеевич, чем так вокруг хорошо пахнет? — спрашивала София Павловна, вдыхая воздух весенних полей и леса.
— Весной это пахнет, София Павловна, — отвечал, пошевеливая вожжами, Черногус. — Всем ее комплексом. Пробуждением. Тут и запах земли, и почек, готовых раскрыться, и воды, и раскисших дорог. И убежден, что даже солнца.
— Мы всегда с Василием Антоновичем собираемся съездить за город, погулять. Но ничего из этого не получается. Непременно что-нибудь помешает.
— Не откладывайте, София Павловна. Незаметно подойдет время, когда уже никуда ни ехать, ни идти не захочется. Потянет только сидеть в тепле, перед телевизором, и все. Пользуйтесь молодостью.
София Павловна хотела было ответить: «Да — молодостью! Вы не знаете, что ли, сколько мне?» Но не ответила так. Напротив, по-молодому выпрямилась, горделиво сидела рядом с Черногусом, от покачиваний двуколки в дорожных колеях толкаясь плечом в его плечо.
Со времен старинного краеведа в Заборовьевской округе многое изменилось. В Никольско-Жабинском монастыре давным-давно не было ни монашек, ни вообще какой-либо души, понимавшей кружевное дело. Была там неплохо оборудованная больница, которая обслуживала несколько сельсоветов. Плетение кружев как массовый промысел исчезло из окрестных деревень.
Но в небольшой деревушке Чирково их провели к бабушке Домне, к Домне Фалалеевне, к старухе, по виду лет не менее восьмидесяти — восьмидесяти пяти.
— Бабушка Домна! — крикнула ей в самое ухо девушка-счетовод, посланная с ними из правления колхоза. — Представители из города хотят на твои кружева посмотреть.
Бабка обрадованно закивала головой, подала обоим сухонькую ручку, пригласила сесть на домодельные прочные стулья из старого дерева, у которых доски спинок были прорезаны насквозь сердечками, а плотные ножки выточены на станке, как цепочки пузатых бусин. Потом она пошла к большому, обитому полосками железа зеленому сундуку перед окном, сняла с него горшки с цветами, сундук открылся с мелодичным звоном, — старый был сундук, — и стала доставать из него и раскладывать на столе полотнища кружев из суровых и черных ниток.
— Шматки остались, шматки, милые деточки, — говорила бабка. — Было дело, цельными кусками плела их. А ежели когда с деньгой поджимало, срезками сбывала, по двенадцати аршин срезка. Вот «простынное» кружево, — объясняла она, развертывая одно полотнище за другим. — Вот «кудрявчики», «сцепное немецкое», вот «рябушка», а это «бараньи рожки»… Не нашенское это, из Романово-Борисоглебска оно. «Кулички» тоже оттеда. У меня всякая всячина собрана была. Для примеру — вот «рязанские города», вот «круги» — ихние же. А тут «скблочное». А тут «расколочное»…
И Черногус и София Павловна повидали не мало разных образцов кружевного производства — и новых, и старых, и совсем старинных. Знали они кружева английские и брюссельские, знали алансонские и валансьенские, знали знаменитые черные кружева Венеции, в которых щеголяют красавицы на полотнах Тициана. Изделия этих коричневых, высохших рук бабки Домны из никому неведомой российской деревушки Чирково, пожалуй, нисколько не уступали тем, прославленным на мировых рынках и воспетых поэтами.
В Чиркове задержались. Поставили Мальчика на колхозную конюшню. У бабушки Домны было тесно от внуков и внучек. Поселились у соседей, где дом был попросторней. Но София Павловна и Черногус каждый день с утра приходили к старухе. София Павловна тщательно срисовывала тушью на ватман один узор за другим. Черногус же их фотографировал. Но на фото так хорошо и отчетливо не получалось, как тушью на бумаге. София Павловна умела это делать с большим искусством.
— Вы настоящая художница! — восхищался Черногус.
— Нет, я просто так… Художница у нас Юлия.
Бабушка Домна с интересом следила за работой приезжих. Ей нравилось с ними: народ понимающий.
— Вить что, милые деточки, — говорила она. — Вить кружево исстари красу человеку придавало. Мы-то, знамо дело, в кружева не рядились, мы в посконное, в дерюжное. А цари, вельможи, кралечки ихние… Еще моя бабка — мне, может, в ту пору и десяти годов не было… Еще она меня учила делу. Вот так посадит возле оконца на чурбачок или на полу, по-турецки, ноги под себя, — подушку велит взять, лукошко, булавки, коклюшки с нитками — и плети, милая, плети от свету и дотемна, аж спина надвое переламывается. Ну дасть тебе по затылку, ежели что не то. До се помню рассказы ейные. Круживо — на Руси-то, на древней, оно называлось. Не кружево, а круживо. Кружить, должно быть, от слова. Кружить. Голову-то оно тебе во как кружило. Кружива не только нитяные или шелковые были. Были они разные. Были из бисера низанные, а то из жемчугов, из других каких драгоценных каменьев. А были даже и кованые. Мастера из золота, из серебра их ковали. Ну уж ими модницы-то да модники московские и телогреи разукрашивали, и распашницы, и ферязи, и кафтаны, платны, опашни, однорядки…
Изумленные, слушали бабку Черногус и София Павловна. Вот, оказывается, что знает она, никуда и никогда на своем долгом веку не выезжавшая из лесной деревушки Чирково. Ферези и распашницы — да такие одежды только в музеях еще остались, берегут их музейные работники как зеницу ока, как берцовую кость бронтозавра или череп того прапрадеда человеческого, который еще стоял на грани животного, но уже ощущал в себе пробуждение разума. Спроси оканчивающих десятые классы, что это такое — платны да однорядки — и не ответит, пожалуй, никто.
В один прекрасный день бабушка Домна достала из сундука плетеное лукошко и туго набитую мхом подушку в виде валика. Положила этот валик на лукошко перед собой, наколола на него булавками сколок — бумажную ленту с рисунком будущего кружева, взяла в руки когда-то, видимо, пестрые от ярких красок, но ныне потускневшие резные коклюшки и, втыкая булавку за булавкой по нарисованному узору, пошла плести, повторяя его нитками. Старые негибкие пальцы плохо слушались ее, но все же слушались, и на подушке возникали чудесные, легкие, изящные «кудрявчики». София Павловна уже знала, что это именно «кудрявчики», завезенные, должно быть, сюда из Торжка, — они у нее были вычерчены тушью.
— Не то что кружево, пальцы заплетаются, — сказала с досадой бабушка Домна. — Годов тридцать коклюшек в руки не брала. Отвыкла. Вот беда какая.
— Домна Фалалеевна, — спросила, приближая губы к бабкиному уху, София Павловна, — а вы не смогли бы молодежь, девчат, поучить своему делу?
— А что! Учила, бывалоч. У меня и дочки умели, да одна померши, другая отвыкла от дела. И внучки могут, да не хотят, избаловались. Да и не надобно оно ныне никому. Возьмут вот, бывает, на выставку покажут, да и обратно отдают.
— Дорогой Гурий Матвеевич, — сказала София Павловна. — Мы с вами обязаны сделать так, чтобы плетение кружев в деревне Чирково возродилось. Слышите? Это наш святой долг.
— Милая София Павловна, — в тон ей ответил Черногус. — Не так давно, с год назад, я именно об этом говорил вашему супругу. Я еще не знал о Чиркове. Но я…
— У супруга, Гурий Матвеевич, столько всяких дел. Боюсь, что до кружев он и не доберется. А мы с вами можем, можем, можем, без всяких постановлений обкома и облисполкома.
Они созвали собрание колхозников. София Павловна говорила горячо, убедительно, показывала рисунки узоров, переснятых с тех образцов, которые хранились в сундуке у бабушки Домны, рассказывала о кружевах Бельгии, Англии, Франции, Венеции.
— Это искусство, это большое искусство, — говорила она. — Это творчество. Можно придумывать новые рисунки, предела этому нет, можно сколько угодно и как угодно фантазировать. Я обращаюсь к девушкам, к комсомолкам. Возьмитесь, возьмитесь, пожалуйста, за дело возрождения искусства кружевниц в Чиркове. Уверяю вас, что и года не пройдет, как о вашей деревне вся страна узнает, к вам экскурсанты поедут, у вас заработки ваши неизмеримо подымутся. И вам, глазное, есть у кого учиться. Бабушка Домна такая мастерица, такая мастерица…
— Профессор! — крикнул кто-то из девчат.
— Да, да, именно профессор, — горячо сказала увлекшаяся София Павловна.
— А вот скажите, пожалуйста, — спросила одна из девушек. — Вы про кружева говорите.
А наше руководство считает, что мы все как одна должны доярками, птичницами и свинарками работать. Как тут быть? Кого слушать?
— Найдет оно, ваше руководство, свинарок и птичниц. А кроме того, кружевами можно заниматься в свободное время, в порядке отдыха, развлечения. Это же так интересно.
Потом она отдельно долго беседовала с комсомольцами, с секретарем комсомольской организации, с высокой девушкой, у которой было гордое открытое лицо. Создалась в конце концов инициативная группа, которая должна была начать учение у бабушки Домны. Беседовала София Павловна и с руководством колхоза — с председателем, с членами правления, с парторгом, доказывала им, что под самым их носом зарыт бесценный клад.
— Что ж, попробовать можно, — довольно вяло согласился председатель. — Оборудования, как говорится, тут никакого не надо: подушка, лукошко, да что там еще?.. — коклюшки, нитки.
— Тут только руки дороги, — добавил парторг. — Не очень многочисленный у нас колхоз. Плохо мы, товарищ Денисова, с хозяйственными планами справляемся. В глухом краю живем, среди лесов и болот. С медведями дружим. Медведей много. Да их, байбаков, в свинари не поставишь и на прополку капусты не выгонишь.
— Вы, Гурий Матвеевич, поезжайте, — распорядилась София Павловна. — У вас, может быть, и еще дела есть. А я останусь, и до тех пор буду сидеть, пока дело не сдвинется с мертвой точки. Я знаю это. «попробуем». Ничего не сделают без подталкивания.
Черногус продолжал разъезды по окрестным селениям. А София Павловна вторую неделю безвыездно сидела в Чиркове; время от времени ее вызывал к телефону Василий Антонович, она шлепала в своих изящных сапожках по грязи до колхозного правления, Василий Антонович укорял ее за то, что она так долго не возвращается, она отвечала: «Вася, нельзя. Очень важное дело. Очень. Потерпи еще немножко».
Двенадцать девушек плотно засели за работу. Учиться, собственно говоря, им было нечему, надо было иметь вкус, терпение и желание. Бабушка Домна, став как бы и взаправду профессором, руководительницей школы-мастерской, воспрянула духом, взбодрилась. «Я, милая доченька, словно годов тридцать с плеч сронила, — сказала она Софии Павловне, — А у меня их много, милая. Это я для обману так говорю: восемьдесят да восемьдесят пять. Сто два мне в сам деле-то, сто два, хорошая моя. Тридцатку сбросила, — семьдесят с малым осталось. А семь десятков — жить еще долго можно».
Когда пошли первые рулоны, или, как Домна называла, штуки кружев, София Павловна собралась уезжать.
— Я буду звонить вам, я буду писать письма, — говорила она и Домне, и председателю колхоза, и парторгу, и комсомольскому секретарю, высокой гордой девушке.
Ее отъезд немножко задержался оттого, что в Чиркове» прибыли корреспондент и фотокорреспондент «Старгородской правды». То ли Василий Антонович сказал о чирковских кружевах в обкоме и это дошло до редакции газеты, то ли Черногус восторженно наговорил о них в Заборовье. Только вот дошло, и редакция прислала своих товарищей. Они все записывали, все фотографировали, беседовали с бабушкой Домной, с девушками. Даже председатель с парторгом приоживились от такого внимания. Что-то они не помнили, чтобы до этого в их деревню приезжали из областной газеты, — из районной разве что, да и то за тем лишь, чтобы поругать. Тут, чуялось, не ругать будут, а пропечатают, да еще как — с фотографиями.
На колхозной подводе Софию Павловну отвезли в Заборовье. В тот же день она хотела уехать в Старгород. Но Черногус сказал:
— Может быть, завтра поедем, София Павловна? Сегодня здесь созывается грандиозное партийное собрание. Очень интересно. Будут избирать партийный комитет, понимаете? Коммунисты объединяются в одну партийную организацию. Не только колхозные, а все, все. Какая-то опытная станция тут есть…
— Да вам-то что, Гурий Матвеевич! Вы что у них, уполномоченный?
— Не то чтобы уполномоченный, София Павловна. А… а товарищ Лаврентьев здесь сейчас.
— Петр Дементьевич?
— Да, да. И он просил меня поприсутствовать. Может быть, говорит, речь скажете. О партии. О том, как росла она и боролась. Какая это сила — партия.
— Ну так бы и говорили, дорогой мой. Хорошо, поедем завтра с Петром Дементьевичем, если у него местечко в машине найдется.
Черногус не все сказал Софии Павловне. Он не сказал о том, какой у него разговор произошел накануне вечером с писателем Баксановым. Сидели втроем — Баксанов, архитектор Забелин, он, Черногус, — и распивали чай. Черногус поинтересовался, для чего возят в село камень в таких космических количествах, что все улицы завалены каменными горами, зачем столько бревен, досок, бочек цемента. Забелин принялся рассказывать о тех формах, в какие понемножку выкристаллизовывается проект перестройки Заборовья. Он, оказывается, за это время съездил в поселок Ленинский, который был заново построен лет двенадцать назад возле снесенного ныне села Воскресенского, учел там все положительное, учел все отрицательное и находил новое, наиболее современное и прогрессивное решение.
Черногуса всегда волновали планы, проекты, стройки и переустройства. Для него это была советская власть в действии, та власть, за которую он сражался, которую создавал, которой отдал всю свою жизнь. Он начал вспоминать былое. Рассказывал о революционных событиях в Азербайджане, на границах Персии, о пребывании в корпусе генерала Баратова, о Коломийцеве.
Вначале Баксанов слушал его не очень внимательно, раскачивался на стуле, как эквилибрист, касаясь затылком и плечами натопленной печки. А потом подсел к столу, утвердив на нем локти, и смотрел прямо в лицо Черногусу.
— Слушайте, — сказал он взволнованно. — Гурий Матвеевич! У вас потрясающий материал. Николай Гаврилович! — Баксанов повернулся к Забелину. — Можете себе представить советского человека, молодого, неопытного, окруженного врагами, оказавшегося в чужой стране, полностью отрезанного от родины и там в одиночку все-таки отлично разбирающегося в обстановке, бесстрашно и решительно выполняющего труднейшую дипломатическую миссию. Да это же роман! Настоящий роман о советском дипломате-большевике. Об одном из самых первых наших дипломатов.
Так было накануне. С утра, едва Черногус проснулся, к нему постучал Баксанов. Был взволнован, возбужден, как-то внутренне приподнят.
— Гурий Матвеевич! Мне это все снилось. Принял снотворное, спал, но все равно снилось. Я теперь от вас не отстану, буду ходить за вами по пятам. Вы же участник всего этого, вы живой свидетель событий, которые превратились в историю, и уже довольно давнюю. Я никогда не писал ничего исторического, я даже, должен признаться, посмеивался над теми, кто такое пишет. Дескать, дайте мне три исторических романа, я почитаю и напишу четвертый. Но вот сам заболел этим, вашей историей. Мы пригласим стенографистку, вы все расскажете, она все запишет. Я съезжу на Каспий, на границу с Ираном. Может быть, удастся цолучить командировку в Тегеран. Где там эти Зергендэ и парк Атабек Азама, в которых остатки царской миссии готовили заговор против Коломийцева? Посмотрю, увижу… Вы не представляете, как все это интересно, как об этом можно написать, лишь бы хватило сил и умения.
— Пожалуйста, пожалуйста! — Черногуса тоже обрадовало, что страницы истории, его истории, уже основательно забытые, вдруг могут ожить под пером Баксанова. — Чем смогу, всем готов вам помогать, дорогой Евгений Осипович. У меня, есть дневники, есть записи. Редкие книги, вроде мемуаров английского генерала Денстервиля о их разбойничьем вторжении в советский Азербайджан. Он, правда, называет это более благородно: «Поход на Кавказ и Персию». Вся моя библиотека в вашем распоряжении.
Они жали друг другу руки. Баксанов подпрыгивал от радости и волнения. Кругленький, пузатенький, живой — казалось, что это скачет в комнате большой веселый мяч, ударяясь об пол.
Черногус об этом Софии Павловне не сказал. Это верно, что Лаврентьев его просил побыть и, может быть, даже выступить на партийном собрании. Но ему, кроме того, хотелось еще побыть и с Баксановым, у него еще много чего было рассказать писателю.
41
Весь вечер София Павловна провела с учительницами. И только в одиннадцатом часу отправилась к клубу, где шло собрание. Там уже началось выдвижение кандидатов в создаваемый партийный комитет, и кое-кто вышел покурить на открытом воздухе. Был среди них и Черногус. Он расхаживал перед клубом, шапка была сдвинута на затылок, пальто расстегнуто, шарф висел чуть не до земли, вот-вот обронит. Курил. Он только что выступил на собрании и еще переживал свою речь.
— Гурий Матвеевич, — сказала София Павловна строго. — Разве так можно? Ну-ка стойте. — Она принялась поправлять ему шарф, застегивать пуговицы на пальто. — Смотрите, какой горячий! Вы что — простудиться захотели? Весна? Она самое простудное время. Вечер очень холодный и сырой. Шапку сами поправляйте, мне не достать. Или нагнитесь, если даже этого сами сделать не можете. Вот уж эти холостяки! Отвратительный народ. Притом убежденный в правильности своей холостяцкой позиции.
— Я в ней вовсе не убежден, София Павловна. — Черногус послушно подчинялся всем требованиям Софии Павловны. — У меня тоже было кое-что в жизни. Но слишком быстро и горько прошло. Горечь долго мешала возобновлению чего-либо. А теперь… Стар уже, безнадежно стар.
Вскоре на улицу повалил народ. Был перерыв, в течение которого готовились бюллетени для голосования. Вышли в толпе Лаврентьев, Лисицин, секретарь райкома, задымили папиросами.
— Подмораживает! — Лаврентьев ковырнул носком сапога схваченную легким морозцем землю.
— Весна идет правильно, — ответил ему Лисицин. — Днем тает, ночью вот сушит.
— София Павловна, — увидев ее, сказал Лаврентьев. — Завтра раненько придется встать. По морозцу покатим. Д то с дорогами тут плохо.
Подошел председатель колхоза Сухин.
— К осени лучше будет. Видали, сколько гравия и песку навезли по всей трассе?
— Видал. Молодцы. Только еще сумейте найти время и рабочие руки, чтобы материалы эти уложить на место. А то у вашего колхозного брата, бывает, даже минеральные удобрения по году, по два на железнодорожных станциях лежат.
Так и гравий с песком может до морковкина заговенья проваляться.
Потом все отправились голосовать. Черногус проводил Софию Павловну до школы, а сам отправился в Дом приезжих. София Павловна принялась собирать чемоданчик. Вещи в него не вмещались. Их прибавилось. Прибавились образцы кружев, прибавились рисунки — толстая связка плотной бумаги; были здесь и подушки кружевниц, лукошки, коклюшки. София Павловна везла их в музей, и, кроме того, ей хотелось втайне от всех поработать самой, сплести хоть самые простенькие кружевца. Она не была рукодельницей, но завидовала рукодельницам и всегда стремилась научиться чему-нибудь такому, в чем бы и ей женщины могли позавидовать. Но так у нее упорно не получалось.
Да, все эти предметы не лезли в чемодан. Тем более что в нем и без них было тесно. Главным недостатком Софии Павловны как путешественницы Василий Антонович считал ее страсть, куда бы она ни ехала, набирать с собой лишних одежд и особенно туфель. Казалось бы, ну чего проще — ехала сюда в деревню, во время весенней распутицы, — вполне достаточно одних сапожек, и вполне достаточно ее темно-серого костюма и нескольких блузок под жакет. Нет же, тайком от Василия Антоновича подсунула под полотенца три платья. А коли три платья, то к одному из них нужны белые туфли, к другому — черные, к третьему — красные. И все, конечно, на высоких каблуках, в силу того что Софии Павловне всегда хотелось быть выше, чем она была. А эти туфли с их каблучищами чертовски нетранспортабельны, они занимают ужасно много места. Всего три пары, а чемодан полон, ничего уже сюда, кроме мелочей, не всунешь. А вот еще две коробки с духами. Какие уж тут лукошки и подушки!
Она сидела перед раскрытым чемоданом, не зная, что и делать. То так переложит свое добро, то этак, чемодан не закрывался даже и без лукошка с подушкой. Только пребольно прищемила палец. Держала его во рту. Она хотела было пойти и позвать одну из учительниц. Лучше молодую, конечно, Нину Сергеевну, она не рассердится, если даже ее и разбудить. Пошла было к двери, но ее осенило взглянуть на часы, был четвертый час ночи.
— Батюшки! — сказала она вслух. — Утро же скоро.
У Софии Павловны была еще одна особенность. Она очень любила часы, и непременно ей нужны были самые маленькие, самые крошечные, и это понятно при ее маленькой руке. Но зачем были эти часы — неизвестно. Время для Софии Павловны мчалось со страшной скоростью. Не сообразишься подумать о чем-либо, — час пролетел. А уж если о чем подумаешь — и три промелькнут. О часах она вспоминала только тогда, когда с их помощью можно было определить лишь степень опоздания. Ничего удивительного не было в том, что Лаврентьев, зашедший на рассвете в школу, застал ее возле того же раскрытого чемодана.
— Уже встали, София Павловна! — воскликнул он радостно. — Вот вы какая! А я думал, будить придется да ждать невесть сколько. Знаете женщин…
— Я не из таких, — сказала бодро София Павловна. — Помогайте-ка чемодан уложить.
Лаврентьев быстро спихал ее добро, замкнул чемодан.
— А это, — сказал он, — этот допотопный хлам, — он взял под мышку валик с лукошком, — под сиденье сунем, ничего ему не сделается. Пошли.
— Я сейчас, — сказала София Павловна. — Надо с учительницами попрощаться и поблагодарить их за гостеприимство. Вы идите. Я догоню.
Лаврентьев терпеливо ждал возле машины минут сорок и только, когда изрядно озяб, двинулся было к школе. Но София Павловна уже вышла, веселая, подтянутая.
— Видите, как быстро! — сказала она весело.
— Да, всего тридцать секунд, — ответил он, взглянув на часы.
— Что вы? — искренне удивилась София Павловна. — Шутите, Петр Дементьевич. — Не меньше трех минут. Что вы!
— Да, да, пожалуй, — согласился он. — Совершенно верно: четыре с половиной минуты.
— Вот это так. — София Павловна стала взбираться в высокую машину-вездеход. Лаврентьев ей помогал и внутренне улыбался. Ему была очень симпатична эта маленькая, энергичная, деловая и вместе с тем до крайности неорганизованная женщина, которая иной раз могла и гору своротить, а иной раз вот даже с чемоданом не способна справиться. Его Клавдия была не такая. У той был план, был во всем порядок. Простая колхозница-огородница, в девчонках оставшаяся без родителей, вынужденная заботиться о младшей сестренке, она окончила, семилетку, она училась в вечерней школе для взрослых после того, как вышла за него замуж, она училась заочно в Тимирязевской академии, она защитила диссертацию в прошлом году. И всего за двенадцать недолгих лет. Но значит ли, что если есть такие сильные характером Клавдии, то рядом с ними плохи эти неорганизованные, но удивительно женственные, бодрые, сбивающие все строгие планы в жизни, Софии Павловны? Судя по всему, Василий Антонович, сам человек собранный, организованный, никогда бы не променял свою Соню ни на какого иного «организатора побед» в юбке. Да разве и его, Лаврентьева, хоть сколько-нибудь раздражают ералашные недостатки жены Василия Антоновича? Нисколько же. Напротив, он им только улыбается.
— Ах, — вскрикнула София Павловна, — кажется, юбку порвала. Слышали, что-то треснуло?
— Просто вы автомобиль сломали. — С нарочитой озабоченностью Лаврентьев внимательно осматривал заднее колесо.
— Не может быть! Вы снова шутите. — Но в голосе Софии Павловны все-таки слышалась некоторая тревога.
— Нет, обошлось. — Лаврентьев уселся рядом с Софией Павловной. — Видимо, и в самом деле юбка. Поехали, Сан Саныч, — сказал он шоферу. — Кажется, ничего не забыли.
Проезжая через Заборовье, останавливались два раза. Во-первых, забрали Черногуса, ожидавшего возле Дома приезжих. Во-вторых, прощались с председателем, с секретарем партийного комитета, которым избрали Лисицина, с членами нового парткома, с бригадирами, вышедшими проводить машину. В последнюю минуту откуда-то выбежал запыхавшийся Баксанов, сказал, что на днях возвращается в город, что теперь он не отвяжется от Гурия Матвеевича.
— Пора, пора вам возвращаться, — сказал Баксанову Лаврентьев. — А то вас там могут заочно свергнуть.
— Был бы дико рад, — ответил Баксанов.
Когда двинулись наконец в путь, было не только светло, но уже взошло солнце. Ослепительно сверкала вода в канавах. Точно кованные из красной меди, горели в его лучах стволы могучих сосен.
— Грачи! — воскликнул Лаврентьев, заметив черных птиц на подтаявшем, осевшем мартовском снегу. — Все в порядке, весна, значит.
Софии Павловне захотелось спать. Она склонилась к плечу Лаврентьева, попыталась вздремнуть. Но сильный толчок подбросил ее на сиденье. Спать при такой дороге было нельзя.
— Вот беда-то, — сказала она. — Может быть, споем тогда, что ли? — и спрятала в ладони зевок. — В машинах всегда поют.
— На здешних дорогах лучше не петь, — сказал шофер Сан Саныч. — Такие колдобины — язык откусишь.
София Павловна задумалась. Она думала о людях, которые год за годом мотаются по этим колдобинам, что-то организуют, чего-то добиваются, всю жизнь свою тратят на то, чтобы только у других жизнь становилась все лучше и лучше. Им нелегко, им трудно. Но они испытывают огромную радость, когда трудности преодолены, когда что-то сделано, что-то достигнуто. Иные, кто не знает, думают, что должность секретаря райкома или секретаря обкома — это какая-то сухая, почти чиновничья, лишенная человеческих радостей должность. «Пленумы», «бюро», «активы» — слова, и верно, сухие, официальные. Но с каким подъемом Вася рассказывает дома об этих пленумах и активах, сколько для него в них живого, волнующего. Однажды в Москве, в вагоне метро, София Павловна сидела рядом с человеком, в руках у которого была раскрытая книга. Чело-век водил глазами по страницам, улыбался, что-то произносил сквозь зубы, отчеркивал какие-то места ногтем. Книга была не просто интересная, она вызывала и восторг у этого читателя, и удивление, и изумление, и негодование. София Павловна не удержалась, краешком глаза заглянула в книгу. Она увидела длинные — сверху донизу — колонки цифр. Только цифры, и никакого текста. По шесть колонок на каждой странице, и сверху донизу, сверху донизу. «Извините, что это за книга у вас?» — спросила она. «Звездный атлас. Атлас звезд», — ответил он и назвал год, на какой тот атлас был составлен. Для него, для которого язык астрономических цифр был родным языком, книга эта была не менее волнующа и интересна, чем «Анна Каренина» или «Фауст». Так же и для Василия Антоновича были понятны и волнующи события на пленумах и активах. Вот же сидит Петр Дементьевич Лаврентьев, чему-то улыбается, отчего-то наморщивает лоб; вот шевельнулись жестко губы — может быть, с кем-то спорит или отчитывает кого-то. Можно не сомневаться — он переживает вчерашнее собрание. Он поехал в Забо-ровье, организовал большое, важное дело. Он наслушался хороших, интересных выступлений, он продумывает их, с чем-то он согласен, с чем-то не очень согласен, возражает, видимо. Теперь он будет все время возвращаться мыслью к Заборовью, будет ждать результатов тех мер, которые здесь приняты для улучшения партийной работы, он будет сюда звонить по телефону, будет приглашать к себе и секретаря райкома, и секретаря партийного комитета, соберется — сам сюда приедет. Это для него кровное, родное, близкое, это его забота и его радость.
— Здорово! — сказал Лаврентьев будто спросонья.
— Что — здорово, Петр Дементьевич? — поинтересовалась София Павловна.
— Да все, весна вот, грачи. — Лаврентьев явно схитрил, сообразив, что высказал вслух какую-то скрытую думу.
Машина бежала по дорогам. Дороги были, как и прошлой и позапрошлой весной, ужасные. Но в отличие от минувших весен, ныне вдоль них и прямо на них, и в самом деле, недаром это заметил Артамонов, громоздились горы материалов, с помощью которых, если люди возьмутся по-настоящему, за лето можно будет соорудить десятки и сотни километров хороших, прочных и гладких дорожных покрытий.
Вечером у Денисовых сидели за чаем. Были и Лаврентьев с Клавдией Михайловной, был Черно-гус, были Сергеевы. София Павловна с увлечением рассказывала о том, как искали они кружевниц, показывала кружева, рисунки, несложные древние приспособления для плетения кружев. Все изумлялись, ахали, поражались. Клавдия взялась за коклюшки, попробовала плести по рисунку, у нее сразу же стало получаться.
— У вас очень легкая рука! — удивилась София Павловна. — А я пробовала…
— Соня, — сказал вдруг Василий Антонович. — А ведь из Чиркова, знаешь, какие идут сигналы? Приехала, пишут, жена секретаря обкома и дает установку на свертывание животноводства и кормовой базы для него. — София Павловна насторожилась. — Да, да, — продолжал Василий Антонович. — Всю комсомольскую организацию, дескать, сбила с толку. Никто не идет в доярки, в птичницы, все сели плести кружева. Нехорошо так, Соня. Ты нам область развалишь.
За столом засмеялись, София Павловна поняла, что это, как всегда, шутка Василия Антоновича, но, как всегда, такая, что ее не сразу распознаешь.
— Подожди, подожди, — сказала она. — Вот сошьем тебе ферязь да кафтан, не то и распаш-ницу с однорядкой, да как разукрасим кружйвом кованым, вот тогда будешь смеяться. Верно, Гурий Матвеевич? Тебе Артамонов тогда, знаешь, как позавидует.
— Князюшка-то? — сказал Сергеев. — Возят, вовсю возят высокогорцы наш силос. Не зря мы тогда затылки чесали на бюро, раздумывали. Мы-то согласились. А народ, колхозники, скрипят. Недовольны нами, Василий Антонович. В «Ручьях» председатель наотрез отказался отдавать свой силос. У нас, говорит, он не хуже капусты-провансаль. Для себя готовили, не для героев труда. Я, говорит, беспартийный, мне, говорит, выговор на обкоме не дадут. Отказываюсь выполнять решение. Еле-еле уговорили. Секретарь райкома с председателем райисполкома сами к нему ездили, про солидарность про всякую говорили…
Василий Антонович и Лаврентьев призадумались.
— Ну что ж, — сказал Василий Антонович. — Придется Соню туда послать. Наладь им какое-нибудь подсобное ремесло, Соньчик. Лапти бисером расшивать или липовые ложки резать. А то пропадут.
София Павловна рассердилась.
— Между прочим, Артамонов бы не так реагировал. Он очень сообразительный. Он немедленно подхватил бы и поддержал такое дело.
— А мы, значит, нет, не подхватываем? — Василий Антонович взял с пианино газету, развернул. Половина страницы в «Старгородской правде» была посвящена кружевницам из Чиркова. На нескольких фотографиях были заснятый бабушка Домна за плетением кружев, и девчата-комсомолки, собравшиеся на занятие к бабке, и председатель что-то говорил; из подписи явствовало, что он говорил слова одобрения начинанию комсомолок; и рисунки кружев были представлены крупно.
— Сейчас позвоню редактору! — воскликнула София Павловна. — Вот молодец-то!
Она поднялась было из-за стола. Но Василий Антонович удержал ее за руку.
— Не надо, Соньчик, сиди. Не надо областью руководить. Уж как-нибудь мы сами… Петр Де-ментьевич, Иван Иванович, и еще есть немало людей, которые это делают… А ты отдохни. Десять дней дома не была. Сиди не дуйся. Я правду говорю.
42
Это было странным, непонятным, незнакомым. Этого никогда не бывало прежде. Чтобы Юлия кому-то звонила? Кого-то искала? Напротив, она только милостиво принимала те или иные предложения, или отвергала их в другом случае, или, когда почему-либо не удавалось отвергнуть прямо, просто пряталась от них. А тут? Тут после долгих и долгих колебаний и раздумий, после долгих и долгих страданий пришлось все-таки поднять трубку обкомовского телефона и позвонить Вла-дычину в райком.
— Да! — как всегда, энергично и отчетливо ответил знакомый голос. — Владычин слушает.
— Игорь Владимирович, — почти пролепетала она, обдаваемая волнами отнимающего всю волю идиотского жара. — Это я, Юлия Павловна.
— О! Здравствуйте, Юлия Павловна! — радостно воскликнул Владычин. — Очень-очень рад слышать ваш голос. Как вы поживаете?
— Игорь Владимирович, — собрав все, какие оставались у нее, силы, сказала Юлия, — мне необходимо вас увидеть.
— А что такое? — Он явно встревожился.
— Надо, Игорь Владимирович.
— Хорошо, хорошо, — быстро согласился он. — С удовольствием. Всегда готов. Где прикажете?
— Может быть, это прикажете вы? Я приезжая, Игорь Владимирович. Старгород плохо еще знаю.
— Так, так… — Он, видимо, думал. — Знаете что, приходите после пяти в райком, а? Пропуск будет у входа. Вы ведь беспартийная? Партбилета у вас нет? Ну вот, приходите. У меня небольшой перерывчик образовывается от пяти до семи. В семь уже в педагогическом институте должен быть. Жизнь такая. Со студентами хочу по душам поговорить. Условились? Вас это устраивает?
— Да, да, конечно. Буду ровно в пять. Юлия положила трубку. Устраивает ли это ее!
Смешно говорить: два скоростных часа в качестве посетителя секретаря райкома! Не это ей надо, совсем не это. Но выбора не было. Она невесело усмехнулась, она жалела себя, жалела остро, до слез. Вот к чему ты пришла, гражданка Стрельникова, мечтавшая в девчонках о чем? О жизни кипучей, беспокойной, о путешествиях на трансатлантических и транстихоокеанских пароходах, о выставках и вернисажах, о громкозвучной славе. Мужчины не слишком много места занимали в этих мечтах, но почему-то именно они пришли легче всего, а то, остальное, так и осталось несбывшимся. И вот вновь не выставки, не сфинксы и не пирамиды, не беломраморный мавзолей Тадж-Махал в Агре, не Санта Мариа Ротонда в Риме и не сказочный пекинский город-дворец Гугун, а всё мужчина, мужчина и мужчина; только с той разницей на этот раз, что не он ждет ее где-нибудь на углу или за столиком ресторана, а она побежит к нему, именно побежит, чтобы быть у него ровно в пять, чтобы не потерялась ни одна из дорогих ста двадцати отведенных, предназначенных ей минут. Да и предназначенных ли? А не просто ли выторгованных, выпрошенных, вымоленных? «Очень-очень рад слышать ваш голос!» Нисколько ты этому голосу не рад, милый. Если бы тебе было приятно его услышать, ты бы давно услышал, давно бы доставил себе эту радость. Взял бы трубку и позвонил, и она бы со своим голосом, со всем, что есть у нее, тотчас прибежала к тебе, прилетела бы на крыльях. Но ты о ней и не помнил; тебе дороже студенты из пединститута, всякие бюро и пленумы, решения и проекты решений, стройки и перестройки, те стопы исписанной неторопливым косым почерком бумаги, которые ты прячешь под ключ в своем столе.
Итак, значит, в пяты Времени еще много, но за это время надо одеться со всей, какая только возможна, тщательностью, чтобы все было просто той божественной простотой, которую двадцать пять веков назад, как религию, исповедовали в древней Греции. Два с лишним часа ушло на то, чтобы надеть простенький сиреневый костюмчик, такой простенький, что Юлия и впрямь выглядела в нем будто бы вырубленная тем же самым резцом, что рубил из мрамора Венеру, которая стоит ныне в одном из тесных залов галереи Уффици во Флоренции и носит имя Медицейской. Только на Венере Медичей нет ни костюмчика, ни столь современных тончайших, невидимых чулок и туфель на этих тоненьких каблучках, и волосы ее не разбросаны в том буйном беспорядке, на создание которого уходит так много времени и стараний. А в остальном — что ж? Неужели только древнему мрамору быть прекрасным!
Юлия всегда знала, как она выглядит и как она одета. Стоило ей выйти на улицу — и это обнаруживалось само собой. Если под взглядами прохожих, под взглядами сидящих на скамьях в сквере она шла не торопясь, высоко подняв голову, уверенно и величаво, — значит, на ней все было в полном порядке. Если почему-либо хотелось быть не замеченной прохожими, если появлялось желание обогнуть скверик стороной и избежать рассматриваний, то дело плохо: или чулки не так, или что-нибудь не в тон чему-нибудь; тогда, словом, и настроение не то.
На этот раз, хотя и одевалась она со всей тщательностью, Юлия не замечала ничьих взглядов и совсем не думала о впечатлении, какое производит на прохожих. Мысли ее были запутанные, и с отчетливостью она думала только об одном: надо прийти точно в пять. И в кабинет Владычина она вошла именно в ту минуту, когда часы на стене показывали это время, ни минутой раньше, ни минутой позже.
— У вас мужской характер! — весело сказал Владычин, выйдя к ней навстречу из-за стола. — Точность — мужское качество.
Это Юлию нисколько не обрадовало. Меньше всего ей хотелось, чтобы он находил в ней мужские качества.
— Присядем, — сказал Владычин, указывая на кожаное кресло. Сам он сел напротив.
Помолчали, поулыбались друг другу. Владычин спросил, не хочет ли она чаю. Юлия отказалась от чаю и, взглянув на часы, с ужасом убедилась в том, что уже прошло семь минут. Время летело. Полет его угнетал Юлию. Она стала думать только о том, что вот скоро пройдет час, а за ним и второй. От этого принялась нервничать.
— Что с вами, Юлия Павловна? — Владычин заметил ее состояние. — У вас что-нибудь случилось?
— Особенного — нет. И в то же время, конечно, да, случилось. — Юлия взглянула на часы и от отчаяния куснула губу: прошло восемнадцать минут.
Владычин встревожился.
— Юлия Павловна, можете быть со мной совершенно откровенной. Если я могу для вас что-либо сделать, если в моих силах помочь вам, я… Полностью рассчитывайте на меня.
Может ли он что-либо сделать! А кто же тогда и может? Конечно, он может все. Но как ему об этом скажешь, как надоумишь его, какой подашь знак? Все это немыслимо в простом, строгом, симметрично обставленном кабинете делового человека, перед этими портретами государственных деятелей. Почему еще не лето и даже еще не та весна, когда на улице тепло и когда ходят пароходы; когда еще нельзя плыть по Кудесне, как плыли прошлым летом в теплой черной ночи с Николаем Александровичем Суходоловым, и нельзя уехать в далекие сухие сосновые леса, на обрывы, с которых видна синяя бескрайняя даль; не с Птушковым бы брести по шоссе через болотистую равнину, с другим бы, с этим колючим, устремленным, беспокойным…
— Мне очень тяжело, Игорь Владимирович, — кое-как смогла сказать Юлия.
— В театре что-нибудь?.. Но это же можно…
— Ах, нет! Не в театре. — Юлия даже топнула ногой о натертый скользкий паркет. — Нет! Совсем нет!
— Дома?
— Здесь! — Она это почти выкрикнула, прижав руку к груди.
— Вам нездоровится?
— Да, — сказала она, резко поднимаясь. — Простите меня, я не должна была приходить.
сюда. — И быстро, стуча каблуками, пошла к двери.
Владычин догнал ее, взял за руку.
— Юлия Павловна! Это вы меня простите. Но я ничего не понимаю. Можете мне объяснить как-нибудь понятней?
— Этого, Игорь Владимирович, не объясняют. — Она высвободила руку из его руки. — Это чувствуют. — Сказала и вышла в дверь.
Спускаясь по лестнице со второго этажа, она мысленно видела, как стоит посреди своего кабинета Владычин, удивленный, недоумевающий, и смотрит на закрывающуюся за нею белую резную, дверь с большой бронзовой ручкой в виде лапы крупного хищного зверя. Рука Юлии еще чувствовала холод этой лапы.
Внизу ее задержали: не был отмечен талончик пропуска. Она чуть было не заплакала от отчаяния. Она не могла вновь подниматься, к кому-то идти. Милиционер понял ее состояние — позвонил по телефону, видимо — секретарю Владычина, и, получив нужный ответ, сказал:
— Пожалуйста, гражданка, идите. Не волнуйтесь, пожалуйста. — И даже распахнул перед нею дверь.
Нет, еще не так много было времени. В кабинете Владычина оно летело быстрей. По уличным часам оно шло медленней: было только шесть. Куда идти? Что делать? Села в автобус, доехала до той улицы, с которой надо было сворачивать в улицу Гурия Матвеевича Черногуса.
Черногус встретил ее почти с распростертыми объятьями.
— Это хороший знак, что вы пришли, Юлия Павловна! — воскликнул он радостно. — Я убежден, что вы не знаете, какой сегодня день. Но вы пришли именно в такой день, в какой без зова и приглашения являются только настоящие. Истинные друзья.
— Это ваш день рождения?
— Да, да! Шестьдесят пять стукнуло. Видите, какой порядок соседки навели: пол вымыли, все выколотили, вытряхнули, занавески постирали.
Юлия увидела, что круглый стол раздвинут, на белой свежей скатерти стояли бокалы, рюмки, бутылка шампанского, ваза с яблоками и мандаринами. Была даже бутылка коньяку.
— Вы ждете гостей? — спросила она с некоторым огорчением.
— Нет, нет, — ответил он поспешно. — Я никого не звал, никому ничего не сказал. Но если кто знает или чует, как вы, например… Друзья, говорю, друзья… Давайте по бокальчику шампанского, а?
— Лучше коньяку, Гурий Матвеевич.
— Правильно, я тоже до этой шипучки не охотник. — Он принялся откупоривать бутылку с коньяком. — Бывало, мог, знаете, хорошо выпить. Сейчас, после этой истории с сердцем, побаиваюсь. Откровенно говоря, врачи запугали. Но ведь их, врачей, слушать — заранее умирать надо. Того нельзя, этого избегайте, третьего ни-ни. А что можно? Манную кашу на воде да физкультурную зарядку по утрам, и то лежа в постели: вдох — раз, выдох — два. Тоскливое существование. А вы что сегодня такая бледная, Юлия Павловна? При вашем имени это вам не идет. «Блестящая» должна быть всегда блестящей. Ну, за ваше здоровье! — Он поднял наполненную рюмку.
— Как же так! На ваших именинах — и за мое здоровье! Нет, Гурий Матвеевич, за ваше, за вашу молодость, за вашу жизнерадостность. Вы удивительный человек. — Юлия коснулась своей рюмкой его рюмки, выпила коньяк и, морщась, стала очищать от кожицы оранжевый яркий мандарин. Мандарин был такой спелый; что от кожуры, если ее сжать в пальцах, как бы шел тонкий дымок — из открывшихся пор стреляли струйки летучего ароматичного масла. Юлия постреляла ими себе в лицо, они холодили, освежали, от них веяло трансатлантическими пароходами.
Вторую рюмку она налила сама. Но когда взялась за третью, Черногус остановил, на ее руку положил свою.
— Вам нехорошо, Юлия Павловна? — Он внимательно смотрел ей в лицо.
— Нет, мне хорошо, Гурий Матвеевич. У вас мне очень-очень хорошо.
— Да, да, я понимаю. Вот это-то и есть признак того, что вам плохо. У меня вам хорошо, потому что вам думается, что вы видите человека, которому еще хуже, чем вам. Не так ли? Одинокий, заброшенный, старый. Доживающий, как говорится, век. И у вас перед ним все-таки есть преимущества. Вы одиноки, это правда, я это вижу, знаю. Но вы молоды. Ваш век только начинается. Вы сравниваете мое положение со своим, и вас это хоть в малой мере, но утешает. Ошибаюсь?
— Ошибаетесь, — ответила Юлия твердо. Но в душе она признавала, что он угадал ее чувства. Да, конечно, ему и в самом деле хуже, чем ей, У него уже и перспектив нет, никаких надежд ни на что. А у нее разве есть надежды? Разве после сегодняшнего разговора не ясно, что она ничто для Владычина? Не понять ее сегодня можно было только нарочно или же от полного равнодушия.
— На вас чудесный костюм.
Юлия чуть не заплакала от этих неожиданных слов. Старый человек заметил ее старания. А тот, молодой, для которого все продумывалось, даже взглядом не скользнул по ее нарядам.
— Может быть, вы и в самом деле знали о моем рождении? — спросил Черногус. — В обычный день так по-праздничному, кажется, не одеваются.
«Какой он наблюдательный, — думала Юлия. — Почему же тот не такой, почему тот ничего, ничего не заметил, не понял?» Она улучила момент и выпила третью рюмку коньяку. Этого, кажется, было многовато. Она не обедала в тот день. Дольки мандаринов не были должной закуской. В голове зашумело, стало не так остро все, положение начало упрощаться.
— Ах, все ерунда, — сказала, она. — Все глупость, все чепуха и бессмыслица.
— Я, кажется, зря вам позволил пить коньяк.
— Нет, вы сделали хорошо. Очень хорошо. Вы хороший, добрый, отзывчивый. — Юлия встала, обняла его и заплакала.
И в этот момент постучали в дверь.
— Извините, Юлия Павловна, — сказал Чер-ногус, крикнул: — Да, да, — и пошел к двери.
Вошла София Павловна, со свертком в руках, и остановилась, удивленная, посреди комнаты.
— Юля?
Юлия не ответила; очень быстрым, ловким движением она смахнула слезы с глаз, села в кресло, взяла сигарету из пачки, оставленной Черногусом на столе, закурила.
Помолчав, София Павловна сказала суетившемуся вокруг нее Черногусу:
— Хотели вместе с Василием Антоновичем заехать на минутку. Но он задержался. Такая работа, такая жизнь. Вы тоже были когда-то в губ-коме. Сами все знаете.
— Тогда, София Павловна… Да вы присаживайтесь, присаживайтесь!.. Тогда иначе было. С одной стороны, труднее, с другой, проще. Труднее, потому что надо было преодолевать инерцию старого, сложившегося, окаменевшего. А как это делать, не каждый из нас и не каждый раз знал. Опыта не было. А проще — потому, что и вся страна, и каждый человек в отдельности еще не поднялись на такой высокий уровень культуры, хозяйства, интеллекта, как сейчас. Не было того многообразия дел, как сегодня. Не требовалось той глубины решений, как сейчас. Бывший гимназист казался господом богом по своим познаниям, кладезем мудрости. Плевали на пол в губ-коме, бросали окурки под стол… «Рукопожатия отменяются», «Кончил дело, уходи» — вот какие плакаты висели у меня в кабинете.
— Сонь, ну выпей же рюмку! — сказала Юлия, наливая Софии Павловне и себе коньяку. — За здоровье Гурия Матвеевича. Слышишь?
— Я лучше шампанского. Гурий Матвеевич, можно это открыть?
— Да, да, конечно. Сейчас, София Павловна, сейчас! — Пробка выстрелила, зашипело в бокале вино.
— И тебе бы не коньяк пить, Юля. — София Павловна подняла бокал. — Дорогой Гурий Матвеевич, всего вам самого хорошего в жизни!
Черногус поклонился, затем пошел в другую свою комнату, где у него, очевидно, была спальня и куда он никого не водил, и вынес оттуда старинную гитару с темной от времени декой, усыпанной украшениями из перламутра.
— Знаете, милые мои дамы, я сейчас вам сыграю и, может быть, если удастся, спою. Когда был студентом, лихо певал.
Он и в самом деле спел несколько забытых, никому ныне неведомых, хватающих за душу романсов.
— Курсистки, помню, плакали, — сказал он, не заметив, как София Павловна пальчиком снимает слезинку с ресниц.
— Железная моя, благоразумная сестрица гоже, видите, отдает должное этим песенкам, — сказала Юлия. — От набора сентиментальных словечек хлюпает носом, разжалобилась. А живую жизнь… Разве ты видишь живую жизнь? — Юлия стукнула кулаком по столу.
— Юлия Павловна, Юлия Павловна! Ну что вы?.. — Черногус склонился над нею, положил ей руку на плечо. — Ну, что вы, Юлия Павловна. Полно.
— Хорошо, — сказала София Павловна строго. — Ты меня вынудила сделать это, Юлия. Я пойду к нему, если ты сама не способна, и скажу, все скажу…
— Можешь не трудиться, — ответила Юлия. — Я именно сама все сказала сегодня. Он ничего не понял.
Черногус не знал как быть: уйти, остаться, сделать вид, что ничего не слышит? Юлия облегчила положение.
— Гурий Матвеевич, поймите! Женщина идет к мужчине, совершенно ясно говорит ему о своих чувствах. А он ей: «У вас что-нибудь случилось?» И смотрит такими круглыми, пустыми, непонимающими глазами.
— Если это все тот же самый Птушков, — сказал Черногус, — то, по-моему, от него и ожидать ничего нельзя. Пустоцвет, знаете ли. Серый, необразованный.
В дверь снова постучали. Черногус пошел встретить. Вошли старики Горохов и Синцов.
— Именинник ты! — крикнул глуховатый Горохов. — С визитом вот явились. Не прогонишь?
Старикам было налито по бокалу шампанского. Но Горохов шампанское отодвинул, потянулся к коньяку.
— От этого шипучего — подагра. Вся аристократия от него страдала. От шампанского да от куриных паштетов. И коньяк твой, Матвеич, баловство. Водочки бы припас, голова! Сто лет живешь на свете, ума не набрался.
Видя, что тут свои будут разговоры, София Павловна собралась уходить.
— Юлия, — шепнула она. — Василий Антонович обещал прислать машину к девяти. Сейчас десятый. Пойдем, Юленька.
— Пойдем, — согласилась. Юлия, утратившая вдруг весь свой боевой задор. Ей захотелось спать, ей захотелось, чтобы рядом с ее постелью сидел бы кто-нибудь очень родной и любящий, чтобы он говорил ей хорошие, ласковые слова. А кто же у нее есть на свете еще родной и любящий, кроме этой терпеливой, ровной Сони? Никто же, кроме Сони, доброго, ласкового слова ей не скажет. — Пойдем, Соня. Хочу домой.
Черногус проводил их до машины, стоял потом у крыльца в сумерках, махал вслед рукой.
Дома София Павловна помогла Юлии раздеться, уложила в постель, укрыла одеялом. Юлия свернулась клубочком, взяла себе под щеку душистую ладонь Софии Павловны.
— Соньчик, — не открывая глаз, сказала словом Василия Антоновича. — Спой что-нибудь или расскажи сказку.
София Павловна тихо посмеялась, прижалась щекой к голове Юлии, сказала шепотом в самое ухо:
— Пьянчужка ты глупенькая, Юлька. Спи. — И, погасив свет, вышла.
Василия Антоновича еще не было. В столовой что-то писал за столом Александр.
— Роман? — спросила София Павловна.
— Почти, мама. У нас в цехе интересное дело затевается. Были ударники коммунистического труда, был наш участок участком коммунистического труда. Теперь задумали всем цехом добиваться этого звания. Мне вот поручили сочинить проект обязательства. Вроде своей цеховой конституции новых отношений к труду и к быту. Хочешь послушать?.
— Конечно.
Александр стал перечитывать пункты обязательства. Тут было не только то, что касалось отношений людей к труду, но непременным условием отмечалась необходимость учиться — заочно ли, очно, но учиться и учиться: «Без больших разносторонних знаний коммунизма не построишь». Было обязательство повышать свою культуру, быть примером в быту.
— Ведь еще многое неясно, мама, — сказал Александр. — Зримые черты коммунизма! Это только легко говорится. А на практике? Вернее всего такие черты обнаруживаются в труде. Люди у нас прекрасно работают. Один может всегда заменить другого. По три, по четыре профессии каждый и каждая осваивают. В труде — тут более или менее ясно. С бытом — не все. Как коллективно проводить время? Споры идут. Некоторым кажется, что надо все делать толпой. В кино? Шагай все разом. В театр? Тоже шеренга за шеренгой. В музей к вам? Направо равняйсь! Это же чепуха, верно? Ну, я понимаю, пикник за город. Поход какой-нибудь. Туристская поездка. Или если и в кино, — то просмотр и коллективное обсуждение фильма. Чтобы это было поводом для эстетического развития. Я прав?
— Думаю, что да, Шурик.
— Ну, а некоторые есть индивидуалисты. Все пытаются свести только к производственным показателям. Очень трудно, мама, найти правильную дорогу к новому. Так, чтобы и в пошлость не впасть, в упрощенчество, и так, чтобы не испортить все формализмом. Вы же тоже искали новые формы жизни и труда. Я читал, например, о бытовых коммунах.
— Да, Шурик, были такие. Но это совсем не то. Наши коммуны, если задуматься, возникали знаешь отчего? От тягот жизни, в ту пору очень еще неустроенной. Для коллективного преодоления этих тягот. Была, например, стипендия — рублей пятнадцать — двадцать. Одному на нее чертовски трудно было изворачиваться. А в коммуне, когда это шло в общий котел, дело несколько облегчалось. Стал материальный уровень народа повышаться, и коммуны развалились. Но в них было интересно, весело, ничего не скажу. Мы с твоим папой в коммуне не состояли, но ходили к нашим ребятам и девчатам иной раз по вечерам. На Петроградской стороне, помню. На Песочной набережной.
— Вот видишь! А тут не в материальных условиях дело, мама. Тут тяга к новому, потребность в коллективном труде и в коллективных усилиях для подъема общей культуры каждого человека.
Приехал Василий Антонович. Стали пить чай. Снова поговорили о проекте обязательства, который составлял Александр. Василий Антонович внимательно просмотрел исписанные листки, кое-что предложил выкинуть, кое-что дописать. Потом сказал:
— Интересная новость. Поэта Птушкова знали?
— Как же, — ответил Александр. — «Древний сказ».
— Поэт, видите ли, совесть народа! Он свободный певец. Птичка, словом, певчая, в отличие от некиих птиц ловчих. А чем кончилось? — Василий Антонович извлек из кармана сложенный вчетверо листок, бросил его на стол. Это были слова и ноты песни.
София Павловна прочла вслух:
— «К вершинам коммунизма. Слова В. Птушкова». Внизу сказано: «Тираж пятьсот экземпляров, типография Высокогорского совнархоза». Высокогорского? Почему, Вася, Высокогорского?
— Потому, что молодой пиита удрал из Озёр, где ничего у него в клубе не вышло, — удрал в Высокогорск. Боялся, что его здесь прижмут за «Древний сказ». А может быть, и просто Артамонов переманил. Квартиру ему там дали, из двух комнат. У нас он две брать не хотел, демонстративно жил в развалюхе. А уж и так горсовет шёл на исключение: одному — две комнаты.
Жёны-то у него незаконные, он с ними не регистрируется. А там взял две, не кочевряжился.
И главное — что сочинил! Гимн. Областной гимн.
У него в завуалированном виде даже сам Артамонов фигурирует: «Отец и хозяин, заботой объятый». Это же умереть, Соня, можно! Вот тебе и фрондер, вот тебе и совесть народа!
София Павловна просматривала ноты, перечитывала строки. Музыка и в самом деле была гимнообразная. Но излишне трескучая и бравурная. А слова — выспренние, лживые, не от души, не от сердца, а от хитрости.
— Стыдно как-то от всего этого, — сказала она и пригорюнилась.
43
Только что закончился неприятный разговор с Огневым. Василий Антонович показал ему высокогорский «Гимн».
— Вырастили орла, Анатолий Михайлович. И вы знаете, в чем главная ваша ошибка? Вы заботились только о том, чтобы по вашему, так сказать, ведомству была тишина или хотя бы видимость тишины. А зачем это вам? Может быть, вы боитесь, что, если будет кипение страстей, будут столкновения темпераментов и взглядов на искусство, то это воспримут, как недостаток в вашей работе? Вы плохо, видимо, учились в институте, дорогой товарищ Огнев. Вся история литературы и искусства — сплошные столкновения идей и взглядов. И это неизбежно. А как вы нынче мыслите движение вперед на таком сложном и остром участке человеческой деятельности? Вы говорите в докладах: мы, дескать, за высокую идейность в литературе и искусстве! А как это достигается, по-вашему? Без борьбы, в тишине, спокойненько, гладенько? Вы оберегали Птушкова от критики. Что вы этим делали? Добро? Нет, зло. Во-первых, вы помогали ему таким образом забредать все дальше в болото. Во-вторых, вы помешали писательской общественности оттачивать ее идейное оружие в борьбе со взглядами и практикой таких Птушковых. А в-третьих, вам, видимо, думалось, что вы работаете с ним, а в итоге он работал с вами, и не безуспешно работал. Занимаясь только с ним, вы оторвались от Баксанова, от Залесского, то есть, от того большинства, которое ведет советскую литературу по главному руслу ее развития. Мало того, вы даже настроились против них, вы выдумали групповщину, которую якобы они создали. Я помню наш с вами зимний разговор. Люди работали, отлично работали, за партию, за народ, а вы им: групповщики!
— Извините, Василий Антонович, по-вашему, что же — Птушкова не надо было воспитывать?
— Надо! Но не с помощью соски… извиняюсь, товарищ Огнев… и не самому тут, в одиночку, в кабинетике. А с помощью писательской общественности, с помощью прямой и честной критики, с помощью вовлечения его в такую общественную работу, на которой бы он рос, воспитывался, на которой бы формировались его взгляды. Один вы, этакий меценат областного масштаба, ничего и никогда не добьетесь. Ну и вот, в-четвертых, он же, этот Птушков, вас же в итоге и оплевал. Слабых и расплывчатых руководителей не любят и не уважают. Я в этом «Сказе» — Десница. Я, видите ли, могу десницей своей и по шее дать. Это он понимает и этого не отрицает. А вы? Вы боярин Горелый. Не узнали, что ли, себя? Огнев — Горелый! Вы даже в глазах этого юнца погорели со своей политикой балансирования.
— Что ж, мне остается одно: уйти с этого поста, — сказал Огнев. — Вы к этому ведете речь?
— Не моя воля — держать вас на таком посту или освободить от него. Дело коммунистов: бюро, пленума, областной конференции. Спросим их.
— Понятно, — сказал Огнев. — Я пойду?
— Да, пожалуйста.
И вот только ушел Огнев, как Воробьев доложил, что в приемной сидит Суходолов. Его разыскивали добрых десять дней. Даже жена не знала точно, где он: не то в Москве, не то в Высоко-горске. Принялся разъезжать, как с цепи сорвался. Предложение отдела промышленности пойти на завод лаков и красок не принял. Василий Антонович просил непременно его разыскать и чтобы он явился в обком в любое время. Явиться явился наконец, но в самый неудачный момент. Чтобы разговаривать с ним, надо быть абсолютно спокойным и уравновешенным, а тут Огнев вывел из равновесия: ровным счетом ни черта не понимает человек.
— Пусть входит, — сказал Василий Антоноввич Воробьеву и поднялся навстречу Суходо-лову. — Здравствуй, Николай. Присаживайся. Что же ты, друг сердечный, дуришь-то? Че, м плохо, тебе место на лакокрасочном? По зарплате, правда, немного меньше. Но….
— Зарплата? Может быть, думаешь, что я из-за нескольких сотен торгуюсь? Хорошего ты мнения обо мне! — Суходолов говорил в повышенных тонах, с взъерошенными перьями. — Не желаю снисхождения, товарищ Денисов, в результате которого надо катиться по наклонной плоскости. Сегодня лак и краска, олифа и гуталин, завтра промысловая артель «Точильный камень» или «Красное топорище», а послезавтра и вовсе «Старгородская дуга-оглобля». Извините, товарищ Василий Антонович Денисов, секретарь областного комитета партии! Вы пешком, так сказать, под столом разгуливали, а я уже нашу промышленность создавал. У меня опыт, у меня знания…
— Чего же ты хочешь? На пенсии сидеть не хочешь. На завод идти не хочешь…
— Почему не хочу на завод? Хочу. И пойду. Иду уже. Но только в другую область. Я переезжаю в Высокогорск. Да, в Высокогорск! Директором на завод сельскохозяйственных машин. Предприятие союзного значения. Артамонов принял с распростертыми объятьями. С министерством он уже договорился. Вот, товарищ Денисов! Можешь, конечно, навредить вслед, можешь все сорвать. Вот телефон, вызывай Москву, вызывай министра, рассказывай ему, какой гад Суходолов. С тобой, конечно, посчитаются, все бумаги завернут Артамонову. Но думаю, что и с Артамоновым посчитаются. И, пожалуй, не меньше, чем с тобой.
С большой горечью слушал Суходолова Василий Антонович. Каждое слово того было ему, что гвоздь в сердце. Более полутора десятков лет дружбы — куда же они делись? Первое столкновение, первое жизненное испытание — и все полетело в тартарары. Так была ли и дружба тогда? Не было ли простой кабалы, зависимости его, Денисова, от Суходолова, и зависимости, возникшей в свое время только потому, что Суходолов вынес Денисова из-под огня, спас ему жизнь? Можно ли, однажды сделав доброе дело, всю жизнь потом, через воспоминания об этом деле, регулировать и определять взаимные отношения?
— За телефон я браться не буду, — сказал Василий Антонович. — Но очень сожалею о том, что ты согласился на такое дело. Развалишь хорошо налаженное предприятие. Ты уже не руководитель. Ты рантье, стригущий купоны с чего-то былого, давно минувшего. Но учти, что купоны давно острижены. В качестве процентов ты получил значительно больше, чем было у тебя основного капитала.
— Благодарю за аттестацию! — Суходолов встал. — Итак, прощай, Денисов! Может быть, я и не самый выдающийся хозяйственник. Но и тебе далеко до Артамонова, до Артема Герасимовича.
Он ушел, не затворив за собою дверь. В нее вошел Петровичев, секретарь обкома комсомола, голубоглазый энергичный, всегда улыбающийся молодой человек, которому не было и тридцати. Примерно так же выглядел и примерно столько же лет было и ему, Василию Антоновичу Денисову, когда он добровольцем-ополченцем уходил на фронт, когда ровно через три недели после того, как впервые была надета гимнастерка и затянут ременный пояс, его ранили и он встретился с Николаем Суходоловым. Хороший возраст, возраст ничем не омрачаемой, чистой, бескорыстной дружбы, возраст больших устремлений, надежд и мечтаний, неудержимых порывов.
— Что, неужели уже время? — сказал Василий Антонович, кладя руку на плечо Петрови-чеву. — До чего же быстро оно летит, Сережа! Да, седьмой час. Ну что ж, поедем!
Давнишняя идея, о которой еще Александр высказывался и даже что-то говорил Черногус, обрела наконец материальные формы. Областной комитет партии и областной комитет комсомола в эти апрельские, предпраздничные дни решили провести вечер, названный в пригласительных билетах вечером встречи поколений. Приглашались на него старики — участники революции, гражданской войны и первых лет строительства советской власти; их созывал Черногус. Затем шло поколение тех, кто самостоятельную жизнь начал в годы первых пятилеток, в предвоенные годы, кто сражался на фронтах и после дня Победы восстанавливал разрушенное войной. И, наконец, должна была прийти молодежь, молодежь всех возрастов — от тех, кого только-только приняли в комсомол, и до тех, которым настало время вступать в партию. Лаврентьев и Петровичев много думали над программой вечера. Будут рассказы ветеранов о минувшем, будут рассказы молодых о планах на будущее, будут рапорты о сделанном в последние годы, в последние дни. Будет художественная самодеятельность и старых и молодых. Будут даже танцы. Весь Дворец культуры химкомбината, с его большим и малым зрительными залами, с его обширными фойе и клубными комнатами, отдавался представителям трех поколений старгородцев.
Когда Василий Антонович с Петровичевым по мраморной светлой лестнице подымались в вестибюль, расцвеченный фонариками и лианами серпантина, осыпаемый пестрыми хлопьями конфетти, там гремела духовая музыка. Игралось что-то старинное, предназначенное для стариков, мелодичное, что полковыми оркестрами местных гарнизонов, может быть, сорок и более лет назад игрыва-лось в «городских» и «летних» садах, на городских бульварах. Это был вальс, танцевать его могли и старики и молодые. Поколение Василия Антоновича в хореографическом искусстве, что называется, больших высот не достигло. Оно училось строить, училось руководить промышленностью и сельским хозяйством, училось воевать, и дело танцев явно запустило. С грехом пополам оно умело топтаться в общем кругу. Но старики и молодые лихо кружились в вальсе.
Секретарь обкома партии и секретарь обкома комсомола прошли меж танцующими, получили по нескольку толчков в бока, были осыпаны цветными бумажками и окутаны цветными лентами. Петровичев еще пытался сохранять достойный вид, какой, по его мнению, во всех случаях должен иметь руководитель областного масштаба. А Василий Антонович махнул на это рукой. Раз вечер поколений и веселья, так уж чего меряться рангами, тут надо быть человеком, и больше ничего.
Зазвенел звонок. Все потянулись к залу. В этих людских потоках к дверям Василий Антонович начал различать знакомых. Возле Софии Павловны были Лаврентьев и его жена — Клавдия. Были Александр и Юлия; был Сергеев, был Вла-дычин, были Баксанов и Тур-Хлебченко… До Софии Павловны он в толкучке не добрался, сел в четвертом ряду среди шумной и веселой юной компании, которая никакого внимания на него не обращала: перегибались через его плечо, тянулись друг к другу за его спиной. Он терпел.
На сцене стоял длинный стол, какие обычно приготавливают для больших президиумов. Но из-за кулис к столу вышло только шестеро. Лаврентьев, Черногус, Петровичев, еще один старик с пышными усами, женщина лет тридцати воеьми и та голубоглазая девушка, которая работает в цехе Александра, Майя, молодая героиня с орденом Красной Звезды.
— Такое дело, товарищи, — заговорил Лаврентьев. — Мы очень долго думали, как бы нам обойтись без президиума. Не смогли придумать. Может быть, следующим поколениям и удастся разрешить эту задачу. Нам не удалось. Но мы все же довели его до минимума. Шесть человек на полуторатысячное собрание. Излишеств, как видите, нет.
Ему весело поаплодировали, посмеялись.
— Но я должен вам объяснить принцип формирования нашего президиума. Вот представитель самого молодого поколения. — Лаврентьев указал рукой на Майю. — Это известная вам всем Майя Сиберг. Она… — Объяснять, кто такая Майя Си-берг, Лаврентьеву не пришлось. Шумной овацией приветствовали похолодевшую и отчаянно красневшую Майю.
— Вот тоже не старое, тоже молодое, — продолжал Лаврентьев, — но, правда, все-таки уже немножко постарше поколение — Наталья Фадеевка Морошкина — заведующая молочно-товар-ной фермой колхоза «Озёры». В прошлом году её ферма достигла выдающихся результатов, товарищи. Хотя еще и не была механизирована, заметьте. Нынче у них завершается полнейшая механизация. Виновник этого дела, кстати сказать, старгородский инженер товарищ Лебедев. И в итоге первый квартал на эмтээф у Натальи Фадеевны завершен с результатом, который на тридцать шесть процентов выше, чем было в прошлом году.
Шумно аплодировали и Морошкиной.
— А вот старшее поколение тружеников нашей области: товарищ Гусев, Илья Федорович, член партии с тысяча девятьсот пятого года. Стрелочник сортировочной станции. Почти шестьдесят лет переводит стрелки поездам, идущим в Стар-город и из Старгорода. Он во всем и виноват, как всякий стрелочник.
Старику долго хлопали изо всех сил.
— Это, так сказать, была вам представлена трудящаяся часть президиума, — продолжал Лаврентьев. — Остальные уже начальство. Товарищ Черногус — один из организаторов вечера, директор исторического музея, старый большевик. Товарищ Петровичев — секретарь обкома комсомола. И вот ваш покорный слуга — секретарь обкома партии. Без начальства в президиуме обойтись мы, товарищи, не сумели.
Собрание было настроено хорошо. Все шутки Лаврентьева молодежь принимала весело.
— А выступления порешили, знаете, как вести? — говорил он. — А вот так — кого попросим, тот пусть и выступает. А то, знаете, написал бы заранее на бумажке, да и получился бы не вечер, а соревнование мастеров малохудожественного чтения. Правильно мы решили?
— Правильно! — хором ответил зал. — Кого попросим первым?
— Майю Сиберг! — закричали на разные голоса.
Майя послушно встала и подошла к той трибуне, на которой был установлен микрофон, посмотрела в зал удивленными глазами.
— Извините, пожалуйста, но мне совершенно нечего сказать. Работаем мы, аппаратчицы, все одинаково. А если вы хотите знать про тот случай, когда… Я вам скажу правду: все было так просто, и главное — так быстро, что я еще не успела ничего сообразить, как уже было кончено. Вы меня, пожалуйста, извините.
Ее милостиво отпустили на место. Потом Лаврентьев наводящими репликами стал помогать залу вызывать к микрофону ударников коммунистического труда предприятий Старгорода и других городов области, колхозов и совхозов; они рассказывали о самом интересном, что произошло у них за год.
Перед концертом был устроен перерыв. Снова танцевали. Но в некоторых комнатах шло обсуждение последних новинок кино, театра, литературы. Там разгорались ожесточенные споры. Спорили и перед экспозицией новых картин старго-родских художников; спорили перед стендами выставки художественных ремесел области.
Василия Антоновича отыскал Александр.
— Папа, пойдем со мной. Тебя хотят видеть ребята и девушки из нашего цеха. Ты же обещал к ним приехать.
Зашли в большую комнату, на дверях которой была табличка: «Комната духового оркестра». Собралось в ней человек пятьдесят молодежи. Василий Антонович поздоровался, сказал, что давно собирается заехать в их цех, в тот цех, где люди ищут новых путей для работы по-коммунистически, но вот все никак не может собраться, и очень рад, что такая встреча наконец состоялась. В нескольких словах он рассказал о перспективах развития промышленности области, о том, какие задачи лягут на плечи молодых в этом и в последующих семилетиях. Потом начались вопросы и ответы. Молодежь интересовало все — от новой техники до организации отдыха и развлечений. Народ был начитанный — отлично знали литературу, образованный — почти все не только закончили среднюю школу, но учились уже и дальше, на вечерних и заочных отделениях различных институтов.
— Я вам тоже задам вопрос, — сказал Василий Антонович, устав отвечать. — Несколько, месяцев назад пришло письмо. Оно не дает мне покоя. Я получаю много писем, и подписанных и анонимных. В анонимных меня, бывает, ругают, даже и советскую власть, случается, ругают. Что ж, разные еще есть люди. А вот письмо, о котором я говорю, оно не из нашей области. Оно издалека, из Сибири, из большого сибирского города. Пишет его молодой человек, и пишет по поводу моей статьи, которая была опубликована в центральной газете. Я писал о воспитании молодежи, ссылался на прошлое, на то, что было до революции, на то, что было еще лет тридцать назад, когда страна была бедная, только-только становилась на ноги. Я писал об огромных переменах и в нашей экономике, и в сознании наших людей. Я призывал молодежь, устремляясь в будущее, не забывать о прошлом, оглядываться на — революционное прошлое, на то, с чего мы начинали, чтобы было, дескать, с чем сравнивать достигнутое. И что же мне написал молодой человек, прочитавший статью? Он написал, цитирую, как говорят исследователи, текстуально. — Василий Антонович стал читать по листку бумаги: — «Перестаньте нам указывать на прошлое. Наши деды и наши отцы, то есть вы в том числе, завоевали нам советскую власть. Но это было давно. Мы выросли, мы думаем о будущем, у нас свои заботы, не тяните нас назад, хватит этих сравнений с тысяча девятьсот тринадцатым годом, вы еще сравните со временами. Киевской Руси, тогда цифры будут пограндиозней. Мы сами знаем, что нам делать. Вам — честь и слава. Нам — дорогу!» — Слушатели загудели. — Видите ли, — продолжал Василий Антонович, — во всем есть своя диалектика, свои «за» и «против». Может быть, прав этот молодой человек? Может быть, и в самом деле мы, старшие, всю жизнь вложившие в труд на благо родины, может быть, мы излишне любуемся сделанным нами. Нами, понимаете ли! А вам это и ни к чему. Вам безразличны герои революции, герои гражданской войны, герои первых пятилеток, те, кто шел на коллективизацию под кулацкие пули. Безразличны молодогвардейцы Краснодона…
Он говорил, а шум нарастал. Он оглянулся — за спиной тоже был народ, молодые и старые; в дверь протискивались все новые и новые слушатели.
— Можно мне? — сказал молодой человек в довольно пестром галстуке. — Я аппаратчик, я окончил техникум, я учусь заочно дальше. Это анкетные данные. Да, еще! Мне двадцать четвертый год. Старики считают, что это щенячий возраст. Так вот. На письмецо это вы можете не обращать никакого внимания, и пусть оно вас не волнует. О молодогвардейцах, когда читаю, — верь вот так напрягаюсь, готов хоть сейчас туда, к ним, в их борьбу, вместе с ними. И случись что, умру, как они!..
— Верно, верно! — закричали со всех сторон. — Он правильно говорит.
— Дальше! — отрывисто говорил молодой аппаратчик. — О Давыдове читаю, — готов хоть сейчас на коллективизацию, к тем беднякам и середнякам, против тех кулаков. О Чапаеве читаю, — готов немедленно вступить в его дивизию добровольцем. О Павке Корчагине, — жалею, что я не его друг. Дрались бы, жили, работали вместе.
— Верно, верно, Петров. Точно!
— Не верьте тому парню, — продолжал оратор. — Не слушайте, его товарищ Денисов. Он места не нашел в жизни. Он легкого искал, да, должно быть, и ожегся. Легко было только возле мамкиной юбки да за папкиной спиной. А сунулся сам после школы в институт — вместо двадцати двух проходных баллов нащелкал восемнадцать, и пузыри из носу полетели. Вместо того чтобы пойти работать да одновременно готовиться к экзаменам, год потерял — и не работал, и толком не готовился… Снова — осечка. Снова баллов не хватило. Вот и ноет. Это недоросли. По ним о молодежи не судите. Но молодежь надо понимать. По всей своей природе она — враг застоя, враг всякой волокиты, бюрократизма. В наши годы вы тоже были такими, вы тоже ненавидели формализм, бездушие. Может быть, мы на все подобное реагируем острее, чем было у вас? Может быть. Но вы же сами в нас воспитали повышенные требования ко всему, — воспитали это условиями жизни, лучшими, чем были у вас. Мы много хотим. Больше, чем хотели вы. Так вы нам и больше дали, чем получили сами. Мы все понимаем. Мы не Иваны Непомнящие.
Василий Антонович слушал и вспоминал того парня из Заборовья, который вот так же горячо говорил около года назад, на таком же импровизированном собрании в сельской столовой. Тот тоже рассказывал о растущих потребностях молодежи. И на селе и в городе молодежь поднялась на две головы против прежнего. Работать с нею надо умней, тактичней, без окриков и поучений, ее надо увлекать, вести за собой, а не подталкивать, ставить перед нею большие волнующие цели. Начнется освоение залежей железных руд, — сколько туда хлынет романтиков-добровольцев, как хлынули они на целину, на стройки гидростанций на сибирских реках. Появилось новое в Чиркове — какие-то кружева, невелико дело, но тоже взволновало комсомолок. Молодежи необходимо новое, необходимо интересное, захватывающее. Молодежь не может, не умеет топтаться на месте. Это не в ее природе. Оттого, что капиталистическое общество топчется на месте, на западе родились различные по формам, но одинаково унылые по существу пессимистические движения среди молодежи. Хорошие парни вдруг бросают бриться, ходят чуть ли не в исподнем по улицам, превращаются в полунищих, и так, побираясь, путешествуют по свету, бросают вызов обществу, которое не смогло их ничем увлечь, не зажгло перед ними светоча высоких, красивых целей. Что говорить — если где-либо плохо с молодежью, виноваты в этом старшие, и никто иной.
Василий Антонович заговорил о стране, о ее планах, которых никогда не выполнить, если за них не возьмется как следует молодежь. Он рассказывал о Старгородской области, которая по размерам больше Бельгии, а по возможностям богаче той сравнительно неплохо развитой европейской страны. «Мы, наша область, должны решительно перегнать Бельгию и подобные ей страны, — говорил Василий Антонович горячо. — Перегнать по материальному уровню жизни. Духовно там от нас уже давным-давно отстали».
Эта дружеская, взволнованная беседа прервалась только тогда, когда зазвенел звонок и всем надо было идти в зал.
Василий Антонович в зал не пошел, он незаметно скрылся в одной из комнат и, вместо того чтобы слушать концерт, разговорился с Черногусом. Черногус сказал, что с домовладельцем Демешкиным ничего не получается. Даже под угрозой исключения из партии человек не может расстаться со своим домом и с огородом. «Рабочего человека и того погубила частная собственность». Что делать? Какие еще принимать меры?
— Передайте весь материал в партийный комитет комбината, — предложил Василий Антонович. — И пусть коммунисты сами решают, что с ним делать. Они решат правильно.
В комнату зашло еще несколько человек. Пришел Лаврентьев.
— Ну вот, — сказал Лаврентьев, — можно и заседаньице какое-нибудь провести.
Но вскоре к ним вновь ворвалась молодежь во главе с Петровичевым, и секретарей обкома потащили танцевать. Музыка играла вполне подходящее для поколения Василия Антоновича — только шаркай слегка ногами, и получится вроде танца. Василий Антонович танцевал с молоденькой девушкой, которую ему удружил Петровичев.
— А я, вас знаю, — сказала девушка. — А я вас нет, — ответил он.
— Вы отец Александра Васильевича.
Он не сразу сообразил, кто же такой этот «Александр Васильевич».
— Ах, вот что! — спохватился наконец. — Вместе работаете?
— На его участке. Я Галя Гурченко. У вас очень хороший сын. Мы все его так жалеем. Он такой нежный панаша. И Павлик у него хороший.
— Вы только не очень его жалейте. А то зазнается.
Потом он танцевал с Клавдией, женой Лаврентьева.
Она была легкая на ногу, она посматривала на него зелеными глазами, в которых, как в народе говорят, прыгали чертики. Ему стали припоминаться рассказы о той романтической истории, какая свела когда-то эту женщину с Лаврентьевым в селе Воскресенском. Тоже ведь были молодые, тоже, может быть, кто-то ворчал на них, не так, дескать, живете и не так себя ведете, а вот же какие люди из них выросли.
Потом Александр подвел к нему Майю.
— Папа, вот это Майя.
— Но я же вас знаю, Майечка! Что он вас так официально мне представляет? Что это ты, Александр?
Гулянье в Доме культуры было в разгаре, когда Василия Антоновича нашла София Павловна; она тихо сказала:
— Дорогой мой, ты увлекся и не заметил того естественного отсева, какой здесь происходит. Старшего поколения уже давно нет. А из среднего пожалуй, только ты один и остался.
Василий Антонович оглянулся: всюду шумела и веселилась молодежь.
— Ты права, Соня. Что ж, уступим. Но только здесь, на вечере. В жизни мы еще долго продержимся. Мы упрямые. И пока достаточно прочные.
44
С интересом и с удовольствием Василий Антонович следил за этой рыжеволосой, зеленоглазой женщиной. Жесты рук ее были красивые, точные, делала она все без суеты; ходила королевой, гордо неся свою умную голову. Год назад, в том санатории, в котором он проводил очередной отпуск, Василий Антонович познакомился с дочерью короля одного из дружественных Советскому Союзу восточных государств, что называется — с настоящей принцессой крови. Жена Лаврентьева, Клавдия, осанкой своей, умением держаться, походкой очень напоминала ту принцессу. Но восточную принцессу годами, с колыбели, обучали повадкам королевы. Клавдия с этими повадками родилась. Ну, а если что и не пришло с рождением, то было взято ею самой в упорном, настойчивом труде.
Клавдия водила его и Лаврентьева по теплицам, парникам, по грунтовым сараям, лабораториям областной опытной сельскохозяйственной станции. Четыре года назад она пришла сюда агрономом. Сегодня она директор. Четыре года назад здесь был небольшой сортоиспытательный участок Всесоюзного института растениеводства, с несколькими десятками гектаров земли и двумя стандартными домиками для сотрудников. Сегодня это крупное опытное учреждение, которое дает семена и агротехнические рекомендации не только Старгородской области, но и всем окружающим областям. В сараях, готовые к выходу в поле, стояли заново окрашенные в яркие праздничные краски тракторы и различные машины для обработки почвы и ухода за посевами. В теплицах и парниках густо зеленела рассада овощей; в зернохранилищах, в строго изолированных один от другого закромах, бронзовыми бликами отсвечивали семена пшеницы, кукурузы, гороха; в лабораториях, возле химических весов, возле плошек с проращиваемыми зернами, встряхивая пробирки с растворенными образцами почв или с пробами минеральных удобрений, работали девушки в белых, медицинских халатах. Это были колхозные девушки, окончившие десятилетку; Клавдия приучала их к исследовательскому труду.
Она показала своим гостям библиотеку станции. Василий Антонович поразился обилию книг и журналов, иные из которых были на английском, немецком и французском языках. Познакомила, наконец, и с сотрудниками. Василий Антонович с восхищением думал о том, какая же умница эта жена Лаврентьева. Среди ее помощников были два замечательных человека. Один из них — известный краевед Павел Семенович Снетков, еще перед войной выпустивший монографию о пшеницах севера. Он вел кафедру в сельскохозяйственном институте, но Клавдия увлекла его селекционной работой, и три года назад он перебрался на ее станцию. Ему выстроили здесь коттедж, окруженный молодым плодовым садом. Несмотря на свои почти семьдесят лет, Снетков мгновенно, зажигался всякой новой, интересной идеей и умел очень быстро увлечь ею и других; он писал в газеты, выступал по радио, созванивался по телефону с колхозами и совхозами, — и за какие-нибудь неделю-две новая идея облетала всю область.
Второй рукой Клавдии был Федор Федорович Кузин, колхозный опытник, которого иной раз называли народным академиком. Кузин придумывал всяческие новшества в агротехнике, вносил изменения в конструкции машин, изобретал свои машины.
Но, конечно, душой всему была сама Клавдия. В области трудно было найти хоть один гектар зерновых, который бы засевался несортовыми семенами. Не было таких посевов и в овощеводстве. Сотрудники станции разъезжали по колхозам и совхозам, Клавдия переписывалась и перезванивалась с десятками агрономов и колхозных председателей.
Василий Антонович перебирал пачки писем, собранные в шкафах, и раздумывал о том, какие результаты дает труд, когда он становится не только делом всей жизни человека, но когда он — его радость, удовольствие, его творчество.
В тот предпоследний солнечный апрельский день Лаврентьев привез Василия Антоновича на станцию к своей Клавдии для серьезного разговора о кукурузе. Станция отлично занимается семенами зерновых и овощей. Может ли она так же энергично и успешно заняться кукурузой?
— Дело в том, товарищи, — сказал Василий Антонович, следя за тем, как степенно, одна возле другой, кружатся две крохотные золотые рыбки в стеклянной чаше на письменном столе Клавдии, — дело в том, что у нас хорошо выращивают кукурузу на зеленую массу, на силос. В этом качестве ее признали, она дает изрядный урожай. Многие колхозы доводят ее до молочной спелости зерна в початках, иные даже до молочно-восковой. Но хотелось бы иметь зерно. Понимаете, зерно, зрелое зерно. Чтобы не по десять центнеров получать с гектара, как дает, например, овес, а по тридцать бы, по сорок и больше, как получают кукурузоводы юга — на Украине, на Северном Кавказе. Нужен такой скороспелый сорт и нужна такая агротехника, которые бы способствовали созреванию зерна в наших условиях. Партийная организация области обращается к вам за помощью. От этого, от обилия зерна, то есть от концентрированных кормов, зависит очень и очень многое. Собственно говоря, от этого зависит, как скоро быть у нас коммунизму. Вы — научный сельскохозяйственный центр области. На вас огромная надежда.
— Видите ли… — начала было Клавдия.
— Нет, нет, — остановил ее Василий Антонович. — Сейчас вы можете ничего не говорить, можете не отвечать. Мы вас просим подумать, и только. Вы подумайте. Если будет что сказать, — потом и скажете.
— Видите ли, — повторила ровным тоном Клавдия, — кое-какую работу в этом направлении станция проводит уже третий год. Павел Семенович собрал обширный статистический материал, который свидетельствует о возможностях созревания кукурузы в наших районах.
— Да, да, — сказал Снетков быстро, отчего зашевелилась, запрыгала его прямая, седенькая бородка. — Возможности есть. Необходимо что? Необходимо получить сорт, который бы имел срок вегетации дней на двадцать короче тех сортов, что распространены сейчас. Всего-то! И чтобы он успевал созреть до наших ранних заморозков. В колхозе «Озёры» еще в прошлом году был такой участок, на котором кукуруза созрела. Это был участок с южной стороны длинного строения скотного двора, в заветрии, в затишье, на солнечном припеке. В этом году мы рекомендовали колхозным опытникам, с которыми связана станция, под кукурузу, с целью получить зерно, выбирать южные склоны, поляны в лесах или по южным опушкам. И так далее. А сорт? У нас кое-что уже есть. Один интересный гибрид, семена которого… правда, их очень мало, по какому-нибудь килограмму, а то и по нескольку зерен… мы раздаем тем колхозам, на которые надеемся, что там их используют по назначению. Где, словом, есть энтузиасты.
— Не все понимают это дело, Василий Антонович, — сказал тихим, хрипловатым голосом Федор Федорович Кузин. Такой голос бывает у людей, из года в год проводящих дни на воздухе, и не только на теплом, летнем, а и на сыром, промозглом, осеннем, и на студеном, с колючими северными ветрами, зимнем. — Еще не все колхозные головы повернулись к науке. Другой — он вроде бы и агроном, а по существу деляга, чиновник: план есть, выполнил буква в букву, а за букву за эту ни на вершок далее. С такими трудно. Такой хуже разгильдяя. Разгильдяй — поработай с ним, зажгли его, человеком может стать. Из чиновника человек уже не выйдет, мертвое он существо. — Кузин свертывал цигарку, уминая пальцами табак в клочок бумаги; пальцы его, истрескавшиеся, потемневшие, были пальцами человека земли, пальцами хлебороба, крестьянина, трудовыми, знающими, умеющими. Василий Антонович смотрел на них с уважением, с теплотой в душе. Его всегда, смолоду, наводил на размышления вид рук человека. Бывая в Эрмитаже, в Русском музее, в московской галерее Третьякова, рассматривал альбомы репродукций с произведений живописи, хранящихся во Франции, Италии, Англии, Германии, он восхищался тем, какое огромное внимание художники обращали именно на руки, какое придавали они им значение, создавая свои полотна. Не только лицо, не только складки вокруг рта или на лбу, не только выражение глаз, но и руки, руки, и чаще всего именно они, руки, ярче всего свидетельствуют о человеческом характере. Изнеженные руки многочисленных красавиц Тициана, руки Моны Лизы Леонардо да Винчи, руки рафаэлевских красоток — это просто красивые женские руки. Но руки людей труда и подвига, рабочих и воинов, рабов и каменщиков на полотнах Иванова и Тинторетто… Не надо видеть лиц, достаточно этих рук, чтобы судить о жизни, о порывах чувств, о душе, о судьбах тех, кому принадлежат те руки. Труд создал человека. А труд, пока мы его еще не переложили полностью на железные плечи машин, это прежде всего руки. У каждого свое отношение к труду, и у каждого свои, не похожие на другие, руки.
Руки Федора Федоровича Кузина, неторопливые, спокойные, наводили Василия Антоновича на мысль о том, что нет дела, которое бы они не смогли сделать. Василий Антонович этого не знал, но он не ошибался в своих предположениях. Кузин лепил из глины фигурки людей и зверушек, он резал по дереву кружевные орнаменты, он расписывал шкатулки не хуже палешан, он мог починить часы, мог разобраться в моторе автомобиля, мог зерновую сеялку наладить так, что она высевала мелкие семена моркови, мог переносить пыльцу с цветка на цветок и получать неслыханные гибриды растений. Такие люди с пальцами шероховатыми и твердыми, как железо, подковывали блох, делали птичьи крылья для полета с кремлевских башен, на весельных лодках ходили через Черное море к Царьграду, мечами харалуж-ными рубили тевтонских рыцарей у Вороньего камня на чудском хрупком льду.
— Уж это ваше дело, партийное, Василий Антонович, — говорил Кузин, заклеивая цигарку. — Поворачивать мозги к науке, к правильной агротехнике, к самостоятельному рассуждению.
Станция была в шести километрах от Старго-рода, строения и поля ее раскинулись на берегу красивого озера. Место было отличное, воздух хороший. Лаврентьевы жили здесь в отдельном домике. Клавдия пригласила Василия Антоновича обедать.
В доме была почти лабораторная чистота. Даже двое ребятишек — девятилетний Мишка и шестилетняя Люська — не могли ее нарушить. За ними присматривала строгая старая няня.
За обедом разговор шел все о том же — о предстоявшем весеннем севе, уже местами начавшемся, об урожайности, о механизации сельского хозяйства.
— Вам всем правильно Центральный Комитет внушает, — сказала Клавдия, разливая суп по тарелкам. — Конечно, тяжелая промышленность — основа основ, это каждый из нас еще со школьной скамьи знает. Но и сельское хозяйство не меньшая основа основ. Не будет хлеба у металлургов — и металлургия не пойдет. Дорогой Василий Антонович и дорогой Петр Дементьевич, если вы хотите быть настоящими политиками, никогда не ослабляйте внимания к сельскому хозяйству.
Василий Антонович давно заметил, что Клавдия называет Лаврентьева всегда по имени-отчеству: Петр Дементьевич, не применяя никаких уменьшительных. В этом было что-то немножко приподнятое, торжественное.
— Есть, Клавдия Михайловна, — ответил он по-военному четко. — Есть не ослаблять внимания к сельскому хозяйству.
Разговор зашел об успехах высокогорцев, об Артамонове. Клавдия выслушала все, что говорилось о нем, заметила:
— Не знаю почему, но я не очень симпатизирую вашему Артамонову.
— Как «не знаю почему»? — Лаврентьев рассмеялся. — Потому, конечно, что не твой муж на его месте. Разве ты можешь допустить мысль о том, что кто-то способен сделать какое-либо дело лучше твоего мужа!
— Ты шутишь, Петр Дементьевич. А я всерьез говорю. Мне непонятно, как можно за один год выполнить три годовых плана. Или план никуда не годился, был до крайности занижен. Или тут вранье. А если нет вранья, значит, разоряют они область. Ты же сам говорил, что из Высокогорья к вам за кормами ездят. А что это такое?..
Мужчины молчали, доедая суп.
Когда Василий Антонович и Лаврентьев возвратились в Старгород, было уже около четырех. Воробьев сказал Василию Антоновичу:
— Инженер Лебедев и колхозница Морошкина из «Озёр» ждут с двух часов, как вы им и назначили.
Василий Антонович поморщился от досады.
— Ах, черт!
Он терпеть не мог неточности — ни чужой, ни своей.
— Ну как же ты мне не напомнил, Илья Семенович, не позвонил? Заговорился я там… Вот видишь, что получается! Разве можно читать людям мораль, если сам ты не аккуратен? Ну пусть еще обождут минутку. Займи их, пожалуйста.
Он принялся ходить по кабинету, обдумывая предстоящий разговор. На его имя поступило письмо от жены Лебедева о том, что он ушел от нее, бросив двоих детей; правда, выяснилось, «что одному из этих детей двадцать лет, второй, девушке, — восемнадцать, что первый работает на заводе и учится в вечернем институте, а вторая заканчивает техникум. Но факт фактом: детей бросил, от жены, с которой прошил двадцать один год, ушел. И куда ушел? В колхоз «Озёры», к заведующей молочно-товарной фермой Наталье Морошкиной. Что тут делать? Сам он отличный инженер, отличный общественник, по своему почину занялся механизацией животноводства не только в колхозе «Озёры», но и в других колхозах сельсовета. Его хвалят, дают о нем самые хорошие отзывы. Никак о таком не скажешь: морально разложился. А Морошкина? Одна из главных героинь области. У нее учатся вести молочно-товар-ное хозяйство, сохранять молодняк. Но вот письмо жены Лебедева, вот оно лежит на столе… Несколько дней назад Василий Антонович приглашал эту женщину в обком, беседовал с ней. Плачет. Семья разбита. Жалко ее. Ребята большие, ужене пропадут. Но она, она… Что найдет на сорок третьем году жизни? Какое новое счастье?
Он нажал кнопку звонка, сказал, чтобы сначала зашла Морошкина.
Василию Антоновичу не раз приходилось видеть Морошкину. Но видел он ее то в полушубке и в платке, то на газетной фотографии с подрисованными чертами лица. А сейчас вошла еще одна красавица за этот день. Не королева, правда, — совсем другого типа женщина. Скромная, видимо, до крайности, добрая душой, большеглазая, встревоженная и вместе с тем готовая бороться за свое счастье. Пожал её горячую руку, пригласил сесть, долго смотрел на нее, сочувствуя и сожалея.
— Ну что сказать-то, Наталья Фадеевна? Как быть-то? — заговорил, закуривая. — Может быть, вы мне сами посоветуете.
— Извините, Василий Антонович. — Морошкина подняла на него глаза. — В таком деле я вам не советчица.
— Я понимаю, я понимаю, — поддакивал Василий Антонович. — Я только хотел бы просить вас вот о чем. Вы тоже член партии, как я, и вас тоже коммунисты могут выбрать в партбюро, например, или в партком. И вот вы бы получили письмо от женщины, от которой ушел муж, ушел, прожив с нею двадцать с лишним лет, ушел к другой, бросил детей, и так далее. Что бы вы сделали, прочитав такое письмо, как бы отнеслись к этой истории?
— Я бы так отнеслась к этой истории, — тихо ответила Морошкина. — Я бы посмотрела, а есть ли в ней любовь, и на чьей она стороне.
— Любовь?.. — как-то неопределенно сказал он.
— Да, Василий Антонович. Партийные не очень рассуждают про нее, когда на заседаниях заседают, не очень берут ее в расчет. А она вот что вешняя вода в половодье, — какие хочешь льды поломает. Любовь выдирать с корнем — это все равно, что весной березку рубить, все равно, что гнездышки птичьи разорять, все равно, что живое глушить и мучить. Против любви идти — это идти против жизни.
Василий Антонович тяжело вздохнул.
— Наталья Фадеевна, ну, а как же, если и там любовь, у той женщины? Тоже ведь, выходит, против жизни идти?
— Там-то?.. — Морошкина задумалась на минуту. — Отлюбилось, видать, там все, отгорело. Обратно жизнь не повернешь.
— Эгоистично рассуждаете. Только о себе думаете, о своем. Разве это хорошо? — Говорил, а уверенности в том, что правильно говорит, не было.
— Хорошо или нехорошо, уж это вам судить, — ответила Морошкина. — А уж вот так…
Потом зашел Лебедев, сел возле Морошкиной.
— И что только вы наделали, товарищи дорогие! — говорил, глядя на них, потупившихся, тихих, Василий Антонович. — Где жить-то живете?
— Там, в «Озёрах», — ответил Лебедев, смущаясь. — С завода уволился, вступил в колхоз. Все равно же, Василий Антонович, инженеры в сельском хозяйстве нужны. Некоторых уговаривают ехать на село. А я добровольно…
— Добровольно! — Василий Антонович даже не удержал улыбку. — Скотный двор механизировал. А семью развалил. Уж больно цена велика. Нам такой механизации не надо. Как же дети, жена?..
— Вот моя жена, — твердо сказал Лебедев, указывая на Морошкину. — А детям все, что надо, платить буду. Они взрослые.
Василий Антонович знал случаи, когда в подобных ситуациях партийный руководитель изрекал: «Ну вот что, торговаться с тобой не намерен: или возвращайся к жене, или положи партбилет на стол». Василий Антонович не считал такое решение трудного вопроса правильным. Под угрозой потери партбилета крепкую, дружную семью не создашь. Подумал, подумал, опросил:
— А с механизацией-то что? Какие процессы уже удалось механизировать?
Лебедев взял лист бумаги, стал чертить.
— Приготовление кормов — полностью механизировано. Вывозка навоза — тоже. Поение. Электродойка…
Оба оживились, воспрянули духом. Пошел горячий рассказ о том, что сделано, что еще предстоит сделать. Морошкина заговорила о том, как они с Лебедевым хотят вакуумные аппараты установить на тележки, тогда не надо будет гонять коров вдоильный зал и обратно. Аппараты можно подвозить куда угодно.
Василий Антонович тоже увлекся, расспрашивал, рассказывал, смеялся. Но взгляд его вновь упал на письмо, лежавшее на столе. Он вновь помрачнел от мысли о том, что, очевидно, ничем не сможет помочь той, которая написала это письмо, которая обратилась за помощью к нему, к секретарю областного комитета партии.
— Ах, братцы, братцы, — повторил он, — до чего же дорого обошлась нам механизация в колхозе «Озёры»! Ну что ж, — усмехнулся грустно, с горечью, — желаю вам счастья. Рубить березку не могу и разорением птичьих гнезд тоже никогда не увлекался.
Пожал им руки, проводил до двери и, сев за стол, разглядывал неровные, раскидистые строки письма, крупные, косые буквы, выведенные фиолетовыми чернилами.
— Вот и разбита семья! — не то подумал, не то сказал вслух.
Почему-то до него не доходил другой смысл этого события. А другой смысл заключался в том, что на земле зажглась еще одна новая большая любовь, и если разбита одна семья, то возникла другая, может быть, значительно лучшая, чем та, которая распалась. Если человек умирает, его же никто не тянет к ответу, — всякому ясно, что ничто не бесконечно на земле. А если умерла любовь, почему же в этом случае такое негодование? Тем более что на место умершей приходит новая, новым смыслом освещающая жизнь людей, разжигающая огонь новых чувств, новых порывов и взлетов.
45
Шел май, теплый, солнечный, радостный. Распускалась листва на деревьях, в скверах высаживали первые цветы; над Кудесной, выслеживая уклейку, кружились чайки. Юлия уже не валялась до полудня в постели, вставала ранними утрами вместе с Александром и, захватив альбом для набросков, тоже уходила из дому: он ехал с Павлушкой на завод, она шла куда глаза глядят. Часто Юлия сиживала на скамейке в Летнем саду, над рекой. Утренний воздух пах так, как пахнет в грозу — молниями, электричеством, озоном. Вдыхая его, она сидела одинокая, грустная; ветер с реки трепал ее легкий узорчатый шарфик, наброшенный на волосы, бил в колени, становилось прохладно, но она сидела, зябла и думала свои нерадостные думы.
Нерадостными ее думы были по той несложной причине, что с Владычиным у нее ничего не получалось, он ее не понимал, он о ней не помнил. А она не могла забыть его ни на минуту. Она старалась его забыть, старалась не думать о нем. Но это были смешные и несерьезные старания. Как можно забыть человека, как можно не думать о нем, если его любишь?
Нет, от любви крылья не вырастают, уж это Юлия теперь знает точно. Ноги и те отнимаются, не хотят ходить, не то что какие-то крылья.
Ей удалось увидеть Игоря Владимировича на первомайской демонстрации. День был веселый, шумный, с песнями, оркестрами, танцами на улицах. Колонны демонстрантов двигались к площади Ленина, где у подножия памятника Ильичу была установлена трибуна. Юлия бродила со своим альбомчиком среди гуляющих, с завистью смотрела на веселых девчонок, идущих кривыми крикливыми шеренгами под алыми знаменами. Знамена в крепких руках несли крепкие парни. Они улыбались девчонкам. Девчонки явно крутили головы этим парням, и парни не только не противились тому, они были откровенно рады. Юлия очень бы хотела быть на месте любой из этих девчонок в легких юбочках, в цветных вязаных жакетиках, — смешливых и озорных. И она увидела Владычина, Он шагал во главе колонн Свердловского района. С ним рядом были еще четверо: наверно, другие секретари райкома и председатель райисполкома; а тот, молоденький, может быть, даже и секретарь райкома комсомола. Они шли хорошо, бодро, в ногу, дружно. За ними плескались красные с золотом шелковые и бархатные знамена и звенели голоса тысяч веселых девчонок, крутивших головы тысячам добродушных крепких парней.
Натыкаясь на гуляющих, Юлия шла рядом с колонной по тротуару, изо всех сил стараясь сделать так, чтобы Владычин посмотрел в ее сторону, увидел бы ее. Но он не посмотрел и не увидел.
Вскоре голова колонны втянулась в улицу, движение по которой для «неорганизованных масс» уже было закрыто и в конце которой распахивалась площадь Ленина. Юлия отстала, повернула назад и, все прибавляя шагу, почти выбежала к Кудесне. Минувшее Первое мая было для нее одним из самых горьких дней. Она металась по улицам. Потом пришла, запыхавшаяся, домой, схватила Павлушку и отправилась с ним. Мальчуган в этот день был в восторге от своей тети Юлии. Она покупала ему разноцветные шары, которые или почему-то лопались, или неожиданно улетали из рук, покупала мороженое, какие-то пищалки и визжалки, катала в Летнем саду на ослике, на бывшей Базарной площади — на карусели. Все время обнимала его, гладила по голове. Одно было плохо: из синих глаз тети Юлии вдруг возьмут да и потекут большие-пребольшие слезы. Сама как будто бы смеется, улыбается ему, а слезы бегут и бегут по щекам.
В середине мая к Юлии в театр пришла делегация от молодежи химического комбината: просили помочь комбинатовским художникам оформить спектакль, который ставил самодеятельный драмкружок. Дело в том, сказали молодые артисты, что кружка им уже мало, что они хотят преобразоваться в самодеятельный театр и те примитивные декорации, какими они пользовались до сих пор, им уже не годятся. Они-де знают, что Юлия Павловна человек отзывчивый, добрый, они надеются, что она им в просьбе не откажет, как, например, отказал какой-то другой художник, и отказал только потому, что они не могли обещать ему никакой оплаты за помощь — они же самодеятельность, Вот если дело пойдет да начнут поступать средства от продажи билетов, тогда иное дело. Тот художник — они назвали его фамилию — рискнуть не захотел, не захотел ждать этого «иного дела», наотрез отказался. «Шаль, — сказала Юлия, — жаль, что он отказался. Это хороший художник, остроумный, с большой выдумкой». Она, конечно, согласилась. Вместо того чтобы сидеть и зябнуть на скамейке над Кудесной, теперь можно было ездить в Дом культуры химиков, спорить с упрямыми ребятами — самодеятельными художниками, исподволь прививать им вкус, учить их не доморощеным приемам оформительской работы, а профессиональным, таким, которые отличают сцену профессионального театра от самодеятельной, любительской.
Юлия бывала на репетициях, и у нее возникало убеждение в том, что драматическая самодеятельность комбината и в самом деле может перерасти в театр, в народный театр, который бы существовал на добровольных началах. Есть же в стране такие. Но ему надо было помогать, и помогать основательно. Ему надобны средства на костюмы, на оформление, на оплату режиссера, которого пригласили кружковцы. Дирекция отмахивалась от таких просьб, завком тоже не очень шел навстречу. Юлия сказала, что это нормальный процесс сопротивления старого новому, новое никогда не подхватывают сразу, не несут его на руках, оно должно энергично бороться за самоутверждение. Сколько существует мир, столько и идет борьба нового со старым. В этой борьбе новое обретает мускулатуру. Хорошо вам так говорить, сказали ей. Это гладко и стройно выглядит в книгах. А вот как быть, когда дело касается практики, как приняться за эту борьбу, когда от всех ворот тебе показывают поворот?
И тут Юлия ужасно обрадовалась, что у нее появился повод снова пойти к секретарю Свердловского райкома партии, к товарищу Владычину, но уже не с туманными неврастеническими намеками, а по весьма определенному, конкретному поводу, с делом общественным и благородным.
Правда, пошла она не одна, а с двумя кружковцами-энтузиастами. Владычин их принял, и не просто принял, он, был искренне рад их приходу.
— Замечательно, — говорил он, — замечательно, товарищи! Партия как раз советует нам брать курс на развитие самодеятельности. А народный театр — это будет просто великолепно! Можете рассчитывать на мою помощь. Я с вами, вот вам моя рука. Не сегодня, так завтра непременно отправлюсь на комбинат для переговоров с вашими начальниками. А вам, Юлия Павловна, особое спасибо. Спасибо, что с такой готовностью откликнулись на просьбу рабочего класса.
Юлия не упустила удобный момент. Она сказала, что ей надо бы пообстоятельней поговорить, посоветоваться с секретарем райкома о народном театре, у нее есть мысли, которые хорошо бы обсудить совместно, и обсудить не спеша, не так, когда знаешь, что за твоей спиной, в приемной, уже ожидает очередной посетитель.
— Пожалуйста, всегда готов, — сказал Владычин.
— Но вас так трудно ловить, и здесь, в этом кабинете, так надо торопиться… А почему бы вам не приехать в Дом культуры?
— Приеду. Пожалуйста. Назначайте время, Юлия Павловна. Все зависит от вас. Только… — Он принялся перебирать листки календаря на столе. — Только вот сегодня не смогу — буду на судоремонтном. Завтра — тоже весь день и весь вечер заняты. В пятницу… Вот в пятницу, как? Подойдет? Часов в семь вечера?
Юлия не раздумывая ответила, что подойдет, конечно, подойдет в пятницу, в семь вечера. Она знала, что даже если в тот вечер будет землетрясение или всемирный потоп, то все равно, под грохот вулканических ударов, под огненным пеплом или преодолевая волны потопа, она точно в срок примчится в указанное место, в Дом культуры химиков.
— Ну и отлично, — сказал Владычин. — Непременно буду.
Три дня Юлия тряслась от страха, что он забудет об уговоре и не придет. Но он пришел, и пришел ровно в семь. Юлия ждала его в вестибюле.
Они поднялись на второй этаж, вошли в комнату, на дверях которой было написано: «Репетиционная». В ней было три длинных стола и много стульев. Подсели к одному из столов. Юлия рассказывала о том, что идея народного театра ей кажется плодотворной, что в таком театре не будет ни чинов, ни званий, не будет погони за той или другой ставкой, все станут решать способности, талант, призвание.
Она говорила долго и с увлечением. Владычин, подперев щеку рукой, внимательно ее слушал.
— Знаете, какая мысль пришла мне в голову? — сказал он, когда Юлия умолкла. — Не знаете? Очень интересная мысль. Во все века прогресс двигали энтузиасты. То есть люди немножечко одержимые. Вы сейчас говорили так…
— Точно одержимая? Очень милая аттестация с вашей стороны, Игорь Владимирович.
— Ничего плохого в этом нет. Напротив. Это залог того, что дело будет сделано. И хорошо сделано. И вот, говорю, какая мысль у меня воз-никла. Не взяться ли вам за народный театр не в порядке любительства, а по-настоящему? Что, если вам стать его организатором и руководителем? Художественным руководителем.
— Что вы, что вы! — сказала Юлия поспешно. — У меня нет никаких организаторских способностей.
— Неправда, Юлия Павловна, неправда. Вы человек энергичный, человек с фантазией, с выдумкой. Вы умеете и по земле ходить, и летать за облаками.
— Откуда вы все знаете, Игорь Владимирович? Мы с вами и виделись-то раза три всего. А в последний раз…
— Да, кстати! — воскликнул он. — Что такое было с вами в тот раз? Я даже хотел пойти и догнать вас. Но кто-то вошел, и вот…
— Так, нездоровилось. — Юлия уклонилась от ответа.
— Я тоже об этом подумал. Ну что же, Юлия Павловна? Соглашайтесь. Замечательный у вас будет театр.
— Не знаю, не знаю, — ответила она в раздумье. — Слишком неожиданное предложение: я — и вдруг организатор, руководитель! Непривычно и смешно. Между прочим, вы не находите, что здесь холодновато? — Она дернула плечами. Ей хотелось бы, чтобы он догадался и предложил выйти на улицу, на теплый майский воздух. Она ждала этого, она молила об этом внутренне. И он догадался. Он сказал:
— А почему мы непременно должны сидеть именно здесь, где давным-давно перестали топить? Не выйти ли нам на воздух? Честное слово, там теплее.
— Пожалуй. — Она старалась не очень спешить с ответом. — Пойдемте.
На улице он сказал:
— Если не ошибаюсь, сегодняшний вечер у меня свободный. — Достал записную книжку из кармана, полистал странички. — Совершенно верно. Обещал приехать к выпускникам педагогического института. Но их вечер перенесен на субботу, то есть на завтра. Сегодня я, к величайшему удивлению, совершенно свободен.
— Игорь Владимирович! А что, если я вас о чем-то попрошу?
— Я это немедленно для вас сделаю.
— Вы шутите. А я всерьез. Сейчас уже, правда, вечереет. Скоро зайдет солнце. Но мне очень бы хотелось или за город, на природу, или на пароходе поехать…
— За город? — Он задумался. — Пожалуй, лучше на пароходе. Пойдемте к пристани.
И вот Юлия плыла на пароходе с Владычиным, как год назад плыла она с Николаем Александровичем Суходоловым. Но до чего же та поездка, тот вечер отличались от этой поездки, от этого вечера. Не было ни шампанского, ни графинчиков с водкой, ни залежалых закусок пароходного буфета. Стояли на нижней палубе, на корме, облокотись о поручни, касаясь плечом плеча, смотрели, как кипят взбиваемые лопастями винта речные воды за кормой, как река, отражая вечереющее небо, постепенно темнеет, как зажигаются по берегам зеленые и красные огоньки сигнальных фонарей. И рассказывали, рассказывали друг другу о себе, о своей жизни, о своем детстве, о своих мечтах и думах.
— И почему же все-таки вы не женились потом? — спросила Юлия, выслушав рассказ о неудаче Владычина с женитьбой. — Почему не женитесь сейчас?
— Не знаю, Юлия Павловна, не знаю, — ответил он. — Я не искал объяснений этому. Когда меня спрашивают, отвечаю обычно: некогда, времени нет. Но дело, очевидно, глубже. Ведь надо встретить такого человека, который бы не тяготился той жизнью, какая у него будет со мной. Он приобретет одни неприятности — вечное ожидание с утра до ночи. И что получится? Получится раздражение. Сначала одностороннее — с ее стороны. Затем и обоюдное. Пойдет глухая домашняя война. Мама будет, полагаю, на моей стороне. Следовательно, жена моя окажется перед лицом превосходящих сил противника и рано или поздно соберет вещички, да и айда бежать от такого счастья.
— Не понимаю, — сказала Юлия. — Вот моя сестра замужем за партийным работником.
— Да, да, знаю. Знаю, что вы хотите сказать.
— Обождите, пусть уж я скажу. Они живут двадцать семь или даже двадцать восемь лет вместе, и войны у них нет. Сестра счастлива с Василием Антоновичем. — Юлия говорила о Соне, о ее счастье и не замечала того, что Сонина жизнь, о которой она совсем недавно отзывалась как о жизни однообразной, тусклой, неинтересной, в эти минуты уже не казалась ей ни однообразной, ни тусклой, она представала перед Юлией жизнью счастливой, интересной, какой Юлия очень бы, очень хотела и для себя.
— Ваша сестра исключение, — ответил Вла-дычин. — Такие на каждом шагу не встречаются. У нее у самой интересное дело, ее интересы не зависят только от интересов мужа, она и свое может внести в дом. И вообще она женщина содержательная, с удивительным характером.
Тут Юлии хотелось крикнуть: «С чего вы так принялись хвалить Соню? Есть женщины получше Софии Павловны Денисовой, в которой, по правде-то говоря, совсем и нет того, о чем вы так вдохновенно декламируете. Оглянитесь вокруг, всмотритесь повнимательней». Но она промолчала.
Пароход остановился у Скита. Через полтора часа он пойдет обратно. До того времени можно погулять по берегу, в таинственном мраке, под старыми коряжистыми, ощипанными озерными ветрами, двухобхватными соснами.
Юлия оступилась среди этих сосен, вскрикнула, Владычин поймал ее за локоть. Она замерла на миг, чувствуя его крепкую руку, ждала, ждала чего-то, ждала с бьющимся, взволнованным сердцем. Но рука отпустила локоть. Шли вдоль берега, по плотному накрытому озером песку, спотыкались о корни, толстые и змеистые, выползшие из береговой толщи почти к самой воде. Было пустынно, тихо, только плескалась отсвечивающая на изгибах вода да с однообразной настойчивостью скрипели где-то уключины.
Возможно, что уже надо было возвращаться к пристани, к пароходу. Но Юлия все шла вперед и вперед, не отдавая себе отчета — куда, зачем и почему. Покорно шел следом и Владычин. И только, когда далеко, очень далеко позади пароход дал первый гудок, предупреждавший о скором отплытии, он спокойно сказал:
— Юлия Павловна, а мы опоздали.
— Это вас очень беспокоит, Игорь Владимирович?
— Меня? Нисколько. Я же вам сказал, что вечер в пединституте перенесли на завтра. Я свободен.
В конце концов она стала зябнуть. Он сказал:
— Хорошо, что я под пиджак надел этот джемпер да захватил этот плащ. Какая комбинация вас больше устроит: пиджак с джемпером или джемпер с плащом? Можно еще плащ с пиджаком.
— Решайте сами, — ответила она устало.
Он надел на нее снятый с себя джемпер. Джемпер еще хранил тепло хозяина. Юлия улыбнулась в темноте. Он надел на нее и плащ, который нёс в руке; старательно застегнул все пуговицы. Сам остался в пиджаке.
— А вам не будет холодно? — спросила Юлия.
— Холодно, возможно, и будет. Но я не простужусь, Юлия Павловна, не беспокойтесь, пожалуйста. Как все тупицы, я по утрам делаю физзарядку и обтираюсь водой из-под крана. Ну так, — сказал он серьезно. — Следующий пароход, как гласит расписание, будет только около шести утра. Следовательно, надо искать пристанище. Пошли, Юлия Павловна.
— Куда?
— Не знаю. Куда-нибудь. Где-то здесь рыбацкая деревушка должна быть.
Они месили песок меж соснами. Они натыкались на сосны. В конце концов, когда Юлия уже еле передвигала ноги, вышли к такому месту, где над озерным берегом господствовал обрывистый высокий холм. На холме стояла деревня — чёрные силуэты крыш вычерчивались на фоне синего звездного неба. Под обрывом, на берегу, чернели перевернутые днищами кверху большие рыбацкие лодки. К самому подножью обрыва теснились приземистые строения неизвестного назначения.
— Нам повезло, — сказал Владычин. — Это бани, Юлия Павловна. В них и моются, и сети коптят. Чтобы не гнили. Давайте зайдем в любую.
Скрипнула тяжелая дверь из толстых плотных тесин, из черного густого мрака ударило теплом и вкусным запахом того дыма, которым пахнет копченая рыба. Владычин вошел первым, долго копался и шуршал чем-то в таинственной избушке. Потом он взял за руку Юлию, повел в темноту, предупреждая, чтобы она шла осторожно, а то можно стукнуться головой о балку.
— Щупайте тут руками, — сказал он, подталкивая ее к чему-то. — Что нащупали?
— Что-то мягкое. Какие-то нитки.
— Это сети. Я их настелил для вас на полке, на котором моются. Он сухой и чистый. И сети чистые. Устраивайтесь на них и спите.
— А вы? — Юлия боялась, как бы он не застеснялся и не ушел куда-нибудь. Одной тут будет безумно страшно.
— А я рядом. Я себе тоже сейчас устрою ложе. Дверь, конечно, закроем. Тут щеколда есть, А то чего доброго медведь зайдет.
— Медведь? Как смешно! — Юлия скинула плащ и улеглась на сетях. Ноги у нее горели от усталости. Она хотела еще сказать, что ей очень хочется есть, но не успела сказать — уснула.
Проснулась Юлия оттого, что прямо в лицо светило солнце — тонкий и длинный луч, пробившийся в щель над дверью. Дома в таком луче толкутся медленные пылинки. Здесь он был чистый и ясный.
Юлия не сразу поняла, где она и что с ней. Низко над головой висел черный, прокопченный потолок с толстыми черными балками. Стены были бревенчатые и тоже черные. В углу сложена печка, похожая на грубый камин, в ней груда больших круглых булыжников. И всюду сети, сети, сети, какие-то обручи. Сама она тоже лежит среди груды сетей, раскинутых на широком полке из чистых желтых, до блеска выскобленных досок. И тут же, тоже на сетях, спит он, он, Игорь Владимирович. Спит тихо, по-ребячьи, подобно Павлушке, подложив руку под щеку. Может быть, ему было холодно ночью? Она-то укрылась его плащом. А у него была только путаница сетей, он утонул в них до пояса.
Юлии нестерпимо захотелось потянуться к нему, поцеловать его в закрытые, спящие глаза. Вот же он рядом, совсем рядом, возле. Ну почему этого нельзя; почему?
Но почему-то все-таки было нельзя. Она долго всматривалась в его лицо. Затем тихо поднялась, взяла с полу туфли и, не надевая их, пошла к дверям. Стараясь делать все, как можно тише, откинула щеколду и, вновь прикрыв за собой дверь, выскользнула на воздух. Воздух был свежий, озеро шумело, солнце поднялось над ним довольно высоко. Юлия взглянула на часы, но они остановились — забыла завести с вечера.
Лодок на берегу было совсем мало. Где-то далеко в озере они мелькали черными точками. Хорошо, что рыбакам перед выходом на лов не понадобилось заходить в избушку. Вот было бы дело: неожиданные ночлежники!
Юлия сняла чулки и вошла, в воду. Вода была холодная. Но она все же вымыла руки, освежила лицо. Не было зеркальца, чтобы выяснить, как выглядит она после необычной ночевки. Расчесала пальцами волосы, вновь надела чулки и туфли, вернуласв в избушку. Владычин все еще спал. Подошла, нагнулась над ним, стараясь на его часах увидеть, сколько же времени. Он открыл глаза.
— В чем дело? — сказал строго. Но тотчас веб понял. — Юлия Павловна! — воскликнул. — С добрым утром! — Взглянул на часы. — Стоят, черти! Забыл завести, должно быть. Ну конечно!
Юлия вновь испытала неудержимое желание обнять его, прижаться, к нему. Ведь это все так близко, так близко. Ну что ей мешает, что?
Владычин поднялся со своего ложа. На щеке его, на виске были отпечатаны ячеи и узелки сетей. Юлия засмеялась, попробовала разгладить отпечатки пальцем. Но они отошли лишь тогда, когда и Владычин умылся студеной озерной водой.
На первый пароход они опоздали и вернулись в город только к часу дня. Никто в этот день в Свердловском райкоме не знал, куда запропастился, такой всегда точный, первый секретарь. На звонки по телефону дисциплинированная секретарша отвечала: «Товарищ Владычин задерживается. Позвоните позже».
Юлия пришла в пустой дом и сразу же кинулась к зеркалу. Ей казалось, что она выглядит неважно. Но нет, лицо свежее, губы и без краски более или менее ничего. Только уж очень трепаная. И очень хотелось есть.
Она поставила чайник на плиту, достала из холодильника припасы, сидела на кухне, ела бутерброды, запивала чаем. Ей предстоял не очень-то приятный вечерок. Она ясно представляла себе подчеркнутое безразличие Сони, слышала многозначительное покашливание Василия Антоновича. Как ни крутись, а объяснять ночное отсутствие придется. И правду не скажешь, и первой попавшейся чушью не отделаешься. Ох, трудно. Лучше уж прийти как можно позже, когда они будут спать. Все-таки не сегодня, а завтра состоится этот разговор. Может быть, к завтраму острота немножко пройдет?
46
Баксанов оставил свой помятый «москвичишко» во дворе гостиницы, под навесом. Двойной номер ему и поэту Залесскому был уже приготовлен, — они звонили об этом заранее из Старгорода.
Ответственный секретарь старгородского отделения Союза писателей и его заместитель приехали в Высокогорск для того, чтобы встретиться с Птушковым. Писательскую организацию волновал и беспокоил поступок молодого поэта. Уроженец Старгорода, всю свою, пока что, правда, недолгую, жизнь проживший в Старгороде, учившийся в Старгороде, начавший писать в Старгороде, — почему он удрал в Высокогорск? «Древний сказ»? Но ведь это же дело его совести. Если он считает для себя возможным сочинять такие сочинения, то его за это не Накажешь, с ним лишь можно говорить об этом, увещевать его, взывать к его сознанию. Неужели же он испугался разговора о себе, о своем творчестве на правлении?
Или, отлично понимая, какую мерзость сочинил, он боится действий против него более суровых, чем разговоры и увещевания? Это еще хуже. И тем более в этом необходимо разобраться.
Огнев отговаривал от поездки. Нечего, мол, выяснять: уехал человек и уехал, пусть себе живет где знает; до чего же вы, дескать, товарищи дорогие, кровожадные, — не сумели воспитать юношу, а теперь жить ему не даете спокойно. Это ваша недоработка, ваш промах; не умеете смотреть широко, смотрите узко, по-групповому, по-сектантски.
Но Василий Антонович одобрил. «Правильно, — сказал он Баксанову и Залесскому, — совершенно правильно. Разберитесь поосновательней. Не думаю, что он удрал из-за опасений, так сказать, мести с нашей стороны. Может быть, ему просто стыдно и перед теми, кого он оболгал, и перед своими товарищами. Что ж, надо помочь молодому человеку преодолеть стыд, помочь вернуться к людям».
Номер, в который вошли старгородцы, был довольно большой и светлый, обставленный разнокалиберной, разностильной мебелью. Пожилая уборщица меняла белье на постелях. Общительный Баксанов, никогда не упускавший случая побеседовать с незнакомыми, случайно встреченными людьми, начал расспрашивать ее о жизни.
— А чего жизнь? — отвечала женщина, взбивая подушки. — Жизнь как жизнь. Живем.
Разговориться с нею было нелегко. Но старый газетчик умел расшевелить и самых каменных, самых молчаливых; мало-помалу разговор оживился.
— До нынешнего года, граждане дорогие, жили мы — всего вволю. Процветали, словом. — Уборщица прислонилась спиной к холодной кафельной печке, которая после того, как было оборудовано центральное отопление, стояла в номере для декорации. — Наша область при царях-то была бедная, в лаптях ходила, хлеб наполовину с половой пекла, овсяным киселем по большим праздникам лакомилась. Да и при советской власти не сразу на ноги встала. Долго у крестьянина жилы трещали от натуги, покудова на ноги прочно поднялся: война мешала, всякие неуправки. Поднялся, однако, выдюжил. До прошлого года все в гору, на подъем шло. На базар выйдешь — чего душа желает. Мяса? Всякого! И говядина, и свинина, и баранина. Курей? Полны возы. Гусей, уток… — тоже не сочтешь. Молока, масла, творогу, сметаны… — Она только рукой махнула от явной досады. — Пойди ныне, — сказала, — сходи на базар-то!.. Шиш там найдешь. А что и найдешь — не купишь. Тройную цену дерут.
— В чем все-таки дело, в чем? — полюбопытствовал Залесский, поправляя пенсне. — Что случилось? Неурожай, может быть?
— А кто его знает! Не моего, бабьего, ума дело. Брат мой родной, Степан Савельевич, он письмо в верха — полную жалобу про непорядки всякие написал. Так что? Возвернулась бумага. И куда? К ним же, к начальникам нашим. Разберитесь, мол. Они и разобрались! Дали выговор Степану за то, что он кляузник, клеветник, и еще предупреждение предупредили, чтобы помалкивал, а не то…
Баксанов вспоминал ночь в охотничьем доме Артамонова, вспоминал насмешливые, грубые ночные разговоры секретаря Высокогорского обкома по телефону, вспоминал весь облик, все повадки этого властного человека. Не верилось, чтобы мог он промахнуться в чем-либо, ошибиться. Это человек неизменной удачи, человек успеха, человек, умеющий все, не останавливающийся ни перед чем.
— Все будет хорошо, — сказал Баксанов, — все разберется, все уладится. Мало ли какие трудности случаются.
— Ну-ну, — ответила уборщица, направляясь к двери. — Дай-то бог. Кипятку принести? Или в столовую спуститесь?
Адрес Птушкова у них был — еще из Стар-города запросили Высокогорский адресный стол. Не спеша шли по улицам старинного города, держа путь к Суворовской площади; отыскали дом, который им был нужен, — хороший дом, красивый, с ажурными балконами; поднялись по лестнице на четвертый этаж, нажали кнопку звонка в ту квартиру, где должен был жить Птушков.
Дверь отворила молоденькая девушка с высокой причудливой прической, тоненькая, стройная, на очень высоких каблучках.
— Нам нужен товарищ Птушков, — сказал Баксанов, приподымая старую кепку, на своей круглой лысой голове.
— А вы, извините, пожалуйста, кто? — спросила девушка не очень смело.
— Мы его товарищи по оружию, — ответил Баксанов.
— Заходите, — сказала она. — Я сейчас… Они вошли в прихожую, девушка скрылась.
Вместо нее появился Птушков.
— Что вам надо, ну что? — сказал он раздраженно, узнав, кто его посетители. — Я к вам не лезу, я к вам непристаю.
— И мы к вам, Витя, не пристаем, — сбрасывая пыльник, ответил Баксанов миролюбиво. — Мы просто хотим кое о чем побеседовать, кое-что выяснить. И только.
Квартира у Птушкова была отличная: две большие комнаты, просторная передняя, широкий коридор.
— Чудесно, чудесно вы устроились, Виталий. — Залесский оглядывал полупустые комнаты. — Обзаведетесь мебелью — дворец будет.
Птушков пригласил их к столу, из тумбочки, до лучших времен заменявшей шкаф, вытащил бутылку водки, принес колбасы на тарелке, хлеба, перестоявших, пустых внутри, соленых огурцов.
— А где же хозяйка? — спросил Баксанов, оглядываясь.
— Это не хозяйка, — ответил Птушков. — Это так. Приходит. Присматривает.
— Почему вы сбежали? Не можете объяснить? — спросил неожиданно Залесский. — Вы член нашей писательской организации, и нас всех это волнует.
— Я мог бы не отвечать на ваши вопросы, — сказал Птушков. — Даже на судебных допросах человек имеет право или отвечать, или не отвечать. Но я отвечу: потому, что я свободней гражданин и живу там, где мне больше нравится. Меня угнетала старгородская атмосфера, где тебя все считают нужным воспитывать. Здесь я воспитываю, я, понятно? Издательство, альманах, газеты, радио — все здесь к услугам талантливых людей. Пиши, выступай. Тебе только благодарны. Вот квартира, — вам она, вижу, нравится. Разве я получил бы такую в Старгороде? Там пошла бы возня с горсоветом, райсоветом, с какими-то стариками и старухами, которые определяют, как и где тебе жить, сколько квадратных метров площади тебе полагается. Здесь Артамонов приказал — и вот живу.
— И все? — спросил Баксанов.
— Нет, не все. Я никогда в жизни не видел живого Денисова ближе, чем за двадцать метров. И никогда бы не увидел. Артамонов меня приглашает домой, приглашает на охоту, приглашает в поездки по колхозам, по совхозам. Это школа, видишь стиль настоящего руководителя.
— Дорогой мой, — сказал Залесский. — Вы рассуждали, бывало, иначе. О мире чувств. И вдруг: стиль руководителя, колхозы, совхозы, школа!.. Какая метаморфоза.
— Вы сочинили гимн, который тошно слушать, — добавил Баксанов.
— Прежде всего это не гимн, не надо выдумывать! — почти крикнул Птушков. — Это песня. Народная песня. Ну и что? Вы сочиняете свои колхозные романы и интеллигентские поэмы, — я к вам с ними не вяжусь.
— Ну, это как сказать, не вяжусь. — Баксанов повернулся на стуле, стул затрещал. — Вы случая не упускали, чтобы не посмеяться над нашими, как вы называете, навозно-фекальными проблемами. Вам бы дать властишку, всех бы инакомыслящих в ступе истолкли. Может быть, за ней, за властишкой, вы сюда и прибежали? Может быть, во имя все ее же, многотрудной, но заманчивой, вы, наступая на горло собственной песне, и гимны эти сочиняете? Оглянулись бы лучше вокруг, что в области происходит!
— Я не аграрник, — высокомерно ответил Птушков.
Ушли, оба огорченные, расстроенные. Нет, не от стыда и не от страха бежал в Высокогорск этот человек. Старгородская почва была для него камениста, на ней плохо всходили и прививались семена его поэзии. В Высокогорске почва для этого была жирнее.
Они сходили в театр, посмотрели пьесу местного драматурга, написанную на высокогорском материале. Пьеса была о простых колхозных тружениках, о их труде и любви, но была написана так, что хотя и без особого нажима, а все же прославляла местное руководство.
— Когда подымают тему вождизма, неизбежно, хочешь ты этого или не хочешь, сама собою смазывается тема партии, — сказал Баксанов. — Партия и вождизм, культ личности органически несовместимы и противоречат друг другу.
Переночевали в гостинице, сходили рано утречком на базар, собственными глазами убедились в том, о чем им вчера говорила уборщица. Базар был скудный и дорогой. Залесский, правда, сказал, что, дескать, в мае — июне всегда плохо с мясом: скот ведь, кажется, только осенью да зимой режут, и цыплят-де по осени считают.
— Ну, а молоко-то, молоко, — ответил Бак-санов. — Ему-то сейчас самое время. И куры должны бы нестись вовсю.
Обратно ехали неторопливо, останавливались в селениях, заводили разговоры с колхозниками.
В большом селении Лобаново, граничившем со Старгородчиной, зашли в райком партии, рассказали секретарю о своих впечатлениях. Он сначала мялся, но, узнав, что перед ним писатели, и в том числе Баксанов, книги которого секретарь хорошо знал, разговорился:
— Я человек дисциплинированный. Партийную и государственную дисциплину понимаю. Но дисциплина — дисциплиной, а со многим, что у нас делается, согласиться не могу. Область отрапортовала о продаже государству мяса в размере трех годовых планов, как известно, в декабре, полгода назад. Так вот, по сей день сдаем его, это мясо. Проданными в прошлом году считаются даже телята, которые еще только должны появиться на свет божий. Кому такое надо? Кого мы обманываем? Хорошо, если только себя. А если государство, если партию?.. Тогда гнать нас всех отсюда поганой метлой. Правда, народ у нас уже не тот, что был во времена «Поднятой целины». Народ вырос, народ грамотный. Даже при таком нелегком положении люди не сдаются. И планы есть, перевыполняют, и удобрений раздобыли — торф всю зиму возили на поля, и на разведение водоплавающей птицы поднажали, благо озер и рек у нас достаточно, — сдавали больше утиным да гусиным мясом, — коров, телят поберегли. Не будь этих героев, не знаю, что и было бы.
— А вы перед своим обкомом ставили вопрос? — спросил Баксанов.
— Ставили. — Секретарь досадливо покачал головой. — Мы за эти вопросы с председателем райисполкома уже по два выговора огребли. На третий раз нас погонят.
— Но вы же коммунисты.
Он только руками развел в ответ. Потом сказал:
— И Артамонов не беспартийный. Он член ЦК. Он депутат Верховного Совета. Он Герой Социалистического Труда. Кому веры больше — нам или ему? — Секретарь увидел что-то за окном, поднялся из-за стола, сказал: — Видите, там ящики с маслом с машины на машину перекладывают? Пойдите полюбопытствуйте, что это за груз и куда едет. Вам интересно будет.
Вышли втроем на улицу, подошли к грузовикам. Баксанов принялся расспрашивать насчет ящиков с маслом. Выяснилась и в самом деле до крайности любопытная история. Масло было куплено высокогорскими колхозами в лавках и магазинах Старгородской области и предназначалось к продаже государству от имени этих колхозов, от имени высокогорцев.
— Не понимаю, — сказал Залесский. — Ни черта не понимаю.
— А мы уже научились понимать, — пояснил ему один из колхозников. — К примеру, наш колхоз… Я председатель колхоза… Колхоз должен продать столько-то тонн молока. Но у нас его нет, скот извели, так? Нам разрешают заменять это молоко маслом. Считаем, что в молоке, скажем, три процента жирности. Значит, что? Значит, из ста килограммов молока должно получиться три килограмма масла, из тонны — тридцать килограммов. Вот и покупаем против каждой тонны по тридцати этих килограммов. Покупаем у государства, в старгородских магазинах, по одной цене, по более, понятно, высокой. Продаем опять же государству. Но по цене уже иной, пониже. Разница из нашего, колхозного, кармана. Так и живем.
— А вы писали об этом куда-нибудь?
— Каждый день пишем. Что в мусорный ящик. Ни ответа, ни привета.
Распрощались, пересекли границу областей, принялись останавливаться в селениях Старгород-чины. Нет, здесь такого не было. Три раза в день, спокойно и мирно, здесь доили коров и отправляли на молокозаводы натуральное, доброе молоко. Здесь на солнечном майском припеке паслись веселые косяки пестрых — черных с белым и рыжих — телят. Широкими лемехами многокорпусных тракторных плугов запахивали в созревшую почву тысячи тонн собранного за зиму навоза. Сеяли, бороновали, сажали. Здесь была другая, спокойная, творческая жизнь людей, уверенных в своем завтрашнем дне.
— А вы не знаете, Евгений Осипович, — спросил Залесский, — сколько мяса продала государству Старгородская область в прошлом году?
— Как же не знаю? Конечно, знаю. Полтора годовых плана. Вам в тоннах надо?
— Нет, именно относительно к годовому плану. А почему полтора, а не больше?
— Потому что и полтора — это очень много. Это тоже потребовало немалых усилий. Но важно ведь удержаться на разумном пределе. Иной раз, чтобы не отстать от других, так и подмывает брякнуть что-нибудь, что выполнить тебе и не по силам. Надо удержаться, надо. Возможно, что Артамонову не давали покоя лавры южан, хлеборобов Кубани, Сибири, Украины. Там много передовиков, героев… Ну и вот, не учел чего-то. А чего именно?.. Того, что и почвы у нас не те, и солнце не то, и повышения урожайности, продуктивности всего сельского хозяйства мы, в нашей полосе страны, должны добиваться не рывками, не этакими фейерверками и фестивалями, а упорным, планомерным, кропотливым, не очень-то эффектным с виду трудом. У нас не получится так, как в черноземных областях: сунул в землю оглоблю — вырастет тарантас. Нам эту землю обрабатывать и обрабатывать, удобрять и удобрять, и не оглоблю сажать, а зерно, отборное, проверенное, высокоурожайное. Да, ухаживать за ним и ухаживать…
— Если мы с вами честные люди, Евгений Осипович, — сказал Залесский, — мы должны в это дело вмешаться.
— Мы и вмешаемся. Мы пойдем в наш обком. У нас в области тоже есть кандидат в члены ЦК. Мы пойдем к Василию Антоновичу и все, что видели, все, что слышали, расскажем ему. Согласны?
47
Ребят отправляли в разукрашенных флажками автобусах. Ребятишки тоже были принаряжены. Вокруг толпились беспокойные, шумные мамы, щедро раздававшие своим чадам всевозможнейшие наставления, среди которых были и такие: «Не подходи близко к коровам», «Не пей сырой воды» и даже: «Не смей есть землю». Все наставления начинались, конечно, с частицы «не». Что их чада должны делать, мамы не очень знали; но они отлично знали все, чего те не должны были делать.
Провожали своих Юриков, Славочек, Таточек и Диночек и папы, благо день был нерабочий — воскресенье. Папы стояли в сторонке, группками, курили, разговаривали, то и дело позабывая, с какой целью они собрались спозаранку возле комби-натовского детского садика. Лишь энергичные мамы нет-нет да и возвращали их к действительности. «Михаил! Ведь Славик уезжает, учти. Ты не увидишь его все лето. Может быть, обратишь хоть какое-нибудь внимание на ребенка?» — во всеуслышание говорила не без яда одна. Подойдя и толкнув плечом, другая шептала с грозным присвистом: «У Таточки полны глазки слез. А ты тут анекдотами развлекаешься. Стыдись!» Третья, не собиравшаяся идти в драматические актрисы, попросту подводила своего Вовика за ручку, говорила весело, нараспев: «А вот наш папка! Обними его, сыночек. Вот так, так, еще крепче. Мы с папкой к тебе будем часто-часто приезжать. Хочешь?»
Но черноокая могучая заведующая детским садиком была на этот счет — насчет частых приездов родителей — совсем иного мнения.
— Товарищи родители, — предупреждала она, — мы установим родительский день. Будет это раз или два в месяц, не чаще. Дети очень возбуждаются в такие дни, у них взвинчиваются нервы. Особенно, когда к одним приедут, к другим нет. Потом целую неделю приходится приводить их в себя. А кроме того, вы хоть и взрослые, а хуже маленьких. Непременно натащите всякой снеди. У ребят после ваших посещений животики болят. Пусть уж и они отдыхают, и вы отдохните без них. Ничего ни с кем не случится, можете быть спокойны. Едут самые лучшие няни, — вы их знаете. Едет доктор, Раиса Ивановна, вы ее знаете. Чего вам еще надо?
В стороне — и не с папами, и не с мамами, потому что он был одновременно и папой и мамой, — стоял Александр. Павлушка носился с ребятишками, а София Павловна то разговаривала с заведующей, то с врачом Раисой Ивановной, то с нянями. Александр был и доволен тем, что уедет это беспокойное существо, с которым он не мало повозился за прошедший год, и в то же время ему было грустно от мысли, что Павлушки не будет с ним целое лето. Год жизни внес большие изменения в Павлушкино сознание. Мало того что мальчишка вырос на целых девять сантиметров и что отмечено красным карандашом на косяке двери из столовой в кабинет, — он просто повзрослел, он знает буквы, умеет считать, он поет песни, рисует. Это уже совсем взрослый парнище. Его не надо вносить в автобус на руках. Он сам отлично взбирается по ступеням. У него даже свои вкусы начинают проявляться. София Павловна хотела повязать ему бант из широкой шелковой ленты. Категорически отказалря. Я, говорит, не девчонка. Вот так. И бархатные штаны не надену, — давайте синие трусики, как у октябрят.
— Здравствуйте, Александр Васильевич! — услышал он знакомый голос, и кто-то коснулся его руки. Конечно же это была она, Майя. — Я тоже встала пораньше, — сказала она. — Может быть, вам надо помочь, подумала. А я валяюсь в постели, как лентяйка.
Столько доброты было в голубых Майиных глазах, столько чего-то уже очень-очень близкого ему, узнанного, необходимого, что Александр схватил ее теплые, мягкие руки, крепко сжал их.
— Это очень хорошо, Майя, что вы пришли. Очень. Помогать не надо: Тут моя мама, видите? И вообще. Но все равно — хорошо, хорошо.
Он не знал, почему это так уж хорошо. Но это действительно было хорошо. Они ведь уже дивно друзья с Майей. Это давно все видят и знают о цехе. В цехе не мало поводов каждый день, чтобы то Майя шла за советом к товарищу Денисову, то товарищ Денисов шел к Майе. И если товарищ Денисов не сразу знает, что ответить по тому или иному поводу, то о Майе Сиберг этого не скажешь. Прежде всего она считает, надо присесть и все хорошо обдумать. И когда она думает, на голубые глаза ее набегают тучки, глаза темнеют на какое-то время, на переносье возникает морщинка, а веселые ямочки на щеках сглаживаются. «Вот так! — вдруг говорит она, и все тучи в сторону, глаза вспыхивают радостной голубизной, ямочки вновь на месте. — Я думаю, что надо сделать так…» — И идет обстоятельный рассказ о том, что она надумала.
Поднялась страшная шумиха, толчея. Ребят стали сажать в автобусы. В общем гуле без следа растворились последние, самые важные наставления мамаш. Папаши из отдаления уже махали руками. Но автобусы с ребятами еще простояли минут пятнадцать: няньки, сестры, заведующая все еще бегали от них к дверям детского сада, от дверей к автобусам, — что-то, оказывается, позабыли, о чем-то не позаботились. Пока наконец председатель завкома не взял бразды правления в свои многоопытные руки.
— Ну вот что, товарищи персонал! — сказал он. — Давайте-ка и вы на свои места, да отчаливайте. А то до завтра не соберетесь. Что позабыли, пришлем после. По коням! — Он показал рукой шоферу головного автобуса. — Трогай! — и автобусы, заревев, медленно пошли по улице. Мамы, которые помоложе, еще бежали рядом с ними, потом и они отстали, и вся растянувшаяся толпа дружно махала вслед набиравшим скорость машинам. Кто нахмурился, кто всплакнул сквозь улыбку. Ну, а как же? — дети же, радость жизни; беспокойная радость, тревожная, но великая радость человека, его надежда, его богатство, его будущее. Чего не наговорят родители детям своим в сердцах, в какую-нибудь трудную жизненную минуту, но и чего они не сделают, чтобы защитить их в минуту опасности. Вчера, может быть, эти мамы и папы рассуждали о том, как хорошо будет пожить без ребятишек пару месяцев, отдохнуть. А сегодня они готовы мчаться за автобусом и вернуть, вернуть назад, домой, своих Вовиков, Славиков и Таточек, без которых вдруг таким тоскливым и пасмурным стал этот воскресный нерадостный день. Ну что, придешь сейчас в пустой дом, что там делать одним, чуда броситься, чем заняться?.. И машут, машут растерянные люди, хотя даже дымок от автобусов уже развеяло утренним ветерком.
В конце концов возле заборчика детского сада остались только Александр, София Павловна и Майя.
— Вот Майя, мама, — сказал Александр.
— Да, да, Шурик, мы уже здоровались, — ответила София Павловна, как всегда удивляясь цвету волос этой девушки, цвету ее глаз, ее мягким движениям. — Знаете что, — сказала она, подумав. — Зови, Шурик, Майю к нам. Мы же, в сущности, не завтракали. Будем вместе завтракать. Поехали, Майечка! Сегодня воскресенье.
— Да, конечно, — ответила Майя просто. — Мне сегодня можно гулять. Вся семья сестры дома.
Возле дома Денисовых Майя купила у старушки несколько букетиков полевых цветов.
— Я очень люблю цветы, — сказала она краснея. — Их надо поставить в маленькие вазочки. Это красиво.
Цветы поставили на столе в маленькие вазочки, и это, действительно, было очень красиво: перед каждым по два, по три цветочка. Вазочек, правда, столько не оказалось, поставили в хрустальные стопки. Майя сказала, что это ничего, это все равно можно.
Юлия, готовившая завтрак, одобрила Майин вкус. Василий Антонович начал разговор с Майей о делах в бригаде коммунистического труда. Майя сказала:
— Вам разве Александр Васильевич не рассказал, что у нас теперь не только бригада и не только участок, а весь цех борется за звание цеха коммунистического труда?
— Мы с Александром Васильевичем редко видимся, — ответил Василий Антонович с улыбкой.
Разговор за столом шел весело, настроение у всех было хорошее. Говорили о Павлушке, как-то он там сегодня вечером без своего папаши уляжется спать. София Павловна сказала, что дача для детского сада у химкомбината отличная, — она туда специально съездила несколько дней назад. В сухом бору, недалеко озеро с отлогими берегами, с песчаным дном: можно уйти хоть на десять метров от берега — и все будет по колено. А это же очень важно, когда нет обрывов и подводных ям. Юлия рассказывала смешные теат ральные истории. Ее радовало то, что ни Соня, ни Василий Антонович не вязались с вопросами, где она пропадала в ту чудесную ночь, так романтически проведенную с Владычиным в коптильне для рыболовных сетей. Что там пирамиды Египта, таинственные мертвые храмы и города в джунглях Индии или Семирамидины висячие сады, о которых она так мечтала! Все они тускнеют перед той избушкой из волшебной русской сказки. Юлия напрасно страшилась неприятных разговоров с сестрой и с ее мужем. Прошло уже более недели, но они так ни о чем и не спрашивают. Неужели не заметили ее отсутствия. Все может быть. Легли спать, потом встали, уехали на работу. Какое им дело до нее. С чего они будут о ней беспокоиться, волноваться? У них своя жизнь, у нее своя, иная, совсем не похожая на ту, какой живут они.
Но она ошибалась. София Павловна трижды вставала с постели в ту ночь, заходила в ее комнату, посмотреть — не вернулась ли. София Павловна всю ночь не спала, прислушивалась к шумам и стукам на улице, на лестнице. Она не дала спать и Василию Антоновичу, то и дело порываясь пойти к телефону и позвонить в милицию. Мало ли что могло случиться. Могли машиной сбить на ночной улице, могли ударить ножом какие-нибудь мерзавцы, — и такое же еще случается, — могли обобрать, раздеть. Василий Антонович тоже не был спокоен, София Павловна это отлично видела. Он курил в темноте, покашливал, ворочался. Но он не о разбойниках думал и не о грабителях, что его в известной мере и успокаивало. Тридцать два года женщине, — как свидетельствуют все классики, — мучительный возраст для одиночества. «Соня, Соня, — сказал он со вздохом, — в конце-то концов это ее личное дело — распоряжаться собой». — «Ты опять об этом! — Соня догадалась, о чем он. — Если ты считаешь ее такой, взялся бы и перевоспитал. Ты же воспитатель, ты партийный руководитель, ты воспитываешь тысячи людей. Ну воспитай, воспитай одну женщину!» — «А разве я не пытался делать это, Соня? Разве я не возился с ней столько лет в Ленинграде? Ты несправедлива». — «Пытался, а вот ничего и не добился». — «Значит, или я не способен на это, Соня, или она трудновоспитуемая, твоя сестричка. И вообще я не могу везде и всюду быть воспитателем. Дай хоть дома-то мне не быть им. Я не из железобетона, и зря этот поэт, который пишет оды Артамонову, называл меня в свое время железобетонным и цельносварным».
Они так и не дождались ее к утру. Днем София Павловна заехала домой. Юлия прибирала в квартире. София Павловна сделала такой вид, будто бы что-то позабыла. Но Юлия поняла: беспокоится, примчалась посмотреть, вернулась она или нет, и почувствовала, как душа ее переполняется благодарностью Соне.
София Павловна ни о чем не опросила. Юлия ни о чем не стала рассказывать. Так все и обошлось. Но самое-то главное, самое главное, что произошло! Владычин позвонил назавтра к вечеру сам; сам позвонил, чего еще не случалось, и спросил, как она себя чувствует, не простудилась ли, не переутомилась. Правда, с тех пор звонка все нет и нет, но он все же был, все же Владычин вспомнил о ней. Ах, как чудесно было тогда в той черной, прокопченной избушке, за стенами которой так успокаивающе, так величаво шумело озеро, будто рассказывало старинную былину о давно минувших временах.
После завтрака упросили Майю спеть. Она села к пианино и пела на эстонском, потом на русском.
— У меня нет школы, — сказала она. — Я пою по-домашнему.
Может быть, она и правда пела по-домашнему, но это домашнее ее пение трогало Софию Павловну до слез, а Юлию оно уносило вновь на озерный берег, к Владычицу. — Слушайте, — сказал Василий Антонович, когда концерт был окончен, — давайте все махнем куда-нибудь на катере..
— На озеро! — воскликнула Юлия. Василий Антонович пристально посмотрел на нее. Она отвела глаза и смутилась.
— Так, — сказал он с улыбкой. — На озеро, значит, есть предложение. Но, может быть, лучше пройти вверх по Кудесне? Там замечательные места. Там можно ловить удочками. Как, Александр, ты хотел бы поудить рыбешку?
Если Василию Антоновичу почему-то хотелось поехать вверх по реке, никто спорить с ним не стал. Так мало и так редко он отдыхает, так редко отправляется куда-либо не по делам, а просто погулять, да к тому же в этом году он еще и в отпуске не был, — что, перечить ему было бы безбожно. Все принялись собираться, оставив Майю одну в кабинете.
Большой обкомовский белый катер, с застекленной каютой, стоял у пристани речной милиции; дежурный механик спал на нагретой солнцем чистой палубе из плотно пригнанных одна к другой узких желтых, будто полированных досок. Все тут сверкало ярко начищенной медью.
Застучал мотор. Расположились кто где. Василий Антонович с Софией Павловной в каюте, — София Павловна не любила ветра. Юлия рядом с механиком, который был и мотористом и штурвальным одновременно. Она его о чем-то расспрашивала. Он ей давал подержать штурвал, отчего катер начинало водить то вправо, то влево. Александр с Майей сидели на кормовой скамье позади каюты, в заветрии.
Бежали зеленые берега, на них в живописном разбросе рыбачьи селения, сети на кольях, лодки у воды. Василий Антонович спросил у механика, знает ли он, где на Кудесне село Детунь. Механик знал.
— Пожалуйста, причальте в Детуни. Сделаем остановку. Говорят, там очень рыбные места.
Детунь оказалась большим селением, раскинувшимся километра на два вдоль берега. По длинной его улице гуляли веселые компании — разряженные девицы с парнями, пели страдания под гармонь, плясали. Почти перед каждым домом были палисадники с березами, с цветочными клумбами, у каждых ворот стояли скамьи и на скамьях восседали старики в валенках. Почти над всеми крышами вились голуби, почти в каждом окне, меж геранями, сидели коты и кошки — или ярко-рыжие, или дымчато-серые, или черные с белым, и мечтательно щурились на голубиные стаи.
У одной из веселых компаний Василий Антонович спросил, как найти Евдокию Петровну То-ропову.
— А их тут три у нас, — ответили ему, — и все Евдокии, и все Петровны, и все Тороповы.
— Ну вот эту! — Он достал из кармана пиджака газету «Старгородский комсомолец» и, развернув, указал на портрет молодой смеющейся девушки.
— Дуняшку-то! — воскликнули все вокруг и потянулись к газете. Это был воскресный номер, и он до Детуни еще не дошел. — Дуняшка живет там! — Приезжих повели к дому, аккуратно обшитому тесом и окрашенному в небесно-голубой цвет. В палисаднике перед ним цвела сирень, а из раскрытых окон слышались песни.
София Павловна, Юлия и Александр удивлялись, куда их привез Василий Антонович. Дело, оказывается, не в рыбной ловле, и не столько покататься ему вздумалось, сколько навестить эту Дуняшку Торопову, о которой он прочел утром в комсомольской газете.
Оповещенная кем-то, из, дому вышла та, что была сфотографирована для газеты, тоненькая девушка, светловолосая, с веснушками на носу. Увидав приезжих, она застеснялась, раскраснелась. А когда Василий Антонович назвал себя, и вовсе вспыхнула пламенем.
— Ой, я сейчас!.. — Она бегом бросилась в дом.
Один за другим стали выходить оттуда почтенные бородачи и плечистые люди средних лет. Был среди них председатель колхоза, был агроном, был механик по сельхозмашинам, и все, представляясь, называли фамилию: Торопов, Торопов, То-ропов…
Председатель Торопов сказал:
— Прабабкин день рождения празднуем. Девяносто пять лет стукнуло старушке. Полстакана «московской» хватила и поет всякое озорство.
Пошли в дом поздравить старуху. Она сидела в красном углу, под иконой божьей матери, перед которой теплилась лампадка из зеленого стекла.
— Вы уж извините, товарищ Денисов, за образ-то, — сказал механик Торопов. — Для бабки оставили один, на развод… Висит, не мешает.
— Ничего, ничего, — ответил Василий Антонович. — Важно, что у вашей бабушки такие дети замечательные, такие внуки да вот правнучка… Где она, Дуня Торопова? — Он оглянулся вокруг.
— Сбежала. Не привыкла к почету, — сказал председатель Торопов. — Это моя младшая.
— На нее, товарищ Торопов, и приехали посмотреть. Пишут в газете, что по пятьдесят килограммов молока от каждой коровы в день надаивает. Не ошиблись корреспонденты?
— Точно, товарищ Денисов. А то и больше. Взялась по шесть тысяч надоить на фуражную корову. Побьет рекорд Натальи Морошкиной из «Озёр».
Пошли на скотный двор. Он был пуст, — коровы паслись. Стойла сверкали чистотой. София Павловна с Юлией удивлялись: ни запаха, ничего, свежий воздух.
— Отстали вы, милые! — Василий Антонович смеялся. — Вы единоличные хлева помните. Новое, колхозное, хозяйствование вам и не знакомо.
Потом ходили в луга, смотрели коров, черно-белых дородных красавиц. Но где бы ни были, Дуни Тороповой увидеть так больше и не смогли.
О ее работе Василий Антонович принялся расспрашивать председателя, Дуниного отца.
— Третий год работает. Как только окончила десятилетку, так сразу и пошла в доярки. Коров своих лаской берет. Жаль, убежала, такая-сякая. Вы бы увидели: они, коровы-то, за ней, что собачки, ходят. Идут, руки ей лижут. Чуть, понимаете ли, в губы не чмокают. Прямо, как в цирке. Ну, конечно, и уход… Кормежка… Всякое такое. По науке, по книгам. По примеру самых знаменитых доярок. Переписку ведет. Отвечают, книжки ей свои шлют. В одной довоенной книжонке профессор написал: «Корова — это машина для выработки молока». Глупость написал. Никакая она не машина, а живое существо. Она и слово понимает и обращение. Доят их у нас, понятно, уже не руками, а электрическими доильными аппаратами. Но вот приди к Дуняшкиной группе хоть самая распрекрасная доярка — зажмут молоко. Хотя аппарат один и тот же. А приди Дуняшка — рекой оно льется. Как увидят ее, прямо, смотришь, улыбаются… — Заметив улыбку Василия Антоновича, он кашлянул. — Не верите? Что ж, понимаю. А только вот улыбаются, и всё. По глазам видно.
София Павловна с Юлией давно отстали — вернулись к именинному столу бабушки Торопо-вых. Александр с Майей ушли на берег Кудесны. А Василий Антонович все ходил и ходил с колхозниками по полям, по огородам, в сад, на пасеку. Считал, подсчитывал, что колхозу принесет нынешний год. Тут давно отказались от раздачи продукции по трудодням, давно по желанию колхозников перешли на денежную оплату.
— Несуразицы получались, — рассказывал председатель Торопов. — Навезут в дом человеку зерна, капусты, картошки. Бывал такой год — всю избу завалят добром, самим жить негде. Ну и начинается гоньба по базарам — девать-то добро куда-нибудь надо, на деньги-то его перевести. Не съешь же египетскую пирамиду картошки или капусты. Народ, получается, не работает, а торгует. А были такие, что не желали торговать, и точка. У нас, говорят, сознание выросло, сами, мол, так воспитали. А теперь на базар гоните, стой в фартуке у прилавка, да? Как частник. И верно — партийный народ… У нас семьдесят коммунистов в колхозе… Депутаты сельсовета есть, да райсовета… Не к лицу торговлишкой заниматься.
Говорили о планах государственных закупок, о встречных колхозных обязательствах. Василий Антонович помнил тот рассказ, с которым на днях к нему приходили писатели Баксанов и Залесский, съездившие в Высокогорск. Его беспокоила мысль, а нет ли и в Старгородской области мошеннических операций с маслом, втирания очков с мясом. Одно дело — сводки, бумага, которая, как еще в старину заметили, все стерпит. Другое дело — увидеть своими глазами, пощупать собственными руками.
Своим выходным днем он остался доволен. Огорчало только, что не удалось с Дуней, с Евдокией Петровной Тороповой, побеседовать, из-за чего, собственно, и все путешествие было затеяно. Только, когда катер отчалил, направляясь в обратный путь к Старгороду, вновь увидели ее голубое легкое платьице. Выскочила откуда-то, быстрая, живая, стояла на камне на берегу и махала вслед тонкой девчоночьей рукой.
— Вот настоящие-то герои каковы, — сказал Василий Антонович и долгим, раздумчивым взглядом посмотрел на Майю.
От пристани ехали на машине. Завезли Майю домой. Вернулись усталые, надышавшиеся свежего воздуха, загорелые, обветренные. У Софии Павловны и Юлии подкашивались ноги.
— Неудачные туфли надела, — сказала София Павловна.
Почему-то она всегда надевала такую обувь, которая в конце концов оказывалась неудачной, ее неодолимо тянуло к высоким каблукам. Она знала, отлично, знала, что за город, туда, где надо много ходить, лучше на таких каблуках и не ездить. Но ничего поделать с собой не могла. Доставала из шкафа туфли на низком, удобные, примеряла их, решала, что поедет в них, и только в них, а в последнюю минуту оказывалась почему-то все равно в тех, с изящными, но высоченными каблучками.
Юлия была в этот день доброй. Она сказала:
— Да, да, Соньчик, ты перепутала по рассеянности. Ты же другие туфли приготовила.
— Вот именно, вот именно! — София Павловна обрадовалась поддержке. — Все из головы вылетело. Мы так неожиданно собрались.
Из кабинета вышел Александр.
— Мама, это ты сделала?
— Что именно, Шурик?
— Ну иди, посмотри.
К рамке с портретом Сашеньки, который всегда стоял на столе в кабинете, были прикреплены белая ромашка и лиловый колокольчик.
— Нет, Шурик, не я.
— И не я, — добавила Юлия.
— Кто же тогда? — Александр был взволнован.
Василий Антонович посмотрел на эти трогательные полевые цветочки, пошел к окну. Стоя спиной, не оборачиваясь, онсказал:
— Нас сегодня здесь было пятеро, Шурик. Ты обдумай это обстоятельство.
48
В сотне метров внизу, под ногами, была зеленая земля — леса, луга, поля ржи и пшеницы, строчки огородных участков; были бесчисленные реки и речки, болота и озера; узкими серыми лентами, прямыми и стремительными, выстреливали через разнотонную зелень полотнища государственных автомобильных дорог; дороги местного значения петляли вкруг болот, по соснякам и березнякам, никуда не спеша, кружа и кружа, исчезая в оврагах, взбираясь на косогоры и бугры. А были и совсем едва приметные стежки — от села к селу или от села к ближнему лесу, к речному берегу, от околицы до сенного сарая, одиноко дремлющего среди мелкорослых ракит. По одной из таких стежек, — это было хорошо видно сверху, — от села к мелколесью шли — юбка вилась от летнего теплого ветра, плескала по коленям — девчонка на выданье, и с нею рядом, без пиджака, без кепки, в одной майке, руки темные от раннего загара, — парень: может быть, тракторист или шофер с колхозной автомашины. О чем они там говорили? О каких важных проблемах жизни? Доберутся до леска, до молодых сосенок и березок, найдут уютное местечко на еухой песчаной земле меж вересков и брусничника, сядут, он примется жевать травину, листочек или трубку пырея, она — чертить на песке под вересками сосновой веточкой, потерявшей иглы. И пойдет, пойдет разговор, все тревожней, горячей и взволнованней…
Или вон там женщины, забрав подолы юбок за пояса, стоят крепкими белыми ногами посреди речушки, песчаное дно которой видно с неба так ясно, будто не вода течет по нему, а жидкое ясное стекло; стоят в ряд, белье — белое, розовое, голубое плавает вокруг ног — полощут; широкие спины в пестрых кофтах так и ходят от сильных движений. Разговоры у этих совсем поди другие, чем у тех двоих, след которых уже успел простыть средь зеленых лесных островов.
Рокотал мотор вертолета, подрагивал, знобился пол под ногами Василия Антоновича. Василий Антонович смотрел и смотрел через окно на землю. Каких только картинок жизни не увидишь сверху в неторопливом полете на этой удобной, способной где угодно приземляться, чудесной машине, которую ему одолжил на пару дней командующий округом, генерал-полковник Люлько.
Василий Антонович летел в район разведки железорудного месторождения, в дальние, глухие болотистые места, куда автомобилем добираться долго и трудно. Там уже москвичи из геологоразведки, из Академии наук; там в эти дни будет решаться вопрос — быть или не быть Старгород-ской Магнитке.
Удивительное ощущение — лететь над своей областью. В значительно меньшем масштабе она представлена на той карте, что всегда висит на стене в кабинете Василия Антоновича. На карте есть и все эти реки, и все эти леса, все болота. Болота расштрихованы так, будто и в самом деле сквозь бумагу просочилась вода; леса по зеленому фону обозначены елочками или березками — в зависимости от того, хвойные они или лиственные. Есть на карте и прямоугольнички сел, токомпактные, плотные, то растянутые вдоль дорог и речныых берегов. Все есть. Кроме живой жизни. А здесь и карта, знакомая до деталей, и жизнь. Шальным галопом скачут куда-то три конника. Куда? К паромной переправе на реке Остужевой подходит колонна автомашин и самоходных комбайнов. Что за переброска техники? Шесть бульдозеров корчуют осинник, под корень бреют молодые деревья, спихивают их в валы; над валами — густой ды-мище: жгут, должно быть. Кто поднимает там такую целину? Два гусеничных экскаватора стоят на краю огромной желтой ямы, черпают ковшами желтый песок и сыплют его в железные кузова то и дело подъезжающих, все новых и новых самосвалов. Где-то кто-то что-то строит. А где и что?
Когда сидишь в кабинете, то кажется, знаешь абсолютно все, что касается области. Подойдешь к карте, чертишь на ней трассы новых дорог, обводишь кружками места новых поселков, отмечаешь то, перечеркиваешь это. А вот когда земли области второй час в натуре плывут и плывут под ногами, сколько неведомого видишь на них, незнакомого. Только в общих, в главных, направляющих чертах приходит в эти места то, что решается в Старгороде на бюро и на пленумах обкома, на заседаниях исполкома, на сессиях областного Совета. А тут, в «глубинке», тысячи, десятки тысяч инициатив и выдумок развивают, дополняют, поправляют решенное вверху. Здесь могут во много раз больше, чем решается в Старгороде, стоит только искре творчества упасть в способные зажигаться горячие сердца, стоит только смелой мысли коснуться умных, беспокойных голов.
Хорошо думается под гул мотора, вращающего над тобою огромные гибкие лопасти винта, когда вот так, с высоты сотни-другой метров, рассматриваешь живую карту своей области.
Поселок Ленинский на высоком берегу Ло-пати… Много слышал о нем Василий Антонович от Лаврентьева, но так и не добрался до него. Проехали тогда, зимой, с Петром Дементьевичем мимо на машине, взглянули на красивые большие дома, и все. А надо бы, надо побывать. На областном, слете передовиков сельского, хозяйства к Василию Антоновичу подходил беспокойный председатель колхоза из Ленинского, Антон Иванович Сурков, звал в гости, рассказывал о новшествах, вспоминал старое.
Затерянные в лесах «Озёры» открылись неожиданно. Подумал об инженере Лебедеве, о Наталье Морошкиной. Как-то они там живут-поживают? Вспомнил и Соломкина, увлекающегося живописью.
Над каким, бы селением ни шел вертолет, о каждом из них Василий Антонович что-нибудь да знал. О ином меньше, о другом больше, но знал. Вон там, на берегу речушки Марицы, крохотная деревушка Лазари. Откуда взялось такое название, не знал даже царский губернатор прошлого столетия, записки которого Василий Антонович прочел года два назад. Но название свое деревушка оправдывала с удивительным упорством. Было в ней двадцать два двора и около сотни жителей. Избы давно остарели, отрухлявились, стояли на берегу, кривые, кособокие, голые вокруг: ни яблоневого дерева, ни куста смородины возле. Голодали тут при царе, не больно-то разбогатели и после. Когда году в тридцать третьем или в тридцать четвертом, намного позже других, вошли в колхоз, то над названием его не очень ломали головы, назвали: «Красные Лазари», и вся недолга.
В годы существования МТС все земли этих «Красных Лазарей» обрабатывались государственными машинами, задолженности их, денежные и натуральные, ежегодно списывали, как совершенно безнадежные. Чем только не помогали «Лазарям». Никакого толку: в сводках по району, в любых — посевных, уборочных, заготовительских, «Лазари» из года в год неизменно занимали самое последнее место. Когда Василия Антоновича избрали первым секретарем обкома, Лаврентьев ему предложил: давайте вольем этот колхозишко в какой-нибудь соседний. Он-де, Лаврентьев, еще будучи в облисполкоме, ходил с этой идеей, да никто не пожелал поддержать. Вместе с Лаврентьевым раз пять за полтора года приезжали они в «Лазари» и к их соседям. «Лазари»-то соглашались на слияние, но соседей никак было не уговорить на это. Василий Антонович хорошо помнит бесконечные разговоры на колхозных собраниях. Вон там, в Жеребцове, было дело, — даже обозлился. «Богатеи! — говорил им на заседании правления. — Раньше ваши кулаки-мироеды лазаревских мужиков от себя отпихивали. А теперь вы ведете себя ничуть не лучше тех кулаков. Вот так строители коммунизма!» Ему довольно резонно ответили, что в Жеребцове на трудодень приходится по восемнадцати рублей, а у «Лазарей» по сорок копеек. Начнешь с такими среднюю цифру выводить, позиция получится благородная, зато сам без порток останешься. Слили в конце концов в один колхоз «Красная звезда». И хороший получился колхоз. Не только в медицине полезно переливание крови, а вот даже и в экономике. Здоровая кровь одного колхоза возродила к жизни другой. В этом году вообще собираются покончить с Лазарями. Спихнут эти трухлявые избы с обрыва в Матицу и переведут всех на жительство в Жеребцово. Не началась ли уже к этому подготовка? Свежие срубы белеют на жеребцовских околицах.
Или вот Семеновна, с высокой белой колокольней в центре. Тоже мучился колхоз. Много лет заставляли его сеять подсолнечник на силос. Подсолнух родился чахлый, зеленой массы давал мало, земля по сути дела пустовала. А поставки из расчета на каждый гектар все равно поставляй. Бедняли да бедняли помаленьку семеновцы, никакого просвета впереди не видели.
Тоже сиживали на их собраниях вместе с Лаврентьевым, допытывались, чего же хотят люди. А люди хотели одного — во что бы то ни стало отделаться от ненавистного им подсолнуха. «Лучше, говорили, турнепс будем сеять. Турнепс у нас хорошо родится». Дали полную волю колхозным хлеборобам в выборе кормовых культур, посоветовали испытать кукурузу на зеленую массу. Второй год подряд колхоз идет только в гору.
Ничего не получалось из так называемого общего руководства: из указаний по телефону или с помощью письменных инструкций, отпечатанных под копирку на тонкой папиросной бумаге и даже солидно оттиснутых более внушительным, типографским способом. Людям требовалось живое слово, обстоятельный анализ положения, глубокое проникновение в причины неурядиц и отставаний. А причины такие в каждом колхозе были свои, только ему и присущие.
Беспокойная мысль, которая вот уже две недели тревожила Василия Антоновича, вновь возникла сама собою под рокочущий грохот мотора. Вновь он принялся думать о том, что рассказали ему писатели Баксанов и Залесекий, съездившие на машине в Высокогорск. Баксанов рассказал еще и о встрече с Артамоновым на охоте, о ночевке в охотничьем доме, о том, как переманивал Артамонов его в Высокогорск. Значит, и бегство поэта Птушкова не случайность, и переезд Суходолова… Какую-то большую по замыслу, но мелкую по исполнению игру ведет Артамонов. Мало ему, что прославился делами хозяйственными, хотя какая уж слава — скупать скот у соседей да госзакупки по молоку выполнять государственным маслом. Но в конце концов это может быть и временным, вынужденным выходом из временного затруднения. Чего не бывает в сельском хозяйстве! Год на год не приходится. Выйдет из положения Артамонов, он крепкий, настойчивый, со славой своей не расстанется. Пойдет дальше, — в ЦК пойдет… Но вот, значит, хозяйственной славы ему недостаточно. Хочет быть и собирателем культурных сил. Вы-де, недальновидные, узколобые соседи, разбазариваете кадры, бросаетесь ими. А я их собираю, я их воспитываю, я их ращу.
Что же делать, какие предпринять шаги? И предпринимать ли? Разговоры, жалобы, разрозненные факты — достаточно ли их для обобщений, для того, чтобы, как считает Баксанов, обратиться в ЦК? Не окажешься ли в положении мелкого кляузника? Сам не больно герой, — еще сколько неурядиц в области, — а пойдешь разоблачать соседа. Можно навсегда потерять к себе уважение партии. Не честнее ли отправиться к Артамонову да поговорить с ним в открытую; если надо, предложить, и не только предложить, а и оказать посильную помощь. Помогла же Стар-городская область высокогорцам силосом. Потом еще и концентрированными кормами делились. Артамонов звонил, благодарил, был растроган.
Вот ведь как большевики-то должны делать: плечо подставить, а не ножку товарищу. Ну, а охота и звонки по ночам — это у него от прошлого; нелегко от старых привычек отделываться, живучие они. Тем более что Артамонов уже не молоденький, перевоспитываться ему поздно. Василий Антонович вспомнил его добрую, гостеприимную жену, которая так радушно угощала пирогами, его внуков, с которыми играл их любящий дед. Вспомнил и ту старушку — больничную няню, ради которой Артамонов вылез на улице из машины. Нет, не вязалось все это с мошенничеством на заготовках. Завидуют люди и плетут невесть что. Писатели — народ эмоциональный, наслушались недовольных и приняли их рассказы за чистую монету.
Под вертолетом возникли черные острые конуса, подобные пирамидам. Терриконики, свалки пустой породы, выдаваемой на-гора вместе с горючими сланцами. Старгородский Донбасс — сланцевый бассейн. Клубы разноцветного дыма над трубами перегонных заводов; даже сюда, в небо, долетал запах битума. Десятки шахт, несколько шахтерских поселков. Лет двадцать пять назад, как рассказывают, тут были дикие, безлюдные места, бродили медведи в поисках малины да о вековые стволы сосен точили когти зеленоглазые рыси с пушистыми кисточками на кончиках ушей. А вот теперь на нескольких квадратных километрах живет сто тысяч народу. Сто тысяч. Сколько же им надо пиджаков, штанов, платьев, сколько тонн и тонн мяса, миллионов штук яиц, цистерн молока, вагонов хлеба? Насколько же лучше, продуктивнее должно вестись сельское хозяйство в области, чтобы обеспечивать потребности растущей промышленности? В конце концов стремление Артамонова не удивительно — за год дать три годовых плана по закупкам мяса. Оно очень нужно стране, это мясо. И он же дал его. Званием Героя Социалистического Труда недаром награждают.
Думал, думал Василий Антонович, думал тяжелые, трудные думы.
Еще когда подымались в Старгороде, Василий Антонович просил пилота покружить над областью… Широкой дугой летели они над теми местами, где Кудесна впадает в Ладу. Лада большая, заметная река. Медленно несет она свои воды к морю, туда, где в ее устье стоит город, в котором уже много лет секретарем обкома Ковалев, умный, бывалый руководитель. Он, помнится, не очень хорошо отзывался об Артамонове. Но это тоже ничего не значит, нередко мы ошибаемся, давая оценки друг другу. Что-нибудь не понравится, какой-нибудь малозначительный знак невнимания, который мы истолкуем, как знак пренебрежения или высокомерия, а вот аттестация человеку готова, в наших глазах он навсегда зазнайка, выскочка, вельможа.
На берегу Лады возводились какие-то постройки, плавучие копры вколачивали сваи возле берета, землеройная машина, вместе с водой, гнала на берег по трубам разжиженный грунт со дна реки, намывала обширную площадку. Может быть, на участке Приморской области уже начинались работы по прокладке большого пароходного пути по Ладе и Кудесне? Надо будет позвонить Ковалеву по возвращении в Старгород.
Потом Василий Антонович стал думать о том, что на днях в эти места на месяц-полтора должна отправиться Соня. Она собралась раскапывать древние курганы, стойбища и могильники. У нее и у ее сторонников возник жесточайший спор с другой группой ученых по поводу истолкования истории земель в бассейне Лады и Кудесны. Со-нины противники стоят за версию скандинавскую, Соня и ее сторонники — за славянскую. Вот она раскопает тут что-то и что-то докажет.
Василий Антонович думал о Софии Павловне с улыбкой. Такая женственная женщина и та в борьбе. Всюду борьба, и это естественно и необходимо. Борьба — жизнь; жизнь немыслима без борьбы. Там, где борьба кончается, там просто-напросто наступает смерть. Чем спокойней и тише в той или иной науке, в той или иной отрасли народного хозяйства, на том или ином участке общественной жизни, тем, следовательно, там мертвее и бесплоднее. Настоящий боец, настоящий ученый, истинный общественный деятель, революционер успокаивается только тогда, когда он перестает дышать, когда перестает биться его сердце. А тот, кто успокоился при жизни, тот заживо умер. Бушуй, милый Соньчик, копай, рой древние становища, громи своих противников с трибун ученых заседаний и в журнальных статьях, только живи, пожалуйста, только будь всегда рядом, никогда не уходи.
Василий Антонович увидел красивое озерко в лесу, километрах в пяти от большого селения Жуково, а на берегу озерка избушку; на воде перед нею мостки в две досочки, и к ним привязана лодка. Картинка мирная, удивительная.
— Нельзя ли тут спуститься на минутку? — спросил Василий Антонович пилота.
Тот стал кружиться, присматриваясь, куда бы приземлить вертолет. Сели на поляне меж опушкой леса и берегом озера. После гула мотора лесная тишина показалась такой густой, такой полной и всеобъемлющей, что Василия Антоновича от нее даже качнуло, едва он встал на землю.
Пошагав возле вертолета, чтобы размяться, он пошел к избушке. Была она старая, ветхая, с пластами серых лишайников на крыше из полуистлевшей драни. К стенам ее были прислонены весла, багры, наметки и люльки для ловли рыбы, удочки. Перед избушкой, за столом на вбитых в землю четырех столбиках, в окружении молодых перистых ив, сидели два серых деда и пристально, выжидающе смотрели на идущего к ним незнакомца. Серый колер им придавали остатки седых волос над ушами, их седые бороды, слившиеся в один шерстистый массив с усами, серые ватники и валенки.
— Ты бы, почтенный, еще на крышу уселся, — сказал один дед, когда Василий Антонович подошел к ним и поздоровался. — Глянь, кошку и ту ума решил драндулетом своим. Неаккуратно по небу ездишь.
Кошка и в самом деле путалась на самой вершине прибрежной ивы, среди гнувшихся под ее тяжестью тонких ветвей, топорщила шерсть и отчаянно орала.
— Прошу прощения. — Василий Антонович присел на одну из четырех скамеечек, устроенных вокруг стола. — Очень местечко мне понравилось. Увидел сверху ваш дом, озерко, лодку. Заинтересовался, кто тут может жить.
— Вот я живу, — сказал все тот же дед, что говорил о кошке. — Лесник я. Лаптев — фамилия. Самая мужицкая фамилия.
— А это ваш товарищ?
— Брат это мой. Тоже Лаптев. Только я Иван, а он Федор. Иван да Федор Лаптевы. В один год и в один день родились от одной матери, да вот по восемьдесят три года и живем на белом свете.
— По восемьдесят три года? — Василий Антонович удивился. Деды были крепкие. Он дал бы им по шестьдесят, по шестьдесят пять, не более.
— Да выходит, что так.
Выяснилось, что Федор Лаптев приехал к Ивану Лаптеву на побывку, в отпуск, что он тоже лесник, но живет и работает в другой области, в Приморской, в шестидесяти километрах от своего брата. А потом Иван Лаптев поедет к Федору Лаптеву. Они навещают друг друга ежегодно.
— Мы это таким манером каждый себя проверяем: как, мол, а не остарел ли, не сдал ли перед другим? Вот на лодке гребем: кто сколько раз озеро пересечет. В лес пойдем: сколько верст ноги выдержат. Из ружья по шапкам бьем: он кидает — я палю, я кидаю — он палит.
Василий Антонович вошел в избушку. В ней было чисто, опрятно. Подумал о том, как же этот старый-престарый дед зимует один в долгие темные месяцы, заброшенный в лесу, среди мертвых холодных снегов, слушая свист ветра, а то и вой волков. Он заговорил об этом со стариками, о том, что, может быть, переселиться бы Ивану Лаптеву поближе к людям; его и его брата в конце-то концов и на пенсию можно перевести, — до каких же пор они собираются работать.
— А уж до самой домовины, — ответил Федор, настолько похожий на Ивана, что стоило им стронуться с места, как Василий Антонович переставал отличать одного от другого.
— Наше дело такое, — сказал Иван. — Мы выпавшие из жизни. Мы в лесниках с что ни на есть самой революции. Служили, конечно, в солдатах, в ее величества императрицы Марии Федоровны лейб-гвардии гусарском полку, потом нас гоняли воевать против австрийцев, потом вот революция, подались в родные места, воевать не захотели, пошли в лесники, чтобы временным властям глаза не мозолить, да вот так и прижились в лесах. Родные, знакомые — кто перемер, уж когда и не помним, а кто нас запамятовал, кого мы запамятовали, никаких дорог нам к людям нету. Вон у меня в сараюшке мерин стоит, у Федора тоже кобылка есть. Сядем раз в месяц верхи, поедем в лесничество — монету, жалованье получать. И все дело. А к людям?.. В лавку выедем из лесу, что лешие, соли, спичек, сахару, крупы, муки купим, да и обратно в лес. Нами ребятишек пугают.
— А что на свете-то происходит, вы знаете или нет? — Василий Антонович был поражен такой удивительной жизнью.
— А на что оно нам? Нам все одно со свету с этого на выход скоро.
Это был заповедник глухой, дремучей жизни, какой старгородское крестьянство жило сорок лет назад. Сюда бы экскурсии водить — пионеров, комсомольцев, тех брюзжащих юнцов, которые пишут: какое нам дело, что было до семнадцатого года, вы еще с тем, что было в Киевской Руси, сравните, поярче показатели будут! Не жизнью ли Ивана и Федора Лаптевых жил бы разбитной юнец, не сделай партия того, что сделала она в великом тысяча девятьсот семнадцатом году?
— А что, если мы вас устроим в дом для престарелых? — предложил Василий Антонович. — Сейчас здоров, а, случится, заболеешь. Кто присмотрит? А там…
— В богадельне-то? Не, не гоже это нам, — сказали оба почти хором.
Федор добавил:
— Нам, если другую жизнь, без лесу, без воли, — к утру и обряжать можно, в одночасье преставимся. Хошь зарезать меня да его без ножа, выхлопатывай пенсион. А кто сам-то будешь? — спросил он. — Начальник какой?
— Начальник, — ответил Василий Антонович. — Большой поди?
— Порядочный.
Кошка все орала на иве. Василий Антонович спросил, долго ли она там протрясется.
— А уж теперь до ночи, — ответил Иван. — Она при свете высоту видит, заскочила с перепугу, а обратно слазить и того страшней. Ночью, в потемках, земли видеть не будет, сойдет. Тебе тоже поди в потемках летать способней на этой штуке. — Он кивнул в сторону вертолета. — Думаешь, вроде на моторе по земле едешь. А днем — высоко, боязно, а?
— Примерно так, — согласился Василий Антонович и стал прощаться.
Он улетел с мыслью о том, что для дедов этих надо непременно что-то сделать. Нельзя, чтобы они жили своей странной и одинокой жизнью «выпавших». Но что именно сделать? Они правы — отрывать от привычного их тоже нельзя. Это будет смерть.
Вскоре вертолет остановился в воздухе над болотистой равниной, на которой торчало несколько буровых вышек, на холмиках набросанной земли были разбиты большие серые палатки, и тугими кольцами лилового дыма постреливала труба нефтяного двигателя. Люди внизу махали руками, указывая место посадки. Вертолет стал медленно снижаться.
49
Впервые в своей жизни Юлия была так занята. Работы, забот, неожиданностей оказалось настолько много, что порой ей просто не верилось, выдержит ли она это все. Она занималась переоборудованием неудобной сцены в Доме культуры комбината, она разыскивала энтузиастку-костюмершу, она ходила спорить в завком по бесконечным поводам — нужны были средства, нужны были материалы; она думала над репертуаром, над оформлением спектаклей; режиссера не было, она решила, что сама возьмется за постановку. Но и это еще далеко не все, — а формирование-то актерского коллектива! Желающие шли и шли. С ними было нелегко. Самые неспособные, как всегда и бывает, думали о себе, что они-то и есть главные таланты на комбинате. Такие упорствовали в желании выйти на сцену; отвергнутые Юлией, они отправлялись в завком, в партком. Оттуда Юлии звонили, просили еще разок испытать того или иного кандидата в комбинатовекие Москвины или Качаловы.
Заслышав об организации Народного театра, к Юлии шли не только с комбината, — шли со всего города. Экспансивные мамаши вели к «ней своих дочек, уверяя, что те еще в пятилетнем возрасте начали обнаруживать артистическое дарование и так декламировали, так декламировали «В лесу родилась елочка», что у покойного дедушки Феди слезы капали в борщ. И в то же время те, кто воистину обладал даром актера, стеснялись, прятались, их надо было разыскивать, уговаривать.
Все в молодом, возникающем театре держалось на страстной, необоримой тяге к искусству. У него еще не было ни директора, ни администратора, ни режиссера, ни помрежей, — никого, кроме Юлии и актеров, которые могли, если надо, строгать, пилить, красить, таскать тяжести, куда-то ходить, с кем-то спорить и ссориться, что-то где-то «вырывать».
Юлия, не привыкшая к таким заботам, часто даже не знала, как за то или иное приняться. Но никому об этом не говорила. Все страхи и сомнения переживала наедине с собою, все раздумия оставляла на ночь. А днем и вечером ее видели неизменно кипящей, в энергичном, захватывающем и других, жизнерадостном движении.
Время от времени звонил Владычин, интересовался, как идут дела с театром. Народный театр был его мечтой, и он предлагал Юлии любую помощь, лишь бы ее театр поскорее показал свое лицо. «Надо сделать так, Юлия Павловна, чтобы не только не уступить профессионалам, но превзойти их. Превзойти молодостью, выдумкой, температурой чувств. Ничего не бойтесь, размахивайтесь, как можно шире и свободней. Если что, немедленно звоните мне».
Но Юлии было неловко бегать за помощью к Владычину. Ей казалось, что она от этого непременно потеряет в его глазах. Она боролась с трудностями сама. А трудностей все прибывало и прибывало. Странно, но городской драматический театр стал проявлять к молодому, еще только рождающемуся театру не что иное, как ревность. Там, где все давным-давно сложилось, где все срослось меж собой, начали побаиваться, как бы рядом не возник плечистый конкурент и самим фактом своего существования не заставил что-то менять в привычном, что-то отбрасывать и искать Новое. В городском театре начали посмеиваться над Юлией, над ее добровольными помощниками, стали распускать о ней противненькие анекдотцы.
Когда тем или иным путем до нее доходили эти недружелюбные высказывания, на какие-то минуты Юлии становилось тоскливо и горько, в такие минуты она готова была схватиться за телефонную трубку и звонить Владычину. Но тем не менее ни разу этого не сделала. Нет, не таких разговоров хотела она с Владычиным, нет. Уж если и та ночь не придвинула его к ней ни на один сантиметр, то рассуждения о трудностях театра только еще больше оттолкнут.
Юлия помнила и хранила в сердце каждую мелочь той ночи. Она ощущала дымный запах избушки, она слышала шорох волн, она видела солнечный лучик над дверью, видела отпечаток нитяных ячей на щеке Владычина. Иной раз она досадовала на то, что, утомленная ходьбой, надышавшаяся непривычным свежим воздухом, так мгновенно уснула. Ведь она женщина, в ее силах было многое, она многое могла изменить в ту ночь. Да, она сплоховала, — думалось ей иной раз. Но кто знает, может быть, и нет, может быть, в том-то ее и счастье, что она не выстояла перед подступившим неодолимым сном. Будь иначе, может быть, уже не стало бы даже и этих деловых разговоров с Владычиным. Кто знает. Он человек не простой, у него все по-своему, по-другому.
В один субботний вечер Юлию вызвали из репетиционной к телефону. Говорил Владычин. Он говорил такое, чего Юлия еще от него не слыхала, но всегда так хотела услышать.
— Юлия Павловна, очень странно, конечно, но у маня оказалось свободное время. Может быть, погуляем? — Она молчала, поэтому он добавил: — Вечер такой теплый, тихий. Почти как в Крыму.
Юлии хотелось крикнуть: «Да, да, идем, немедленно идем! Даже если там и не тепло, как в Крыму, а пурга и мороз в сто градусов. Идем, все равно!» Но в репетиционной ее возвращения ожидало восемнадцать молодых рабочих и работниц, инженеров и техников, бухгалтерш и медицинских сестер. Репетировалась важная, острая сценка из новой пьесы, по поводу которой возник страстный опор, прерванный этим звонком.
— Вы молчите? — сказал Владычин. — Или нас разъединили?
— Я не молчу, я думаю, — ответила она голосом человека, которого только что приговорили к пожизненным каторжным работам.
— У вас, может быть, репетиция? — догадался Владычин. — Тогда давайте отложим наше гуляние на завтра. А завтра вы свободны?
— Да, да! — сказала она обрадованно и вместе с тем уже заранее страшась, что до завтра что-нибудь в планах Владычина изменится и он уже позабудет об этом уговоре с ней. — Завтра — да, я свободна.
Она не спала почти всю ночь. Она так вертелась, стараясь найти положение, которое помогло бы ей уснуть, что из-под нее то и дело уползала на пол простыня, с нее съезжало одеяло, за торец кушетки заваливались подушка с думкой. Июньская ночь коротка. С двух часов уже начало светать. Через каждые десять — пятнадцать минут Юлия брала в руки будильник, смотрела на его стрелки, подносила его к уху, — слушала, идет ли, хотя стук механизма и без того был достаточно громок.
В результате утром, взглянув в зеркало, она себе не понравилась и чуть от этого не разревелась: физиономия желтая, под глазами сине-зеленое, глаза мутные, как у коровы. Отвратительно. Нельзя, чтобы он ее увидел такой, нельзя никуда идти в таком виде.
И все же, перешагнув через советы и требования благоразумия, она ровно в девять была в условленном месте, у скамьи в саду над Кудес-ной. Владычин ее ожидал.
— Вы удивительно точны. — Он был явно обрадован. — И тогда, помните, в райком пришли секунда в секунду, и вот сейчас… У женщин это не очень распространенное качество.
Он не знал, понятно, что за всю ее жизнь Юлия была так точна всего лишь два раза. Именно эти два раза, которые он только что назвал.
— Ну и куда же мы отправимся? — спросил он, глядя ей в лицо, отчего она смутилась и принялась делать странные движения руками то у — глаз, то вокруг рта — чтобы скрыть, как ей казалось, кошмарные следы бессонной ночи. — Может быть, туда же, на озеро? На пароходе?
— Хорошо, — сказала Юлия, соглашаясь. Но тут же к ней прищла другая мысль. — А может быть, в лес поехать? — предложила она. — Вы знаете такой лес — Стоверстный бор?
— Знаю, конечно. Это в двадцати километрах от города. Вы правы, место там замечательное. Что ж, поедемте. Пойдем, найдем такси. С утра они свободны.
— Такси? А разве у вас нет казенной машины?
— Разумеется, есть. Но разве уж так обязательно, чтобы райкомовский шофер даже в воскресенье знал, куда и с кем отправился секретарь райкома?
— А разве это тайна?
— Хотелось бы, чтобы было тайной. Пусть хоть что-нибудь будет тайной. Пусть хоть чего-нибудь обо мне не знают. Пусть хоть один день я буду совершенно свободен. Разве вы этого не понимаете?
— Понимаю. Идемте.
Мчась в такси по дороге, Юлия старалась вспомнить и не пропустить то место, до которого в прошлом году они доехали с Птушковым. Она не могла бы точно объяснить, почему, но именно сюда хотелось ей приехать с Владычиным, именно здесь оказаться с ним вдвоем. Она помнила, что то место было прекрасное, но спутник у нее был тогда отвратительный. Может быть, ей хотелось исправить что-то испорченное? Нет, она не могла объяснить свое желание. Но ей хотелось именно сюда, сюда.
— Так не годится, — сказал вдруг Влады-чин. — Мы едем без всякого провианта. Это легкомысленно. Мы умрем с голоду в лесу, надо вернуться.
— Нет, нет, не надо возвращаться — горячо воскликнула Юлия. — Это плохой знак. Нет, нет. Мы будем питаться плодами диких растений, ягодами и кореньями трав.
Он засмеялся.
— Хорошо, согласен. Будем охотиться с перочинным ножом на мамонтов и бронтозавров.
— Да, да, а я в пещере примусь меж двумя плоскими камнями растирать зерна диких злаков и печь лепешки на огне, если мы его добудем.
Расплатились с шофером, вступили в лес, в его смолистые, сосновые ароматы. Пели птицы, и только их звонкие голоса нарушали величественную лесную тишину. Шли довольно долго. Юлия старалась вывести Владычина к тому обрыву, с которого открывался удивительный вид на дальние бескрайние леса и озера. У нее, у художницы, была отличная зрительная память. Они вышли именно туда, где год назад она сидела рядом с Птушковым.
— Вы правы. — Владычин вглядывался в даль. — Поразительно красиво. Когда же вы успели здесь побывать?
— Успела, — ответила она неопределенно и опустилась на землю. — Посидим. Вы любите стихи? — спросила, когда и он опустился рядом.
— Ну, как сказать… С ума от них не схожу, визжать от восторга не стану. Но если хорошие стихи и если их хорошо прочитают, послушаю с удовольствием.
— А сами можете прочесть?
— Могу. Хотите?
— Пожалуйста, Игорь Владимирович. Я очень люблю поэзию.
— Что ж, слушайте. — Он подумал, стал читать.
— Это чье? — спросила Юлия. — А хорошо?
— Очень. Чье? — повторила она.
— Если хорошо, то и не важно, кто автор. Откровенно сказать, сам не знаю. — Он читал еще.
— А это чье?
— Нравится?
— Да.
— Тоже не запомнил автора.
Владычин читал и читал. Он то подымался с земли и расхаживал меж молодыми сосенками, топча сухой вереск, то вновь опускаясь наземь. Он был переполнен стихами.
— Извините, Юлия Павловна, — сказал спохватываясь. — Я, кажется, вас заговорил. Вы уснули. Я, видимо, каждый раз действую на вас как снотворное.
— Нет, нет, что вы! Я просто закрыла глаза. Так лучше слушается. Вы хорошо читаете. И у вас удивительная память. Я тоже знаю порядочно стихов, но не столько, как вы.
— Да, на свою память не жалуюсь. Может быть, как раз я ее стихами и развил. Это все, за исключением немногого, было выучено в школьные да в студенческие годы. Я любил выступать на школьных и институтских вечерах. Так сказать, мастер художественного слова. А в армии был живой книгой. Как начнешь вот так в землянке или где-нибудь на марше, на привале, — и остановиться не дадут: читай да читай.
Владычин рассказывал о себе. Юлия с интересом слушала. Потом она тоже рассказывала о своей жизни. Но что она могла рассказать? О девчоночьих мечтах, о школьных годах. Потом пошло уже такое, о чем ему не расскажешь, да и вспоминать о том не хотелось.
Время летело, ползли по земле тени деревьев. А рассказам, вопросам и расспросам не было конца. Юлия любила острые, удивительно точные наблюдения над жизнью, которые несколько столетий назад записал Ларошфуко. Она знала и такое его высказывание, где говорилось о любовниках, которые только потому никогда не скучают друг с другом, что они все время говорят о себе… В иное время, в другой обстановке, она бы непременно сказала об этом, не упустила бы случая съязвить. Но в этот час все премудрости, вычитанные из книг, она безнадежно позабыла. Книги, сарказмы и остроты великих скептиков, усмешки мудрецов — все-все куда-то ушло; была только сама жизнь, простая, бесхитростная и желанная. В сердце росла тревожная радость, в теле бились здоровье и сила. Хотелось, чтобы никогда этот день не кончался. Но если он почему-либо и кончится, то пусть бы за ним был новый такой, а за тем следующий, и чтобы их было бесконечно много. Но Владычин был прав, когда предлагал вернуться и запастись провиантом. И правота его ощущалась с тем большей силой, чем дальше шло время. Часам к трем дня выяснилось, что уже совершенно необходимо начинать охоту на мамонтов и игуанодонов или молоть зерна диких злаков меж камней.
— Пока мы занимались поэзией, — сказал Владычин, — я несколько раз слышал пение петуха. Там, на востоке. Это свидетельство того, что мы можем добраться до человеческого жилья и попытаться раздобыть пищу. Как вы считаете, Юлия Павловна?
Счастливая Юлия Павловна была готова делать все, что скажет он.
— Идти? — спросила она.
— Идти, — ответил он решительно и, сообразуясь с солнцем, принял курс на восток.
Минут через сорок вышли к опушке леса, за которым открылось картофельное поле, а за полем, в березах и старых ивах, стояла деревня.
— Будь дело в августе, мы бы накопали картошечки, — сказал Владычин, — да, забравшись в лесную чащу, испекли бы ее в золе. Но сейчас надо держать курс на это селение.
В деревне, в первом же доме, в который они вошли, им продали хлеба, молока, сметаны, сварили десяток яиц, пригласили в дом, к столу. Но они устроились во дворе на бревнах, приготовленных, видимо, для расширения дома. Из кустов малины к ним вышли восемь кур и красный, как пламя, вспыхивающий при каждом движении, свирепый петушище. Куры были кроткие, терпеливые, они стояли вокруг и ожидали, когда им бросят щепотку крошек. Петух не ждал милостей от пришельцев, он считал, видимо, что взять их — его задача. Он прыгал и выхватывал хлеб прямо из рук. Если не удавалось выхватить, свирепо бил клювом в туфли Юлии, дергал за брючину Владычина.
Неизвестно, чем бы все кончилось; возможно, что пришлось бы отступить от этого огненного черта на иные рубежи, если бы не появилась бодрая лохматая собачонка, по замыслу черная, но ставшая серой от дорожной пыли, в которой она только что вывалялась, и немедленно разогнала и кур, и их грозного повелителя. Собачонку, в свою очередь, оттеснила свирепая, желтоглазая кошка, такой пестрой масти, каких ни Юлии, ни Влады-чину видеть еще не приходилось. О таких говорят: трехцветка. Но эта была по меньшей мере семицветной — и чёрное сплеталось тут с рыжим, и серое с белым, и голубовато-дымчатое с каким-то паленым… Собачке, надо полагать, был отлично знаком нрав этой ходячей радуги, собачка отступила на то расстояние, которое обычно принято именовать почтительным, и уселась там, грустно взирая на хлеб, обмакиваемый в сметану и достававшийся не ей, а пятнистому исчадию ада.
Если июньская ночь коротка, то, в отличие от нее, июньский день долог. Еще и после обеда на бревнах у Юлии с Владычиным было время, чтобы не спешить в город. Они поблагодарили хозяев дома и вновь ушли через картофельное поле в лес, вновь бродили по живописным тропинкам, из ниоткуда возникающим и в никуда уходящим.
Вышли к зеленому лугу, по которому, опушенная ракитами, текла тихая речка с чистой, прозрачной, но темной водой. Казалось, что в ее непроницаемых для глаз глубинах таятся бочаги и омуты, а в них живут сомы и раки с клешнями размером в ладонь. Пошли (вдоль речки, следя за тем, как на поверхность воды крутыми сильными движениями всплывают быстрые рыбки с темными спинками и красивыми яркими плавниками.
Речка привела к старой плотине и к полуразрушенной водяной мельнице. Именно здесь оказались те плоские камни, меж которыми можно было растирать зерна злаков, — но были они огромные, эти колеса заброшенных жерновов, вросших в землю. Плотину пробила вода, и чтобы перейти по ней к мельнице, надо было прыгать с одного скользкого, обрызганного клубящейся водой камня на другой. По берегам, возле плотины, вокруг мельницы, сложенной из гранитных валунов, толпились печальные обвислые ивы. Их тонкие, плетущиеся меж собою ветви опускались до самой воды, дразня мелких рыбешек.
— Дремлют плакучие ивы! — сказал Владычин, и оба они, он и Юлия, были удивлены, как точно увидел тот, кто сочинял слова старинного романса. Стояла послеобеденная тихая пора, ветер отправился в какие-то иные края, на воде перед плотиной ни рябинки: не вода, а отлично отполированное зеленое стекло. Только мягкими складками она складывается там, где начинает падать в каменистый пролом. Земля нагрета солнцем, камни прогреты солнцем, все спит, даже птиц не слышно — и те спят. И вот в этой тиши, в этом сонном царстве, дремлют старые, коряжистые ивы, плакучие ивы, низко склонясь над прудом.
— А что, если нам рискнуть и перейти на тот берег? — предложил Владычин, подходя к пролому. — Посмотрим, что в самой мельнице Может быть, русалки живут.
— Страшно, — сказала Юлия. — Камни скользкие.
— Неужели боитесь? Я думал, вы храбрее.
— Боюсь. Но за вами, пожалуй, могу решиться пойти.
Владычин прыгнул на первый камень. Укрепился на нем, попробовал покачать его ногами — прочно ли держится, распахнул навстречу Юлии руки.
— Прыгайте, поймаю.
Она прыгнула, он крепко схватил ее. Постояли так. Владычин прыгнул на следующий камень.
Тот камень слегка покачивался, вода вокруг него шумела, скручиваясь, сбиваясь в пену.
— Ну ничего, все-таки прыгайте, — сказал, вновь протягивая к ней руки.
Юлия прыгнула, камень резко качнулся под ними. Владычин подхватил ее, и с нею на руках прыгнул на третий камень. За тем камнем уже была твердая часть плотины, можно было опускать Юлию на ноги. Но Владычин ее не опускал, а она не делала ничего, чтобы поторопить его. Его глаза были совсем близко от ее глаз. Они были очень серьезные.
— Странно. — Он растерянно, беспомощно улыбнулся. — Очень странно. Что бы сказали коммунисты Свердловского района, если бы увидели своего секретаря в эту минуту.
— Они бы сказали, что так поступать можно только в том случае, если любишь человека. А если нет, то… Игорь Владимирович, — еле слышно сказала Юлия, — если я вам совсем ничто, бросьте меня туда, пожалуйста, прошу вас. — Одной рукой она охватывала его шею, откинув другую, указывала на шумевший поток. — Ну, пожалуйста…
50
До того места, где велись раскопки, от ближайшей деревни было не более четырех километров, и все участники экспедиции вполне могли бы шить в деревне. Но София Павловна решила разбить лагерь прямо на месте раскопок. Вся её группа состояла почти из молодежи — из студентов педагогического института и из школьников старших классов. Это были добровольцы, решившие посвятить свои летние каникулы археологии, изучению родного края, но добровольцы уж очень юные, молодые и поэтому, как полагала София Павловна, повышенно подверженные различным соблазнам жизни. В условиях лагеря таких соблазнов будет меньше, все друг у друга на виду, не будут прогуливать, будут больше работать, заниматься делом.
И вот в излучине Кудесны, недалеко от впадения ее в Ладу, на высоком, с песчаными обрывами берегу, возник городок из пяти палаток. В одной из них поселились София Павловна и две девочки, перешедшие из девятого класса в десятый, в другой четыре студентки — будущие учительницы русского языка и истории, в двух следующих — восемь ребят — студентов и школьников вперемешку. А в пятой жили работники музея, специалисты, без которых София Павловна не справилась бы с нетерпеливой, порывистой, не умевшей работать систематически армией молодежи, и специально приглашенный на время раскопок повар-практикант, студент последнего курса Старгородского пищевого техникума. Он, бедняга, был объектом всевозможнейших шуток.
София Павловна почти всю зиму готовилась к этой поездке. Ее заместитель по экспедиции, научный сотрудник музея, человек немолодой, отлично знавший область, занимался подготовкой материальной части — сбором соответствующих инструментов, приобретением палаток, всего необходимого инвентаря, поисками добровольцев-рабочих. София Павловна рылась в печатных и рукописных источниках, касавшихся истории края.
Именно эта излучина Кудесны была выбрана для раскопок потому, что еще при царях здесь обнаружили и начали раскапывать место большого древнего торжища. Множество различных предметов, добытых в том раскопе, — домашней утвари, украшений из металлов, из камней, из кости, металлических монет, орудий кузнечного, гончарного, плотничьего труда хранилось в Старгород-ском музее. Все это было до крайности смешанного происхождения. Выли изделия и монеты из Византии, Рима, Венеции, Персии, Индии, были и с запада средневековой Европы, из Скандинавии. Относились они к IX, к X векам. Никто не спорил о том, что здесь, на берегу Кудесны, в ту далекую пору было торжище, так сказать — обменный пункт купцов юго-востока с купцами северо-запада. Спорили о другом — славяне ли населяли в те века здешние просторы или были они владениями северных морских разбойников.
София Павловна рассуждала так: когда-то Генрих Шлиман, раскапывая один из холмов на Итаке, отыскал то, что тысячелетиями считалось порождением, фантазией поэта, — гомеровскую Трою. Заступами, ломами, руками, обламывая ногти, Шлиман со своими рабочими прогрыз сначала шесть слоев позднейших напластований, и только в седьмом лежала легендарная Троя. А под нею было несколько еще более древних слоев. Люди прошлого не любили расставаться «насовсем» с облюбованными историей центрами той или иной цивилизации. Одни дворцы превращались в руины, в прах, — на их месте, именно там же, вырастали новые. Трудно себе представить, чтобы и торжище в излучине Кудесны возникло на пустынном, безлюдном берегу. Дескать, подошли сюда на ладьях или стругах с низовьев, спустились с верховьев, встретились здесь, причалили, выгрузились на берег — и пошел торг. Несомненно, что и до торжища что-нибудь да было: город, селение, хотя бы смолокурня или коптильня рыбы. Исследователи прошлого века просто до этого не докопались.
Роясь в старых манускриптах, изучая чертежи и записи предыдущих исследователей, подбирая себе помощников, София Павловна была занята и другими заботами, о которых никогда не упоминают в отчетах научных экспедиций, руководимых женщинами. София Павловна немало потрудилась над тем, чтобы одежды ее для такой поездки были удобны и в то же время, чтобы выглядела она в них соответствующим образом. Она сшила несколько комбинезонов, с лямками, с медными пряжечками, с карманами с карманчиками.
Туфли?.. Вот туфли, конечно, были взяты на высоких каблуках. Тут София Павловна с собой ничего поделать не могла.
Работы шли вовсю. Парни немножко лодырничали. Им хотелось купаться, плавать на плоту, который они сколотили из бревен, выброшенных весной на берег, ловить рыбу, благо в Кудесне ее было настолько много, что практикант-повар каждый день варил уху из окуней и ершей, жарил хариусов и судаков. Девочки были поприлежней. Но и их порой уносило куда-то так, что и следа не найдешь. И все же дело шло. За неделю сняли слой, в котором в свое время было обнаружено торжище. Извлекли из него и еще немало интересных, ценных предметов: костяные гребни, полуистлевший кожаный кошелек, железную подковку от сапога, рогатину вроде вил.
Потом началось новое, нетронутое, началось самое интересное: Под слоем земли и многовекового мусора, сантиметр за сантиметром, стала обнаруживаться обширная круглая площадка, обнесенная каменными глыбами. Всем хотелось схватиться за лопаты да поскореё раскидать землю. Но София Павловна и ее заместитель умеряли пыл молодых археологов. Каждую горсть почвы надо было перебрать пальцами, просеять сквозь решета и еще раз перебрать, рассматривая в лупу. Спешить было нельзя. Спешка — враг археологии. София Павловна рассказывала ребятам о том, как велись раскопки в Новгороде, в московском Зарядье, как Шлиман разыскивал Трою, а Говард Картер — забитую сокровищами гробницу египетского фараона Тутанхамона.
К месту раскопок сбегались ребятишки из окрестных деревень; иные из них предлагали свою помощь. София Павловна не отказывалась от их помощи, хотя прекрасно знала, что эти помощники больше напортят, чем помогут. Но разве же можно отталкивать добровольцев, энтузиастов?
Приходили взрослые, сидели в сторонке, курили, затевали разговоры. Кто-то из ребят проболтался, и скоро всем вокруг стало известно, что главная на раскопках — жена секретаря обкома партии. Разговоры поэтому с ней затевали на большие хозяйственные и политические темы. Напрасно она старалась всячески подчеркивать, что секретарь обкома — это одно, а его жена — совсем другое, — не помогало. Однажды за нею даже прикатили на рессорной тележке и повезли в колхоз показывать каких-то особенных, «скороспелых» поросят. Пришлось ехать, пришлось смотреть, — никак не могла отговориться.
Часто появлялся директор одной из соседних школ, молодой учитель истории. Ему было лет двадцать пять. Высокий крепкий человек, с очень хорошим, немножко скуластым лицом, понравился Софии Павловне его горячим интересом к работам на раскопе. Появляясь, он первым делом шел к ней, к Софии Павловне, хорошо, умно беседовал. Потом куда-то исчезал, и Софии Павловне невдомек было, что одновременно исчезала и одна из студенток.
Кто-то из колхозников сказал Софии Павловне однажды:
— Товарищ начальница, а дело-то того… Или вы от нас директора увезете, или он у вас работницу уведет.
— Не понимаю, — ответила София Павловна в недоумении.
— А это ученые всегда так. Что тысячу лет назад было, знают. А что вокруг происходит, о том и не ведают. Гуляет директор наш с вашей студенткой.
— Как, то есть, гуляет?
— А уж вы сами полюбопытствуйте.
София Павловна расстроилась. «Любопытствовать» она, конечно, не собиралась. Она просто не знала, как ей поступить. Никто иной, именно она одна ответственна за полтора десятка девчат и ребят, отправившихся с нею сюда, на Кудесну. Она решилась поговорить с девушкой.
— Шурочка, — сказала, пригласив ее в свою палатку. — Ну что же это такое! Твои папа и мама думают, что ты тут добросовестно работаешь, хорошо себя ведешь, а ты… — София Павловна остановилась, чувствуя, что говорит что-то не то. Эта Шура работала именно хорошо и вела себя совсем не плохо. Дело, следовательно, в другом. А в чем же тогда?
— София Павловна, — ответила девушка. — Вы, может быть, думаете, что у вас будут неприятности из-за меня? Но ведь мне же двадцать один год, я не пионерка. У вас в мои годы уже, наверно, дети были.
— Я понимаю, понимаю. Но…
— Неприятностей у вас не будет, София Павловна, не будет.
—. Почему ты так упорно говоришь о неприятностях, Шура? — София Павловна насторожилась. — Что это значит? Какие неприятности ты имеешь в виду?
Студентка стала рассказывать историю со своим младшим братом. Когда он учился в четвертом классе, случилось как-то на уроке физкультуры, что преподавательницу срочно вызвали и она ушла из зала. А в это время братишка девушки принялся проделывать фокусы на турнике и, сорвавшись, вывихнул руку. Первое, что сказала вбежавшая преподавательница было: «Дети, вы же знаете, что я выходила. Вы должны подтвердить, что это произошло без меня. Коля, — говорила она и брату Шуры, — ты тоже должен так сказать: ты сам, сам, без меня». Ему было ужасно больно, он был испуган, ему нужна была быстрая помощь, а его уговаривали не выдавать учительницу, выгораживать ее.
— Он пришел домой, София Павловна, — рассказывала Шура. — Руку ему уже, конечно, вправили, перевязали, все, что надо сделали. Но душа у него была навсегда ранена. К учителям он стал относиться скептически. Они ему о примерах благородства толкуют, а он помнит одно: «Скажи, что это было без меня». Ему, София Павловна, тогда было лет одиннадцать, а мне четырнадцать. Я тоже этот случай запомнила. А позже мне и самой пришлось убедиться в том, что есть немало людей, которые только и думают о том, как бы их хата была с краю. У нас была директорша…
— Ты меня очень-очень обидела этим рассказом, Шура, — сказала София Павловна грустно. — В чем ты меня заподозрила? Неужели ты думаешь, что я боюсь неприятностей для себя? Шура, Шура… Я думаю о тебе, молоденькой, извини меня, — глупенькой, потому, что ты неопытная. Я думаю о твоих родителях, о маме, о папе. Здесь такая романтическая природа, такие чудесные вечера, птицы так поют… Головка твоя, может быть, закружилась. А чувств-то, настоящих, серьезных и нет. Испортишь жизнь и себе и родным своим. Зачем ты мне эту отвратительную историю рассказала? Дескать, вот как я и о вас думаю? — София Павловна принялась сморкаться в кружевной крохотный платочек.
— Извините, пожалуйста, — сказала Шура испуганно. — Пожалуйста, София Павловна. Я дура.
София Павловна стояла перед нею и размышляла. Девушка ведь права: одна такая преподавательница, трусливая, случайная в школе, способна отравить детское сознание на многие-многие годы, может быть и на всю жизнь. И не она, не Шура, виновата в том, чего наговорила сейчас о неприятностях. Виновата физкультурница, у которой язык повернулся требовать от мальчугана, которому было очень больно: «Скажи, что это без меня, что ты сам, сам…»
Что же делать? Тоже пытаться избежать возможных «неприятностей» для себя, избежать разговоров о том, что не уследила, распустила, черт знает что устроила в своем лагере? София Павловна даже покраснела от подобной мысли. — Шура, — сказала она. — Я готова нести за тебя любую ответственность. Я готова защищать не себя, а тебя. Но при условии… Скажи, какие у тебя отношения с этим человеком?
— Я люблю его, София Павловна, — еле слышно ответила девушка. — Я его очень люблю. Он замечательный человек. И он меня любит.
— Вот при этом условии, Шура, я за тебя отвечу перед кем угодно. — Помолчав, она спросила: — И что же вы думаете делать?
— Мы поженимся, София Павловна. Он меня просит об этом.
— А дальше?
— Пока не знаю. Но что в том трудного? Я скоро закончу институт, тоже стану учительницей. Я могу приехать сюда. А может быть, он переведется в Старгород. Не все ли равно где, лишь бы вместе…
София Павловна обняла ее, погладила по спине.
Инцидент, однако, на этом не исчерпался. Пошли суды, и пересуды, на почве которых объединились и какие-то слои соседнего колхоза и весь без изъятия состав экспедиции. Заместитель сказал Софии Павловне:
— Вот в чем недостаток этих молодых добровольцев. Неустойчивость. Были бы нормальные рабочие, без девчоночьей романтики и без мальчишеских фантазий, ничего бы и не случилось. Ах, ах!
Особенно переживали школьницы и школьники. Девочки, которые жили в палатке Софии Павловны, непрерывно шушукались и умолкали, как только появлялась София Павловна. Она даже по ночам слышала тишайший шелест губ — говорили друг другу прямо в ухо. Мальчишки ходили на «разведки» по вечерам, попросту говоря, выслеживали влюбленных.
Поразмыслив, София Павловна пришла к выводу, что и Шуре и ее жениху, как его уже называли официально, надо уезжать. Она сказала им о том, и они, не споря, укатили в Старгород.
История эта изрядно отразилась на ходе раскопок. Работы шли хуже и медленнее — не столько копали, сколько говорили.
После отъезда Шуры дело стало постепенно налаживаться. София Павловна с радостью убе-ждалась в том, что экспедиция откапывает не что иное, как место древних поклонений одному из языческих богов, и скорее всего Перуну. Если это так, то здешние места уже и в первом тысячелетии новой эры были населены славянскими народами.
В один из горячих дней прикатил на катере по Кудесне Василий Антонович. Он осмотрел рас-коп, порадовался вместе с Софией Павловной находкам. А затем два дня подряд то под открытым небом, то в одной из палаток, то в каюте катера, стоявшего у берега, шли непрерывные заседания и совещания. София Павловна смеялась, уверяя, что сейчас здесь, как было на торжище X века.
И в самом деле, с низовьев Кудесны, со стороны Лады, тоже на катере, прибыла комиссия, которая обследовала речной путь до Старгорода и дальше, в глубь областей. Когда комиссия уехала, из окрестных колхозов к Василию Антоновичу потянулись председатели, парторги и агрономы. Говорили об осушке болот, об освоении пойм, ездили на болота, ходили по ним, брали почвенные пробы на поймах.
Потом, и тоже на катере, примчался Ковалев. Несколько часов сидели они с Василием Антоновичем на берегу, были серьезны. София Павловна слышала многократно повторяемую, фамилию Артамонова.
Очень был перепуган юный повар-практикант. Он пришел к Софии Павловне и сказал, что не может готовить ни Василию Антоновичу, ни K°валеву; может быть, она сама будет кормить своего мужа, продукты же есть.
— Руки-ноги трясутся, София Павловна.
— А почему, почему? — удивилась она.
— Так зто же кто? Это члены ЦК! Им готовить, полным шефом надо быть.
София Павловна весело посмеялась и рассказала все «членам ЦК». Те с таким аппетитом ели вечером жареных судаков и так хвалили кушанья, что практикант испугался еще больше: шутят, конечно, разыгрывают. Но его позвали и без всяких шуток выразили благодарность. Ковалев сказал:
— Вот так всегда, дружок, старайся. Помни, повар может и украсить жизнь человека и испортить ее. Всегда помни о человеке.
Перед отъездом обратно в Старгород Василий Антонович сказал Софии Павловне, что он, как это ни странно, остается дома в одиночестве. Юлия до того увлеклась Народным театром, что домой приходит только поспать, и тотчас исчезает. А Александр…
— Это, Соня, просто удивительно. Он взял отпуск и едет, знаешь куда? В Эстонию!
— В Эстонию?
— Эта девушка пригласила его туда, прокатиться. Милое дело? Вот съездит, говорит, к Павлушке, проведает его и отправится в вояж.
Посидели, пораздумывали.
— Как ты считаешь, — спросила София Павловна. — Хорошо это или плохо?
— Не знаю, Соньчик. Время покажет.
Василий Антонович уехал. София Павловна осталась размышлять одна. Юлия… София Павловна видела больше, чем Василий Антонович. Она видела, что не только театр захватил ее младшую сестру. У Юлии многое изменилось в отношениях с Владычиным. Никогда еще Юлия не была такой взволнованной, возбужденной, радостной, как после недавней поездки с ним за город. Ну что ж, может быть, найдет свое счастье. Как хорошо бы это было. Василий Антонович довольно холодно относится к Владычину. Но, пожалуй, напрасно. Владычин незаурядный человек, нет.
С Юлией, словом, все ясно. Но Александр, Александр… А что, собственно, Александр? Ничего плохого не будет, если он найдет мать Павлушке. Иначе у него ничего не получится. Сын у них, у Софии Павловны и Василия Антоновича, хороший, добрый, неглупый; но как-никак немножко чудаковатый. Не захотел нянек Павлушке: сам да сам, не желает он, чтобы Павлушка был кому-либо в тягость. Но как же он согласится, чтобы такую тягость принести этой, девушке, Майе? София Павловна поразводила руками. Она ничего тут поделать не могла, ничем помочь не могла. Их забота. Как хотят, так пусть и разбираются во всех сложных и путаных вопросах жизни.
Раскопки шли своим чередом, все больше драгоценных находок извлекали молодые археологи из перекопанной, перебранной, перещупанной руками древней земли. Сотрудники музея тщательно обрабатывали каждый найденный предмет, обмеривали, срисовывали его, фотографировали, принимали меры для закрепления и консервации.
Настал и такой день, когда из земли вышла огромная, казавшаяся поначалу бесформенной, колода из разъеденного тленом, черного от прожитого тысячелетия, дерева. По мере того как ее отчищали, колода все больше обретала формы. София Павловна даже вскрикнула, когда убедилась, что это именно то, на что она в тайне надеялась. Это было громадное изображение Перуна, древнего грозного бога славян. Ноги у нее ослабли, в своем изящном комбинезончике она опустилась прямо на землю, прикрыла глаза ладонью. Из начальницы, из руководителя экспедиции, из научного сотрудника, историка она на минуту превратилась в маленькую, взволнованную внезапной радостью женщину. Но только на минуту. В следующую минуту она уже была на ногах.
— Григорий Андреевич! — отдавала распоряжения своему заместителю. — Это дерево может начать очень быстро разрушаться от свежего воздуха. Примите немедленные меры для консервации.
Громких слов никто не говорил, но все понимали, что их находка вряд ли уступает находкам Шлимана или Картера.
Из окрестных деревень шли и шли люди посмотреть на древнего бога. Раньше на раскопе можно было толкаться где угодно. Сейчас София Павловна распорядилась обнести капище Перуна веревкой на кольях, и от этого веревочного ограждения все изменилось, стало по-музейному строго, — историю уже нельзя было панибратски похлопывать по плечу. Магическим образом веревка определила должную дистанцию между веком девятым и веком двадцатым. За нее и не пытались перейти; разглядывая черный обрубок дерева, послушно стояли перед нею.
51
Александр и Майя приехали в Таллин.
Для Александра это путешествие было полнейшей неожиданностью. Майя получила очередной отпуск и пришла, чтобы попрощаться.
— Знаете, — сказала она, — я, кажется, поеду в Эстонию. Мне очень хочется побывать в Нарве. Говорят, что когда человек уже немножко старенький, его всегда тянет в родные места. — Майя улыбалась. Но улыбалась с какой-то печалью.
— Я вам завидую, — ответил Александр. — Все, кто там побывал, рассказывают, что Эстония — очень красивый край. У меня тоже скоро отпуск. Не знаю, куда и поехать. Ни на курортах, ни в домах отдыха никогда не бывал. Все в пионерских, в спортивных, в студенческих лагерях. А в последние годы… — Александр хотел сказать, что в последние годы из-за Павлушки он и Сашенька приезжали сюда, к его родителям, жили на родительской даче неподалеку от Старгорода. Но не сказал этого, пожал плечами.
— Что ж, до свидания, Александр Васильевич. — Став еще печальней, Майя подала руку, уже хорошо ему знакомую, теплую и мягкую.
Весь день Александр был не совсем в себе. Со стороны казалось, что он силится что-то вспомнить и никак не может, раздражается из-за этого, забывает обо всем другом. Даже Булавин это заметил.
— Нет ли у вас температуры? Надышались чем-нибудь зловредным?
— Нет, нет, просто голова болит, Андрей Николаевич. Спал плохо. Пойду в отпуск, отдохну.
— А я, знаете, чудесно провел три недели, — сказал Булавин. — Просто великолепно. В завкоме предлагали путевку на юг, — отказался. С одним моим другом мы прожили в охотничьем заповеднике в верховьях Кудесны. Он и я увлекаемся любительской кинематографией. Столько наснимали из жизни зверей!.. Я бы вам непременно показал свои фильмы, да боюсь.
— Плохо получилось? — спросил Александр рассеянно.
— Что вы — плохо! Отлично. Но боюсь, что в следующий раз вы уже ко мне не придете. Это я вам на опыте говорю. У нас есть один товарищ, вы его, наверно, знаете, инженер из центральной лаборатории, его снимки наша многотиражка частенько печатает. Так вот, очень милый товарищ, собеседник прекрасный. Его все приглашают в гости к себе, к нему же не ходит никто. И с тех именно пор, как он увлекся кинематографией. Придешь, знаете, расположишься посидеть, поболтать так — на все темы понемножку, отдохнуть. А он уже устанавливает проекционный аппарат, развешивает простыни на стене, достает катушки пленок, и пошла-поехала. Честное слово, все его боятся из-за этих киносеансов. — Булавин взглянул в лицо Александру. — Нет, — сказал, — вы мне сегодня явно не нравитесь, Александр Васильевич. Шли бы, дорогой мой, в амбулаторию. А?
Александр ответил, что, пожалуй, действительно зайдет к врачу после смены.
— А мне на партийный комитет сегодня, — сказал Булавин. — Прямо после отпуска — и такое неприятное дело. Помните Демешкина? Ну того, который вашему отцу задавал на собрании вопрос о зарплате, владельца двухэтажного дома, огромного сада, огорода. Словом, такого купчины с партбилетом в кармане?
Как же, Александр помнил этого Демешкина. Он тогда так переживал за отца, вынужденного отвечать на злобные демешкинские вопросы.
— Старые большевики с ним бились, — про должал Булавин, — увещевали его, советовали, требовали отдать дом горсовету по соответствующей стоимости, получить взамен нормальную квартиру, бросить торгашество, спекуляцию. Ни да, ни нет не говорил, крутил, тянул время. В цехе с ним всю зиму душеспасительные беседы вели. В парткоме тоже. А недавно цеховая партийная организация наконец-то единогласно исключила его из партии. Будем сегодня утверждать их решение. Не сомневаюсь, что партийный комитет поддержит товарищей из цеха. Нельзя же, чтобы в партии, в коммунистической партии, состояли частные предприниматели! А ведь зто же именно частный предприниматель, чего там скрывать. Даже рабочую силу нанимает для обработки огорода, прибавочную стоимость выколачивает.
Вечером Александр оказался перед Майиным домом. Дверь отворила сама Майя: Увидев его, она вспыхнула и, как ему показалось, даже отступила в испуге.
Он позвал ее на улицу и, когда зашли за первый же угол, сказал:
— Майя, вы когда едете?
— Совсем скоро. На днях, Александр Васильевич.
— Возьмите меня с собой. Слышите, Майя? Тут она действительно отступила в великом удивлении и замешательстве.
— Как же так?..
— Очень просто, — раздраженно сказал он. — Поедем вместе, и всё. Вы уже билет купили? Нет? Ну и хорошо. Купим на полки рядом. И поедем. Завтра буду оформлять отпуск. Что же вы молчите?
— Вы же решили говорить все сами.
— Да, да, простите. Но я ничего не решил. Я только прошу вас взять меня с собой. Я тоже хочу в Эстонию. Понимаете?
— Я подумаю, — ответила Майя. — Я вам завтра скажу. Можно завтра?
Назавтра Майя пришла среди дня в цех и принесла два билета до Таллина.
— Спрячьте, пожалуйста, один из них себе в карман.
Александр взглянул на билеты. Оба были в жесткий купированный вагон, одно место на нижней полке, другое — на верхней.
— Спасибо, Майя, спасибо, — сказал, взволнованный. — Вечером отдам деньги.
— Не спешите. Потом когда-нибудь. У меня еще есть. Я всегда коплю себе на отпуск.
И вот они в Таллине. В Старгороде их провожали только сестра Майи и Юлия, потому что София Павловна раскапывала курган на Кудесне, а Василий Антонович тоже отправился в те места. Юлия была счастливая, она обняла Александра, обняла Майю, сказала, чтобы Александр нисколько не беспокоился о Павлушке, к которому он напрасно съездил вчера. К Павлушке его не пустили, заведующая была непреклонна: нечего волновать ребенка. В очередной родительский день Юлия его навестит. «С Игорем Владимировичем съездим», — шепнула она в ухо Александру.
В хороших таллинских гостиницах мест не было, нашли номер во второразрядной. Да и то это был всего один номер, а один он им не годился. Майя сказала, что надо устраиваться на частной квартире, это будет лучше всего. Она разговорилась с какими-то женщинами по-эстонски, и вечером путешественники вселились в уютный, окруженный садом, домик на той окраинной улице, которая дальше переходила в шоссе к курортному городу Пярну. Приветливая пожилая хозяйка отвела Александру комнату внизу, Майе — в мансарде.
Перед сном они сидели в сумерках на скамейке в саду, дышали запахами цветов — резеды, левкоев, душистых Табаков, слушали отчаянный треск сверчков и кузнечиков, следили за тем, как, обдавая решетчатую изгородь белым ослепительным светом, по шоссе проносились машины.
— Никак не могу понять, — сказала Майя, — что вчера днем мы еще были дома, а сегодня вот здесь. И что мы почему-то вдвоем с вами. Это так странно.
— Почему же, Майечка, странно?
— Так.
— Может быть, странно оттого, что вы жалеете, дав согласие на мою поездку с вами? Вам не хотелось, чтобы я ехал?
— Вы задаете очень хитрые вопросы, Александр Васильевич.
— Хитрые? — Александр был удивлен.
— Да, хитрые. Очень хитрые. Вы хотите сделать так, чтобы я вам сказала все, а вы бы ничего. Нет, я вам тоже ничего не скажу.
Два дня они бродили по Таллину, приходя в свой домик только поздним вечером, ночевать. Они побывали в музеях, прошли вдоль древней городской стены, постояли возле башни над обрывом, они были в театре — Майя шепотом переводила Александру слова незнакомой ему оперы с героическим народным сюжетом. Обедали в ресторане «Глория» и по нескольку раз в день заходили в многочисленные таллинские кафе. Александру нравились эти кафе, в которых можно было сидеть сколько угодно за одной чашкой, разговаривать, слушать музыку. Днем тут было полно женщин. Они тесно сидели вокруг столиков, ели пирожные и оживленно болтали. Куда-то шли, какие-то где-то их ожидали дела. Но поболтать в уютном местечке со случайно встреченной подругой или просто знакомой — какая настоящая женщина может устоять перед подобной возможностью?
На четвертый день сели в автобус и отправились дальше — куда так стремилась Майя, в Нарву. Проезжали чистые маленькие городки, тихие селения, в которых все были заняты делом. Стояло время жатвы, и по всем дорогам двигались большие возы, нагруженные снопами пшеницы. В возы были запряжены сильные крупные лошади. Они не очень спешили, зато легко везли тяжести. На снопах сидели спокойные мужчины в жилетках и шляпах или молодые девушки с такими же, как Майины, голубыми глазами и белыми с золотом волосами.
В одном из городков Майя предложила пересесть на другой автобус и съездить, как сказала она, в край волшебных озер. Александр согласился. Он сказал, что здесь хозяйка она и он ей полностью подчиняется.
Заехали в глубь эстонской земли, где в березняках были разбросаны одинокие хутора, где стояли такие леса — будто из сказок, а озера и в самом деле были волшебные.
Майя быстро сговаривалась, их пускали ночевать в любой дом, устраивали им постели, застланные белоснежным, пахнувшим свежестью, накрахмаленным бельем, их угощали вкусными кушаньями, им давали лодки, если они хотели покататься по озерам, давали удочки и показывали хорошие места, если они хотели поудить рыбы.
— Вам нравится здесь, Александр Васильевич? — спрашивала Майя. — Вы не жалеете, что поехали со мной?
— Это что, тоже хитрый вопрос?
— Нет, это самый простодушный вопрос. Он относится только к окружающей природе. Вы могли поехать на юг, в Сочи или в Крым, где тоже красиво. А поехали в суровый северный край.
— Этот суровый край мне очень нравится. И я очень рад, что поехал сюда. Вас такой ответ устраивает?
— Да.
Они ездили от городка к городку, от селения к селению, все приближаясь к Нарве. В Нарву приехали на исходе второй недели путешествия. Приехали поздно вечером, после сильного летнего ливня. Блестел мокрый асфальт, капало с молодых деревьев.
В хорошей, новой гостинице было несколько свободных номеров. Майя поселилась в так называемом «люксе», в номере из двух комнат, окна которых выходили на улицу и на ту часть города, где был железнодорожный вокзал, — оттуда слышались гудки паровозов. Номер Александра был попроще, выходил во двор, где размещались гаражи и шумели машины.
Проснулся Александр от яркого солнечного света: в самое окно вовсю светило, солнце. За окном открывался такой вид, что Александр замер от восторга. Две древние крепости стояли одна против другой на крутых высоких берегах, разделенные быстрой, стремительной Наровой. Одну из них, Ивангородскую, строил Иван Грозный, другую возводили шведы. Сколько сражений видывали эти высокие, сложенные из серого камня, толстые стены, розовые от лучей раннего солнца. Здесь дрались полки Петра, здесь в зиму восемнадцатого года рождалась в боях Красная Армия, каждый метр земли орошен здесь кровью в годы Великой Отечественной войны. Над древней шведской крепостью высилась исщербленная, избитая снарядами узкая башня, точнее только часть башни — она была расколота продольно, один угол ее обвалился, другие чудом держались; а если не чудом, то запасом прочности, Какую придали ей средневековые мастера.
По Нарве Александру пришлось почти бегать за Майей. Она переходила из улицы в улицу от одних развалин к другим, показывала ему ратушу, остатки дома Петра. Но ни того дома, где жила когда-то семья Майи, ни того, где она после войны недолго прожила с сестрой, найти уже было невозможно. В Нарве от прошлого, даже и развалин, осталось совсем немного, все заняли новые дома, которые строились и строились, для них всё рыли новые котлованы, под них закладывались все новые фундаменты.
Зашли на заросший травой двор крепости, побывали в музее, разместившемся в небольшом домике близ готовой упасть на него расколотой башни, спустились к мосту через Нарову, сходили в Ивангород, где уже была не Эстония, а Ленинградская область.
Взволнованная, раскрасневшаяся от возбуждения, Майя все время спешила и спешила, шла все дальше и дальше. Александр никогда еще ее такой не видал. Она была вся в себе, в своих воспоминаниях, в своем прошлом.
Назавтра, спозаранку, захватив еды, они отправились пешком вдоль Наровы, в такое место на берегу Финского залива, которое Майя называла: «Нарва-Ииесу», а на дорожных указателях о нем было сказано: «Усть-Нарва». Майя сказала, что это замечательное место: раньше, еще в царское время, туда из Петербурга ездили богатые на дачу, а в дни буржуазной Эстонии съезжались таллинские богачи.
Шли по шоссе, все время справа был берег реки, а слева тянулись поля; миновали старые могилы русских солдат, с памятником из гранитных валунов и чугунных пушек; встречались им и могилы советских воинов, увенчанные красными столбиками, с вырезанными из латуни пятиконечными звездами, — все следы минувших боев. На быстрой Нарове покачивались рыбачьи лодки, рыбаки выбирали сети из воды; под берегом другие рыболовы, прикатившие из Нарвы на велосипедах и мотоциклах, закидывали удочки с красными и зелеными поплавками.
Путь оказался долгим, около восемнадцати километров. В Усть-Нарву пришли к полудню, усталые, пропыленные дорожной пылью, наглотавшиеся запахов от разогретого солнцем асфальта. Пересекли сосновый лес, несколько улиц с разбросанными под соснами дачными домиками, вышли на прибрежный песок к заливу. Майя предложила выкупаться, это освежит с дороги. В соседних кустиках она переоделась в желтый купальный костюм, вышла оттуда к воде, яркая, будто вся из золота. Александр впервые увидел ее без обычных одежд, увидел ее сильную, красивую фигуру, белую, чуть розоватую, шелковистую кожу. Он загляделся. А Майя, пробежав по песку, прошлепав по мелководью, разбрасывая брызги, взмахнула руками и поплыла.
Она уплыла очень далеко и что-то кричала там, — кажется, объясняя, что вода хорошая. Александр тоже вошел в воду, и тоже поплыл. Вода и в самом деле была хорошая — не холодная, не теплая, — прохладная, ласкающая тело. От ее прикосновений прибывало бодрости, сил, азартной радости. Дорожная вялость прошла, руки выбрасывались из воды, как Чайкины крылья, длинно и размашисто. Волны лишь иногда, да и то на миг, позволяли увидеть золотую голову Майи; плеща вокруг, то подымая его, то опуская, то шлепая по лицу, по голове, они сбивали Александра с пути, и он бы, может быть, никогда не добрался до Майи, если бы она сама вскоре не подплыла. Она держалась на воде рядом, радостная, смеющаяся, сильная. А он уже уставал. Он и никогда-то не был выдающимся пловцом, а тут, отвыкнув за несколько лет, и вовсе не мог показать никакого класса.
Майя заметила это.
— Держитесь за меня, — сказала она. — Вот так, за пояс.
Он взялся, как советовала Майя, и понял, что сейчас же вместе с нею пойдет на дно. Он понял, что миновало время, когда он запросто мог брать ее руки в свои, спокойно касаться плечом ее плеча. Сегодня он переступал через новый рубеж своих отношений к Майе.
— Нет, — сказал он. — Я сам. — И, собирая все силы, плыл и плыл к берегу.
Майя плыла рядом, повернув к нему лицо, смотрела встревоженными глазами. Она была настороже.
Затем она вновь переоделась в кустах сказала ему, чтобы он дожидался ее на берегу, на теплом песке, или, если хочет, то вон там под соснами, на травке, а она сходит и найдет ночлег.
Ночлег был, конечно, найден. Майя вернулась, повела его обедать. После обеда они лежали на топчанах, на матрацах, набитых шумным сеном, под навесом во дворе того дома, где им предстояло ночевать. Потом весь вечер гуляли по берегу.
Вечер был теплый и тихий, волны улеглись; превращая их в текучее пламя, в залив опускалось огромное, во много раз большее, чем оно было днем, огненное солнце. На него уже можно было смотреть. Но в глазах, правда, после этого все-таки было ослепительно желто.
— Я слышал про солнце, — сказал Александр, — что когда оно совсем зайдет за морской горизонт, на какую-то минуту от него, пробиваясь сквозь воду, возникает зеленый луч. Но сам я этого не видел, хотя мы иногда ездили по вечерам на Стрелку. Туда ленинградцы специально приезжают, чтобы полюбоваться закатом на Финском заливе. Там ведь тоже этот залив.
— Я знаю, — ответила Майя. — Но там совсем маленький залив.
— Да, его даже называют Маркизовой лужей. Но он все равно красивый.
Они стояли на берегу и дожидались, когда солнце утонет в воде. Оно уже было в ней до половины.
— Странно, что вода от него не шипит, — сказал Александр. — Такой раскаленный шар.
Майя подошла к воде, обмакнула в нее пальцы, ответила в тон ему.
— Но все-таки она уже нагревается.
И в самом деле вода в заливе была гораздо теплее, чем днем.
Солнце ушло, так и не блеснув зеленым лучом. Небо на западе было багровым. Постепенно оно стало гаснуть, на берегу быстро темнело. Пошли туда, где, как помнилось Майе, среди сосен был парк, с прудами, мостиками, а главное — скамеечками.
Да, такой парк был, были и скамеечки. Всюду разгуливали дачники, всюду шли разговоры, что-то друг другу рассказывали, смеялись над рассказанным.
— «…Гуляют с дамами испытанные остряки», — сказал Александр словами поэта.
Они все же нашли одинокую скамью под раскидистым деревом, которое свешивало свои ветви прямо над ее спинкой и закрывало сидящих от посторонних глаз.
— Вам не холодно, Майя? — спросил Александр и, не дожидаясь ответа, осторожно обнял ее рукой за плечи.
— Что вы! — ответила Майя. — Очень тепло. — Она не отстранилась, не сделала попытки освободиться от его руки. Но раз ей не холодно, он сам вынужден был убрать руку.
Она вздохнула.
Молчали.
Александру казалось, что рядом с собой он слышит стук Майиного сердца. Но это стучало его собственное.
В кустах позади скамейки завозилась и раздра-экенно пискнула, не в силах уснуть, мелкая-пичужка.
— Майя, — сказал Александр шепотом.
— Что? — ответила она тоже еле слышно.
— Майечка.
— Что? — повторила она.
Он взял ее руку в свою, взял вторую, сложил их меж своими ладонями. Майины руки притихли, они насторожились, они ожидали.
— Майя, — шептал он. — Майя… Неужели вы ничего не чувствуете, ничего не понимаете?
— Я, может быть, кое-что понимаю, — ответила она еще тише — Но, может быть, я ошибаюсь. Может быть, я совсем жестоко ошибаюсь, Александр Васильевич. Я очень боюсь, если я ошибаюсь.
— Вы не ошибаетесь, нет. Это правда! — Он мял в своих ее горячие руки. Наверно, ей было больно. Но она терпела, и он ничего не замечал. — Правда, правда! Неужели вам нужны какие-то глупые слова? Неужели…
— Это совсем не глупые слова, — ответила она горячо. — Нет, нет, не глупые. Слышите?
— Ну не глупые, так старые, очень старые. Ими ничего не выскажешь. Их пять тысяч лет говорят, говорят на земле…
— Но я-то их, Александр Васильевич, никогда еще не слышала, — прошептала Майя, и он почувствовал, как ему на руку упала тяжелая теплая капля. За ней вторая, третья…
— Майечка! — воскликнул он. — Я глупый, глупый. Я очень глупый. Простите. — Он схватил ее голову, пальцы его утонули в мягких струях пахнувших чем-то хорошим золотых волос.
Пичуга в кустах пискнула еще раздраженней, и, шумя крыльями, натыкаясь на листья и ветви, полетела искать более спокойное место. Александр прижался щекой к щеке Майи и зашептал в ее душистые пряди все эти старые, древние, вечные слова, которые ей так хотелось слышать.
52
Василию Антоновичу сообщили, что с ним пожелала встретиться небольшая группа иностранцев, приехавших в Старгород. Это были туристы, но туристы особого рода: не просто рассматри-вальщики тех или иных достопримечательностей чужой для них страны, а рассматривалыцики, делавшие все со смыслом. Группа состояла из промышленников, из дельцов; некоторые, правда, называли себя еще и общественными деятелями. Интересовало их в Стране Советов что угодно, только не ее старина. Стариной увлекались жены, великовозрастные сынки и дочки дельцов, весь свет прошедшие с фотоаппаратами через плечо. Дельцы жаждали не по скороспелым, тенденциозным книжонкам иных из своих соотечественников, а собственными глазами увидеть и собственными руками пощупать промышленный потенциал Советов, разобраться в нем, обдумать его. В том, что Советы прочны, они убедились уже давно, вопреки не слишком умным выступлениям и деяниям своих официальных политиков. Они давно поняли и то, какая выгода для них заключается в деловых отношениях с Россией. Им хотелось получше понять людей, с которыми они готовы вступить в такие отношения, понять и увидеть, на чем же, на каком фундаменте построено здание советских успехов, чем питается оптимистическая уверенность жителей этой страны не только в своем завтрашнем дне, но и в завтрашнем дне всего мира. И вот, осмотрев церкви и монастыри Старго-рода, изведя на фотографирование и кинематогра-фирование их километры светочувствительной пленки, обойдя все залы музея, выслушав вдохновенную лекцию Черногуса о прошлом и настоящем Старгородчины, прокатившись на пароходе по Кудесне, побывав на стройках новых жилых кварталов и на фабрике изделий из синтетического волокна, для которой сырье вырабатывает химкомбинат, и в частности цех Александра, посидев на вечере в Клубе творческой интеллигенции, где старгородские композиторы, при большом стечении любителей музыки, показывали и обсуждали свои новые работы, съездив в один из совхозов и на сельскохозяйственную опытную станцию, которой руководит жена Лаврентьева, Клавдия, отдав должное официальному завтраку, устроенному в их честь председателем горсовета, приготовив председателю добрую сотню вопросов и получив на них ответы, деловые туристы во что бы то ни стало желали теперь встретиться с тем, кто, как они поняли, осуществляет и организует влияние Коммунистической партии на всю многообразную жизнь большой области.
— Василию Антоновичу было это не совсем с руки: время стояло горячее, уборочное, дни заполнялись заботами до предела. Но тем не менее он согласился на встречу. Он никогда не упускал случая побеседовать с иностранцами, с представителями капиталистического мира. Газет наших там мало, — так объяснял он это, — радио тоже не очень проникает туда. Надо пользоваться любой возможностью сказать им свое.
Они приехали в областной комитет. Приехали только мужчины; жен и детей, подчеркивая этим солидность своего визита, они с собой не взяли. Они просили показать им, где заседает бюро, где собираются пленумы обкома; потом все расположились в кабинете Василия Антоновича. Василий Антонович представил им Лаврентьева, Огнева, Сергеева, заведующих отделами обкома, ру-ководителей управлений облисполкома, объяснив, что он отнюдь не единоначальник в области, он только первый секретарь обкома, и он ничего бы не смог и ничего бы не значил, если бы не эти товарищи и не многие другие, которых просто физически невозможно собрать в таком кабинете, — если бы не их опыт, не их большая организаторская работа. Сегодня на этом месте находится он, завтра будут или товарищ Лаврентьев, или Сергеев, или кто-нибудь еще, а дело все равно пойдет, и пойдет потому, что за руководителями стоит большая многотысячная партийная организация области, а дальше и вся многомиллионная партия страны, которая не даст ни сбиться, ни свернуть в сторону с намеченного пути.
Сказав это, всей душой ощущая правоту каждого своего слова, он вместе с тем приумолк в некоторой внутренней растерянности. Вновь его охватила тревожная мысль о делах Артамонова. Ждут ответа на свои недоуменные вопросы Бак-санов и Залесский; ждут не только ответа, а и каких-то мер авторы писем, сообщившие о закупках масла высокогорцами в магазинах Старгородской области; ждет, наконец, ответа его собственная совесть, которая уже не первый раз спрашивает у него, как же он поступит: будет ли и дальше молчать, делая вид, что ничего не знает, что ничего не случилось, или отправится в Центральный Комитет?
Василий Антонович умел держать себя в руках. Тревожные мысли так и остались в его душе, гости не заметили паузы в рассказе хозяина.
Он им рассказывал о людях области, о механизаторах, о животноводах, рассказал о тяге колхозников к культуре, назвал число телевизоров, радиоприемников, велосипедов, мотоциклов в личном пользовании, о том, сколько построено домов в деревнях после войны, рассказал, как в переустройстве сельского быта участвуют старгородские архитекторы, даже об инженере Лебедеве рассказал и о том, как Лебедев полюбил в селе Озёры заведующую молочно-товарной фермой.
— Сидели здесь оба передо мной, — говорил он, — на этих стульях, на которых сидят сейчас, если не путаю имен, господин Аксель и господин Нортон… И что же я мог поделать? Я мог только пожелать им счастья. Да, господа, счастья.
Господин Аксель поерзал на столь историческом стуле и попросил слова, чтобы задать вопрос.
— Пожалуйста. Мы для того, кажется, и собрались, чтобы задавать вопросы и по мере сил отвечать на них.
— Господин Денисов, — заговорил Аксель, делая паузы, чтобы переводчик успевал переводить. — Меня немножко удивило ваше последнее замечание. Вы сказали: «Что же я мог поделать? Я им пожелал счастья». Известно, что в Советской стране все личное подчиняется общественному, государственному. Вы могли заставить их подчиниться тому долгу, который у вас считается общественным долгом. Если не вы в единственном числе, о чем вы нас предупредили вначале, то коллегиально, — господа бюро, господа пленум.
— Дорогой господин Аксель, — ответил Василий Антонович с улыбкой. — Конечно, вы правы, «господа бюро» и «господа пленум» могут многое, очень многое. И если надо, они это непременно сделают. Но вы ошибаетесь вот в чем: полагая, будто бы общественное и государственное у нас антагонистично с личным, будто бы во всех случаях личное у нас надо непременно приносить в жертву общественному и государственному. История Коммунистической партии Советского Союза, всего нашего Советского государства богата героизмом. Героическая связь существует и между теми первыми коммунистами, которые во имя дела партии, дела народа шли на эшафот в царские времена, и теми молодыми солдатами, которые закрывали собою амбразуры дотов противника в Отечественную войну. Личное в этих случаях — да, полностью подчинялось, так сказать, общественному. Иначе было и нельзя. Иначе не было бы и никакого личного. Вы должны уяснить, что мы против другого личного, такого, когда оно является личным единицы, такого, которое вредит общественному, а следовательно, и многообразному личному многих. Наше общественное направлено на то, чтобы в его свете расцветало все то лучшее личное, что только есть в человеке. Мы за личное творчество, мы за личное счастье, мы за личную любовь. Для этого мы и такое могущественное государство создали, чтобы в нем было хорошо и свободно личности. Мы не потерпим, если какая-либо распущенная, распоясавшаяся личность примется топтать законы, которыми регулируются взаимоотношения людей в обществе. Но мы никогда не встанем на пути человека к его счастью, к радости. Лично я был бы величайшим идиотом, если бы принялся мешать этим двум любящим и не пожелал бы им счастья. Я не был бы коммунистом, вы понимаете?
Господа были сильно удивлены. Они перешептывались, золотыми вечными перьями стенографически черкали что-то в своих переплетенных сафьяновой кожей, изящных записных книжечках.
— Тогда позвольте еще один вопрос, — сказал господин Нортон. — Ваше утверждение, должен сказать — красивое утверждение, не очень вяжется с вашей историей. Всему миру известно, что большевики жестоки. Они начали с жестокости, с красного террора, с убийства своего царя и всей его семьи, и так поступали впредь. Если вы за счастье, то почему вы так жестоки?
Пригласив всех курить, Василий Антонович закурил и сам. Лиловые облака дыма от сигарет и папирос потянулись через раскрытые окна кабинета в парк.
— Вопрос вы задали серьезный, господин Нортон, — сказал Василий Антонович после длинного молчания. — Но вопрос задан, и надо отвечать. Прежде всего, должен сказать вам, что вы, как говорят у нас в народе, свалили все в одну кучу. Давайте эту кучу разберем и действительность очистим от мусора. Ответьте, пожалуйста, какими источниками вы пользовались?
— Я много читал о Советской России. — Нортон протирал очки лоскутом ярко-желтой замши. — Я читал, что писали в газетах, я читал книги, написанные самими русскими…
— Эмигрантами?
— Да, если хотите, эмигрантами. Я читал мемуары, читал романы. Я читал стенографические отчеты различных ваших крупных судебных процессов. Я был еще довольно молодой, только вступал, как принято говорить, на путь самостоятельной жизни, и мне в руки попал большой, четырехтомный роман одного русского генерала. Знаете, у меня по телу шла нервная сыпь от этого романа. Особенно от последней его части. С теми ужасами Чека, которые изображались в этой книге, могло соперничать только средневековье. А он был здесь при большевиках, этот генерал, он был у них в плену, он сам все испытал. Ему нельзя не верить.
— Не помните ли, как назывался роман и кто его автор? — спросил Василий Антонович.
— Это было очень давно. Перед тридцатыми годами. Название какое-то такое, в котором упоминается и царский орел и, если не ошибаюсь, и красный флаг.
— «От двуглавого орла к красному знамени», может быть? Сочинение генерала Краснова?
— Да, да! — закричал обрадованно господин Нортон. — Да, именно так. Ужасно! Генералу, который попал в руки Чека, обваривают кипятком кисти рук и снимают с них кожу — как перчатки. Разве это политическая борьба? Это каннибализм! — Нортона всего передернуло. — Извините, — сказал он. — Но я должен вам кое-что продемонстрировать. — Он вынул запонку из манжета сорочки и, подняв рукав, обнажил руку до локтя. По коже бежала мелкая быстрая сыпь. — До сих пор это со мной происходит после тех чтений. А прошло почти треть века.
— Я вам сочувствую, — сказал Василий Антонович. — Мы все вас отлично понимаем, господин Нортон. Почти каждый из нас — и товарищ Лаврентьев, и товарищ Сергеев, и товарищ Костин, и многие другие, в том числе и ваш покорный слуга, можем вот так закатать рукава, расстегнуть воротники, задрать рубашки или приподнять брючины — простите за грубую прозу — и показать вам свои раны. На том же месте руки, где у вас выступает сыпь, товарищ Костин может показать синий пятизначный номер, под которым он значился в Бухенвальде. Мы вас понимаем, дорогой друг. В общем-то, и вы и мы пострадали от одного и того же врага — мы физически, вы морально. Мы с вами пострадали от человеконенавистнического антикоммунизма, представьте себе! Человеконенавистническим было все гитлеровское, фашистское государство. К человеконенавистникам и антикоммунистам принадлежал и контрреволюционный генерал Краснов.
— Да но он был соратником социалиста Керенского.
— Когда они сидели вместе в Гатчине и в трогательном единении монархиста и, так сказать, социалиста гнали казаков на революционный Петроград? Вы что же, всерьез считаете Керенского социалистом? Хорош социалист, который сотрудничает с открытыми врагами революции, который громит партию большевиков, который травит своими ищейками товарища Ленина! Социалист, который пошел против советской, народной власти! Этот социалист с превеликим удовольствием жил в бывших царских апартаментах, нежился в бывшей постели бывшей императрицы Марии Федоровны. А генерал, о котором вы говорите, этот сочинитель антисоветских романов?.. Я тоже читал его роман, и не так давно — в конце минувшей войны. Мне он попался в только что освобожденной от немцев Риге. Да, четыре тома, с черным орлом и языками пламени на обложках. Главное действующее лицо этого романа — он сам, этот Краснов. Он называет себя там: Саблиным. Понимаете: Саблин! Краснов же кавалерийский генерал. А у кавалеристов оружие — шашка, сабля. Да, он был у большевиков в плену. Его привели в Смольный, в штаб революции. Но тотчас отпустили домой. Под честное генеральское слово. Не в этом романце, а в другой книге, которая называется «На внутреннем фронте», он сгоряча-то, по следам событий, написал было правду. А потом потянуло и на клевету. Честное генеральское слово оказалось не слишком прочным. Краснов сбежал. Сбежал на Дон, и не ему сдирали кожу на руках, а он это делал: белобандиты Краснова замучили не одну тысячу людей. Вот где правда. Теперь о красном терроре. Советская власть не пролила ни капли крови до того часа, пока в тысяча девятьсот восемнадцатом году не подняла-свою голову контрреволюция, пока она не выстрелила в Ленина, пока не убила Урицкого, пока не начались провокационные покушения на иностранных дипломатов: убийство Мирбаха, например. На красный террор нас вынудили противники советской власти. Это была вынужденная мера защиты молодого государства, это была самооборона. Так что насчет того, будто бы жестокость — в нашей природе, это вы, господа, бросьте. По романам Красновых-Саблиных об истории не судите. Кстати, романчик этот, в частности четвертая его часть, где главные «ужасы Чека», особенно ходко пошел в свет тогда, когда папа римский объявил «крестовый поход» против СССР, против коммунизма. Ирония судьбы: нас поход папы не очень-то тронул, — пострадали от него вы. Я имею в виду вашу сыпь. — Василий Антонович улыбнулся.
— А царская семья, царская семья! — Нортон не принял его шутки. — Вы не ответили.
— Такова была необходимость. Колчак и чехи приближались к Екатеринбургу. Жестокая, но необходимость. Иначе поступить было невозможно. Эта семья, если бы ее освободили белые, стала бы знаменем контрреволюционной борьбы, знаменем реставрации монархии. Слишком опасны были клещи иностранной интервенции, соединившейся с белогвардейщиной, чтобы мы могли хоть чем-то рисковать.
— А сейчас?.. Разве сейчас коммунизм иначе относился бы к царю?
— Конечно, иначе. Тогда царь был стержнем, вокруг которого собирались контрреволюционные силы. А в наших, сегодняшних условиях, когда коммунизм могуч, когда в мире две системы — капиталистическая и социалистическая, я бы даже сказал: социалистическая и капиталистическая, — личности царей не так уж много значат. Помните Михая в Румынии? Ему дали возможность задать стрекача. Народным силам он уже не был опасен. Я вам скажу, мне несколько лет назад, пришлось отдыхать в санатории, где лечилась дочь короля одной из нейтралистских восточных стран. Милая девушка, принцесса, понимаете ли, а я вот, коммунист, большевик, ее на лыжах учил ходить. Мы даже подружились. Время, дорогие друзья, иное время! Коммунизм, социалистическая система, повторяю, так могучи, что ни целые страны, бряцающие оружием, ни целые агрессивные блоки нам уже не страшны. А тем более отдельные личности. Путем белого террора нас вынудили на жестокость. Но когда это было! Тоже вспомнили… Если о нас и сегодня судить по тому, что было более сорока лет назад, то у нас, следовательно, нет ни миллионов тракторов в сельском хозяйстве, нет ни десятков гигантских гидроэлектростанций, нет ни многих десятков миллионов тонн стали ежегодно, нет спутников и ракет, прощупывающих космос, и так далее, и так далее. Словом, нет ничего. А между тем это у нас все есть, и мы можем, мы хотим и мы будем заниматься счастьем каждого, буквально каждого человека в стране, господа!
Вопрос жестокости был, видимо, исчерпан. К нему больше не возвращались. Начались вопросы о культуре. Василий Антонович рассказывал об условиях, в каких живут и работают стар-городские писатели, художники, композиторы, рассказывал о художнике — председателе колхоза, о своей беседе с молодыми колхозниками в Заборовье, о всеобщей, нарастающей тяге людей к бытовой и духовной культуре.
— Между прочим, — сказал один из иностранцев. — Мы видели в музее чудесные образцы кружев, которые изготавливаются в каком-то из ваших селений. — Он раскрыл книжку, прочел: — В «Чиркове». Прекрасная работа. Но нам не смогли ответить, нельзя ли купить такие изделия. Хотелось бы, конечно, побывать в этом селении. Но если нельзя побывать, то как бы купить это. Я, например, готов заключить договор… Я представитель коммерческих кругов. Мое дело торговать хорошими товарами. Это хороший товар, очень хороший. У него будет сбыт, Я готов заключить договор на приобретение большой партии местных кружев.
— Это можно обсудить, — ответил Василий Антонович с большой уверенностью в голосе, но с немалым сомнением в душе. Кто их знает, этих чирковских энтузиасток: может быть, или сами давно побросали свои коклюшки, или колхозное правление, заботясь о выполнении производственных планов, отправило мастериц на поля и на скотные дворы? — Съездить — это слишком далеко от Старгорода, — сказал он. — А продукция — пожалуйста, пожалуйста!
Беседа становилась все оживленнее, непринужденней, проще. Кто-то из гостей сказал, что когда он собирался в СССР, то знакомые ему не советовали брать ни фотоаппарат, ни киноаппарат, — дескать, энкавэдэ все равно не даст ничего снимать. И теперь он жалеет, что не взял аппараты. Все оказалось выдумкой.
— Да, конечно, — сказал Василий Антонович. — Снимайте что хотите, кроме военных объектов. Снимать военные объекты просто недружественно. Не так ли? Шаль, что некоторые туристы снимают то, что они могли бы с успехом снимать и у себя дома — помойные ямы, лужи, полуразвалившиеся хибары. Я бы, например, если бы попал в Нью-Йорк или в Рим, снимал бы то, чего нет у нас, — небоскребы, Колизей, собор святого Петра, римский Форум, картинки незнакомой мне народной жизни. А вот некоторых иностранных туристов интересуют в нашей стране только недостатки. Они рыщут за ними, носятся, вынюхивают. Даже жалко иной раз людей — в поисках помойной ямы не видят ничего другого. Я уже говорил нашим товарищам: а не сфотографировать ли нам самим все эти еще оставшиеся свалки и хибары, подготовить такой комплект снимков и, чтобы туристы-негативисты не слишком утруждались и не изводили бы зря фотоматериалы, вручать им при въезде в гостиницу.
Иностранцы весело посмеялись, поаплодировали:
— О, это прекрасная идея!
Они горячо благодарили Василия Антоновича за откровенную беседу, за интересные сведения, какие от него получили.
— Мы будем много над этим думать, — сказал Аксель, пожимая ему руку. — Мы обещаем думать совершенно объективно.
— Большего нам и не надо, — ответил Василий Антонович. — Если будет объективность, будут и дружеские, деловые отношения.
Представитель коммерции, уходя, еще раз напомнил о кружевах.
— Черт возьми, товарищи! — сказал Василий Антонович, когда они остались одни в его кабинете. — Как там это дело-то, с кружевницами? Кто знает? Вот, видите: даже съездить бы туда хотели! Дороги надо строить, дороги. Села перестраивать, улучшать, украшать. Придет час, не только вся Европа, весь мир к нам хлынет — смотреть, убеждаться на опыте, на наглядном примере, учиться у нас. Так как же с кружевницами-то, а? Покроем себя позором, если не сумеем хотя бы образцами снабдить этого коммерсанта.
Сергеев принялся звонить в различные областные и городские организации. Никто толком ничего не знал. Лишь к вечеру след обнаружился — да, кружева в Старгороде были, и не только образцы, а довольно уже много рулонов. Но все они валялись где-то на складе.
Отправились вдвоем с Сергеевым на склад. Там уже был Черногус. Он отчитывал заведующего, отчитывал меланхоличного толстяка, который оказался вышестоящим начальником этого за-ведующего.
Кружева, черные и суровые, лежали в штуках, под штабелями ситца и штапеля. Не выдержал, обозлился и Василий Антонович.
— Чтоб завтра были они в центральном универмаге. Прямо с утра. С открытия. Ясно? Чтоб был там отдел местных художественных изделий. Вы что — смеетесь? Девчонки-комсомолки полгода впустую работают. А это же деньги! Колхозу, деньги. Валюта, черт возьми! Ну и хозяева мы, ну и хозяева! По шее нам надо за такое хозяйствование.
Он откровенно радовался, когда назавтра ему сообщили, что торговля кружевами идет успешно, что иностранный коммерсант закупил почти весь их запас, что у него не хватило наличных денег и он написал чек на какой-то банк. Никто не знал, что с этим чеком делать: Старгород с заграницей не торговал чуть ли не с десятого века. За последнюю тысячу лет — первый случай. Созвонились с Москвой, и там все объяснили, все урегулировалось. В Чиркове отправили телеграмму, чтобы отгружали остальную продукцию, если она накопилась, сообщили, что на счет колхоза переводится весьма крупная сумма.
— Вот так, вот так! — говорил Василий Антонович Сергееву. — Новые товары в универмагах Парижа, Лондона, Стокгольма. Что такое? — спрашивают. — А это кружева из Старгорода. Понял? А где такой, этот Старгород? Вот, Иван Иванович, до чего мы дожили с тобой. А ты тут говорил: захолустье, провинция!
— Никогда этого я не говорил.
— Ну думал, может быть, иной раз — когда туговато с посевной или уборочной приходилось. Не думал, скажешь, нет? А между прочим, это все София Павловна, Соня, с кружевами-то. Я им особого значения не придавал. Раскопала коклюшки и подушки.
— Давай пошлем ей телеграмму, — сказал Сергеев.
— Давай. Она, верно, уже сама скоро приедет. Но давай. Ей приятно будет. Садись пиши: «Балабановский сельсовет. Почтовое отделение Балабаново. Экспедиция областного музея. Начальнику Софии Павловне Денисовой…»
53
Василий Антонович и Юлия ожидали на перроне. Поезд, как всегда, подходил неторопливо. Особенно медленно тянулись последние минуты. В окнах плыли лица; одни — улыбающиеся, радостные: увидели, значит, кого-то близкого, другие — утомленно-спокойные: их тут встречать некому, третьи — встревоженные, недоумевающие: должны встречать, а не встречают. У встречающих выражение на лицах примерно у всех одинаковое — ожидают.
Вагоны, скрипя, еще продолжали почти невидимое движение, но из них уже стали сходить самые нетерпеливые. В числе самых нетерпеливых были и Александр с Майей. Они вышли улыбающиеся, загорелые. После объятий Александр спросил:
— Как Павлушка?
— Хорошо, — ответила Юлия. — На днях возвращаются с дачи.
— Где мама?
— Все еще там — копает курган, — ответил Василий Антонович.
— Папа, — сказал Александр. — Познакомься. Это Майя.
— Но мы же знакомы! — Василий Антонович удивился столь странной шутке.
— Но вам теперь долго придется быть знакомыми, папа. Мы, папа, поженимся.
— Что ж, я тебя поздравляю, — сказал Василий Антонович. — А что касается Майи, то вам, Майечка, я искренне соболезную. Он странный тип, этот Александр Денисов.
Майя краснела и смущалась. Юлия взяла ее под руку.
Первой завезли домой Майю. Распахивая перед нею дверцу машины, Александр сказал, что он не прощается, что он скоро за ней зайдет.
Дома, собирая Александру завтрак, Юлия шумно выражала чувства одобрения.
— Молодец, Шурик, ты поступил правильно, удивительно правильно. У тебя будет такая жена, каких нет ни у кого. Она еще стеснена непривычной обстановкой, непривычным положением. Она просто еще очень молода. Обожди, через год-два расцветет. Сам будешь удивляться, кого ты нашел.
— А как, Шура, она относится к факту существования Павлушки? — спросил Василий Антонович.
— Но ведь ты помнишь — она сидела возле него, больного. И потом не раз…
— Это не совсем то, Шура, не совсем, — сказал Василий Антонович серьезно. — Одно дело добровольно, другое дело по необходимости, по обязанности.
Александр нахмурился.
— Мы на такую тему еще не говорили.
— А может быть, стоит поговорить?
— Не надо говорить, не надо! — воскликнула Юлия. — Если она тебя любит, этой проблемы не будет. Слышишь, Шурка! Не смей говорить об этом с Майей.
— Может быть, Юлия права, — согласился Василий Антонович, подымаясь со стула. — Ну я вас, ребятки, оставлю. День рабочий, долго гулять нельзя. Хорошо бы матери сообщить о случившемся, Шура. Чтобы не было для нее неожиданностью, когда приедет. Напиши. Адрес на тумбочке возле постели.
Василий Антонович спешил в обком. Вчера весь вечер просидели с Лаврентьевым, решая все ту же проблему. Сигналов о неблагополучии в Высокогорской области становилось так много, что ожидать чего-то еще было уже невозможно. Решили, что Василий Антонович должен снова съездить к Артамонову и поговорить с ним в открытую. Они оба считали такой разговор совершенно необходимым, были уверены, что без этого разговора ехать или писать в Москву не очень красиво, да и просто неправильно — сигналы ведь разные бывают. Артамонов не мальчик, а крупный партийный руководитель, давно доказавший свое умение работать. Легкомыслия, часто присущего молодым, он допустить не может. Дело, значит, не в легкомыслии. Дело в другом.
К этому времени в Старгородской партийной организации началась подготовка к областной конференции, которую назначили на вторую половину сентября. Надо было готовить материалы, продумывать и набрасывать тезисы отчетного доклада. Нелегко в такое время отрываться от своих собственных дел. Но и то дело никак не укладывалось в графу посторонних. Для Василия Антоновича с Лаврентьевым оно было делом совести каждого из них, кровным делом коммуниста.
— Езжай, Василий Антонович, езжай, — сказал Лаврентьев. — И не беспокойся. Тут будет все в порядке.
Созвонились, застали Артамонова на месте — у него шло очередное совещание, — условились, что он будет ждать Василия Антоновича к девяти вечера.
— А что за спешка? — спросил Артамонов, когда все уже было условлено. — Беда стряслась? — Чувствовалось, что старается говорить с повышенной бодростью, но Василий Антонович угадывал и другое: беспокойное желание поскорее узнать, с чем там к нему едут. Тон вопроса был не похож на обычный снисходительный тон Артамонова.
Василий Антонович припомнил день, когда после заседания пленума ЦК Артамонову вручали орден Ленина и звезду Героя Социалистического Труда. Василия Антоновича поразило тогда спокойствие Артамонова. Удивительно спокойно принял он награду из рук председателя Президиума Верховного Совета. Другие награжденные от волнения оступались на нетвердых ногах, бросались обнимать того, кто им вручил все это. Их состояние было так понятно Василию Антоновичу. Наверно бы, и он вел себя подобно девушке-узбечке, собравшей три сотни тонн хлопка машиной, или как свинарь, вырастивший более трех тысяч свиней, как председатель колхоза, добившийся блестящих успехов в продуктивном использовании каждого гектара колхозной земли. У него тогда одновременно шевельнулись и чувство уважения к Артамонову — с каким высоким достоинством умеет держаться человек, и чувство некоторой неприязни — уж так-то возноситься над другими не следовало бы никому. Даже вручающий награду был более взволнован, чем тот, кому она вручалась.
Артамонова поздравляли в кулуарах, подходили к нему, радостные, сияющие, будто они получили эту награду, поздравляли его, жали ему руку. Он принимал все с вялой снисходительной улыбкой. Высокий, внушительный, могучий, рассеянно смотрел поверх окружавших его людей.
Тогда это были мимолетные впечатления, на которых мысль почти не останавливалась. Теперь они почему-то приобретали большее значение, о них думалось больше, чем тогда.
— Просто надо кое-что выяснить, — ответил Василий Антонович. — По телефону это слишком долгий разговор.
— А, ну-ну… Жду, в общем.
Ровно в девять Василий Антонович вошел в его кабинет. Как он заметил еще с улицы, в здании обкома были освещены всего два-три окна. Рабочий день давно закончился. Шаги на лестнице и в пустых коридорах отдавались до того гулко, что невольно хотелось ставить ногу поаккуратней.
Артамонов пригласил в кресло. Принесли чаю, бутербродов. Начал расспрашивать о делах на Старгородчине.
Всю дорогу, не отвечая Бойко, рассуждавшему на международные или сугубо моральные темы, Василий Антонович обдумывал предстоящий разговор. Безмолвная беседа с Артамоновым шла в машине остро, прямо, откровенно. Артамонов был так прижат к стенке, что дальше уж и некуда. Но вот они сидят друг перед другом, помешивают крепчайший темно-красный чай в стаканах, и вопросы задает Артамонов, а не он, Василий Антонович, казалось, так отлично подготовившийся к трудному делу.
Василий Антонович подумал, что, наверно, множество важных разговоров на земле не состоялось только потому, что у тех, на чьей стороне правда, не хватило сил, мужества, решимости заговорить с теми, на стороне которых правды нет, но есть самомнение, нахальство и уверенность в том, что собеседник все равно слабее и все равно не отважится на те слова, которые только одни бы и способствовали победе правды.
Надо было собирать силы, надо было решаться.
— Дело не в том, Артем Герасимович, — начал он, чувствуя, как к голове с шумом приливает кровь, — совсем не в том, что ваши высоко-горцы у нас перехватили несколько тысяч голов скота и извели его отнюдь не для пополнения стада, а сдали на мясо. И не в том, что в наших магазинах вы скупали масло, чтобы продавать его государству в счет молока…
— Это чепуха! — перебил Артамонов резко. — Двух кляузников, которые строчили доносы об этом в ЦК, мы с треском выгнали из партии. Ты что, собираешь сплетни?
— Не перебивай, Артем Герасимович! — Василий Антонович сам удивился неожиданно пришедшему спокойствию. — Мне трудно было начать. Но теперь я все равно скажу тебе все.
— Скажи, скажи. Послушаем.
— Сводки, которые ты представляешь наверх, — дутые сводки, неверные, преувеличенные.
— Так, так, интересно.
— Несмотря на героический труд колхозников, рабочих совхозов, агрономов, зоотехников, сотен партийных работников, Высокогорская область идет не вверх, а вниз. У вас в этом году урожай значительно ниже прошлогоднего.
— Цыплят по осени считают. А кроме того, погодные условия…
— Уже осень, Артем Герасимович, цыплята у хороших хозяев подсчитаны. А погода — что у нас, что у вас, что у приморцев — одинаковая была. Однако…:
— Ну еще что?
— Порезав скот в прошлом году, за итоги которого ты получил Героя, вы подорвали свое животноводство. Если хочешь, я представлю тебе документы о том, что вы и сегодня еще сдаете мясо в счет прошлогоднего обязательства. Вы же прошлогоднее обязательство выполнили натурой только на две трети, остальное было на бумаге.
— Откуда у тебя такие сведения? — спросил серьезно Артамонов.
— Тебе я этого не скажу. Боюсь, что обидишь хороших людей…
— Кляузников, скажи точнее.
— Нет, именно хороших людей. Оберегаю их от твоих эмоций. Я скажу это только, если надо будет, в ЦК, Артем Герасимович.
В какое-то мгновение в Артамонове произошла внезапная перемена. До этого он иронически посмеивался, пофыркивал, возмущенно вскакивал. Тут сокрушенно покачал головой, сказал доверительно, проникновенно, с непередаваемой грустью:
— Ты прав, ты во многом прав, Денисов. Подвели меня, здорово подвели.
— Кто же, Артем Герасимович?
— Кто? Актив наш. И сам я. Понимаешь, не рассчитали силенок, не учли, что мы такая полоса России, которая пока что с Кубанью тягаться не может. Было обязательство за прошлый год по мясу. Нормальное обязательство. Около двух годовых планов. Обдуманное, пришедшее с низов — из колхозов, совхозов. Закрепленное на партийной конференции, А тут сидим как-то, бюро шло, окончательно оформляем обязательство перед тем, как отправить его в Москву. Ну черт и попутал..»
— То есть?
— Что «то есть»! Взяли и вместо двух годовых планов вписали три. Три! Учитываешь? А раз вписали, надо выполнять. Ну и вот… Я перед тобой, видишь, как на духу, как перед попом на исповеди. Весь тут. Как знаешь, так и суди. Что же, по-твоему, мы отказываться должны были от своих слов? Какое бы это впечатление произвело в массах? Хороши большевики, взялись Америку догонять, а сами на попятный.
— Два годовых плана — это не было бы на попятный. Мы полтора дали, и то считаем, что хороший вклад в общее дело сделали. Правда, и золотых звезд не получили.
— Ты что же — намекаешь на карьеризм? Это, друг мой, не по-товарищески. Я, товарищ Денисов, с комсомольских лет на передовой линии. Не за ордена жил, за дело партии.
— Но ведь объективно — ты навредил сейчас партии. У тебя колхозы разорились. В долгах как в шелках. Должны мясо, должны молоко, должны деньги банку. Ты стоишь перед страшной зимой. У вас же нет кормов. Если опять будете силос у соседей клянчить, вам это не поможет. Столько, сколько вам надобно, мы дать не можем. А кроме того, у вас не только сочных, у вас и концентрированных кормов нет.
— Если соседи у нас настоящие коммунисты — в помощи не откажут. Дело делаем общее. Мы не отдельное государство, а одно.
— А кто на бюро предложил эти три годовых плана? — спросил Василий Антонович после долгого раздумия.
— Кажется, я, — ответил Артамонов. — Но разве это меняет дело? Решали коллективно. Если у кого были возражения, могли бы сказать, запротестовать.
— У тебя запротестуешь! — Василий Антонович зло двинул пепельницу на столе. — Помню, как ты вел бюро, когда мы приезжали. Рта разинуть людям ке давал.
— А почему же они не разевают? — Артамонов даже кулаком трахнул по столу. — Почему молчат? Почему соглашаются?
— Уж очень регалий у тебя много, Артем Герасимович. Подавляешь ими.
— Не сам делаю эти регалии, не сам, Василий Антонович. Учитываешь?
— Звезду Героя, получается, ты выковал себе все-таки сам. Третий план приписал. Бумагой его выполнил. Мог бы вовремя признаться в ошибке. Мог бы своевременно дать отбой. Ты этого не сделал. Почему?
— Я уже говорил, почему. Нельзя же престиж ронять.
— А колхозы разорять можно?
— Мы выправим, все выправим. У кого ошибок не бывает. Важно понять ошибку. Если хочешь знать, мы сегодня именно об этом и говорили. Ты звонил, а мы тут сидели. Мы попросим кормов, попросим денег, попросим скота подкинуть, семян.
— У кого попросите?
— Ну у кого, у кого?.. Ты маленький, что ли. Не у тебя же.
— У государства?
— Если мы работаем для государства… то и оно нам не откажет. Ты что же думаешь, я капиталы себе тут сколачиваю, да? Сам жру это мясо, эти корма, пью это молоко? Да? — Артамонов накалялся. — Для кого всё? Для кого? Я уже не молоденький, мне не двадцать, и даже уже не пятьдесят. Полоснет инфаркт по сердцу, и понесут все эти «звезды» впереди моих пяток, на красных подушечках. Что после меня останется? Каменные лабазы? Миллионы на сберкнижке? Дети да внуки останутся от стяжателя Артамонова! Да шесть пар белья. Куртка вот эта, затрепанная. Костюм, конечно, есть выходной. Да в нем в гроб положат. Приоденут почище.
Он говорил то, что мог бы сказать о себе и Василий Антонович. Он говорил правду. И это обезоруживало. В самом деле, Василий Антонович был в доме Артамонова, — что он там видел? Книги да ребячьи игрушки. Конечно, не во имя капиталов жил и работал Артамонов. Наверно, уймищу нахватал за свою жизнь всяческих выговоров — простых, строгих, строгих с предупреждением, с занесением в личное дело и без занесения, всяческих «на вид», «указать», «предупредить». И среди них время от времени мелькал орден или сверкнула вдруг Золотая Звезда. А что еще?
Было, правда, и «еще», и много «еще». Была радость от того, что труд твой приносил пользу тысячам людей, что от года к году жили они все лучше, и в какой-то мере, проводя политику партии, способствовал им в этом именно ты. Ну, а если такой радости нет, как получается у Артамонова? То за что же он работает, во имя чего живет, чем согревается его сердце?
— Не сомневайся, — снова сказал Артамонов. — Все исправим, Василий Антонович. Мы коммунисты и понимаем свою ответственность перед партией, перед народом.
— Это хорошо, — ответил Василий Антонович. У него становилось легче на сердце. В самом же деле, неисправимых нет. Трудно будет областной партийной организации, будет трудно обкому, самому Артамонову придется склонить гордую шею. Но исправить положение, безусловно, можно. Да просто надо, необходимо его исправить. О чем разговор! — Хорошо, — повторил он. — Но все-таки я считаю, что ты обязан сообщить в ЦК о случившемся. Давно это надо было сделать. Напрасно вы упорствуете. Зря, наверно, людей из партии исключили, обвинив их в клевете.
— Не зря, — перебил Артамонов. — Тут я с тобой не согласен. Нечего к кляузничеству приучатъ. Жалобы — это что, помощь? Это только трепка нервов.
— Зря, наверно, исключили, — не сдался Василий Антонович. — Я бы тебе советовал пересмотреть ваше решение. Сгоряча, полагаю, решали, осерчав на товарищей. А у них, думаешь, сердце меньше, чем у нас с тобой, болит за дело? Может быть, даже больше. Это же на их полях ничего не уродилось. Это нее их скот ты отправил на мясо. Не свой же.
— Не колхозников мы исключили. Один был кляузник из статистического управления, другой наш обкомовский работник, завсельхозотделом. Начальнички средней руки. Тоже не свой скот сдавали.
— Они где у тебя сейчас? Что делают?
— А черт их знает. Не хочешь ли к себе взять?
— Непременно. Это же замечательные люди. Такого дракона не побоялись. С такими, Артем Герасимович, работать можно с уверенностью, что не подведут. Твоим словцом скажу: учитываешь? Ты вот тут восклицал: чего молчали? Чего рот не разевали? Подвели, мол. А эти-то не молчали, рот разевали. Что ж ты их не оценил по достоинству? Подхалимы тебе нужны, молчальники, угодники. Своих мало, — наших подбираешь. К тебе недовольные Денисовым бегут, ты их принимаешь с распростертыми объятиями, квартиры даешь.
— Мелочь. Стоит ли об этом говорить, Василий Антонович.
— Обо всем стоит говорить. Любая картина из отдельных мазков складывается, из мелких штришков и черточек. Это одна из черточек. Благодетелем хочешь быть. Этаким Ваней Калитой. Собирателем. Но собирателем тех, кто тебе сладкие песенки в уши поет. А ты слушаешь, жмуришься от удовольствия — и в итоге многого не видишь сквозь сжатые-то веки.
— А ты что, особенный? — взорвался Артамонов. — Ты сладких песенок не любишь?
— Нет! — резко ответил и Василий Антонович. — Спрос рождает предложение. Я их не требую, мне их и не поют.
— Завидуешь, значит! В том-то все и дело! — Артамонов, нарочито смеясь, откинулся на спинку кресла. — Ларчик просто открывается. Эх ты, святой человек! Самому бы золотых звезд хотелось. Да не дают!
Василий Антонович переждал новый прилив крови к голове, сдержался, ответил спокойно:
— Я этого не слышал, Артем Герасимович. Того, что ты сейчас сказал. Иначе надо было бы встать и уйти. А мы еще разговор не окончили. Отношу твою выходку на счет расшатанных нервов. Понимаю тебя.
— Ты слишком великодушен, — мрачно сказал Артамонов. — До отвращения. Я так лицемерить не умею. Я человек открытый. Что думаю, то и говорю.
Выплеснув остатки чая прямо на ковровую дорожку, он налил в стакан боржому, не отрываясь выпил, снова налил и снова выпил, и тогда вылил в стакан все, что осталось в бутылке. Пузырьки газа скапливались на стекле. Василий Антонович следил за их возникновением, за их перебежками и думал о том, как же быть дальше.
— Словом, договариваемся так, — по-прежнему мрачно заговорил Артамонов. — Ты прав, я напишу обо всем в ЦК. Напишу, и мы будем работать. Здорово будем работать. А написать — напишу. Это ты верно. Сам, без всяких кляузников. Меня поймут. Только, знаешь, не торопи. Это не легко. Надо всему собраться, провести в себе полную внутреннюю мобилизацию. Верно же?
— Думаю, что верно. Я рад за тебя, Артем Герасимович. Рад, что и ты пришел к такому решению. Нельзя, понимаешь… Мы — коммунисты… Мы не имеем права обманывать людей, водить их неверными дорогами. Если сами не видим, где дорога правильная, если не можем одну от другой отличить, значит, сказать об этом надо людям, пусть и они помогают ее искать, или пусть без нас с тобой, сами обходятся. Но только не обманывай людей.
— Прав, прав, — согласился Артамонов. Он, видимо, очень устал от такого разговора, время было позднее, часы показывали третий час ночи. — Я тоже рад. Рад, что мы поладили, что ты помог мне принять решение. Спасибо. — Потом он сказал: — Пойдем-ка ужинать. Да, может быть, у меня и переночуешь?
Василий Антонович отказался. Нет, нет, ему надо быть рано утром в Старгороде. Дел много. Терять времени не может. Поспит в машине.
— Сам знаешь нашу жизнь, Артем Герасимович.
Они хорошо распрощались. Василий Антонович уехал. Теперь ему было понятно, почему так сдержанно и с виду высокомерно вел себя полтора года назад Артамонов при вручении ему награды. Он же знал, что под этой наградой нет никакого фундамента, что она основана на песке. Он, может быть, не предугадывал всех последствий этого, но ему отлично было известно, что мясо, о котором с таким шумом область уже отрапортовала, еще не продано и вряд ли будет продано до конца в ближайший год. Он знал, что области грозят бескормица и снижение урожайности в новом году. Все вокруг за него радовались, поздравляли его, а у него от страха подкашивались ноги, цепенел язык. Ему кое-как удавалось сохранять хоть видимость спокойствия. Да, понятно, полученная так награда радости принести не может.
Мчалась машина в черной ночи, какие стоят в последних числах августа, ровно шумел мотор, ровно шуршали шины. Задремывалось. Наверно бы, и спалось. Если бы не желание поесть. Ночью, когда не спишь, всегда почему-то очень есть хочется.
— Роман Прокофьевич, — спросил он, — поужинать-то удалось, или как?
— Зашел в буфет, перехватил бутербродов. Бутылку лимонаду выпил. Да сладкий больно, приторный. Он не на сахарине, как думаете?
— А черт его знает. У них в Высокогорске все возможно.
— В горле липнет. Еще больше пить охота.
— А вот я голодный, аж щелкает в животе. Неужели не захватил бутербродик в дорогу?
— Захватил. Да он того…
— Чего?
— Сыр на нем, видать, в прошлом году нарезанный. Края загнулись. Вместо черепицы крышу крыть можно.
— Ну дай, попробую.
Василий Антонович принялся жевать черствую невкусную булку, которая крошилась в пальцах, и твердый, почему-то с привкусом сосновой коры, замасленный сыр.
— Может, остановимся где-нибудь у речки? Воды попьем.
Доехали до первого попавшего моста, сошли по насыпи вниз к берегу. Забросив удочки в черную воду, там сидели рыболовы. В отдалении горел костер. Пламя облизывало круглые бока большого котла, подвешенного на козлах. При свете костра было видно, что на удочках вместо поплавков маленькие колокольчики. Только было Василий Антонович хотел спросить, как клюет, один из колокольчиков зазвенел, рыболов сделал подсечку и потащил. Он вытащил подлещика. Где-то дальше по берегу звенел другой колокольчик. Там тоже плескалось, тоже, видимо, удача.
— Кружки нет, товарищи? — спросил Василий Антонович.
— Своя посудина есть. — Бойко подал ему граненый стакан. — Мытый, Василий Антонович. Зачерпнуть?
— Сам могу.
Пил холодную речную воду, пахнувшую рыбой, посматривал на котелок.
— Уха, что ли? — спросил.
— Уха. Общественная. Составите компанию, — угостим.
Чудесный запах источался из-под деревянной крышки, которой был накрыт котелок, нестерпимо хотелось хлебнуть чего-нибудь вкусного — и не чего-нибудь, а именно этой рыбацкой ухи, сваренной на открытом воздухе, и заглушить неотвязный сосновый привкус, оставшийся во рту от высоко-горского бутерброда. Но восток уже светлел, розовело над лесом. Под мостом еще держался нетронутый ночной мрак, а там, в небе, над розовой полосой, уже все больше зеленело.
— Спасибо, — ответил. — Спешим.
Ехали дальше. Дрема прошла. Василий Антонович раздумывал об этих рыбаках. Кто они, чем занимаются? В кустах он видел два мотороллера. Может быть, приехали из Высокогорска или, вернее, из Старгорода, потому что до Старгорода отсюда уже не больше часа-полутора езды. Хороший народ, наверно. Может быть, рабочие. Может быть, инженеры. А то и врачи, учителя, бухгалтеры. На рыбалках все равны, и перед лицом первобытных охотничьих инстинктов все утрачивают черты, присущие людям той или иной профессии.
В Старгород въехали, когда уже совсем рассвело и по городу шли первые трамваи.
В доме было тихо. Зашел в бывший свой кабинет. Александр спал, свернувшись под тонким одеялам. Теплых, стеганых он не признавал, — закалялся, видите ли. Заглянул к Юлии. Спала, раскинув руки, рассыпав волосы на подушках. Сильная, раздражающе красивая. Красивая даже и без своих кремов, помад, карандашей. Подумал о том, что и она и Александр вступают в какую-то новую жизнь, — одну прожили, начинают вторую, может быть, и на этот раз не последнюю. А он все живет одну. Пошел в спальню, увидел столик Софии Павловны. Встала перед ним Соня, милая, хорошая Соня. Как хорошо, что она у него есть, как хорошо, что через эту одну свою жизнь он идет вместе с нею, Соней.
Совершенно невыносимо, что она застряла там, на Кудесне. Звонила дня три назад, не обрадовала: задерживается. Какие-то новые находки, нельзя оставлять до будущего года, под снег. Проведет там еще добрый месяц. Школьники уедут, им с первого сентября учиться; уедут и некоторые студенты. Она договорилась — работать будут колхозные комсомольцы. Удивительно быстро находит всюду общий язык с комсомольцами. Напрасно она скрывает свои первые сединки, старательно подкрашивает их загадочными снадобьями. В сединках ли дело? Душой Соня моложе многих, даже и двадцатилетних. А он сам? Нет, и он не старик. Размышлять о тех красных подушечках, о которых почти со слезой в голосе только что говорил Артамонов, он не намерен.
54
— Папа, понимаешь, какое дело, — сказал Александр в один из сентябрьских вечеров. — Не знаю, поймешь ли ты меня правильно…
— До сих пор понимал.
— Дело в том, что я и Майя подали заявление в дирекцию и в завком на жилплощадь. Чтобы нам дали квартиру. Понимаешь?
— Вполне.
— Ну и как ты считаешь?
— Дадут или не дадут?
— Нет, не об этом. Как считаешь, если мы будем жить отдельно?
— Вообще-то, это правильно. Ты уже столько лет живешь самостоятельной жизнью. Я претензий, Александр, к тебе в этом смысле не имею. Нормальному человеку свойственно стремиться к самостоятельности. И я даже не спрашиваю о побуждениях.
— Ну понимаешь… Ты не спрашиваешь, но я, пожалуйста, объясню. Мы могли бы и здесь, шить. Верно? Но ты — секретарь обкома. У тебя свой режим и свой образ жизни. А к нам могут и будут приходить люди не совсем в том плане, к какому ты и мама привыкли. Могут быть инциденты. А зачем? Я рад, что еще не ссорился с родителями. И мне бы не хотелось ссориться с ними никогда. — Александр улыбнулся. — Бывают, конечно, преимущества, и не малые — жить зятю в доме тёщи и тестя, а невестке в доме свекра и свекрови. Тёща или свекровь по дому — то да се, все хозяйство на ней. Свёкор или тесть — тоже починки всякие, закупки дров на зиму, за огородом уход. Можно уезжать вдвоем куда хочешь и на сколько хочешь: за ребятишками, то есть за своими внуками, дед с бабкой присмотрят лучше даже, чем отец с матерью. У нас, как известно, это исключено. Ни ты в порядочные деды, ни мама в заботливые бабки не годитесь. Так что преимуществ, папа, никаких. Одни изъяны.
— Ладно, ладно, доказал! — Улыбнулся и Василий Антонович. — Но вы что, регистрироваться-то собираетесь? Или как?
— Свадьба будет, можешь не сомневаться. Только маму надо подождать. За этим все и дело.
— Правильно, — одобрил Василий Антонович. — А в смысле ее родственников — что там мне предстоит испытать? Не разъяснишь ли?
— Сестра да муж сестры. Майор-ракетчик. Ничего мужик, краснеть тебя не заставит, и вязаться ни с чем не станет.
— Добро.
Шли дни. Василий Антонович готовил отчетный доклад о работе обкома за два года. Много что надо было обдумать, многое не забыть, о многом рассказать. Получалось слишком длинное выступление, приходилось сжимать и сжимать его, выбрасывать и выбрасывать все второстепенное, оставляя только главное, важное, жизненное.
Партийная организация в области была не малая. В день открытия конференции в зрительном зале драматического театра собралось несколько сотен делегатов. После того как был избран рабочий президиум, а затем президиум почетный, председательствующий на этом первом заседании Лаврентьев слово для доклада предоставил Василию Антоновичу.
Василий Антонович вышел к трибуне, установленной на сцене справа от стола президиума, раскрыл папку с листами доклада, налил воды в стакан из графина, отпил глоток, кашлянул. Не первый раз стоит он на этой трибуне, перед этими четырьмя рожками микрофонов, усиливающих звук его голоса, не первый раз смотрит в заполненный людьми зал. Сколько было различных собраний, активов! А конференция эта — уже третья для него в Старгороде. На первой избрали в обком, на второй он отчитывался за первые два года работы. Да, трибуна знакомая. И все равно не легко справиться с волнением. Может же случиться и так, что контакта с залом не произойдет — будешь дудеть в свою дуду, а слова твои не затронут ни чувств, ни сознания слушающих. Может случиться, что все пойдет хорошо до каких-нибудь неточных выводов или утверждений, и тогда конец тебе — зал примется гудеть, обсуждать неудачно сказанное тобой, и никакие звонки председательствующего не помогут, доклад можешь считать не состоявшимся. Много грозных опасностей на пути докладчика. Стоит, например, на минуту запутаться в страницах заранее подготовленного текста, в цифровых таблицах, приложенных к нему, и в зале уже гул, ироническое оживление. Даже вот достаточно еще раз попить воды, и уже что-то в зале испортится. В горле сухо, пить, как на грех, хочется. Но нет, лучше уж перетерпеть до какой-либо удобной паузы.
Все зто Василий Антонович испытывал перед тем, как начать доклад. Заговорив, ободряемый строгой, внимательной тишиной в зале, он начал понемногу успокаиваться, голос его крепчал, проходила скованность, появились первые жесты, которые, в свою очередь, делались все свободнее и свободнее. И когда в каком-то месте послышались аплодисменты, он почувствовал, что можно и еще раз налить воды, это уже примут как должное.
Василий Антонович говорил о достижениях и недостатках в промышленности области, в сельском хозяйстве, в идейном воспитании масс. Говорил о трудовом героизме передовиков, о их воодушевляющем примере для других. Он называл имена, фамилии, приводил названия городов и сел. Делегаты конференции убеждались в том, что докладчик отлично знал положение дел. Говорил Василий Антонович и о культуре, о тяге людей к культуре. И после этого перешел к анализу работы и обкома и всего областного партийного аппарата. Он не скрывал недостатков, не старался что-то замазать, загладить. Но и не самобичевался.
Доклад получился большой, почти на два часа. Текст его был написан, но Василий Антонович то и дело отрывался от текста. В тексте не было истории с чирковскими кружевами, которые идут сейчас за границу; но пришлось к слову, и он об этой истории рассказал делегатам. В тексте и слова не было о председателе колхоза «Озёры» Григории Соломкине, который получил выговор в районе за увлечение живописью; под веселый смех всего зала рассказал Василий Антонович и об этой истории.
— Хорошо или плохо, — говорил он, — что колхозный председатель увлекается живописью? Считаю, что хорошо. И даже очень хорошо. Человек с разносторонними интересами, с широким горизонтом, шире ведет и то дело, которое для него является главным. В «Озёрах» нет делячества. Народ там богат духовно. И что вы думаете?.. Что касается меня, то я считаю: в этом не малую роль играет вдохновляющий, облагораживающий пример товарища Соломкина.
Дальше Василий Антонович сказал, что, поддерживая и одобряя личное увлечение живописью Соломкина, он не может поддержать затею с картинной галереей. Рано это колхозу и ни к чему. Кто туда будет ходить? Походят с неделю, пересмотрят все, и на этом кончится. Можно закрывать озерскую «Третьяковку» на замок. Так фактически оно уже и получилось. Не лучше ли попросить соответствующие организации прислать в область передвижную художественную выставку да повозить ее по группам колхозов. Можно и из настоящей Третьяковки кое-что раздобыть для такой передвижки, можно из Эрмитажа, из Русского музея — откуда угодно. Колхозник должен пользоваться подлинными культурными богатствами, а не их заменителями, не отходами, не вторым и не третьим сортами искусства.
— Кто, — говорил Василий Антонович, — кто обязан заботиться не только о хозяйственном процветании области, но и о культурном, духовном росте людей? Партийная организация в целом, и каждый коммунист в отдельности. Еще многое проходит мимо нас. Я не раз обращался к работникам местной промышленности. Поворачиваются плохо. Может быть, решения конференции их расшевелят. Вот примеры, товарищи. Вы знаете, что такое муштабель?
— Знаем! — крикнули два-три голоса.
— Очень рад, что вы знаете. Но большинство, как видим, молчит. Муштабель — это палочка для того, чтобы поддерживать руку художника, когда он на мольберте работает кистью, набрасывает тонкие мазки. Муштабелей в нашей области не найти. Художники ездят за ними в Москву. Деревянная палочка — из Москвы! Не стыдно ли нам, а? А расправилку для бабочек и жуков кто знает? Вижу поднятые руки. Это, наверно, преподаватели зоологии… Простое устройство: пара дощечек и между ними брусочек из пробки. Тоже из Москвы возят! Назову сотню предметов, необходимых людям искусства, любителям и исследователям природы, изобретателям, испытателям. Несложных в конце-то концов предметов, но которых в области не изготавливают. А кто же это должен делать? И к чему я это все?.. К тому, что с каждым годом жизнь народа становится многообразней, разносторонней, содержательней. Выдавая на гора сланец, выплавляя сталь, повышая урожайность полей и продуктивность животноводства, мы не должны забывать и об этом. Широко надо думать, шире, чем мы планируем в своих планах. Инициатива нужна, выдумка, волнение, творчество.
Хорошие слова нашел Василий Антонович, чтобы сказать об авангардной роли коммунистов. Во всех случаях истории Советского государства, когда предстояли большие, трудные дела, раздавался призыв: «Коммунисты, вперед!» Так было, так есть и так будет еще долго, пока партия, созданная Лениным, не выполнит до конца свою великую программу — не добьется полного построения коммунизма. А там видно будет, когда это будет достигнуто, — видно будет, как быть дальше.
— Коммунисты, вперед! — так Василий Антонович и закончил свой доклад.
Наградой ему за это были долгие дружные аплодисменты. Уставший, с мокрой от волнения шеей под тесноватым воротником, он собрал листы доклада, ушел на место, сел и вытащил носовой платок. Лаврентьев объявил перерыв, подходили товарищи, поздравляли с хорошим докладом, пожимали руки. Но Василий Антонович был еще целиком в докладе и не сразу стал замечать, что происходило вокруг.
После перерыва сделала доклад ревизионная комиссия, и начались прения. На трибуну выходили секретари райкомов, председатели колхозов, секретари заводских парткомов, директора, передовики рабочие и передовики колхозники, научные работники, работники искусств. Из их выступлений, как из пестрых, цветных камешков, по канве сделанного Василией Антоновичем доклада, складывалась большая мозаичная картина многообразной жизни области. Одни просто иллюстрировали что-то, высказанное в докладе, другие развивали, третьи поправляли и даже совсем опровергали.
Когда звучала критика по адресу обкома или, в частности, по отчетному докладу, Василий Антонович делал пометки в большом, раскрытом перед ним на столе блокноте. Особенно неприятным было для него выступление секретаря партийного комитета из Заборовья — Лисицына. Спокойно, вежливо, доказательно Лисицын говорил о том, что обком ничего не предпринял против набегов соседей на колхозы района, граничащего с Высокогорской областью.
— Мы писали в обком, просили принять меры. Меры принимались половинчатые. Не было у об-кома в этом вопросе принципиальности. От нас тащили скот, от нас тащили корма. Потащили потом и продукты. Нас уверяли, что это помощь соседу. А это было форменное попустительство, И привело оно к тому, что сейчас история повторяется. У них недород. Снова едут к нам за кормами. Еще только осень, товарищи! Что же будет зимой? Что весной начнется?
Лисицын не знал всех тонкостей и сложностей дела. Да они, эти тонкости, ему были и ни к чему. Он заботился о своем колхозе, и был совершенно прав. Ответить ему в заключительном слове будет отнюдь не легко. На днях Василий Антонович звонил Артамонову, справлялся, сообщил ли Артамонов о том, о чем условились, в ЦК. Да, да, ответил сосед, обком готовит такую записку: вот-вот будет закончена. Не говорить же об этом тут, на конференции. Обещания Артамонова имеют значение лишь для него, для Василия Антоновича, но для Лисицына, для других делегатов никакой реальной ценности они не представляют.
Первый день конференции закончился вполне благополучно. Была критика, но критика, не выходившая из обычных рамок. Василий Антонович и Лаврентьев ужинали с представителем ЦК, приехавшим на конференцию из Москвы. Тот хвалил доклад, хвалил выступления в прениях — принципиальные-де, умные, деловые. Высказал предположение, что и вся конференция пройдет на высоком уровне.
Хорошо закончился и второй день. Но на третий Василию Антоновичу пришлось испытать неожиданный и весьма чувствительный удар. Уже перед самым завершением прений слово предоставили Владычицу, секретарю Свердловского райкома партии. Владычин выступил горячо, говорил страстно и, что самое огорчительное для Василия Антоновича, почти под сплошные аплодисменты. Большая часть его речи была посвящена критике обкома и в частности критике самого Василия Антоновича. Владычин оттолкнулся от выступления Лисицына. Дескать, вот вам и другой пример неповоротливости обкома. А первым примером шла, конечно, история с долгой борьбой вокруг Суходолова, бывшего директора химкомбината, который чуть было не развалил комбинат. Владычин был, правда, деликатен, он не ссылался на приятельские отношения Василия Антоновича с Суходоловым. Он говорил только о деле, о том, что обком и лично Василий Антонович не оказали вовремя должной помощи ни коллективу комбината, ни министерству, которое считало справедливыми требования коллектива и давно было готово заменить Суходолова более способным работником. В итоге дело дошло до взрыва и только благодаря находчивости рабочих цеха не окончилась человеческими жертвами.
Зал гудел, слушая выступление Владычина. Сжав виски ладонями, опустив голову, Василий Антонович смотрел в стол, в раскрытый блокнот. К карандашу не прикасался. Возражать было нечего, Владычин был прав. И потому, что он был до предела прав, потому, что держался только фактов, ничего не передергивая и не преувеличи-вая, а кое-что даже тактично обходил, — Василий Антонович чувствовал к нему нарастающую неприязнь. Пусть бы он что-нибудь передернул, пусть бы допустил натяжку, пусть бы подпустил демагогии, — можно бы этим воспользоваться и дать решительный, эффектный отпор. Но никакой зацепки для этого Владычин в своем выступлении не допустил.
Лиха беда начало. После Владычина последовали еще два выступления с резкой критикой обкома. Секретарь одного сельского райкома вдребезги разнес Огнева за его неясную, нечеткую линию в идеологической работе, в постановке партийной учебы, в пропаганде и агитации.
— Придешь к нему советоваться, товарищи, ни да ни нет не говорит секретарь обкома. Слов произносит много, но получается это, как перележавшая луковица — сдираешь, сдираешь с нее одну рубашку за другой, никак до живого не доберешься, так ее и бросишь. Не понимаю таких людей, не понимаю, как становятся они руководителями? Неужели других-то, которые поопределенней, у нас нету?
Вторым был делегат с химкомбината, инженер. Он поддержал Владычина, дополнил рассказанную им историю бывшего директора Суходолова.
Трудно далось Василию Антоновичу заключительное слово. Все, что касалось различных претензий с мест, это можно было отрегулировать. Василий Антонович говорил спокойно, деловито, отвечал на вопросы, поданые в письменном виде. Но делая это, он все время думал о выступлении Владычина.
Толком он так ничего и не придумал. Он не придумал никакой увертки, никакого хитроумного маневра. Да он, собственно, над такими маневрами и не размышлял. Он честно рассказал конференции все и, как в свое время на заводском собрании, признал себя виноватым, сказал, что это было ему уроком.
Во второй половине дня началось выдвижение кандидатов в новый состав областного комитета; потом приступили к голосованию: получали бюллетени, отходили с ними кто куда, возвращались, опускали в желтый фанерный ящик. Василий Антонович тоже опустил свой бюллетень. Никого он в нем не вычеркивал, в том числе и себя. Когда-то он непременно замазывал карандашом или чернилами свою фамилию в бюллетенях. В бытность на заводе на него произвел незабываемое впечатление один случай. Вот так же тайным голосованием избирали цеховое партбюро. Выдвинули одного инженера. Проголосовали: у остальных семерых хоть по одному голосу, да против, а у того инженера против ни одного. «За себя значит, проголосовал? — сказал кто-то. — Да!.. И разошлись перешептываясь. Инженер остался как оплеванный. Он говорил потом Василию Антоновичу: «И в голову не пришло — вычеркивать себя. Раз выдвинули, чего же тут демонстрироват свою скромность. Это же скромность ложная, и о чем не говорящая». Василий Антонович с ним согласился. Но на всякий случай всегда с тех пор куда бы его ни выбирали, непременно свою фамилию в бюллетенях вычеркивал. Дабы не попасть в положение бедняги-инженера. На этот раз он себя не тронул, он полагал, что после такой критики и без его голоса немало наберется голосов против секретаря обкома Денисова.
Скверное это было чувство, чувство ожидания того, как решится твоя участь. Да, собственно дело не в участи. Он, Василий Антонович, инженер — и по образованию, и по опыту работь Место ему в жизни найдется. Обидно другое, обидно будет сознавать, что весь твой, в сущности, очень большой, — может быть, не слишком плодотворный, но все-таки большой труд, — признают ничего не стоящим, признают, что ты, коммунист Денисов, не был принципиальным, что ты только водил людей за нос четыре года и ничего ониот тебя не получили, ничего не приобрели. Уйдешь отсюда, и никакого следа после тебя не останется.
То, что в резолюции по его докладу, которую обсуждали, пока комиссия подсчитывала голоса, работа обкома была признана удовлетворительной, это не очень утешало. Обком мог работать удовлетворительно, обком это обком, он отнюдь не сводился к личности одного из его секретарей — в частности, к личности Денисова. А вот личность-то эта, он, Василий Антонович, могла и не справиться с работой.
Час спустя он с напряжением слушал, как председатель счетной комиссии сообщал результаты голосования. Сначала фамилии прочитывались по алфавиту. Назвали Владычина: столько-то за, два против. Почти сразу после Владычина шел он, Денисов: столько-то за, двадцать шесть против. Он почувствовал, что краснеет: лицу, шее стало нестерпимо жарко. Из нескольких сотен голосов двадцать шесть не так уж много; но все же их двадцать шесть, а не два, не три, не пять, как у подавляющего большинства. Он ждал что, может быть, у кого-то будет еще больше. Нет, нет, у всех неизмеримо меньше. У Лаврентьева тоже не мало — восемнадцать. Но не двадцать же шесть. У Сергеева — четырнадцать. Но тоже не двадцать шесть.
— Огнев! — называет председатель комиссии очередную фамилию. Он называет и уже примелькавшуюся одну и ту же цифру за, и отчетлизо выговаривает: — Шестьдесят три против! — Зал загудел встревоженно, удивленно и вместе с тем, как показалось Василию Антоновичу, удовлетворенно, будто бы именно такого результата тут и ждали.
Затем председатель читал список избранных в обком уже не по алфавиту, а по числу голосов, поданных за. Фамилия Василия Антоновича была где-то в конце списка. Но фамилия Огнева была еще дальше.
Сообщив, что товарищи, избранные в областной комитет и в ревизионную комиссию, должны собраться завтра в десять утра на первый пленум, Василий Антонович объявил конференцию закрытой.
Раздался чей-то мощный голос, он запевал «Интернационал». Грянула могучая мелодия, звучали большие, весомые, как гранитные глыбы, слова, полные величественного смысла. Как ни скверно было на душе Василия Антоновича, эти слова, эта мелодия, исполняемая всеми, кто был в зале, заставили его распрямить спину, выше поднять голову; у него прибавлялось сил, энергии, даже просветы радости мелькнули в сознании. В таком хоре он не чувствовал себя одиноким. Он был частицей большого, огромного, в котором все нужны, все необходимы, все имеют свое место.
Василий Антонович хотел незаметно исчезнуть: сесть в машину, и пусть это заняло бы хоть всю ночь, но на десять, на пять, на одну минуту, да повидать Соню, съездить к ней туда, на Кудесну, в колхоз, куда с наступлением холодов и дождей Соня перебралась из палаток. Нельзя было без Сони в таком состоянии. Только она поймет, только она поддержит. А к десяти утра он вернется уже другим человеком.
Но его поймал Лаврентьев.
— Василий Антонович, куда? Поедем ко мне. Клавдия ждет. Мы так условились. И не думай. Что? В Балабановский сельсовет? Два дня будешь ехать туда, два обратно. Дожди же, грязь. Дороги там… сам знаешь.
У Клавдии был накрыт стол. Были пироги, были какие-то интересные на вид кушанья из рыбы. Были наливки и настойки. Клавдия вовсю занимала гостя. Рассказывала о результатах сортоиспытания различных злаков, произведенных за лето. Она сказала о том, что один из сортов кукурузы не только дал початки и зерно молочной спелости, но уже и до молочновосковой дотянул. Если заняться селекцией на основе этого сорта, через несколько лет можно будет получить сорт, который станет вполне вызревать в условиях Старгородчины.
Но все же, несмотря на старания хозяев, вечер не был слишком веселым. Василий Антонович уехал рано. Когда выходил из машины возле подъезда, увидел Александра и Майю. Они шли с прогулки и вели с собой Павлушку.
Александр и Майя были дома до тех пор, пока Павлушка не уснул. Потом Александр пошел провожать Майю. Василий Антонович ходил по пустому дому, из комнаты в комнату; посидел в бывшем своем кабинете, порассматривал спящего Павлушку. «Внук, — размышлял он. — Я, следовательно, дед. Дед!»
Называл себя дедом, но вспоминалось ему время, когда и он был таким же, ну, может быть, немногим побольше, чем Павлушка, вспоминались Ополье и ни минуты не сидевшая без дела, замученная мать, мальчишки и девчонки, давние-давние друзья; и так дошел он в воспоминаниях до встречи с девушкой, которая покупала книги по истории, вспомнились ему первые ее слова, и не только вспомнились, он их явственно услышал в сумерках кабинета, — и на сердце стало легче.
Назавтра первый пленум нового обкома открыл представитель ЦК. Все, в том числе и Василий Антонович, сидели в зале.
Представитель ЦК вышел к столу президиума и весело сказал о том, что, поскольку бюро нет, и вообще никакого начальства в обкоме нет, или, точнее, — есть коллективное начальство: все пятьдесят три человека, собравшиеся сегодня, то, пожалуй, он должен на несколько минут взять бразды правления в свои руки. Каковы будут предложения насчет кандидатуры первого секретаря обкома?
— Денисов! — крикнуло одновременно множество голосов.
— Других предложений нет?
— Нет!
— Будем голосовать. Кто за? Считать нет смысла. Подавляющее большинство. Кто против? Нет. Кто воздержался? Тоже нет. Единогласно, значит. Что ж, поздравляю, Василий Антонович! Передаю бразды тебе. Уж теперь сам веди пленум дальше.
Василий Антонович, взволнованный единодушием, с каким его избрали, вышел к столу, спросил, какие будут предложения по составу нового бюро обкома.
— А какие предложения есть у вас? — крикнули ему с места.
Он стал называть фамилии тех, кто был и в бюро старого состава. Лаврентьев. Сергеев… Когда назвал фамилию Огнева, вышел секретарь сельского райкома, который выступил на конференции с критикой работы Огнева, и сказал, что он категорически против того, чтобы Огнев снова был в бюро. Категорически против.
— Это же мертвый человек! На пенсию рано — годы еще не те. Значит, надо поработать на низовой практической работе. Может быть, жизнь его поразогреет, разожжет.
Сельского секретаря поддержали.
— Что ж, — сказал Василий Антонович. — Вопрос ясен. — Он не был, этот вопрос, для него очень ясным, напротив, был несколько неожиданным. Но он сказал: вопрос ясен. Он понимал, какая сила — обком, пленум обкома. Ясно было одно — что надо этой силе подчиняться. — Проголосуем, поскольку было мое предложение избрать товарища Огнева в бюро обкома. Кто за? Видимо, я один. Кто против? О!.. Подавляющее большинство. — Он нагнулся к представителю ЦК. Потом поманил к себе Лаврентьева, Сергеева, других только что избранных членов бюро обкома, они пошептались за столом. — Товарищи, — сказал Василий Антонович, обращаясь к залу, — есть предложение устроить коротенький, минут на десять, перерыв.
В перерыве уже избранные в новое бюро думали о том, кого же предложить на место Огнева. Назывались различные фамилии. Но он думал все о ней, о ней, беспокоившей его, фамилии. Владычин… Да, Владычин должен сменить Огнева. В нем есть что-то раздражающее Василия Антоновича. Но это раздражающее как раз и необходимо. Это энергия Владычина, его молодость, бесстрашие, решимость идти в любое сражение, широта и самостоятельность взглядов. Нельзя равняться только на то, что тебя лично устраивает. Какой-то, мудрец сказал, что здравомыслящим мы склонны называть лишь того, кто думает так же, как мы. Подбор по такому признаку не полезен. Он, этот Владычин, колючий, взъерошенный. Ладить с ним, наверно, нелегко. Но «ладить» — это не равнозначно «работать». А работать он умеет.
Василий Антонович высказал свою мысль, и с ним согласились. И когда перерыв окончился, он предложил пленуму обсудить кандидатуру члена областного комитета, секретаря Свердловского райкома партии Игоря Владимировича Владычина.
Владычина не просили вставать и показываться или рассказывать свою биографию. С ним познакомились на конференции.
— Знаем! — закричали со всех сторон. — Правильно. Поддерживаем.
Проголосовали. Владычин был избран в бюро, секретарем обкома, единогласно. Короткий, организационный пленум закрылся. Расходясь, люди говорили только об одном — о том удивительном шаге, какой сделал Денисов. Жаль, что разговоров этих не слышал Василий Антонович. Он бы гордился. О нем говорили хорошо.
— Железный мужик! — сказал кто-то. — Через все переступил. Через личное, через обиду, через критику. Честно говоря, я его вчера выбросил из бюллетеня. Сегодня бы оставил. Даже бы жирной чертой подчеркнул.
В этот же день собралось и новое бюро. Огнева не было на привычном месте. Был Владычин, немножко смущающийся, тихий; пытливым, прощупывающим взглядом он посматривал на Василия Антоновича.
Вечером Юлия сказала:
— Василий Антонович, я хотела дождаться Сони. Но Соня неизвестно еще когда вернется.
— Почему — неизвестно? Скоро теперь. Буквально через несколько дней.
— Ну все равно, это уже особого значения не имеет. Мы поженились с Игорем. И я, хочешь не хочешь, должна переехать к нему. Я его жена, Василий Антонович.
Василий Антонович не долго думал над тем, кто такой этот «Игорь».
— Ах так? — сказал он. — Ну да, да, да. Я тебя, Юлия, поздравляю. Но почему же спешка? Соню бы подождала…
— Теперь мне просто неудобно у вас жить. И без того получается не совсем ладно: два секретаря обкома женаты на сестрах. Родственные связи. Семейственность.
— А что же делать? Не резать же одного из нас или кого-либо из вас, сестер? Словом, раз ты жена, слушайся его. Мой голос веса уже не имеет.
Он обнял ее, кажется, впервые в жизни, поцеловал в щеку. Черт ее принес полтора года назад в Старгород! Злился тогда на эту красивую, молодую, по его мнению, беспутную бабу. А вот привык, вновь и как-то по-новому вошла она в семью. Теперь отрывать надо было живое. Все расставания отвратительны. Любое из них — разграбление души. Шурка уходит, Юлька уходит…
— Взбесились вы все! — сказал он и ушел в спальню. Сел за столик Софии Павловны, трогал разложенные на нем ее карандашики, приспособления для маникюра, переставлял флаконы. И о чем-то думал. Но о чем — объяснить толком бы не смог.
55
Софию Павловну доставили на санитарном самолете. У нее было двустороннее воспаление легких, как сказал врач: крупозное и тотальное. Температура была за сорок. София Павловна по временам теряла сознание. Но сознание ее прояснилось, когда она увидела испуганные глаза Василия Антоновича, вместе с Александром и Юлией встретившего самолет в аэропорту.
— Васенька, — сквозь кашель сказала София Павловна. — Родненький… Не хочу в больницу. Пожалуйста, не надо больницы. Не отдавай меня в больницу. Я хочу домой. Я так давно не была дома. Я хочу домой… Ведь это не заразная болезнь, ты же сам знаешь.
Чудачка, она еще объясняла, что ее заболевание не грозит ему инфекцией, будто бы случись у нее хоть сыпной тиф, хоть чума или холера, будто бы и в том случае это могло его испугать.
Василий Антонович посоветовался с медиками, и Софию Павловну отвезли не в больницу, а домой. Юлия, Александр и даже Майя — все превратились в сиделок возле ее постели. В помощь им больница прислала медицинскую сестру и дважды в день приезжал врач.
Больную пичкали порошками, каплями, микстурами, делали уколы. Она металась в жару, корчилась от ужасающей силы кашля. Ей было больно, она стонала в беспамятстве. Но когда по временам приходила в себя, благодарно всем улыбалась.
Возвращаясь домой, Василий Антонович выдворял из спальной и добровольных и профессиональных сиделок, усаживался возле Сониной постели сам, дремал возле нее; просыпаясь, вслушивался в ее торопливое, хриплое, незнакомое дыхание. София Павловна редко болела; к нездоровью ее Василий Антонович не привык, и потому болезни Софии Павловны его до крайности расстраивали, выводили из равновесия, он боялся их, торопил врачей, чтобы поскорее лечили, торопил Софию Павловну, чтобы скорее поправлялась. «Ну что тебе дать, какое лекарство? — спрашивал то и дело. — Хочешь эту микстуру? Это очень хорошая микстура. А может быть, вот эти порошки? Очень хорошие порошки». Она соглашалась и на микстуру и на порошки. Ей нравилось, когда он ее лечил, и очень хотелось побыстрее поправиться. В итоге, когда возле нее бывал Василий Антонович, лекарств шло раза в два больше. Дав Софии Павловне или ту микстуру, или эти порошки, он уже через минуту спрашивал: «Ну, как, Соньчик, лучше тебе?» — «Да, конечно, — через силу отвечала она, — значительно. — Она не хотела его расстраивать., — Теперь я очень скоро встану». А через полчаса он вновь предлагал ей какие-нибудь капли или таблетки.
Это были страшные для Василия Антоновича дни. Врачи, отзывая его в столовую, говорили ему, что здоровьем Софии Павловны надо заняться поосновательней. У нее и сердце неважное» и с печенью нелады, и артериальное давление излишне пониженное. Как-то так получалось, что, начиная с войны, со времен многочисленных ранений Василия Антоновича и его долгих лежаний по госпиталям, у них в семье занимались только его здоровьем. София Павловна всегда была здорова, всегда беспокоилась только о нем, о нем, чтобы и он был здоров. Он и стал в конце кон-цов совершенно здоровым, даже никаких недомоганий не знает. А она… Она в этих заботах о нем мало-помалу здоровье свое порастратила. Так нельзя, нельзя, нельзя. Надо немедленно принимать меры, надо отправить Соню на курорт, надо, чтобы она прежде всего как следует отдохнула., Два года в отпуске не была. Затеяла эти раскопки, пропустила лето, вот и надорвалась. То, что там где-то оступилась и, попав в канаву, начерпала в сапоги воды, что не переобулась сразу, а с мокрыми ногами шла три километра по студеному осеннему ветру, — это не главное, — главное, что не отдыхала вовремя и постепенно, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, расшатывала свое здоровье, в чем, конечно, в первую очередь виноват и он.
Он просыпался ночью, при бледном свете ночника всматривался в похудевшее лицо Софии Павловны, брал ее горячую руку, слушал пальцами торопливый, неровный пульс. Если она просыпалась, немедленно давал лекарство, спрашивая, конечно: «Ну, как, лучше гебе, лучше, скажи?» Если не просыпалась, мучился от невозможности услышать от нее об этом, но не будил, а все всматривался в нее, даже во сне беспокойную, нервную, страдающую, вслушивался в ее хрипы.
Иногда подкрадывалась мысль: «А что, если она не поправится? А что, если?..» Холодел от этой мысли, и сам был готов метаться по простыням и подушкам в таких же муках, что и Соня, А, может быть, и в ббльших, неизмеримо больших. Нет, этого не могло быть, нет. Он не мыслил свою жизнь без нее. Жизнь без Сони теряла всякий смысл. «Соньчик, Соньчик! Уже время. Прими лекарство. Слышишь?» Она послушно проглатывала очередную порцию какой-нибудь дряни.
А жизнь тем временем шла вокруг своим чередом. Что из того, что тяжело больна Соня, что из того, что в ожидании перелома болезни так изводится он, какой-то Василий Антонович, — область, хорошо потрудившаяся в минувшем году — весной, летом, осенью, щелкала тысячами костяшек счетов, скрежетала сотнями арифмометров, черкала карандашами и чернилами по бумаге и, как говорят в деловых хозяйственных кругах, подбивала итоги. Днем об этих итогах Василию Антоновичу докладывали в его кабинете. Итоги радовали.
— Что ж, Василий Антонович, мы не герои, — сказал однажды Сергеев. — Но государству уже продали мяса в размере одного и восьми десятых годового плана. Продажа продолжается. Мы, в облисполкоме, убеждены, что к концу декабря перевалим за два.
— Мы заложили мощнейший фундамент под дальнейшее развитие хозяйства области! — радовался Лаврентьев. — В новом году рванемся вперед так, что, пожалуй, придется кое от кого перешпиливать кое-кому другому геройские знаки.
— За них, что ли, работаешь, Петр Дементьевич? — пасмурно спросил, Василий Антонович.
— Они тоже штука приятная, Василий Антонович.
Василий Антонович стал рассказывать Лаврентьеву о том, о чем не сказал в свое время, возвратись из последней поездки к Артамонову. Он рассказал о поведении Артамонова в тот день, когда ему вручали награду в Кремле, о тех сложных и тяжких чувствах, какие, по предположению Василия Антоновича, испытывал Артамонов, принимая из рук Ворошилова красные коробочки с орденом Ленина и Звездой Героя.
— Он снова обманул нас, — сказал Лаврентьев. — Я справлялся — никакого письма в ЦК он и не думал отправлять.
— Что же делать?
— Что партийный долг велит. Что подсказывает совесть, Василий Антонович.
Они позвали Владычина, рассказали обо всей странной и нечистой истории, какая происходит в Высокогорской области, задевая краем и Старгородчину.
— Вы меня извините, товарищи, вы старше меня, опытней, — сказал Владычин, выслушав обстоятельный рассказ Лаврентьева. — Но я вас не совсем понимаю. Это страшное дело. Насколько я понял, Артамонов был когда-то отличным организатором, хорошим работником. Сделал очень многое для Высокогорской области. Но случилось так, что, чем больше накапливалось у него успехов, тем все больше разрастался его аппетит. А известно, что у всего есть свой потолок.
— Это неверно, — возразил Лаврентьев. — С теорией потолка я не согласен.
— Может быть, я не точно сказал, — ответил Владычин. — Да вы меня еще и не дослушали. Возьмем, в пример, авиацию. Самолеты с поршневыми моторами давно достигли потолка, доступного такой технике. И дальше рваться на них — только ломать технику, только рисковать жизнями летчиков. Чтобы преодолеть потолок, нужна была новая техника. Она появилась — реактивная авиация. Артамонов, видимо, достиг потолка, возможного при усвоенных им методах руководства. Надо было переходить на новые — на всеобщее творческое движение масс. Это труднее, хлопотнее, кропотливее. Артамонов не разобрался в новой обстановке. Он, жал и жал на старую технику руководства и, как видно, запутался. Он стал гнаться за личными успехами, которые бы продолжали утверждать его, как выдающегося руководителя, к чему он уже привык, с чем сжился и без чего не мыслил свое существование. И если таких успехов не было, их надо было создавать искусственно, имитировать. Что и делалось в Высоко-горске. Я так думаю. Но, может быть, я ошибаюсь. Повторяю: мой опыт неизмеримо меньше вашего. Василий Антонович и Лаврентьев молчали. Оба они думали о том, что Владычин в немалой доле прав. Другие объяснения поступкам Артамонова трудно найти. Не скажешь же о нем, что он сознательно разорял колхозы и совхозы области, сознательно подрывал животноводство, расшатывал экономику, порождал недовольство у людей. Не первый год знали его в партии, и немало доброго сделал он в Высокогорске за десять лет своего секретарства.
— И вы, по-моему, совершенно неправы, — пользуясь их молчанием, добавил Владычин, — оттягивая намерение обратиться в ЦК. Я бы написал письмо. И чем скорее, тем лучше.
— Да, пожалуй, так, Петр Дементьевич, — сказал Василий Антонович. — Мы слишком долго выясняли — будет ли это этично или это не будет этично по отношению к Артамонову. Мы достигли такого рубежа в своих колебаниях, за которым — со всей прямотой говорю самому себе — уже лежит не что иное, как беспринципность, и даже можно сказать крепче: прямо пособничество.
В один из ближайших вечеров, подсев к обеденному столу в столовой, он принялся за письмо в ЦК. Письмо это не легко ему давалось. Он вспоминал рассказ Артамонова о сорока с чем-то заявлениях на него, поданных в районное отделение НКВД, о том типе, которого Артамонов встретил на одной из фронтовых дорог, о том, как плюнул ему на валенки, о «мине замедленного действия». Василий Антонович знал, чувствовал свою правоту. Но тем не менее нелегко давались ему фразы о беззакониях, творимых Артамоновым, о тщательно разработанных методах обмана партии и государства руководителями Высокогорской области. Сквозь эти строки он видел то добрую, гостеприимную жену Артамонова, то его внучат, то книжки по сельскому хозяйству, ребячьи игрушки, слышал взволнованный выкрик «Так что, я себе, что ли, капиталы сколачиваю Дети, внуки да несколько пар белья останется после моей смерти».
На долгие минуты застывал неподвижно на исчерканными листами бумаги. В одну из таких затянувшихся минут он, сквозь неплотно затворенную дверь в кабинет, услышал привлекшие его внимание слова Майи:
— Да, Шура, да. Это я прикрепила тогда цветочки к рамке ее портрета. У нее очень хорошее лицо, и вы не думайте, я нисколько не буду сердиться, если вы будете ее вспоминать. Ведь она же мать вашего мальчика. Этого забывать нельзя.
— Майя, — сказал Александр. — Это невозможно! До каких пор ты будешь называть меня на вы. Сейчас же скажи: ты.
— Пожалуйста, я сколько угодно скажу: ты, ты, ты. Но мне никак не привыкнуть. Не сердись, милый. Это пройдет.
Было некоторое молчание. Потом Василий Антонович вновь услышал голос Майи:
— Я, конечно, не буду стараться заменить вам… тебе… ее. Нет, нет. Она — это была она. А я — это буду я. Но малышу я постараюсь ее заменить.
Василий Антонович понял, что он должен уйти из столовой. Он собрал свои бумаги и перебрался в спальню. Яркий свет зажигать было нельзя, он тревожил Соню. Но и при ночнике можно было делать наброски.
Когда письмо наконец-то было готово, — на это ушли три вечера, — Василий Антонович показал его Лаврентьеву, Владычину и Сергееву. Они сделали незначительные исправления. Можно было перепечатывать начисто, заклеивать в конверт и отсылать специальной почтой. Но Василий Антонович, втайне от своих товарищей, решил сделать еще одну проверку. Он пригласил Черногуса и нескольких стариков.
Собрались в кабинете Василия Антоновича. Черногус надел на переносье очки, с выражением прочел вслух все одиннадцать страничек, отложил их, окинул взглядом стариков. Те молчали.
— Товарищи, — решил пояснить им обстоятельства дела Василий Антонович. — Я обращаюсь к вам за советом вот почему. Факты, изложенные здесь, вы проверять, конечно, не будете. Надеюсь, что вы поверите в правильность их изложения. Я хотел бы услышать ваше слово об этической стороне дела. Вы старые коммунисты, вы старые большевики. Как, по-вашему, партия учит коммуниста поступать в таких случаях? — Он им подробно рассказал об Артамонове, о неоднократных разговорах с ним, особенно о последнем разговоре, когда прямо предупреждал Артамонова, что вынужден будет сообщить в ЦК; рассказал и о его семье, жене, внуках. — Должен ли я это делать?
— Должен! — сказал старик Горохов.
— Вы просто обязаны это сделать, Василий Антонович, — сказал и Черногус. — Ильич, чистейший и честнейший человек нашего века, он не колеблясь, как бы ни было ему это больно, рвал даже самые тесные дружеские связи с людьми, которые отступали от дела партии.
— Да, я это знаю. — Василий Антонович кивнул.
— Вы не должны сомневаться. Вы совершенно правы, — продолжал Черногус. — Нас тут семеро, стариков. Думаю, что во мнениях мы не разойдемся.
— Да, да, можете запечатывать конверт, — подтвердил Синцов. — И откуда вы только такой мягкотелости набираетесь, молодые?
Софии Павловне в эти дни становилось постепенно лучше. Критическое положение миновало, сделали свое дело современные могущественные средства борьбы с болезнями, подобными воспалению легких. Улучшению Сониного состояния Василий Антонович радовался так, как, пожалуй, еще ничему не радовался на свете. Старики сказали ему, что он может запечатывать конверт с письмом в ЦК, но он все-таки решил прочитать его еще и Софии Павловне.
Тем вечером, после беседы со стариками, он, как всегда, расположился в кресле возле постели.
— Соньчик, — сказал. — Как только ты встанешь и немножечко окрепнешь, я непременно отправлю тебя лечиться, на юг. Да, да. Я недоглядел, ты прозевала лето. Поедешь на юг. Там сейчас еще тепло. По радио передают — прекрасная погода.
— Но ведь и ты «прозевал» лето, — ответила София Павловна. — Ты тоже еще не был в отпуске за этот год. Что ж, пожалуйста, вот и поедем вместе. А то всегда уезжаешь один да один.
— Не всегда, а иногда. Но, в общем, спорить не будем. Хорошо. Поедем вместе. Поедем в Крым. Год у нас, Соньчик, заканчивается неплохо. Ругать не будут. Может быть, даже похвалят. А на будущий год уже совсем легко станет работать. Число крупного рогатого скота мы увеличили на двадцать шесть процентов. Свиней… — Он стал загибать пальцы, отсчитывая эти про центы, называя, все новые отрасли животноводства, птицеводства, огородничества. — Видишь, как будет легко..
София Павловна засмеялась. Но ей, видимо, еще было очень больно смеяться, она прижала руки к груди.
— О да! — сказала. — Знаю я про твое «легко». Каждый год говоришь так о следующем годе. «Легко», «легко»! Васенька, ни меня не обманывай, ни себя. Никогда, милый, у тебя легко не будет. — Она дотянулась рукой до его щеки, погладила ласково, нежно. — Тебя что-то тревожит? — спросила, всматриваясь в его лицо.
— Да, Соньчик, — ответил он напрямик. — Я хочу прочесть тебе одну бумагу. Очень серьез-ную. Послушаешь?
— Конечно.
— Тебе не трудно?
— Читай, читай.
Василий Антонович вновь, и в который уже раз, читал свое письмо, адресованное Центральному Комитету, и вновь подробно рассказывал об Артамонове, о Высокогорской области:
— Там замечательный народ, Соньчик. Но состояние дел такое, экономика расстроилась настолько, что даже сам Карл Маркс, если бы туда приехал, ничего бы сделать не смог. Артамонову придется за это ответить. И в то же время жаль человека. Ты меня понимаешь?
София Павловна долго думала. Лежала с закрытыми глазами.
— Знаешь, — сказала она. — А мне больше жаль тех, кого он довел до такого тяжелого состояния. Ты утверждаешь, что он честный человек. Честный человек должен был прийти и давно подать в отставку, а не стараться обманным путем добиваться славы и почестей. Очень странно, Вася, я тебя не узнаю, что ты до сих пор не отослал это письмо.
— Соньчик! Ну как ты не понимаешь. Могли бы меня неправильно понять. Что я завидую Артамонову, подкапываюсь под него. Условия по сути дела и у них и у нас равные. А он вот гремел, даже и сейчас еще как-то все о нем да о нем в газетах пишут. А мы…
Назавтра письмо было вложено и заклеено в большой конверт, на конверт с обратной стороны легли пять круглых сургучных печатей…
В конце октября, когда София Павловна уже ходила по комнатам в теплом махровом халате, когда по вечерам сиживала за столом и разливала чай, когда все чаще они с Василием Антоновичем возвращались к разловору о поездке в какой-нибудь из крымских санаториев, Василия Антоновича вызвали в Москву.
Юлия давно переехала к Владычину, в ту уютную квартирку, которая ей так нравилась. В ее комнате поселился Павлушка, потому что, в ожидании, когда молодоженам дадут жилплощадь в одном из новых домов химкомбината, Майя переселилась к Денисовым, и они с Александром по-прежнему занимали бывший кабинет Василия Антоновича.
— Ребятушки, — говорил им Василий Антонович, собирая вещички в чемодан. — Берегите, пожалуйста, мать. Не давайте ей до моего возвращения выходить на улицу. Ей еще нельзя. Знаете, какая она легкомысленная! Наглотается холодного воздуха, и опять что-нибудь…
При этих сборах была и Юлия.
— Дорогой Василий Антонович, — сказала она. — Ваши ребятушки-детушки всецело и полностью заняты собой. Если вы хотите, чтобы легкомысленная София Павловна раньше времени не наглоталась холодного воздуха, надо обращаться к ветреной, неположительной, не слишком устойчивой морально Юлии Павловне.
— Хочу и обращаюсь, — сказал Василий Антонович. — Юлия Павловна, пожалуйста…
— Знаете, это не совсем правда, — сказала не сразу нашедшаяся Майя. — Я не согласна, что нам с Шурой нельзя верить. Пожалуйста, Василий Антонович, не думайте так…
Поезд гремел колесами сквозь ночь. Василий Антонович не спал. Ему уже сообщили по телефону, что, кроме него, на Президиум ЦК вызваны Артамонов и члены бюро Высоногорского обкома, вызван из Приморской области Ковалев, вызваны секретари обкомов других областей, граничащих с Высокогорской. Предстоит большой, трудный, суровый разговор. Как все пойдет, как повернется? Спать было невозможно. Надо бы зажечь свет да почитать книжку, которую он захватил с собой. Но не хотелось беспокоить полковника, храпевшего на верхней полке. Василий Антонович только чиркал спичками, закуривая одну за другой пахучие сигареты нового сорта с антиникотиновыми фильтрами.
За окнами громыхали станции, свет фонарей врывался в купе. Затем опять устанавливался мрак, и в этом мраке хотелось поскорее вычитать то, что предстояло назавтра в Москве. Василий Антонович не раз бывал на заседаниях Президиума ЦК, в Кремле. Он знал приемную, где люди ожидали вызова в зал. В ней почему-то всех одолевала жажда, и поэтому на столике в соседней тесной комнатке всегда стояли батареи бутылок с нарзаном, боржомом, вишневыми, лимонными, апельсиновыми шипучими водами. Знал Василий Антонович и узкий зал заседаний. Окна, как войдешь, — справа. Посредине длинный стол, покрытый зеленым. По обе стороны его сидят члены Президиума. Во главе — там, где микрофон усилителя, — место председательствующего. Атмосфера строгая, требующая продуманных слов и точных фактов. Ни у кого там нет времени, чтобы выслушивать досужие рассуждения, красноречия никому не надо.
К тревоге ожидания примешивалось и неприятное чувство, возникшее при чтении только что, перед самым отъездом, полученного письма от Суходолова, — даже Соне не успел его показать. Суходолов писал из Высокогорска, что до него дошли результаты голосования на областной конференции. «Глас народа — глас божий, — вспомнил Василий Антонович эти строки. — Шестьде сят с лишним голосов против — это первый звонок тебе, Василий». Шестьдесят с лишним! — видимо, голоса против Огнева молва относила на счет Василия Антоновича. Покачал головой, читал мысленно дальше: «Черствость никогда не укра шала человека и черствый человек никогда не кончал хорошо. Я человек, не радующийся чужим бедам, но я убежден, и день тот недалек, когда тебе придется расплачиваться за свою черствость. Я радуюсь другому — тому, что вырвался от тебя, что работаю не с тобой, а с Артемом Герасимовичем Артамоновым. Это совсем иной тип руководителя, широкого и не мелочного».
Вот так — широкий и не мелочный. А что же он, Василий Антонович, — узкий и мелочный? Может быть, именно это скажут ему завтра на том высоком, строгом заседании?
Чем, чем закончится завтрашний день? «Что будет, что будет, что будет?» — стучали колеса вагона. Вагон раскачивало и мчало, мчало и мчало сквозь ночь…
56
Сидели с Лаврентьевым в кабинете Василия Антоновича. За окнами кружился слишком ранний, неустойчивый, реденький снежок. Мерно постукивали часы, и мирно текла беседа двух секретарей.
Василий Антонович листал потертую, истрепанную в карманах, записную книжку в клеенчатом переплете.
— Непременно, Петр Дементьевич, проследи, чтобы дорогу дотянули до Чиркова, — говорил он, отмечая карандашом очередную запись. — Деревня должна иметь должный вид. Поверь мне, через год-два там от экскурсантов и туристов отбоя не будет. Кажется, они хотят строить специальное здание под кружевную мастерскую. Помочь им надо. Да, а вот с Заборовьем… — Василий Антонович сделал вторую отметку. — Они планировали, — а мы, помнишь, поддерживали их в этом деле, — ставить на Жабинке плотину и строить межколхозную электростанцию. Лучше бы не тратить на это такую уймищу средств. Есть принципиальное согласие — подключить ряд наших районов к государственным высоковольтным электросетям. Нет смысла себя обманывать и, кое-как добившись электрического освещения в колхозах, считать, что они у нас электрифицированы. Вот, когда и машины закрутятся на электрическом токе, тогда, значит, мы тоже выполним план ГОЭЛРО. Дальше. Не упускай, пожалуйста, из виду молодую доярку Торопову. Помнишь, я рассказывал о своей поездке к ним в колхоз на катере?
— Знаю ее. Пока ты был в Москве, о ней «Старгородская правда» большой очерк дала.
— Вот видишь! Очень интересная девчонка. Может стать выдающимся мастером своего дела. — Василий Антонович поставил следующую птичку. — Насчет картинной галереи в Озёрах… Договорился. В область пришлют пару передвижных художественных выставок на целый год. Их можно будет провезти по кустам колхозов и совхозов. А в «Озёрах» пусть будет выставка Соломкина. Может, тоже экскурсантов привлечет. А помещение — отличное. Его под школу бы переоборудовать, под интернат для ребятишек, под детский сад, подо что хочешь.
Так сидели час, сидели второй. Записи из книжки Василия Антоновича одна за другой переходили в книжку Лаврентьева.
Вошел Воробьев.
— Василий Антонович, там секретарь обкома комсомола Петровичев. Привел с собой человек двадцать народу. На одну минутку, говорит. Что ответить?
— И весь этот народ с ним сюда просится? — Да, Василий Антонович.
— Ну, если на минутку, пусть заходят.
За Петровичевым, теснясь и сталкиваясь в дверях, в кабинет входили парни и девчата — кто смущенный, нерешительный, кто с подчеркнутой бравадой: бывал, мол, и не в таких местах, и вообще нам тут теряться не с чего, хозяева жизни мы.
— Присаживайтесь, молодые люди, — пригласил Василий Антонович.
Снова сказались характеры: одни ринулись на те стулья, что поближе к хозяину кабинета, другие устраивались чуть ли не у самых дверей.
— Извините, Василий Антонович, — сказал Петровичев. — Перед вами представители большой армии добровольцев… У нас такое движение начинается… Словом, скажи ты. — Петровичев повернулся к одному из парней. — Ты инициатор. Ты и скажи.
Парень был худенький, остроносенький, застенчивый; вид имел отнюдь не героический. Что угодно можно было ожидать услышать от него, но только не то, что услышали Василий Антонович и Лаврентьев.
— Мы знаем, — сказал паренек не очень уверенно, — что с будущего года начнутся работы на Старгородской Магнитке. Мы добровольцы. Мы хотим первыми пойти туда. Мы делегаты комсомольской конференции Свердловского района.
— Понятно, — сказал Василий Антонович. — Сведения ваши верны. Да, по решению правительства такие работы в области предстоят. Старгородская Магнитка будет. Очень рад вашей готовности. Но с подобными вопросами вы уж обращайтесь к нему. — Он кивнул в сторону Лаврентьева. — К секретарю обкома, товарищу. Лаврентьеву.
Василий Антонович на прощание пожал па очереди руки всем ребятам и девчатам, пришедшим с Петровичевым.
— Значит, это верно, Василий Антонович? — почти шепотом спросил Петровичев, выходя последним. — Уходите от нас?
— Верно, Сереженька, верно. Прощаться будем, правда, еще не сейчас. Несколько позже.
Проводив Петровичева, Василий Антонович возвратился к своей записной книжке.
— Пойдем дальше… В Ольховском сельсовете, близ колхоза имени Калинина, живет один старый дед, ему восемьдесят три года. Живет в сторожке на лесном озере. Отстал до того, что сознание его дальше тысяча девятьсот семнадцатого года, пожалуй, еще и не двинулось. Но это ладно, его уже не перевоспитаешь. Я не сумел ничего придумать. Может быть, ты, Петр Де-ментьевич, придумаешь, как с ним быть. Ну, можно ли оставить без присмотра такого старого человека. Ни в какой дом для престарелых не пойдет. Может быть, его возьмут сторожем или лесником на биостанцию Академии наук? Она там рядом, кажется. Перевезете его избушку… Подумай, Петр Дементьевич. А то не буду спокоен.
Вновь появился Воробьев.
— Василий Антонович, вы вызывали писателя Баксанова?
— Не вызывал, Иван Семенович, а приглашал. Зови его, зови.
Вошел, как всегда румяный, как всегда круглый и живой, ответственный секретарь Старгородского отделения Союза писателей. Начался разговор о делах в отделении, о том, над чем работает Баксанов.
— Работаю на нескольких станках сразу! — Ваксанов засмеялся. — Даже рук не хватает. Во-первых, заканчиваю роман о сегодняшней деревне. Не знаю, что получится, но писал, что называется, не переводя дыхания, с азартом. Во-вторых, неожиданно стал писать пьесу для Народного театра. Подбил меня на нее, говоря откровенно, товарищ Владычиц. Хорошую тему предложил. И вот, в-третьих, принялся за сбор материалов о первых советских дипломатах. Гурий Матвеевич Черногус помогает. Есть еще замыслы и более дальнего прицела…
— Отлично, Евгений Осипович, отлично. — Василий Антонович выдвинул ящик письменного стола и достал из него длинный футлярчик, оклеенный коричневым гранитолем. — Чтобы писалось лучше, острее, партийнее, вот вам от областного комитета партии эта вещичка. Все секретари так решили. — Он встал и подал футлярчик Баксанову.
Подняв крышку футлярчика, Баксанов увидел под ней, на зеленом бархате, вечную ручку с золоченым пером. На черном корпусе гравер вырезал золотыми буквами: «Писателю Евгению Осиповичу Баксанову от Старгородского областного комитета КПСС».
Держа подарок в руке, он опустился на стул, с полминуты сидел, не в силах сказать ни слова. Поднялся, бледный от волнения, с жаром потискал руки Василию Антоновичу и Лаврентьеву и вышел, так ничего и не сказав.
Ушел вскоре и Лаврентьев. Василий Антонович остался в кабинете один. Он постоял возле окна, следи за однообразным падением снежинок. Прошелся вдоль темных шкафов с книгами, меж страницами которых то там, то здесь торчали бумажные полоски в разное время заложенные им, Василием Антоновичем. Подошел к карте области. Водил глазами по знакомым названиям, видел за ними долгие дороги, бескрайние леса, болота, большие и малые селения. Видел лица председателей колхозов, совхозных директоров, парторгов, агрономов, бригадиров, доярок, трактористов… С каждым у него было какое-нибудь дело, какие-нибудь разговоры, о которых можно вспоминать, которые вновь можно продумывать. С каждым планировалось что-то на будущее.
Было грустно расставаться со всем тем, чего другой не смог бы увидеть на карте, но что видели глаза Василия Антоновича. Все это стало для него родным, близким, необходимым, и все это предстояло оставить, переступая в новую, неизвестно что несущую ему, трудную жизнь. Позади останется и вся область, с тысячами знакомых и незнакомых людей, которых никогда не обманывал Василий Антонович, о которых нередко он не мог не думать даже во сне. Оставался позади даже и сын Александр с его новой семьей. Вновь уходила в свою собственную самостоятельную жизнь Юлия. И только, как всегда, рядом будет одна она, родная, любящая и любимая, его верная Соня. Ей тоже надо срываться с места, оставлять свои недораскопанные курганы, своих кружевниц, недоспоренные с кем-то споры. Но для него она оставит, конечно, все. И в этом его счастье. Если Соня будет рядом, значит, все будет хорошо, какие бы трудности ни ждали впереди.
57
Вскоре после Октябрьских праздников на тех страницах центральных газет, где обычно помещаются материалы под рубрикой «Партийная жизнь», одна под другой были опубликованы две не очень бросающиеся в глаза хроникальные заметки;
СТАРГОРОД, (Соб. корр.). Здесь состоялся пленум областного комитета КПСС. Пленум освободил от обязанностей первого секретаря обкома тов. ДЕНИ СОВА В. А. в связи с переходом на другую работу. Первым секретарем Старгородского обкома партии избран тов. ЛАВРЕНТЬЕВ П. Д.
ВЫСОКОГОРСК, (ТАСС). Закончил работу расширенный пленум Высокогорского обкома КПСС. В обстановке острой критики пленум в течение трех дней обсуждал положение в сельском хозяйстве области. Единодушно принято развернутое решение. Пленум освободил от обязанностей первого секретаря обкома партии и вывел из состава бюро тов. АРТАМОНОВА А. Г. Первым секретарем Высокогорского обкома КПСС избран тов. ДЕНИСОВ В. А.
Кочетов Всеволод Анисимович СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА
Зав. редакцией В. Ильинков Редактор А. Колесень
Художественный редактор Ю. Васильев Технический редактор С. Розова
Корректор А. Паранюшкина
Фото Л. Иванова
Сдано в набор 9/viii,1961 г. Подписано к печати 27/1Х 1961 г. А-08737. Бумага 84Х108 1/16
7 печ. я. — 11,48 усл. печ. л. 15,06 уч. — изд. л. Тираж 500 000 экз. Заказ № 457. Цена 30 к.
Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.
Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26,



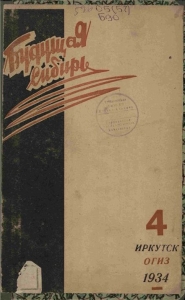
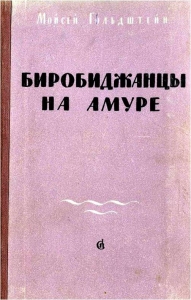
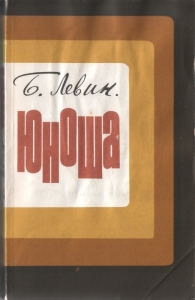
Комментарии к книге «Секретарь обкома», Всеволод Анисимович Кочетов
Всего 0 комментариев