Ахмедхан Абу-Бакар Ожерелье для моей Серминаз
Жаворонка спросили:
— Почему у тебя такие короткие песни? Не хватает дыхания?
— Просто у меня очень много песен, и я боюсь, что не успею их спеть.
ГЛАВА ПЕРВАЯ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ
1
Мой дядя — да прославится его имя в веках! — любит приговаривать: «Ничто не бывает без начала, и все начинается с дороги!» При этом он с таким видом закручивает огрубевшими пальцами левой руки правый ус, что слушатели невольно задумываются.
Да мне и самому, хотя я не так уж много прожил на свете, приходилось не раз проверять эту истину, как кузнец из Амузги проверяет остроту отточенного им кинжала, рассекая в воздухе волосок, выдернутый из собственной бороды, — конечно, если у него есть борода. В горах моих нынче редко встретишь бородатых. Это раньше считалось, что именно борода придает человеку солидность и вызывает уважение окружающих, а теперь почему-то стали замечать, что бороду носят не только люди, но и козлы и даже ишаки. Впрочем, если у кузнеца нет бороды, то он вырвет волос из чуба, а если такового тоже не окажется, ибо в наш премудрый век люди почему-то быстро лысеют, — то из усов. А усы, как вы сами можете убедиться, носит каждый кузнец в горах со времен легендарного амузгинского молотобойца Али-Асхаба, которого мой дядя причисляет к своим предкам.
Мой уважаемый дядя — да не упадет с его головы ни один волос (впрочем, это излишнее пожелание, так как на его голове нет ни единого волоска, словно он заранее позаботился, чтобы они не падали) — любит украшать свою родословную именами людей, известных не только в прошлом, но и в настоящем. Так прохожие украшают разноцветными платочками и лоскутками деревце на могиле храбреца.[1] Только не думайте, что эта привычка хоть сколько-то принижает дядю, — нет, возникла она из чистого патриотизма, хотя и не лишена порою искорки хвастовства. Но искорок этих не больше, чем соли в чуреке, а чурек без соли — вы и сами это знаете — еще хуже, чем несладкая дыня из кумыкской степи.
Так и получается, что любой, кто заслужил внимание людей своими добрыми делами, в конце концов оказывается причисленным к нашему роду, и своим медовым языком мой дядя доказывает появление все новых и новых ветвей на родословном дереве, будь то аварец или кумык, лакец или лезгин, даргинец или ногаец, да что тут говорить — народов Страны гор не перечислишь! Недаром рассказывают, что ангел, посланный богом на землю, чтобы раздать народам наречия, сломал себе ногу в наших неприступных горах и со злости вытряхнул из хурджина все остатки языков, приказав при этом: «Разбирайте сами!» Вот и разобрали. И столько оказалось языков в этой маленькой Стране гор, что, в какую сторону ни пройди хоть с десяток километров, везде приходится разговаривать при помощи рук и мимики. А бывает и так, что в двух концах одного и того же аула говорят по-разному: в верхней части быстро, словно катятся со склона, а в нижней — так медленно, будто несут тяжкую ношу в гору. Вы и сами можете представить, как неудобно это заблудившемуся путнику, а заблудиться теперь, когда появилось так много дорог, перекрестков и указателей, — самое простое дело.
В глубине души мой дядя большой философ, хотя его мысли, к глубокому сожалению, еще не вошли ни в одну книгу мудрых речений.
Впрочем, так бывало со многими мудрецами: лишь со временем потомки принимались просеивать мякину, отыскивая драгоценные зерна слов, оброненных давным-давно.
То, что многие люди, причисляемые дядей к родственникам, не являются даже и соплеменниками нашими, ничуть его не смущает. Если же кто заговорит об этом, дядя выпалит, как из трехдюймовой кремневки: «Ну и мудрецы же вы, трижды три — девять! Все мы граждане одной страны, и точка! И я горжусь тем, что родился в Стране гор!»
Вообще он страшно возмущается, когда без надобности упоминают о национальных границах, которые за годы Советской власти уже успели стереться, как стерлись каменные и плетеные изгороди, разделявшие когда-то поля горцев, порой такие маленькие, что иной бедняк терял свое поле под брошенной на землю буркой! Когда люди садятся, скрестив ноги, вокруг трапезы и бочонка с терпким геджухским вином или становятся вдоль конвейера, а то и возле пульта управления кибернетическим устройством, — разве думает кто-нибудь о том, откуда кто родом? Разве этим определяется его положение в обществе? Что же касается великих людей прошлого, то зачем мешать моему дяде утверждать, будто легендарный Шамиль, впервые разбудивший в горцах дух свободы, был троюродным братом дядиного прадеда, а Хаджи-Мурат, ставший героем великого Льва Толстого, — одна из отдаленных ветвей генеалогического древа по линии прабабушки?
Если же дядю спросят, не родственником ли ему доводится виртуоз игры на чугуре, высекающий из четырех тонких струн задорные мелодии тысячи ущелий и тысячи вершин, ныне здравствующий Абу-Самад из Мугры, дядя, не моргнув глазом, ответит: «Мы с отцом Абу-Самада, Ибрагим-Халилом, двоюродные братья, а Батырай, певец из певцов, да не померкнет слава его, покуда есть жизнь, был ближайшим кунаком моего отца…»
Впрочем, я чувствую, что мы несколько отвлеклись, но ведь и сам я принадлежу к тому же генеалогическому древу, и потому, должен сказать, мне даже приятно слышать рассказы дяди о наших великих, хотя и дальних родственниках.
Как ни странно, я всегда убеждался в мудрости дядиных слов о том, что ничто не бывает без начала и все начинается с дороги. Даже мое рождение совпало с дорогой. Моя мать — да не погаснет никогда огонь в ее очаге! — родила меня в дороге, когда возвращалась в родной аул, проводив на войну своего молодого мужа, моего отца. Правда, ни она, ни мой дядя — брат моего отца — никогда мне об этом не говорили, но языки словоохотливых соседок любого достанут! Недаром говорят, что хоть язык без костей, а кость перешибает.
Отца я видел только на единственной фотографии, которую прислал он с фронта незадолго до своей гибели. Не было у него ни медалей, ни орденов, но я считаю его героем, да и дядя рассказывает о нем как о храбром человеке. Когда вражья пуля оборвала его песню, ему было чуть больше лет, чем мне сейчас, и все говорят, что я очень на него похож.
Но ведь мы говорим о дороге… Позвольте же мне вернуться туда, откуда эта дорога начинается…
2
Однажды на гудекане…
Прошу прощения, раз мы вспомнили здесь о гудекане, то я должен рассказать сначала, что такое гудекан. Уверен, что многие из вас знают все о гудекане, но многие и не знают. Я бы мог, конечно, легко отделаться от подробностей, посоветовав, чтобы те, кто знает, рассказали тем, кто не знает, но тогда бы вы все отвернулись от меня, а я люблю, когда люди смотрят мне в лицо и внимательно слушают, тем более что я стремлюсь в каждой вещи увидеть то, чего еще никто не видел, и обо всем рассказать по-своему. А о том, как появилось у меня такое желание, вы узнаете позже. «Не все сразу на поднос!» — говорит самый древний старожил нашего аула, почтенный Хасбулат, сын Алибулата из рода Темирбулата.
Много аулов в моих горах, и все они издали похожи на пчелиные соты. Одни волнисто низвергаются с крутых каменных склонов, радуя глаз светло-голубыми, оранжевыми и синими фасадами; другие гнездятся на неуютных, но живописных вершинах или просто на выступах скал, выше, чем летают орлы; третьи прячутся, утопая в зелени, на берегах ревущих в теснинах рек. Можете обойти их пешком, объехать на выносливом аргамаке, исколесить на машине, облетать на вертолете — нигде вы не сыщете аула, в котором не было бы гудекана, и не найдете гудекана, к которому не собирались бы почтенные люди скоротать время. Обычно это место на главной площади аула, где с незапамятных времен уложены гладкие камни, на которых удобно сидеть, опершись спиной о памятники славным предкам. И едва к вечеру соберутся на гудекане первые завсегдатаи, как начинается обмен новостями, и воспоминаниями, и мудрыми размышлениями о прошлом, о настоящем, о будущем…
Этот достойный похвалы обычай существует в моих горах со времен наших предков, албанцев-каменотесов, об искусном мастерстве которых и сегодня можно судить по крепости Дербент, что значит «Железные ворота», и по Шам-Шахару, что означает «Город свечей».
Камни гудекана священнее, чем недоступный взорам горцев черный камень Каабы. Никогда не бывает скучно на гудекане. Даже в самую стужу здесь тепло, светло, и от этого легко на душе. Только здесь и могла родиться поговорка: «И черный день на людях — праздник». Да, делить с людьми и радость и горе — вот священный обычай гудекана. И где еще так радостно ласкают слух тонкие мелодии чугура из тутового дерева? Где так призывно звучат барабаны, обтянутые нежной телячьей кожей? Где перемелют и просеют все события, происшедшие в мире? Где рождается острая, как перец, и жгучая, как крапива, насмешка и шутка? Где звучит задорная и смелая песня? Все это происходит на гудекане и отсюда разносится по всем долам и горам.
В час, когда сбылись твои желанья, В час осуществления мечты Поделись с людьми на гудекане, Подари и им лучи сиянья — И еще счастливей станешь ты. Если ж горькая беда нагрянет, Сердце взяв в железные тиски, — Поделись с людьми на гудекане: Разобьют они твое страданье И с собою унесут куски. Слушай говорящих, но в молчанье Не сиди. Обдумав, не спеша Молви слово сам на гудекане — Мудрость мира копится веками, А в веках — народная душа.Вот на гудекане и произошел однажды ожесточенный спор: что появилось раньше — дерево или плод?
— Плод! Потому что из его семян вырастает дерево! — утверждали одни, вколачивая каждое слово, как гвоздь.
— Дерево! Потому что только оно дает плоды, из семян которых вырастают такие же деревья! — протестовали другие так торжественно, будто чеканили свои доводы золотом на лезвии шашки.
И только один человек не вмешивался в этот спор. Это был мой дядя, с завидным спокойствием покуривавший трубку слоновой кости, пожелтевшую от дыма и никотина так, что она стала похожа на янтарную.
Мой уважаемый дядя утверждает, что над головой мужчины всегда должен быть дым — либо табачный, либо пороховой, иначе какой же это мужчина! Но, между нами говоря, сам он более всего предпочитает дым над жаровней от доброго «нигла чишлик», что значит молочный шашлык. А молочным он называется потому, что хорошие хозяйки сутки держат мясо ягненка в молоке.
Спор на гудекане разгорался все с большим ожесточением, как вдруг спорщики заметили, что мой дядя молчит. И все смолкли от удивления, потому что не бывало случая, чтобы голос моего дяди не звучал на гудекане. И кто-то встревоженно спросил:
— Не заболел ли ты, Даян-Дулдурум?
Настоящего имени дяди аульчане не помнят, да он и сам, наверно, забыл его. Однако имя Даян-Дулдурум известно в горах так же, как бывает известен в ауле бык с белой отметиной на лбу. И вы, конечно, заметили, какое оно звонкое: Даян-Дулдурум! И может, подумали: какое хорошее имя! Но не торопитесь с похвалой, потому что «Даян-Дулдурум» значит: «Постой, пока заряжу!» — а так горцы стали называть кремневку, когда появилось скорострельное оружие.
Родился мой дядя в ночь между двумя веками, одной ногой ступил в девятнадцатый век, а другой — прямо в двадцатый, неизвестно только, какой ногой в какой век. И в ту ночь его отец, а значит, мой дед, поняв по стонам жены, что время настало, схватил со стены кремневку, торопясь дать салют в честь своего первенца, и крикнул, чтобы сын подождал объявляться на свет, пока не будет заряжено старое ружье: «Даян-Дулдурум!»
С тех пор имя Даян-Дулдурум и закрепилось за моим дядей, как клеймо на крупе коня. И он так привык к этому имени, что удивился бы, назови его кто-нибудь иначе.
Даян-Дулдурум, мой почтенный дядя, трудился с детского возраста. Начал он с того, что пас ишаков. А вам известно, что это за работа? Это не отара овец, не табун лошадей, а стадо ишаков! А сытый ишак хуже дьявола. Не потому ли мой дядя пас их не на лугу, а на каменистом склоне горы Кайдеш?
Был мой дядя и солдатом, и это занятие он считает нелегким. Был земледельцем — выращивал картошку. Был кузнецом — ковал ко времени все: и серпы и шашки. Был дровосеком, и каменщиком, и даже лудильщиком. Да, и лудильщиком, когда в горах было много медной посуды — ведь без хорошего лудильщика такой посудой можно отравиться. И мой дядя ловко охранял здоровье соседей, освобождая их карманы от денег. Впрочем, он не умеет беречь деньги, любит бывать у кунаков и принимать их у себя, а кунаков у него столько, сколько аулов в горах.
И вот Даян-Дулдурум, заметив, что спор на гудекане разгорается и обе стороны напирают на языки, будто на лопаты, столь усердно, что могут продолбить дыру до самого центра земли, махнул рукой, в которой дымилась длинная трубка, и обратился к почтенным посетителям гудекана:
— Люди добрые, давайте засыплем землей вон то ущелье и посадим там вишневый сад!
Он указал при этом на самое глубокое сулевкентское ущелье, по дну которого грохочет горный поток Варачан.
Почтенные люди, прекратив спор, недоуменно поглядели на дядю, не понимая, в шутку он говорит или всерьез.
— Вы слышали меня? — с достоинством спросил дядя.
— Да. Но, уважаемый Даян-Дулдурум, мы ведем серьезный спор, и шутки, по-моему, не к месту, — заметил не менее уважаемый в ауле человек — Жандар.
Да, Жандар — это горец, Жандар — это мужчина, и люблю же я, черт возьми, когда на его папаху, как мелкий пушистый белый снег, ложатся добрые слова и особенно когда в разговоре как бы случайно упоминают имя его дочери. Вы, конечно, готовы спросить: «Почему?» Я понимаю ваше нетерпение, но об этом потом, не будем забегать вперед, послушаем, что скажет мой дядя в ответ Жандару.
— Я не шучу! — И дядя нахмурил брови с видом человека, который способен овладеть и более возбужденной толпой. — Я повторяю: давайте засыплем землей во-он то ущелье — видите вы его?
— Но это бессмысленная затея! — возразил Жандар.
— Трижды три — девять! — воскликнул Даян-Дулдурум. — Какой бы бессмысленной она ни была, но мы засыплем ущелье, посадим сад и еще раньше, чем вы разрешите свой бесплодный спор, будем пить крепкий дербентский чай с вишневым вареньем.
Даже на этом примере вы можете убедиться, что мой дядя не любит бесцельной, пустой болтовни. Я и сам согласен с ними. Вот, например, недавно приехал в наш аул лектор-атеист, собрал в клубе людей и битых два часа уговаривал их, что аллаха нет. Усталые слушатели сжалились над ним и уже готовы были ополчиться на единственного в ауле муллу Шех-Мумада. Но тут поднялся сам Шех-Мумад и попросил слова. Слушать его не хотели, но он все-таки вымолил себе пять минут. Он не стал убеждать слушателей, чтобы они растерзали лектора, — нет. Указывая на него, мулла сказал:
— Дорогие аульчане, это наш уважаемый гость, и я понимаю, почему вы с таким усердием внемлете его словам. Долг гостеприимства велит нам не обижать кунака ни единым словом, даже если он ополчается на святая святых. Сделайте людям добро, и аллах вознаградит вас стократно. Сделаем же и мы добро: не станем обижаться на этого человека. Вот все, что я хотел сказать…
И мулла так величественно покинул трибуну, будто и не сомневался, что силой своей логики победил слушателей. Но дядя мой хорошо понял этот маневр и поспешил в мечеть помолиться о том, чтобы аллах ниспослал атеистам неколебимость в их убеждениях.
Не любит мой дядя и тех пустозвонов, которые притворяются мудрецами, но занимаются совсем не тем, что нужно нашей жизни, а ловко плетут вокруг разных пустяков паутину ученой туманности. Если они открыли какие-то средства от наших бед, но не применяют их и даже не имеют охоты применить, — то разве это ученые? Ведь ясно же, оплети пустяк хоть золотой паутиной, он все равно останется пустяком. И какой нам прок в иных трудах о разновидностях деревенских мух или о зависимости удоя молока от длины коровьего хвоста?!
Впрочем, мать моя в этом вопросе придерживается науки и спорит с дядей: почему, мол, наша бесхвостая корова дает по утрам только один литр молока, а у соседки корова с хвостом дает по три литра? «Зато у нашей коровы молоко втрое жирнее», — добавляет мать, сводя тем самым на нет свою научную позицию.
Однако не ищите в ее рассуждениях какого-то противоречия. Постарайтесь глубже вникнуть, и вы увидите, что тут все на месте, как в любом яйце: в самой середине желток, потом белок, а сверху известковая оболочка. Этот вопрос — о первородстве яйца или цыпленка — дядя любит решать над сковородой, а для пущей ясности щедро орошает курятину красным геджухским вином из дикого винограда.
Ест он аппетитно, причмокивая толстыми губами, не забывая хорошенько приперчить каждый кусок, а выпив очередную чарку, оглаживает усы.
И после такого недвусмысленного решения сложнейшего вопроса мироздания философски заключает:
— Вся жизнь, друзья мои, не что иное, как дорога!
Я не стану оспаривать его мнение. Это его личная находка, его собственное восклицание, равнозначное воплю голого грека, выскочившего на улицу, чтобы возвестить удивленным прохожим: «Эврика!»
3
Говорят, что молитва от повторения становится еще доходчивее. Но чувство, выражаемое словом «любовь», по утверждению моего дяди, многое утратило с тех пор, как о нем стали говорить.
Даян-Дулдурум, случается, поучает людей: «Не верьте тому, кто говорит вам в лицо: „Я вас люблю!“ Настоящая любовь не нуждается в словах. Куда больше искренности можно уловить в словах: „Я вас ненавижу!“ — потому что в ненависти нет ни фальши, ни лицемерия, ни обмана».
«Любви все возрасты покорны…» Как вы помните, мои дорогие слушатели, изречение это принадлежит не Даян-Дулдуруму. Но когда нужно щегольнуть умом, мой дядя, не стесняясь и не краснея, протягивает руку к чужому хурджину.
И он, в сущности, прав… Не будь этого, разве могли бы мы, я и мой дядя, решиться на такой безумный шаг, как дать накинуть на себя уздечку и впрячь себя в арбу? Какую арбу, удивитесь вы. Объясню: речь идет об арбе, полной забот о том, что же подарить невесте.
В моем ауле, когда говорят о женитьбе, всегда вспоминают, что сказал мой дядя, когда женился. При моей матери дядя, правда, подчеркивал, что это произошло по ошибке. «Был холост — был султаном, обручился — стал ханом, а как женился — погиб!»
Жену моего дяди я не видел, ее нет в ауле. Она бросила дядю, когда меня еще и на свете не было, и уехала неизвестно куда. А нет большего позора для горца, чем быть брошенным женой. Правда, Даян-Дулдурум вынес этот позор с достоинством и всегда говорил, что сам выгнал ее. Но соседки-то знают, что была она из рода Ливинда, необузданная, как у нас говорят, женщина, которая, изучив Конституцию и разузнав о всех правах, дарованных горянке, стала в доме моего дяди головой. И дядя делал все, что должна была делать хозяйка, даже стирал ее шаровары, — не дай аллах власть в руки женщины!
Виданное ли дело, чтобы мужчина, носящий на голове папаху, среди белого дня ходил к колодцу за водой с мучалом — простым водоносным кувшином, а не винным? Вот почему и считали моего дядю погибшим. А он делал это, чтобы не рассердить молодую жену, которая умела хлестать его языком, как плетью. Цыбац — так ее звали, что значит «Новый месяц», — была Новым месяцем для дяди только до женитьбы. А когда она исчезла из аула, мой дядя, говорят, наконец-то вздохнул свободно и даже вышел на гудекан, который не посещал с первого дня женитьбы, боясь, что почтенные люди станут над ним насмехаться. А на гудекане дядя воскликнул: «Люди добрые, уважайте и оберегайте женщин, носите их на руках, а на голову они и сами сядут!»
С тех пор дядя мой не женится. Люди недоумевают: то ли он ждет возвращения своей жены — хотя мне известно, что при одном упоминании о ней он скрипит зубами и сжимает кулаки, — то ли что-то другое у него на уме? Скорее всего, последнее.
4
Мне двадцать лет. Почти каждый из вас, мои дорогие друзья, знает, что такое двадцать лет. Но, удивительно, не встречал я еще человека, который бы вспоминал свои двадцать лет без какого-то сожаления. «Эх, где мои двадцать лет!» — говорят почтенные люди нашего аула, и даже мой дядя постоянно восклицает то же самое, как будто можно было не заметить этого важного рубежа в своей жизни и миновать его, как река минует по пути какой-то жалкий валун.
Признаться, порой у меня даже возникает сомнение, не я ли один действительно переживаю тот возраст? Или, может, все завидуют мне, не испытав могущества двадцатилетнего возраста, которое испытываю я? Эта мысль меня беспокоит, сердце наполняется смутным чувством удивления. Неужели, думаю я, не было на земле человека, который достойно, да так, чтобы после не горевать, провел эти дни? Неужели и мне, когда стукнет шестьдесят, суждено, как моему дяде, сожалеть о своих двадцати годах? Как мне быть? Что мне делать? Ведь один раз дается человеку этот возраст! Нет, ничего я не знаю, кроме того, что мне двадцать, что я молод и бодр и сердце мое полно страстью и мечтами, многим из которых, возможно, не суждено сбыться.
Родился я в 1944 году, но в нашем ауле настоящим днем рождения считается не тот день, когда ребенок появился на свет, а тот, в который он сядет рядом с мастером за верстак. В семь лет я сел рядом с дядей учиться мастерству и в тот же год пошел в школу. В семнадцать окончил школу и в тот же день получил звание мастера-гравера в художественном комбинате аула Кубачи. Я немного рисую, увлекаюсь сочинительством, но делаю это тайком, так как всякое отступление от традиционного мастерства златокузнецов кубачинцы считают изменой памяти предков и сурово осуждают. Поэтому я придумал себе псевдоним «Зоркий глаз», что, наверно, не очень-то скромно, и под этим псевдонимом напечатал первый свой рассказ в газете. Рассказ назывался «Хайван», что значит «Скотина». Был он сатирический и наделал много шума. Но действительно, иначе, как скотиной, героя моего рассказа трудно было назвать, и хотя он носит человеческое имя, но я-то его лучше знаю! Это новый тип в наших горах — таких у нас никогда не было, человек без чести и совести, с медом на губах и с ядом в душе. Он и до сих пор работает вместе со мной и тоже златокузнец. Но больше всего он любит распространять кляузы, сочинять анонимки и ссорить друзей. Уж не знаю, какая ему в том выгода, но написал я о нем все, что знал, и, видимо, чересчур сгустил краски в своем справедливом гневе.
Правда, имя его я скрыл от читателей, но наш не очень искушенный в литературе районный прокурор, прочитав в газете мой рассказ, решил, что такая подлая личность должна предстать перед правосудием, дабы другим было неповадно. И объявил розыск. Поиски оказались тщетными, и тогда следователь начал розыск автора. К моему несчастью, псевдоним мой все-таки раскрыли, но не следствие, а наша педантичная бухгалтерия, которая еще усерднее, чем следователь, искала автора, чтобы вручить ему гонорар…
После этого правосудию было легче напасть на след, и меня тут же вызвали повесткой в прокуратуру. Мать, прочитав повестку, принялась набивать хурджины сухарями, положила две пары белья, со слезами приговаривая:
— Я знала, что ты этим кончишь! Сколько раз я говорила тебе: берегись, эта писанина до добра не доведет!
Меня всегда трогала заботливость моей благородной матери, но на этот раз она лишь усугубила мой страх. В таком-то вот состоянии я и предстал пред грозными очами правосудия.
Прежде всего прокурор потребовал от меня, чтобы я указал, кто тот негодяй, которого я описал в своем сочинении, и где он живет.
Я принялся доказывать, что избрал вымышленного героя, что на самом деле такого нет, но подобные ему могут быть.
В конце концов он все-таки прислушался к голосу разума, но посоветовал мне никогда больше не заниматься вымыслом и вообще писать открыто и прямо, без всяких там псевдонимов. Тогда я смогу оказать услугу и правосудию, помогая избавить наше общество от всяких подлецов и мошенников. Я, конечно, обещал быть благоразумнее, но после посещения прокуратуры перешел с прозы на поэзию. Сочинял я в основном любовную лирику, подражая безобидным народным частушкам. Иногда у меня получалось не так уж плохо, можно даже привести пример:
Я глаза твои хотел целовать — Возмутилась ты, ножкой топнула. На тебя бы дождь медовый наслать, Чтоб объелась ты, да и лопнула.Но мой почитаемый дядя Даян-Дулдурум, узнав о моем сочинительстве, отругал меня прямо при соседях, а мать наказала еще строже: все книги из дома сдала в сельскую библиотеку, бумагу и карандаши раздарила соседским ребятишкам, а синие чернила вылила в раствор для побелки, и теперь наша веранда похожа на сумерки в горах. Остались в доме только альбом для рисования да эскизы изделий и наброски узоров, необходимые мастеру-граверу для работы.
Однако таков уж мой характер: я всегда делал то, что запрещала мать. Помню, в детстве я никогда не брал в руки спичек, но однажды мать сказала: «Не бери спички!» — и я тут же стащил у нее коробок и чуть не наделал пожара. Потом мать сказала по какому-то поводу: «Не лазай в погреб, перебьешь все горшки!» — и я немедля повадился туда и куском чурека снимал со всех горшков сливки.
Так и на этот раз. Все запреты лишь разожгли во мне интерес к сочинительству. Только теперь я опасался предавать свои писания огласке, а писать уходил в свободные часы подальше от дома, в горы.
Больше мне, кажется, и нечего сказать о себе. Ах да, вспомнил! В прошлом году я оказался участником нескольких международных выставок прикладного искусства. На выставку у меня взяли набор женских украшений из серебра с чернью и резной слоновой костью: кольцо, серьги, браслет и кулон с эмблемой Страны гор — дагестанским туром на выступе скалы. Я даже и не предполагал, что они будут где-то выставлены, просто хотел удивить ими Серминаз — девушку, работающую у нас на комбинате мастером-приемщиком. Что-то произошло со мной в ту пору необыкновенное, дотоле неведомое. Да вы вслушайтесь только в ее имя: Серминаз! Вслушайтесь, как сладко звучит это имя: Серминаз! С той поры уста мои не однажды в день произносят это имя наедине, а уши мои ловят его — Серминаз!
Серминаз — девушка из моего аула, смуглая горянка, хрупкая и стройная, как узкогорлый сулевкентский кувшин, с черными, как ночь, глазами, от взгляда которых становится светлее на моей душе, с черными как смоль густыми волосами, спадающими на плечи тяжелым потоком. Линии ее отточены, как будто лепил ее великий мастер вопреки всем запретам правоверных.
Вот ее-то внимание я и хотел привлечь этим набором украшений. Но вышло так, что она даже взглядом не удостоила мою работу, хотя потом ею восхищались многие девушки мира, о чем я узнал из книги отзывов, которая переезжала вместе с выставкой из города в город, и из писем ко мне, пришедших из многих стран мира. «Изделия эти несравненны! — писала мне девушка по имени Анриетта из Парижа. — Если бы я могла их приобрести, то перещеголяла бы всех модниц!» А в письме из Оклахомы некая Мэри просила прислать мою фотографию, чтобы она могла взглянуть на мастера, так тонко разбирающегося во вкусах современных девушек. Студентка Фусако из Токио, наоборот, сама прислала мне фотографию и написала, что мечтает иметь ко дню своей свадьбы что-нибудь из Кубачи. Студентка Наташа из Москвы спрашивала в письме, в какое время года лучше всего приехать в Кубачи, и я, конечно, ответил, что в любое время. Так что, видите, почти на всех широтах земли девушки восхищаются моими изделиями и мечтают о них, а моя кубачинка Серминаз, которой я готов отдать всего себя со всеми моими работами, мастерством и помыслами, даже не удостоила меня улыбки… А может быть, она потому столь невнимательна ко мне, что я получил всего лишь бронзовую медаль, тогда как мой ровесник и друг Азиз, сын Кальяна, — золотой приз «Бенвенуто Челлини»? Может быть, ему она подарила свою улыбку? При одной мысли об этом я чувствую, как мое сердце превращается в мельничное колотило, потому что самое нелегкое в жизни — это видеть соперника в хорошем друге… Но сейчас разговор не о нем.
Так вот и получается, что далекие девушки меня признали, а своя аульчанка не желает и замечать, хотя чувства мои бушуют, как море в шторм. Да, недаром, видно, чужое золото ярче блестит.
И все-таки мне двадцать лет. И мир открывается передо мной как волшебная книга, к которой страшно приступить. Так и хочется немного оттянуть наслаждение, которое предстоит.
Двадцать лет! Словно я стою на перекрестке тысячи дорог и не знаю, куда идти. А время торопит, требует движения и увлекает меня за собой. Все вокруг кажется необыкновенным, туман, что лежит в сулевкентском ущелье, похож на белоснежный пуховик, дождь напоминает слезы радости, а радуга, кажется, опирается концами в два дома — в наш и в дом Серминаз. Все радует меня: и пес, что стоит сейчас на террасе, склонив голову набок, и с умилением смотрит на мать, ожидая подачки, и дядя, который только что уничтожил целого цыпленка и, вытирая бумажной салфеткой губы, приговаривает:
— Эх, и хорош был цыпленок! Даже косточек для собаки не осталось! Никогда еще не ел с таким наслаждением! Да, так приготовить обед может только Айша!
5
Айша — это моя мать. Дядя не упускает случая похвалить ее, будто старается задобрить. Это продолжается уже пятнадцать лет. Во всяком случае, я начал чувствовать это с пятилетнего возраста. И хотя какое-то непонятное чувство гложет меня, когда Даян-Дулдурум глядит на мать преданными глазами нашей собаки, я молчу. Я не пытался еще поразмыслить и понять, что же кроется за этими нежными взглядами, за этим странным вниманием, и вывод мой пока довольно беден: наверно, так дядя проявляет свои родственные чувства. К тому же я воспитан в строгих правилах горской чести, которые не позволяют задавать вопросы старшим. Хотя, надо признаться, старшие-то усердно вмешиваются в мою жизнь.
Может быть, так это и положено, но чем больше они диктуют мне свои правила игры, тем чаще я поступаю наперекор.
Я человек по натуре робкий, стеснительный. По мнению дяди, я не способен даже взглянуть в глаза девушке. Он, конечно, преувеличивает мою робость. Если бы это было так, разве сумел бы я выделить из многих моих сверстниц самую лучшую? Но о том, что сердце мое уже отдано кому-то, родные пока не знают.
С тех пор как появился у меня под носом первый пушок, мать стала относиться ко мне как к взрослому. Но ей не нравится мой нос. Не только в присутствии дяди, но и при посторонних она частенько приговаривает:
— Не будь твой нос похож на вылезшую из земли картофелину, ты мог бы прослыть первым красавцем в Стране гор…
А дядя, вторя ей, вдруг хватает меня двумя пальцами за нос, который он попросту называет паяльником, и, невзирая на то, что мне и больно и обидно, восклицает:
— Да, жеребенок уже подрос, пора накинуть на него уздечку, а то, чего доброго, перебежит в чужой табун!
Смысл этих слов понятен каждому горцу: значит, пора женить меня и отделить от матери.
Вот и сейчас дядя хотел было ухватить меня за нос, но на этот раз я не дался. Помогла ли выработанная в конце концов изворотливость или дядя отяжелел после опустошенного под цыпленка кувшина, но он промахнулся. Тогда, похлопав меня по плечу, он уселся на табуретку и твердо заявил, что пора наконец выбрать невесту.
Тут я понял, что сегодня они выведут меня на чистую воду. И верно, мать начала перечислять девушек на выданье, давая каждой такую характеристику, какая устроила бы любого начальника отдела кадров. А дядя при каждом имели пригибал к ладони очередной загрубевший в работе палец и перечислял: «Одна. Вторая. Третья…»
Так были названы в порядке очереди Бэла, Зарема, Лейла, Зухра, Хамис, Чегери, Нина, Саида, Джамиля… О, сколько их, прекрасных девушек, в нашем ауле! Одни закончили десятилетку, другие студентки, третьи доярки, уже прославленные в газетах, а одна даже депутат аульского Совета. Одним словом, закрой глаза, ткни пальцем в небо — и обязательно наткнешься на звезду-невесту. Но я-то ведь давно предпочел всем звездам луну. Хотя она и изменчива и нет в ней постоянства, но этот недостаток даже делает ее еще более привлекательной. И я твердо сказал:
— Не утруждайте себя длинным перечнем невест. Я знаю их не хуже вашего.
— Не хочешь ли ты сказать, будто у тебя уже есть избранница? — с недоумением спросил дядя.
— Да, есть! — кратко ответил я.
О, если бы вы увидели их лица в этот миг! Трудно передать словами, что отразилось на них! Такое мог бы запечатлеть только кинематограф, и то если бы оператор в этот момент находился рядом, потому что повторить это невозможно.
Удивительная пантомима затянулась. На лицах матери и дяди застыл такой восторг, словно я совершил нечто невообразимое: например, только что спустился на их глазах из бездонного космоса и сообщил, что приглядел себе невесту среди марсианок.
В глубине души я даже оскорбился: невысокое же у них мнение о своем питомце! Не люблю быть нескромным, и самоуверенным меня, пожалуй, тоже не назовешь, но все же выгляжу я вполне приличным парнем, особенно когда надеваю свой новый костюм. Правда, нос…
Но тут я могу упрекнуть только покойного отца, который тоже обладал незаурядным носом.
Более искушенные друзья не раз советовали мне обратиться в Институт красоты, что находится на улице Горького в Москве. Они утверждали, что там делают поразительные пластические операции. Но я знаю об одной такой операции, да и вы, наверно, слышали о дочке одного нашего крупного деятеля, у которой нос свисал, как утес со склона. Ей тоже посоветовали обратиться в этот институт. И что же? То ли хирург перестарался, то ли сама пациентка оказалась слишком настойчивой, но вернулась она из этого института с таким крошечным носиком, да к тому же еще и вздернутым, что в лице ее ничего уже не осталось от пленительной горской красоты, которая требует, чтобы у девушки был прямой длинный нос классической формы. Раньше бедняжка хоть изредка появлялась на людях. Теперь же, говорят, окончательно замкнулась дома. А самое неприятное, что и помочь ей печем: укоротить-то — дело простое, а вот удлинить никто уже не берется. Примерно то же бывает с пиджаком: с отца на сына переделать легко, а вот с сына на отца — простите!
Нет уж, пусть на моем лице красуется нос, которым меня наградила природа. Я к нему привык. Да и мои друзья узнают меня по носу везде, в любой толпе. Он для меня то же самое, чем была для Ходжи тыква с гремящим в ней горохом, которую он привязывал к поясу в базарный день, чтобы не потеряться. Ко всему прочему с моим носом связано у меня немало воспоминаний. Сколько раз, задремав над верстаком, я вонзал в него свой граверный резец! Сколько раз, учуяв за три километра запах хинкала с чесноком, нос приводил меня помимо моей воли прямо к той сакле, где этот хинкал варили! Впрочем, если я стану и дальше рассказывать только о моем носе, то уподоблюсь нашему аульчанину Кишу, сыну Таила, который задумал отлить светильник, а получилась у него ступа для чеснока. Вернемся же к нашим хурджинам.
Итак, моя мать и дядя наконец пришли в себя после моего сообщения.
— Ну и племянничек, трижды три — девять! — воскликнул дядя. — Точь-в-точь отец! Тот тоже, бывало, молчком намазывал масло на ломоть курдюка.
Он принялся расхаживать по веранде, как генерал, обдумывающий план решительного наступления. Но на кого? Был ли он доволен, что я избавил их от хлопот по выбору невесты, или собирался напасть на меня за мое самовольство?
Тут дядя остановился передо мной, выставив ногу и выпятив грудь.
— Так что же ты молчал до сих пор, негодяй! — снова закричал он.
Надо сказать, что в устах дяди «негодяй» по отношению ко мне — самое любимое слово, по смысл ему он придает совершенно другой: что-то вроде «молодец». И, должен признаться, мне оно нравится даже больше, чем «молодец» в чужих устах. В нем я слышу и родственное отношение, и заботу обо мне, выросшем без отца. Впрочем, мало ли на свете слов, которые выражают порой совсем не то, что обозначают. Прислушайтесь-ка к речи ваших соседей — сами поймете!
Поэтому я спокойно возразил:
— А что, я должен был кричать об этом? Я совсем не собираюсь уподобляться той хохлатке, что кудахчет на всю округу, будто снесла звезду, а не простое яйцо, да еще с желтой скорлупой…
— Да! Ты должен был кричать, вопить, чтобы все знали, что ты наконец стал взрослым мужчиной! — наступал на меня дядя, лихо покручивая усы. А усы у него весьма солидные, и служат они не только для украшения, но и помогают в деле. Он работает монтировщиком в художественном комбинате, и лучшего мастера по изготовлению черни в нашем ауле не сыскать. И тут усы его выполняют не менее важную роль, чем усики антенны на телевизоре: когда состав для чернения серебра начинает плавиться, из него капельками выделяется сера и оседает на усах, докладывая многоопытному мастеру, что чернь готова.
— Да! Ты должен был кричать на весь аул, — продолжал он. — Ты мой племянник, сын моего брата, и если ты избрал себе девушку, то следовало оповестить всех, чтобы твою избранницу никто не посмел даже за глаза обидеть!
— Не беспокойся, дядя, она и сама не даст себя в обиду! — сказал я, отлично зная нрав моей избранницы.
— Кто же она? — спросила мать, которая хотя и позже, чем дядя, но тоже пришла в себя.
— Не все ли нам равно, кто она? — перебил дядя.
— Нет, мне не все равно! — твердо сказала мать. — Я совсем не хочу, чтобы мой сын женился на девушке из какого-нибудь проклятого нами рода!
— «Проклятый нами род»? — растерянно спросил я. — Значит, и мы по отношению к ним тоже «проклятый род»?
— Да, именно так! — мрачно сказала мать, поправляя на лбу белую длинную шаль, кисти которой свисали почти до пят. Ей, видно, показалось, что от резких слов, которые она сопровождала довольно гневными жестами, шаль сбилась и дядя может увидеть ее растрепанной.
— И это в наше время вы говорите такие слова! Не думал я, что мои родственники хранят еще в заржавленном сундуке на дне души столь человеконенавистнические чувства! Дядя, ты же мудрейший человек!.. — воскликнул я чувствуя, что над моей головой вот-вот разразятся страшная гроза, и понимая, что спасти меня от этой грозы может только Даян-Дулдурум. Он любит, когда говорят о его мудрости. — Даже ты, известный от Салатавских гор до вершин Шахдага, даже ты до сих пор не смог докопаться, почему два рода в нашем ауле вот уже почти сто лет проклинают друг друга…
— Надеюсь, ты избрал девушку не из рода Мунги? — настороженно спросил дядя.
— Предположим…
— Оставь предположения при себе и отвечай своей матери, кто твоя избранница! — грозно сказал дядя, становясь на этот раз на сторону матери, хотя обычно выгораживал меня и спасал от ее нападок.
6
Вот тут я и представил себе свою избранницу и увидел ее в воображении яснее, чем если бы она стояла рядом со мной.
Разве могу я забыть первый в жизни поцелуй?
Случилось это двадцать семь дней назад, после заседания художественного совета, обсуждавшего образцы новых изделий, среди которых было и одно мое ожерелье.
Серминаз, член художественного совета, лучший мастер-резчик по слоновой кости, работает сейчас на самом ответственном месте — приемщицей-контролером готовых изделий. Многие из этих изделий выполняются по ее собственным эскизам и образцам.
Я не знаю, сколько ей лет, знаю лишь, что после окончания семилетки она училась в Костромском училище прикладного искусства, получила диплом с отличием и в прошлом году вернулась в Кубачи.
И вот она, моя Серминаз, происходит из рода Мунги, проклятого нашим родом чуть ли не сто лет назад. И никто не знает, что послужило причиной этого проклятия, ставшего обоюдным.
А ведь род Мунги столь же известен, как и наш. Из рода Мунги вышел известный поэт-кубачинец Мунги Ахмед, живший в конце девятнадцатого и начале двадцатого века. Сама же Серминаз столь прекрасна, что способна воплотить собою всю поэзию Страны гор.
На том художественном совете, двадцать семь дней назад, Серминаз принимала новые образцы украшений, выполненных нашими мастерами. И забраковала почти все, произнеся при этом вдохновенную речь о том, что такое настоящее искусство и как много мастерства требуется от нас, призванных украшать жизнь людей. Мастера, которые сначала готовы были ополчиться на нее, молчали как зачарованные. А Серминаз демонстрировала образцы украшений, надевая их одно за другим на себя, и все спрашивала:
— Скажите откровенно: украшает ли это меня?
Тут я не выдержал и воскликнул:
— Нет, Серминаз, нет! Ты украсила эти безделушки, а сами по себе они ничего не стоят!
И она впервые согласилась со мной:
— Вот именно, они ничего не стоят! А ведь изделия кубачинцев должны быть подлинными произведениями искусства, но не безделушками!
После окончания худсовета, с которого все уходили молчаливые и задумчивые, ища в воображении что-нибудь необычайное и прекрасное, к чему призывала Серминаз, я задержался. Меня так покорила ее убежденность, ее прямота, что я не удержался и попытался ее обнять. Она увернулась, как лань от волка. Мне ничего не оставалось, как сказать:
— Прости, Серминаз, я только хотел снять с твоей шеи эту безделушку — серебряный кулон, за который мне теперь стыдно.
— Это другое дело, — сказала она, улыбаясь, хотя вид у нее был еще недовольный. Однако она позволила мне снять кулон, и при ней я поцеловал его с той стороны, которой он касался ее молочно-белой груди.
Она взглянула на меня как на сумасшедшего и, гордо вскинув голову, вышла. Но в дверях обернулась и сказала:
— Это еще надо заслужить!
Я не понял, что она имела в виду, но ведь она была свидетельницей моего первого поцелуя и поняла мой жест. И да останутся наши чувственно-тонкие порывы до тех пор, пока будет жить мой народ, ибо девственная чистота отношений между юношей и девушкой, ставшая нашим обычаем, рождает чувства столь нежные и возвышенные, что в них нет почти ничего земного!
7
Даян-Дулдурум, мой почитаемый и прозорливый дяди, вдруг что-то сообразил. Видно, мое долгое замешательство подсказало ему, что гроза может разразиться не только надо мной. Он многозначительно кашлянул и перевел разговор в другую тональность:
— А все-таки хорошо! — И опять ударил меня по плечу, как кувалдой о наковальню.
— Что хорошо? — не поняла мать.
— То, что у твоего сына уже есть избранница и что он избавил нас от многих хлопот.
— Но я хочу знать, кто она.
— Это, дорогая Айша, меня сейчас волнует меньше всего, — твердо заявил дядя. — Меня тревожит другое: хватит ли у моего племянника, твоего сына, знаний и смекалки, чтобы позаботиться о подарке?..
— О каком подарке? — воскликнул я.
— Ну и олух же ты! О таком подарке, который доказал бы невесте твое понимание искусства, твой вкус художника, твое знание жизни. И главное: «Если ты влюблен, скитайся по горам!» Разве ты забыл, что эти слова начертаны на арке у выхода из нашего аула? А для кого же они начертаны, как не для таких молодцов, как ты?
— Я помню их.
— Не собираешься ли ты нарушить этот обычай?
— Нет, нет, дядя.
— То-то же! Если же ты думаешь иначе, то покинь аул навсегда!
Да, уж что-что, а обычаи, традиции и заветы предков мой дядя знает во всех тонкостях! И сейчас он напомнил не о каком-либо пустяке, а о самом святом долге жениха.
Не знаю, с какими обычаями связана женитьба в вашем ауле, но в ауле Кубачи все это чрезвычайно хлопотно. Юноша, признавшийся в том, что нашел избранницу и готов заслать сватов, должен немедленно отправиться в долгое скитание, чтобы найти невесте такой подарок, который привлек бы не только взор ее, но и сердце. Иногда такое скитание продолжается не месяц, не два, а годы, ибо не так уж много на земле прекрасного. А ведь жених жаждет еще и отличиться перед всеми прошлыми и будущими женихами своим вкусом, чутьем, воображением. Вот почему эта добровольная ссылка может продолжаться неопределенно долго. А я-то чуть не забыл, что своим вынужденным признанием обрекаю себя на такой шаг.
— Тогда готовься! — приказал дядя.
— Сейчас?
— Да, сегодня же!
— А как же с работой?
— Не беспокойся, на комбинате я все устрою. Сегодня выходной, а завтра я поговорю с руководством. Они меня поймут. Человеку, который решил обзавестись семьей, ничто не должно мешать.
«Обзавестись семьей!» — как это просто звучало в дядиных устах! Ах, если бы это было так же легко устроить, как и сказать! Впрочем, может, тогда это было бы совсем и непривлекательно? Ведь слаще всего именно то, что добываешь трудом и муками.
Но неужели я и в самом деле смогу покорить эту неприступную крепость, зажгу в Серминаз любовь ко мне, доказав, что я действительно разбираюсь в искусстве — от старины до работ сегодняшних мастеров? И тут меня впервые обожгла мысль: сумею ли я найти нечто такое в дар моей любви, в чем выразилась бы вся красота быстротекущего времени? Эх, знать бы, в каком ауле и в каком доме это искать!.. Но если мне так и не удастся завоевать ее любовь? Ведь тогда кончится вся моя жизнь!
Тревожные мысли так захватили меня, что я невольно воскликнул:
— Нет, не может быть, чтобы Серминаз отвергла мою любовь!
Я не успел еще осознать, что наделал, как был оглушен неистовым криком и проклятием матери, а вдобавок сражен наповал гневным взглядом дяди.
— Кого ты назвал? — кричала мать. — Серминаз, дочь Жандара? Да как ты смеешь произносить при мне это проклятое имя? Я так и знала, что этот байтарман осквернит порог моего дома!
В слово «байтарман», что значит «непутевый», моя мать вкладывает весь свой гнев, и я уже понял, что мне предстоит перенести немало неприятностей. А она продолжала:
— Ах, безумный слепец, избравший из всего жемчужного ожерелья одну лишь нить! Ну погоди же ты! Где метла? — И мать засуетилась в поисках чего-нибудь тяжелого, что она могла бы опустить на мою бедную голову. Под руку ей попал железный лом, и я уж хотел попрощаться с жизнью, но она, видимо, сообразив, что может лишиться своего единственного сына, оставила лом и, всплеснув руками, бросила недобрый взгляд в сторону Даян-Дулдурума, удрученно стоявшего рядом:
— А ты что стоишь? Ведь это же твой племянник! Он же позорит наш род!
Тут мать увидела метлу, схватила ее и бросилась на меня так, словно собиралась смести с веранды, как негодный сор.
Моя благовоспитанная мать не пренебрегает даже метлой, когда ей хочется доказать родительскую волю и власть. Она не обращает внимания на то, что мне уже двадцать, я почти мужчина и, во всяком случае, вполне самостоятельный человек. Может быть, я все еще кажусь ей ребенком, который, засучив штаны выше колен, бегал на каменистый склон горы Кайдеш с плетенкой по малину или в Подозерное ущелье по смородину и крыжовник? А может быть, матери, пока она жива, положено держать власть над детьми любого возраста? Иначе как понять поступок известной всем в ауле нашей соседки, старухи Мицадай, которая прямо на террасе, на виду у всех, выпорола своего пьяницу сына, хотя он ничуть не моложе моего дяди.
Но должен сказать, что моя благородная мать не часто прибегает к таким методам воспитания. Видно, на этот раз ее возмущению не было предела. И уж, наверно, она исколотила бы меня как сыромятную кожу, из которой шьют чарыки, если бы с возрастом я не приобрел известную ловкость и быстроту реакции. Как только мать схватила метлу, я в два прыжка оказался возле столба, что стоит у террасы, поднимаясь выше крыши нашего дома. Столб этот поставлен не для надобностей техники — нет на нем ни проводов для освещения или телефона, ни антенны для телевизора. На верхушке этого столба, образующей своеобразный трезубец, вялилась на зиму баранина, сразу три туши, разрезанные на ленты и растянутые на крестообразных палочках, а по сторонам свисали бараньи кишки, заправленные фаршем из потрохов и мяса с пахучими травами ганза, кулжиналте, шумаре. Кишки были похожи на лианы, густо увившие эту баранью пальму.
Обхватив столб руками и ногами, я, подобно обезьяне в пальмовых джунглях, мгновенно скатился во двор.
— Мартышка! — крикнула мать.
А я и сам думал об обезьяньей ловкости, с которой избег кары.
— Пусть я буду недостойна носить платок, если не выбью из тебя дурь! Ведь сто лет шлем мы этому роду проклятия!
8
Я стоял внизу под навесом, представляя, сколько еще препятствий придется преодолеть, прежде чем я добьюсь руки Серминаз. Стоял и слушал нескончаемый поток проклятий, низвергавшийся на мою голову и на род Мунги, которому из-за меня сегодня доставалось особенно крепко. Видно, и впрямь этот род когда-то очень насолил нашему. И во мне все сильнее разгоралось любопытство: что же все-таки послужило причиной такой ненависти? До сегодняшнего дня я и не предполагал, что между нами и родом Мунги лежит такой водораздел, — ни мать, ни дядя никогда об этом не говорили. Да и внешне ничего не было заметно: при встрече здоровались, вместе ходили на работу, отдыхали на гудекане, выходили на площадь во время праздников или боя баранов. Видно, язва души тоже обнаруживает себя только в том случае, когда коснешься ее чем-нибудь острым. Не потому ли, стоило мне произнести сокровенное имя, как вся боль сердца выплыла наружу?
Но как возникла эта боль и откуда такие страсти? Неужели оттого лишь, что в роду Мунги был человек, который пренебрег искусством своих предков и ударился в сочинительство стихов и песен — избрал себе иное искусство? Но ведь легендарный далайче — народный поэт Мунги Ахмед прославился не только в чужих краях, но и в родном селении, хотя некоторые фанатики и прокляли его за то, что он писал свои стихи поперек строк священного Корана.
Мунги Ахмед, скиталец, обошедший и объехавший почти полмира, был известен еще и как «покоритель шайтанов». В начале нашего века он привез из Парижа и показал в Кубачи первый кинофильм. Потрясенные этим чудом, земляки решили, что это не что иное, как шайтаны: не зря же они появляются только в темноте. И этого человека чтили не только при жизни, его не забывают и в наши дни. Чтит его и Даян-Дулдурум, тот самый Даян-Дулдурум, который в одном из сирагинских аулов отдал своего доброго аргамака вместе с английским седлом за один лишь мудрый рассказ, даже и не за рассказ, а за притчу.
Но я-то почему должен выискивать худое в роду Мунги? Или, может, это именно в нашем роду был человек, вызвавший к себе такое презрение? Кто же он и что он сделал? Не знаю и ничего не могу понять. Мне известно одно: когда-то между нашими родами случилось нечто более значительное, чем убийство, ибо даже кровная месть давно уже канула в прошлое, а вот это осталось в памяти рода…
Мать меж тем продолжала на веранде свой монолог, обращая его теперь ко мне:
— Лучше бы руки твои отсохли прежде, чем коснулись этой женщины! Лучше бы ты ослеп, чтоб никогда не увидел ее! Пусть бы оглох, только бы не слышал ее вкрадчивого голоса! Да чтоб окаменел твой бесстыжий язык раньше, чем ты скажешь ей слово любви!
Я невольно подумал, как трудно было бы уцелеть человеку на белом свете, если б от проклятий действительно умирали. Ведь в этом случае не понадобилось бы и армий: пригласи десяток вдовушек из нашего аула, и они извергнут ровно столько проклятий, сколько воинов в стане врага.
— Ну и мастерица же ты плести веревки из слов! «Да чтоб… Да чтоб…» Хватит! Неужели ты не видишь, все соседи залезли на крыши! — тихо говорил дядя, обращаясь к матери мягко, словно боялся, что она начнет плести такую же веревку и для него, — Тише, тише, Айша, уже и ставни скрипят у людей…
— Пусть скрипит все на свете, но такого позора я ему не прощу! — продолжала во весь голос моя добрая мать.
— Что случилось, соседка? — спросила с крыши соседней сакли Мицадай, старуха с таким сморщенным лицом, что всякий раз, глядя на него, мне хотелось взяться за горячий утюг. Мицадай — первая в нашем ауле сплетница, даже имя ее говорит об этом: Мицадай — значит «Тетя-крапива!» — Корова твоя околела, что ли? Уж очень громко кричишь…
Да, на уме у Мицадай постоянно одно и то же: наша бесхвостая корова. На днях Мицадай и еще несколько соседок разговорились у колодца. Неизвестно, кому из них пришло в голову помечтать: а что бы каждая попросила, если бы сейчас на край колодца опустился ангел? Одна сказала: «Попрошу, чтобы новая работа моего сына удивила самых лучших мастеров!» Вторая призналась: самое большое ее желание — чтобы в этом году ее внучка сдала экзамены в университет. Когда же спросили Мицадай, она крикнула: «Хочу, чтобы у Айши околела корова! Моя подохла, пусть и Айша сидит без молока!»
— Рано радуешься, соседка, я ее еще утром проводила в стадо! — ответила мать.
— Я решила, что она на пастбище и околела, — промямлила Мицадай. — А что же случилось?
— Не твоя это забота, на ком мой сын женится, но я не допущу, чтобы он связался с Серминаз! — крикнула мать.
— Замолчи же наконец! — продолжал свои уговоры дядя. — Уйдем в дом, а то сраму не оберешься от этих сплетниц!
— Где он?
— Да нет его, ушел твой сын!
Дядя был прав. Я и на самом деле собирался пройтись мимо сакли Серминаз, покашлять немного у ее окна — вдруг она выглянет, — а если удастся, то и забросить к ней в окно свою новенькую серую кепку, которую привез мне дядя из Тбилиси. Папаху я надеваю редко, но кепку мою Серминаз узнает, а известно, что если юноша бросает в окно девушки свой головной убор, значит, он признается ей в любви, — это тоже обычай.
Но в эти самые минуты меня осенила великая мысль: только я один могу примирить два враждующих рода! И если до сих пор в моей душе еще мелькали сомнения — а окончателен ли мой выбор? — то теперь они исчезли напрочь. Да, я свяжу свою судьбу с Серминаз и тем самым зажгу факел мира. Какой бы роковой ни была ошибка, разделившая два наших рода на целую сотню лет, ее можно исправить!
9
Голоса матери и дяди больше не слышались, видно, Даян-Дулдуруму удалось убедить мать, что недостойно женщине из нашего благородного рода вести себя так на людях.
Я вышел из-под навеса, где хоронился, во двор.
— Э-эй, Мицадай, что там стряслось у твоей соседки? — спрашивала женщина с крыши одной сакли верхнего квартала. В ее руках ослепительно сверкали спицы, и чулок, который она вязала, непостижимо вытягивался на глазах.
— Говорят, что их байтарман связался с Серминаз. Это, конечно, к добру не приведет!
— Не может быть!
— Как не может быть, когда я своими ушами слышала! Что слышала, то и говорю!
— Неужели не нашлась для него в ауле девушка? — присоединилась к ним третья женщина, которая на своей крыше перебирала на плоской тарелке чечевицу для плова.
— А она кто же, по-твоему? — ехидно хихикнула Мицадай. — Или она парень, переодевшийся в женское платье, чтобы избежать обрезания?
— Была когда-то девушкой, до того, как в Россию поехала, — возразила женщина с чечевицей. — Разве ты не замечала, как она после поездки округлилась?
— Значит, она была замужем?
— Откуда мне знать? На свадьбу меня не приглашали.
— А может, она связалась с их шалопаем? — И Мицадай показала рукой на нашу саклю. — Чего теперь не бывает! Вот разве только рассвет и закат еще не поменялись местами, а остальное все перепуталось на грешной земле…
Я обессилено опустился на камень, что лежал в углу двора. Лучше бы мне получить удар железным ломом от матери, чем услышать то, что я услышал. Она не девушка! «Значит, она была замужем?», «Откуда мне знать, на свадьбу не приглашали!..» И все с таким ехидством. И о ком? О Серминаз! Да что я, в бреду? Ослышался? Серминаз! Девушка-горянка, да к тому же еще комсомолка!
Нет, я вправду слышал все это! Вон они, эти три женщины. Теперь они собрались на одной крыше, чтобы сделать из мухи слона и пустить его по аулу. Они воркуют, как горлинки, исподтишка поглядывая на нашу саклю, и в самом деле похожие в своих белых платках-покрывалах на горлинок, хотя я скорее назвал бы их сороками. Ведь после их слов весь мир померк для меня.
Но я им не сдамся! Мой дядя, славный Даян-Дулдурум, учил меня стойко переносить невзгоды жизни, которые, по его словам, всегда приходят в самый нежданный час. Не стану же я верить сплетням Мицадай и ее злобных приятельниц! И я говорю себе: крепись, не отчаивайся, дружище, трижды три — девять! Тебя, видно, не то еще ждет впереди, так что подложи под пиджак каменную плиту, чтобы удары рока по спине были не столь болезненны.
ГЛАВА ВТОРАЯ ТРУДНО ВЕРИТЬ УСАМ МЕЛЬНИКА
1
Каким бы стойким ни представлялся я вам, мои дорогие слушатели, все же будет неправдой, если я скажу, будто злые слова наших сплетниц, упавшие в мою душу подобно камням, не нанесли ущерба нежным всходам моей любви. И очень скоро я почувствовал, что куда легче переносить физические муки, нежели душевные.
И ведь вот что странно: пожалуй, никто в ауле лучше меня не знает, какая вздорная старуха наша соседка Мицадай. Казалось бы, ну и бог с ней, как говорится, стоит ли принимать во внимание ее слова? Тем более что с самого раннего детства я терпел от нее одни неприятности. Начать с того, что имя-то мое она произносит как проклятие, а ведь Бахадур значит «молодец», «богатырь». Это довольно редкое имя в наших горах, но, видно, отец хотел, чтобы я вырос достойным такого имени.
Во всех своих бедах Мицадай винит почему-то меня.
Сколько я ее помню, она не меняется, и кажется, что такой она была от рождения. Я всегда остерегался ее, а если один раз и забрался к ней во двор за яблоками, так от этого хуже всех было именно мне. Ребята постарше уговорили меня нарвать им кислых, как уксус, зеленых, совсем незрелых яблок с ее яблони и подарили за это глиняный свисток, который издавал настоящую милицейскую трель. На что только не пойдет мальчишка, чтобы получить такой свисток! В оправдание я могу привести случай с человеком совсем уже взрослым, моим другом Хаджи. Однажды он, выступая на собрании, рассказал о бесчестных поступках одного влиятельного человека, окруженного к тому же многочисленной родней. И то ли кто-то пригрозил Хаджи, то ли он сам спохватился, что ему могут отомстить, но он явился в милицию и попросил оружие для самозащиты. Только ему вручили не пистолет, как он надеялся, а… свисток. Мол, если на тебя совершат нападение, свистни — и помощь подойдет! Вот ведь какое настало время — пистолет заменяют свистком!
Теперь вы понимаете, что ради такого подарка я готов был залезть и в собственный сад! Но если ребятам захотелось яблок Мицадай, пусть будет так. Получив свисток, я забрался на яблоню и начал набивать за пазуху эту кислятину. Вдруг скрипнули ворота, и во двор вошла Мицадай. Со страху я упал с дерева, резинка на трусах у меня лопнула, и яблоки раскатились по двору.
— Что ты здесь делаешь? — спросила Мицадай, подходя ко мне со своей неизменной суковатой палкой.
— Видишь, бабушка Мицадай, добро пропадает, — нашелся я, показывая на рассыпанные яблоки. — Хочу собрать их и прицепить обратно на яблоню.
Увы, мои слова не возымели действия! Старуха приближалась с самым грозным видом. Тогда я бросился бежать, надеясь перескочить каменный забор раньше, чем меня настигнет ее посох. Но пока я карабкался на забор, Мицадай нагнала меня и зацепила мои трусы рукояткой палки. Через забор я все же перевалился, но в каком виде!
Ребята, ожидавшие меня на улице, стали требовать яблок. Когда же я объяснил, что случилось, велели вернуть свисток. Но и свистка не оказалось — он, видно, выпал, когда я летел с яблони. Все кончилось дракой, в которой мне разорвали майку.
Вернулся я домой в чем родился, а там уж мне досталось от матери. Когда же Мицадай распространила слух, будто я обобрал всю ее яблоню, мне попало еще и от дяди Даян-Дулдурума…
Так что вряд ли кто-нибудь лучше меня знает старуху Мицадай.
Но уж так повелось, что порой в нашем ауле, похожем на высочайший в мире небоскреб, происходят самые странные вещи. Аул наш поднимается амфитеатром от ущелья, в котором находится пещера святого Али, по склону скалистой горы Ака, а на вершине увенчан древней зирехгеранской круглой башней, называемой Крепость Кунака. Святой Али прославился тем, что, сидя в своей пещере, вопреки строжайшим запретам белого царя, в особых формочках отливал из обыкновенной меди «золотые» пятерки и десятки, так что одного медного подноса ему хватало на целое состояние. Но сам он жил как все аульчане, потому что, обменяв свои монеты на настоящие, тут же раздавал их беднякам, помогал строить мосты и дороги, чистить родники и колодцы, даже привез в Кубачи откуда-то, чуть ли не из Германии, тысячепудовую механическую мельницу, огромные детали которой, покрытые ржавчиной, до сих пор стоят неподалеку от пекарни.
На небоскреб наш аул похож потому, что крыши самых нижних саклей служат балконом-террасой для следующего ряда жилищ, и так гигантской лестницей, в которой не менее трехсот ступеней, он поднимается к Крепости Кунака. Правда, в этой лестнице за последние десять — двадцать лет образовались пробоины, так как некоторые сакли разрушены: иные жители аула переехали в город, другие переселились на просторное плато, где можно не только построить саклю, но и разбить перед нею палисадник.
И мне думается, что именно благодаря такому расположению в нашем прекрасном и величественном ауле случаются не без участия человека самые странные происшествия. Если в нижнем квартале распространится слух, что некая женщина счастливо разрешилась от бремени, подарив мужу сына, то до верхней «ступени» аула эта весть дойдет в таком виде, что люди спустятся оттуда с хмурыми и мрачными лицами, бормоча отрывки заупокойной молитвы, а недоумевающим родителям скажут, что им сообщили, будто скончался отец новорожденного. Если в средней части аула какой-нибудь златокузнец смастерит необыкновенной гармонии и красоты узкогорлый серебряный кувшинчик для прославленного дагестанского коньяка марки «Черный тур», то верхние жители услышат, будто мастер превратился в беспробудного пьяницу, а нижние — что он в погоне за оригинальностью смастерил котел без дна.
Казалось бы, зная все эти странности эфира, я мог остаться совершенно хладнокровным к выдумкам и басням о Серминаз. Но сердцу не прикажешь, особенно когда языки чернят самое святое для тебя существо. Да, не сегодня сказано: «Стальная стрела попадает в тебя, оловянная — в соседа».
А вдруг в карканье этих ворон есть частица правды? И не потому ли моя сдержанная и всегда невозмутимая мать пришла в такое бешенство при одном упоминании имени Серминаз?..
Едва я произношу это имя, пробую его на язык, как оно разбивает сомнения и сверкает всеми гранями, как алмаз в песке. И стоит лишь на мгновение выключить Серминаз из памяти, как все становится неясным, темным, будто под покровом ночи. Где же узнать правду? У ее отца Жандара? Но он со мной и разговаривать не станет. Я знаю наших отцов! Они вообще не говорят о женах и дочерях, считая такой разговор ниже мужского достоинства.
Спросить у самой Серминаз? Да мой язык приклеится к нёбу и гортань пересохнет, едва я подойду к ней. Это только сейчас он болтается свободно. При ней же я сразу немею.
Или, может, вообще не думать о ней? Ведь если Серминаз так тревожит мое сердце сегодня, что же станется с ним, когда по какому-нибудь счастливейшему стечению обстоятельств она действительно станет моей? Не думать? Да как это возможно? Но почему я так стремлюсь завоевать именно ее сердце, когда она столь неприступна? Или потому она и неприступна, что чувствует за собой грех? Но тогда не лучше ли последовать совету моей матери и дяди, — ведь они же наверняка хотят, чтобы я был счастлив, чтоб не ошибся в свои двадцать лет!
По странному течению мыслей я вдруг стал вспоминать всех девушек, которых перечислили дядя и мать. Бэла — дочь нашего председателя Омара, моя бывшая одноклассница, внешне не уступила бы знаменитой лермонтовской героине, а душой даже богаче ее… Саида, наша дальняя родственница, сложена грубовато, но именно на таких девушках женились сулевкентцы весной, чтобы к осени иметь в хозяйстве лишние рабочие руки. Лейла приятна во всех отношениях, она депутат сельского Совета, но капризна, как погода в Кубачах. Зухра? Вряд ли такую Зухру видел хоть один Тахир, но она, говорят, ждет своего Тахира, которого зовут Султан, с военной службы из-за Полярного круга. Хамис, Чегери, Нина, Зарема, Джамиля… Всех я представил себе, но и это не успокоило взволнованную случайно услышанными словами душу, хотя я сдерживаю себя, как сдерживают только что прирученного скакуна. Стоит лишь опустить поводья — скакун со всего разбега врежется в табун и раздавит тебя в лепешку. Стоит и мне лишь немного расслабить волю, как я могу совершить необдуманный поступок, а потом всю жизнь буду каяться и причитать: «Эх, где вы, мои двадцать лет!»
2
С этими тревожными мыслями, что кружились в голове, как снежный вихрь в ногайской степи, я поднялся на второй этаж нашего дома и в раздумье облокотился на резные перила балкона. Подобно падающей звезде, мозг прорезали оброненные кем-то на гудекане слова: «Пришло время жениться, говоришь? Тогда вешайся, друг, вешайся, чтобы потом не жалеть!»
Но неужели так плохо быть женатым? Почему же тогда так мало на земле холостяков? И следует ли мне прибиваться к этой ничтожной группе отверженных? Не лучше ли все-таки кинуться в кипучие морские волны, чем прозябать на необитаемом островке?
Ветер распахнул дверь передней комнаты, где у кубачинцев обычно находится камин с резным каменным наличником, и мои мысли прервал голос матери. Она все еще не могла успокоиться и продолжала бурлить.
— У-у, попадись он мне под горячую руку, я показала бы ему, кого выбирать в невесты!
— Ну, хватит, хватит, трижды три — девять, успокойся! На вот, выпей водички! — Даян-Дулдурум все пытался ее уговорить.
— Не хочу, сам пей! Вот и дождались мы неприятностей от этого байтармана!
— Айша, не ты ли рисовала своего сына кошкой, а вырастила тигра? Еще два года назад я говорил, что пора подумать о нем! Говорил я или нет, трижды три — девять?
— Ну и что из того, что говорил? Не говорить надо было, а делать!
— Да, рискни при твоем-то характере что-нибудь сделать наперекор! Выдоить молоко легко, а вот попробуй вдоить его обратно!
— Ты о себе больше беспокоишься, чем о племяннике. Если на ишаке, свалившемся в пропасть, не было твоего хурджина — что тебе до ишака? Не так ли?
— Я этого не отрицаю. Не люблю стряхивать крошки с чужой бороды. Я уже устал убеждать тебя! Пятнадцать лет!
— Какой же ты мужчина, если пятнадцать лет разговариваешь? Где подарок, от которого я бы растаяла? Вот если бы ты нашел знаменитое ожерелье мастера Тубчи…
— Ну и высоко же ты себя ценишь! Ожерелье мастера Тубчи не смог вернуть в аул ни один джигит…
— А ты, я вижу, хочешь дешево отделаться!
У меня в крови ненависть к сплетницам, кляузникам и анонимщикам. Будь моя воля, я бы перевешал их по всем столбам аула вверх ногами. Не люблю я и людей, которые с ухмылкой подслушивают чужие разговоры. Но Даян-Дулдурум и моя мать не были мне чужими, да и разговор их касался меня. Поэтому я не подал голоса. Мне хотелось узнать, догорел ли уже весь этот сыр-бор. Но последние слова дяди насторожили меня.
— На тебя надежды мало… — говорила мать. — Придется мне самой выпрямить тот узор, что искривил мой сын.
— Ой, боюсь, что это уже поздно. Слишком тонкий узор — поломаешь!
— Ты слепец и не видишь, что покривилась одна лишь линия.
— Вижу, что одна, но свернула-то ее не рука филигранщика, а любовь! Я лишь однажды увидел, как они обменялись взглядами в коридоре комбината, и мне было достаточно, чтобы понять, какой это узор.
— И все-таки ты слеп! Какая у них может быть любовь, если она изобразила его в стенгазете спящим, с резцом, воткнутым в нос? И неужели ты думаешь, что я соглашусь привести в мою саклю невестку из этого рода? Ведь они все время подкапываются под нас. Сегодня моего сына с длинным носом изобразили, завтра, чего доброго, тебя с твоими усами пропечатают. Нет и нет!
— Я бы согласился с тобой, но пойми, если мы станем противиться, он отложит женитьбу, а то и просто останется холостяком.
Гм, да! Мой дорогой Даян-Дулдурум сегодня говорит что-то слишком мудрено. Но мать, кажется, понимает все. Стало быть, у них есть нечто, что они от меня скрывают. Любопытство вышибло из моей головы даже досаду на аульских кликуш. Но тут опять заговорила мать:
— Ну и пусть откажется, все лучше, чем жениться на этой девчонке!
— Что ты говоришь? — Голос дяди упал до шепота, словно он чего-то страшно перепугался. — Обо мне-то ты думаешь или нет? Ведь я тоже человек, и у меня есть сердце, и оно, к сожалению, не стальное! Пятнадцать лет — не малый срок!
Я стою на балконе, и пол дрожит подо мной, до того тяжки шаги взволнованного Даян-Дулдурума. До сих пор мне казалось, что сердце у него если и не стальное, то, во всяком случае, каменное. А выяснилось, что я заблуждался.
— Иглу в шелке не спрячешь. Больше я не могу ждать! — грозно произносит дядя.
— Не можешь?
— Не могу! — Но голос звучит уже не так решительно. И, видимо поняв это, дядя добавляет: — Да пойми ты, любовь очень тонкая штука, она тоньше филигранной нити в твоих серьгах, нельзя с ней так грубо обращаться!
Странно, о чьей любви он говорит? О моей? Что-то не похоже. Неужели на старости лет мой дядя влюбился? Но в кого? Видно, недаром говорят горцы, что усам мельника трудно верить: то ли седые они, то ли мукой запорошило?
И тут я представил себе мать, которая стоит рядом с дядей и слушает его взволнованные слова.
Матери сейчас тридцать семь. Но выглядит она значительно моложе. Когда мы появляемся вместе в чужом ауле, нас принимают за брата и сестру.
Конечно, я, как любящий сын, мог бы приукрасить ее в своем описании, но горцу не пристало хвалиться своей матерью. Однако истины ради могу сказать, что она достойна похвалы, она хороша в радости и в гневе, хотя, когда принимается бранить меня, несколько теряет в мягкости и женственности. Однажды я сказал ей об этом, но она стала ругаться еще пуще. Недаром говорят: чтобы поняла мать, учи соседку.
Но вот я опять слышу ее голос. Теперь в нем звучит странная грусть:
— Что ты от меня хочешь?
— Хочу, чтобы ты была добрее, Айша. Ты так мила, когда улыбаешься, и так неприятна, когда сердишься. Как будто у тебя два лица. И еще я хочу, чтобы ты сдержала свое слово.
— Слово! Но что я могу сделать, если этот байтарман выкинул такую штуку? Не станешь же ты настаивать, чтобы он женился на ней?
— Стану, потому что моему терпению пришел конец! Я поверил тебе, когда ты сказала, чтобы я ждал свадьбы твоего сына…
— Ну и жди! — тоном выше сказала мать.
— Но, кажется, мне этого дня не дождаться, если я сам не настою на его женитьбе.
— На Серминаз?
— Хоть на сатане! — тоже повысил голос дядя и тяжело опустился на табуретку. Раздался треск, шум падения его тяжелого тела, стук трубки… Вот он подбирает ее, поднимается, бормочет: — Проклятье!
3
Н-да, вот он каков, оказывается, мой благородный дядя Даян-Дулдурум! А я-то до сих пор хлопал ушами, как ишак, забравшийся в тень! Вот почему после бегства супруги он столько лет не женился, хотя в ауле война оставила немало вдов и не менее достойных, чем моя мать. А я еще и гордился тем, какой у меня внимательный и заботливый дядя! Не зря, выходит, он торопил меня со свадьбой и все спрашивал, почему я до сих пор не забросил папаху в чье-нибудь окно. «В твои-то годы, — говаривал он, — я пять папах из серого бухарского каракуля расшвырял по окнам!» Хотелось мне спросить: как же, мол, ты из пяти девушек выбрал самую своенравную? Но, как младший, я должен был молчать и слушать. А оказалось, что все это он говорил лишь потому, что я был преградой на его собственном пути!
Ну, берегись теперь, дядя, ты у меня в руках!
А что, если сейчас ворваться в комнату и сказать, что я не собираюсь ни на ком жениться? Но ч-ш-ш-ш! Кажется, дядя опять подбирает к матери ключи. Видно, свалившись с рассыпавшейся табуретки, он ударился головой о пол и встряхнул свои мозги.
Теперь он говорил так тихо, что я улавливал лишь каждое третье или пятое слово. Но смысл был понятен.
Увы, он был весьма нелестного мнения о моей особе! Если заполнить догадками провалы моего слуха, то речь его звучала примерно так:
«Из того негодяя (тут это слово следовало понимать в его подлинном смысле!) настоящего продолжателя нашего рода не получится. У него в голове восьмисторонний сквозняк, и эти восемь ветров выдувают всякое благоразумие. Он и к искусству, завещанному нашими предками, относится легкомысленно. Боюсь, что настанет день, когда он отбросит резец гравера, возьмет в руки палку и станет погонщиком ослов… Поэтому я хочу (да, да, он так и сказал!), хочу дать нашему роду достойного наследника! Родишь ты мне сына (это значит, он говорил о брате для меня?) — я буду носить тебя на руках, как пуховую подушку, беречь, как хрустальную вазу…»
Что-то, видно, дрогнуло в сердце моей матери, потому что она тихо вздохнула. И тут пришло мне в голову, что я ни в чем не могу ее упрекнуть. Двадцать лет она хранила верность памяти моего отца. Она воспитала меня, не захотев, чтобы у меня был отчим! Мог ли я стать на пути ее позднего счастья?
— Давай теперь подумаем, как нам быть. Ты не хочешь, чтобы он женился на девушке из рода Мунги. Но за что ты ненавидишь этот род?
— Не знаю. Но, видно, предки наши знали, что завещать потомкам! А ты знаешь?
— Нет. Именно это меня и бесит! Чтобы ненавидеть человека, надо знать, за что. Ты согласна со мной?
— Н ет.
— Почему?
— Потому что память предков священна!
— И нельзя подвергнуть сомнению их поступки?
— Это кощунство.
— Пусть будет кощунство, но я хочу знать, за что я должен презирать другого человека, быть может, не менее достойного. Ведь в их роду есть великолепные люди, есть мастера по резьбе, по чеканке, по эмали. Ты не можешь запретить мне докопаться до истины. И я выясню это!
В голосе дяди прозвучала такая решимость, что я понял: никакие препятствия не остановят его, поскольку он возымел желание продлить наш род достойным наследником, истинным продолжателем благородного искусства отцов. А от меня он не ждет ничего доброго. И моя мать, кажется, тоже.
— Как же ты это выяснишь? — с некоторой неуверенностью спросила она. — Ведь останки предков, что лежат в могилах, не заговорят!
— Пойду к Хасбулату, сыну Алибулата из рода Темирбулата, древнейшему из стариков аула. Может быть, его память сохранила это событие.
— Да какая у него память! Он и сам-то почти впал в детство.
— Но это событие наверняка было не из обычных, поэтому он должен вспомнить! — уверенно произнес дядя.
И почтенный дядя выскочил из комнаты, как Наполеон из кареты при переходе через Березину. Увидев меня, он погрозил мне пальцем и ринулся вниз по лестнице.
Тут-то я и убедился, что терпение дяди в ожидании моей свадьбы окончательно лопнуло, как сладкозвучная струна на чугуре в руках виртуоза Абу-Самада из Мугри, когда он аккомпанирует певице Муи, голос которой столь тонок и протяжен, что струна, не выдержав этих длительных колебаний, рвется на самой высокой ноте, издавая звук «цив».
4
Как только мой дядя ушел выяснять то, что меня меньше всего беспокоило, я отправился следом за ним выяснить то, что беспокоило меня больше всего.
Я человек нового времени, и меня занимает все, в чем я сам могу принять участие. А дядя и мать любят покопаться в старине. Но, кроме всего прочего, мне сейчас не хотелось видеть мать, и не только потому, что я боялся ее гнева, — просто после всего услышанного мне было бы неловко смотреть ей в глаза.
Решимости у меня было не меньше, чем у дяди, и, хотя обычай запрещает даже подходить к порогу дома, в котором живет полюбившаяся девушка, я все же рискнул проникнуть к ней во двор: а вдруг она выйдет?
Но откуда я мог знать, что лохматый волкодав, охраняющий дом Жандара и вечно бряцающий цепью за каменным забором, именно в этот час окажется на свободе? И могла ли эта тварь знать, какие чувства питаю я к дочери ее хозяина? Одним словом, не успел я сделать и шага к лестнице, ведущей на второй этаж, как послышалось злобное рычание.
От лестницы я отпрянул так быстро, что голодному псу удалось вцепиться лишь в заднюю часть моих брюк. Но уж с ними-то он сумел разделаться…
Словом, эта собака, которую точнее и не назовешь, чем «собака», и которая подохла бы с тоски, поняв, что она именно собака, лихо вырвала из моих брюк кусок коверкота величиной с тарелку для супа. И хотя я пять лет в комсомоле, я мысленно поблагодарил аллаха, что клыки ее не достали до трусов. Глядя на страшный оскал пса, я с горечью подумал о том, какой разговор мог бы получиться у меня с Жандаром, если даже его собака поступила со мною столь жестоко.
Со злости я скорчил ей страшную рожу, она же с ожесточением рвала в клочья доставшийся ей кусок моих брюк. А ведь брюки эти были куплены много всего неделю назад на деньги, как у нас говорят, вынутые из-под собственных ногтей.
Клянусь, человеку я никогда не простил бы такого оскорбления. Помню, Мухтар, сын Ливинда, которого я описал в своем единственном опубликованном рассказе, оборвал у меня пуговицу на пиджаке. Вначале я не почувствовал обиды. Но ночью вспомнил, и так мне стало горько, что я встал с постели, взял пиджак и пошел к этому зубоскалу. Я вытащил его, сонного, из постели и заставил пришить пуговицу.
Но что сделать с неразумным животным? Ведь собака даже извиниться не умеет! Хорошо, что хоть никто не видел нашего поединка! Отступая, я все время оглядывался по сторонам, а дыру в брюках прикрыл своей кепкой.
Так я добрался до склона горы Абцига, откуда наш аул виден как на полотне живописца. Я собирался проследить, не выйдет ли Серминаз со сверкающим под солнцем медным кувшином по воду к роднику. Тогда я встретился бы с ней и рассказал все.
Я опустился на не скошенный еще альпийский луг, но и тут пришлось подложить под себя кепку: в брюках без задней части сидеть было сыро, а привезенная мне дядей из Тбилиси кепка вполне могла заменить и подушку — такой большой и лохматой она была.
Все дышало свежестью и тишиной, и я понемногу успокоился. Запахи трав смешивались в воздухе, щекоча мои ноздри, дышалось легко, неподалеку в кустах перекликались синицы, кричал на поляне осел, и тут же резвился маленький мордастый осленок. А совсем рядом, выбиваясь из-под земли на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, клокотал, как мое взволнованное сердце, ключ, и, сбегая к аулу, журчал в траве ручей.
5
Взгляд мой, устремленный на аул, вдруг остановился на человеке, который брел не торопясь по узким переулкам и шатким лестницам из каменных плит, ведущим от средней части аула к самому верху.
Это был мой дядя, бравый лудильщик и вообще мастер заделывать всяческие прорехи. Старик Хасбулат, сын Алибулата из рода Темирбулата, у которого он собирался найти ответ на немаловажный вопрос, жил неподалеку от знаменитой арки Арсавар, что находится в самой верхней части аула. Но он почему-то миновал арку, прошел мимо сакли Хасбулата и вышел на площадь, где дымила сельская пекарня и гостеприимные магазины широко распахнули двери, выбросив на рундуки всякий неходовой товар — авось что-нибудь и купят.
Но кому захочется покупать брюки, широкие, как шаровары сирагинских женщин (хотя в этот момент я не отказался бы и от таких), когда можно на машине или на самолете отправиться в город и выбрать самые модные.
Дядя Даян-Дулдурум миновал и эти лавки и спустился в подвал.
О, этот подвал известен всем, кто хоть раз бывал в Кубачи. Люди знают, когда и зачем остановился здесь белый верблюд черного каравана и когда был заложен первый камень первой сакли аула, который тогда назывался Зирехгеран, что значит «Делатели кольчуг». Но и историки не помнят, с каких именно пор существует этот подвал. А завсегдатаи его, услаждающиеся на досуге, с явным пристрастием утверждают, будто подвал существовал еще до возникновения аула. И приводят неопровержимые доказательства того, что именно здесь проходил караванный путь через Кавказский хребет — эту спину буйвола, улегшегося между двумя морями, Каспийским и Черным, — до Дербента через Мцхету и дальше, к устью реки Ингури. И здесь, на этих высотах, был один из сотни привалов — караван-сарай и этот вот подвал, который до сих пор называется по имени первого виночерпия Мицир-Писах, что значит «Бессмертие Писаха». Кто бы ни становился здесь виночерпием, аульчане тотчас же называли его Писахом. И человек постепенно забывал свое настоящее имя. Так вошел в бессмертие древний виночерпий.
Сейчас в подвале работает тат — горский еврей, которого кубачинцы именуют тоже Писахом. Это очень добрый и отзывчивый человек, круглый, как винная бочка, и румяный, как свежеиспеченый чурек, с крупным перстнем на левой руке — подарком какого-то завсегдатая.
Писаха любят в ауле. Никогда он не спросит с клиента денег, а скажет: «Сегодня на твое и мое счастье — новая бочка!» Аульчане ценят его добросердечие и веселый нрав. Впрочем, кому, как не виночерпию, быть радушным и добрым? Ведь в его руках та сила, что веселит и размягчает сердца! Если кто и забудет в веселье заплатить Писаху, то назавтра явится сам и положит деньги на прилавок: «Возьми, дорогой Писах, вчера мы так хорошо провели у тебя время, что я даже забыл об этом проклятом пережитке — расплачиваться. Мне казалось, будто я у себя дома, настолько все было отлично, и, клянусь, если бы лавка была твоя, я и не подумал бы платить, чтобы не оскорбить тебя. Но вино государственное, и я, как сознательный гражданин, не хочу наносить ущерба государству! Налей-ка мне, дорогой Писах, вон ту большую кружку. Да здравствует Писах и его погребок — и никаких гвоздей!»
Нынешний Писах работает здесь столько времени, сколько я помню себя. И только однажды у него была недостача — семь с половиной копеек.
Писах ненавидит водку, коньяк и другие крепкие напитки. Он поет гимны чистому, сухому, бодрящему вину. И верно, есть ли что-нибудь лучше красного геджухского или белого дербентского? Возьмите «Лезгинку» — это же чистый виноградный сок! Выпьешь Писахову кружку этого вина, и тебе хочется выскочить на площадь и сплясать лихой, похожий на вихрь танец, по имени которого названо это вино. Оно само рождает в душе задорную, веселую музыку. Да и свадьбы наши играются именно здесь, на этой площади, недалеко от чистого горного озера, в котором, к сожалению, уже не водится форель — лучшая закуска к «Лезгинке». Говорят, ее выловили еще в прошлом веке для белого царя. Не дурак, видать, был царь — понимал толк в рыбе. Но в другом он был несомненным идиотом: заботясь о своей утробе, забывал о том, что и у горцев есть желудок и рот и они не меньше его разбираются во вкусной еде.
А недалеко от этого озера — мне кажется, что аульчане все-таки догадаются очистить его и развести в его водах то, чего им ныне недостает, — у самого подножия горы Девичья Мечта, раскинулись светлые двухэтажные здания школы и художественного комбината. В одном я учился, в другом работаю.
Люди из комбината не забывают навестить Писаха. Кубачинцы — вообще веселый народ, любят не только свое искусство, но и музыку, и песню, и острое слово, а мудрость ценят как алмаз. Но кто может знать больше, чем Писах? Ведь именно к нему заходят кубачинцы, чтобы вытряхнуть не только карманы, но и душу. И умный, учтивый летописец кубачинских происшествий все хранит в памяти. Он первым узнает новости и лучше всех знает, кому достанутся золотые, серебряные и бронзовые медали на международных выставках в Париже, в Брюсселе, в Осаке, в Лейпциге — да разве перечислишь все выставки, в которых участвуют мои земляки, прославляя великое искусство предков?
Но не думайте, что если я много говорю о нашем виночерпии, то, значит, и сам часто заглядываю в Мицир-Писах. Нет, я стараюсь обойти его, ибо, если окажусь близко, то мои ноги сами несут меня туда. И не столько потому, что я люблю разогреться вином, сколько из-за интереса к чужим разговорам, в которые можно вмешаться, блеснуть остроумием. Правда, когда я рассказываю что-нибудь смешное, то сам начинаю хохотать еще до конца рассказа, а уж другим не остается места и для улыбки.
Вот так и получается: я заслушиваюсь и не замечаю, что соседи все подливают и подливают вино в мою кружку, а когда совсем захмелею, то ни с того ни с сего начинаю, подобно древнеримским гладиаторам, кричать: «Да здравствует жизнь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Правда, сам я этого не помню, это мне рассказывают уже на следующее утро.
Моя мать однажды вытащила меня из погребка сильно пьяным. Я уж подумал, не высечет ли она меня, как это сделала Мицадай со своим сыном. Но она только уложила меня в постель да еще принялась утешать: «Не бойся, сынок, от вина у нас никто еще не умирал». Вот так я и выяснил, что моя добрая мать бывает жалостлива ко мне только в двух случаях: когда я болен или когда пьян — видно, для нее это одно и то же.
Но дядя, когда я перебарщиваю, бывает безжалостен. Однажды он, выводя меня из погребка, даже приложил свой хромовый сапог к тому самому месту, которое я сейчас отогреваю на своей кепке. Так что я всего трижды отдал настоящую дань Великому хмелю.
Однако это не мешает мне подхватить льющуюся в Мицир-Писахе песню и присоединить ко многим голосам свой:
Пусть стареет в погребах вино — Чем старее, тем ценней оно. У людей совсем не то, друзья, Так что нам стареть никак нельзя.А чтобы такое случалось пореже, я просто стараюсь обходить это привлекательное местечко.
Но сейчас меня больше всего занимает, почему мой дядя забрел к Писаху, а не к старику Хасбулату. Ведь даже сам Писах не сможет объяснить ему, что случилось между моим родом и родом Мунги много десятков лет назад. Впрочем, пути и поступки Даян-Дулдурума неисповедимы. Будем надеяться, что позже мы узнаем и это.
6
Сколько я ни глядел на саклю Жандара, оттуда никто не выходил и туда не входили. А четверговый базар скоро кончится, и тогда мне будет труднее пробраться домой. И я поплелся переулками, стараясь никому не попадаться на глаза.
Дорого же досталось мне это путешествие! Все-таки я несколько запоздал, и в самых глухих закоулках аула оказалось немало бездельников. Мне приходилось то и дело прижиматься спиной к степам и заборам.
Наконец я прокрался к своей сакле и через черный ход, со стороны сарая, влез по стремянке в мастерскую и быстро переоделся в спецовку.
Но так как порванные брюки могли стать свидетельством моего позора, я разжег в горне огонь и сжег их — пусть лучше мать думает, что брюки просто пропали.
Я сел за верстак, пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей, но работа валилась из рук. Впервые я с сожалением подумал, почему мозг не устроен так, чтобы человек мог время от времени выключать неприятные мысли? Как было бы просто: щелк! — и Серминаз не существует… Ах, если бы мне попался негодяй, который соблазнил ее! Впрочем, я же не верю в это. Почему же тогда так щемит мое сердце?
Я взялся за альбом с набросками. Раньше мне казалось, что там много интересных эскизов и рисунков, которые я собирался выразить в металле, но сейчас все выглядело скучным, обыденным. Единственное, чем я мог бы успокоить душу, думал я, это пойти во двор Мицадай, перебить всю глиняную посуду, вывешенную на заборе для просушки, и расплатиться с ней за ее длинный язык.
Я уже собрался выскочить из мастерской, чтобы привести в исполнение хоть это, как увидел через стеклянную дверь Даян-Дулдурума.
Выглядел он хуже быка, которого режут тупым кинжалом, — того и гляди заревет. Может, подействовало вино Писаха? Или, может, он что-то выпытал у старика Хасбулата? Так или иначе, но таким я своего дядю никогда не видал. Ведь за спокойствие и сдержанность его всегда сравнивали с акушинцами — надеюсь, вы слышали о них?
Терпению и выдержке надо учиться у акушинцев. Кто иной, если не акушинец, сумел бы на арбе догнать зайца? А акушинец, завидев зайца, повернул волов в его сторону и поехал по следу. И так долго ехал, что заяц не выдержал преследования и присел перед арбой, поджав уши. Акушинцу осталось лишь протянуть с арбы руку и схватить его. Вот какой народ акушинцы! И это с ними сравнивали моего дядю. Но, видно, ошибались.
— Не везет мне, так не везет, будто мать перед тем, как родить меня, встретила Мицадай! — удрученно проговорил он, садясь на трехногую катагнинской работы, с выжженными по ней узорами, табуретку неподалеку от матери, занимавшейся стиркой. — Что за проклятье, хоть бейся об стену головой!
Со злости Даян-Дулдурум так задымил трубкой, словно решил затуманить собственные мысли.
— Зря ты все это затеял! — сказала мать, отводя локтем прядь волос со лба, так как руки ее были в мыльной пене. — Я же говорила, что старик давным-давно все забыл.
— Да не в том дело! Его нет дома!
— Куда он мог деваться?
— Ты же знаешь, у него сто шестьдесят родственников! И, оказывается, старик всем нужен! Несколько дней назад его увезли на свадьбу какой-то правнучки, а оттуда, говорят, он собирался в Москву, где родился новый праправнук.
— Не горюй, Даян, — сказала мать. — Даже если б ты и не узнал ничего худого, я все равно не разрешу сыну жениться на дочери Жандара из рода Мунги!
— Ну и упрямый же вы народ! Пойми, Айша, теперь Бахадура не заставишь полюбить другую. Я-то знаю, с какого дерева этот фрукт! И отец его, бывало, если скажет про своего вороного коня, что он белый, так его даже ангел Джабраил не переубедит. Ты и сама-то упряма как ослица!
— Спасибо за сравнение! — возмутилась мать.
Да, я тоже никогда еще не слыхал от Даян-Дулдурума таких резких слов в адрес матери.
— Все вы до поры до времени поете как соловьи над розой, а потом становитесь коршунами! — воскликнула мать.
— Прости меня, Айша, но больше у меня нет терпения. Или он женится на Серминаз, или ты отступишься от своей клятвы!
— Никогда!
— Тогда я просто похищу тебя!
Мать весело и звонко расхохоталась и спросила:
— И куда же ты меня увезешь?
— Хоть на край света, но именно этим все кончится!
— Наконец-то я слышу голос горца!
— Ты сама довела меня…
— Так похищай! Что же ты?
Не знаю, до чего бы они договорились, но меня взяло любопытство: что же будет делать дядя, если я в самом деле откажусь от женитьбы? Ведь причин для этого у меня больше чем достаточно! И, хлопнув дверью, я выскочил из мастерской и крикнул:
— Я не хочу жениться!
Раздосадованный тем, что я слышал его разговор с матерью, дядя свирепо накинулся на меня:
— Ты не любишь Серминаз?
— Ненавижу! — вскрикнул я.
— Так чего же ты морочил нам голову?
— Я вам морочил голову? — гневно спросил я, сам удивляясь, что заговорил со старшими неуважительно. — А не ты ли, дядя, заморочил голову мне?
— Не смей так разговаривать с дядей! — прикрикнула на меня мать. — Если бы не он, твои кости давно истлели бы на кладбище!
Мать не однажды напоминала мне, что в тяжелые послевоенные годы и ее и меня спас от голодной смерти только Даян-Дулдурум. Тогда ломтик хлеба стоил дороже, чем любое изделие златокузнеца. И это ради нас, бросив свое тонкое искусство, дядя стал скитальцем-лудильщиком. Бродил он не только по сирагинским аулам, но уходил и в Кайтаг и в Табасаран, запаивая прорехи и дырки. Впрочем, вся страна тогда заделывала дыры и пробоины, не он один.
Отмахнувшись от слов матери, дядя спросил, но уже более спокойно:
— Значит, ты не женишься на Серминаз? Почему?
— Этого я не могу объяснить.
— А почему не можешь объяснить?
— Потому что я люблю ее.
Мать торопливо вытерла руки, испуганно глядя на меня.
— Не сошел ли мой сын с ума? Что он говорит?
Наверно, я и на самом деле выглядел странно. Я был охвачен какими-то противоречивыми чувствами после всех тревог, которые испытал сегодня, и не знал, что делать, что говорить. Уж не побежать ли и мне, как это сделал дядя, в погреб Писаха, чтобы залить все эти неприятности кружкой вина?
— Ты любишь ее или нет? — недоуменно спросил дядя, а мать приложила прохладную руку к моему пылающему лбу, боясь, что я и на самом деле заболел.
— И да и нет! — выпалил я, удивляясь их недогадливости.
Раньше мне всегда казалось, что старшие понимают меня с полуслова. А вот теперь, когда во мне борются день и ночь, любовь и ненависть, они стали так непонятливы. Кто же тогда объяснит мне, что со много творится?
Я потерянно сказал:
— Нет, не люблю и потому не женюсь.
— Тогда выбери себе другую!
— А для этого, дорогой дядя, у меня уже сил не хватит! — откровенно сказал я. — Сяду лучше за верстак и смастерю что-нибудь со злости!
— Со зла не искусством занимаются, а прыгают в пропасть и разбивают себе голову! — пробурчал окончательно удрученный дядя.
7
Наступило тяжкое, тревожное молчание, похожее на ту тишину в природе, что бывает перед приближающейся грозой.
И на самом деле послышалось что-то вроде громового раската. Это по деревянной лестнице нашего дома взбегал пастух, и грохот его кирзовых сапог звучал как предвестник беды.
— Айша, — заговорил он, — твоя бесхвостая корова сорвалась на горе Кайдеш в пропасть! И я не подоспел к ней вовремя, чтобы прирезать на мясо! А если бы и подоспел, так ничего бы сделать не смог, потому что кинжала у меня все равно не было, одной амузгинской иголкой, которую я ношу в папахе, тут не управишься.
Мать сорвалась с места, и дядя едва успел задержать ее.
— Куда ты?
— Я шкуру с нее сдеру!
Мы с дядей сразу догадались, что речь идет не о корове, а о нашей соседке Мицадай. И конечно, мать могла бы расправиться с нею, если бы не дядя.
Но вот она пришла в себя, сказала:
— Ну и пусть. Я давно хотела приобрести породистую корову. В следующий базарный день куплю обязательно.
— Но шкуру-то надо все-таки снять, — заметил дядя. — Не с Мицадай, конечно, — с коровы. В хозяйстве пригодится. Можно постелить на пол в мастерской, чтобы ноги не мерзли. Медвежья, конечно, лучше, но и от коровьей будет тепло.
— Тогда возьми и этого байтармана с собой, может, проветрится немного и образумится.
Дядя молча кивнул мне, собирая нехитрый инструмент живодера.
Мы вышли через тесные переулки на окраину аула, что называется Калла-Ку — «Поле редиски». Предание гласит, что некогда в битве с непрошеными гостями из Персии тут погибли сорок кубачинских храбрецов. Они были похоронены в одной братской могиле, а на рассвете аульчане устроили на этом месте священную пляску, чтобы показать неприятелю мужество духа и чтобы враги не радовались их печали. И неприятель отступил, рассудив, что не стоит связываться с людьми, которые с такой стойкостью защищают свои поля и жилища. Еще от тех времен в памяти персидских завоевателей осталось завещание Надир-шаха: «Да не посягнет ни один из моих преемников на Дагестан!» А много лет спустя эту площадку засеяли редиской, чтобы вместе с него потомки впитывали в себя мужество своих предков.
Вот на этой площадке нам и встретились — вы только подумайте! — сама Серминаз и ее отец Жандар.
Серминаз! Увидев ее, я позабыл обо всем на свете. Исчезли все тучи с моего небосклона, будто их развеяло внезапным порывом ветра. Но тут я заметил на ее лице усмешку, словно она увидела перед собой чучело… Она смеялась надо мной! Ах, если бы здесь не было ее отца и моего дяди, я бы поговорил с ней!
Жандар, ее отец — невысокий человек с испорченным оспой лицом. О таких говорят: «На лице черти горох молотили!» Он вел в поводу коня, а Серминаз шла рядом, и хотя они старались держаться гордо, нетрудно было догадаться, что поездка была и нелегкой и неблизкой.
Даян-Дулдурум с присущим ему достоинством поздоровался с Жандаром, — девушке или женщине он никогда не подавал руки. Поспешил поздороваться и я, но в отличие от дяди протянул руку и Серминаз.
И попал впросак. Серминаз сделала вид, что не заметила моей протянутой руки.
Ах, если бы вы знали, как это бывает неловко, когда твоя рука повисает в воздухе! Даян-Дулдурум взглянул на меня с укором, словно хотел сказать: «Не будь умнее старших! Что, получил пощечину?»
Я и сам готов был угостить Серминаз пощечиной. Подумать только! Смеет насмехаться надо мной, а у самой, если верить слухам, и совесть и честь запятнаны.
Я взглянул на нее, но так, что она отвела глаза, сникла и принялась счищать суковатой палкой грязь с туфель. И все же ни тени волнения, или беспокойства, или стыда не было в ее лице.
— Ну, я пошла, папа, — обратилась она к отцу.
— Иди, дочка, иди. Отведи и коня да скажи матери, пусть приготовит хинкал, хочу отведать чесноку, кажется, прихватил где-то грипп… — Он отдал повод дочери, достал из кармана ингалятор с камфорой и глубоко вдохнул через нос. — Черт знает что! Искусственные легкие создаем, а грипп лечить не можем! Ну, что новенького случилось в ауле в мое отсутствие, добрый Даян-Дулдурум?
— Да ничего особенного… — протянул дядя.
Серминаз дернула коня за повод и удила. Я смотрел ей вслед, но она не обернулась. «Вот и люби такую гордячку!» — подумал я в досаде, чувствуя, как моя любовь превращается чуть ли не в ненависть: недаром говорят, что от любви до ненависти всего три шага.
— А куда это вы так торопитесь?
— Да есть тут одно дело… — Дядя махнул рукой куда-то в сторону. — А вы по делам или в гости ездили?
— Да вот наведывался в Маджалис, навестил внука, что-то прихворнул немного, бедняжка…
— Кого-кого? — недоверчиво сморщил лицо Даян-Дулдурум.
— Внука! Внука! — гордо сказал Жандар.
— Какой внук? Насколько я помню, у тебя была всего одна жена и от нее — единственная дочь Серминаз.
— А разве у моей дочери не может быть сына? — спросил Жандар, делая почему-то ударение на словах «у моей».
— Конечно, может быть, но я что-то не слышал, чтобы в вашем доме играли свадьбу.
— Верно, свадьбу пока еще не справляли, — невозмутимо ответил Жандар, чем уже окончательно смутил нас.
Или аллах лишил меня разума, или все вокруг меня сошли с ума! Когда и при каких обстоятельствах отец-горец так спокойно и благодушно заговорил бы о дочери, принесшей незаконнорожденного ребенка? Это же невозможно!
Не менее, чем я, был удивлен — нет, не удивлен, а поистине поражен! — мой дядя. Он стоял разинув рот, будто услышал рассказ о том, например, что известный всем старик Хасбулат, сын Алибулата из рода Темирбулата, проживший неизвестно сколько лет, вдруг распоясался и учинил драку в погребке Писаха, за что и получил пятнадцать суток. Нет, просто уму непостижимо, что говорит Жандар! Выходит, аульские кликуши ни в чем не ошиблись, кроме одного — будто это я соблазнил Серминаз.
— Пошли, Бахадур! — сказал дядя, стремясь поскорее избавиться от собеседника, недостойного носить папаху. При этом Даян-Дулдурум так сжал мою руку, что мне показалось, она попала в кузнечные клещи. Видно, гнев дяди готов был перелиться через край, и кто знает, что случилось бы на этой площадке, где горцы набираются мужества, вспоминая о гибели сорока храбрецов, если бы мы не ускорили шаг и не отошли от Жандара, как от прокаженного.
— Вот тебе и Серминаз! — произнес Даян-Дулдурум, отпустив мою руку и еще больше ускоряя шаг. — Что же происходит с миром? И где наша горская честь и совесть? Где?
8
Так как я ничего не мог ответить на эти риторические вопросы, то дядя принялся рассуждать о нравственности, о чистоте чувств, вспоминая лучших людей Страны гор и их поведение в разных жизненных обстоятельствах. Он был так разгневан, что, дохни в эту минуту на буйвола, тот свалился бы замертво.
Скоро мы добрались до скалистого ущелья под горой Кайдеш, и дядя с таким ожесточением принялся сдирать шкуру с нашей бесхвостой коровы, будто четвертовал Жандара.
— Какая же дрянь эта Серминаз! — приговаривал он, орудуя ножом хлестче самого злого живодера. — Таких раньше сажали на осла задом наперед и возили напоказ по аулу, забрасывая камнями! Тьфу! Впрочем, могла ли у таких родителей вырасти другая дочь? И сраму на нее нет!
Мне было и больно и стыдно слышать все это о Серминаз. Видно, я не мог не любить ее, что бы о ней ни узнал. И при каждом дядином слове мне казалось, что это он сдирает шкуру уже не с нашей коровы и не с Жандара, а с меня.
— Интересно, в чей это капкан она попала? Какой мерзавец ее совратил? Кто отец ее сына? — спрашивал дядя, будто рядом стоял человек, знающий всю историю Серминаз.
Я больше не мог снести всего этого. Надо было остановить грязный поток. Но как? И, внезапно обретя спокойствие и силу, я громко сказал:
— Перестань оскорблять Серминаз, дядя. Я отец ее ребенка.
— Что?
— Я отец ее сына.
Дядя дрогнул, будто рядом ударил гром. Рукавом правой руки, в которой он держал кинжал, вытер холодный пот со лба. В этот миг он всем своим обликом так напоминал грозного великана Нарта, что я даже отступил немного.
— Ты? — переспросил дядя, приставив острие кинжала к моей груди.
— Да, я!
— Ты, сын моего брата! Да я и собственному сыну не позволил бы так шутить со мной!
— Я не шучу, дядя. Я давно хотел признаться в этом, но не осмеливался. А теперь пришло время. Я не хочу, чтобы ты чернил Серминаз. Она ни в чем не виновата, она чиста и душой и телом. И я люблю ее. А теперь делай, что хочешь. Вот моя грудь, а кинжал в твоих руках…
Я стоял перед ним твердо, потому что отступать было некуда: слово не воробей, вылетело — не поймаешь! А еще больше я был горд тем, что сумел защитить Серминаз.
Дядя взмахнул кинжалом, но вонзил его не в мою грудь, а в тушу несчастной коровы. А между тем я был очень недалек от того, чтобы на этом и закончить свое повествование. Но дядя сдержал свой гнев, и тут я понял, что даже в душе горца многое изменилось в наше время. Постепенно разум оттесняет безудержную прежде горячность и безрассудную ненависть.
Взвалив на мою бедную спину коровью шкуру, дядя погнал меня в аул. Может быть, он хотел наказать меня? Или просто рассудил, что, прирежь он меня, шкуру пришлось бы волочить ему самому? Но он даже не спросил, тяжела ли моя ноша, не то что попытался помочь. А я готов был нести любую тяжесть, лишь бы он замолчал.
Так мы добрели до дому — я впереди со шкурой коровы, дядя позади, как конвоир при арестованном. С трудом я повесил шкуру на перекладину балкона со стороны нашей соседки Мицадай, чтоб она хоть немного успокоила свою душу. Потом мать принесла из погреба холодное молоко — последнее молоко от нашей коровы, мы выпили его, и дядя, обращаясь к моей матери, сказал:
— Он любит ее!
— Кого?
— Серминаз.
— Но он же сказал, что ненавидит ее!
— А любовь и ненависть шагают рядом. Разве может человек ненавидеть то, к чему безразличен, например, камень или бревно? Ненавидеть он может того, к кому неравнодушен. Короче говоря, у нас нет иного выхода, как приготовить его в путь. Да и мне самому пора в дорогу. И больше я не потерплю никаких возражений.
Голос у него был такой, что моя добрая мать, всегда умевшая настоять на своем, сразу притихла и лишь спросила:
— Но согласятся ли ее родные отдать дочь в наш дом?
— Это моя забота. Я все улажу. А ты, негодяй, собирайся немедленно. Ты не возьмешь из дома ни копейки, еды — только на один привал. Но у тебя будут инструменты, которыми ты сможешь заработать на пропитание. Так поступали и мы, и наши отцы. Иди куда хочешь — мало ли аулов в горах, где живут искусные мастера-умельцы, создающие вещи, которые украшают нашу жизнь? Ты найдешь их в любой из четырех сторон, куда ни направишь свои стопы. Понял? Больше разговоров не будет — поторопись!
Пораженная грозным и решительным видом Даян-Дулдурума, мать молчала. Видно, остыв, она вняла увещаниям дяди. А тот торопил меня потому, что убедился: жениться я могу только на Серминаз, ибо тайна все равно откроется! К тому же у него появился козырь для разговора с родными Серминаз. Если ее сын — это мой сын, то родители не могут отказать. Кроме всего, дядя радовался, кажется, еще и тому, что теперь не надо ждать старика Хасбулата и выяснять причины стародавней распри между нашими родами.
Конечно, в моем сегодняшнем признании было для дяди что-то и обидное. Ведь это он хотел дать достойного наследника нашего рода, а вышло, что наследник-то уже есть! Впрочем, чужая душа — потемки, и кто знает, о чем Даян-Дулдурум подумал, а о чем но успел подумать.
— Ты все понял? — спросил он.
— Да, — ответил я.
— С Жандаром я как-нибудь улажу. И смотри, чтобы утром я тебя не увидел. Вставай с рассветом — и в путь.
— Но ведь ты, дядя, тоже собрался в дорогу?
— Я сегодня понял, что наши пути разошлись давным-давно. Ты лучше думай о себе, негодяй, а обо мне не беспокойся!
И он ушел, не подав мне руки.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ РАЗБИЛАСЬ РАДУГА И РАССЫПАЛАСЬ
1
И вот я отправился в путь. Или, вернее, еще не отправился, а сижу на распутье, скрестив ноги, как иранский падишах, и раздумываю, куда бы мне податься.
Я снаряжен для дальнего и трудного похода. Четыре дороги, как четыре луча на детском рисунке, расходятся из-под моих ног, обутых в шлепанцы — бывшие чехословацкие туфли, которые после того, как они побывали в руках нашего сапожника Япун-Шамхала, содравшего за почнику больше, чем туфли стоили новые, иначе, как шлепанцами, не назовешь. Серые брюки из немнущейся ткани польского происхождения переделаны для меня заботливой матерью из брюк Даян-Дулдурума, не снимавшего их несколько лет кряду. Аккуратно сшитый немецкий пиджак трет шею и даже подбородок, как наждачная бумага. Под пиджаком белая рисовая сорочка из одной юго-восточной страны, а воротник этой сорочки, когда я впервые ее надел, мне пришлось тайком от матери отмачивать в воде — так сильно он был накрахмален. На голове моей красуется тбилисская кепка, похожая на плохо ощипанную курицу, и козырек ее выдается вперед, как мой нос. И если уж вам интересно, то с присущей мне откровенностью скажу, что еще на мне надеты майка и трусы — отечественные, фабрики «Большевик». Галстука я не ношу — без него легче дышать нашим чистым горным воздухом.
Вот так я одет. Но, описав оболочку, я не сказал о самом главном: что в груди моей бьется горячее сердце истинного дагестанца, молодое и крепкое.
На плече у меня переметные сумы — хурджины. Они заштопаны и залатаны, но ковровый рисунок сохранил еще свежесть красок, хотя именно с этими хурджинами отправлялся некогда на поиски предсвадебного подарка мой дед. Путь его лежал в чужедальние страны. Он добрался не только до улицы Куппа в Стамбуле, где тогда жили знаменитые ремесленники, и не только до площади Тупхана в Тегеране, — побывал он и на Кузнецком мосту в Москве, и на Елисейских полях в Париже.
В одном хурджине лежат мои нехитрые инструменты: несколько резцов, отточенных дядей, ибо сам я еще не научился затачивать их как следует; набор напильников, молоточков, щипцы и плоскогубцы, самодельные амузгинские ножницы для резки металла. В коробке из-под монпансье запас сырья для моего производства: чернь, немного серебряной проволоки и несколько пластинок, отлитых мною из серебряных монет царской чеканки, — так-то я и разделываюсь с ненавистным прошлым!
Монеты эти украшали грудь одной сирагинской девушки, которая приехала в Кубачи на базар продавать весенний колхозный мед. Какая это была девушка! Краснощекая, черные глаза огнем горят, брови вразлет — просто очаровательная девушка, только вот эти царские монеты были так ни к чему! Я красноречиво объяснил ей это и предложил немедля обменять их на сережки и браслет моей работы. И она, конечно, согласилась, причем больше, чем эти серьги и браслет, подействовали, кажется, мои горячие взгляды — этому тоже научил меня дядя Даян-Дулдурум, непревзойденный дипломат по части торговли. «На базаре надо уметь вести себя, — говорил он бывало, — надо быть выше всяких чувств и посвящать себя каждой сделке так, будто вся твоя жизнь зависит от нее».
И я показал себя молодцом: девушка не только сорвала с шеи эти царские рубли, но и угостила меня весенним медом, хотя слаще меда казались мне ее по-весеннему свежие губы. Я подумал тогда: «Эх, не будь у меня на сердце кубачинской девушки, влюбился бы я в эту сирагинку! Опрометчиво поступают родители, отправляя такую красавицу одну на базар».
Вот какое богатство в моем хурджине, которым я должен кормиться всю дорогу да еще добыть подарок для моей Серминаз, — то есть не самим, конечно, хурджином, а руками, которые были при мне.
А в другом хурджине, в том, что за спиною, лежит мясной пирог-чуду ́, который испекла мне мать на дорогу, строго-настрого наказав, чтобы до обеденного привала я сохранил его в неприкосновенности, но привал был так далек, а пирог так близок! Он грел спину через хурджин и одежду — чудесный пирог! Едва ли не ради него я и согласился отправиться в скитания. И сердце мое стучит: «Будь что будет, будь что будет!» И наконец оно уже приказывает. А так как руки мои всегда послушны зову сердца, я, не оглядываясь, чтобы не видеть, как мало еще отошел от аула, снимаю хурджин и извлекаю пирог. И как только он появляется на свет, его так и притягивает к моим молодым зубам. И я ем этот великолепный пирог, непревзойденное чудо горской кулинарии. Мать моя всегда говорила: нехорошо есть пирог большими кусками. Но кому нехорошо? Тому, кто ест, или тому, кто печет? Как только я проглотил первый кусок, жить стало веселее, мир показался прекраснее, и чудесная мысль пришла мне в голову: «Что с того, что у Серминаз есть сын? Это же гораздо лучше, чем дочь. Вот я женюсь, и сразу у меня будет наследник».
Так я закусывал на перекрестке, и дороги бежали во все четыре стороны — иди по любой, по любой возвращайся, но только не раньше, чем найдешь подарок, который изумит аульчан и вознесет твой род. И по какой бы дорого я ни отправился, все равно это будет путь, каким шли все мои предки в надежде обрести подарок, достойный их избранниц.
Что же должен добыть я? Ведь в наш век, когда люди летают лучше птиц, плавают лучше рыб, делают кожу без помощи баранов и выводят цыплят без наседки, поди попробуй удивить!
Четыре дороги. Одна вьется, направляясь в сторону суровых и прекрасных аварских гор, другая уходит к зеленому Юждагу, туда, где возвышается величественная белоголовая гора Шахдаг, что значит «Царь вершин». Третья дорога стремится к голым, как бритая голова, горам кумухцев, вернее, лакцев, которых все считают хитрецами, хотя мой дядя не любит, когда так говорят, считая, что в его крови есть и лакская примесь. А четвертая спускается вниз, на равнину, к тихим волнам Каспия. По всем этим дорогам шли аульчане в чужедальние страны. Но стоит ли мне забираться так далеко? Стоит ли годами скитаться, надеясь возместить сегодняшние лишения прелестями завтрашней семейной жизни? Да и зачем мне эти дальние края, незнакомые нравы и чужое искусство, если я еще как следует не знаю родной земли? Мне думается, что неосмотрительно поступали предки, отправляясь в неведомые края и не познав сначала вкуса того, что лежит рядом. Вот познал же я вкус материнского пирога, не дожидаясь привала, до которого еще идти да идти. И не жалею об этом.
Эх, распутье! Не хватает только замшелого камня да черного ворона-вещуна, и чтобы были надписи, зовущие и устрашающие: «Прямо пойдешь — темную ночь найдешь!», «Назад пойдешь — ясный день найдешь!», «Налево пойдешь — счастье найдешь!», «Направо пойдешь — смерть найдешь!» Народ всегда мудр, и есть в его мудрости глубокая тайна, непостижимая истина. Почему, например, на правом пути смерть, а на левом счастье? Не потому ли, что в те времена, когда люди слагали эти сказки, правого всегда ждала гибель, а неправого, но изворотливого — удача?
Только можно ли назвать счастьем то, чего добивался неправый? Счастье в горах понимают так: и горе и радость — поровну со всеми. Разве может быть счастлив один, если рядом несчастны десятеро? Уж в крайнем случае, пусть бы десятеро были счастливы, а один несчастен…
Но что это за язык у меня! Пока не прикусишь, не остановится. Так уж подвесили его мне родители, что о каждом пустяке рассказать хочется — даже о том, например, где и о какие камни я ушибался и где мой дядя потерял мочалку, возвращаясь из бани… А куда более важное и значительное иной раз упускаю.
Вот и вы, наверное, думаете: отправляется из дому, даже не повидав ту, ради прекрасных глаз которой вынесет столько лишений; уходит, даже не простившись с избранницей своего сердца и не получив ее благословения на подвиг.
2
Если говорить откровенно, то после известного уже вам столкновения с собакой Жандара мое желание увидеть Серминаз уменьшилось чуть не вдвое. Однако и оставшегося оказалось достаточно, чтобы вчера, едва удалился мой дядя, а мать постелила помягче постель, дабы дать мне отдых перед трудным путем, я немедля встал и тихонько выбрался на улицу. На этот раз я надел свою праздничную папаху, надвинув ее на самый нос, чтоб меня никто не узнал.
Ночь была ничем не примечательна, если не считать синего-пресинего неба и звезд, которые висели на этом атласе так низко, что казалось, будто кто-то погладил хребты гор, как гладят кошку, и это искры из кошачьей шкурки. И луна на небе была такая же неповторимая, как моя Серминаз, и так же стыдливо прятала лицо под тонкой вуалью…
Аул уже спал, и я радовался тому, что меня не увидит никто из наших зубоскалов. Я пробрался к сакле Жандара без приключений, но во двор не пошел, памятуя о собаке, а влез на крышу соседней сакли, откуда до окна Серминаз рукой подать, хотя между крышей и окном глубокая пропасть — узкая улица.
В окне Серминаз горел свет, и я узнал ее подруг: видно, затевался девичник.
В ночной тишине слышались мелодии чугура и бубна. На чугуре играла Серминаз, а по бубну бегали пальцы Бэлы. Девушки подпевали в такт мелодии веселую песню о красавице вдове.
В нашем ауле давно бытует такой обычай: девушки-сверстницы собираются вместе, чтобы скоротать вечер, блеснуть своим умением печь пироги, посостязаться, кто лучше вышьет на головной накидке стамбульский узор золотой нитью, потанцевать, спеть, а порою и оплакать ту из подруг, которая обручилась и выходит замуж. Есть же такое поверье, что девушка, которая выходит замуж в слезах, будет счастлива после свадьбы.
Четырехструнный чугур в руках Серминаз звенит, и кажется, будто ее пальцы высекают искры из струн, озаряя всех ясным светом. Из-под платья чуть виднеются синие шаровары, окаймленные золотой вышивкой, а из-под них — красивые башмачки. Сидит себе Серминаз как ни в чем не бывало — веселая, беспечная, а я с удивлением думаю: «Как же это возможно, чтобы девушка, потерявшая честь, так веселилась?» И это даже злит меня.
Вот она что-то сказала, передала чугур подруге и удалилась. Девушки начали мелодию лихого шуточного танца «аштинка». Бэла вышла на круг, разрезая воздух рукой с поднятым большим пальцем. «Хайт! Хайт!» — и за нею пошли все остальные, кроме музыканток. Смех, шум! Вот озорницы, чего только не вытворяют, когда остаются одни!
И вдруг все эти веселые девушки с визгом и криком попрятались по углам, прикрывая лица платками. Так шарахаются фазаны на опушке леса, когда в стаю врывается лиса. Что случилось? Неужели они заметили меня? Но я же стою на темной крыше по другую сторону улицы.
И что же я вижу? На пороге девичьей комнаты неизвестно откуда появился джигит в добротной черкеске, в блестящих хромовых сапогах, в папахе из серого каракуля, в башлыке. Да это ж Серминаз! Я узнал ее сразу! А подруги все еще не решаются выглянуть из-под платков, посмотреть, кто это нарушил их веселье.
Но вот она что-то произносит, и девушки бросаются к ней. Танец возобновляется. Серминаз теперь танцует за парня. Лихо заломив папаху, она поднимается на кончиках пальцев не хуже, чем настоящая балерина, и плывет по кругу.
Я стою, гляжу на нее, и мысли мои тоже идут по кругу. Вокруг нее. Нет, я не могу от нее отказаться. Пусть у Серминаз даже не один сын, а десять — все равно нет девушки, которая так была бы достойна любви, как она.
А в комнате продолжается веселье, смех, хлопанье в ладоши в такт веселого танца. И вдруг брошенная мною папаха, подобно голубю с подбитыми крыльями, падает прямо в середину девичьего круга. И девушки пугаются, как в момент, когда увидели на пороге незнакомого джигита. Папаха, брошенная в окно, — это событие в жизни девушки. И подруги изумленно смотрят на Серминаз.
А она, как мне показалось, сначала тоже несколько растерялась, но быстро пришла в себя и, брезгливо подняв двумя пальчиками папаху, осмотрела ее со всех сторон, подошла к окну. Бэла раздвинула тонкую тюлевую занавесь, сквозь которую я так хорошо все видел, и выставила на подоконник настольную лампу. Я испуганно присел за барьером крыши, не сообразив, что из светлой комнаты в темноте и вовсе ничего не разглядишь.
— Бросил и убежал! — сказала Бэла, перегибаясь через подоконник и подсвечивая лампой вниз.
— Как вы думаете, чья это папаха? — спросила Серминаз.
— По-моему, Мухтара, — сказала Бэла.
— У вас на уме один только Мухтар, — словно бы упрекнула девушку Серминаз. — Будто нет в ауле других парней!
— Есть, но… — Бэла замялась.
— Что «но»?
— Другие какие-то не такие, — попыталась объяснить Бэла. — То робкие и неловкие, хуже девушек, то нахальные, пристанут — не отвяжешься.
— А Мухтар не такой? — прямо спросила Серминаз.
— Конечно, и он не золото, но все-таки… А что, если это его папаха? Что ты сделаешь тогда?
— Вышвырну — и все!
— А если Азиза?
— Азиза? А я не слышала, чтобы он вернулся с учебы. — Серминаз помолчала, и я почувствовал, как у меня замерло сердце. — Тоже вышвырну, — решительно сказала Серминаз.
— А вдруг это папаха Бахадура? — неожиданно спросила Бэла, и мне послышалась в ее голосе какая-то грусть.
— Бахадура? Но он же совсем еще мальчишка! — безжалостно произнесла Серминаз. И тут же добавила: — Хотя, знаете, девушки, честно говоря, чем-то он мне по душе. Только вот нос…
— Да уж нос у него, что плотничий топор, — заметила одна из подружек.
— Но в этом ли дело, сестрицы? Характер у него еще причудливее носа — необузданный какой-то, непутевый, неудачливый… Просто даже жаль его!
— Нет, что ты все-таки сделаешь, если это папаха Бахадура? — настаивала на своем Бэла.
Тут я не выдержал: призналась же Серминаз, что я нравлюсь ей больше, чем другие. И, не дожидаясь, пока она выбросит мою папаху за окно, я закричал:
— Серминаз, это моя папаха, моя!
Девушки кинулись к окну. Погасили свет, и теперь они, безусловно, видели меня, тем более что, рискуя свалиться, я стоял на самом краешке крыши.
Серминаз изменилась в лице. Одним лишь взглядом, молча, я молил ее оставить мою папаху, но, с укором взглянув на меня, она швырнула ее за окно, да так небрежно, что та, как в пропасть, провалилась в уличную тень.
— Что ты сделала со мной! — невольно крикнул я. — Лучше бы меня туда столкнула!
Девушки с молчаливым участием глазели на меня, а Серминаз насмешливо спросила:
— Тебе так дорога эта папаха?
— Нет, но ты выбросила мое сердце!
— И тебе это тяжело? Ты забыл, что сказал по этому поводу Мунги Ахмед? Ах да, ведь ваш род его не признает. И вообще, разве он поэт по сравнению с тобой?
— Смеешься?! А я на рассвете ухожу…
— Уходишь? Неужели за подарком? И кому же ты его предназначаешь?
— Тебе! Тебе, Серминаз, хотя ты и коварна и жестока!
— Девушки, заткните уши! — засмеялась Серминаз. — Сейчас мы будем объясняться в любви! — И она снова обратилась ко мне: — Говори же!
Подружки сделали вид, что заткнули уши, но известно, что если женщине даже свинцом их залить, она все равно ухитрится подслушать… Я попросил жалобно:
— Серминаз, выйди хоть на минуту, мне надо поговорить с тобой наедине!
— Говори при всех! — потребовала Серминаз.
— Откуда в тебе эта гордость, эта резкость? — вырвалось у меня, и тут я уже не мог остановиться: — Ведь тебе на глаза людям показываться должно быть стыдно, не то что смеяться над ними!
— Почему? Что-то ты разошелся, Бахадур!
— Потому что… — Я замялся. — Вот я и хотел узнать, правду ли говорят о тебе?
— А если правду? Ты хочешь сказать, что больше не любишь меня?
— Если бы я мог это сказать!
— Так чего же ты хочешь?
— Ничего! — в отчаянии воскликнул я.
— Тогда прощай! Походить по свету тебе не мешает — проветришь мозги!
— И ты ничего не скажешь мне на прощанье?
— В добрый час! Что же еще я могу сказать?
— Хоть одно слово любви! — взмолился я.
— Может, еще и поцеловать тебя? — Она засмеялась. — Слышите, девушки, чего он захотел!
Я смутился. Я готов был провалиться сквозь крышу в чужой дом. Но злость только распалила мои чувства, и громко, как заклинание, я произнес:
— Ты еще услышишь обо мне, Серминаз! Бахадур вернется в аул!
— Не забудь подобрать папаху!
— Нет! Рука моя ее не коснется!
И я отправился восвояси.
…А сейчас вот сижу и философствую, и чем глубже влезаю в эту философию, тем труднее вылезти из нее, как тому жадному коту, что протиснул голову в узкое горлышко кувшина и вылизал всю сметану, а вот вытащить ее уже не может…
3
…Так я философствую и не трогаюсь с места, а от пирога моего тем временем остался один запах. Я встал и перекинул хурджины через плечо. Но раньше пирог уравновешивал мои инструменты, а сейчас их пришлось разложить в две сумы, чтобы было удобнее нести. Теперь все в порядке, только не знаю, по какой дороге отправиться. Правы те, кто говорит, что первый шаг — самый трудный. Особенно если не знаешь, в какую сторону его сделать. И тут я вспомнил, как в таких случаях поступал мой дядя. Я закрыл глаза, поджал левую ногу и крутнулся на правом каблуке — куда покажет мой нос, туда и пойду. Проделав это, я осторожно открыл правый глаз. Нос уперся в куст крапивы, и я вспомнил, какие вкусные пироги с крапивой печет моя мать. За крапивой в низине расположилось картофельное поле, а дальше — наш знаменитый лес диких фруктовых деревьев. Я понял, что мой знаменитый нос ошибся, свернул с пути истины. Пришлось снова закрыть глаза и опять крутиться. На этот раз передо мною оказалась резная могильная плита, где под датой «1940» было высечено: «Он предпочел уйти сам». Могила самоубийцы! Нет, и на этот раз нос оплошал. Я снова начал крутиться на одной ноге, как юла, но голова у меня закружилась, и я свалился ничком, едва не сломав свой природный путевой указатель, оказавшийся как раз посреди дороги на Юждаг. Задача была решена!
В это время надо мной раздался незнакомый голос:
— Ты сам встанешь или, может, мне сойти с коня и помочь?
Я поднял голову и сначала увидел замершие, стройные, как у красавицы, ноги коня, потом разглядел в стременах ноги человека и лишь после этого — самого всадника. Это был парень немногим старше меня, улыбающийся, краснощекий. Он был в запыленных от езды сапогах, в галифе из темно-синей диагонали, в клетчатом пиджаке, а на голове папаха из серого каракуля.
— Ты что, колодец бурить собрался? — спросил всадник.
— А зачем? — не понял я и, вскочив, стал отряхиваться.
— Вот и я думаю: незачем. А то еду, смотрю и никак не пойму: крутишься на одной ноге, словно другого дела не нашел.
— Нашел, — сказал я.
— Что нашел? — Он говорил с ухмылкой, как с каким-то глупеньким.
— Дорогу нашел, — сказал я твердо и даже строго, чтобы сбить с его лица эти ухмылочки.
— Ах, дорогу! Ясно… — Он скривил губы, словно надкусил недозрелую сливу. — Может, в таком случае ты и мне подскажешь дорогу?
— А куда тебе ехать?
— В долину реки Рубас.
— Заблудился?
— Да, я здесь впервые.
— Ну так вот, дорога к реке Рубас — та самая, что я сейчас нашел.
— Значит, мы попутчики, — улыбнулся незнакомец.
— Нет, — ответил я.
— Почему?
— Потому, что пеший конному не товарищ.
— Ну, это дело поправимое. — Незнакомец понял мой намек по-своему и быстро спешился. Я-то думал, что он меня пригласит с собою на коня, но он рассудил иначе, и я не стал настаивать: дядя говорит, что хорошему коню кнут не нужен, а мужчине и намека достаточно.
— Ну что же, в таком случае — в путь! — сказал я, но не успел сделать того самого первого, самого трудного шага, как был ошарашен вопросом незнакомца. Без тени смущения он спросил меня:
— А что это за аул виден отсюда?
Это задело меня за самое сердце. С молоком матери я впитал чувство, которое горцы называют гордостью за родной аул, — ведь это и есть чувство родины, без которого не прожить человеку!
Спустится горец из аула в город свой, что на прекрасном, но пусть еще не благоустроенном берегу Каспия, а душой всегда будет тянуться к родным вершинам. Привыкнет со временем к своему городу, и тогда даже в Москве будет скучать он по Махачкале. Но вот полюбится ему столица, и если случится побывать в чужеземных странах, и во сне и наяву будет мечтать поскорее вернуться в Москву и ни на какие блага не променяет он этого чувства. Велико это чувство, и поэтому велика и гордость за свой аул.
Я простил бы незнакомцу и то, что он заплутался, и то, что меня за дурачка принял, но как можно простить, что он не признал знаменитейшего селения Страны гор?
— Так ты не знаешь, что это за аул перед твоим носом? — переспросил я, сдерживая обиду.
— Потому и спрашиваю…
— Это-то меня и удивляет! — Я не мог удержаться от язвительного смеха.
— Хи-хи-хи! — передразнил он меня. — Ничего нет удивительного.
— Да как же нет? Ведь перед тобой аул Кубачи!
— Ну и что же?
Это было уже слишком. Хорошо, что поблизости не оказалось моего дяди, он показал бы ему это «ну и что же»! Но и я, племянник знаменитого Даян-Дулдурума, таких вещей не прощаю. Я схватил незнакомца за пояс — а пояс был серебряный, кубачинской работы — и встряхнул его как следует. Потом сунул руку в его карман и безошибочно вынул портсигар тоже кубачинской работы, затем взял уздечку коня, украшенную серебряными бляхами мастера из Кубачи, и показал ему все это, не говоря ни слова. Как же это можно носить наши изделия и, увидев аул Кубачи, говорить «ну и что же»! Вот до чего доходят люди — на родное и смотреть не хотят, а каким-нибудь заморским безделушкам поражаются. Привез как-то мой односельчанин из Парижа простую зажигалку — неплохая штучка, но ведь дед его еще при белом царе делал вещицы похитрее, а внук об этом забыл.
Я посадил невежду на придорожный камень и разъяснил ему все так, что теперь он вряд ли когда-нибудь забудет меня и мой аул. Мне даже повезло, что он такой профан, и я выговорился перед ним как лисица перед половиной зайца, первую половину которого уже съела.
Незнакомец слушал меня так, что, казалось, даже уши у него стали больше. Он удивлялся, хлопал руками, прерывал мой рассказ восклицаниями вроде: «Вах-вах-вах!», «Ай-яй-яй!», «Ага!», «Подумать только!», «Вот это да!» А во мне все росло желание удивить его, поразить его душу рассказами о необычайном искусстве кубачинцев, об удивительных приключениях моих земляков, о тайнах редкостных вещей. И я постарался выложить перед ним все, что знал о родном ауле, об ауле, искусство которого славилось еще во времена Александра Македонского, прозванного на востоке «двурогий», ибо великий полководец носил шлем с двумя рогами, сделанный в Зирехгеране, то есть у нас, в Кубачи.
Жители соседних аулов до сих пор считают нас парангами — выходцами из Европы, хотя на самом деле мы потомки древних албанцев, исконных жителей Страны гор. И какие бы небылицы о нас ни придумывали, любой скажет, что кубачинские мастера могут не только выковать из золота муху с жужжащими крыльями, но и человека отлить из металла, да не простого человека, а рассудительного.
Незнакомец проглотил мое хвалебное слово так же незаметно, как незаметно я съел на этом самом месте материнский пирог. Конечно, я мог бы рассказывать без конца, если бы не поймал себя на том, что становлюсь похожим на сулевкентца. Вы знаете, ниже аула Кубачи, в глубоком ущелье на берегу реки Хала-Ак, что значит «Великая река», расположен аул Сулевкент. В древности тут была только сторожевая башня, в которой жили шестеро одиноких воинов. Но постепенно сторожевые воины обзавелись семьями, детьми, внуками, и вокруг башни вырос аул. Жители его занялись гончарным ремеслом, потому что на берегу реки нашлась великолепная глина. Однако известен аул был не столько мастерами, сколько непомерной гордостью. Чтобы доказать, например, что текущая посреди аула речка Хала-Ак, которая летом почти совсем пересыхает, все-таки Великая река, сулевкентец перед тем, как перейти на другой ее берег, непременно разденется. И вот, не желая показаться смешным в глазах пораженного моим рассказом незнакомца, я замолчал, хотя и видел, что распалил в нем ожесточенную жажду познания. Однако не тот оратор, кто хороню начинает речь, а тот, кто умеет закончить ее так, чтобы людям хотелось слушать его бесконечно.
— Ну, а теперь ты знаешь, что это за аул? — спросил я его со строгостью учителя, принимающего экзамен.
— Да, — глубоко вздохнул незнакомец и поклонился мне, сняв папаху. А папаху горец снимает в самых редких случаях, ибо считается, что она олицетворяет все его достоинства.
— Не мне надо кланяться, — сказал я и повернул его, согнутого, в сторону аула, — а тому селению, которое ты видишь перед собой. Ну, а теперь мы с тобой попутчики.
— Нет, не попутчики, — сказал незнакомец.
— Почему?
— Как же я могу миновать такой знаменитый аул? — воскликнул он, лихо вскакивая на коня.
Мне было приятно, что мой рассказ произвел такое сильное впечатление, но в то же время неплохо было бы отправиться в путь вместе.
— Есть ли у тебя кунак в этом ауле? — спросил я. — Если нет, иди к Даян-Дулдуруму, только не говори, что мы с тобой встретились так близко от аула. Скажи, что где-нибудь далеко, ну хоть у Ицари.
— А как мне его найти?
— Даян-Дулдурума? Да его там каждый камень знает. Имя этого человека произносится рядом со словом «мужчина». — Я все не мог отвести глаз от его коня. — Послушай, мне понятно, что тебе хочется посетить этот аул, но хочет ли этого твой конь?
— Мой конь подо мною, и он хочет всего, чего хочу я.
— А подо мной он, думаешь, будет настаивать на своем? — спросил я. — Давай я отведу его до долины реки Рубас.
— Там мне делать нечего. Если будешь в городе, спроси репортера Алхилава! — крикнул он и умчался на своем чудесном коне.
4
«Репортер Алхилав», — повторил я, пытаясь вспомнить, где встречал это имя. Ах да, у нас в ауле этой весной была передвижная фотовыставка, там были и его снимки. Ну, если это Алхилав, то ему повезло, что он наткнулся на меня: я ему все толково объяснил, теперь побывает в Кубачи, посмотрит нашу жизнь и напишет о ней в газету. Довольный, что дал человеку добрый совет, я сделал один шаг в сторону Юждага, за ним второй — и вот зашагал от родного аула по неведомому пути, зашагал не столько по своей воле, сколько по желанию моего почтенного дяди, который спешит женить меня и, преодолев преграды к сердцу моей матери, дать, как он говорит, достойного наследника нашему роду. Ну что же, да исполнятся желания Даян-Дулдурума, только как бы я его не обскакал.
Хоть я и пытаюсь не думать о Серминаз, мысли мои все время летят к ней, как голуби к гнезду. Столько красивых девушек в нашем ауле, а именно она показалась мне самой лучшей, самой прекрасной, самой умной и обходительной, не потому ли, что всегда очень ловко обходила меня и нам так и не удалось ни разу поговорить по душам? На мои записки, написанные неумело и очень загадочно, она не отвечала, а однажды, когда я пытался передать ей послание вместе со своими изделиями — двумя пудреницами и браслетом, — она сердито сказала: «Ты что думаешь: если мне в любви объясняешься, то я должна принимать подобный брак?» И отвергла мою работу. Да, записки писать еще трудней, чем работать по серебру. Когда я решаюсь наконец послать ей весточку, столько чудесных мыслей приходит в голову, но они никак не хотят ложиться на бумагу, и я встаю, так ничего и не написав, но твердо веря, что чувства мои все же дошли до нее.
Вот какова Серминаз. С другими она говорит робко, а со мной делается нетерпимой и гордой, словно хочет показать свое превосходство.
Мысли мои были то горькими, как полынь, то сладкими, как шекерлукум, а меж тем я уже перевалил амузгинские горы, урагинские холмы и к полудню стал приближаться к аулу Ицари, очутившись в Долине женихов — чудесной высокогорной долине со множеством родников.
Говорят, шла некогда по этой долине молодая красавица ицаринка, румяная, как цудахарское яблоко, нарядная, как конь в праздничном убранстве. Была она в платье, цветастом, как месяц май, из-под платья виднелись окаймленные золотой вышивкой шелковые шаровары цвета молодой травы, а под голубым, как небо, платком лежали тяжелые черные косы, жгучие и искрящиеся. Недаром мужчины говорят, что косы притягивают сильнее, чем щупальца осьминога, и недаром женщины в горах все еще редко ходят с непокрытой головой — уж слишком велико искушение для окружающих! Дыхание молодой ицаринки было ароматно, как весенний луг. Вот она увидела себя в зеркальной глади родника, провела рукой по высокой груди, будто представила себе, что это рука молодого джигита… Улыбнулась, встрепенулась, отскочила, как дикая коза, голубая шаль сбилась и теперь тянулась по земле. Она шла, мечтая о чем-то сокровенном и желанном, как вдруг кто-то легонько потянул ее шаль. «Неужели осуществились мои мечты?» — подумала девушка, вся зарделась, прикрыла лицо рукой и прошептала, не оглядываясь, так тихо, будто это прозвенели струны чугура:
— Не надо, джигит!
И пошла дальше молодая ицаринка, и шла она, готовая растаять от первого же прикосновения мужской руки и боясь обернуться.
Но вот опять кто-то потянул ее за шаль.
— Не надо, джигит… Не искушай меня, — сказала она чуть громче, и голос ее был похож на журчание веселого ручейка: «Нет, нет, не оглянусь! Нельзя! — думала она, а сердечко в груди так и трепетало. — Ай, добрый джигит, что ты со мной делаешь, люди могут увидеть!»
И так дошла она до следующего родника и склонилась, хотя и не хотела пить, просто надеялась увидеть в воде отражение того, кто осмелился приблизиться к ней вопреки строгим законам гор.
Но вокруг во всей долине не было ни живой души. Только колючка терновника, вонзившаяся в край шали, цеплялась за землю и тянула шаль назад. Велико было разочарование девушки, тяжко вздохнула она и печально промолвила: «Нет уж, видно, мне молодец не достанется!»
Вот по этой-то легендарной долине и шел я все дальше. Казалось, для того и создана она, чтобы одинокие влюбленные вздыхали здесь в часы разочарования. Наедине с природой на человека порой находит настоящее вдохновение, а в этой долине особенно. Кто бы ни шел здесь, обязательно запоет, а в ущельях хором откликнется эхо и понесет песню на невидимых крыльях.
Запел и я, хотя голос мой, я это хорошо знаю, похож на скрип старой несмазанной арбы.
Я пел о том, как благоухает альпийский луг, о цветах, что рассыпались по нему, словно тысячи радуг, и каждый цветок хвалится: посмотри на меня, право же, я прекраснее всех!
А родники в Долине женихов, заботливо украшенные местными жителями, так и зовут усталого путника утолить жажду и отдохнуть. И я не мог не внять их зову, но когда напился вволю, двигаться стало куда тяжелее. Тогда я прилег на травке и задремал.
Друзья мои, не будьте так беспечны! Я расскажу вам, в какое неприятное положение попал, ибо не хочу, чтобы с вами случилось что-либо подобное. Как учил мой дядя, дело говорящего — предостеречь, а дело слушающего — поступить так, как ему велит сердце.
5
Уж не знаю, долго ли я дремал, но, проснувшись, услышал рядом девичьи голоса, похожие на пение соловья. А когда открыл глаза, то увидел рядом с собою пять ицаринских девушек, красоте которых позавидовали бы даже розы. Наверное, они работали где-то неподалеку на колхозном поле и в час отдыха пришли к роднику пообедать — узелки с едой лежали на каменной плите у воды.
Заметив, что я проснулся, одна из девушек хихикнула и сказала:
— Наконец-то! А мы заждались!
— Доброе утро, — сказала вторая и смело, по-мужски протянула мне руку.
— Здравствуйте! — сказал я, привстав, и хотел пожать ей руку, но она отдернула ее и сделала такое движение, будто закручивала копчик уса.
Девушки засмеялись.
Я стал догадываться, что они затеяли что-то недоброе. И как это я сразу не вспомнил о повадках ицаринок? Ведь именно в память о той ицаринке, что бежала здесь по долине от воображаемого жениха, местные девушки взяли себе обычай зло подшучивать над любым прохожим, забредшим в Долину женихов. Даже поговорка есть: «Берегись дурного глаза и ицаринских невест!»
Я вскочил, чтобы броситься наутек, но обнаружил, что мои хурджины исчезли… Тут ко мне подошла та девушка, что протягивала руку, и, сделав вид, будто хочет пощупать ткань моих брюк, ущипнула меня что есть мочи. Я готов был закричать, но, кричи не кричи, помощи ждать неоткуда.
— А ну, если ты мужчина и носишь папаху, выходи, будем бороться! — сказала та, что до сих пор сидела в сторонке.
А я-то в душе почему-то надеялся, что именно она за меня заступится.
— Да он и не носит папахи! — сказала третья, маленькая, полненькая. Она подскочила ко мне и, ловко схватив мою кепку за козырек, надвинула ее мне на глаза. — Разве это головной убор? Это же войлочный плуг.
Тут они с хохотом набросились на меня и повалили наземь.
Я пытался образумить их:
— Ну что вы делаете? Вы ведь девушки! Прекратите сейчас же!
— А как ты посмел без невесты останавливаться в Долине женихов? Может, меня изберешь? — закричала одна.
— Нет! — твердо ответил я.
— Ах, нет?
Они повалили меня ничком, стащили с меня брюки польского происхождения и принялись хлестать заранее приготовленными пучками крапивы.
— Может, меня?
— Нет!
— А может, меня?
— Нет! Нет! Никого из вас! У меня в ауле есть невеста. Она меня ждет.
— А я что, хуже твоей невесты? Говоря сейчас же!
— Смилуйтесь надо мной, девушки! — взмолился я. — Мне еще далеко идти! Вы хорошие, красивые, и, клянусь, я не прочь бы жениться на любой из вас, не будь у меня невесты!
Так говорил я со слезами на глазах, и уж не знаю, что бы они еще натворили, если бы на склоне горы не появилась грозная женщина, наверное, бригадир их дьявольского звена, и не позвала их на работу, пригрозив пальцем: «Хватит, проказницы!»
Да, хороши проказницы!
Девушки убежали, похватав свои узелки, и бросили меня как растерзанную орлами куропатку. Я клял себя как мог: ведь мой дядя Даян-Дулдурум частенько мне рассказывал об ицаринках. Просто я не верил, что гостю из другого аула так и не удастся пройти Ицари, не испытав когтей этих «проказниц». Пожалуй, один лишь Даян-Дулдурум ухитрился как-то благополучно миновать этот аул, но для этого он попросил у пастуха его костюм и прошествовал вместе со стадом.
Нетрудно понять, как я торопился уйти отсюда, тем более что и ожоги от крапивы подгоняли меня. Отыскав хурджины, спрятанные девушками в кустах, я кинулся вперед и больше уже нигде не останавливался, если не считать встречи с горцем Магомедом, сыном нашего кунака из Хунзаха, который шел от аула к аулу, чтобы ко дню своего сорокалетия пригласить в гости сорок сорокалетних Магомедов. И очень сожалел Магомед, что меня зовут Бахадуром и что мне не сорок, а двадцать. Он уже давно скитался, и теперь ему не хватало всего лишь одного сорокалетнего Магомеда: тридцать девять уже было. Я посоветовал ему к этим тридцати девяти прибавить самого себя. К великому его удивлению, это не приходило ему в голову. И Магомед обрадовался не меньше, чем обрадовался Ходжа, когда в базарный день нашел самого себя в толпе по грому своей тыквы, наполненной сухим горохом.
6
К вечеру я все-таки добрался до долины реки Рубас, где на склоне горы утопает в зелени аул Чарах, прославленный изделиями своих ковровщиц. Природа здесь щедрая и мягкая, склоны гор в синеве лесов, долина цветет садами, и кажется, что даже сакли расположены так, чтобы обогатить пейзаж. Река Рубас, протекающая у самого аула, небольшая, но чистая и резвая, как жеребенок весной. Из труб над саклями поднимались дымки, и мой искушенный нос улавливал все запахи вечерней трапезы чарахцев: хозяйки готовили и острый хинкал, и пельмени-курзе, а самые расторопные стряпухи уже пользовались дарами весны: и мятой, и горным луком, и крапивой — как она злобна в руках ицаринок и как приятна в хорошем пироге! Да, кто-кто, а уж чарахцы понимают толк в каждой травке, в каждом цветке. Цветов на здешних лугах видимо-невидимо, они по пояс скрывают идущего. Чарахские женщины, когда ткут свои знаменитые ковры, не только копируют рисунок цветов на лугу, но и добывают из трав, корневищ и коры деревьев краски для пряжи, более нежные и стойкие, чем всякая химия. Из клевера вываривается желтая краска, из корней марены — розовая, из травы кара-чуп — черная, да всех и не перечтешь, А тому дагестанцу, который взрастил семена дикой марены, Келбалаю Гусейну, стоит и по сей день памятник на одной из площадей французского города Авиньона. Слава о чарахских красках еще сто с лишним лет тому назад пронеслась по Европе.
В ауле Чарах у меня не было кунака, и я, как всякий случайный гость, отправился прямо на гудекан, что разместился рядом с ковровой мастерской. Огни в ее больших окнах были уже погашены, светилось лишь одно окно, из-за которого доносился ритмичный перестук ткацкого станка. Наверное, какая-нибудь ковровщица так увлеклась, что хотела завершить узор, хотя рабочий день давно кончился. Такое настроение мне хорошо попятно, потому что и я частенько задерживался на работе, чтобы доделать какую-нибудь деталь и, конечно, чтобы, задержав приемщицу Серминаз, оказаться с нею наедине.
Гудекан разместился под навесом на каменных ступенях. При виде незнакомца все — и почтенные старики, и молодые — встали, и я первым поздоровался с ними, пожав каждому руку. Меня посадили на почетное место, рядом со стариком, перебиравшим древние четки. На нем был бешмет и черкеска с полным рядами газырей, но когда он закурил, я увидел, что в газырях хранился не порох, а табак. Так сказать, новое содержание в старой форме.
С другой стороны рядом со мной сидел старик с жирными усами, он все время разглаживал их и гулко рыгал — так горец обычно показывает, что сытно и вкусно поел. Я старался не смотреть на него, чтобы не томить свой голодный желудок.
Меня расспросили о житье-бытье, о здоровье моем и моих родных, о делах аульчан. Я тоже задал несколько вопросов вроде: «Ну, а у вас есть ли в делах удача? А комары еще не беспокоят? Нет ли опасности, что ударят заморозки и пропадет урожай?»
На последний мой вопрос в прежние времена горцы обязательно ответили бы так: «Как аллах рассудит, все в его руках!» Но мне сказали: «Нам бояться нечего, сады-то застрахованы!»
После обычных расспросов на гудекане наступила тишина. Очевидно, мой приход оборвал привычную беседу, и теперь чувствовалось, что каждый копается в памяти: не застряло ли там что-нибудь такое, за что можно уцепиться и снова начать разговор.
Мой сосед — почтенный старик в черкеске (звали его Шах-Алим, и он сказал, что является потомком легендарного Шарвели, всю жизнь помогавшего бедным и несчастным, а я подумал, что раз Шарвели легендарен, то непременно состоит в родстве с моим дядей и, следовательно, со мной) — задержал бусинку своих четок в пальцах и толкнул локтем своего соседа, простоватого на вид человека в папахе, похожей на маленький стог сена.
— Слушай, Кадар, когда отдашь долг?
— Какой долг? — встрепенулся Кадар.
— И он делает вид, будто не понимает! — обратился Шах-Алим к соседям, снова принимаясь за четки.
— Я и на самом деле не понимаю, о каком долге ты говоришь! — насупился сосед.
— Где ты сейчас находишься?
— На гудекане.
— А сюда что, молчать приходят?
— Ах да!.. — хлопнул себя по папахе Кадар, поняв наконец, о чем идет речь.
А речь шла о том, чтобы Кадар поведал людям что-нибудь интересное. Если человек не может этого сделать, то зачем и приходить на гудекан, — пусть сидит себе дома у очага и ссорится с женой из-за того, что она подала на ужин вместо хинкала чечевичную похлебку.
— Ну что же, мой род никогда не останется в долгу! — начал Кадар. — И раз уж заговорили о долге, так об этом я и скажу. Те, кто постарше, наверно, помнят: был в нашем ауле неудачник Исрапил. Однажды он задолжал соседу-чабану. Чабан стал посылать к нему детей, жену, а у Исрапила нечем было отдать долг и неоткуда было взять. Но навязчивые напоминания соседа надоели ему. Как-то, выйдя из сакли, Исрапил стал подгребать к своему забору терновник и всякие колючки. За этим занятием застал его сосед-чабан и, как обычно, спросил: «Эй, Исрапил, когда думаешь отдать долг?» Тот обернулся: «Ну и дотошный же ты человек! Неужели думаешь, что я умру, так и не вернув долга? Да я лучше повешусь! Не видишь — для тебя же работаю: собираю колючки вокруг забора. Скоро мимо моей сакли должны пройти отары овец, спускающиеся с летних пастбищ на зимовье. Овцы будут цепляться за колючки, на колючках останется шерсть, я соберу ее, а моя жена-мастерица из этой шерсти соткет добрый ковер. Продам я его на базаре и получу столько денег, что по сравнению с ними твоя без рубля полсотня — пшик. И все!» Выслушал, говорят, чабан эту речь и, закручивая ус, сказал: «Что же, учтем это, и отныне овец будут стричь еще на летних пастбищах». — «Ну вот! — воскликнул Исрапил. — Я же говорю: жизнь — хорошая штука, только портят ее такие, как ты, и все из-за какой-нибудь без рубля полсотни».
— Это интересно, но долг все же платежом красен, — вставил старик с блестевшими от жира усами. — Вот по этому поводу рассказывают, что великий и мудрый Шарвели, когда к нему обратились с просьбой дать в долг, ответил: «Пожалуйста, дорогие, вон на полочке ларчик, а в нем деньги, берите кому сколько нужно, но только вернуть не забудьте». Шарвели никому не отказывал, но прошло время, а долг все не возвращали. Вместо этого земляки опять обратились с просьбой одолжить немного денег. «Ну что ж, — отвечает Шарвели, — пожалуйста, дорогие, вон на полочке ларчик, в нем деньги…» Полезли аульчане, а в ларчике и нет ничего. «Ты что, издеваешься над нами?» — говорят они Шарвели. А тот отвечает: «А откуда там быть чему-нибудь, если вы туда ничего не положили?»
— Все это, почтенные люди, было в то несправедливое время, когда у одного было десять шуб, а у другого ни одной, у одного десять жен, а у другого и одной не было, — вмешался в разговор Шах-Алим. — Вы знаете, что все мужчины моего рода славились как мастера сапожного дела, ну, а женщины, как и у всех нас, ткали ковры, И вот мой прадед — да будет долгой о нем память! — однажды задремал за сапожным верстаком с шилом в руке. И вот появляются перед ним во сне ангелы и начинают показывать, сколько кому на земле аллах дал радости. А меряют они эту радость ситом. И вот показывают они деду самую маленькую дырку и говорят: «Вот через нее идет твоя радость». Ну, деду моему эта дырка показалась слишком маленькой. «Как бы ее расширить? Кстати, и шило в руке». Ткнул он шилом — и тут же с криком проснулся. Вышло, что он себе нос проткнул.
Меня хлебом не корми, только дай вволю послушать рассказы на гудекане, — недаром я племянник Даян-Дулдурума, целителя мудрого слова.
Не знаю, много ли правды в рассказах моего дяди, но слушать его всегда интересно — очень уж мудро говорит. Он не скажет, например, что без денег и в наше время плохо, а изложит ту же самую мысль по-своему: «Эх, трижды три — девять! Что вы понимаете в деньгах? Вот я каждый день теряю по сто рублей именно потому, что их у меня нет!»
Или, скажем, дядя недоволен кем-нибудь из моих приятелей. Но он и этого не выскажет прямо. Нет, он говорит: «Если скажешь другу: „Идем!“ — а он спросит: „Куда?“ — то с таким лучше никуда не ходить!» И верно, сколько раз я проверял эту истину. Безвольный или ко всему безразличный человек всегда спросит: «Куда?» А объяснишь — еще и не пойдет.
Но не думайте, что мой дядя просто усложняет мысль, нет, он считает, что это самый верный способ довести до вашего сведения свои суждения. Как бы то ни было, я предпочитаю следовать его примеру — ведь одно дело извлечь конфету из красивой обертки, и совсем другое отодрать ее же от слипшейся, бесформенной кучи. Та же самая конфета, по в яркой бумажке кажется гораздо вкуснее.
Я — весь внимание, почтенные посетители гудекана, приятно слушать вас, да не иссякнут ваши речи. Без них стало бы скучно жить, ибо, как говорят горцы, иной хабар бывает слаще хинкала!
— Да что и говорить о прошлом! — вздохнув, обратился к присутствующим на гудекане чарахский певец Абу-Муслим. — Некоторые, наверное, еще помнят, каков был наш старшина по прозвищу «Кто я такой?». Не человек, а сущий дьявол! Каждый месяц он собирал народ на базарной площади и, напыжившись, как индюк, вопрошал: «Кто я такой?» И не успокаивался до тех пор, пока кто-нибудь не ответит, чтобы отвязаться: «Ты наш старшина, поставленный от белого царя!»
Я невольно вспомнил рассказы о таком же самодуре — кубачинском старшине Омар-Ата. Недаром жена Омар-Ата гордилась своим мужем и всем рассказывала: «У меня такой муж, такой муж! Стоит ему напиться и выйти на улицу, как все шарахаются по домам!» И по какой-то совсем уж необъяснимой ассоциации пришел мне на память и мой дядя Даян-Дулдурум, который помнил множество рассказов об Омар-Ата, а Омар-Ата почему-то потащил за собою деда красавицы Серминаз, знаменитого в наших горах поэта Мунги Ахмеда, немало претерпевшего от подлого старшины. Ну, а от деда до внучки и вовсе рукой подать, и потому, как луна входит в ночь, вошла в мои воспоминания Серминаз.
Вы, может, недоуменно спросите: но при чем тут Серминаз, если речь идет о столь отдаленном прошлом? Да в том-то и дело, что в голове моей все вращается вокруг нее, даже если и решил я рассказывать совсем о другом — о ее славном деде, поэте Мунги Ахмеде.
Еще до того, как почтенный Даян-Дулдурум ступил одной ногой в девятнадцатый, а другой — в двадцатый век, кубачинцы стремились к знаниям. И с этой целью они решили открыть в ауле русскую школу… Мой дядя всегда рассказывает об этом историческом факте с превеликим удовольствием, любо бывает послушать его. И хотя я, конечно, не рискну соревноваться с ним в красноречии, но все же попытаюсь восстановить те события.
Для открытия этой начальной школы кубачинцы собрали шестьсот рублей, но тут против их затеи выступил сам старшина Омар-Ата, поставленный над аулом русскими властями. «Незачем вам знать русскую грамоту, — заявил он, — приказываю вам читать ясин!»[2]
Тогда кубачинцы решили пожаловаться самому белому царю. Они собрали деньги на дорогу своему прославленному земляку Мунги Ахмеду и попросили его стать их ходатаем перед царем.
Мунги Ахмед знал русский язык, так как побывал и у тульских оружейников, и у златоустовских мастеров чугунного и железного литья, и у палехских мастеров рисунка по дереву. Знал он и грамоту, хотя, может, и не так блестяще, как наши теперешние школьники. И он действительно дошел до царя. Но монарший ответ гласил: «Исполняйте приказ старшины: читайте ясин!» С этой резолюцией, начертанной по-арабски, и отправился поэт в обратный путь.
С тяжелым сердцем возвращался он на родину: деньги аульчан были истрачены без толку. На каждом привале доставал Мунги Ахмед прошение с высочайшим отказом и все раздумывал, что же он скажет землякам? И на одном привале взял поэт в руки перо и чернила и самую малость подправил арабскую вязь.
Молва о возвращении Мунги Ахмеда обогнала коня, на котором он скакал, и уже в долине Апла-Ку его встречали и стар и мал, на лицах земляков Мунги Ахмед прочитал горечь и тревогу, а вопрос был один: «Чем же ты утешишь нас в этот мрачный день?»
Мунги Ахмед спешился, поздоровался с земляками и сказал:
— Почему же в мрачный? Я привез вам, добрые люди, ответ царя! — Он вытащил из кармана бешмета бумагу. — Здесь написано: «Исполняйте приказ: по старшине читайте ясин!»
— Что это значит — «по старшине»? — не поняли взволнованные слушатели.
— Это значит, почтенные, что пора убрать старшину с нашей дороги!
И едва сказал это Мунги Ахмед, как у всех вырвался вздох облегчения. И люди бросились в пляс и плясали кто как мог, обнимаясь, выкидывая самые головокружительные коленца…
Теперь уже удивился Мунги Ахмед:
— Что тут у вас происходит?
— А то, дорогой ты наш вестник, — ответил поэту Хасбулат, сын Алибулата из рода Темирбулата, — что мы уже убрали его.
— Кого?
— Нашего старшину.
— Вот это русская школа! — воскликнул поэт, подбрасывая свою потрепанную папаху. — Впрочем, мужчина и в дырявой шапке остается мужчиной, а где вы видели богатого поэта?
Но самое странное, что по поводу смерти старшины Омар-Ата даже следствия не было. Наместник Кавказа лишь приложил к рапорту о смерти резолюцию белого царя, слегка отредактированную в пути поэтом Мунги Ахмедом.
Вот эту историю я и поведал почтенным чарахцам.
7
Я, конечно, больше хотел бы усладить свое проголодавшееся нутро хорошим хинкалом или пирогами с крапивой, но пока что никто на гудекане и не собирался приглашать меня в гости, никто даже не спросил, устал ли я с дороги. Дядя на моем месте давно бы воскликнул: «А хорошая вещь хинкал!» — и этим тонко напомнил бы, что ему хочется поесть, да и поспать не мешало бы с дороги. Но я не решался намекать на ужин, и пока что мне предстояло послушать веселую песню.
— Какую же песню мне спеть? — спросил владелец кумуза, чарахский певец Абу-Муслим, настраивая свой инструмент. — Давайте я спою ту, которую еще никто не слышал на гудекане. Называется она «Свекровь и невестка».
— Хорошо, давай, — сказал Шах-Алим и перестал перебирать четки.
По наступившей тишине я понял, что чарахцы любят и чтят своего певца, не то что губденцы, которые даже в наши дни пение считают позором и не выдают своих дочерей за певцов, за такого даже, как прославленный Али-Султан.
Тихо, будто издалека, зазвучали струны кумуза, все затаили дыхание, певец вскинул голову и запел высоким, почти женским голосом, вызвав улыбки на лицах:
…— Расскажи-ка мне, жена Моего сыночка, Провела ли ты одна Нынешнюю ночку? Что-то вроде на заре Дверь твоя скрипела… — Что вы! Это на дворе Вьюга песни пела. — С кем же говорила ты? Был твой голос слышен! — То мяукали коты На соседней крыше. — Ни покрышки и ни дна! Но бывало ль в мире, Чтоб жена была одна, А ноги — четыре?! — Раздвоилося в глазах У тебя с похмелья! Ведь не сплю я в башмачках — Ставлю у постели! — Но свидетель — лунный свет, Я клянусь аллахом: На подушке было две Головы лохматых! — Совесть у меня чиста: Рядом с головою Оказалася чухта[3] — И не что иное. — Вахарай![4] Да не греши, Лживая порода! У чухты усов в аршин Не бывало сроду!Мгновение все молчали, а потом словно загрохотал гром — это хохотали горцы, ударяя в ладоши, тряся головами так, что подпрыгивали длинные усы. Долго благодарили они певца, а потом хором повторили последний куплет:
Вахарай! Да не греши, Лживая порода! У чухты усов в аршин Не бывало сроду!Даже луна, казалось, смеялась в небе, тем более что свекровь и ее призывала в свидетели.
Мне самому очень понравилась эта песня, быстрая и задорная. Помню, я как-то написал одно стихотворение и послал в газету. Вскоре пришел ответ следующего содержания: «Ваши стихи опубликовать не можем ввиду того, что в них нет того, чего бы мы хотели». А что они хотели, это не было указано, только была приписка: «Стихотворение должно иметь начало и особенно конец». Да, только теперь, прослушав эту песню, я понял, что стихотворение действительно должно иметь конец. Жаль, что не было здесь моего дяди Даян-Дулдурума. За такую песню он снова отдал бы своего коня с седлом и хурджинами. Но я, когда встречусь с ним, постараюсь воспроизвести, что запомнил, — пусть хоть мне подарит, что сможет, я ведь ему все-таки не чужой…
Но песня песней, а я всерьез забеспокоился: кто же из почтенных чарахцев пригласит меня к себе? Обычно такой вопрос решает на гудекане старейший, и я надеялся на Шах-Алима, но его вдруг позвали домой, так как их ослица в столь неподходящий час собралась рожать. В это же время к моему соседу с жирными усами и сытой отрыжкой подбежала внучка и закричала во всеуслышание: «Деда, деда, скорей! Кошка утащила курдюк, которым ты после хинкала усы мажешь!» Старик вскочил как ошпаренный, за ним покатился громовой хохот. Так вот оно что! Мы-то удивлялись, откуда у него каждый вечер жирное мясо для хинкала! А он лишь усы мазал! Бедняга, что будет делать без курдюка?
Теперь и я вовсе не мог сказать, как поступят со мной чарахцы. Был поздний час, гудекан постепенно пустел, все расходились по домам, где их ждал добрый ужин. Разговоры о завтрашнем дне, о работе в колхозных садах и на полях постепенно замирали, а я все не решался напомнить хозяевам, что сижу здесь в ожидании приюта. Те, кто помоложе, наверное, уходили с гудекана с мыслью: «Если я предложу этому молодому человеку быть моим кунаком, то старшие обидятся». А те, кто постарше, расходились по домам, думая: «О чем я буду говорить с этим юнцом, если приглашу его, — ведь у него еще молоко на губах не обсохло. Молодой — пусть идет к молодым». Наконец, кроме меня, на гудекане остались всего двое горцев — Хасан и Хусейн. Они мялись на месте, лениво переговаривались о погоде, поглядывая то на небо, то на меня, успели поделиться мыслями и о прополке, и о работе на водоотводном канале. Но вот терпение Хасана лопнуло. Он обратился ко мне:
— Ну, что же, молодой человек, пошли, будешь моим кунаком!
— Как тебе не стыдно! — возмутился Хусейн. — Здесь же есть и постарше тебя.
— Кто это?
— Я. Он будет моим кунаком.
— Ты старше меня? — удивился Хасан.
— Конечно. А ты как думал?
— Как же это, если моя бабушка рассказывала, что я родился в тот день, когда твой отец играл свадьбу с твоей матерью?
— И ты веришь своей бабушке? А послушай, что говорил о моем рождении мой почтенный дедушка. Он сказал, что я родился в тот день, когда погиб на гражданской твой отец, так и не успев жениться на твоей матери.
— Ты что же, хочешь сказать, что я незаконный сын моих родителей? Ну и негодяй же ты после этого! — не выдержал Хасан.
— Ты назвал меня негодяем?
— Да, ибо только негодяй может так нагло врать.
— Так я к тому же и врун еще? Ну, этого я тебе не прощу, собачий ты сын!
— Ну, ну, держи руки в карманах, иначе, я клянусь, узнаешь силу моего кулака! Ты что, не слышал, что я кулаками гвозди забиваю?
— Да я тебя зубами изгрызу!
Оба они распетушились и готовы были растерзать друг друга. Я глядел и не мог понять, шутят они или всерьез хотят поскандалить здесь из-за меня, тогда как решить дело можно было очень просто: бросить жребий. Мне-то все равно, к кому идти, лишь бы был хороший ужин и место, где можно выспаться. А теперь они, пожалуй, передерутся, и я наверняка останусь один на гудекане.
Почтенные чарахцы уже схватили друг друга за пояс. Хорошо, что я вовремя вмешался и разнял их, а то неизвестно, чем бы дело кончилось, может, из-за этого случая ненависть на долгие годы развела бы эти два рода, как у нас в ауле мой род и род Мунги. И я был бы в этом виноват.
— Я не успокоюсь, пока не докажу тебе, что я старше! — кричал один.
— И я не успокоюсь! — вопил другой.
— Пошли к старейшине аула, убедишься, что моя бабушка была права! — предложил Хасан.
— Идем, и если мой дедушка лгал, то шея — моя, а кинжал — твой.
8
И, позабыв, что спор-то, собственно, возник из-за меня, они ушли, а я остался на гудекане один и до сих пор не знаю, чем все это закончилось; наверное, хитрый старец рассудил, что Хасан и Хусейн родились в одни день, в один час и в одну и ту же секунду. Так или иначе, но за мной никто не явился.
Я стал думать, как бы поступил на моем месте дядя Даян-Дулдурум. Он бы пошел и постучался в первую же саклю. Почему же и мне не последовать его примеру? Но едва я вышел из-под навеса, как заметил в окне ковровой мастерской девушку, все еще усердно работающую у станка.
Я подошел поближе. Она пела песню и была похожа в эту минуту не на ковровщицу, а на арфистку, перебирающую сладкозвучные струны. На верхней перекладине станка, над самой головой мастерицы, висели клубки разноцветной пряжи, и нити от них, сбегавшие к пальцам, казалось, сами втягивались в уто ́ к, чтобы ковер расцвел еще краше.
В жизни я не видел труда, так чудесно похожего на музыку! Девушка и станок словно бы пели одну песню и сливались воедино, как всадник с конем. Одной рукой мастерица вяжет узел, другой ловко обрезает пряжу. Закончив один ряд узлов, она берет отполированный рог джейрана и уплотняет узлы. Потом, взяв обеими руками зубчатый «раг» — приспособление для осадки узлов, — она стучит по всему ряду, ровняя ворс. И ряд за рядом появляется на ковре рисунок. Тут-то мне пришла в голову мысль: а что, если я в подарок невесте выберу ковер?
Глядя на молодую ковровщицу, я вспоминал свою Серминаз и думал, что ей обязательно понравится ковер, конечно, не простой какой-нибудь, а знаменитый ковер «карчар», что значит «рога джейрана». Именно такой и ткала сейчас чарахская мастерица. Вперемежку с многоцветными медальонами на нем раздваивались рога с загнутыми концами: грациозного джейрана воспевают не только поэты, но и ковровщицы!
Но вот девушка завершила работу над очередным медальоном и потушила свет. Я снова уселся на камни гудекана, все еще не теряя надежды, что кто-нибудь — Хасан или Хусейн — вспомнит обо мне.
Когда девушка проходила мимо гудекана, я кашлянул. Она обернулась и, приняв меня за одного из аульчан, поклонилась, прикрыв лицо краем платка.
— Добрый вечер, — сказала она.
— Вечер прошел, уже ночь, — заметил я.
— Тогда что же ты здесь делаешь? Я по голосу слышу, что ты не чарахец.
— Жду, пока два твоих земляка разберут, кто старше, кто моложе… — И я начал рассказывать о том, что случилось на гудекане. Боюсь, что рассказ мой был излишне обстоятелен, но уж очень мне не хотелось, чтобы девушка ушла и я вновь остался один.
Когда я наконец добрался до конца истории, девушка, помешкав, молвила:
— Ладно, иди за мной, только поодаль, и делай вид, что идешь по своим делам.
— Значит, рядом с тобой нельзя?
— Ни в коем случае, — ответила она.
Что же, раз нельзя, пойду следом. Видно, у них в ауле такой обычай. И, как истинный любитель приключений, я пошел следом за мастерицей с видом человека, не имеющего к ней никакого отношения.
Мы миновали два-три переулка, обсаженных пирамидальными тополями, отбрасывавшими длинные тени. Но вот девушка остановилась и подождала меня.
— Видишь вон ту саклю с железной крышей и железными воротами?
— Вижу, ну и что?
— Вот, там я живу. Я пойду сейчас, а ты постучись минут через десять.
— И что будет?
— Сам узнаешь, — ответила красавица и направилась к железным воротам.
Во мне вспыхнуло жгучее любопытство. К чему бы это странное приглашение, этот таинственный шепот? Неужели девушка одна в сакле и приглашает к себе незнакомца? Да, воистину нравы людей непостижимы, как строение вселенной! Меня охватил непонятный трепет при мысли об этой девушке в аккуратном ярком платьице, с короткими локонами, спадающими на лоб, и я даже поблагодарил в душе Хусейна и Хасана за то, что, поспорив, они бросили меня одного на гудекане.
Но вдруг подкралась мысль: а не затеяла ли эта девушка шутку вроде той, что сыграли со мной коварные ицаринки?
Я так разволновался, не зная, идти к ней или нет, что даже голова закружилась. И наконец решился. Риск — благородное дело. Не знаю, дядя ли мой сказал это первым, но он повторял эти слова достаточно часто. Если не рисковать, учил он меня, на земле не появится ничего нового. Правда, дело может обернуться плохо, но ведь и без жертв ничего не бывает. Так что я решил постучать в ворота.
9
Итак, я постучался в ворота железным кольцом, просунутым в пасть какого-то зверя. Долго не было ответа, но, наконец, я различил легкие шаги.
Еще час назад я думал, что все мое серебро и все умение придется истратить здесь, чтобы смастерить украшения и обменять их на ковер «карчар». Но теперь я ловил себя на мысли, что, может быть, понравился чарахской мастерице и она просто подарит мне ковер?
Щелкнул замок, и ворота отворились.
Надеюсь, читатели, что я успел хоть сколько-нибудь расположить вас к себе и вам тоже хотелось бы, чтобы передо мной предстала таинственная красавица. Но, увы, наши мечты часто мечтами и остаются! Передо мной стоял грозного вида мужчина с глубоко посаженными, подслеповатыми глазами на лице, украшенном крючковатым носом. Мгновение я даже думал, что это девушка так смешно загримировалась, но носач сердито спросил, вглядываясь в темноту:
— Кто это бродит здесь так поздно? Ходят всякие, беспокоят людей по пустякам. Отвечай, кто ты?
— Человек! — Я не нашел более исчерпывающего ответа, до того был смущен его появлением.
— Да уж вижу, что не козел ворота бодает. Что, и тебе приспичило узнать, когда тебя мать на свет родила?
— Нет, — смутился я, догадываясь, что девушка привела меня в тот дом, куда отправились разрешать свой спор Хасан и Хусейн.
— Тогда зачем тебе секретарь сельсовета?
— Я хочу предоставить тебе возможность пригласить в саклю гостя, — отвечал я как можно витиеватее.
— Спасибо за великую честь! — не без иронии отвечал старик. — Ну заходи, раз уж ты решил предоставить мне такую возможность. Но знай, что я люблю во всем порядок, и гостю положено являться вовремя.
— Такого объявления я не видал еще ни в одном ауле.
— Ничего, мы у себя скоро вывесим.
Другой на моем месте повернулся бы и ушел, не говоря ни слова, но я остался, потому что знал: ради достойного подарка я должен жертвовать многим, уступать в том, в чем никогда бы не уступил. А кроме того, меня одолевало и любопытство — я должен был еще раз взглянуть на девушку, которая так таинственно привела меня к этим воротам. Это если уж не говорить о том, что мне не хотелось возвращаться на гудекан, чтобы провести там ночь, разглядывая звезды и их несчастливое для меня расположение.
Шурша домашними шлепанцами, мой хозяин повел меня в гостиную, украшенную великолепными коврами. Он достал раскладушку, показал на постель в нише и удалился, пожелав мне спокойной ночи. Об ужине он и словом не обмолвился, так что пожелание это было чистой формальностью — какой уж сон на голодный желудок! Или мой хозяин придерживался совета врачей, считающих, что на ночь есть вредно? Не знаю, но я не мог с этим согласиться и долго еще ворочался на раскладушке, вспоминая все яства, которые мне пришлось и не пришлось вкусить.
Не помню, заснул ли я в ту ночь, но когда на рассвете мой чуткий нос уловил запах шашлыка с луком, я вскочил, оделся, убрал постель и вышел на террасу. Здесь меня ждал блестящий медный таз и кувшин с водой. Я стал шумно умываться, чтобы привлечь внимание хозяев, завтракавших в соседней комнате.
— Ну вот и наш гость проснулся, — сказал хозяин, появляясь на пороге. — Надеюсь, хорошо спал?
— Очень хорошо… — ответил я.
— Ну идем, позавтракаешь с нами, — пригласил он и в этот миг показался мне человеком редкой доброты.
Я вошел в комнату. За столом сидела девушка, которая привела меня в эту саклю.
— Внучка, поухаживай-ка за нашим гостем. Сначала познакомься.
— Бахадур, — сказал я, протягивая ей руку.
— Зульфи, — ответила она, потупившись, и слабо пожала мою ладонь.
На столе стояла сковородка с добрыми кусками мяса, поджаренного с луком. За завтраком мы разговорились, и я объяснил хозяевам, зачем появился в ауле Чарах. Но стоило мне упомянуть, что я племянник Даян-Дулдурума, как мой хозяин подскочил на месте. — Даян-Дулдурум — твой дядя?
— Да.
— Так почему же ты еще вчера ночью мне об этом не сказал?
— А что бы от этого изменилось?
— Все! Все бы изменилось! Я просто ворота захлопнул бы перед твоим носом!
— Чем же это мой дядя вам не угодил?
— И он еще спрашивает!
— Конечно, спрашиваю. Моего дядю все уважают.
— Уважают! Да попадись он мне… — Хозяин бросил вилку, вышел в смежную комнату и возвратился, таща за собой — что бы вы думали? — еще не высохшую, пахнущую сыромятиной шкуру нашей несчастной коровы. Бросив эту шкуру передо мной и состроив ехидную усмешку, он спросил:
— Что это такое, как ты думаешь?
— Это? — Я был удивлен не столько его странным вопросом, сколько тем, что шкура нашей бывшей коровы попала в саклю секретаря Чарахского сельсовета. Как это сумел мой почтенный дядя Даян-Дулдурум опередить меня? Не на шкуре же прилетел как на ковре-самолете!
— Да, вот это? Что это?
— Шкура.
— Но чья шкура?
— А как она сюда попала?
— Но об этом речь… Ты скажи-ка, похожа она чем-нибудь на медвежью шкуру, а?
— На медвежью? Может, тем, что у нее нет хвоста?
— Вот именно!
— Неужели Даян-Дулдурум побывал здесь?
— А ты как будто не знаешь!
— Откуда мне знать? А где он теперь?
— Это он один ведает! И что за напасть такая! Сначала Даян-Дулдурум, потом его племянник! Может, и ты хочешь, как твой дядя, обвести меня вокруг пальца? Где мой единственный ковер «забраб»?
— Но я-то тут при чем?
— Говори, говори! Знаю я вас! На яблоне инжир не растет…
— Что же мне делать? Где дядя?
— Убирайся на все четыре стороны! — сказал секретарь сельсовета, направляясь к двери. — Поторопись-ка, внучка, на работу.
— Хорошо, деда, — кротко отвечала Зульфи. Выждав, когда дедушка ушел со двора, она обратилась ко мне:
— Ты не сердись на него, такой уж характер. Поэтому я и была осторожной. Если бы дед догадался, что это я тебя привела, он не только перед тобой, но и передо мной закрыл бы ворота. Вообще-то он добрый, но иногда на него находит…
— Понятно, понятно… — прервал я ее оправдания.
Запив еду родниковой водой, я начал разговор о том, как бы мне приобрести здесь ковер для подарка. В ответ Зульфи повела меня в комнату, больше похожую на музей: ковры здесь висели на стенах, лежали на полу в несколько слоев, так что глаза разбегались. А на коврах будто рассыпалось множество радуг. Девушка выбрала великолепный «карчар» и спросила:
— Вот такой тебя бы устроил?
— Да, да! — торопливо воскликнул я. — Это не ковер, а мечта! Неужели это ты сама соткала?
— Конечно! А ты, наверное, ищешь подарок для невесты? — В голосе ее мне послышалось нечто такое, что я предпочел солгать:
— Нет, это мой брат женится.
— Так почему же он не отправился за подарком сам, а послал тебя?
— Он не разбирается в таких тонкостях.
— Почему?
— Потому что он слепой, — ответил я, желая прекратить этот неприятный разговор.
— Тогда зачем ему ковер? Ведь невеста у него тоже, наверное, слепая?
— Почему ты так думаешь?
— Как же она не разглядела, что за слепого замуж идет?
Я кое-как снова вернулся к разговору о ковре. Стоил он дорого. Одно из двух: или Зульфи разгадала мою уловку и решила подшутить, или я недооценивал его качества.
Чтобы заполучить этот ковер, я решил смастерить для Зульфи гарнитур дамских украшений из серебра с чернью. Она согласилась и предоставила в мое распоряжение невысокий столик у окна на веранде. Я достал свои инструменты и взялся за дело. Возвращения деда я не опасался: по строгим горским законам гостеприимства я уже был его кунаком, и, значит, он не посмеет выгнать меня из дому.
Рассказывают, что столетие назад привели к уцмию кайтагскому пленных и владыка приговорил их к казни. Тогда один из них обратился к нему: «Ты повелитель, а мы твои пленники. Но мы проголодались с дороги и надеемся, что ты разрешишь накормить нас перед казнью». Уцмий приказал дать им обед в своем дворце. И сам сел с ними за стол. После обеда один из них обратился к уцмию: «Повелитель, мы были твоими пленными, но ты накормил нас, и теперь мы гости твои. Так что поступай с нами, как и должно поступать хозяевам с кунаками». И за находчивость уцмий кайтагский отпустил их. Вот как берегут горцы законы гостеприимства! И вот на что я рассчитывал.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ УЗНАЮ ТЕБЯ, КРАЙ МОЙ СУРОВЫЙ
1
Покидая Чарах, я прощальным взором окинул со скалистой вершины весь аул, чувствуя себя наверху блаженства и душевного покоя. Еще бы! В моих весьма потяжелевших хурджинах скрывался достойный подарок для невесты — великолепный ковер «карчар», сотканный руками красавицы Зульфи.
Я владел ковром, в который внучка секретаря сельсовета вложила все свое умение. И я был вдвойне доволен потому, что на этот раз мне помогло не столько мое мастерство, сколько ловко подвешенный язык, ибо Зульфи была одной из тех чарахских девушек, которые славятся своей неуступчивостью, а я все же сумел убедить ее отдать мне ковер взамен на не ахти какой богатый гарнитур из черненого серебра: всего лишь один кулон, два браслета, серьги да кольцо, сделанные наспех, в чужой сакле. Не зря, видно, дядя учил меня при разговоре с женщиной, будь она хоть уродливой, отыскивать прежде всего прекрасное — этим не только облагораживаешь ее, но и сам возвышаешься в ее глазах.
Когда я надевал на Зульфи кулон, примеряя длину цепочки, то не преминул похвалить ее стройную шею, черпая сравнения из неиссякаемых хурджинов поэзии Страны гор, припомнив всех певцов — от Чанка и Эльдарилава, от Мунги Ахмеда и Батырая и до Сулеймана из Дибгаши. А когда осторожно вдевал в ее уши сережки, не мог не сказать, что готов бы всю жизнь смотреть на солнце через эти ушки, ибо они пропускают лучи, будто прозрачные. Я имел в запасе еще много чудесных слов о ее руках, но надеть кольцо и браслеты она не дала, возможно, мои слова чересчур взволновали ее.
Впрочем, и сказанного оказалось достаточно. Зульфи растаяла как воск над огнем и уступила ковер. В глубине души я чувствовал какую-то неловкость, ибо шел по стопам своего дяди Даян-Дулдурума: тот обвел вокруг пальца секретаря сельсовета, всучив ему вместо шкуры медведя шкуру коровы, а я пытаюсь проделать то же самое с его внучкой… Но что поделаешь — подарок-то нужен!
Еще никогда в жизни я не одерживал подобной победы и потому не мог не гордиться собой. Ведь сейчас не те времена. В прошлом, например, расстояние измеряли ружейным выстрелом, сукно — аршином, зерно — меркой. И расстояние зависело от того, как ты зарядил ружье, а что касается аршина и мерки, то в горах на каждом базаре бывал свой аршин и своя мерка для зерна.
А теперь? Теперь все учатся! Возьмем хоть мой аул. Из этого аула вышли два доктора наук, двенадцать кандидатов филологических, химических, медицинских наук, семнадцать геологов с высшим образованием, тринадцать врачей и один агроном — это мой друг, он окончил сельхозинститут и сейчас применяет свои знания, правда, в городской мастерской по ремонту ювелирных изделий. А сколько вышло из нашего аула учителей — этого не пересчитать и на пальцах четырех человек! Попробуй-ка объегорить такого! А Зульфи ведь в прошлом году десятилетку окончила.
И все же мне удалось уломать ее!
Взяв у меня хурджин, Зульфи прошла в другую комнату, сама связала ковер, тщательно завернула в тряпку, упрятала, а другой хурджин в придачу набила едой, видно, для того, чтобы я вспоминал и благодарил ее на привалах.
Удаляясь от аула Чарах, я испытывал настоящее умиротворение. Высокие тополя как столбы подпирали бирюзовое небо, фруктовые деревья в известковых белых чулочках вереницей сбегали с гор. Над долиной возвышалось знаменитое дерево «восточный платан» — ему, говорят, не менее четырехсот лет. В дупле этого великана раньше помещалось сорок пеших или тринадцать всадников, доброе, наверное, было пристанище для головорезов. Нынче колхоз превратил это дупло в своеобразный музей: здесь сохраняются разбитая арба, соха и даже женский головной убор чухта — все, что ушло в прошлое.
Вот я оборачиваюсь и с высоты различаю точеные фигурки девушек у ковровой фабрики. А вот яркое платье Зульфи. Она что-то рассказывает своим подругам, все они смеются и машут мне на прощанье платками. Слава вам, милые девушки, очень скучно было бы жить без вас на свете в двадцать лет! Я не прощаюсь с вами, я твердо знаю, что в медовый месяц побываю у вас со своей Серминаз, которую завоюю искусством вашей подруги Зульфи. Я машу им своей тбилисской кепкой — ее очень удобно держать за козырек — и отправляюсь дальше.
2
Тропа вела меня мимо пригорка, где на солнцепеке играл на тростниковой свирели уже немолодой пастух. Вокруг на отросшей после первой косьбы отаве паслось колхозное стадо. Играл пастух неважно, видимо, он только осваивал нехитрую науку игры на свирели, словно человек, который сорок лет протирал штаны в конторе, а выйдя на пенсию, решил в любовных стихах вспоминать свою юность.
Я приветствовал пастуха обычным в таких случаях словом: «Пасешься?» Но он не ответил, только таращил на меня глаза и все дудел, надувая щеки пузырями. Я все-таки спросил его, не видел ли он одинокого путника по имени Даян-Дулдурум, а если видел, то по какой дороге тот пошел. Не отрывая от губ дудки, пастух показал рукой на одну из тропинок: мол, шагай туда.
Уже порядочно удалившись от пастуха, я вдруг услышал его крик — пастух размахивал своей кривой, сучковатой палкой и звал меня обратно. Когда я вернулся, он хохотал и катался по лугу, как ягненок.
— В чем дело? — спросил я озадаченно.
— Как — в чем? Вот чудак человек, там, куда ты направился, — скалы и пропасть, в которую дохлых ишаков сбрасывают.
— Но ты же сам показал мне в ту сторону!
— Да, показал.
— Зачем?
— А я хотел узнать, поверишь ли ты мне.
— Ну и что же, узнал? — спросил я, не скрывая своего гнева.
— Да, и когда я убедился, что ты мне веришь, я вернул тебя, чтобы сказать: не видал я твоего Даян-Дулдурума и не знаю, по какой дороге он пошел.
Ну и разозлился же я на этого человека! Своей дурацкой шуткой он испортил мне настроение. Так бы и стукнул его! Бывают же такие люди на свете! Сам обидит человека и сам же смеется.
— А ты что, не мог прямо сказать?
— Мог, да не хотел, потому что ты меня оскорбил.
— Я?! Тебя?
— Да! Ты! Меня! — со злостью ответил пастух. — Я для тебя играл на дудке, а ты даже не соизволил похвалить мои старания.
— Ну, если скрип немазаной арбы считать игрой на дудке! — возмутился я. — Ты же играть не умеешь, стоит тебе дунуть в дудку, как коровы шарахаются.
— Вот как? Ну хорошо же, я тебе отомщу.
— Что, драться будем? — Я сбросил с плеча хурджины.
— Нет, зачем одежду рвать? Я знаю одну вещь, но тебе не скажу.
— Какую вещь? — насторожился я.
Не знаю почему, но мне вдруг пришло в голову, что ему известно имя мерзавца, совратившего Серминаз, а теперь он узнал меня и решил пошантажировать.
— Что ты знаешь?
— Я теперь вспомнил, в какую сторону пошел Даян-Дулдурум, да не скажу, — И пастух, довольный собою, сел и снова взялся за дудку.
— Ну и не говори!
— И не скажу, ни за что не скажу, ищи его где хочешь! — улыбнулся пастух и, заткнув рот дудкой, надул щеки.
Попробуй пойми такого! Недаром говорится, что один человек сотни людей стоит, а другой не стоит и самого-то себя. Тоже нашел себе забаву — издеваться над путниками!
Есть и у нас в ауле такой тип. Мой ровесник, вместе учились, я его не называю, сам догадается. Если будете в Кубачах, обязательно встретите его на гудекане. С детских лет за ним закрепилось прозвище «Вайбарк», что значит «Зловещий», и закрепилось навсегда. Однажды дед его, уезжая в город по делам, попросил (а было тогда этому парню лет десять): «Скажи, внучек, мне что-нибудь доброе на дорогу, а я, как вернусь, тебе гостинцев привезу». На это внучек поморщился, будто что-то кислое проглотил, и говорит: «А откуда я знаю, вернешься ли ты вообще?» — «Ну и зловещий же ты, внучек!» — сказал дед и больше старался с ним не заговаривать.
Так и прилепилось к нему это прозвище. Суеверные люди обходили саклю, где он живет, и даже родные говорят с ним осторожно, чтобы он не брякнул что-нибудь злое и неприятное. А ему, знаете ли, нравится, когда люди шарахаются от него как от огня, он гордится, что его боятся. Даже доброе слово в его устах звучит как проклятие, а уж проклятия он какие-то свои особенные придумывает. Не скажет просто: «Да нагрянет на тебя беда!» — а эдак с вывертом: «Пусть судьба пошлет тебе великое счастье и тут же отнимет». Никогда не скажет: «Да рухнет твой дом!» — скажет: «Да вырастет крапива на месте твоего очага, чтоб соседи из нее пироги пекли!» Встретит он путника, — нет чтобы пожелать доброго пути, а всегда спросит: «Куда идешь?» А это у нас считается дурной приметой. Правда, не всякий путник простит такую дерзость, иной ответит: «Иду к чертям, могу и тебя прихватить!» А любимая еда у него была такая, что волей-неволей злым станешь: толченый чеснок, смешанный с медом и посыпанный черным перцем. Я раньше думал, что только один он такой зловещий, а вот, оказывается, подобных можно найти в любом ауле!
Я человек несуеверный, не верю ни в черта, ни в аллаха, но такой вот пастух хоть кого смутить может: не успел я выйти на шоссе, как погода испортилась, небо заволокли свинцовые тучи, гром загрохотал. В горах, говорят, он оттого грохочет, что аллах трамбует каменным катком плоскую крышу своей сакли, чтобы дождевая вода не попадала в жилье. А тут, в ущелье, клинок молнии — это, говорят, искры от катка аллаха, — и полил дождь; плохо, видать, старик утрамбовал крышу.
Укрыться было негде, и я побежал к блестящему шоссе, спускавшемуся зигзагами по склону, — там, впереди, у дороги стояло раскидистое дерево. Но не успел я под ним укрыться, как подул холодный ветер, и вся вода, которую дерево задержало на листьях, полилась на меня.
Отправляя меня в путешествие, Даян-Дулдурум строго наказал мне блюсти традиции и передвигаться только дедовскими способами: идти пешком, ехать верхом или на арбе, если подвезут. А машиной пользоваться нельзя: время, мол, и без того бежит быстро, и нечего ускорять жизнь механическим транспортом. И еще он сказал, что из машины не увидишь того, что разглядит пешеход. А сам нарушил запрет и, наверное, прилетел в Чарах на вертолете, иначе он не мог бы оказаться там раньше меня.
Так вот и бывает в жизни — другим советовать каждый горазд. Говорят, был у одного сапожника сын-поэт. Вот отец его и спрашивает: «Скажи, сынок, а сам ты следуешь всем советам, какие даешь в своих стихах другим?» А тот отвечает: «А ты, отец, разве носишь все башмаки, какие шьешь для других?»
В общем, если бы подле меня остановилась машина, какую хвалу я воздал бы мудрецам, которые ее изобрели!
Вышел я намокший из-под дерева, поднял ворот пиджака, закатал брюки до колен, снял башмаки и босиком зашлепал по шоссе, благодаря в душе тбилисцев, которые делают такие кепки. Надежно предохраняя лицо от холодных капель, стекающих с козырька тонкой струйкой, она не могла уберечь только мой нос, но тут уж не ее вина.
И вдруг я увидел совсем свежие отпечатки шин. Как это я не заметил, что мимо проехала машина! Но раз машина едет вниз по серпантину, то я могу опуститься напрямик и встретить ее внизу.
Итак, предвкушая удовольствие механизированного путешествия, я бросился напролом через кустарник. Колючки шиповника, боярышника и барбариса царапали меня так, будто хотели предостеречь от нарушения дядиного завета. Спустившись вниз, я с радостью заметил, что здесь следов еще нет — значит, я все-таки обогнал машину. Но ее все не было и не было. А по дороге, не замечая дождя, не замечая меня, словно от всего отрешенный, спускался человек. На нем были ушанка с завязанными на затылке клапанами, телогрейка и промокшие брюки из чесучи, а на ногах ботинки с толстыми подошвами. Не спеша прошел он мимо, и поступь его была тяжелой, будто на него давило большое горе.
Машины все не было. Придется мне, видимо, идти пешком, подумал я. Но чем идти одному, не лучше ли коротать дорогу с попутчиком, пусть даже с таким угрюмым, как этот? И я поспешил за ним.
— В добрый час! — приветствовал я незнакомца.
— Кому добрый, а кому нет, — обернулся он.
— Зачем ты так говоришь, добрый человек?
— Хе-хе, «добрый человек»! — передразнил он меня. — Ты же не знаешь, кто я такой.
— А кто же ты такой?
— Убийца!
— Хо-хо! — засмеялся я его шутке. — Этак и я могу сказать, что я тот самый черный волк, который детей из люлек крадет. Тоже мне, убийца!
— Да, я убийца! — сверкнул он на меня злым взглядом. — Не веришь — ступай своей дорогой.
Тут я понял, что он, кажется, не шутит. Я несколько раз оглядел его с головы до ног — я ведь ни разу в жизни не видел убийцу, человека, убившего другого не на войне, а в мирном ауле.
Ничего необыкновенного, впрочем, я в нем не заметил, кроме светлых глаз, полных отчаяния и горя. Нет, неужели действительно на моем пути встретился настоящий убийца?! Сам я даже несчастную курицу зарезать не могу, не говоря уже о баране или теленке.
Я даже задрожал, хотя, наверное, не от страха, а оттого, что промок до костей. Но человек этот притягивал меня, как змея притягивает лягушку, и я не мог отступить от него ни на шаг. Крайнее удивление и любопытство манили меня к этому парню, выглядевшему на пять-шесть лет старше меня.
— Ну что ты ко мне привязался? — спросил он, когда мы подошли к роднику у дороги.
Родник был накрыт серебристо-белым куполом, похожим на луковицу, — какой-то добрый человек поставил его в счастливый день на радость людям.
Спутник мой наклонился к желобу из коры орехового дерева и стал пить.
— Да я так… — пробормотал я.
— Как это «так»? Тебе что, идти некуда или тоже горе на дорогу выгнало? — обернулся он, утирая лицо тыльной стороной ладони.
— Нет, я, наоборот, с радостью в путь пустился. — И, желая задобрить его, я предложил укрыться под куполом и поесть со мной. Ведь радость у тебя на душе или горе, а без еды не обойтись.
— Скажи-ка! А я весь промок! — вдруг заметил этот человек. — Оказывается, дождь идет!
— Ну вот, зайдем под навес, переждем.
Он не отказался, видно, ему было все равно, идти куда или сидеть. Я достал узелок, в который красавица Зульфи положила мне съестное, и развязал его перед ним. Были там поджаренные бараньи мозги и несколько маленьких хлебцев.
Убийца молча сел на камень, взял хлебец, достал из внутреннего кармана телогрейки амузгинский нож с затвором — таким пользуются недобрые люди, — щелкнул, и выскочило лезвие. Он наложил этим ножом мозги на хлебец и стал есть. Я тоже закусывал с удовольствием, хотя в горячем виде мозги куда вкуснее.
Дождь все не переставал, но чувствовалось, что тучи выжимали из себя последние капли влаги и, облегченные, поднимались выше в небо, снова обретая снежно-белый цвет. Кое-где потолок туч прорвался, вниз скользнули лучи солнца, показалось высокое голубое небо. Стало светлее, громче доносился шум реки, протекавшей неподалеку меж огромных валунов и скал, среди которых росли одинокие деревья, будто изгнанные собратьями из густого дружного леса.
— Проясняется, — сказал я, чтобы только прервать молчание, и косо посмотрел на моего спутника. Казалось, после еды лицо его немного смягчилось — ведь, как известно, нравственные страдания усиливаются страданиями физическими, а заморит человек червячка — глядишь, и полегчало.
Осмелев, я снова обратился к нему:
— А все-таки мне не верится, чтоб такой парень, как ты, мог убить человека.
— Что там человека! Я троих убил. Понимаешь, троих, если не больше.
Опять наступило молчание, ибо я просто не находил, что сказать. Убить троих!.. Не очень-то это похоже на правду, хотя таким амузгинским ножом, как у него, никто никому еще добра не делал. Сами амузгинцы теперь не куют таких страшных клинков, они делают ножи для садовников, что куда полезнее. Но мой сотрапезник так привычно орудовал своим клинком, что, во-первых, это наводило на мрачные мысли, а во-вторых, бараньи мозги иссякали удивительно быстро.
— Тебе сколько лет? — спросил убийца. Видно, надоело ему испытывать мое терпение: он понимал, что я так же хочу услышать его историю, как он хочет ее рассказать.
— Двадцать, — сказал я.
— Двадцать… В эти годы я тоже был счастливым…
— А что же тебя сделало несчастным?
— Любовь, парень, проклятая любовь! — Сотрапезник мой помолчал, раздумывая, стоит ли рассказывать дальше. Но вот что-то щелкнуло в нем, как пружина в амузгинском ноже, и слова хлынули рекой, прорвавшей плотину: — Расскажу я тебе о своем горе, не хочу, чтоб кто-нибудь другой повторил мою ошибку и потом так страдал, как страдаю я.
Коротко перескажу, что он поведал. В горах говорят, что горе делает человека многословным. А спутник мой не был одарен талантом рассказчика, он перескакивал с одного на другое, повторялся, размахивал руками, хлопал меня по плечу, тыкал пальцем в грудь, мотал головой, сжимал кулаки, скрежетал зубами — в общем, впечатление производил устрашающее.
Был он из аула Цовкра, прославленного акробатами и канатоходцами, звали его Сугури. В двадцать лет влюбился Сугури в девушку по имени Чата, что значит «ласточка». Из слов его я понял, что она впрямь была легка как ласточка и очень красива. А лучшей танцовщицы не найти было во всей самодеятельности Страны гор. За талант или не за талант, но полюбил ее канатоходец Сугури, и полюбил так, как никто и никогда еще не любил на нашей с вами земле. Из любви к ней он отрекся и от друзей и от родных и вопреки им женился, вернее, как у нас говорят о тех, кто переходит в дом жены, вышел за Чату. Так они и жили с ее родителями, а те настолько в дочери души не чаяли, да и она в них, что Сугури даже ревновал. Но был у него и другой повод для ревности — ее танцы. Чата выступала в сельском клубе и изумляла своей грацией и пластичностью тела не только односельчан, но и приезжих. После успеха на конкурсе самодеятельности в городе Сугури решил перебраться с женой в другой аул — Кумух, надеясь, что там она бросит свои танцы. Но Кумух — культурный центр лакцев, и слава о прекрасной танцовщице мгновенно разлетелась по всем уголкам Страны гор.
Не выдержало сердце горского Отелло, лопнуло его терпение, пошли дома ссора за ссорой.
— Ты меня не любишь, — мрачно говорил Сугури.
— Нет, я люблю тебя, я тебя очень люблю.
— Но еще больше ты любишь танцы.
— А как же не любить мне свое искусство? Я приношу людям радость и радуюсь сама. Тебе ведь приятно, когда аплодируют твоему мастерству на канате?
— Я другое дело. Я муж, я горец, это моя работа. А ты только и мечтаешь об ансамбле «Лезгинка».
— Да, я мечтаю об этом…
— Вот я и говорю, что ты хочешь меня покинуть!
— Но мы вместе туда поступим!
— А я не хочу.
— Не хочешь — как хочешь. Но не сердись на меня, я люблю и тебя и танцы.
И пришло как-то в голову Сугури испытать, кого же больше любит Чата: его или танцы и ансамбль «Лезгинка»? Взял он свой конопляный канат, по которому ходил с балансиром на представлениях, привязал к потолочной балке посреди комнаты, сделал петлю, подставил табуретку — в общем, все приготовил, чтобы повеситься. Но расставаться с жизнью ему все же не хотелось, и он сделал второй узел для страховки.
Услышав шаги на лестнице, Сугури выбил табуретку и повис в петле. Вошла Чата. Невозможно описать, что было с нею при виде такой жестокой картины. Бедная женщина чуть не сошла с ума, она рыдала, рвала на себе волосы, проклинала себя и свои танцы…
Сугури продолжал свой рассказ со слезами на глазах, а у меня мороз по коже пробегал.
Она выбежала из комнаты в ту самую минуту, когда я уже поверил, что она любит меня больше всего на свете. Я готов был воскликнуть: «Чата, любимая моя, я жив, не мучься и не терзай себя, я жив!» Я хотел освободиться от каната и броситься за ней, но не тут-то было! Без опоры под ногами распустить узлы было не просто. А жена моя, я слышал, отчаянно рыдала на улице.
Хозяйка дома, где мы тогда жили, первой вбежала в комнату, где я висел. Избегая смотреть в мою сторону, она причитала: «Да откроются пред тобой пошире райские врата, бедный мученик! Из-за нас, женщин, все беды мужские! Я ведь так и знала, что все эти танцы добром не кончатся. Эх, Сугури, и угораздило же тебя в твои-то годы надожить на себя руки!» А сама направилась прямо к сундуку, где моя Чата хранила свое добро и платья для танцев, которые сама себе шила. «Пусть будет это милостыней для меня!» — сказала старуха и стала совать себе за пазуху и в шаровары то платья, то отрез, то украшения — в общем, все, что под руку попадало. Ну и слаба же она была на то, что плохо лежит! Недаром в ауле про нее говорили, что она из общей пекарни чужие чуреки крала, а однажды даже из мечети унесла коврик для намаза.
Но не мог же я позволить ей на моих глазах вытащить все добро Чаты! И я крикнул из петли: «А ну, клади все на место!»
Это были для меня роковые слова, а для нее тем более. Вскрикнув, она упала замертво, будто молнией сраженная. Позже врачи установили, что смерть наступила от разрыва сердца. Но разрыв разрывом, а убил-то я ее! Вернее, мои слова. И тут же меня исключили из комсомола, судили и приговорили к исправительно-трудовой колонии.
Два года работал я в каменном карьере, да так, что три пота с меня лилось. Вот так и стал я убийцей, — глубоко вздохнув, закончил он рассказ.
— Но ведь ты сказал, что убил троих, если не больше.
— Так и есть. Разве не равносильно убийству, что я потерял свою любимую жену? Я вот сейчас иду от ее родителей, они наотрез отказались вернуть мне мою Чату, да и она разговаривать со мной не захотела. Выходит, что как жену я убил и ее. Вот уже двое!
— А третий?
— А третий я. Можно ли считать меня живым, если ни друзьям, ни родным я не могу на глаза показаться? И теперь я думаю, что зря всерьез не повесился. Хотел вроде испытать, а сейчас, кажется, так бы и наложил на себя руки, — сказал он и, щелкнув затвором, спрятал свой амузгинский нож.
Вот так убийца! Недаром горцы говорят: не вешайся на виду — людей насмешишь. Я просто не знал, как отнестись к этому рассказу. Смешной случай, но сделал человека несчастным. Услышь эту историю мой дядя Даян-Дулдурум, он бы надорвал живот от смеха. Но я, глядя на этого удрученного человека, не мог даже улыбнуться. Если бывают в жизни смешные трагедии, то это она и есть.
— Куда же ты направляешься?
— Куда ноги приведут.
— Как это?
— Может, к виноградарям подамся, утопить свое горе в вине, может, к рыбакам — сейчас, говорят, путина начинается. Может, лодка моя перевернется в море и я пойду ко дну — плавать-то я не умею. Утону — тем лучше. Мне сейчас все равно — море или небо, мороз или жара… Я готов пойти на все, лишь бы смыть с себя позорное пятно убийцы. Я даже просил, чтоб меня вместо собаки в ракету посадили и в небо запустили, черт со мной!
— Ну и что?
— Ничего. Ответили: «Не представляется возможным». Коротко и ясно. А жизнь без жены для меня не жизнь.
— А ты, чем горевать, женись на другой.
— Эх, ты! Молодой еще, ничего в любви не понимаешь… Ты хоть раз в жизни влюблялся?
— Конечно, — обиделся я. — Много раз!
— Ну, это, друг, не любовь! — Мне даже стало как-то не по себе, что убийца назвал меня другом. — Это как бабочка с цветка на цветок порхает. А любовь — это стремление к одному-единственному в мире цветку. Нет, никогда в жизни я на другой не женюсь.
— Ну, а если твоя Чата не вернется?
— Все равно я только ее буду любить.
Дороги наши расходились — мне надо было на север, а он пошел на восток, к Каспию, все дальше и дальше от своего аула Цовкра. Попрощались мы, я пожелал ему удачи и направился прямиком в древний аул Губден.
3
Издавна по Стране гор идет слава о губденских красавицах. Многие певцы воспевали героя, которому посчастливилось встретить девушку из Губдена. Пятнадцатидневная луна сияет, как лицо этой горянки, а двухдневная луна тонка, как ее стан.
Даян-Дулдурум много рассказывал мне о Губдепе. По его словам, если и сохранился в Стране гор аул, где верующих больше, чем неверующих, то это Губден. А ведь раньше его жителей называли гяурами, потому что они в мечеть приходили со свечками, словно в церковь, и вместо суры Корана распевали песни слепого певца.
Говорят, свалились в один год на губденскую женщину три несчастья: муж умер, сдохла коза и мачайти сносились. И закричала она, обратив взор к небу:
— Эй ты! Здорового мужа убил, козу собакам отдал, мачайти стоптал! Слезай вниз, синезадый, я тебе покажу, как в мирские дела вмешиваться!
Вообще все горцы в прежние времена считались плохими мусульманами. Сказал же о нас как-то умный человек, что скорее горец откажется от ислама, чем от обычая предков, пусть даже это будет обычай без штанов ходить.
А в наше время губденцы, видно, решили наверстать упущенное по части общения с небом. Хотя мулла у них в ауле такой мошенник… Но с ним мы еще встретимся.
Основан был Губден на холмистых песчаных предгорьях еще во времена Тимура, к имени которого горцы прибавляли «ланг», что значит «хромой». В борьбе с этим жестоким пришельцем отличился некий горский вождь по имени Губден. Был он крив на один глаз, и потому битву, которая произошла у Тимура с Губденом недалеко от Шам-Шахара, горцы до сих пор называют битвой кривого с хромым. Когда кривой почувствовал, что хромой теснит его к горам, он остановился со своим малочисленным отрядом на том месте, где сейчас стоит аул Губден. Приказал разбить шатер и сказал воинам: «Назад ни шагу! Ждите меня здесь до первой звезды, а если я не вернусь к тому времени, то первыми убейте мою жену и дочь». Вскочил он на коня и был таков.
Примчавшись в стан хромого, он сразу предстал перед ним.
— Я, кривой, хочу задать тебе, хромому, один вопрос: если мать обидела тебя, неужели ты думаешь, что, завоевав весь мир, перестанешь хромать?
Призадумался хромой: никто еще не смел обращаться к нему со столь дерзким вопросом. А ведь действительно, хоть весь мир завоюй — хромоты не скроешь!
— А что же мне, по-твоему, делать, чтобы хоть скрыть хромоту?
— Ты видишь, что я кривой?
— Вижу.
— Но слышал ли ты об этом когда-нибудь от других?
— Нет, не приходилось.
— Так вот, если не хочешь выставлять напоказ свою хромоту, возвращайся домой, — сказал Губден. — Иначе, клянусь, не я, так другой кривой появится на свете, и мир, который ты сделал хромым, сделает кривым. Зачем же нам навязывать матушке земле наши уродства?
И могущественный повелитель внял голосу разума и отступил. А Губден вернулся к своему отряду, и говорят, что губденские красавицы пошли именно из его рода, ибо он очень хотел, чтобы мир был прекрасен.
Шел я по дороге к Губдену необъятными виноградинками, принадлежащими знаменитому Геджуху и совхозу имени Алиева. Сказочный зеленый ковер с ворсом выше человеческого роста укрыл долину Таркама.
Остановил меня по дороге геджухский виноградарь и попросил помочь ему сгрузить с машины опрыскиватели. Будешь, говорит, пить вино урожая этого года, вспомни день, когда помог моей бригаде защитить лозы от самого жестокого врага — мильдии.
Я вспомнил слова моего дяди Даян-Дулдурума о том, что сегодняшнее яйцо лучше завтрашней курицы, и, когда мы сгрузили механизмы, заметил будто в шутку:
— Лучше бы ты угостил меня вином прошлогоднего урожая!
Тот обрадовался, воскликнул:
— А почему бы и нет, парень? Это чудесная идея! Пока подъедет машина с моей бригадой, мы здесь погреемся.
И вытащил из машины четверть вина и кружку.
Пока мы пили с ним в тени виноградных лоз, вспомнил я историю о древнем египтянине, который впервые посадил это благословенное растение и стал за ним ухаживать. Ударила тогда страшная засуха, и, чтобы спасти свою единственную лозу, он не нашел иного выхода, как зарезать павлина и полить его кровью землю. Но это не помогло, лоза стала чахнуть. Тогда египтянин убил льва и оросил виноград его кровью. А затем пришлось ему пожертвовать ради винограда даже своей ручной обезьяной и после всего — свиньей. С тех пор и случается так, что выпьешь немного вина — расцветешь, как хвост павлина, добавишь еще — заговорит в тебе лев, опорожнишь новую кружку — и станешь напоминать своего отдаленного предка. А если напьешься сверх всякой меры — станешь свинья свиньей.
Мы с геджухцем остановились вовремя, еще, пожалуй, на павлиньей стадии. Мой новый приятель даже воскликнул: «Жаль, друг, что моя мать не была женой твоего отца, — были бы мы тогда с тобой родные братья!» Но так как бригада не появлялась, мы пробудили в себе немного льва и в эту приятную минуту легкости и веселья, которую я никому не советую переступать, расстались. Я поблагодарил геджухца за щедрость, пожав обеими руками его натруженную молодецкую руку, и двинулся дальше.
Благодатная здесь земля, богатая. Недаром говорят, что если бросить в нее отрубленный палец, вырастет человек. Наслышался некий сирагинец рассказов о здешнем плодородии и решил сам в этом удостовериться. И только стал он спускаться в долину Таркама, полил ливень вроде того, что застиг меня сегодня. На сирагинце была длинная баранья шуба, она вся намокла, и полы, отяжелев, поволоклись по земле. Воскликнул горец:
— Поистине пришел я в благодатное место! Здесь даже шубы вырастают! — И, недолго думая, обрезал кинжалом полы у выросшей шубы, думая сшить из них дома папаху. Но, воротившись домой, вдруг обнаружил, что шуба его, хорошо просохшая в дороге, стала ему чуть не по колени. И тогда сирагинец заключил: — А на нашей скудной земле усыхает даже и то, что выросло в долине Гаркана.
Дорога, по которой я иду, словно главная артерия Страны гор. В обе стороны течет непрерывный поток машин. С курортов Северного Кавказа мчатся в Закавказье комфортабельные автобусы — едут туристы посмотреть на древние стены города Железных ворот — Дербента, на знаменитую Джума-мечеть, где в тени ветвистых платанов некогда в задумчивости восседал автор «Графа Монте-Кристо». Грузовики со свистом разрезают прозрачный воздух, ни пылинки не поднимется после прошедшего дождя. Через дали дальние и сюда долетает свежий морской ветерок, так и хочется разбежаться, взмахнуть руками и полететь, как во сне. Мне часто снится ночами, что я стою на крыше нашей сакли, подпрыгиваю и вдруг взлетаю выше телефонных проводов, высоковольтной линии, туда, в синеву, где могут держаться только птицы. А люди внизу дивятся: «Ну и чудо! Наш Бахадур полетел! Какой герой!»
Правда, это мне только снится, что аульчане столь высокого мнения обо мне. На самом деле с малых лет моих они пророчили, что не выйдет из меня ничего путного, что рожден я лишь зря закрывать своей тенью благодатные лучи солнца и что я только в тягость земле. А какая от меня тягость? Я легок, как перышко, и если есть у меня хоть что-то тяжелое, так это подарок для моей Серминаз — знаменитый ковер «карчар», играющий красками двенадцати радуг.
Я снимаю пиджак — одежда уже просохла после дождя, — перекидываю хурджины на другое плечо и иду вдоль шоссе, благодаря в душе своих предков за чудесный обычай скитаться по свету в поисках подарка для невесты. Как это хорошо — побродить по земле, неся в сердце счастье, повидать людей да и себя показать: «Знайте, мол, люди добрые, что и я живу, вот такой парень Бахадур, и люблю я красавицу Серминаз, и ждет она меня в родном ауле».
Но ждет ли? А может, Серминаз и не думает обо мне?
Как-то раз, чтобы приворожить Серминаз, я даже готов был последовать совету нашей старухи Мицадай, велевшей мне отрезать кончик хвоста у живого снежного барса. Правда, дело это трудное и опасное, но ворожея ручалась, что зато все остальное будет совсем просто: стоит только дотронуться этим кончиком хвоста до переносицы девушки, как она в тот же миг полюбит тебя.
Ах, Серминаз, Серминаз! Если бы ты сейчас была со мной! Если бы мы поговорили с тобой откровенно и выяснили наши отношения — причем твое отношение не только ко мне, но и к сыну, которого ты невесть как и где приобрела.
Но зачем думать о сложном, когда так хороню вокруг? Жизнь вне дома веселее, словно, вырвавшись из горных ущелий, расправляешь могучие крылья. Не потому ли горцы дальних аулов все чаще изъявляют желание спуститься с вершин вниз, поближе к главным артериям жизни? Впрочем, нельзя, конечно, сказать, что в горах жить неинтересно. Просто люди почувствовали себя хозяевами земли и теперь сами выбирают свои пути.
Вот и я шагаю по-хозяйски по родной земле, и так мне хорошо идти, что я ничуть не завидую тем, кто мчится мимо, втиснутый в быструю машину. Вот обгоняет меня такси с зеленым глазком, шофер останавливается, гостеприимно распахивает дверь. Это парень моих лет, в белой сорочке и черных очках. Наверное, наскучило ехать одному.
Я подхожу, наклоняюсь, спрашиваю:
— Свободен?
— Свободен, — отвечает он бодрым голосом.
— Да здравствует свобода! — говорю я и захлопываю дверцу.
Он, конечно, приставил палец ко лбу, потом красноречиво постучал им по баранке. А я помахал ему рукой — мол, не обижайся, парень, если бы ты нес в руках подарок невесте, то у тебя, может, и того бы меньше в голове осталось.
Места эти известны своим ароматным чаем. На холмике стоит чайхана, крытая разноцветным шифером, — сияет, как округлый медальон на ковре. У дороги вывеска: «Что может быть в жаркую пору лучше стаканчика чая?» Да, таких знатоков приготовления чая, как здесь, не найти нигде. И все же выпить стаканчик холодного вина было бы не хуже, особенно такого вина, какое подают у нас в ауле в погребке Писаха. И как-то сами собой возникают у меня в голове первые строчки будущих стихов:
Кубачинскими бокалами в чеканке золотой Пил вино я из Геджуха — чистый сок земли родной.Придумывая остальные строки, я подходил к аулу Губден.
Губден — аул искусных сапожников, так же как Кубачи — аул златокузнецов, Чарах — ковровщиц, Унцукуль — деревообделочников, Анди — мастеров прославленных бурок, Балхар — мастеров керамики, а Катагни — мебельщиков.
Вокруг Губдена нет ни садов, ни гор, только странные холмы, похожие на древние курганы. Они не зеленые, а какие-то дымчатые, и кто знает, может, покоятся под ними предки забытого племени, а может, там погребен целый город, столица какого-то древнего государства. Нашли ведь недавно между Губденом и Уллубий-аулом похороненный город, названный историками Урцеки — по названию местности. Обнаружили его камнедобытчики, когда стали искать камень для строительства Изберга — молодого нефтяного города на берегу Каспия. И как же обрадовались они, найдя такой подземный клад! И потом гордо писали, что перевыполнили план процентов на семьсот с лишним, хотя камни эти добыли не они, а их отдаленные предки, вырубавшие глыбы для своего цветущего города, не уступавшего тогдашнему Дербенту.
4
Губден похож на древний город. Дома из тесаного желтоватого камня, плоские крыши, а фасады, выкрашенные в разные цвета, смотрят на восток.
Я подходил к аулу, когда меня догнал странник, проделавший, как видно, долгий путь. По одежде и длинной кривой палке-ярлыге я признал в нем чабана и вежливо осведомился: хорош ли приплод в его отаре?
Говорить с ним было трудно, так как он неимоверно заикался, и мне приходилось то и дело подсказывать нужное слово. Так что фактически говорил я, а он только кивал. Но все равно было интересно. Он не без труда сообщил мне, что четыре месяца не был дома: перегонял отару с Черных земель в горы да разведывал новые пастбища на альпийских лугах — и вот теперь с радостью идет на короткую побывку. Этот чабан оказался чудесным человеком, не то что чарахский пастух. Звали его Раджаб. Он дал мне понять, что обидится, если я откажусь стать его гостем (согласитесь, что уж это-то мне было неловко ему подсказывать!).
— Мы же старые кунаки! — сказал Раджаб.
— Но я тебя совсем но знаю!
— Ты можешь не помнить, молод еще. А я вот твердо знаю, что твой дядя у моего дяди на базаре петуха покупал.
Ну можно ли было после этого отказать ему? И я пошел вместе с ним к сакле, которая оказалась в самом начале аульной улицы.
По дороге чабан наговорил столько хороших слов о своей гостеприимной и хозяйственной жене, что, помогая ему рассказывать — в меру своих слабых сил, — я выяснил: жить у него буду как в райских садах аллаха.
Открыв двери дома, чабан торжественно объявил:
— Халима, выйди и приветствуй нас, я веду гостя!
Вначале была полная тишина, потом во всех углах просторного дома что-то загудело, заворковало, защебетало, и в большую комнату, куда мы вошли с хозяином, выскочило восемь девушек и девочек, от семнадцати лет и моложе, моложе, моложе — до двухлетней девчушки, которая тащила за собой куклу с себя ростом. Увидев меня, девушки смутились, но радость по поводу возвращения отца была столь велика, что они принялись хором кричать: «Папа! Папа!», а двухлетняя заревела. Чабан подхватил девчушку на руки, отчего ее слезы немедля высохли, и встревоженно спросил:
— А где же мама?
— Мама еще на прошлой педеле уехала к бабушке, а нам поручила вести хозяйство.
— Когда же она вернется?
— Обещала быть к следующей пятнице… Ей уже скоро в больницу.
Признаться, у меня ёкнуло сердце: до гостя ли в доме, покинутом хозяйкой, да еще больной? Но мой хозяин предложил мне раздеться и отдыхать, а сам приказал своим многочисленным дочерям готовить праздничный обед. Правда, разговаривал он с ними несколько странно.
— Чакар, — говорил он, отдавая очередное распоряжение, — то есть Паху! Нет, я хотел сказать — Мусли! Вернее, Зумруд!..
Обиженная девочка, потупив глаза, отвечала:
— Вовсе я, папа, не Чакар, не Паху, не Мусли, не Зумруд и даже не Муминат. Я Забида. Вечно ты путаешь, папа!
— А как вас всех упомнишь? Хоть на лбу пиши у каждой! — смущенно сказал отец.
— Ну ладно, ладно. А только курзе я тоже смогу приготовить! — И маленькая проказница, бросив на меня лукавый взгляд, убежала вслед за сестрами на кухню.
Душа моя успокоилась, а желудок развеселился.
И верно, через полчаса Забида подала нам на деревянном подносе курзе — горские пельмени с ладонь величиной. Мы уселись на подушках, скрестив под собой ноги. Ел я с превеликим удовольствием, потому что, отведав таких курзе, и праведник не спешил бы уйти в райские кущи. Начинка из мяса, приправленного ароматными травами, была так сочна, что сначала следовало, взяв курзе двумя пальцами за края, надкусить оболочку из пресного теста и высосать сок. Но больше всего меня удивило, что даже здесь сказалась любовь горцев к прекрасному: края курзе были скреплены тщательно выдавленным узором. И, наспех глянув на этот хитрый узор, я уничтожал курзе один за другим, запивая их домашним квасом. Говорят, если не запивать курзе квасом, а хинкалы — бульоном, то они в желудке превратятся в лягушек. А один приезжий даже сказал: «И как ваши желудки выдерживают такую тяжесть! Ведь это же яд!» Но собеседник, запивая очередной хинкал жирным бульоном, успокоил его: «На этот яд, кунак, у нас есть противоядие».
5
Может ли горец после доброго ужина остаться дома, лежать у очага, откинувшись на подушку, и считать на потолке закопченные балки? Нет, и еда не пойдет ему впрок, если он не пройдется по воздуху, чтоб поразмяться. А если уж вышел горец из дому, любая дорога приведет его на гудекан.
Сегодня, когда моему хозяину представился случай появиться на гудекане с кунаком, ему особенно не сиделось дома. Ведь не случайно среди проклятий, которые можно обрушить на голову врага, есть и такое: «Да минует твою саклю кунак!» — или: «Да не переступит твоего порога ни один путник!»
Мне льстило, что почтенный чабан так мною гордится, и я, конечно, не пытался его удерживать, хотя, признаюсь, очень был смущен, увидев, что мой хозяин прикрепил к своей груди медаль материнства. Второй степени, правда, но все-таки материнства! Впрочем, может, здесь это принято?
Губден — единственный аул, в котором жители собираются на досуге у стен мечети. В других аулах, там, где была мечеть, давно выросли клубы и дворцы культуры, а кое-где гудеканы сами, стихийно, переместились к этим красивым зданиям. Но губденцы держались патриархальных обычаев.
Представляя меня аульчанам, Раджаб наговорил такого, чего не сказал бы о себе ни один хвастун. Стараясь не краснеть, я, не поднимая глаз, пожимал протянутые мне руки. Вдруг кто-то сжал мою ладонь так, что хрустнули кости. Я взглянул на этого богатыря — и кто же это был? Мой добрый, уважаемый и почитаемый дядя Даян-Дулдурум! Ничем не выдавая нашего родства, он усадил меня рядом с собою, а Раджаб сел с другой стороны.
Но вот разговоры на гудекане разом прервались, будто кто разрубил воздух шашкой. Мимо проходил молодой, нарядно одетый человек, наверно студент, приехавший в гости к родственникам. Он небрежно курил длинную дорогую сигарету, держа ее двумя пальцами. Любо было глядеть на этого пария, я позавидовал ему в душе. А он медленно прошествовал мимо, даже глазом не поведя в нашу сторону.
— Ну и молодежь нынче пошла! — сердито пробормотал мой дядя.
Этот укор был в какой-то мере обращен и ко мне, мой дядя умеет гладить против шерсти. Но тут я увидел, что Даян-Дулдурум выразил общее недовольство. Всех задело такое пренебрежение к обычаям: ведь если даже никого нет на гудекане, горец, проходя мимо, поклонится хотя бы камням — молчаливым свидетелям бесед его предков. И мне, собиравшемуся только что похвалить сверстника — вот, мол, какая у нас молодежь! — стало неловко за парня.
— Из какой же скорлупы этот гусь вылупился? — спросил, нанизывая на нос очки, местный учитель, почтенный старик, уже сорок лет обучавший губденских детей. — Что-то не припомню, чтобы губденский род клал такие яйца!
— Да это же твой внук! — ответил Раджаб.
— Мой внук?
— Да, сын твоей дочери! И не притворяйся!
— Не может быть!
Учитель вскочил и пустился вдогонку за невежей. Все ждали, что старик задаст этому молокососу хорошую трепку — пусть шельмец отведает дедовых тумаков за то, что опозорил его перед аульчанами.
Но ничего подобного не случилось. Догнав внука, старик поклонился ему и серьезно сказал: «Муалейкум ассалам» — а затем с достоинством вернулся на свое место.
Неожиданный поступок учителя был встречен на гудекане громким одобрением, а для растерявшегося студента такое приветствие деда было хуже звонкой пощечины. Этот урок никакой трепкой не заменишь.
Мой дядя с уважением пожал руку старцу, а тот, обращаясь к молодежи, прочел мудрые слова древнего поэта Саади: «Хоть умирать и злым и добрым надо — верши добро, и в том твоя награда!»
Услышав это, многие воскликнули:
— Правильно сказано! Только мудрый человек мог так сказать.
— Конечно, мудрый, — согласился мой дядя Даян-Дулдурум. — Ведь это сказал мой друг!..
— Как — твой друг? — уставился на дядю старик в очках.
— Так, мой друг! Самый настоящий.
— Но ведь это же слова Саади.
— В том-то и дело.
— Так что ж ты говоришь, что это твой друг? Он ведь умер лет семьсот назад! — ехидно заметил учитель.
— Вах! — воскликнул дядя, ничуть не растерявшись. — Как быстро годы летят, а?
Да, мой дядя такой: пусти его через дыру в жернова, он все равно целехоньким выйдет. Если его и уличат в обмане, он всегда отделается добродушной шуткой, не то что губденский кадий Кара-Мирза, сидевший тут же. Я встречал его раньше на нашем базаре, о нем шла слава не только как о наглеце и насмешнике, но и как о человеке с недобрым глазом. Частенько его ловили на плутнях, но тогда он такого мог наговорить, что лучше бы с ним и не связываться.
Вот и сейчас многие, наверное, заметили медаль материнства на груди Раджаба, но из деликатности смолчали. А Кара-Мирза — нет, такой не упустит случая поиздеваться! Подойдя к Раджабу, он взвесил на своей тяжелой ладони блестящую медаль, позвенел ею и сказал:
— Пора бы уж первую степень получить, плохо стараешься.
— Попросил бы тебя помочь, да знает, верно, что это бесполезно, — не задумавшись и секунды, ответил за Раджаба мой дядя.
Чабан Раджаб нахмурил брови — разве мог он снести такую обиду! — и как бы в отместку, обращаясь словно бы только ко мне и дяде, поведал о том, как беспутный сын Кара-Мирзы подшутил над отцом. На одной из страниц Корана этот шалопай аккуратной арабской вязью приписал такие слова: «Да будет известно всем правоверным, что если во время молитвы поблизости закричит осел, то молитва эта считается оскверненной».
Кадий случайно наткнулся на эти слова и, не заподозрив подвоха, обомлел: как это он раньше не заметил такого важного примечания? И в следующую же пятницу призвал всех правоверных начать священную войну против врагов аллаха — ослов. Только когда по всему аулу шла погоня за этими невзыскательными и кроткими животными, сын во всеуслышание признался в своей проделке.
Кара-Мирза, оказавшийся в дураках, так разозлился, что в глазах у него потемнело.
— Как ты посмел надо мной надсмеяться? Как тебя земля не поглотила? Как тебе не стыдно? Тебя же аллах породил!.. — кричал он при всем народе, возводя руки к небу.
Но сын ответил ему удивленно:
— Аллах, говоришь, породил?.. А где же был ты?
Не раз уже слышали губденцы эту историю, но и сейчас не могли скрыть своего восторга и дружно засмеялись. Я тоже смеялся и глядел на сконфуженного служителя культа, гордясь своим кунаком, так ловко посадившим кадия в лужу.
Губден славится набожностью, но нигде вы не услышите столько забавных рассказов про веру, как здесь. Мой дядя давно уже говорил мне, что на самом деле губденцы — отчаянные богохульники и муллу-то они держат лишь для того, чтоб было над кем посмеяться.
— Раз мы решили сегодня пошвырять камни в огород нашего кадия, то пусть будет среди них и мой камешек, — взял слово сосед моего соседа справа — человек с пышными, партизанскими, как их называют в горах, усами. — Наверное, не многие из вас помнят его отца. Надо сказать, что этот раб аллаха — да продлятся его наслаждения в райском саду! — был прожорлив как волчица зимой. Не забыть мне последнего мига его жизни. Пригласили его на праздник, и он объелся там до заворота кишок. Положили мы муллу на палас и понесли домой. А когда проходили по верхнему кварталу, вышел сосед его Арслан и, завидев муллу, воскликнул:
— О дорогой, зачем ты минуешь мою саклю? Уважь, зайди поужинать!
— А что у тебя? — спросил мулла, с трудом приоткрыв правый глаз.
— Плов, да такой плов, что…
— А с чем он?
— С чечевицей и кишмишем.
— Тогда надо попробовать, — ответил мулла и попытался встать. Но тут не выдержало его сердце, и отдал он душу тому, чьим именем ухитрился всю жизнь прожить за чужой счет. Так что недаром говорят в народе, что мулла лук не ест, но коль попадется луковица — даже шелухи не оставит.
Кадий не знал, как и выкрутиться, и вместо слов у него вырвалось какое-то мычание, а смех вокруг взвился такой, будто в огонь плеснули бензина.
— Да, — вставил слово сосед моего соседа слева, — многие в этом мире старались вогнать побольше добра в утробу, но умирали, так и не съев всего, что было на столе.
— Меня все это совершенно не трогает, — сказал Кара-Мирза, хотя в голосе его чувствовалось явное раздражение. — Аллах покарает всякого, кто на него ропщет.
В это время на разгоряченном коне прискакал репортер Алхилав, тот самый, что встретился мне на окраине нашего аула. Наверное, он уже успел как следует рассмотреть мой родной аул, но до долины реки Рубас пока не добрался — иначе он не поспел бы сюда. Ведь репортеры такой народ: во все вмешиваются, все знают!
Лихо соскочив с коня, Алхилав привязал его к дверной ручке мечети и направился прямо к гудекану. Но не успел и рта раскрыть, как навстречу ему поднялся Кара-Мирза, возмущенный кощунственным обращением со святыней.
— Убери эту безмозглую тварь от священной двери! — заорал он, вымещая на приезжем весь накопившийся за день гнев.
— Я готов сделать это, почтенный, если ты докажешь, что у моей лошади меньше мозгов, чем у тех ослов, что сходятся к этой мечети бить головой о землю.
— Не греши, сын дьявола!
— Напрасно ругаешься, дорогой Кара-Мирза. Не ты мне нужен, а кубачинский мастер Даян-Дулдурум, которого я и нашел! — Тут он пожал руку дяде, увидел меня и воскликнул: — И ты здесь, искатель прекрасного? Тогда я рад приветствовать вас обоих!
Я слушал Алхилава и не узнавал его. При первой встрече я тащил из него каждое слово клещами, а теперь они сыпались как просо из дырявого мешка. Неужели это произошло с ним после того, как он увидел мой аул, его мастеров и их прекрасные произведения?
А он меж тем продолжал:
— О таком мастере, как ты, почтенный Даян-Дулдурум, должны знать все, и я обязательно напишу о тебе в одном из лучших журналов. Я даже припас несколько цветных фотографий твоих изделий.
— Да обо мне писали не раз! — солидно промолвил дядя, вытаскивая свою трубку и набивая ее.
— Почтенные губденцы простят мне мою дерзость, что я прервал их беседу, но у меня срочное дело…
Губденцы согласно заговорили, что не будут мешать Алхилаву, а Кара-Мирза, воспользовавшись тем, что всеобщее внимание теперь было приковано к репортеру и к моему дяде, тихонько скользнул меж сидящих и исчез.
Алхилав продолжал свою витиеватую речь, ничего не объясняя, а дядя все больше нервничал.
— Но скажи же, в чем дело, не будь похож на того лектора, который говорит часами, а когда дело доходит до главного, его время оказывается исчерпанным.
— Это я после встречи с твоим племянником стал таким разговорчивым. Он доказал мне, что язык дан человеку не только для еды. А дело такого рода: на твое имя поступило письмо в редакцию…
— Наверное, из Чиркея, от моего друга Сапар-Али? Давно от него не было вестей.
— Сапар-Али — да продлятся его годы! — я хорошо знаю, но и он знает, где тебя искать. А это письмо прислал иностранец.
— Ну, меня этим не удивишь. Кубачинцы часто получают письма от заграничных ценителей их искусства. Откуда же это письмо?
— Из Италии, от некоего Пьерро Сориацо.
— И что же он пишет?
Мне показалось, что у дяди даже голос изменился, да и плечи, казалось, стали шире.
— Итальянец этот пишет, что восхищен твоими работами, считает тебя подлинным преемником искусства Бенвенуто Челлини и мечтал бы иметь одно из твоих изделий в своей коллекции. Что скажешь ты?
— Скажу, что каждому приятно слышать такие слова о своей работе.
— А как насчет подарка?
— Смастерим что-нибудь…
— И он, конечно, в долгу не останется! — подбодрил дядю Алхилав. — Вот тебе его письмо и адрес. А мне пора!
Он вскочил на коня и умчался. А я подумал: вдруг дядя получит от этого итальянца такой дар, какого я сам никогда не отыщу? Как хорошо, если бы он передал его мне!..
Мысли мои перебил появившийся откуда-то снова Кара-Мирза. Он бесцеремонно отодвинул меня в сторону и сел между мной и Раджабом. Такое я не простил бы никому, будь дело в Кубачах, но я был в чужом ауле, где свои нравы и взаимоотношения. К тому же рядом со мной мой почтенный дядя, которого я не должен огорчать неучтивостью, особенно после тех восторгов, которыми осыпал его Алхилав в присутствии всех этих достойных людей.
6
Гнев и обида исчезли с лица Кара-Мирзы, теперь на нем расплывалась злорадная улыбка. Почувствовав, что все взоры обратились к нему, Кара-Мирза бесцеремонно взял чабана за левую руку, отвернул рукав бешмета и принялся внимательно разглядывать его часы.
— А что, это часы золотые, Раджаб? — наконец спросил он, не выпуская руки Раджаба.
— Да, — сказал недоумевающий чабан.
— Ты не врешь?
— Неужели ты думаешь, что если я простой чабан, то не могу купить золотые часы? — возмутился Раджаб. — Если хочешь знать, трудодней я побольше твоего зарабатываю.
— Ха-ха-ха, люди добрые, посмотрите на него! А я мало зарабатываю? А? Ха-ха-ха!
Все растерялись. Я никак не мог объяснить себе веселого возбуждения этого человека. Или, может, наслушавшись злых рассказов о своей особе, он спятил? А уважаемый дядя мой, ни во что не вникая, ушел в себя, и от этих дум вряд ли что-нибудь могло его оторвать.
— Что за смех?
Разъяренный пастух вскочил на ноги, а вместе с ним вскочил и я, потому что гость должен защищать своего кунака, прав тот или не прав, — таковы незыблемые законы гостеприимства. Тем более что на этот раз для возмущения у моего хозяина были все основания.
— Над кем ты смеешься?
— Над тобой! — выпалил перешедший все границы Кара-Мирза. Его мышиные глазки зловеще сверкали.
— Это почему же?
— А мне лучше знать, — отвечал тот, продолжая давиться неестественным хохотом.
— В чем дело, я тебя спрашиваю!
— Не могу тебе этого сказать.
— Почему же?
— Все будут над тобой смеяться, если узнают.
— Пусть даже так, но я не допущу, чтобы ты без всякой причины скалил зубы и надрывал живот.
— Говоришь, без причины?
— Да.
— А если есть причина?
— А если есть, то я заставлю тебя рассказать ее, иначе ты узнаешь, чей я сын.
— Ну ладно, ты сам этого захотел. Люди добрые, — обратился Кара-Мирза к сгрудившимся вокруг сельчанам, — держите его и, главное, отберите у него кинжал: как бы чего не вышло.
Раджаб обвел взглядом окружающих и понял, чего от него хотят. Он вынул кинжал из ножен и ловко метнул его в телеграфный столб так, что клинок вонзился в дерево и зазвенел.
— Ну говори теперь.
Пока ты здесь, на гудекане, языком мелешь, твоя жена вернулась из города и лежит в постели с другим мужчиной.
— Что?!
— Дважды не повторяю! — сказал Кара-Мирза и, удовлетворенный, опустился на камень.
Мгновение чабан стоял окаменев, с вытаращенными глазами, но вдруг бросился на Кара-Мирзу с яростью затравленного барса. Хорошо, что окружающие удержали его — недалеко бы и до беды. В этот момент даже мой дядя оторвался от своих мыслей и понял, что необходимо его вмешательство в происходящее, потому что иначе вряд ли удастся урезонить разъяренного чабана. Ведь действительно нельзя придумать большего оскорбления, чем то, какое нанес Кара-Мирза этому доброму, приветливому человеку.
— Врет он все, врет! — кричал мой хозяин, едва не плача в крепких руках губденцев. От возмущения он даже заикаться перестал.
— Вы слышали? Он говорит, что я вру! Будьте же свидетелями! — кричал Кара-Мирза. — Если я не прав, то отдам тебе своего боевого барана — сам знаешь, сколько боев он выдержал. Если же ты застанешь в постели своей жены мужчину, будь добр, отдай мне эти золотые часы.
— Все ты врешь, я это знаю! Не нужен мне твой баран, да будет он зарезан на твои поминки, наглец! — Чабан дрожал от гнева, но, сдержавшись, обратился к аульчанам: — Хорошо, я его пока не трону. Отпустите меня. Все вы видели, как оскорбил меня этот человек. И если он столь жестоко соврал, я своими руками задушу этого божьего червячка. Пошли!..
При этих словах все присутствующие подумали, что Кара-Мирза откажется от своей злобной шутки, но этого не случилось. Стараясь на всякий случай держаться подальше от Раджаба, «божий червячок» вместе со всеми направился к его дому.
Нетрудно себе представить, что творилось на душе у Раджаба. Не только он — никто из знавших Халиму, эту любящую супругу, мать восьми детей, к тому же беременную девятым, — никто не смог бы поверить, что она способна привезти из города мужчину и отдаваться его ласкам, пока муж ушел на гудекан. Где-где, а в ауле подобного не прощают. Неужели столь коварны женщины?
Раджаб шел, будто его подхлестывали молнии, и негодование его росло с каждым шагом. Он спешил туда, где его могло ждать страшное бесчестье, где он должен воочию убедиться в истинности нанесенного ему несмываемого оскорбления. Так стоит ли торопиться? Может, умерить шаг? Но удивительно устроен человек: неизвестность страшит его пуще какой угодно беды, любой ценой он хочет поскорее узнать правду, пусть даже самую жестокую.
Видно, очень любил Раджаб свою жену Халиму, если болтовня Кара-Мирзы могла вызвать у него неистовство, граничащее с безумном.
А я думал о том, что только подлец мог нанести столь страшную рану моему хозяину, добрейшему человеку. Ведь подлец для собственного удовольствия кого хочешь очернит, и как жаль, что наши законы ограждают нас от физических увечий, но не охраняют души от ран, наносимых подобными типами. А ведь души более ранимы, чем тела, и раны эти труднее лечить!
Охваченная тревогой толпа подошла к сакле Раджаба, и, видя всеобщее возбуждение, я подумал еще о том, как бы в суматохе не пропали мои хурджины с драгоценным подарком для моей Серминаз. Ведь часто бывает, что в драке больше всего тумаков достается не дерущимся, а тому, кто полез разнимать.
Но вот все мы вошли во двор и направились к террасе. Тут чабан знаком остановил аульчан и, захватив с собой только меня, бесшумно вбежал в спальню.
Что говорить о Раджабе! Даже мое сердце едва не вылетело из грудной клетки, колотясь о ребра, а кровь мчалась по венам так, что они, казалось, лопнут.
Тусклый ночник едва-едва освещал просто, по-горски обставленную спальню. Белый платяной шкаф, сливающийся со стеной, две тумбочки по обеим сторонам двуспальной тахты…
Ближе к нам лежала Халима. Она спала глубоко и мирно, разметав по подушке длинные волосы. Но едва взгляд Раджаба скользнул на соседнюю подушку, как чабан дико вскрикнул. Внезапно разбуженная Халима вскочила. Она была в тоненькой ночной рубашке, сквозь ткань которой было видно, как сотрясается от дрожи ее тело.
— Кто здесь? — спросила она, протирая глаза, и, узнав Раджаба, воскликнула: — Как ты напугал меня! Разве можно так врываться?
Но взор чабана был устремлен в густом полумраке к тому, кто лежал на второй подушке. Раджаб далее рот открыл, чтобы что-то сказать, но у него не хватило дыхания.
— Раджаб, дорогой! Что с тобой? Приди в себя! — тормошила его Халима. — Ты видишь, какая у нас радость! У тебя родился сын! Ты так хотел иметь сына! А теперь испугал и меня и малютку!
И верно: ребенок заплакал.
— Ну, я его убью! Проклятый обманщик! Он не переживет этой ночи! — закричал Раджаб и хотел броситься на поиски Кара-Мирзы. Но Халима крепко вцепилась в него и не отпускала, пока он не рассказал ей обо всем, что произошло на гудекане.
Поостыв немного, чабан вышел на крыльцо, где его ждали встревоженные аульчане. Увидев, что ярость пастуха уже угасла, Кара-Мирза рискнул протолкаться сквозь толпу к самому Раджабу.
— Ну, прав я или нет? — ехидно спросил он. — Аульчане ждут твоего слова!
— Прав! — с трудом выдавил Раджаб.
— А раз прав, давай часы.
— Подавись ими! — воскликнул мой хозяин, сорвал с руки часы и так толкнул мошенника, что тот едва удержался на ногах. — В последний раз сойдет тебе такая шутка!
Люди еще ничего не знали, и Кара-Мирза важно обратился к аульчанам:
— Радостную весть принес я уважаемому Раджабу: жена подарила ему наследника. Она, бедняжка, поехала погостить к матери, но не успела вернуться, как начались роды. Родила, слава богу, вернулась домой, а узнав, что муж развлекается на гудекане, не стала его беспокоить. Вот я и решил: пускай он немножечко помучается, больше будет любить наследника. — И торжественно заключил: — Во имя аллаха! — после чего надел на руку золотые часы и удалился.
Никто не спал той ночью в древнем ауле Губден. Чабан и его дочери всех подняли на ноги. Тут же зажарили барана, и начался пир, продолжавшийся почти до рассвета. И я тоже принял участие в этом празднике и держался на ногах, пока мог, а когда, наконец, упал и заснул, то разбудить меня не смогли бы все губденцы, даже если бы устроили перед саклей пастуха бешеную пляску под барабаны.
7
Проснулся я оттого, что мой сердобольный и заботливый дядя потянул меня двумя пальцами за нос, приговаривая: «Ай да паяльник, любой лудильщик позавидует!» Очень мне стало обидно в эту минуту, что не полагается хватать за нос старших, но, скрыв свое неудовольствие, я встал и оделся.
В доме вновь царил праздник. Раджаб не пошел на пастбище к отарам; теперь, после рождения долгожданного сына, у него и дома было дел по горло.
Халиме муж не позволил вставать — достаточно того, что он вчера так ее напугал, пусть теперь лежит, отдыхает. Завтраком нас кормила одна из дочерей.
После жареной картошки с горской колбасой и стакана крепкого чая дядя глянул на мои хурджины, я — на дядины, и мы поняли друг друга: наступило время похвастаться своими приобретениями.
Дядя развязал тесемки и достал великолепный ковер, который он так хитроумно выменял у секретаря сельсовета на шкуру нашей бесхвостой коровы. Но я считал, что ковер, которым наградила меня Зульфи за мои изделия и мою любезность, все же куда наряднее. Выдержав паузу, я раскрыл хурджин и извлек… Что бы вы думали?
Я извлек из хурджина… шкуру бурой коровы!
Даян-Дулдурум разразился хохотом и смеялся все время, пока я читал записку, которой Зульфи сопроводила свой коварный дар. Там было написано:
«Не думай, добрый молодец, что только кубачинцы могут отличить настоящее от подделки. Мы тоже кое-что понимаем в прекрасном. Если бы я уступила тебе „карчар“ за наспех сделанные тобою безделушки, то уронила бы этим цену высокого мастерства ковровщиц. Так что забирай обратно шкуру, которую твой дядя подсунул моему дедушке, и помни, что никакие ухищрения не могут сделать ремесленничество искусством. Искусство говорит само за себя. Не сердись на меня, Бахадур, будь счастлив».
— Ну, племянничек, теперь я точно вижу, что ты рожден на потеху аульчанам, — проговорил мой дядя, когда насмеялся вволю. — Значит, отыгрались на тебе эти чарахцы! Получается, как говорят кайтагцы, «ца хушала, ца нушала — одного из вас, одного из нас». А знаешь, почему они так говорят?
Я был так подавлен, что мне, конечно, не хотелось слушать историю о кайтагцах, но дядю моего удержать не так просто, когда он хочет поделиться с другими мудростью Страны гор.
— Охотились как-то два кайтагца в болотистом месте, и так их комары одолели, что они стали по ним из ружей палить. Вот сел одному охотнику на лоб комар, а он кричит приятелю, в шутку, конечно: «Пали!» Тот, недолго думая, выстрелил. А ты сам знаешь, какие меткие стрелки эти кайтагцы. В комара-то он точно попал, но вместе с ним уложил и своего спутника. Подошел, наклонился над ним и сказал, обращаясь к мертвому комару: «Ну что ж, одного из вас, одного из нас».
Я слушал дядю с кислым видом и думал, что моя история с ковром будет звучать в дядиных устах еще похлестче, чем притча о незадачливых охотниках. Особенно если я расскажу и о бараньих мозгах, которые Зульфи столь многозначительно дала мне в дорогу.
В этот день хурджины мои совсем полегчали. Дело в том, что Раджаб, сославшись на святой в горах обычай, нарек новорожденного сына моим именем. Конечно, это было для меня великой честью, но в глубине души я думал, что лучше бы он назвал его Кара-Мирзой, потому что мой долг был теперь зарезать для гостей барана. А денег у меня не было, и пришлось распрощаться, как было ни жаль, со своим инструментом и оставшимся серебром. Отдал я их Кара-Мирзе за барана, хотя в любом другом месте получил бы за все это не менее двух. Но «божий червячок» уверял меня, что это знаменитый боевой баран, одержавший уже восемь побед, — не баран, а дьявол. Однако нелегко, видно, дались этому дьяволу его победы, потому что, когда я вел его, он едва волочил ноги, и, не дожидаясь естественной смерти чемпиона, я попросил какого-то прохожего прирезать его на полпути.
Когда я дотащил прах барана до сакли Раджаба, тот был просто на седьмом небе. «Хвала аллаху! — воскликнул он. — Не перевелись еще в горах настоящие мужчины!»
На следующий день мы покидали гостеприимный кров чабана. Настроение мое, испорченное коварством Зульфи, несколько улучшила жена Раджаба. Она великодушно отдала мне взамен злополучной коровьей шкуры пару чудесных губденских мачайти, тонко расшитых золотой нитью и украшенных красной кожей. По-моему, такие мачайти даже обувать жаль, их надо хранить где-нибудь на выставке модельной обуви или в музее.
Но вот Губден остался позади, и, ведомые надеждой, мы снова зашагали вместе с дядей по бесконечным дорогам Страны гор.
ГЛАВА ПЯТАЯ ДЫМ ПОРОХОВОЙ, ДЫМ ТАБАЧНЫЙ
1
Мой дядя — да сбудутся все его желания! — любит советовать: «Когда говоришь с людьми, вглядывайся в их лица, чтобы понять, чего стоят твои слова!»
Вот и сейчас, дорогие земляки, я мысленно смотрю на вас и вижу, что, кажется, еще не надоел вам. Значит, из меня может и получится рассказчик!
Конечно, глаза Даян-Дулдурума сверкают гневом, а брови нахмурились, что довольно точно отражает его отношение к моему занятию. Но я убежден, что в глубине души мой дядя хранит почтение к писательскому делу и никому не даст его в обиду, так как считает почти равным искусству гравера.
Все помнят, как два года назад, в один из весенних дней, когда на альпийских лугах цвели рододендроны, к нам приехали три именитых наших писателя, и хозяином этой встречи стал именно Даян-Дулдурум, а гостями были Сулейман из Дибгаши, большой жизнелюб и певец родного края, Муса из Кахиба, написавший к тому времени свой первый роман, где недвусмысленно утверждается мысль, что всякий зубоскал получит по зубам, потому что зайцы существуют для того, чтобы за ними охотились, и хитроумный Бадави из Кая, книги которого «Девушка, разбившая кувшин» и «Осел на машине» знает у нас каждый.
Они приехали из города на встречу с читателями и буквально покорили аульчан. Овации были такие, каких у нас удостоился разве лишь силач-борец Али-Казбек, и писателям поднесли дорогие подарки, а мой дядя показал им весь наш аул, который, по словам гостей, произвел на них неизгладимое впечатление.
Осмотр этот закончился в погребке знаменитого виночерпия Писаха, — да не иссякнет винная струя в его руках! — уж не знаю, дядя ли их зазвал или они сами его туда заманили.
Я же все время шел следом, не отводя глаз от волшебников, которые заставляют слова оживать на бумаге. Недаром в наших горах говорят, что завидовать можно лишь одному: умению написать слово «счастье» так, чтобы от него веяло настоящим счастьем, или умению нарисовать цветы так, чтобы от них пахло живыми цветами.
Посидев в погребке, гости вышли с веселой песней «Дала-лай!», и я проводил их до машины. Признаться, самолюбие мое было несколько задето: они даже не поинтересовались, а не пишу ли я, и не спросили, чем вообще занимаюсь! Одним словом, они меня просто не приметили. Меня это обидело, и потому я спустился обратно к Писаху.
Народу там сидело немного. Мухтар, сын Ливинда (простите, что я так часто вспоминаю о нем, но иной раз нам приходится встречаться и с теми, кого видеть не более приятно, чем человека, несущего кислородную подушку), и его друг с нижнего конца аула, Ника-Саид, стояли у стойки, а мой дядя Даян-Дулдурум, проводив писателей, вернулся за стойку и, не выпуская изо рта трубку, беседовал с Писахом.
Едва я появился, Мухтар и его друг заговорили о писателях. Я устроился за столом спиной к ним и старался не пропустить ни слова. Они и затеяли-то этот разговор, зная, что и я грешу сочинительством.
— Умение писать, — глубокомысленно изрек Мухтар, — есть всего лишь искусство водить читателя за нос, дорогой мой Ника-Саид!
— Как это так?
— Очень просто! Вот представь себе, что читатель — это охотник. А писатель — егерь. И когда читатель стоит у самого куста, под которым сидит заяц, писатель, вместо того чтобы указать на этого зайца, уводит читателя прочь.
— Но ведь читателю надоест пустая охота! — перебил говорившего Ника-Саид.
— Как ты не понимаешь! Главное — увлечь читателя тщетными поисками. Когда же писатель почувствовал, что читатель устал и готов бросить всю эту затею, он снова подводит его к тому же зайцу под кустом, но уже с другой стороны.
— И сколько же времени заяц будет сидеть под кустом? Ведь эта суетня мигом его спугнет! — заметил Ника.
— А ты разве не понял, чей это заяц?
— Как это — чей? Пока что ничей.
— Эх, ты! Пойми, зайца-то посадил туда писатель. Это его заяц, и он что захочет, то с ним и сделает.
— Ну и чем же это дело кончится? Писатель укажет на зайца, а читатель выстрелит и убьет его?
— Ни в коем случае. Обязательно промахнется.
— Да, но если писатель так водит за нос читателя, тот может промахнуться и не зайца, а самого автора уложить на месте!
— Это исключено! — убежденно ответил Мухтар, сын Ливинда.
— Почему же?
— Ружье-то не заряжено!
— А вдруг заряжено?
— Что ты, друг мой! Какой же писатель вложит в руки читателя заряженное ружье? Если бы это было возможно, разве посмел бы я утверждать, что умение писать — это не что иное, как умение водить за нос читателя! — многозначительно заключил Мухтар, сын Ливинда, и опорожнил свою кружку.
А в это самое время виночерпий Писах рассказывал моему дяде историю о том, как один американский фермер, закапав в его погребке вином свой светлый костюм, догадался, что из местного винограда можно делать не только вино и спирт, но и красители. Он вывез в Америку саженцы. Но виноград, который у нас всегда созревал красным, там получился белым…
Тут мой дядя, который, очевидно, одним ухом слушал одно, а вторым — другое, обратился к молодым:
— Простите, уважаемые, что я врываюсь в ваш высокоученый спор…
— Мы слушаем вас, почтенный Даян-Дулдурум, — вежливо ответил Ника-Саид, друг Мухтара, сына Ливинда.
— По-вашему, выходит, что писатель — просто хитрый врун?
— Что вы! Вы меня не так поняли, — возразил Мухтар.
— Ну, это я, конечно, грубовато выразился, прости, мой молодой друг. Но послушай, что я тебе скажу. Раньше, когда спичек у нас еще не было да и кремень с кресалом водился не в каждом доме, люди старались всеми силами сохранить огонь в очаге…
Тут я понял, что дядя мой решил наставить недостойного Мухтара на путь истины, потому и начал так издалека. В то время я и сам еще не до конца понимал, как глубоко заблуждается Мухтар.
А дядя после паузы продолжал:
— …И когда случалось, что огонь все-таки угасал, человек обращался к соседям, чтобы одолжить пламя от их очага. Так вот, мне кажется, что писатель для нас — это человек, который вечно хранит в своем очаге огонь для других. Каждый может прийти к нему за огнем! Верно я говорю, Писах?
— Конечно, Даян-Дулдурум.
И я тоже подумал, что правильно сказал мой дядя. Недаром Мухтар, сын Ливинда, не знал, что ответить. В общем, из этого случая я заключил, что в глубине души мой дядя благоволит к писателям, а для меня это самое главное: я всегда мечтал написать нечто такое, что расшевелило бы умы моих друзей…
2
Рассвет окрыляет меня, закат повергает в тревогу. Часы пролетают мимо то быстро и беззвучно, как падающие звезды, то тянутся, как баранья кишка в руках живодера. Но так или иначе, а каждый шаг и каждый вздох приближают меня к завершению еще не завершенного. И хотя говорят, что главное в жизни человека — иметь определенную цель, а достигнет он ее или не достигнет, зависит от множества побочных обстоятельств, — одно несомненно: как не было еще двух похожих начал, так не похожи и концы. Ни один человек еще не повторил другого, и, продолжая свои скитания, я нахожу утешение лишь в стремлении остаться самим собою.
Итак, я снова в пути и опять одинок. А как хотелось шагать по родной стране рядом с моим дядей!
Говорят: «Как пальцами ни маши, ни один не отвалится!» Так, мол, и родственники. А я все больше убеждаюсь, что в двадцатый век мой дядя вступил все же правой ногой. С левой, как известно, ступают сердито. И в том, что теперь я иду один, виноват только я сам, вернее, мой язык. Со мной произошло то же, что с одним сирагинцем. Повстречал он как-то всадника на окраине аула и пригласил его к себе в гости. А когда гость оказался во дворе и спросил, куда ему привязать коня, сирагинец, вспомнив о своей злой жене, сказал: «Привязывай сюда!» — и высунул язык. Примерно то же сделал и я. Наутро после беседы на гудекане в Губдене, когда Алхилав поведал о письме Пьерро Сориано, я сказал, что итальянец, несомненно, отблагодарит дядю ответным подарком…
— А ведь, пожалуй, ты прав, — задумчиво ответил дядя. — Ах, негодяй! — заметно оживился он. — А я-то думал, что у тебя в голове пустыня!
— В каждой пустыне есть оазисы! — пробормотал я, так как понял, что заронил в голову дяди опасную мысль. И хотел было добавить, что не каждый верблюд умеет отыскивать эти оазисы, но воздержался, ибо ясный день на лице дяди вот-вот готов был смениться черной бурей.
— Оазисы, говоришь… — проговорил мой дядя рассеянно, как болтают игроки в нарды, не вникая в суть произносимых слов. — Оазисы, значит… — Внезапно дух его воспрянул, и он заговорил уже вполне осмысленно: — Так вот, дорогой мой племянничек… — Тут я понял, что добра не будет: никогда он меня племянничком, да еще дорогим, не называл, — дальше ты можешь путешествовать и один…
— Как один? — вырвалось у меня.
— Очень просто. Я возвращаюсь в аул. Нельзя же оставить без ответа лестные слова итальянца. А вдруг он на самом деле расщедрится? Эта страна всегда славилась ювелирами. Вспомни Бенвенуто Челлини… В общем, прощай!
— До свидания… — растерянно произнес я.
— Да уж, наверно, свидимся, — без большой радости сказал мой дядя и тут же добавил: — Но смотри не позорь наш род перед аульчанами. А о Серминаз не беспокойся, — утешал он меня, — никуда она не денется.
Мне стало обидно, что дядя думает о моей избраннице так, будто она хуже других, но на мой вопрос, как понимать его слова, он небрежно ответил:
— А кто ее возьмет с таким хвостом? — Дядя хотел было повернуться на пятках, чтобы бежать в родной аул, но я удержал его за плечо.
— Тогда к чему эти мои странствия?
— А вдруг они образумят тебя?
— Я бы лучше пошел за тобою…
— Даже не думай возвращаться с пустыми руками…
И дядя заторопился еще больше — видимо, решил, что моя мать станет его женою еще раньше, чем ее байтарман (то есть я) вернется из скитаний.
Так мы и расстались. Даян-Дулдурум ушел, унося в хурджине чарахский ковер «забраб», а я стоял и смотрел ему вслед, пока дым его трубки не рассеялся на повороте за холмом.
И вот я снова шагаю по мягкой грунтовой дороге. Иду я по долине Гажла-Шин, известной серными источниками и лечебными грязями. В долине этой еще в прошлом веке проложили железную дорогу, при виде которой мои предки воскликнули: «Да можно ли поверить, что железная арба возит на себе людей и грузы без быков!» А меж тем они уже лет семьдесят ездят по ней в свое удовольствие. И по обе ее стороны видны красные — из кирпича — полустанки и водонапорные башни выше самых высоких ореховых деревьев.
Но не только этим известны степи Таркама и долина Гажла-Шин. Здесь каждое дерево и каждый валун, как мне кажется, шепчут: «Мы знаем Даян-Дулдурума!» Да и мой дядя хорошо помнит эти места: ведь именно здесь лилась кровь горцев, боровшихся за революцию, и дядя мой, еще безусый юнец, получил тут боевое крещение. Многие тогда покрыли славой свои головы, но мало кто остался жив. И не случайно столько историков приезжают в наш аул, чтобы встретиться с живым героем гражданской войны — Даян-Дулдурумом.
В этих случаях в душе моего дяди борются два чувства: скромность и вежливость. Уж если кабинетный человек проделал долгий путь до наших мест, нельзя не рассказать ему все, как было. Да только не любит Даян-Дулдурум незаслуженных почестей, а некоторые приезжие историки изображают дело так, будто он еще с молоком матери впитал дух классовой борьбы, а к тому времени, как стали пробиваться у него первые волоски на губе, сделался сознательным революционером.
И вот на гудекане Даян-Дулдурум частенько поносит тех, кто пытается мерить вчерашние дела сегодняшней меркой. Особенно разозлился он однажды, когда в нашей стенгазете появился шарж: бравый Даян-Дулдурум, придерживая обеими руками на голове папаху с партизанской ленточкой, убегает по горной дороге от стаи историков, преследующих его с блокнотами и авторучками в руках.
— Трижды три — девять! — воскликнул тогда мой дядя. — Нечего тут зубы скалить!.. Откуда я, погонщик ослов, мог знать все премудрости века? Это сейчас приезжие историки пытаются втолковать мне, старому вояке Даян-Дулдуруму, что было не то, что я видел, а то, что они пишут.
Вот недавно в одной книге написали про меня, будто я в первом же бою отбил у белых орудие. Стыдно в глаза взглянуть однополчанам! Дело-то ведь совсем иначе было.
Взялся я тогда за оружие потому, что почти все аульчане отправились на войну. Не отставать же! К тому же была мыслишка разжиться хоть чем-нибудь в честной битве, как велось в старину: сакля моя считалась беднейшей в ауле.
И вот в голой долине Гажла-Шин мы столкнулись с белогвардейцами. Я еще удивлялся: зачем понадобился моим землякам какой-то полустанок в голой степи?
Но земляки с кличем «Гу-гария!» выскочили из-за камней, из-за кустов и бросились на белых. То есть почему тех белыми называли, я тогда, конечно, не понимал, видел только, что они красиво одеты и хорошо вооружены, не то что горцы. Но, увидав, как мы несемся на них, белые дрогнули и побежали, бросая оружие и повозки. Тогда впервые я почувствовал, как это приятно, когда враг показывает тебе спину. В азарте боя и появилась у меня мысль: «Не зевай, Даян-Дулдурум! Самое время захватить что-нибудь, чем можно заткнуть дыру бедности». И надо же было мне тут наткнуться на пушку, брошенную белыми. Мигом сорвал я с себя папаху, накинул ее на еще дымящийся ствол и громко, чтоб земляки слышали, закричал: «Это — мое!»
Вот вы смеетесь, да и самому мне теперь смешно, но в тот момент некогда было думать, зачем мне эта пушка. Не поле же на ней пахать! Да и до аула ее не дотащишь… А в результате вызывает меня к себе комиссар. Я тогда думал, что комиссар — это имя его, а уважают его за кожаную куртку, бинокль и портупею. Но нет. Вызывает, благодарит за мужество в бою и приказывает идти в караул. Вышел я в степь, ходил-ходил, а потом лег, укрылся буркой и заснул. А проснулся уже у белых — скрутили они меня, спящего, и унесли.
Сначала я себя чувствовал, будто в рай попал: накормили, напоили, все мои царапины перевязали. А потом спрашивают, кто я: большевик или меньшевик? Что я мог ответить? Горец я, говорю, и стал им перечислять всех родных. Но они решили, что я их за нос вожу, и так избили, что столько я не натерпелся за все драки с ребятами в ауле. Верно, и я тоже врезал одному щедрым кузнецким ударом по морде. Тот на пол упал и лежит. Остальные от меня отскочили, а начальник их достал пистолет, наставил на меня и говорит: «Даю тебе минуту времени, отвечай: большевик ты или меньшевик?» Умирать мне не очень-то хотелось, и стал я думать, что ответить этим головорезам. Знал я тогда по-русски очень мало: самовар, матушка, собака, дай больше, меньше не давай… Ну и решил, что большевик — это тот, у кого всего много, а меньшевик — это так, нищий. Наверняка, думаю, они себя большевиками считают — вон как вырядились! Ну я и крикнул: «Большевик я!»
Что тут случилось! Все они чуть на пол не попадали, так я их удивил. А потом опять принялись за меня, да так, что до сих пор при одном воспоминании кости трещат. И допрашивали все о таких вещах, о которых я и понятия по имел. Но тут помогла моя натура — врал я напропалую, так врал, что они, кажется, устали и решили меня на рассвете расстрелять. Но в стане белых оказался наш мулла Шех-Мумад. Он сразу признал меня и что-то сказал начальнику, должно быть, что-нибудь вроде: «Это же идиот, мешок соломы, сын дьявола, чего, мол, вы с ним связались?» Во всяком случае, до сих пор храню я благодарность ему за эти слова. Послушались его белые, дали мне хорошего пинка под зад и отпустили на все четыре стороны. Добрался я до своих и там только узнал, что значит большевик. С тех-то пор на страх врагам стал носить на папахе красную ленту.
Рассказал я этот случай одному борзописцу, а тот изобразил дело так, будто вынести подобные пытки мог только закаленный в борьбе революционер. Можно бы, конечно, сказать: пусть себе пишет. Да перед аульчанами неудобно: они-то знают, что да как было. Вот ведь говорю я вам — трижды три — девять! — историю надо писать, а не приписывать.
Край наш, и без того суровый и бедный, в те дни, о которых рассказывал мой дядя, превратился в скалистый остров, к берегам которого со всех сторон прибивало разбитые корабли. И кто только не пытался вынырнуть при помощи горцев из разбушевавшегося моря революции! За полы горского бешмета цеплялись и турки, и немцы, и белоказаки, и англичане. В этой сумятице не каждый мог сразу отыскать верный путь. Но сама жизнь объединяла горцев с теми, кто разжигал костры свободы и звал на битву за землю и волю.
Даян-Дулдурум, как рассказывал нам немногословный старожил Хасбулат, в те дни сразу примкнул к партизанам и стал ковать знаменитые и по сей день шашки из дамасской стали. Недаром, значит, он причисляет себя к потомкам знаменитого кузнеца Али-Асхаба, донесшего до нас секрет дамасской стали, утраченный и самими арабами.
Слух об этих шашках прокатился по горам, как гром, и всем стало понятно, что не мужчина тот, кто ими не владеет. И, конечно же, на всех знаменитых базарах, таких, как цудахарский, хунзахский, акушинский или кубачинский, цена на кинжалы и шашки других мастеров сразу упала. А дядя мой — да продлятся годы его! — гордился этим и продавал оружие с личным клеймом, на котором были вычеканены слова: «Лучше умереть со славой, чем стать на колени перед врагом!»
Но вот некий Чупалав из Харбука ухитрился подделать это клеймо и стал продавать свои изделия, выдавая их за шашки Даян-Дулдурума. Как-то на цудахарском базаре мой дядя случайно услышал слова: «А вот кому шашки, кованные Даян-Дулдурумом!»
Взял одну из них дядя, вытянул из ножен до половины, посмотрел на клеймо с арабскими письменами и сразу узнал подделку. Не зря же знатоки говорят, что арабская грамота удивительна: стоит мухе оставить свой след на букве, как весь смысл меняется.
— Сколько же стоит эта шашка? — спросил Даян-Дулдурум, не выдавая себя.
— Всего в три раза дороже обычной! — ответил Чупалав из Харбука.
Дядя заплатил запрошенную цену, потом на виду у зрителей выхватил из ножен собственную шашку и, держа в левой руке только что купленную, одним ударом перерубил ее пополам вместе с ножнами.
Зрители только ахнули. А дядя, обращаясь к лжекузнецу, сказал:
— Я не упрекаю тебя за то, что ты бессовестно спекулируешь моим именем. Не говорю и о том, что ты бесстыдный лжец и обманщик. Но мне горько, что, когда враг стучится в наши двери, ты вооружаешь воинов негодным оружием.
Об этом случае до сих пор вспоминают на всех гудеканах Страны гор. Только не думайте, что я хвастаюсь своим родством с таким человеком. В народе говорят: «Если уж тебе невмоготу — хвались своими делами, но не чужими». Просто я стараюсь этими воспоминаниями, которые я слышал от сверстников моего дяди и людей постарше его, хоть как-то скоротать и облегчить мой трудный путь.
3
Впереди раскинулся город каспийских нефтяников Изберг. Этот новенький, весь в цветах город — мой ровесник, и надежд у него, наверно, столько же, сколько и у меня. Не зря же здесь есть присказка: «Не говори „красота“, пока не увидишь Изберг!»
Но город есть город! Тут не найдешь гудекана, где сразу объявится кунак и пригласит тебя в гости. Нет и горской сакли, в которую можно постучаться и сказать: «Я слышал, вы ждете гостя!» — и тебя пригласят к столу, а потом уложат отдохнуть…
Увы, в городе такой намек не произведет впечатления. Есть гостиницы, есть кафе и рестораны, — пожалуйста, все к твоим услугам, только плати. А что делать тому, у кого в кармане, как на Прикаспийской низменности, гуляет ветер?
Язык мой от голода и жажды стал похож на деревяшку, обернутую наждачной бумагой, и требовал щедрой поливки бульоном. От бывших праздничных туфель одни шнурки уцелели — в наших горах и стальные подковы стираются! А Даян-Дулдурум, прощаясь со мной, совершенно упустил из виду такую мелочь, как деньги. Или, может, сделал это нарочно: учись, мол, добывать хлеб насущный…
При этих грустных обстоятельствах я невольно вспомнил поговорку: «Подними любой придорожный камень и под ним сразу найдешь кубачинца с его верстаком!»
Поговорка меня утешила. Каким бы молодым ни был город Изберг, но есть же в нем хоть одна ювелирная мастерская! А если она есть, то не может не стучать в ней и молоточек кубачинца. Там же, где нашлось место моему земляку, найдется место и мне…
И, окрыленный надеждой, я решительно вошел в город.
Найти ювелирную мастерскую нетрудно: мои аульчане умеют выбирать самые людные места. Я шел к центру и мысленно представлял себе мастера, которого увижу. Это может быть старик с седой головой, склоненной над верстаком, или мужчина средних лет, что, не желая иметь дело с фининспектором, ушел из аула и взял патент на ремесло ювелира… Однако, наткнувшись на витрину такой именно мастерской, о какой я думал, я увидел за стеклом пожилую женщину в очках, занимавшуюся тончайшей работой филигранщика.
Признаться, я даже растерялся: слишком уж редко женщины брались за такое хитрое дело. Но выбирать было не из кого, я вошел в мастерскую и приветствовал женщину на кубачинском наречии.
Мастерица подняла голову, отложила работу, сняла очки. Движения ее были полны достоинства. Затем она крепко пожала мне руку и предложила сесть.
Тут я рассмотрел ее работу. Женщина делала для альбома обложку из серебра, с резными медальонами из слоновой кости по углам и в центре, и видно было, что таланта ей не занимать.
Заметив, что мне нравится ее работа, мастерица посетовала: ей никак не удается подыскать узор, который, отличаясь от традиционного кубачинского, в то же время передавал бы характер дагестанского народного искусства. Узнав, с какой целью я зашел в мастерскую, женщина попросила меня помочь ей.
Я с удовольствием согласился, а еще с большим удовольствием принял приглашение кубачинки зайти с нею поесть в столовую, так как дома у нее сейчас никого нет. После обеда добрая кубачинка оглядела меня с головы до ног, хотя я и старался спрятать свою жалкую обувь, и, между прочим, спросила, не знаю ли я в Кубачах некоего Даян-Дулдурума?
— Это мой дядя! — гордо ответил я.
— То-то у меня с утра дергалось левое веко! — усмехнувшись чему-то, сказала она. — Значит, земля его еще носит?
— Да, он жив-здоров…
— Много раз выпадал в горах снег с той поры, как я его видела в последний раз, — задумчиво сказала она. — Он, поди, меня уж и не вспоминает.
— Кого вас? — не утерпел я.
— Свою бывшую жену…
— Вы были его женой? — Я чуть не свалился с ног. — Так вы и есть Цыбац?
— Да, так меня зовут. Ну, а женился он или так и бродит соломенным вдовцом?
— Не-ет, — пробормотал я с опаской: уж не собирается ли Цыбац вернуться к Даян-Дулдуруму?
— И говорит, наверно, обо мне черт знает что! — продолжала она. — Несносный был человек! Никак не хотел обучить меня мастерству златокузнеца. Все твердил, что это не женское дело.
Я был совершенно ошарашен этими словами. Вот ведь как можно ошибиться, когда видишь правду лишь с одной стороны! Мог ли я представить, что мой сознательный дядя был таким деспотом в личной жизни!
— Чему ты удивляешься? — спросила Цыбац.
— Как же, такая встреча! Жена дяди…
— Ну, не очень-то долго он мной командовал! — с некоторой гордостью продолжала Цыбац. — Я ведь тоже упрямая! Когда поняла, что он все равно не позволит мне работать, — взяла и ушла из аула. А теперь меня считают настоящей гравировщицей и филигранщицей. Впрочем, прошлое прошлым, а сейчас для меня главное — альбом.
И мы сели за работу.
Мне очень хотелось помочь этой решительной женщине, и я испортил не меньше десятка больших листов бумаги, ища наиболее выразительные узоры, пока, к собственному изумлению, не изобрел такой, который сама Цыбац назвала великолепным. А пока я рисовал, то все думал о дяде. Неужели предчувствие этой встречи погнало его домой? Если так, значит, удачливый он человек!
К пяти часам я закончил рисунок и собрался уходить. Цыбац не хотела отпускать меня. Скоро должен был вернуться с морской эстакады ее муж-нефтяник, — почему бы нам не познакомиться? Но я сослался на дальний путь, утомление и встал.
Она сама оценила мою работу, и в кармане у меня появились деньги, с которыми я мог без стеснения зайти в любой обувной магазин. Вскоре я появился на улицах Изберга в чудесных ботинках марки «Скороход», которые будто сами собой понесли меня дальше по пути скитаний.
Правда, перед этим пришлось поломать голову над тем, как отделаться от старых башмаков, завернутых в газету продавщицей из магазина. Оказалось, что на тщательно убранных улицах юного города не было ни одной урны. Может быть, они исчезли во время последнего воскресника по очистке города? Или вообще местному руководству не пришло в голову, что они могут понадобиться?..
В общем, воровато оглядываясь, я оставил сверток на скамейке бульвара, но не прошел и десяти шагов, как меня нагнал сияющий старичок и, любуясь своим бескорыстием, сунул в мои руки «забытый» сверток. Попытался я подбросить злосчастные башмаки в повозку керосинщика (что делать, город растет быстрее, чем газовая сеть, и приходится на бричке, запряженной осликом, доставлять керосин в новые кварталы). Но керосинщик, увидев, как к нему приближается не по-городскому одетый человек, сразу заподозрил неладное и уже не спускал с меня глаз.
Но вот в одном из переулков я заметил повозку, запряженную парой лошадей. В повозке стоял большой ящик с дверцей. Я подумал, что в таких ящиках из города вывозят мусор, и открыл дверцу, чтобы сунуть туда свои туфли. Но из ящика прямо на меня бросились собаки всевозможных мастей и размеров. Я не успел захлопнуть дверцу и шарахнулся от повозки, как от огня. А в мою сторону уже бежали с проклятиями два дюжих мужика-собачника. Пришлось мне уносить ноги, и бежал я без передышки до тех пор, пока этот чересчур чистый город не остался далеко позади. Здесь я швырнул сверток в придорожную канаву и с тяжелым сердцем пошел дальше.
4
Не видать конца моей дороге! Вот опять иду в родные горы, прочь от сияющего Каспия, прочь от Изберга, сверху похожего на стол, богато уставленный зеленью, прочь от города, берег которого напоминал морскую звезду — далеко в море расходились от него лучи эстакады.
Некогда один кубачинец отправился в Таркама за виноградом и, выйдя из аула, нашел на пыльной дороге виноградину. Съел он ее и подумал: «Что одна ягода, что несколько пудов — вкус-то один и тот же! Узнал я этот вкус — можно и домой возвращаться». И возвратился.
Но я не таков. И пусть уже познал вкус дальних странствий, но не вернусь домой, не достигнув цели. Тем более что много еще чудес ждет меня в Стране гор.
Вот хоть это — не чудо ли? Около асфальтированной посадочной площадки для вертолета стоит толпа людей. Нацеливаются аппаратами, указывают пальцами, возгласами выражают восхищение. И действительно, как не восхититься неповторимым творением природы? С той точки, где мы стоим, огромная скалистая гора представляется на фоне неба силуэтом великого потомка арапа Петра Великого — Пушкина. Он будто откинулся в кресле и задумчиво глядит в безбрежный морской простор. Ветвистые деревья кажутся его курчавой шевелюрой, а словно скульптором высеченные скалы вырисовывают лоб, прямой нос и тяжеловатый подбородок. Будто сама благодарная природа Кавказа воздвигла этот памятник своему вдохновенному певцу. И я пожалел лишь о том, что не могу подарить это чудо моей Серминаз…
Из поднебесья, шумя и разгоняя ветер, опустился вертолет, и туристы направились к его зеленому брюху. Подумать только, через час-два они уже будут там, куда мне предстоит добираться не один день! И невольно я сделал несколько шагов по направлению к вертолету. Но тут меня словно настиг голос дяди:
— Как тебе не стыдно!
— А что я сделал? — мысленно спросил я.
— Поддаешься соблазнам… Обычай нарушаешь. Твой путь — пешком или на коне! — явственно слышал я.
— Да, дорогой дядя, но ведь когда рождался этот обычай, не было еще ни вертолетов, ни машин.
— Дело не в машинах. Тебе надо не мчаться сломя голову, а, как говорится, обжигать пятки на горных дорогах, жизнь узнавать. Главное для тебя — повидать побольше…
— Так ведь сверху-то я больше и увижу! — ответил я.
— Ты что же, старшим возражать решил? — Я представил себе, как грозно сдвинул брови Даян-Дулдурум. — Я в твои годы…
— Не будешь же ты утверждать, что в мои годы знал столько же, сколько я знаю сейчас?
— Я больше знал.
— Выходит, что жизнь не вперед идет, а назад пятится? Вспомни, ты рассказывал, как в ликбезе учился.
— Ну и что?
— Сам ведь говорил, что тогда писали белым по черному, а теперь — черным по белому. Вот и во всем остальном такая же разница.
— Да ты, никак, философствовать начал? — удивился дядя, но тут наконец сжалился надо мной и приказал: — Ладно уж, иди на вертолет, а то придется тебе ночевать в степи…
И я, конечно, не преминул воспользоваться разрешением, которое расслышала сама душа моя. Во всяком случае, если дядя и узнает от кого-нибудь, что я нарушил стародавний обычай, я смогу сослаться на наш мысленный диалог.
Вертолет шел в сторону Салатавских гор.
Не знаю уж, потому ли, что я преступил закон или закон этот был нечетко сформулирован самим аллахом, но дурное предчувствие, с каким я садился в вертолет, обернулось настоящим горем. В Чиркее я узнал, что несколько часов назад умер Сапар-Али, приходившийся моему дяде троюродным братом то ли по отцовской, то ли по материнской линии. Это именно о нем и беспокоился Даян-Дулдурум, не получая писем. Видно, добрый старик, имя которого можно встретить во всех учебниках истории Страны гор, долго болел.
Сапар-Али, одни из первых наших большевиков, герой двух войн, еще при жизни стал легендарной личностью. Про его бурку рассказывали, будто ее не пробивают пули, хотя я-то сам видел, что вся она изрешечена, как сито. В минувшую войну Сапар-Али, которому было уже под семьдесят, добрался с однополчанами до Берлина и переночевал в своей бурке на ступенях рейхстага.
Таким был старый горец.
Я поспел как раз к погребальной церемонии. Траурная процессия быстро продвигалась в сторону древнего кладбища с множеством славных памятников, которыми гордятся в Чиркее. Вот надгробный камень, украшенный печатью имама Шамиля. Под ним лежит один из секретарей имама, Амирхан из Чиркея. Вот памятник горцу, погибшему вместе с коммунарами в далеком Париже… Люди отважные и мудрые, мастера и воины, похоронены здесь. И среди них будет лежать мой славный родственник Сапар-Али.
Закончен погребальный обряд. Наступила теплая ночь. Шелест листьев, и перекличка бессонных птиц, и шум реки — все это словно радуга звуков в ночном небе. Под лунным светом, натянув на себя звездное покрывало, замер на ладони гор аул Чиркей. Старые сакли будто перешептываются под немолчный говор реки. Может, вспоминают своих древних хозяев и их славных кунаков? Ведь в этих стенах побывал и русский художник Гагарин. И не в такую ли ночь поразил его силуэт сакли, залитой лунным светом, — той, которая затем ожила на его полотне? И не в такую ли ночь хирург Пирогов перевязывал раны наиба Шамиля, что лежал на поле брани рядом с раненым русским офицером?.. И может, в такую же ночь чиркеевцы схватили бежавших из Евгеньевской крепости русского унтера и солдата и, заковав их в кандалы, посадили в яму? И уж, наверное, именно в такую прекрасную ночь молодая чиркеенка помогла им бежать из плена. Кто знает, не этот ли случай послужил основой сурового рассказа Льва Толстого «Кавказский пленник»? И кто скажет, не в такую ли ночь ушел из родного аула на поиски счастья юный Мирза, тот самый бунтарь, что сражался на баррикадах Парижской коммуны?..
Многое могут вспомнить камни Чиркея. Славное у них прошлое. Но скоро исчезнут они под водой моря, создающегося здесь, в сердце гор, дерзновенным умом и золотыми руками человека. В сулакском каньоне будет построена гидроэлектростанция с высотной плотиной. Исчезнет старый Чиркей, но на берегах водохранилища встанет Чиркей новый, уже не аул, а город. Он раскинется широко, как полы бурки всадника, несущегося против ветра. И в такую же ночь, споря со звездами, засияют огнями его улицы. А над бывшими альпийскими лугами, ставшими морем, древний орел салатавских гор уступит место длиннокрылой чайке — спутнице живой воды.
5
В эту ночь на камнях чиркеевского гудекана шел разговор о подвигах покойного Сапар-Али. Многое из его жизни запомнилось людям, потому что жизнь хорошего человека вся на виду.
— Да, Сапар-Али — пусть будет спокоен сон его! — был удивительным человеком, — говорил бухгалтер колхоза, чиркеец лет шестидесяти, что здесь считается средним возрастом. — Вернулся он, помню, из Кизляра, где батрачил у одного армянина, и сказал, что стал коммунистом. Но как ни приглядывались к нему аульчане, ничего особенного не приметили, а ведь тогда о коммунистах бог знает что говорили! Заметили только, что Сапар-Али укоротил усы, оставил лишь щеточку под самым носом. И на следующий день знаменитый чиркеевский богач, владелец множества овец Зайнутдин в знак протеста против большевиков обкорнал свои усы так, что они торчали, как два взъерошенных пера. Сапар-Али увидел это и воскликнул: «Люди добрые, усы-то тут при чем?!»
Зайнутдин намотал эту насмешку на свой обчекрыженный ус, и в последних боях за установление в горах Советской власти Сапар-Али, вероятно, не случайно встретился именно с ним, с Зайнутдином.
Окружил он банду Зайнутдина в местечке Урцеки и продержал ее в осаде двадцать суток, пока Зайнутдин не прислал гонца с письмом. «Мы все равно не сдадимся, — писал вожак банды. — Но велика ли доблесть одержать победу над истощенными, голодными людьми? Я считаю тебя достойным противником, а истинные враги должны сражаться на равных условиях…»
Задел, видно, Зайнутдин самолюбие нашего Сапар-Али, тот послал осажденным несколько подвод с продовольствием. А через три дня состоялся у них последний бой. Обе стороны дрались мужественно, беспощадно. И, умирая, Зайнутдин сказал: «Твоя взяла, Сапар-Али! Эти три дня были нужны мне не для того, чтобы люди могли отдохнуть, нет, — я ждал помощи от друзей. Но, видать, везде наших нобили…»
Да, храбрый был человек Сапар-Али, да не умрет память о нем!
— Так ведь храбрость — это выдержка, сила, готовность к битве! — заключил кривой Удурат. — Уже и бои затихли, а Сапар-Али все не расставался с оружием. Мы как-то сказали: не пора ли убрать оружие подальше, чтобы взять его затем в нужный момент? А он улыбнулся и ответил: «Я готов это сделать, но как узнать этот нужный момент?»
Тут в беседу включился кунак из другого аула, приезжавший отдать последний долг покойному.
— Ради нашей власти Сапар-Али не жалел ни крови своей, ни мудрости. Вы знаете, земляки, что он был левшой? Однажды кто-то спросил, почему он пишет свои бумаги левой рукой. (А он был тогда председателем аульного Совета.) И вот что он ответил: «Потому что в правой держу оружие, которым защищаю то, что пишу левой!»
Как и все истинно мудрые люди, он не любил самоуверенных глупцов и однажды привел на гудекан какого-то заносчивого начальника, который ничего не понимал в своем деле. Привел, показал на большой камень и говорит: «Подними!» Тот отвечает: «Мне не по силам!» — «В том, что камень тебе не по силам, ты признаешься, а в том, что занимаешь не свое место, признаться стыдишься? — спросил Сапар-Али. — Сказал бы прямо, что эта папаха не по твоей голове, — и тебе бы лучше и людям!»
— До срока уходят герои! — грустно сказал бухгалтер колхоза. — Вот жила некогда турчанка, и было ей сто пятьдесят лет. Почувствовала она, что смерть настает, и заплакала горько: «Мало пожила!» А ведь нашему Сапар-Али только девяносто было! Сколько еще мог жить он во славу людям!
— А вспомните, старики, как тяжелы были для нас двадцатые годы… Словно для того мы победили врагов, чтобы затем умирать от голода и болезней. А когда Дагестан направил ходоков к Ленину, Сапар-Али был среди них. В России жизнь была вовсе не легче, чем у нас в горах, но Ленин выслушал ходоков — и пошли к нам эшелоны с мануфактурой, с зерном для посева. В этот трудный час рука помощи протянулась к нам не с востока, где восходит солнце, не с юга, где Кааба, не с запада с его хваленой роскошью, а с севера, от русских. Об этом помнят и всегда будут помнить горцы…
Говоривший это Удурат вздохнул и вдруг обратился ко мне:
— А ты почему молчишь, Бахадур?
— Мне просто неловко, почтенный Удурат, что именно я, а не мой дядя сидит здесь сегодня со столь почтенными людьми. Ведь Даян-Дулдурум так дружил с покойным!
— Да, оба они достойные люди, о таких есть что рассказать. Помню, в двадцать втором году в Кубачах оказался случайно какой-то иностранный турист. Увидел он, как Даян-Дулдурум, тогда еще совсем молодой, но уже известный мастер, вырезал из слоновой кости барельеф Владимира Ильича.
«Тонкая и очень кропотливая работа! — заметил иностранец. — Вы, наверно, уже не один месяц трудитесь над этим портретом?»
«Почти год», — ответил Даян-Дулдурум, не поднимая головы.
«А какую благодарность надеетесь получить?» — продолжал расспрашивать иностранец.
Даян-Дулдурум обернулся к гостю и, показывая на барельеф, сказал: «Это я его благодарю!»
6
Эту ночь я провел с сыном покойного Сапар-Али Бей-Булатом в палатке, в поселке строителей.
— Теперь я должен сделать на этой земле все, чего не успел мой отец! — сказал мне Бей-Булат. И я понял, что Сапар-Али воспитал достойного преемника. Да, хороший сын — лучший памятник отцу.
Бей-Булат — опытный строитель. Он давно уже отвык от оседлой жизни и предпочитал отцовской сакле палатку своей бригады.
— Привык к друзьям! — говорил он мне, пока мы чуть не на ощупь карабкались вверх по берегам будущего моря. — С друзьями легче переживаются беды. Этой зимой у нас было трудное положение: семнадцать дней без электричества, продукты кончились, а на дорогах — гололед, машины пробиться не могут. Взяли мы лопаты и кирки и направились за перевал Машакат навстречу тем, кто шел к нам с помощью. Холода стояли лютые, трудно было, только дружба нас и согревала…
Так за разговором мы добрались до палатки. Я втиснулся между мускулистых тел, расслабленных после трудового дня, и заснул.
Разбудил меня горластый петух, доставленный сюда из аула Чиркей. Как видно, и ему нравились эти новые места, потому что иначе он улетел бы обратно. Вслед за Бей-Булатом я вышел из палатки и вдохнул чистый утренний воздух. Словно новая кровь потекла по жилам. Я огляделся: суровая природа, причудливые скалы, поросшие редким лесом склоны гор — все радовались новому рассвету. Внизу, в ауле, пенящемся вишневым и абрикосовым цветом, уже кипела жизнь: горцы встают рано. Перламутром переливались капли росы на траве, на листьях деревьев.
Бей-Булат показал рукой на восток, сказал:
— Встает солнце!
И в тот же миг пламенный шар, выкатившийся из-за гор на востоке, оторвался от алеющего хребта и повис в чистом небе.
Кто может остаться безучастным к картине восхода? Мне казалось, что надо найти какие-то новые, еще не сказанные слова, чтобы выразить свой восторг, но вместо этого я просто повторил за Бей-Булатом:
— Встает солнце!
Строители пригласили меня позавтракать. За едой я с завистью глядел на этих крепких, нашедших настоящее дело парней, съехавшихся с разных концов страны, чтобы создать величественную плотину в горах. Они уговаривали меня остаться на стройке.
Я рассказал о себе, и тут оказалось, что я завидую им, а они — мне, вернее, моему тонкому и редкому ремеслу гравера-златокузнеца.
— Труд твой, — сказали они, — так же важен, как и наше дело. Ты приносишь в жизнь красоту, твоя профессия прекрасна и почетна. Удачи тебе, Бахадур!
Но все же я должен был остаться с ними еще четыре дня, в течение которых, по обычаю, родственники покойного утром и вечером посещают могилу. Правда, Бей-Булат не обидится, если я продолжу свой путь, но все-таки долг требует соблюсти почести в отношении того, кто ушел из жизни.
В один из таких дней я увидел медный поднос с чеканными рисунками, на котором подали угощение, — Бей-Булат взял его из отцовской сакли. Никто из окружающих не обратил на него внимания. Видимо, парням и в голову не приходило, что этому чеканному произведению несколько сотен лет. Когда я сказал об этом, мои новые друзья стали пристально рассматривать поднос, передавая его из рук в руки. Да, это была и в самом деле редкая работа древних чеканщиков Кази-Кумуха. По борту шли рельефные изображения, прославляющие подвиги джигитов. И хотя кое-где поднос был уже испорчен, продырявлен, но, взяв его в руки, я разом позабыл и о не доставшемся мне «карчаре», и о губденских мачайти. Я не осмелился, конечно, попросить, чтобы мне его подарили, но Бей-Булат, наверное, уловил блеск в моих глазах и сам предложил мне эту редчайшую вещь. Он сказал, что таких подносов много в чиркейских саклях. «Но если много, — подумал я с разочарованием, — значит, это далеко не то, что способно поразить моих аульчан и мою Серминаз».
Впрочем, отказаться от подарка было уже невозможно.
ГЛАВА ШЕСТАЯ БЫЛА БЫ ГОЛОВА — ШЛЯПА НАЙДЕТСЯ
1
Я иду вдоль берега реки Сулак, иду по тропинке и по бездорожью, и предстоит мне еще неблизкий путь до аула Унцукуль.
У самой развилки андийского и аварского Койсу, там, где начинается главный сулакский каньон, я увидел горца, который стоял на краю пропасти и криком сзывал людей. Из ближайших садов, с полей, на которых шла прополка, сбежалось довольно много народу.
— Знаете ли вы меня, добрые люди? — спросил горец.
— Как же не знать? Знаем! — отвечали из толпы. — Ты наш кунак из Цудахара, знаменитый торговец абрикосами и персиками.
— Угадали, друзья, это мое самое любимое занятие. И вот шел я к вам, чтобы угостить вас первыми абрикосами. Всем известно, что самые первые абрикосы вызревают в моем ауле! И вдруг мой осел поскользнулся и вместе с корзинами сорвался вниз, в ущелье. Теперь я собрал вас здесь, добрые люди, чтобы вы потом не спрашивали, почему я не привез вам первые абрикосы. И первые персики я вам не привезу. И первые яблоки. Потому что сорвался в пропасть мой бедный осел, и не купить мне теперь другого.
Огорченный цудахарец сел на дорогу, обхватив голову руками. Один из присутствующих пытался утешить его:
— Ничего, не горюй, может, аллах и лучшего осла тебе пошлет.
— Э, нет, братец, — отвечал цудахарец, — я своего аллаха не хуже тебя знаю. Дешевле, чем за двадцать семь рублей, он мне осла не пошлет.
Сочувствуя несчастью своего давнего кунака, люди принялись доставать деньги — кто сколько мог — и класть в широкополую белую шляпу цудахарца. А когда он пересчитал собранное, то оказалось, что хватило бы и на двух ослов. Довольный, цудахарец сунул двадцать семь рублей в карман, а остальное вернул аульчанам.
— Лишнего я не возьму, добрые люди. Спасибо за помощь, но мне и копейки лишней не надо.
— Но ты же потерял вместе с ослом столько абрикосов!
— Абрикосы, которые никому не усладили уста, я в расчет не беру, — с достоинством отвечал цудахарец и, поклонившись, отправился покупать нового осла, даже не подозревая о том, в каком трудном положении оставил аульчан: ведь никак нельзя было решить, кому сколько денег следует вернуть. Народ в этих местах горластый, и вскоре на берегу поднялся шум, за которым не было слышно даже гула реки. И не обошлось бы, видно, без потасовки, если бы не вмешался я. Встав на камень, чтоб меня все видели, и размахивая руками, чтобы привлечь внимание, я начал свою речь:
— Люди добрые! Только что я был очевидцем вашей щедрости, — вы так благородно помогли бедному цудахарцу… Но больно мне видеть, как щедрость оборачивается скупостью, когда надо разделить эти несчастные оставшиеся гроши!
— А ты кто такой, чтобы вмешиваться в наши дела?
— Я ваш кунак.
— Какой кунак?
— А разве житель сирагинских гор не кунак для вас?
— Кунак, конечно, кунак! — закричали горцы.
— Вот и посудите сами. Деньги эти не поделить поровну. Нельзя их и вовсе делить. И я, ваш кунак, могу избавить вас от споров.
— Как же это?
— Пусть эти деньги облегчат мой путь.
Следующие пять минут мне казалось, что никогда в этом мире не наступит тишина. Но наконец горцы сошлись на том, что действительно проще отдать деньги мне, чем делить.
— Спасибо вам, щедрые горцы, — благодарил я, запихивая бумажки в карман брюк. — Каждый из вас может считать теперь, что я был его кунаком. Велика ли, мала ли такая честь для вас, — главное не в этом. Главное, чтобы и хозяева и кунак были довольны.
Недаром говорят в горах: «Нет человека, которому аллах не предоставил бы всех земных благ, но многие не умеют их взять».
Был некогда человек по имени Бадай, и решил он пользоваться лишь тем, что аллах ему в руки сунет. Отправился он к аллаху, а по дороге повстречался со снежным барсом. Рассказал, куда спешит, а барс и говорит: «Узнай, кстати, у аллаха, чем мне питаться, чтоб его не прогневить». Дальше пошел Бадай и встретил богатую вдову. Была она бригадиром в колхозе и зарабатывала столько, что на десятерых бы хватило, а жила одна. «Незачем ходить тебе к аллаху, — сказала она Бадаю, — оставайся лучше со мной». Отказался тот и отправился дальше. Попались на его пути верхолазы. «Иди к нам, горец, — сказали они. — К высоте ты привычен, а денег заработаешь вволю». Но не послушался их Бадай и не успокоился, пока не дошел-таки до аллаха. Рассказал ему о себе, о богатой вдове, о верхолазах, не забыл и о вопросе барса. «Иди домой, — сказал аллах, — а встретишь снежного барса, поведай ему о своих странствиях и передай, что, если будет он питаться мясом глупцов, я останусь доволен». Вы, конечно, догадываетесь, чем эта история кончилась? Мог ли барс найти большею глупца, чем Бадай? С него-то и начал он список съеденных глупцов.
Но я-то, Бахадур, на этого Бадая вовсе не похож! И уж я-то сумею воспользоваться дарами, которые судьба сама мечет мне под ноги!
2
С деньгами, которые пришлись мне как нельзя более кстати, я отправился дальше, вдоль аварского Койсу. Вскоре меня догнал худой чернявый человек, которого я заметил в толпе горцев. Он назвался каменщиком Даудом из Харахи.
Наступил полдень, Дауд попросил меня остановиться. Он омыл в речке ноги, постелил пиджак и устроился на нем для молитвы. Но отмолился так быстро, что я изумленно воскликнул:
— Бог, наверное, и не расслышал твою трескотню!
— Не такой он дурак, как ты, — сердито ответил мой спутник. — Он знает, что у меня нет времени задерживаться в пути.
А потом всю дорогу каменщик Дауд неустанно расхваливал меня за находчивость, с которой я облегчил карманы щедрых горцев. Как ни убеждал я его, что сделал это только во имя мира между людьми, которые столь безрассудно тратили на споры драгоценное время в разгар полевых работ, он лишь лукаво улыбался.
Потом вдруг выяснилось, что он хорошо знает моего дядю Даян-Дулдурума и как раз отправляется в наши края, где может с ним встретиться. Упомянул он и о том, что труженики-кубачинцы терпеть не могут плутов и надувал, и, если заведется такой в их ауле, они не дадут ему покоя насмешками. А в заключение заметил, что как раз теперь испытывает острую нужду в деньгах, и когда я предложил ему по-дружески поделиться даром щедрых горцев, он быстро согласился и сказал, что, конечно, не забудет моей услуги…
Не успел Дауд из Харахи спрятать свою долю денег, как нас нагнал запыхавшийся и измученный человек в майке и папахе.
— Ой, постой, харахинский Дауд! Постой, от меня не уйдешь! — кричал он, подбегая к нам и хватая моего спутника за грудки. — Эй, ты, кривой и хромой сын иблиса и шайтана, потомок недостойных отцов, мошенник и тунеядец!
Нанизывая на нить гнева подобные бусины слов, догнавший нас человек так тряс бедного Дауда, что, будь тот деревом, с него облетели бы все листья. Я не мог не вступиться за своего спутника и с решительным видом взял обидчика за плечо. Но он так лягнул меня, что, не зацепись я за куст мушмулы, пришлось бы искупаться в холодной реке.
— А меня-то за что? — спросил я, сбрасывая с плеч хурджины.
— Тот, кто защищает мошенника, сам мошенник.
— Откуда же мне знать, что он мошенник? — выпалил я, хотя про себя и подумал, что прав, наверное, человек в папахе и майке: уж больно поспешно этот Дауд сунул в карман половину моих денег.
— Ты не знаешь, зато я его хорошо узнал!
— Тогда объясни и мне, чтобы я тоже знал, что он из себя представляет.
— Пусть сам объяснит.
— Клянусь, я ничего не знаю, ни о чем не ведаю, — жалобно скулил Дауд, стараясь высвободиться из цепких рук преследователя.
— Ты, может, скажешь, что и меня, ашильтинского Алибека, в глаза не видал?
— Нет, нет, тебя я знаю.
— Спасибо, что не забыл! — Человек в майке и папахе ослабил хватку и стал объяснять мне, в чем дело: — Понимаешь, все в нашем ауле сакли свои перестроили, живут как во дворцах, один я отстал. Решил наконец и я пристроить еще две комнаты. И тут приходит ко мне этот самозваный каменщик, этот негодяй, мерзавец, пройдоха…
— Нельзя ли без брани, — перебил я его, — ты оскверняешь и мой слух, и свои уста.
— Подожди, я его еще и не так назову, этого бессовестного обманщика. Приходит и говорит, что лучшего мастера не найти, мол, и в Сутбуке, — а ты знаешь, как славятся сутбукские каменотесы. Я ему поверил, даже переплатить согласился, раз уж он такой мастер. Выехали мы в поле — я ведь не дармоед какой, а колхозник. Возвращаюсь дня через три. Гляжу, а он и камни класть не умеет как следует. Я ему говорю: разве, мол, так стены ставят? Ведь даже камни на склоне горы, подпирающие террасы для садов, кладут ровнее. А он мне, бесстыдник, отвечает: «Не беспокойся, хозяин, это не для красоты, а для прочности». Хорошо, думаю, посмотрим, что дальше будет. Клал он камни, поднималась стена, а он все распевал песню:
Красота — к чему она? Прочность лучше красоты. Будет век стоять стена, Будешь мной доволен ты.Ну, наконец поставил стены, я заплатил сполна, хотя в душе остался недоволен. Но я ведь честный человек и думал, что и другие люди такие же. Не мог я себе представить, чтобы нашелся такой горец, который берет деньги за плохую работу. И представь себе, только мы с ним попрощались, только он скрылся за поворотом, как на построенную им стену взлетел наш облезлый петух — и стена рухнула! Говори, негодяй! — Он притянул Дауда к себе вплотную. — Говори, где же прочность? О красоте я тебя не спрашиваю, но прочность где, отвечай!
— Да отпусти ты мой ворот, а то я задохнусь и уже ничего тебе не скажу.
— Надо бы тебя задушить! — гневно сказал человек в майке, отпуская ворот каменщика. — А ну, отдавай мои деньги!
— Ради аллаха, успокойся, не горячись! Дай мне прочитать молитву. — И, воздев руки к небу, он действительно принялся читать молитву и молился гораздо дольше, чем полчаса назад. Наконец поднялся и сказал громко:
— Благодарю тебя, всевышний!
Алибек при этом немного растерялся, видно, был он набожным и грехом посчитал бы перебить человека во время молитвы. Наконец Дауд сам к нему обратился:
— Стоит ли рабу божьему беспокоиться о рухнувшей стене, когда его самого миновала страшная беда? Скажи мне, хозяин: когда стена падала, под ней никто не стоял?
— Никто.
— Значит, никого камнями не задавило?
— Нет! Кроме облезлого петуха…
— Так, дорогой мой, это же милость аллаха! Ведь если бы стена постояла подольше, ты покрыл бы ее крышей и поселился в новой комнате, а потом она бы обвалилась — и тут-то наверняка не обошлось бы без крови. Аллах уберег тебя и всю твою семью! По обычаю ты должен сейчас же зарезать барана или индюка и поставить угощение всему аулу. Да и мне, дорогой, с тебя причитается магарыч!
Эти слова ошарашили не только ашильтинского Алибека, но и меня. Вот когда увидел я впервые истинного плута и мошенника!
— Так-то, дорогой Алибек, — добавил Дауд, чувствуя, что сбил пыл с потерпевшего. — Правда, магарыч я с тебя сейчас не потребую, но только запомни, что когда снова окажусь в Ашильти, непременно жди меня на хинкал с грудинкой.
Наглости его можно было только подивиться! Я заметил, что ашильтинец стал быстро остывать и был уже готов отступить.
— Вот что, — обратился я к каменщику, не столько желая наставить его на путь истины, сколько надеясь окончательно успокоить Алибека. — Верни ему его деньги. — О своих я говорить не осмелился.
— Мал ты еще вмешиваться в наши дела. Алибек с меня уже и не требует денег.
— Как не требует? Видишь, он ждет, пока ты их ему вернешь.
— Нечего лезть со своими советами! — перебил меня Алибек. — Я тебя не просил заступаться. У меня у самого на голове папаха. Прав этот человек! Ведь окажись я под той стеной, меня бы сейчас уже не было в живых. Вечно буду я ему благодарен.
— Так он же надувает тебя как последнего дурака! Он и у меня только что деньги выманил!
Но Алибек отмахнулся от меня:
— Это ваше с ним дело, вы и разбирайтесь.
И пошел обратно в свой аул, задумчиво опустив голову: все, видать, размышлял о том, какая беда его миновала.
— Ах, какой человек справедливый! А ты тоже — в чужие дела лезешь. Сам меня благодарить должен.
— Это за что же? — удивился я.
— Ведь если б не я, тебя бы по дороге совесть заела из-за чужих денег. А теперь совесть уступит место злости: зачем, мол, половину отдал другому? Что ни говори, а злость не так терзает душу, как совесть.
— Значит, я тебя еще и благодарить должен? Ох, и мошенник же ты!
— Ну ладно, дружище, на похвалу я не напрашиваюсь. Дороги наши расходятся: мне сейчас в Гимра, может, там кто строиться собрался. Так что вернешься домой, расскажи обо мне своему дяде: пусть знает, что есть в горах такой мудрый каменщик Дауд из аула Харахи.
Даже не подав мне руки, он направился по тропе, которая ведет в аул Гимра, на родину первого имама Кази-Муллы. А я пошел дальше, к аулу Унцукуль, родине не менее славного Махача, первого комиссара большевиков. Хоть и лишился я денег, но рад был, что избавился от такого попутчика. Не о таких ли говорят: «Даже упав, полушку найдет!» Поклясться могу, что в жилах этого Дауда течет кровь древнего аксаевца, а древние аксаевцы покупали, продавали, обманывали, крали, дрались и убивали — и все с легким сердцем, с улыбкой на устах.
Я шел по дороге, вдоль шумящей реки, и горы вокруг казались мне сгрудившимися великанами, которые что-то обронили в бурлящий поток и ищут. Одни вершины взмывают ввысь, как сахарные головы в серой обертке, другие прилегли и устало дремлют, третьи подставляют солнцу мощную грудь, покрытую курчавой россыпью лесов.
Какими бы безжизненными ни казались каменистые склоны, но и на них растет тамариск, цветет шалфей, вьются колючие травы, трепещет под ветром заячья капуста. А ближе к воде — кустарники, тростник, волжанка, сочная трава до колен и осыпающий пушистые цветы дикий орех. И все же горы эти кажутся мне незнакомыми и строгими, не то что Юждаг, с любой точки которого я узнаю знакомые вершины.
Никого я не встретил по дороге, пока не дошел до спуска к мосту через аварское Койсу. Мост был разрушен весенним половодьем, и его еще не успели отремонтировать. На берегу сидел человек, а рядом с ним лежал открытый мешок с луком. Человек ел лук — и плакал.
— Какая беда стряслась с тобой, несчастный? — спросил я у него.
— Большая беда, беда тяжелая! — отвечал он, вытирая глаза рукавом. — Отправился я в город на базар. А мост, видишь, разрушен. Переплыл бы, да боюсь, что мешок с луком на дно потянет. Вот и решил съесть весь лук — не пропадать же добру!
— Да, — сказал я задумчиво, — выходит, не всякое добро в радость.
Жаль мне стало этого человека, и решил я ему помочь. Но как? Сесть рядом с ним, есть лук и плакать? Ну уж нет! И я спросил:
— Сколько же стоит твой мешок лука?
— Да не дорого, всего четырнадцать рублей.
«Вот странное совпадение! — подумал я. — Ведь именно четырнадцать рублей и осталось у меня в кармане от дара щедрых горцев». И потому, что не мог я дальше смотреть, как лил слезы этот человек, я отдал ему все деньги.
Как он обрадовался!
— Бери, весь лук теперь твой, и с мешком в придачу! — говорил он, обеими руками пожимая мне руку.
— Нет, зачем он мне? — сказал я. И в самом деле, зачем мне лук? Не дарить же его Серминаз! — Оставь это добро да ступай домой.
— Но ты ведь заплатил за него!
— Ну и что же?
— Так бери!
— Нет, спасибо, не надо, — сказал я и пошел своей дорогой. А когда, отойдя, оглянулся, человек сидел на том же месте, ел лук и плакал. Махнул я на него рукой и ускорил шаг, потому что впереди услышал веселую музыку, зовущую к радости.
3
С тропинки я спустился на шоссе, которое связывает Унцукуль с соседним аулом Ирганай, и сразу оказался в благоуханной тени унцукульских садов. Правду говорят люди, что в умелых руках и камни зацветут. Унцукульские садоводы используют каждый клочок земли, и поднимающиеся террасами плодовые сады кажутся чудом. Высокая хурма, приземистые яблони, статные груши, тяжелые персики и абрикосы, уже проглядывающие медовыми плодами сквозь листву, — кажется, что все эти деревья не только сами корнями вцепились в землю, но и ее удерживают своими мощными лапами, чтобы не распался плодоносный слой, обнажив голые камни.
Но не только садами знаменит этот аул. Славен он и мастерами по обработке дерева, резчиками, из чьих рук вышли поистине уникальные произведения искусства. Вот почему привели меня сюда усталые ноги. Может, здесь найдется подарок, достойный моей Серминаз?
Как ценная реликвия хранится у нас дома темно-коричневая черкеска, принадлежавшая казначею Шамиля Хатаму Кубачинскому, и цену этой черкеске придают двадцать четыре газыря, выточенные унцукульским мастером Хамадаром, сыном Абуталиба, из кизилового дерева и украшенные тончайшей резьбой. Да и во многих саклях Кубачи хранятся изделия из тростника, которым были богаты некогда здешние берега, — женские украшения, шкатулки, диковинные трости, трубки и чубуки с изображением звериных морд и угловатых горских лиц. Все это вырезано из дерева. Старый Кальян, отец нашего знаменитого резчика Азиза, хвалится славной трубкой Хочбара, изготовленной в Унцукуле бедняками и подаренной ими триста лет назад знаменитому горцу Хочбару Гидатлинскому. Прекрасной назвал Лев Толстой легенду об этом человеке, беззаветном защитнике бедняков, наводившем ужас на хунзахского нуцала. Как всегда бывало с героями, закончил он трагически: заступник народный погиб на костре.
В этом ауле выбрал мой отец подарок для матери, когда она была еще невестой: шкатулку удивительной формы, словно оплетенную со всех сторон древесными корнями, крепко сцепившими стенки и крышку, отделанные затейливой инкрустацией из меди, мельхиора, бирюзы и крашеной кости. А что, если и мне повезет в Унцукуле? Вдруг у кого-нибудь хранится здесь ручка нагайки, принадлежавшей когда-то наибу Шамиля или самому Хаджи-Мурату? Ведь такую историческую вещь Серминаз наверняка оценит! А может, под одной из кровель Унцукуля хранится знаменитое ожерелье мастера Уста-Тубчи, десятилетия принадлежавшее нашей семье, а потом исчезнувшее бесследно?
Пока я распалял свое воображение и заранее радовался, словно уже держал в руках древнее сокровище, мимо меня пронеслась машина. В ней сидел человек в соломенной шляпе, и я сразу решил, что это, наверное, кто-либо из районных хакимов. Хаким значит «начальник». Когда одного аштинца спросили, много ли у него в ауле хакимов, он, говорят, ответил: «Валлах, дорогой, не знаю, но четырнадцать человек носят соломенные шляпы!»
А из приемника машины неслась задорная песня «Спешите на свадьбу мою!». Хорошее предзнаменование! Я надеюсь, что скоро будут съезжаться по горным дорогам и на мою свадьбу. Только бы поскорее преодолеть последнее препятствие к ней. Кто знает, может, это и удастся сегодня?
Мои мысли прервал задорный девичий смех. Рядом с дорогой, в унцукульском саду, девушки собирали абрикосы, и сразу было видно, что работают они весело, с охотой.
А я думал о своей Серминаз и вспоминал слова нашего старейшего мудреца Хасбулата, сына Алибулата из рода Темирбулата: «Трех вещей нет в этом мире: крышки для моря, лестницы до неба и лекарства от любви!»
В это время девушка в легком платьице, взобравшаяся по лестнице так высоко, что я нечаянно увидел ее ножки, закричала подругам:
— Не ешьте плодов с этого дерева!
— Но почему, Хамис? Ведь они самые спелые! — кричали подруги.
— Это самый опасный сорт — «Ислам кахайте»! — «Убившие Ислама»! Стоит их попробовать, как хочется съесть еще. И даже когда ты сыт, глаза все равно остаются голодными. Сорт этот происходит из Цудахара, и там от этих абрикосов, говорят, умер некий Ислам…
— Знаем мы тебя, Хамис! То ты нас песни петь заставляешь, то пугаешь, — лишь бы мы не ели.
— Конечно! Если столько съедать, что же останется колхозу?
— Ничего, нынче лето щедрое, абрикосов всем хватит. А коль тебе песни хочется, так почему сама не поешь?
— Да, да, спой ту самую, что поет Батыр под твоим окном! — хором закричали девушки.
Хамис спустилась с лестницы и, подбоченясь, прошлась меж деревьев, подражая движениям юноши, потом сделала вид, что заламывает папаху, и, ударив по струнам воображаемого чугура, запела, меняя голос, чтобы он походил на мужской:
Хотел бы быть я Ребенком малым, Чтоб на груди ты Меня качала, Чтобы спала ты Со мною рядом, Чтоб не спускала С меня ты взгляда. Чтобы слезники Со щек стирала, И утешала бы, И ласкала. Разбить я скалы Готов башкою, Чтобы была ты Всегда со мною.Девушки дружно захохотали.
— Ну, а как же ты ответила? Неужели оставила без ответа?
— Я тоже спела ему песню.
— Какую? Какую?
— А вот какую. — И Хамис, уже не изменяя голоса, запела:
Носишь папаху Ты набекрень. А под папахой — Буковый пень. Песни поешь ты Как соловей, Просишь, чтоб стала Милой твоей, Только имей это Твердо в виду: Я не приду к тебе, Я не приду! Рви свои струны, Пой соловьем, Но никогда мы Не будем вдвоем.Тут девушки заметили меня и стали перешептываться, стреляя глазами в мою сторону. А я стоял, любуясь ими, пока одна из них, самая, видать, озорная, та, что пела, с задорным лицом и чуть косящими глазами, не подошла к самому забору и не уставилась на меня.
— Ты чего глазеешь, парень?
— Да вот нравится мне сад с такими чудесными плодами, — сказал я, указывая на девушек под деревом.
— На чужие плоды не заглядывайся: ослепнуть можно!
— Хороши ласточки, да врозь летят, — сказал я про ее глаза, чтобы не задавалась.
— Хоть врозь, да любого зубоскала разглядят, — отрезала девушка и подняла с земли довольно длинную хворостину.
Снова вспомнив о шутке, которую сыграли со мной ицаринские девушки, я решил убираться подобру-поздорову. А они, наверное, и впрямь что-то затевали, потому что, когда я поспешно пошел прочь, девушки с досадой защебетали у меня за спиной: «Испугался! Ах, какой робкий! А мы-то его абрикосами хотели угостить!»
Нет уж, милые, не знаете вы, видно, любимого изречения моего дяди: «Жизнь — дорога, а дорога — учеба». Действительно, кое-чему я уже научился в пути и потому, не оглядываясь, поспешно унес ноги от веселых унцукульских девушек.
4
В ауле Унцукуль, кроме босых детишек, резвящихся у родника, никого не было видно, словно все жители куда-то сбежали. К кому же мне обратиться? В каком доме попросить пристанища? Будь дело вечером, пошел бы я на гудекан. Но сейчас небо было голубым, как древний поднос, подаренный мне в Чиркее, и солнцу предстоял еще долгий путь, прежде чем оно уйдет на отдых за горы.
Дядя не раз советовал мне: придя в незнакомый аул, оглядись и выбери подходящую саклю. Прикинь, хороша ли она и сам-то ты достаточно ли хорош для нее. Подумай, могут ли тебе там обрадоваться, или ты окажешься в тягость. Горцы славятся гостеприимством, и потому особенно горько бывает ошибиться в хозяине.
С самим Даян-Дулдурумом однажды произошел случай, позорный для всего Дагестана. Встретил он, въезжая в аул Урахи, своего старинного кунака, человека по имени Кабулдан. Жил Кабулдан в вечном страхе перед женой, которая была из очень почтенного рода. Но никак не мог этот человек с нею развестись и потому молча сносил все ее скандалы. Встретив Даян-Дулдурума, несчастный испугался, что жена станет пилить его за гостя, и потому, отведя глаза, попытался пройти мимо дяди, словно бы не узнал его, хотя не узнать Даян-Дулдурума может только слепой, да и то если он пьян.
Дядя мой никому подобных выходок не прощает. Сделав радостное лицо, он остановил Кабулдана и завел с ним разговор о житье-бытье. Как ни юлил Кабулдан, но мой дядя добился-таки своего, и Кабулдан пригласил его в гости. Но по дороге урахинец придумал, как избавиться от нежеланного кунака. Он подвел моего дядю к воротам старой мечети, на которых висел огромный заржавленный замок, и сказал с притворным сожалением:
— Ах, братец, жены-то, оказывается, дома нет! Клянусь, я этого не предполагал. Но приходи в другой раз, благо дорогу ты теперь знаешь…
Посмотрел, говорят, мой дядя на тропинку к мечети, заросшую сорной травой, и, глядя в глаза Кабулдану, сказал многозначительно:
— Скосить бы надо!
Кстати сказать, в горах у нас есть аулы, где людей так и называют: «Этот, мол, из рода, где лепешки в золе пекут», «А этот из тех, кто крапивой питается», «А вот тот из тех… Да разве разберешь их! Неважный у них род, ничем не примечательный».
Так вот, Кабулдана прозвали Пятном на курдюке. Род его славится скупостью и неуживчивостью. Говорят, что издавна висит у них на террасе курдюк, круглый, как полная луна. Когда Кабулдан был уже юношей, он спросил свою мать, почему на курдюке сбоку пятно.
— Отец твой и дед, — отвечала она, — тыкали сюда пальцем, и от одного этого им казалось, что они уже досыта наелись курдюка.
— Да рухнет их дом! — воскликнул возмущенный юнец. — Неужели эти обжоры не могли довольствоваться одним взглядом?
О подобных людях мой дядя говорит, что до полудня они всегда грустят: им тяжело смотреть, как уменьшается под солнцем их тень.
Позади меня послышался топот копыт, и, обернувшись, чтобы уступить дорогу всаднику, я увидел Даян-Дулдурума. Собственной персоной! Как будто с неба свалился. Не успел я опомниться, как он соскочил с коня, крепко обнял меня и сказал:
— Негодяй, ты еще тут?
По его виду я понял, что произошло нечто серьезное. Но он начал с того, что высказал обиду на чиркеевцев, которые так и не известили его о смерти Сапар-Али. Даян-Дулдурум узнал о случившемся из газеты. К тому же и на самого себя он был в обиде, что так и не выбрал времени навестить Сапар-Али.
Потом он несколько замялся и сказал, что даже не собирался искать меня, но ему передали, что я ушел совсем недавно, и потому он решил сообщить мне одну новость. Мне хотелось сказать, что и у меня есть для него новость — встреча с его первой женой, работающей в Изберге, — но вид у дяди был такой серьезный, что я даже разволновался и спросил дрогнувшим голосом:
— Что-нибудь с матерью?
— Мать жива-здорова и по-прежнему клянет тебя на чем свет стоит, — спокойно ответил дядя.
— Ну, тогда, значит, с нею и впрямь все в порядке. Что же случилось?
— Случилось непредвиденное, — таинственно ответил дядя. — Но об этом потом. Пойдем к кунаку, там и поговорим.
Всю дорогу до сакли дядиного кунака я ломал голову, что же могло случиться в нашем ауле. Если бы новость была радостной, дядя сразу выложил бы ее.
Но вот дядя постучался в ворота. Открыла нам женщина лет сорока, одетая во все черное. По глазам ее, красным от слез, можно было догадаться, что мы явились в недобрый час.
— Примите гостей, — сказал Даян-Дулдурум.
— Гостям всегда рады, — ответила женщина и взяла уздечку из дядиных рук.
— Кажется мне, что беда посетила ваш дом? — спросил дядя, заметив состояние хозяйки.
— Ничего, ничего… — Как видно, женщина не хотела огорчать нас.
— А где же Айдамир, почему он не выходит на мой голос? Где он, мой старший брат?
— Его нет.
— Как нет?
— Его вызвали.
— Куда вызвали?
— В город, в суд, — заплакала хозяйка, привязывая коня к стойлу.
— Ну чего же ты плачешь? Подумаешь, в суд! Я-то решил — его вызвал к себе этот… — Дядя показал пальцем на небо. — Пока человек здоров, нечего по нему слезы лить. Не узнаю я тебя, Нуцалай… Когда вызвали Айдамира?
— Еще вчера. И до сих пор его нет и нет, — вздохнула женщина.
— Не мог же он пойти против закона! Он бы сначала со мной посоветовался, — ободрил мой дядя хозяйку. — Увидишь, сегодня он вернется.
В сакле Нуцалай рассказала нам о своей беде. В Унцукуле придрались к тому, что у Айдамира якобы две жены: Жавхарат и та, что встретила нас, Нуцалай. Факт налицо, надо принимать меры! Неважно, что самому Айдамиру лет семьдесят, а первая его жена, Жавхарат, — старуха лет шестидесяти, с которой они давно уже не живут. Не первый уже год лежит она в своей сакле — прикована к постели. «Грех» Айдамира в том, что не бросил он ее на произвол судьбы, а заботится о больной, немощной женщине, как о родном человеке. И Нуцалай ухаживает за ней, хотя дел у нее и без того много: воспитывает детей, ведет все хозяйство в доме.
Но какие-то горячие головы взяли Айдамира на прицел и пообещали шесть месяцев исправительно-трудовых работ. Вот по этому делу и уехал в город наш хозяин.
5
Нуцалай накормила нас сытным хинкалом с горской колбасой. После еды дядя заметил, что неплохо бы пройтись прогуляться. Видимо, он не хотел говорить о наших неприятностях в доме, где хватало своих.
Я сочувствовал горю этой женщины, но все же в душе торопил дядю: когда же он расскажет о том ударе судьбы, что ожидает меня самого?
Шагая по улице аула, дядя, кажется, не знал, как начать разговор. Наконец он спросил меня:
— Так, значит, ты и есть тот мерзавец, который совратил Серминаз? Значит, ты отец ее сына?
— Да, — твердо сказал я, хотя и почувствовал, как душа моя уходит в пятки.
— Ох и негодяй же ты! — лукаво подмигнул дядя и, схватив мою кепку за козырек, надвинул мне ее на глаза.
— Почему? — возмутился я, поправляя кепку.
— В общем-то ты правильно поступил. Только родным своим лгать не полагается.
— Я не лгал! — воскликнул я в отчаянии. Ужасная мысль пришла мне в голову: в ауле, вероятно, объявился настоящий отец сына Серминаз, и именно об этом хочет сообщить мне дядя.
— Нечего теперь упорствовать. Мне все известно. И не только мне, а всему аулу.
— Что? Что известно?
— Да то, что у Серминаз не было и нет никакого сына.
— Как же нет? Жандар ведь сам сказал, что ездил проведать внука.
— Этот Жандар все наврал, а ты, вместо того чтобы разобраться, полез на рожон: «Я отец!» Как же ты можешь быть отцом, если речь идет о сыне дочери первой жены Жандара! Оказывается, у этого наглеца в Маджалисе была жена! И у жены — дочь! И у дочери — сын, ее внук! А стало быть, и внук Жандара! Вот наш начальник артели и ездил с дочкой его проведать.
— Зачем же он соврал нам при встрече?
— Почувствовал, что сболтнул лишнее, упомянув о внуке. И не хотел, хитрец, чтоб в ауле знали о существовании той семьи. Но это обошлось ему недешево! Сколько шуму было! Мать Серминаз потребовала, чтобы дочь ушла вместе с нею от Жандара. Но Серминаз молодец! Сказала, что якобы знает об этой истории давно: отец все ей рассказывал… Но все равно личное дело Жандара обсудили. Выговор дали. К таким проступкам надо относиться сурово.
— А как же тогда наш кунак Айдамир?
— Тут другое дело. Не мог же он оставить без присмотра пожилую, больную женщину. И в этом разберутся…
— Должны разобраться и с Жандаром! — воскликнул я. — Ты мне столько наговорил, что не могу ничего понять. Давай посидим на камнях минуту, чтобы я пришел в себя…
Действительно, все, что я передумал о Серминаз, как-то разом перевернулось в моей голове, и только минуты две или три спустя я бросился на шею к дяде, принесшему мне добрую весть. Мой дядя вообще-то терпеть не может этих «телячьих нежностей», как он их называет, но на этот раз чувствовалось, что и он рад. Впрочем, это мне только показалось.
— Подожди слюнявиться, байтарман! Есть вести и посерьезнее. Можешь себе представить, как только стало известно, что ты уехал за подарком для Серминаз, к ней посватался… Угадай, кто?
— Наверное, Мухтар, сын Ливинда?
— Верно, угадал! Чутье у тебя острое.
— Еще бы! Ведь этот мерзавец как коршун вился вокруг моей голубки!
— «Коршун», «моей голубки»! Прибереги все это для стишков. Чем он, собственно, плох, твой соперник? И мастер отличный, и работа его высоко ценится. Впрочем, если с ним ты бы еще мог потягаться, то объявился еще один жених, — с этим будет потруднее.
— Это кто же?
— Азиз, сын Кальяна.
Да, это был сильный удар. Я помнил Азиза до того, как он уехал в Москву, в художественный институт, и всегда он казался мне джигитом из старинных песен. Стройный, высокий, с топким лицом и уж действительно лучший из молодых мастеров нашего аула…
— Так разве он уже вернулся из института?
— Он еще не вернулся, но отец его уже посватал. Можешь представить, что было с Жандаром, когда трое сватов одновременно постучали в его дверь! Сиял, как полный месяц. А я проклинал себя, что очутился в его доме вместе с такими уважаемыми сватами, как Ливинд и старый Кальян. За тебя стыдно было.
Я готов был сквозь землю провалиться от таких обидных слов. А дядя продолжал:
— Жандар, конечно, никого обидеть не хотел… И поступил он с нами как истинный горец. «Три джигита, три мастера просят руки моей дочери, — сказал он нам. — Азиз, сын Кальяна, Мухтар, сын Ливинда, и твой племянник, Даян-Дулдурум, Бахадур… (Тут, признаюсь, у меня кольнуло в сердце: почему меня он назвал последним?) Пусть, по обычаю предков, каждый преподнесет невесте подарок. Чей подарок изберет Серминаз, тому и готовиться к свадьбе!» Так что, дорогой племянник, знай, не ты один меряешь ногами горные дороги… Вышел уже в путь Мухтар, сын Ливинда, да и Азиз, как только вернется из Москвы, тут же отправится в дорогу.
— А не кажется ли тебе, дорогой Даян-Дулдурум, — перебил я дядю, — что я сейчас похож на того, кого сначала за долгие странствия удостоили награды, а потом вздернули на виселицу? — У меня даже голова поникла и сел голос. — Не проще ли мне вернуться в аул и повесить эти хурджины на место? Все равно в соревновании с этими джигитами мне не победить…
— Негодяй! — воскликнул Даян-Дулдурум, крутнув левый ус правой рукой. — Ты что, только о себе думаешь? А обо мне и о твоей матери ты подумал?
— Она будет только рада, если я не женюсь на дочери Жандара из рода Мунги.
— Э, ты еще не знаешь всех песен твоей матери! Как только она узнала, что к Серминаз сватаются такие джигиты, она заявила: «Пусть лучше мой сын не возвращается, если решит уступить ее кому-нибудь!» Так что подумай как следует о своей невесте, но не забывай и о том, что мы тоже ждем…
Я все никак не мог прийти в себя от вороха новостей, которые высыпал на меня мой дядя. А он уже допрашивал меня по-деловому:
— Надеюсь, что у тебя есть что-нибудь в хурджинах?
— Конечно, дядя! — без особого энтузиазма воскликнул я.
— И что же это? Губденские мачайти?
— И это и другое.
— А что же другое?
Хотел было я что-нибудь придумать, но выговорилась правда:
— Медный чеканный поднос из Чиркея… С эмалью…
Если бы десять человек щекотали дядю со всех сторон, он не смеялся бы так отчаянно.
— Да, — сказал он наконец, совладав со смехом. — Не миновать нам позора. Ты, потомок благородных предков, непревзойденных мастеров, хочешь удивить аул Кубачи чеканным медным подносом и губденскими мачайти.
— Но ведь все требуют, чтобы было что-то необыкновенное! А такого еще никто в нашем ауле не преподносил своей невесте.
— Еще бы! Чуть не половина горянок ходит в губденских мачайти и чуть не во всех сирагинских саклях есть подобные подносы. Ну и байтарман же ты! Точь-в-точь как отец: тот тоже, бывало, дивился тому, на что добрые люди и внимания-то не обратят. Вот что, племянник. Приказывать тебе я не могу, но совет дать обязан. Знай, что подарок твой должен быть не только ценным, но и поучительным для всех аульчан. Пусть окажется он современным, но связанным с историей нашей, необычным, но хранящим вековые традиции. А что именно это будет — сам решай. У тебя своя голова на плечах. Вот сейчас я поведу тебя в мастерские, посмотрим, над чем работают унцукульские деревообделочники. Может, и подберем что-нибудь подходящее.
Да, загадал мне загадку Даян-Дулдурум. Если бы я представлял себе, что это должен быть за подарок, я, может, и сам взялся бы его смастерить. Но пока что, кроме смутных идей, ничто не посещало мою бедную голову.
6
Мы проходили мимо памятника, который унцукульцы поставили герою гражданской войны, первому комиссару Страны гор — Махачу. Имя его еще при жизни стало легендарным. В грозные годы, когда рождалась Советская власть в горах, имя Махача наводило ужас на врагов, вселяло надежду в колеблющихся и воодушевляло борцов. Когда отряд его въезжал в какой-нибудь аул, народ с ликованием встречал освободителей. Героев отправляли отдохнуть, а мужчины аула не спали всю ночь, стояли на страже, оберегая покой своих защитников.
Вот и артель. Широкий навес прикрывает от непогоды ворох разнообразной древесины: тонкие жерди кизила, бруски абрикосового дерева, сучки барбариса, ореховые ветви. Неискушенный человек подумает, что попал на дровяной склад, ему в голову не придет, что благородная древесина дожидается часа, когда оживет в руках искусных мастеров.
Мы входим в мастерскую, дядя приветствует работающих, и по их улыбкам я догадываюсь, что его здесь хорошо знают. Чтобы не отрывать людей от дела, дядя сам обходит все рабочие места. Подходит к каждому, пожимает руку, потом кивает на меня: «Это мой племянник». И я тоже пожимаю руки унцукульских мастеров — ладони у них твердые, шершавые и теплые, как древесина.
Деревообделочники сидят на своеобразных самодельных сундучках с выжженным узором. В сундучках этих они хранят инструмент, эскизы, незаконченную работу.
Так же как и на нашем комбинате, каждое изделие проходит здесь через несколько рук. Один мастер выбирает под навесом подходящий сучок и, разогрев его на огне, изгибает по эскизу. Другой обтесывает, ровняет рашпилем. Потом изделие украшается орнаментом, инкрустируется медью, мельхиоровой проволокой, украшается глазками из бирюзы и ромбиками из крашеной кости. Остается отшлифовать готовую вещь — и вот перед нами новое творение мастеров Унцукуля.
Дядя мой не стал внимательно рассматривать эту массовую продукцию. Он-то хорошо знает, что лучшие художники сами проделывают работу на всех ее стадиях, проявляя в каждом произведении свой собственный стиль. Но работа по дереву не проще ремесла златокузнеца, и мне хотелось подольше постоять возле каждого мастера. Вот пожилой темнолицый человек наносит карандашом узоры на изделие, потом особым шилом делает какие-то проколы, загоняет в отверстие сплющенную проволоку, и на наших глазах возникает затейливый орнамент.
Сосед темнолицего как раз закончил выводить на толстой трости надпись: «Не забывай, что у меня два конца».
— Это что-то новое, — заметил дядя.
— К нам недавно приезжал баснописец из Москвы, высокий такой, забыл, как его зовут. Вот сынок мой наверняка помнит, — обратился мастер к мальчику лет девяти, украшавшему узором школьную указку.
— Это дядя Степа был, — сказал мальчик.
— Да, да, он самый! Мы ему подарили трость, а он попросил сделать такую надпись. Нам она очень поправилась, да и не только нам. Вот пришел заказ кооперации на тысячу штук.
Унцукульцы остры на выдумку. Свои изделия они украшают разными надписями, изречениями, строками из горских поэтов. Попросите закурить — вам протянут изящный портсигар, откроют — и вы прочтете на внутренней стороне крышки: «До каких пор будешь сидеть на чужой шее, нахлебник? Кури свои!»
На дамском кулоне деревообделочники пишут: «Истинная красота не снаружи, а внутри». На ручке нагайки выводят: «Честь и слава — на спине коня». На чернильном приборе: «Не черни белое». Надпись на ноже для разрезания книг гласит: «Я прорезаю путь к знанию». А пепельница поучает:
Пепел сбрасывай сюда, Но огонь храни всегда, Потому что без огня Не прожить тебе и дня.Любят мастера изречение их земляка Махача: «Предпочитаю огонь позору, смерть — унижению».
Долго рассматривали мы с дядей унцукульские сувениры — я с искренним восхищением, а он с одобрением, не более. На его строгий вкус не было здесь ни одной вещи, достойной стать для его племянника оружием в борьбе за невесту.
— Вернулся! Мой муж вернулся! — послышался голос со двора.
Это Нуцалай принесла радостную весть.
Тут я увидел, что не только дядя мой, кунак Айдамира, но и все мастера артели близко к сердцу принимали дело своего земляка. Мы с Даян-Дулдурумом поспешили к нашим хозяевам.
Айдамир был высокий, очень худой мужчина. Его морщинистое лицо светилось от радости.
Он стоял посреди кучки внимательных слушателей и рассказывал о своей поездке.
— …А председатель суда — Али Ахтынский — не человек, а золото. Вызывает он меня и говорит: «Ну, Айдамир, скажи, что с тобой делать? С цервой женой ты не был зарегистрирован и вообще давно не живешь, так что вас разводить нечего: сами расстались. Развести со второй женой… Для чего? И по какому праву? Дети у вас, и тебя любит». Тут я спрашиваю у Али Ахтынского: «А откуда вы знаете, что она меня любит?» Оказывается, только я уехал, как Нуцалай написала ему слезное письмо, объяснила, какие у нас дела. «Может быть, — говорит он, — осудить тебя? А за что? За то, что бывшую жену свою, больную женщину, в беде не бросил? Может, оштрафовать? Да и деньги тебе-то нужнее, чем кому-нибудь другому». Объяснил все это мне судья и говорит: «Сам-то ты как думаешь, что с тобою делать?» Я отвечаю: не знаю, мол, поступите, как совесть подсказывает. Он говорит: «Так и сделаем!» И вынес свой окончательный приговор: выслал меня.
— Как выслал? — закричали наперебой слушатели.
— Выслал на два месяца в санаторий. И еще решил ходатайствовать перед правлением колхоза об установлении пенсии больной Жавхарат. Так что понял этот Али Ахтынский меня лучше, чем сам я себя понимаю. Вовек не забуду его справедливости.
7
Был один из тех благодатных вечеров, которые надолго запоминаются горцам. И не потому, что в такие вечера происходит что-то особенное, — нет, просто тихая их красота не может оставить равнодушным ни одно сердце.
В прозрачном синем небе раскрывались первые цветки звезд. Облака спали, как чабаны, завернувшиеся в белоснежные пушистые плащи. И красавица луна застенчиво, как девушка, проходила между спящими, разыскивая среди них своего милого.
Когда мы с дядей и Айдамиром появились на гудекане, там уже собралось десятка два человек.
— Ну, что нового в ваших горах? — спросил дядя после обычных приветствий.
— Да вот посеял один ирганаец на своем поле морковь, — как бы нехотя отвечал кто-то из сидящих, — и выросла она такая, что все поле срослось в одну морковину. Мы как раз сейчас обсуждали, как вытягивать ее будем. А у вас какие новости?
— Да вот решили наши мастера помочь соседям, — не задумываясь, подхватил Даян-Дулдурум, — делаем сообща котел, чтобы сварить ирганайскую морковь. Котел будет в самый раз, потому что когда мастер на одном его краю стучит молотком, до другого края ни звука не доносится.
Дружный хохот был наградой моему дяде. Вот уж правда, за словом в карман не лезет!
Как жаль, что не дойдет до людей столько острых слов, сказанных за вечерней беседой! Давно уже ношу я во внутреннем кармане пиджака толстую тетрадь, куда записываю все примечательное. Не хочется, чтобы пропала и малая крупица услышанного в дороге. И приходится напрягать свою память, чтобы не забыть ничего, пока найдешь время занести услышанное на бумагу. Ведь не писать же прямо на гудекане: это было бы неуважением к сидящим, да и темновато здесь. Так что я слушаю во всю мочь, и даже уши мои, кажется, шевелятся от напряжения. Впрочем, сужу я об этом только по колеблющемуся отражению в горных родниках: негоже горцу глядеться в зеркало, да еще в чужом доме, где его могут застать за этим делом.
А вот что тем временем рассказывает дядя:
— Сам я никогда не вру и терпеть не могу, когда врут другие. Так что знайте: то, что я вам сейчас расскажу, — истинная история. Сидела моя бабушка на террасе сакли, грела свои старые кости и вязала мне шерстяные носки. А кошка наша, как водится, играла с клубком: то покатит, то догонит, лапками хватает, кусает, забавляется. Но, как говорится, всякой игре приходит конец. И кончилась игра эта тем, что кошка проглотила клубок. Что было делать моей бабушке? Оборвала она нитку, отложила вязанье, так как шерсти теперь все равно не хватало, и проходил я ту зиму без теплых носков. Наступила наконец весна, и родила кошка котят. Говорю вам сущую правду: каждый появился в шерстяных носочках!
Тут слово взял Айдамир — он был в этот вечер в чудесном настроении.
— А все ли помнят, отчего треснул вот этот большой камень на гудекане? Не помните? Ну, тогда я вам расскажу. Сидели здесь когда-то два хвастуна. Говорил один: «Три храбреца есть в Дагестане. Один — двоюродный брат мой по отцу. Другой — двоюродный брат по матери. А о третьем мне самому говорить как-то неудобно». Отвечал ему другой: «Знаешь ли ты, что человек произошел от обезьяны? Так вот, та первая обезьяна и была во главе нашего рода». Говорил первый: «Отец мой рассказывал, что его отец, мой дед, был очень высоким человеком. Когда он сидел на крыше сакли, голова его скрывалась в густой серой туче». Отвечал на это второй: «Не туча то была, то была борода моего деда, который как раз в это время тоже сидел на крыше». Так вот, не выдержал камень такого хвастовства и треснул. Смотрите, люди добрые, как бы от ваших рассказов все камни не превратились в щебенку!
— Зачем далеко ходить за смешным? — заговорил сосед моего дяди, молодой человек в городском костюме. — Ведь вот на этом самом месте вчера сидели наши соседи Али и Вали. Али спросил у Вали: «У тебя, Вали, есть брат?» — «Есть». — «А скажи, пожалуйста, сколько ему лет?» — «Сорок семь». — «А сколько тебе самому?» — «Тридцать три». — «А скажи, сколько вам обоим будет вместе, если сложить?» Думал, думал Вали, потом обернулся к Али и говорит: «Валлах, Али, у меня и брата-то нет!»
Так что видите, какие остроумные люди есть в наших горах! Таким и хвастовство ни к чему!
— Все вы знаете, какие меткие стрелки кайтагцы, — снова услышал я голос дяди. — Вот как-то зашел в тир один кайтагец по имени Камал. А надо вам сказать, что любил он порой прихвастнуть. Видит — соревнуются два друга: Башир и Муртуз. А стреляют неважно. Камал пренебрежительно говорит: «Такими выстрелами вы отечество не защитите! Дайте-ка я вам покажу, как надо стрелять!» Берет ружье, лихо вскидывает. Бац — мимо. Другой бы на его месте сконфузился, но наш кайтагец был не из таких. «Вот как ты стреляешь, Башир!» — сказал он и снова вскинул ружье, прицелился получше — и опять неудача. «А так стреляешь ты, Муртуз!» Тут он приладился половчее, весь напрягся и попал-таки в цель. «А вот так стреляю я!» — воскликнул Камал и гордо вышел из тира. Так сейчас выстрелил и ты, мой молодой друг! — И дядя одобрительно похлопал соседа по плечу.
Смех постепенно стихал, да и время было позднее, поэтому гудекан начал пустеть. Попрощались и мы и потихоньку пошли к приютившему нас дому. Тут мне почему-то вздумалось рассказать, как я встретил в Изберге мастерицу Цыбац.
Если бы вы только видели, как дядя ухватил меня за руку и увлек в сторону, приложив еще и палец к своим устам: «Тихо!»
— Почему ты сразу же не сказал мне об этом? — зашептал он.
— Откуда я знал, что это так важно?
— Именно важно! Пошли, мне надо срочно ехать. Лошадь я оставлю тебе, а сам доберусь машиной или самолетом. Только никому ни слова о встрече в Изберге, понятно?
— Как не понять! Я же все-таки твой племянник! — похвалился я, обрадованный тем, что он оставляет мне для дальнейших странствий своего коня.
Только позже, когда мой дядя, попрощавшись с домочадцами Айдамира, уехал на первой попутной машине, я сообразил, что ́ произошло. Я же не сказал ему, что Цыбац давно замужем! А он испугался, видно, что слух о его женитьбе как-нибудь дойдет до нее и она явится в Кубачи, чтобы отомстить за старые обиды. И еще я понял, что теперь-то мой дорогой дядя не станет ждать моего возвращения из странствий. Но главное, я благодарил его в душе за коня: насколько короче станут для меня наши горные дороги!
Перед отъездом я наведался к Жавхарат. Ей уже рассказали о моих скитаниях, и она попросила показать мои трофеи. Но ничего, кроме улыбки, они у нее не вызвали.
— Мне сказали, что Серминаз не только красива сама, но и понимает прекрасное, а ты собираешься прельстить ее такими пустяками! Отдай-ка лучше губденские мачайти мне, они мягкие, а у меня ноги болят. А чеканный поднос свой поставь вон туда на полку, — там уже стоит пять точно таких же, пусть будет полдюжины.
Не мог я ослушаться старую женщину и сделал так, как она просила.
— А теперь, жених, иди к камину и возьми с полки справа поставец.
Я снял тяжелую вещицу — она показалась мне сделанной из окрашенной кости.
— Иди-ка к свету да полюбуйся им. Так уж и быть, ради нашей радости и твоей удачи отдам его тебе.
Только подойдя к окну, я увидел, какую необычную вещь держу в руках. Это был поставец для вилок и ложек, и сделан он был из сотен кусочков черного дерева, да так, что не заметишь ни одного соединения: все скрывали затейливые узоры и украшения. Видно, замечательный мастер немало поработал над этой вещью. Одно меня удивляло: как же дядя мой не попытался заполучить его в свои руки?
— А Даян-Дулдурум знал о поставце? — спросил я.
— Знал, да только он и не пытался за ним охотиться, — все равно ничего бы не добился. Ведь из этого поставца моя мать брала ложку и угощала медом нашего Махача, да не померкнет слава его!
— И неужели ты отдашь его мне?
— Уже отдала, — просто отвечала Жавхарат. — Пусть с ним придет к тебе счастье и никогда тебя не оставит.
— Спасибо, Жавхарат. Как мне жаль, что ты не сможешь присутствовать на нашей свадьбе!
— А почему ты знаешь? Может, я до этого дня еще поправлюсь, — улыбнулась мне Жавхарат. — Уж, во всяком случае, постараюсь.
— Мы будем тебе очень рады.
— Ну, сынок, счастливого тебе пути. Но куда бы ты ни направился, я советую тебе заглянуть в славный аул Балхар.
— Балхар так Балхар, — ответил я и, попрощавшись с благородной женщиной, сел на коня и отправился в путь.
Двигаясь вверх по течению аварского Койсу, я добрался до аула Ирганай и через головокружительное Араканское ущелье попал на то место, где сливаются аварская Койсу и Кара-Койсу. Затем на пути моем предстал аул Гергебиль, где, по сообщению Страбона, жили амазонки. С амазонками я уже встречался в Долине женихов, у аула Ицари, и потому, миновав хаджалмахинские сады, доехал до Цудахара, а затем по узкой тропе направился в знаменитый Балхар.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ
1
Вместе с любовью к родителям воспитывалась раньше в юноше-горце любовь к коню. Больше, чем саклей, больше, чем добром в сакле, больше даже, чем своей чернокосой и черноокой, робкой и стыдливой женой, гордился джигит своим конем. Издавна считалось почетным, если у юноши полы чухи разодраны от езды, а шашка и пистолеты протерли в ней дыры. Иначе и быть не могло: ведь все опасности (а было их немало в жизни горца!) делил он с конем. Надо защитить горы от непрошеных гостей — на коня, помочь в беде друзьям — на коня, честь свою отстоять — на коня, вырвать любимую девушку из рук алчных родителей — на коня, в скачках блеснуть джигитовкой — на коня! Если кто-нибудь хотел жестоко оскорбить другого, он обрывал хвост его коню. А убить коня — это уже смертельная обида.
Самый ценный, самый выносливый, самый умный конь — это конь местной породы — аргамак. Такой не раз спасает всадника, а всадник отвечает ему глубокой привязанностью. Вот и тот конь, на котором я сейчас еду, спас жизнь моему дяде.
Даян-Дулдурум так рассказывал об этом случае. Как-то зимой оказался он в Нукатлинских горах. Шел снег, выл ветер, надвигалась ночь. Мост по дороге из Цуриба в Гуниб оказался разрушенным, и понял дядя, что придется ему здесь расстаться с конем: предстоял головокружительный спуск в ущелье, где и одному-то человеку пробраться почти невозможно, не то что с конем на поводу. А остаться наверху — верная смерть: оба замерзли бы в пургу.
Снял мой дядя с седла коня хурджины, взвалил их на себя, обнял коня за шею и даже прослезился. Показалось ему, что и у коня в глазах появились слезы. Не оглядываясь, начал Даян-Дулдурум спускаться и только к полуночи миновал опасное место. Но перевалить через горы он уже не мог: сбила с ног пурга, и почувствовал Даян-Дулдурум, что приходит ему конец. Лег он, укрывшись в камнях от ветра, и стал ждать, когда со сладким сном коснется его холодная смерть. И вдруг почувствовал прикосновение к щеке чего-то теплого, влажного. Открыв глаза, Даян-Дулдурум был изумлен: перед ним стоял его конь и будто укорял его: «Неужели ты, хозяин, подумал, что я не пройду там, где сумел пройти ты?» И дядя рассказывал, что долго потом мучила его совесть, потому что ведь предал он истинного друга.
Раздумывая об этом, ехал я по немощеной дороге к аулу Балхар. И на поляне рядом с речушкой увидел путника, отпустившего коня пастись и приготовившегося к трапезе. Заметив меня, путник вскочил:
— Эй, всадник! Хлеб застревает у меня в горле, не могу есть в одиночестве. Окажи милость, раздели со мной завтрак.
Голос его показался мне знакомым, а когда я подъехал поближе, то узнал одного из моих соперников — Мухтара, сына Ливинда. Вот уж кого не ожидал встретить! И заметь я его пораньше, обязательно свернул бы в сторону, потому что хоть и земляк он мне, хоть и мастер хороший, но человек несносный. Вы уж простите меня, почтенные аульчане, за резкость, но это мое мнение: скверный у него характер, фальшивый.
Вот и сейчас он сделал вид, что ужасно обрадовался нашей встрече, и, продолжая играть роль радушного хозяина, указал на щедрое угощение, а сам облокотился на хурджин и сказал:
— Ну, друг, сними с коня поклажу, отпусти его пощипать травку, а мы с тобой пока подкрепимся свежей вареной бараниной. — И, показывая на четвертную бутыль, добавил: — А здесь у меня, между прочим, не минеральная вода, а вино, и, клянусь, это вино получше, чем у нашего Писаха.
Я разнуздал коня и, привязав конец уздечки к луке седла, легонько ударил ладонью по его крупу: «Иди пасись». Положив в сторону свои хурджины, я, не торопясь, как подобает настоящему мужчине, сел за трапезу. На газете лежали пучок свежего лука, несколько головок редиски, вареное мясо, которое Мухтар ловко разрезал ножом на ровные куски.
Он протянул мне полную кружку:
— Я уже одну выпил. Так что догоняй. Дерхаб, друг!
— Дерхаб! — сказал я и выпил вино.
— Ну как?
— Вино превосходное, — ответил я и взял кусок вареной баранины. — Какой ветер занес тебя сюда? — спросил я, хотя, конечно, прекрасно знал, что одним и тем же ветром надуты наши паруса.
— Поручили мне особый заказ, друг. Вот я и выехал изучать орнамент горцев. Время требует, обогащать надо наши узоры, иначе окажемся позади своего народа.
И это говорил он мне, глядя прямо в мои глаза, да с таким еще видом, будто ему одному вручена судьба кубачинского искусства. Иной мог бы и поверить. Ведь даже глазом не моргнул человек! Врет и не только не краснеет, но еще важно причмокивает.
— Что ж, дело похвальное, — сказал я. — Желаю успеха.
— И тебе того же! Ты-то, как мне известно, совсем по другой причине в путь отправился? — Он снова наполнил кружки.
— Да.
— И, наверное, что-нибудь уже подыскал?
— Да так, почти ничего.
— Покажи, покажи, будь другом.
Он так ехидно выспрашивал, что я решил осадить наглеца и достал из хурджина поставец. Но, к моему огорчению, он ничуть не поразился, а только заметил:
— Уникальная работа!
— А ей поправится, как думаешь? — вырвалось у меня.
— Кому это — ей? — спросил Мухтар, и показалось мне, что даже вздрогнул.
— Серминаз.
— Ах, Серминаз! Вот ты о ком говоришь! Не знаю, не знаю…
2
Разочарованный, я спрятал дар доброй женищны в хурджин и подумал: «Неплохо бы узнать, что успел раздобыть сам Мухтар». Выпивая, мы вели степенную беседу, но, сколько я ни старался перевести разговор на Серминаз, Мухтар уклонялся и говорил о погоде, о том, что в этом году будет хороший урожай персиков и винограда, что в нашем ауле собираются строить аэродром…
Наконец с вином было покончено, и мы улеглись, положив под головы свои хурджины. И, наверное, как эти кучевые облака в голубом небе, мысли наши уносились в одну сторону — к Серминаз. И именно поэтому оба мы молчали.
Но что же все-таки скрывается в хурджинах Мухтара? Под плотной ковровой тканью вырисовывается что-то округлое и, кажется, тяжелое. Может, попробовать заглянуть туда, пока он спит? Я протянул было руку и попытался подтащить к себе один из хурджинов. Мухтар еще громче захрапел и, повернувшись на другой бок, как бы невзначай прижал суму рукою. Тогда я решил, когда он проснется и пойдет за конем, попросту залезть в его хурджин, сказав, что перепутал со своим: ведь они схожи как близнецы-братья. Но тут сказалось действие выпитого вина, а я заснул мертвым сном.
Проснувшись в сумерках, я увидел, что Мухтара и в помине нет, а когда с дрожью в сердце схватился за свой хурджин, — обомлел. Так и есть! Обманул меня этот негодник, похитил мой драгоценный поставец и вместо него подложил мне тяжеленную ступку, в каких толкут орех и чеснок к хинкалу. Не помня себя от злости, я схватил за горлышко пустую бутыль и со всей силы грохнул ее о камень, так что осколки брызнули во все стороны. «Мошенник!» — крикнул я, и насмешливое эхо разнесло мой голос по долине.
Как обманул он меня! Как скрыл за притворной улыбкой свой черный замысел! Ведь пока он дружески беседовал со мной, в душе его уже созревал коварный план. Нет, не мог я тут не вспомнить, как вызвал к себе аллах кровожадного волка и стал поучать: хватит, мол, тебе заниматься душегубством, грешно, мол, это и несправедливо. Надо тебе морально перековаться, начать другую жизнь… А волк слушал его, слушал и говорит: «Нельзя ли покороче? А то мимо леса отара проходит, а пастух отстал». Видно, и такому, как Мухтар, не перековаться морально. Пусть он и думать забудет о Серминаз! На ведьме бы его женить, на двух бы ведьмах сразу!
Я весь горел от бешенства, и казалось, что если я вырву из груди свое сердце и хвачу им оземь, взрыв будет как от бомбы.
Думал я выбросить дурацкую ступку, но потом решил, что, может, повстречаюсь еще с Мухтаром на дороге, и пусть только он не вернет мне тогда поставец.
Сел я на коня и с тяжелым сердцем отправился дальше. Медленно спускался мой конь по протоптанной горной дороге, и вот посреди ровного плато возник передо мной аул Балхар. Он был расположен на холме, в центре глинистой долины, и походил на гигантскую печь для обжига: сакли с плоскими крышами, облепившие холм со всех сторон, словно полочки, на которые ставят в печи всевозможную глиняную утварь. И еще больше подчеркивал сходство с печью дымок, поднимающийся над каждой саклей.
Возникновением своим этот аул знаменитых гончаров был обязан мастеру Балхару. Ни сакли его, ни могилы не сохранилось, но сохранилось дело, которое начал он здесь, покинув родной край из-за неразделенной любви. До сих пор называют его мастером с разбитым сердцем и до сих пор поют здесь сложенную им песню:
Круг гончарный, ты вращайся, Ты крутись, без остановки. Глина красная, сминайся В пальцах сильных, в пальцах ловких. Ты не плачь, моя родная, Что кувшин твой раскололся, Видно, ты еще не знаешь, Что разбила сердце горца. Круг ореховый, вращайся И крутись без остановки. Глина красная, поддайся Пальцам сильным, пальцам ловким. Улыбнись, горянка, свет мой, Сбей с души моей оковы… А кувшин — беда ли это? — Смастерю тебе я новый!На широкой ровной площадке перед аулом я соскочил с коня: считается непочтительным въезжать в чужой аул верхом. На улицах Балхара царила вечерняя суета. Возвращалось стадо буйволов, мычали коровы, ревели ишаки, перекликались, выйдя на нагретые за день крыши, жители.
— Эге-гей, люди добрые! Не видел ли кто моего серого бесхвостого осла? — кричал один.
С дальнего конца аула откликнулся голос:
— Эй, Абдулла, я видел твоего осла!
— Будь добр, скажи где. С утра не могу найти! — надрывался Абдулла.
— Я видел его вчера у тебя во дворе!
Обозленный Абдулла послал насмешнику слова, которые никто не осмелится произнести на гудекане, ибо они осквернили бы святое место.
3
Оглушенный этим гомоном, я несколько забылся, как вдруг почувствовал острую боль в ноге и свалился наземь. Надо же было такому случиться! На меня кинулся здоровенный козел, которого вела на веревке молодая балхарка.
Увидев, что у этого бородатого дьявола рога как два острых кинжала, я чуть было не закричал: «Люди добрые, спасите, режут!» Но сдержался и только сказал:
— Ну и зверь! И глаза-то у него как у зверя!
— Я не виновата, он сам набросился.
— Смешно, не правда ли? — с ехидством спросил я, заметив, что балхарка, прикрывшись платком, едва сдерживает смех.
— Не сердись! Это всего лишь безмозглая тварь…
— В том-то и дело! Уж лучше бы она была с мозгами, — может, бросилась бы на кого другого.
— Зайдем ко мне, переждешь, пока пройдет боль. Или у тебя есть кунак в ауле?
— Нет у меня здесь никакого кунака.
— Тогда зайди. Отдохнешь! — сказала хозяйка козла, и мне ничего не оставалось, как пойти за нею.
Когда мы вошли во двор, хозяйка сняла платок, и я увидел, что она молода и красива. Я загляделся на ее свежее лицо с пушистыми, как кунзахский персик, щеками, с пухлыми, резко очерченными губами и прямым носом.
Она отвязала веревку и отогнала воинственного козла в глубь двора, потом расседлала моего коня, внесла в саклю хурджины.
— Что это у тебя такое тяжелое? Камень, что ли?
— Да, — отвечал я.
— Шутишь! — улыбнулась она лукаво.
Вслед за нею я поднялся по крутой деревянной лестнице наверх, где ожидал встретить кого-нибудь из ее родных. Но дом был совершенно пуст.
— Ты что, одна живешь? — спросил я озадаченно.
— Дед сейчас с отарами на пастбище, так что я одна хозяйничаю. Я ведь вдова, — сказала она грустно.
Ну и ну! Девушка моих лет — и уже вдова!
Как рассказала Салтанат (так звали мою хозяйку), муж ее был шофером и погиб этой зимой. То ли по своей глупости, то ли по глупости друзей. И потянулась для нее скучная и печальная вдовья доля.
Салтанат разоткровенничалась со мною, и я тоже порассказал ей о своем житье-бытье и о странствованиях, хотя, сам не знаю почему, ни словом не упомянул о цели этих странствий, о Серминаз, которая виделась мне сейчас смутно, как бы очень издалека, — только, прошу вас, не подумайте обо мне худо.
Милая хозяйка дала мне йод и бинт, потому что рога этого козла и впрямь оказались очень острыми: они пропороли икру так, что хозяйка вскрикнула, увидав рану. Проклиная зловредное животное, она одновременно извинялась передо мной, а мне было даже стыдно, что я так пострадал от какого-то паршивого козла. Ну, собака — понимаю, ну, медведь в лесу напал — случается. Но от козла… А меж тем рана болела все сильнее.
— Посиди немного один, — сказала Салтанат, — у меня дела в гончарном цехе, там сейчас идет обжиг, надо проверить температуру.
Я сел на террасе и принялся сочинять письмо Серминаз, потому что мало ли на свете красивых женщин, но она-то у меня одна!
Впрочем, куда и как адресовать письмо — вот в чем загвоздка. Написать в Кубачи невозможно, в тот же день все будут об этом знать, и не потому, что почтальонша болтлива как сорока, а скорее потому, что в ауле каждый второй поражен вирусом любопытства… И если даже человек не хочет разглашать тайну, из него ее вымотают любым путем. Пригласят почтальоншу в дом, усадят на мягкие подушки, угостят сметаной с медом, а затем потихоньку, как бы между прочим, заглянут в сумку. «Ой, сколько писем! А нам только одно?» И конечно, найдут среди писем и мое письмо к Серминаз и воскликнут удивленно: «Смотрите-ка, и Серминаз письмо! Это уж, наверно, сын Айши прислал…» И хозяйка тут же позабудет о гостье и выскочит на крышу, чтобы сказать соседке: «А ведь верно, оказывается, говорили о Серминаз, что она связалась с этим байтарманом! Никто не знает этого лучше, чем я! Откуда? А уж это мое дело! Ну и молодежь…»
И еще вопрос: как начать письмо? «Дорогая…» Но разве я имею право назвать Серминаз «дорогой»? Это уж слишком! А если просто: «Уважаемая…» Нет, это очень холодно звучит, по-канцелярски. Написать «милая»? Милая-то она милая, но станет ли читать после такого обращения? Нет, уж лучше начну просто: «Серминаз!» А дальше что? «Я тебя люблю…» Но эти слова столько раз повторены в любовных историях, рассказанных писателями, что уже обесцветились. Раньше хоть немного краснели, а теперь напишешь черным — черными и остаются.
А что, если я обращусь к ней на лакском, аварском или кумыкском языке? Впрочем, этих языков она не знает. И я подумал о том, что, в сущности, и без всяких писем то и дело обращаюсь к ней. О, бесконечно! И если она питает ко мне хоть какое-нибудь чувство, то понимает, что я думаю о ней постоянно.
К черту письмо! Не буду писать!..
Во дворе копошилась наседка с выводком, и семеро ее цыплят издали походили на выкатившиеся из корзины цудахарского торговца спелые абрикосы. Нет, почему он все время стоит передо мною, тот цудахарец в широкополой шляпе, оплакивавший на краю пропасти своего осла? Что мне в нем?
Тут из-под навеса вышел на солнце остророгий козел, и раны мои снова заныли. Я поискал вокруг, чем бы запустить в него, но ничего, кроме заржавленного кинжала без ножен, которым, видно, ворошили угли в очаге, не увидел. Тогда я швырнул в злодея кинжал, никак не думая, конечно, что попаду. И, надо же, попал прямо по рогам! Один рог обломился под самый корень. Козел заплясал от боли дикую пляску. И тут я подумал: что же, собственно, сказать хозяйке?
Удрученный, сидел я на террасе, размышляя, не прирезать ли мне козла вовсе, пока не поздно, как вдруг откуда-то с дальнего конца аула до меня донеслось:
— Эй, соседки, смотрите, к Салтанат жених приехал!
Мгновенно несколько женских голосов подхватили эту новость, передавая ее все дальше по аулу.
«Уж не меня ли они имеют в виду, эти горластые кумушки?» — подумал я, но сообразил: крик слышался с окраины аула, значит, какая-то востроглазая сплетница, вроде нашей Мицадай, увидела, что кто-то идет. И мне почему-то стало неприятно, что к Салтанат вот так, у всех на виду, приехал жених.
Появилась сама Салтанат. Ее сопровождал человек в белой войлочной шляпе, и я сразу признал в нем того самого цудахарца, для которого горцы собрали деньги. Он, видимо, уже успел их истратить, так как впереди без седла и без корзин шел серый осел.
— Где же твои абрикосы? — спросил я.
— Все продал! — явно соврал он.
— А где корзины?
— У меня так расхватывали свежие абрикосы, что и корзин не оставили.
Я промолчал: во-первых, человек этот был гостем моей хозяйки и мне не годилось затевать с ним спор; во-вторых, по двору все еще метался козел, теперь уже однорогий, и Салтанат не могла не понять, чьих это рук дело; и, в-третьих, вспомнилась поговорка: гость не любит гостя, а хозяин на двоих глядит со злостью! И хотя за ужином Салтанат все время бросала на цудахарца влюбленные взоры и обращалась к нему не иначе, как: «Идрис, дорогой, попробуйте это… и еще это…», он все время косился на меня, и легко было догадаться, что не по душе ему было мое присутствие.
Салтанат рассказала, как она работает в гончарной артели, и показала грамоту, выданную ей за отличные изделия. Цудахарец все пытался объяснить, как удачно он торговал абрикосами, но я видел, что не это было целью его приезда. Ну, а я — я весь вечер прохвастался тем, какой отличный конь привез меня в аул Балхар.
Когда пришла пора ложиться спать, Салтанат дала мне в руки кинжал и сказала:
— Сам виноват, сам и расплачивайся: набери сена из стога и ложись во дворе. А если ночью козел будет издыхать, прирежь его, чтоб хоть мясо зря не пропало.
Надергал я сена из стога, постелил и улегся на спину. Ночь была черная, как рубашка вора, звезды сплошь затянуты низкими облаками. Вперяясь взглядом в темноту, я раздумывал о том, что такой жизнерадостной красавице, как Салтанат, вовсе не подходит этот цудахарский Идрис — унылый, желчный и жуликоватый, так по крайней мере мне казалось. Потом я заснул, а проснулся оттого, что кто-то храпел рядом со мною. Вспомнив, зачем я здесь оказался, я решил, что козла пора резать, схватил кинжал, лежавший под рукою, и, нащупав в темноте горло животного, быстро полоснул по нему. Каков же был мой ужас, когда, ощупав труп, я понял, что это храпел не козел, а ослик цудахарца.
«Ну и наворотил я дел! — подумал я. — Что же со мною будет, когда наступит утро? Нет, надо бежать, да поскорее».
Конь мой стоял поблизости во дворе, и, несмотря на темноту, я быстро оседлал его. Но как вытащить с террасы хурджины?
Нащупав ступеньки, я в кромешной тьме стал подниматься по лестнице, но не заметил, что она кончилась, оступился и упал. При этом рука моя попала в горло кувшина, стоявшего у перил, и как я ни старался, но вытянуть ее не мог. Оставалось только разбить кувшин.
Тут я увидел в темноте светлое пятно. Решив, что это деревянный гончарный круг, который я приметил еще днем, я с размаху стукнул по нему кувшином, но, увы, и тут жестоко ошибся: светлое пятно оказалось белой войлочной шляпой цудахарца, к тому же еще надетой на его голову.
— Ох! — вскрикнул он, просыпаясь, и схватил меня за руку. — Кто ты, гром на тебя и молния! Что случилось?
— Это я, Бахадур, — ответил я, дрожа от страха, потому что, не будь эта шляпа такой толстой и мягкой, вслед за ишаком отправился бы на тот свет и его хозяин. Хорошо, что в этот момент мне вспомнились слова моего дяди: «Если тебе некуда отступать — наступай!» И потому я сказал как можно более возмущенно:
— Не ори, не то еще получишь! Нечего тебе здесь разлеживаться! Ты такой же кунак, как я. Иди теперь сам во двор, ложись под стог и карауль козла. Я вам не нанимался!
— И для того, чтобы отправить меня вниз, надо было бить кувалдой по моей бедной голове?
— У нас, кузнецов, что кувалда, что кулак — одно и то же. Может, хочешь еще попробовать?
— Ладно, пусть только рассветет, я тебе покажу, как надо со мною разговаривать, — сказал Идрис, нехотя поднимаясь.
— Иди, иди. Там у стога лежит кинжал. Как услышишь храп козла, сразу режь.
Цудахарец стал спускаться по лестнице, а я, чтобы он не заподозрил подвоха, устроился на его месте, прикрывшись теплой овчинной шубой.
Пока он ходил и шуршал там внизу, меня чуть было не сморил сон. Но вот цудахарец затих. Я собрался встать и поискать свои хурджины, как вдруг сквозь открытое окно до меня донесся нежный голосок Салтанат:
— Идрис, милый, я жду тебя… Иди…
Я замер под жаркой шубой, боясь пошевелиться. Что будет, если она увидит, что я прогнал ее жениха? Оставалось одно — притвориться крепко спящим. Так я и сделал: вытянулся под шубой и стал потихоньку храпеть. И так искусно притворялся, что сам не заметил, как заснул богатырским сном.
Проснулся я утром от крика Салтанат. Она стояла у края террасы и остолбенело глядела во двор. Я приподнялся и перегнулся через перила. Было от чего закричать! С одной стороны стога лежал зарезанный мною осел цудахарца. С другой — зарезанный цудахарцем мой аргамак. А в углу двора застыл самостоятельно издохший козел хозяйки.
Одна беда за другой на мою несчастную голову! А тут еще Салтанат обнаружила, что ее милый жених сбежал ночью, видимо опасаясь расправы за коня. Он ведь помнил, как я расхваливал его накануне. От испуга Идрис даже оставил у хозяйки своего ослика, очевидно не заметив в ночной мгле, что и ослик-то уже протянул все четыре ноги.
Салтанат накинулась на меня так, что я и погоревать не успел как следует по любимому дядиному аргамаку.
Все утро мы препирались, и наконец пришла ей пора выходить на работу. Я поплелся за нею следом, ведомый все той же навязчивой идеей — подыскать подарок для невесты.
4
Вот и знаменитые балхарские печи, издали напоминающие небольшие огнедышащие кратеры где-нибудь в Исландии или на Камчатке. Над каждой печью на шесте укреплен буйволиный череп, или ослиный хвост, или рога горного дикого тура: по поверью, они оберегают изделия от трещин, а глазурь с их помощью ложится ровнее.
Вокруг аула нет лесов, и потому топят здесь кизяком, — целые груды его можно увидеть и на крышах саклей, и вокруг печей. Кроме гончарного производства, Балхар славится овцеводством, причем овцами занимаются мужчины, а гончарное ремесло постепенно переходит в руки женщин. Но на гудекане балхарские мужи часто вспоминают славных мастеров Балхара и Кулкучи, чьи искусные узоры до сих пор считаются непревзойденными.
Пока мы стояли у печи, Салтанат словно забыла о всех наших неприятностях, она, отвечая на мои вопросы, рассказывала о том, что керамика Страны гор с незапамятных времен славится во всем мире. Кувшины из очищенной красной глины — ее здесь называют восковой — были известны еще до нашей эры. Позже появилась ангобская роспись и сосуды, украшенные лепными изображениями тура, козла, барса. В последнее время неподалеку от аула нашли залежи разноцветной глины: белой, красной, темно-серой. Изделия из нее пользуются большим успехом не только в Дагестане.
Я слушал Салтанат, узнавал от нее о старых мастерах, о забытых рецептах глазури, о разнообразных орнаментах, а она, в свою очередь, исподволь выспрашивала меня о моей родине, о моем ремесле и моих планах. Но я снова переводил разговор на историю керамического искусства, интересовался старыми мастерами.
— Что ты роешься в пепле? Зачем тебе знать о тех, кто давно в могиле? — неожиданно оборвала она меня. — Не лучше ли думать о живых?
— Но ведь все это так увлекательно!
— Ладно, потом я тебе все расскажу, — сказала Салтанат, а я подумал: «Когда это — потом? Уж не полагает ли она, что я тут останусь?»
— И все же, — продолжал я, — об одном мне хотелось бы узнать сейчас: какое из ваших изделий считается лучшим, самым оригинальным?
Ей не понравилась моя настойчивость, и она ответила с усмешкой:
— Свистулька!
— Нет, я серьезно, Салтанат!
— И я серьезно. Это самая подходящая вещь для таких, как ты!
— Ты меня обижаешь!
— А ты меня не обижаешь? Заладил одно и то же: глина да кизяк, кувшины да печи. А на меня и не взглянешь даже. Неужели глина интереснее?
— Что ты, Салтанат! Ты очень красивая… — сказал я и почему-то покраснел.
— А полюбить меня можно? Как считаешь?
Вот тут уж я испугался. А что, если эта милая вдовушка и впрямь имеет на меня виды? Нет, надо быть поосторожнее, не то прощай, аул Кубачи, прощайте, мои родные и Серминаз.
— Ну, что же ты молчишь? — Салтанат отвернулась, делая вид, что вглядывается в жерло печи.
— Конечно, можно! Ты хороша собой, добра, весела…
— Откуда ты взял, что я весела?
— Мне так вчера показалось.
— Мало ли что вчера! А вот сегодня я чувствую себя самой несчастной на свете. И этот негодяй Идрис ко всему сбежал, даже не попрощавшись…
Она глубоко вздохнула. А я подумал: ночью она звала: «Идрис, милый, иди!» — а сейчас ругает его. Поистине, натура человека — шилагинский лес, где, кажется, все есть, но чего-то все-таки не хватает!
Не знаю, что еще наговорила бы мне Салтанат, но тут аульчане, уже давно поглядывавшие на нас со стороны, подошли к печи, чтобы достать обожженные глиняные сосуды. Этот момент всегда превращается в ауле в небольшой праздник. На лужайке перед печами расстилают яркие паласы, расставляют бутылки с вином, закуску…
Меня пригласили присоединиться к мужчинам, наполнившим бокалы, меж тем как их жены вытаскивали из печи обожженные изделия. Мне показалось странным, что работают женщины, а празднуют мужчины, но все были довольны. Жены перебрасывались с мужьями веселыми шутками, расставляя кувшины на плоской каменной плите. Салтанат ударяла по сосудам кизиловой палочкой, и глина издавала тонкий звон — значит, не было в кувшинах ни единой трещинки. Прислушиваясь к мужской беседе и не отставая от своих соседей по питью, я приглядывался к свежеобожженной керамике: нет ли здесь достойного подарка для Серминаз? Но ничего такого я не обнаружил, кроме разве одного кувшина из темно-серой глины с красной и белой росписью.
Он походил на лебедя, и великолепный узор, напоминающий спутанные ветерком сочные травы, был не менее тонок, чем знаменитые кубачинские орнаменты.
— Что, загляделся на нашу Салтанат? — спросил меня ехидно сосед, парень с продолговатым лицом, напоминающим о том, что как ни крути, а человек все же произошел от обезьяны.
— Нет, нет, я вас слушаю, — смутился я.
— Ушами-то слушаешь, а вот глаза твои так за ней и бегают.
Вместо ответа я налил бокал вина и выпил.
— Это не тебя она вчера встречала?
— Да чего ты к нему пристал, Хатам? — сказал другой парень.
— Меня, — ответил я, лишь бы отвязаться.
— То-то наши кумушки шум подняли! Сижу я за хинкалом, вдруг с крыши спускается моя почтенная бабушка, а лет ей сто девятнадцать, спускается и говорит: по всему аулу крик идет, что к Салтанат жених приехал, уж не за генерала ли она выходит? А ты, я гляжу, на генерала вовсе и не похож.
Я понял, что человек этот почему-то хочет меня обидеть. Но связываться с ним было ни к чему, да и дела моего не объяснишь, не задев хозяйку, — теперь мне это стало ясно. И потому я промолчал.
Но мой сосед не унимался:
— Скажите мне, что дороже: ум или богатство?
И хотя вопрос этот относился ко всем сидящим, но длиннолицый Хатам смотрел на меня одного. Я не растерялся и твердо ответил:
— Ум!
— Почему же не богатство? — спросил Хатам.
— Потому что глупому и богатство не впрок, — сказал я, даже не ожидая, что слова мои так понравятся балхарцам. Они одобрительно засмеялись, а кто-то даже воскликнул:
— Ты что же это, как Эльбрус? Сразу седым родился?
— Возможно, — ответил я, не желая уступать этим зубоскалам.
— В таком случае, скажи, пожалуйста: есть ли какое-нибудь сходство между умным и дураком? — спросил меня Хатам.
Я понял, что балхарцы решили меня разыграть, и, собравшись с мыслями, ответил:
— Есть! Сходство между дураком и умным в том, что умный не говорит, что он умный, а дурак не говорит, что он дурак.
— А смотри-ка, варит его башка! Но тогда уж скажи, какая между ними разница.
— А разница в том, — со злости нашелся я, — что умный сразу распознает дурака, а дурак и не ведает, что умный умен.
Все остались довольны моими ответами, кроме кажется, одного Хатама. Я и сам был доволен. Когда припрет — я все же не теряюсь, а это — редкое, но доброе качество.
Подошла Салтанат. И тут уж длиннолицый решил во что бы то ни стало вогнать меня в краску.
— Слушай, мудрец! — Он хлопнул тяжелой ладонью по моему колену. — Видишь вот этот горшок?
— Ну, вижу, — отвечал я независимо.
— Вот я его наполняю вином.
— Вижу.
— А теперь отгадай две загадки. Отгадаешь — я выпью все это вино, не отгадаешь — выпьешь ты.
— Нет, спасибо, я больше пить не могу, — отвечал я, понимая, что если еще выпью, он добьется своего и сумеет посадить меня в лужу.
— Какой же ты мужчина, если в присутствии своей красавицы, — тут сосед мой кивнул на Салтанат, — отказываешься от вина.
— Не робей, Бахадур! — улыбнулась мне Салтанат. — Если что — я помогу.
Проще всего, конечно, было отказаться. Но мой дядя всегда говорил, что в любых обстоятельствах кубачинец должен быть стойким, потому что, где бы он ни опозорился, это все равно дойдет до родного аула.
— Ну, давай твои загадки, — решительно обратился я к соседу.
— Первая загадка. Что это за растение: растет не на земле, ветки пускает, а вот поливать его не надо?
— Я знаю, я знаю! — захлопала в ладоши развеселившаяся Салтанат. Но подсказать мне ответ не догадалась, а я никак не мог сообразить, что же это за растение такое.
— Давай и вторую, может, заодно отгадаю, — сказал я, чувствуя, что придется опорожнить кувшин, в котором не меньше литра вина.
Вторая загадка моего насмешливого соседа была такая: «И детей и взрослых, и в горах и в степи — всех наряжает, а сама ходит голая».
Нет, и с этой загадкой я никак не мог справиться, и пришлось мне осушить кувшин.
Всем понравилось, как молодецки я расправился с вином, и, подбодренный успехом, я вскочил и пошел плясать лихую лезгинку. Потом, как припоминаю, вышла в круг Салтанат, длиннолицый Хатам оттолкнул меня и сам стал танцевать с нею. Мне это не понравилось, я схватил опустошенный кувшин и стукнул Хатама по голове. Потом об мою голову разбились все остальные кувшины и горшки, вынутые из печи, а дальше уж я ничего не помню, не стану врать. Только когда вся дневная продукция артели была перебита, откуда ни возьмись явился знаменитый на весь Дагестан милицейский майор Максуд и навел порядок — да не померкнет солнце над саклей этого храбреца! Ведь если бы не он, может, и не узнали бы вы ничего о моих приключениях, потому что закончились бы они в тот день в ауле Балхар.
Впрочем, майора Максуда вы, вероятно, и сами знаете — он всем известен! Рассказывают, что у него в сакле гостили несколько лет назад два друга — мудрый старец народный поэт Абуталиб Гафуров и Александр Твардовский — отец Василия Теркина. Почивали они на пуховых перинах у Максуда в кунацкой, как вдруг ни свет ни заря врывается хозяин и будит их. «Что случилось?» — спросили обеспокоенные гости. «Вставайте скорее! — ответил Максуд. — Ко мне начальство с проверкой нагрянуло!»
Ну и хохотали же гости, да и сам их хозяин, узнав, что это первый секретарь райкома заехал по пути в райком пожать руки поэтам.
5
Очнулся я на мягкой постели в сакле Салтанат. Милая хозяйка прикладывала к моей голове куски льда. Судя по тому, что солнце садилось, я не приходил в себя несколько часов.
— Зачем они меня так? — спросил я слабым голосом.
— А ты знаешь, кто был тот человек, рядом с тобой?
— Этот бессовестный негодяй?
— Вот именно! Он злился на тебя потому, что я отказалась выйти за него замуж.
— Почему же он на меня-то злился?
— Увидел, с какой любовью ты глядел на меня.
— Я?
— Конечно! А разве нет?
Если даже и допустить, что была в моей голове какая-нибудь любовь к Салтанат, то балхарскими кувшинами ее напрочь выбили. Но сейчас я чувствовал себя слишком слабым, чтобы выяснять отношения.
— Скажи, Салтанат, неужели у вас всегда так отмечается обжиг изделий?
— Не всегда, но…
И тут я понял, почему балхарская керамика пользуется таким спросом: видимо, кувшин, прошедший через обжиг и добравшийся до покупателей, миновав чью-то голову, — и впрямь большая редкость. Но что же будет со мною? Ведь еще несколько печей ждали того, что из них извлекут готовую продукцию! Нет, задерживаться в этом ауле не следует. Хорошо бы прихватить какой-нибудь трофей и смыться.
— А что, вчерашний кувшин в форме лебедя уцелел?
— Нет, как раз он-то тебя и добил. А что?
— Хотелось бы, глядя на него, вспоминать ваш аул. Мне ведь пора уходить!
— Как уходить? Куда? Я тебя не отпущу!
— Почему не отпустишь?
— Да ты же в драке во все горло орал, что любишь меня, что никому даже танцевать со мной не позволишь! Весь аул теперь знает, что ты мой жених!..
Тут силы окончательно оставили меня, и я канул в темную бездну беспамятства.
Очнувшись на следующий день, когда солнце уже было довольно высоко, я увидел в комнате на табуретках трех мужчин. Один из них, усатый, в галифе и с портфелем на коленях, первый заметил, что я открыл глаза.
— Эй, Салтанат! Он ожил, давайте приступим.
— Я готова! — раздался голос Салтанат, и она вошла в комнату.
Сначала я не узнал ее в прекрасном легком платье городского покроя. Да и эти-то трое уставились на Салтанат, так она была хороша — помолодевшая, высокая, стройная, с лицом, выражавшим нетерпеливую радость.
Усатый даже облизнул губы, провел пальцем по усам и выдавил из себя нечто похожее на блеяние овцы. Второй мужчина сказал просто «Да!», а третий воскликнул: «Вах! Неужели это моя внучка Салтанат?»
Я понял, что это был дед моей хозяйки, которого, вероятно, вызвали с пастбища в аул. Но зачем?..
— Да, сам Камалул Башир[5] пал бы перед ней на колени, — словно продолжая давно начатый разговор, сказал усатый и стал доставать из портфеля какие-то бумаги, — Но что скажет жених? Время дорого, давайте приступим.
— К чему приступим? — Я вскочил с постели.
— К тому, дорогой наш кунак, с чего жених и невеста становятся законными мужем и женой. Я секретарь сельского Совета, этот почтенный человек — дедушка Салтанат. Вот свидетель, невеста здесь, жених — тоже. Словом, и закон и любовь — все на своем посту.
На этот раз падать в обморок я просто не имел права, даже обдумать положение — и то времени не было. Решение пришло мгновенно: я скорчился, схватился за живот и выскочил во двор. Понимая, что из окна за мною наблюдают, я направился прямо в кабинку, примыкавшую к стене, не мешкая и без особого труда выдавил стекло в оконце и через мгновение оказался на улице. Нечего было и думать о своих хурджинах. Я бросился бежать, быстрые ноги мигом донесли меня до лужайки у гончарных печей. Там взгляд мой упал на чей-то мешок из паласа, я схватил его, сунул внутрь сосуд, ничем, правда, не примечательный — просто чтоб не идти с пустыми руками, — и помчался в сторону шоссе. У обочины я начал голосовать — пусть хоть техника поможет мне избежать преследования! Но едва я вскочил в кабину остановившегося грузовика, как сверху на тропе послышались крики.
Шофер настороженно взглянул на меня:
— Не за тобой ли гонятся?
— Голова страшно болит, — уклонился я от ответа.
— Может, ты обворовал кого?
— Не надо бы мне вчера пить лишнего, — продолжал я, как глухой.
— С чего же ты убегаешь?
— В жаркую погоду особенно вредно пить много.
— А может, ты убил кого?
Тут я не выдержал:
— Если ты сейчас же не тронешься, считай, что это ты убил! И не кого-то, а меня!
— Да! И лучше я убью тебя, — отвечал шофер, выключая двигатель, — чем помогу убийце бежать.
— Да не убивал я никого! — взмолился я. — Я же комсомолец! Понимаешь ты, комсомолец!
— Ну, если комсомолец… — как-то неуверенно протянул шофер, включил мотор и рванул с места.
Только через несколько километров смог я вздохнуть спокойно и про себя порадовался, что слово «комсомолец» обладает такой чудодейственной силой.
Рассказывают, что остановил однажды старик на горной дороге «Волгу».
— Да знаешь ли ты, чья это машина? — спросил шофер.
— Не знаю, — отвечал старик, устраиваясь поудобнее на мягком сиденье.
— Это машина самого министра. Выходи!
— Но, но. Не кричи так. Ты ведь не знаешь еще, кто я такой.
— А кто же ты такой? — спросил шофер, насторожившись.
— Я дед.
— Ну, это я вижу.
— А внук мой комсомолец! Так что ты не слишком-то!.. Министр подождет, а меня довези.
И подействовало…
Шофер мой хотел высадить меня в Кумухе, но я опасался, что сюда могут позвонить по телефону из Балхара, и потому уговорил его довезти меня почти до самого Вачинского перевала. Здесь я рассчитался с ним, как говорится, по-мусульмански: пожелал ему и его жене дюжину сыновей и всем им доброго здоровья. Возможно, он предпочел бы, чтобы в моей по-дружески протянутой руке оказалась рублевка, но, увы, у меня не было ни копейки, а, как говорится, если у человека нет шаровар, — их с него и семерым не стащить.
Конечно, вам смешно: что, мол, за жених, который из путешествия за свадебным подарком приносит домой обыкновенный глиняный горшок… Но сам я думаю иначе. И потому, когда грузовик — да не изотрутся вовек его шины! — исчез за поворотом, я громко воскликнул: «Ну и молодец же ты, Бахадур! Просто чудом спасся!» Действительно, как мудро поступил я, сбежав! Ведь даже самый дорогой подарок ничего не стоил бы в глазах кубачинки, если бы женился я на балхарке! И пусть я много потерял в этом злополучном ауле гончаров, но главное сохранил — самого себя. И значит, в придачу к заурядному глиняному горшку я несу моей Серминаз свое преданное, закаленное в странствиях сердце.
6
Лакские горы — нечто среднее между суровыми аварскими вершинами и нежным хребтом Юждага. Здесь нет головокружительных пропастей, отвесных скал, похожих на крепостные башни. Нет здесь и зеленых лесистых массивов, подобных тем, что покрывают склоны вблизи моего родного аула Кубачи. Славятся они другим — сочной травой и живописными высокогорными кустарниками.
Я попал сюда в самую чудесную пору года, когда на разрыхленной корнями горной почве зреет на солнцепеке земляника, когда нежны и вкусны стебли и листья щавеля, ганез, панхикана и маленьких фиолетовых колокольчиков, когда так сладок сок рододендронов, качающихся над откосами под легким ветерком.
По изумрудной зелени альпийских лугов, словно тени от облаков, движутся колхозные отары.
Вот и чабаны расположились за бугорком. Как зенитка со сдвоенными стволами, торчит дышлами вверх арба, рядом разбита небольшая палатка, над потухшим костром свисает с треножника черный котел, а сами чабаны сидят в кругу и режутся в карты.
С необъятных степей Прикаспия, где солнце стоит всегда высоко, поднялись на летние пастбища со своими отарами эти загорелые до черноты, мускулистые люди. Нелегок их труд. И пусть теперь на помощь им пришла электрострижка и кочуют они не на своих ногах, а по железной дороге и на машинах, — дело у них все равно нелегкое. Чабан есть чабан — он делит со своей отарой и зной и ненастье, а андийская бурка заменяет ему и дом, и крышу, и постель…
— Салам, да умножатся ваши отары! — сказал я, подходя к стану.
— Умножатся, если мы об этом позаботимся, — ответил, не отрываясь от игры, человек с изъеденным оспой лицом.
— Садись, путник, — пригласил меня пожилой чабан, читавший поодаль от других газету.
Но я уже заглянул в их котел и увидел, что он пуст. Не суждено мне было угоститься хинкалом!
— Что это у тебя в мешке? Не зайца ли поймал на Вачинском перевале? — снова спросил пожилой чабан.
— Нет.
— Может, там у тебя бутыль вина?
— Нет.
— Арбуз у него там, арбуз! — оторвался от карт рябой.
— Что вы, какой арбуз в это время года? — возразил я, недоумевая, почему так дружно все засмеялись.
— Ты что, не знаешь, что ты в лакских горах? — сквозь смех проговорил пожилой.
— Ну и что же? При чем здесь арбуз?
— А вот при чем. Лакцы издавна славятся своей хитростью. И вот поселился здесь один горец с Юждага, и довели его лакцы до того, что пришлось ему бежать на родину без оглядки. Бежал он через бахчу и решил поживиться у своих недругов арбузом. Выбрал самый большой, запихнул в мешок и двинулся дальше. Вечером, уже в долине, собрался поужинать, достал из мешка арбуз, разрезал и глазам своим не верит: в нем сидит, скорчившись, маленький лакец…
Я подумал, что неплохо бы заглянуть, не скрывается ли в моем горшке какой-либо балхарец. И, поняв, что, кроме этой истории, чабаны ничем меня не угостят, стал прощаться.
— Подожди, вечером у нас будет хинкал, — удерживал меня пожилой, очень достойный, по-моему, человек.
— Нет, я спешу. Вот газету я бы взял у вас почитать.
— Бери, только они вчерашние.
— Ничего, я и позавчерашних не видел! — ответил я, прощаясь с чабанами.
А когда позже развернул газету, то сразу напал на портрет моего дяди Даян-Дулдурума и фотографию богато украшенного рога для вина. Под снимком была заметка Алхилава, в которой говорилось, что этот рог — дар знаменитого мастера Даян-Дулдурума его далекому итальянскому другу Пьерро Сориано.
7
Я положил газету на обочине и придавил камнем: может, кто из путников еще не читал вчерашних газет. Но едва отправился дальше, как увидел впереди на дороге какое-то странное существо. Я пошел быстрее и вскоре обнаружил, что это был обычный человек — две ноги, две руки, одна голова. Но шел он не на ногах, а на руках, головой вниз. На одной ноге у него была надета шапка, на другую подвешена полевая сумка. Я догнал этого странного путешественника, оглядел его со всех сторон. Он шел, не обращая на меня внимания, но вдруг громко объявил:
— Сто пятьдесят! — И, остановившись на одной руке, другою снял с ног шапку и сумку, затем перевернулся в воздухе и оказался на ногах.
И кто бы, вы думали, передо мной стоял? Да-да, именно он, тот самый злосчастный Сугури, с которым мы однажды завтракали у родника на Юждаге.
— В добрый час! — приветствовал я его.
— Добрый, добрый! — воскликнул он, узнав меня. — Вот так встреча!
— Рад тебя видеть! Значит, в космос не улетел и в Каспии не потопул?
— И даже с ума не свихнулся. Так что не бойся. Ты, я вижу, струхнул, когда я на ноги встал. А ведь я теперь каждый день делаю по сто пятьдесят шагов на руках!
И он рассказал, как сложилась его судьба. А сложилась она на редкость удачно. Чата разыскала его у каспийских рыбаков, помирилась с ним, и они вернулись в родной аул. Но хоть близкие простили его, сам он простить себя не мог и решил в течение месяца делать по сто пятьдесят шагов на руках, искупая свой грех и одновременно совершенствуя мастерство.
Мы пошли рядом, и канатоходец беспрерывно повторял, какая у него замечательная жена, и какое это счастье, что она его любит, и как чудесна вообще жизнь.
Я был рад за него, так рад, будто это у меня случилось что-то очень счастливое. На развилке у аула я хотел распрощаться с акробатом, но тот и слушать не стал.
— Нет, друг, не обижай меня. Теперь мой черед тебя угощать. Будь кунаком в моей сакле. С женой моей познакомишься.
Мне, конечно, очень хотелось увидеть эту несравненную красавицу, хотя в душе я и опасался: Сугури так ее расписал, что, того и гляди, влюбишься, и отойдет в тень образ прекрасной Серминаз. Но неугомонный червячок голода давно уже подтачивал мое нутро, и я не смог отказаться от приглашения канатоходца.
Мы добрались до славного аула Цовкра, где, как и у нас в Кубачи, мальчики с семи лет учатся мастерству предков. Говорят, что цовкринцы на канате чувствуют себя увереннее, чем на земле. Кто знает! Но, когда высоко над землей стройный юноша исполняет танец с кинжалами, у зрителя даже дух захватывает. Только мне все это сейчас было ни к чему. Я понимал одно: из Цовкра ничего не привезешь невесте, разве что молодого пехлевана подарить Серминаз!
На сельской площади дети обучались акробатике, а юноши, протянув канат от крыши до крыши, переходили по нему с балансиром. Каждый был одет в пестрый национальный костюм, и на фоне неба ярко горели нашивки на груди — раньше они считались талисманами, сейчас это просто украшения.
Сугури не обращал на все это внимания: он каждый день видел людей, шагающих в небе. А я, задрав голову, глядел на переступающую по канату прямо у меня над головой девчушку лет десяти. Смотри-ка, даже девочки учатся этому искусству!
Когда мы подошли к сакле Сугури, хозяин попросил меня обождать: вдруг его красавица спит, зачем прерывать ее отдых?.. Он тихо вошел в саклю, постучал в дверь одной из комнат. Никто не ответил. Он постучал в другую дверь. Тишина.
Обеспокоенный канатоходец стал распахивать двери и искать Чату, но ее нигде не было. Я попытался его успокоить — мол, ушла за водою или сидит у соседей, но Сугури кусал пальцы, вертелся, как раненый пес. И было от чего! Оказалось, что часть вещей его жены тоже пропала, и теперь он уверился, что родные увезли Чату насильно.
Наконец Сугури выскочил на террасу и обратился к дряхлой старухе, гревшей кости на солнышке.
— Скажи, соседка, куда пропала моя жена?
— Спасибо на добром слове. Да-да, милок, греюсь… — Бабка была изрядно глуховата.
— Куда пропала моя жена? — проревел Сугури.
— Да-да, хороший денек. Как говорится, солнце восходит старым на радость, а заходит — молодым на веселье.
Сугури не выдержал. Одним махом он перескочил через перила террасы, замер на минуту на карнизе, а потом как птица перелетел на крышу соседской сакли. Наклонившись к самому уху старухи, он прокричал:
— Где моя жена?
— Уехала она, уехала.
— Куда уехала?
— В Париж.
— Куда?
— В Париж! Город есть такой. Как раз перед вашей саклей опустился вертолет и унес твою жену.
Сугури явно принял старуху за сумасшедшую, но тут маленькая девочка, которую я видел в воздухе, дошла наконец по своему канату до сакли старухи и все объяснила. Оказалось, что из города прилетели на вертолете представители ансамбля «Лезгинка», который выезжал за границу на гастроли. Они и уговорили Чату уехать с ними.
— А вам, дяденька Сугури, — закончила девочка, — она просила передать, что если вы ее любите, то последуете за нею. Документы ждут вас в городе.
— А что мне делать в ансамбле?
— Так ведь и вас приглашали. Там есть танец акробатов, он так и называется — «Цовкра».
— Ну вот, — обратился ко мне Сугури с соседской крыши. — Добились-таки своего! Видишь, друг, что делают с нами наши жены?
— Нет, не вижу.
— Как это не видишь?
— А так: я еще не женат.
— Эх, где мои двадцать лет! — сказал Сугури уже в воздухе, перепрыгивая на террасу своей сакли. — И не женись, друг, не женись никогда — вот мой тебе совет. Вах, как все получилось!
Продолжая сетовать на своеволие женщин, Сугури прошел в саклю и стал спешно готовиться к отъезду.
— Ты уж извини, не смог тебя принять, как подобает. Но ведь за вертолетом нелегко угнаться. Так что я спешу. Ей от меня не скрыться. Куда бы ни утанцевала она на своих ногах, я последую за нею на руках.
Мы вместе вышли из аула и распрощались. Он поехал на попутной машине за женой в Париж, а я пешком отправился в Кубачи, раздумывая по пути о том, что и с женитьбой не кончаются неприятности, доставляемые нам любимыми женщинами.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ У ДОРОГИ НЕТ КОНЦА, НО ЕСТЬ ПРИВАЛ
1
По дороге в родной аул меня подстерегала еще одна встреча, после которой в моей бедной голове окончательно все перепуталось.
Вот я перевалил хребет Сутбук и ступил на родную землю. Сердце трепетало как стрелка компаса, когда с ним приближаются к аулу Амузги, где все жители — кузнецы. Вдруг впереди на дороге показался всадник на белом арабском скакуне. На наезднике был простой дорожный наряд, но весь облик говорил о том, что это настоящий джигит. Конь под ним пританцовывал, будто на спортивном параде. Звонко ёкала селезенка. Приблизившись, всадник придержал коня и легко спрыгнул на землю. Это был не кто иной, как Азиз, сын Кальяна, — мой соперник в борьбе за Серминаз.
Представляю себе, как выглядели мы с ним на этой дороге — лучший из молодых мастеров аула, гордость наших златокузнецов, и я, несчастный ремесленник, который не только ничего не приобрел в странствиях, но потерял и то, что имел, — свой инструмент; всеми почитаемый джигит, отправляющийся из родного села на поиски счастья, и байтарман, с пустым корытом возвращающийся в родные места; статный красавец в дорожном наряде и весь в синяках, заросший оборванец!
— Салам, Бахадур! — приветствовал меня Азиз, внимательно оглядывая.
— Здравствуй, Азиз! — пожал я его руку.
— Возвращаешься?
— Как видишь.
— А я вот отправляюсь в путь. Только три дня и успел побыть дома после Москвы. Старик и слушать не хотел, чтобы я отдохнул немного. Я, говорит, за тебя слово дал, ты, говорит, должен победить этих непутевых… — Тут Азиз запнулся, поняв, что сказал лишнее. Он посмотрел на меня виноватым взглядом. — Скажи, Бахадур, ты на меня не в обиде?
— Почему же, Азиз?
— Ну, мы ведь все-таки с тобой соперники!
— Выходит, что так, — ответил я спокойно, хотя при слове «соперники» почувствовал, будто моего сердца коснулось раскаленное шило.
— Мне неловко и перед тобой, что встал на твоем пути, и перед Серминаз, — мы и ее оскорбляем этим дурацким соперничеством. Я ведь ее почти не знаю: когда уезжал учиться, она совсем девочкой была, а теперь и разглядеть ее не успел толком.
Да подари он мне стальную блоху, которую подковал тульский Левша, я не обрадовался бы сильнее. Но странствия приучили меня к выдержке, поэтому я не бросился ему на шею, а только спросил:
— Но если ты не знаешь, любишь ли ее, зачем же отправляешься за свадебным подарком?
— Видишь ли, Бахадур… — Азиз никак не мог найти слов. — Старик мой настоял. Если бы я не отправился, он житья бы мне не дал в ауле. А ведь старших надо слушаться, правда? И еще я подумал: разве плохо постранствовать по родным горам? Я ведь лучше знаю далекую Москву, чем родной Дагестан. Осмотрю аулы, познакомлюсь с людьми, с искусством. Знаешь, мы в художественном училище рассматривали изделия наших ремесленников как образцы для подражания — но все на картинках. Вот я и решил посостязаться с вами. Конечно, обидно будет, если отвергнет меня Серминаз, да и времени у меня немного осталось — ты небось успел что-нибудь такое найти, что мне и не снится, — верно? — И он посмотрел на мой хурджин, — Что там у тебя? — Он бесцеремонно ткнул ручкой нагайки в полосатый мешок. Раздался хрупкий звон, и я понял, что единственное мое достояние, вынесенное из стольких опасных странствий, разбилось.
Не говоря ни слова, я вывалил на землю черепки. Азиз с испуганным видом склонился, рассматривая их.
— Ай-ай-ай, я разбил твой подарок! Что делать, что делать? Ценная вещь была?
— Посмотри внимательнее.
Он вертел перед глазами два крупнозернистых черепка.
— Так ведь это же простой горшок, даже без глазури!
— Увы, ты прав. И это все, что мне удалось достать.
Наверное, Азиз оскорбился. Еще бы! Состязаться с такой бездарью! С человеком, который из многодневных скитаний приносит глиняный горшок!.. Но, заметив, как я опечален, он только сказал:
— Но ведь ты, Бахадур, не отправился бы в путь, если бы не любил Серминаз?
— А я и люблю ее. Люблю больше жизни!
— А она тебя?
— О, если бы я знал!
— Ты не должен отчаиваться. Если она действительно любит, то любой черепок из твоих рук предпочтет самому ценному подарку от меня.
Этим Азиз немного подбодрил меня, и мы расстались почти друзьями. Но когда затих топот его коня, я вновь углубился в тягостные раздумья. Ведь может и так случиться, что выбирать подарок будет не сама Серминаз, а ее отец Жандар! Или действительно Серминаз прельстится ценной находкой, которую добудет Азиз. Однако разве не странно, что юноша, которого кубачинцы постоянно и во всем ставили в пример своим детям, слепо подчиняется воле старого Кальяна? Ведь если отец скажет ему: «Женись на Серминаз!» — а отец Серминаз скажет ей: «Выходи за Азиза!» — то покорность моей любимой и безропотность Азиза разобьют мою судьбу! Вполне вероятно и то, что Азиз просто не захочет отступить и из одной только гордости будет добиваться руки Серминаз. Тем более что он действительно завидный жених. Так по крайней мере считают родители всех девушек аула. Да и Мухтар…
Но тут мысли мои стали еще горше. Я вспомнил об этом воре, об этом негодяе, сыне Ливинда. Нет, пусть уж лучше Серминаз достанется Азизу, только не этому мерзавцу!
Но я-то сам?.. Что положу я рядом с подарком Азиза, обладающего тонким, изысканным искусством? Или рядом с прекрасным поставцом, который украл у меня Мухтар?
…А за спиной моей жалобно позвякивали на дне чужого мешка осколки чужого глиняного кувшина.
2
Единственный, кто встретил меня у порога родной сакли, был барс с разинутой пастью. Много веков назад застыл он на каменной плите в стене у ворот нашего дома. Говорят, что когда в Кубачи приезжала экспедиция Государственного Эрмитажа, ученые обещали моему деду — да не померкнет память о нем! — любое вознаграждение за этого барса. Они говорили, что место этому памятнику древнеалбанского искусства только в музее. «Нет, — отвечал мой дед. — Барс этот приветствовал и деда моего, и прадеда, и прапрапрадеда, и я хочу, чтобы он оставался здесь и охранял от дурного глаза и меня, и сыновей моих, и внуков, и правнуков. А если вы говорите, что место ему в музее, то почему бы вам не превратить в музей весь наш аул Кубачи? Ведь экспонатов здесь более чем достаточно!»
Конечно, я рад был встрече с этим верным стражем, но оказалось, что именно на него и возложили всю заботу о нашем очаге. Ни в одном из окон не горел свет, ставни на втором этаже были закрыты, а на воротах висел замысловатый харбукский замок, который я не сумел открыть, сколько ни ковырял его найденным на земле гвоздем.
В сероватых сумерках наша сакля впервые показалась мне одряхлевшей и несчастной. Я понял, что мать моя перебралась в просторный каменный дом с железной крышей, который несколько лет подряд возводил дядя в тайной надежде достойно продолжить наш род. Что же, рыба ищет где глубже, а человек — где лучше… Видно, счел мой дядя, что такому непутевому, как я, и старой, покосившейся сакли довольно. И конечно, довольно! Не о ней ли я мечтал в долгие годы скитаний? Только как бы наконец попасть под отчий кров?
В детстве я не раз тайком пролезал в собственный дом. Пришлось воспользоваться накопленным опытом. По стене я пробрался к нижнему соседу, а оттуда, подставив легкую перепосную лестницу, какие лежат на каждой крыше, поднялся к нам на террасу.
Припомнилась мне при этом история про знаменитого вора Ибрахима, который вот так же решил подняться с крыши своей сакли к богатому верхнему соседу. И только он забрался на террасу и втащил за собой лестницу, как его заметил хозяин.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он Ибрахима.
— А ты не видишь? — отвечал Ибрахим. — Лестницу продаю.
— Так здесь же не магазин и не базар!
Но вор и тут не растерялся:
— Во-первых, сейчас ночь, а во-вторых, лестницу, дорогой сосед, можно в любом месте продавать, — без нее в хозяйстве не обойдешься.
Ибрахим за словом в газыри не лез, но я, например, не представляю, что ́ бы ответил, заметь меня кто-то на соседской крыше. И то, что никто меня не увидел, было первой удачей за последние несколько недель.
Дверь мастерской я открыл испытанным способом: дернул вверх, вниз, а потом на себя. Я вошел в темную, опустевшую комнату. Дядя мой даже перестарался. Чтобы мать чувствовала себя как дома, он вывез из нашей старой сакли все, что только можно было. И лишь ветхое тряпье грудой лежало в углу.
На нем я и провел ночь.
Не соседский петух разбудил меня, не мычанье коров, не рев буйволиц. Разбудил меня стук барабанов и призывный напев зурны. Задорная мелодия «Абархас» сзывала всех на свадьбу. Первой мыслью — ужасной мыслью! — было: а не Серминаз ли выходит замуж? Но я успокоил себя тем, что не мог Жандар, человек слова, выдать свою дочь прежде, чем все три жениха не явятся с подарками. Так что кто бы ни играл сегодня свадьбу, можно считать, что мне повезло. Не придется оправдываться, что я оказался в ауле, нарушив традицию предков, по которой жених может вернуться лишь в двух случаях: если он успеет достать необыкновенный подарок или если у него в ауле произошло что-то из ряда вон выходящее.
На сегодняшнем торжестве я появлюсь так, что никто меня не узнает, и выспрошу обо всем, что случилось за время моих скитаний. Может быть, мне даже удастся перекинуться словечком с Серминаз? А уж наемся я во всяком случае. И не кое-чем, а праздничными угощениями. И никто не узнает, что это именно я, потому что на мне будет маска.
До сих пор у нас бытует обычай, по которому двенадцать неженатых парней являются на свадьбу в масках и старинных доспехах — так, чтобы их никто не мог узнать. Это железный закон. И нет большего оскорбления для парня, чем сорвать с него маску.
Из двенадцати ряженых — четверо карчи. Карчи — это шуты. Они обязаны веселить народ. На них белый наряд, войлочная маска с фантастическими разводами — ученые считают это остатками древнего обычая татуировать лицо. У каждого карчи на макушке лисий хвост.
Четыре других маски — пялтары — следят за порядком. А остальные четверо — хараваши — исполняют волю свадебного тамады.
Одеты пялтары строго по-военному, на них железные или медные луженые маски с луковицеобразными шлемами, рубахи из кольчужной сетки, пояс, на поясе — кинжал, кремневки, пороховницы, на ногах — сапоги, в руке у каждого — нагайка и колокольчик. Стоит одному зазвонить, как остальные сбегаются к нему на помощь.
Только в подобном наряде может молодой парень нашего аула стоять у всех на виду рядом с девушками, беседовать с ними и приглашать к танцу.
Правда, чтобы тебя не опознали, надо быть осторожным: говорить искаженным голосом и нараспев, двигаться, приплясывая, не своей походкой.
Дядя мой не прельстился старинным костюмом пялтара, хранившимся в нашем доме, и я решил в нем появиться на свадьбе. Не беда, что ряженых сегодня будет не двенадцать, а тринадцать, — никто не посмеет сорвать с меня маску.
Я очистил от пыли старинные доспехи, с трудом нарядился в них и, сунув за пояс пистолет с заржавленным курком, выбрался из дома.
На улице меня мгновенно окружили ребятишки и с криками «Пялтар! Пялтар!» запрыгали следом. Нелегко было идти в гору в таком снаряжении, да еще пританцовывая. Правильно говорят старики, что измельчал народ, — ведь раньше мужчина полжизни проводил в таких доспехах, а я взмок после нескольких минут. Всю дорогу я звонил в колокольчик, ожидая, что из какого-нибудь переулка появятся другие пялтары, но на улицах было пусто. Когда же я вышел на площадь, где на разостланных коврах сидели за едой аульчане, у меня подкосились ноги. Так вот на чью свадьбу я попал! Это моя мать выходила замуж за моего дядю, почитаемого и благородного Даян-Дулдурума! И на их свадьбе я был не тринадцатым пялтаром, а единственным — себе на беду! Поэтому стоило мне зазвонить в колокольчик, как все взгляды недоумевающе обратились ко мне, музыка замерла, и застыл, лихо раскинув руки в орлином взлете, молодой плясун в середине круга.
Лицо дяди побледнело от гнева, он стал похож на готового к прыжку леопарда. Нахмуренный Жандар — он был тамадою на этом пире — знаком подозвал меня к себе. Готовый к самому худшему, я приблизился. Не вставая с трех подушек, на которых важно восседал, Жандар притянул меня к себе и тихо, но властно сказал:
— Я знаю, что ты не откроешься и не скажешь, кто ты. Но кто бы ты ни был, сейчас же убирайся!
Я обрадовался: меня явно не узнали. Но тем более странно было, что все так косо глядели в мою сторону.
— Ты понял, что я сказал? — спросил Жандар.
— Что ты сказал, я понял. Но непонятно, почему я должен исчезнуть? — проговорил я нараспев каким-то идиотски писклявым голосом.
— Ах, ты не понял? Не понял, что своим появлением оскорбил почтенных людей, и Даян-Дулдурума, и Айшу, и меня — тамаду, и всех пришедших на празднество?!
— Я никого не собирался оскорблять! — по-козлиному проблеял я.
— Зачем же ты явился в таком наряде? Ты видишь здесь хоть одного ряженого?
— Не вижу. Неужели отменили старинный обычай?
— Запомни раз и навсегда: парни наряжаются в доспехи только на свадьбы своих сверстников, а то, что ты появился в костюме пялтара на свадьбе вдовца и вдовы, — это глубокое оскорбление, и, боюсь, что оно тебе даром не пройдет. Даян-Дулдурум не потерпит этого и перед всеми сорвет с тебя маску. Видишь, он идет сюда? Уноси-ка побыстрее ноги!
3
Пришлось мне послушаться доброго совета Жандара. Только почему все же то, что веселит молодых, является оскорблением для пожилых? И мог ли я это знать? Так или иначе, но я оказался в положении человека, выстрелившего из ружья в момент, когда невесту ведут в дом жениха, или в положении невежи, который на свадьбе приложил бы руки к груди и воскликнул: «Патиха!» — как это полагается на поминках.
Бежал я со скоростью звука, понимая, что, если дядя нагонит пялтара и распознает в нем своего непутевого племянника, не избежать мне расправы. Он изгонит меня из родного аула, и тут даже заступничество комсомольской организации не поможет.
Но дядя, видимо, решил не усугублять скандала. Он подозвал к себе трех молодых парней, и они тут же пустились вслед за мною. Я несся как ветер, но скрыться было нелегко, потому что всюду на моем пути попадались женщины и ребятишки, кричавшие во все горло: «Смотрите, смотрите, пялтар!» Да и трудно бежать в доспехах воина, это все же не костюм спринтера.
Преследователи приближались. Сил у меня уже не было, пот лился градом. Я юркнул в первые попавшиеся ворота, запер их за собой и, пока погоня перелезала через стену, пробрался по карнизу на другую саклю, сам немало дивясь своей ловкости. Уж не передалось ли мне мастерство цовкринского канатоходца Сугури? Ведь с кем поведешься, от того и наберешься, или, как говорят горцы, поставь ишака с телятами — и он замычит. Преодолев еще одну стену, я был уверен, что спасся. Но очутился прямо перед этими тремя парнями.
Наверное, воинственный наряд предков придал мне духу. Я рванулся на них как танк. Одного сбил с ног, двое отскочили, а я помчался по улице вниз, вон из аула, в сторону Подозерного леса, в папоротниках которого не то что человека, но и буйвола не найти.
Наконец я мог скинуть проклятую железную маску и спокойно дожидаться ночи, чтобы тайком пробраться в аул.
Было даже неплохо сидеть в холодке у родника, под грушевым деревом, но вместо того, чтобы наслаждаться природой, я припоминал все, что лежало на больших блюдах перед гостями, все, что успели схватить мои глаза, но чего не коснулись руки. И под аккомпанемент злобно урчащего желудка снова и снова перебирал в памяти свои беды и неудачи, к которым теперь прибавилось столь неуместное мое появление в костюме пялтаpa. Кто-кто, но мой дядя (уж я-то знаю его характер!) не простит тамаде Жандару, что тот допустил такое оскорбление. Вот и еще одна преграда на моем пути к Серминаз!
Неожиданно я почувствовал прилив вдохновения и, так как делать все равно было нечего, стал сочинять в ее честь стихи.
О тебе хочу говорить в стихах — Ты звезда, ты мой негасимый свет… Только жаль, что в наших родных горах Я едва ль не самый плохой поэт. Пусть плохой! Все равно не устану петь О тебе одной, моя Серминаз, Хоть дрожит чугур у меня в руке И хоть голос мой как ослиный глас. Впрочем, нет поэта, чтоб мог воспеть Красоту твоих кубачинских глаз. Я зову тебя! Я готов на смерть! Обрати ко мне свой взор…— Сермина-а-а-а-аз! — раздалось вдруг со стороны дороги, и мне показалось, будто эхо подхватило мою песню, но тут я узнал голос ненавистного мне Мухтара, сына Ливинда. Только такой негодяй смеет разрывать тишину родных гор, распевая во всю глотку «Серминаз, Серминаз!» Ведь даже тени этой девушки недостоин он коснуться!
Кровь вскипела у меня в жилах. «Ну хорошо, что мы встретились с тобой один на один!» — подумал я и бросился через заросли к дороге, сожалея о том, что ступа, которой я мечтал проломить Мухтару башку, осталась в хурджине, а хурджин остался у своенравной и влюбчивой балхарки Салтанат. Но тут же сообразив, что не следует обнаруживать, кто был злополучным пялтаром на свадьбе Даян-Дулдурума, я быстро надел маску. Затем достал из-за пояса заржавленный кремневый пистолет, в левую руку взял кинжал и осторожно подкрался к тропе. Я был похож на разбойника, каких немало встречалось в этих лесах лет двести назад. И когда этот горе-певец поравнялся со мною, я выскочил из-за кустов и, направив на него кремневый пистолет, закричал по-кумыкски, чтобы он не узнал меня:
— Тухта, сени атаси-анаси!
Что бы вы думали! Мухтар сразу понял, чего я потребовал: он замер, и я без труда взял уздечку из его онемевших пальцев. Конечно, в наш атомный век трудно ожидать, что на тебя нападет разбойник в костюме далекого предка, но тем не менее вид Мухтара был жалкий…
— Слезай с коня и раздевайся! Живее, а не то клянусь… Атаси-анаси!
Весь трясясь, Мухтар, сын Ливинда, стал слезать с коня.
— Ты, пялтар, наверно, шутишь? — проговорил он наконец постыдно дрожащим голосом.
— Еще чего! Какие шутки! Снимай пиджак и штаны, да побыстрее.
— Но как же я явлюсь в аул в одних подштанниках?
— Наденешь мое! Да пошевеливайся, атаси-анаси!
И чтобы Мухтар убедился, что я и впрямь не шучу, я ткнул его тихонько кинжалом туда, где спина меняет свое название.
Он нехотя разделся, я схватил в охапку его пиджак и брюки, сорвал с головы кепку — не подобает являться в аул с непокрытой головой — и приказал:
— А теперь жди меня здесь!
А сам юркнул в кусты.
Мухтар сел на камень и стал ждать, мелко подрагивая, и конь его стоял рядом, понурив голову, будто сочувствовал хозяину. Переодеваясь, я все размышлял: не развязать ли мне его хурджин и не отобрать ли принадлежащий мне по праву поставец? Но слишком многое раскрылось бы сразу, когда мой соперник увидит, кто предъявляет отцу Серминаз подарок, отобранный разбойником. Так что я прямиком направился в чащу и издалека крикнул, что костюм пялтара лежит за кустом.
Вскоре я вышел на дорогу и увидел едущего шагах в двухстах от меня конного воина с поникшей головой. Маску Мухтар, конечно, не надел, она свисала с луки седла. Я шел следом. Вот Мухтар миновал двухъярусную саклю, оборудованную под больницу, вот свернул в сторону приземистого здания сельсовета, откуда дорога прямиком шла на площадь. Я знал, что миновать пирующих он никак не сможет, потому что на площади стояла сакля его отца Ливинда…
И едва этот странный всадник приблизился к кругу пирующих, как навстречу ему бросилось сразу несколько парней. Сопротивлялся Мухтар бешено, но его мигом стащили с коня и поволокли к почтенным аульчанам. А что было дальше, я не мог разглядеть: мужчины окружили его плотным кольцом, а женщины и девушки отвернулись, скрывая под платками улыбки. Судя по отчаянным крикам Мухтара, без крапивы не обошлось. «Ну что же, хоть не этим заслужил, но по заслугам получил», — подумал я, отправляясь домой переодеваться.
Теперь я мог прийти на пир, уже ни от кого не таясь, ведь это был праздник нашей семьи! И это был самый законный повод вернуться в родной аул, еще не обретя подарка.
4
После того как я проучил своего соперника, настроение мое улучшилось.
«Несчастный горем своим богат», — говорит пословица, и оказалось, что я, пожалуй, действительно богаче многих наших аульчан. Сколько дней уже маячила предо мной смутная мысль о необычайном подарке, который я сделаю любимой. И только здесь, в родном краю, понял я, что не бесплодными были скитания: я вынес из них ожерелье, но не простое, а ожерелье мудрости, ожерелье из похождений, нанизанных на нить моей горячей любви к Серминаз. Драгоценные жемчужины из бездонных хурджинов мудрости нанизала на эту нить дорога скитаний. И такое ожерелье будет для моей Серминаз ценнее самого цепного поставца, дороже любого подарка, выбранного Азизом, потому что никакое богатство не сравнится с богатством души.
Я шел на свадьбу моей матери, и сердце мое ликовало: скоро будет в Кубачи еще одна свадьба — моя! И хотя, как я и предполагал, обиженный Жандар покинул место тамады, это меня не смутило. Приняли меня земляки восторженно, усадили поблизости от дяди, и виночерпий Писах поднес мне штрафной полулитровый рог вина и добрый кусок мяса на деревянной вилке. Выпил я вино, закусил мясом, и в жилах моих заиграл огонь. Как было не сплясать на свадьбе матери! «Хайт!» — воскликнул я, гордо вскинув голову, и выскочил в круг. Под звуки жизнерадостного аштинского танца я занес левую руку за спину, а правую выставил вперед, оттопырив вверх большой палец. Под свист, одобрительные хлопки я шел по кругу, вскидывая голову и восклицая: «Хайт!», — и после двух положенных кругов замедлил движения перед девушками, не отрывая взгляда от Серминаз. Девушки с веселым визгом вытолкнули ее в круг. Серминаз зарделась и легко поплыла впереди меня, покачиваясь, как канатоходец на веревке. Дробно простучал барабан, участились хлопки, и я пустился за ней словно черный коршун, преследующий белого лебедя. Улучив момент, я приблизился к ней вплотную и шепнул:
— Здравствуй, Серминаз!
Она не отвечала, только искоса взглянула на меня и улыбнулась.
— Хайт! — воскликнул я, чтобы отвлечь внимание аульчан, смотревших на нас, а потом снова обратился к ней потихоньку:
— Я очень скучал по тебе. Ты такая красивая. Ты похожа на лебедя.
— А ты на гуся, — отвечала она с усмешкой и снова стала такой, какой я знал ее прежде, — неприступной и чужой.
Музыка на минуту прервалась, я вышел из круга и под возгласы одобрения вернулся на свое место. Праздник продолжался. Старики вели свои беседы, нескончаемые и мудрые, а молодые танцевали, сменяя друг друга. Только Серминаз пряталась среди девушек и больше не выходила. А я так надеялся снова пройтись с ней по кругу и перекинуться хотя бы несколькими словами.
Музыка на площади не умолкала до захода солнца, и только когда вернулось в аул стадо, подошел конец веселью. Если свадьба молодых длится у нас не менее трех суток, то вдовцы пируют один день. Как говорится, привычное дело быстрее спорится.
И вот музыканты поднялись с мест и заиграли мелодию «Аскайла», что значит «шествие». Став попарно, мужчины в медленном танце обошли вокруг ковров с яствами, а затем чинно направились к сакле жениха. Женщины начали убирать посуду, ковры, остатки угощения. Почетное шествие сопровождало Даян-Дулдурума до самого его дома, где в большой комнате его уже ожидала невеста.
Затем все разошлись по своим делам, а молодежь отправилась на луг, прихватив вино и еду, чтобы провести ночь у костра.
Незаметно подбросив на террасу дома Ливинда пиджак и брюки его бесчестного сына, я отправился с друзьями по нагревшейся за день дороге.
5
На следующий день я уже сидел в комбинате за своим верстаком. Но поработать так и не пришлось. Когда я спустился вниз за глиной для огнеупорных формочек, из монтировочного цеха до меня донеслись голоса дяди и Жандара. Я прислушался.
— Но ты же обидел меня вчера, Даян-Дулдурум!
— И ты хочешь выместить обиду на моем племяннике?
— Нет, он тут ни при чем. Но добрые люди говорят, что нам все равно нельзя породниться: вражда у нас между родами.
— И что же то за добрые люди? Уж не старый ли Ливинд?
— Может быть, и он. Но все равно, твой племянник или сын, называй его как хочешь, не может претендовать на руку моей дочери. Наши предки поклялись, и мы не станем клятвопреступниками.
— А ты знаешь, из-за чего пошел этот раздор?
Не знаю. Но думаю, что по пустякам они не стали бы ссориться.
— Но если это именно так? Неужели из-за какого-то мхом поросшего пустяка ты разобьешь счастье моего племянника?
«Ай да дядя! — подумал я. — На людях он держится со мною сурово, как с чужим, но, видно, я ему вовсе не чужой». И с замиранием сердца принялся я слушать дальше. Долго еще спорили за стопою, и наконец дядя предложил:
— Пойдем вместе к Хасбулату, сыну Алибулата из рода Темирбулата. Он единственный, кто может нам помочь. Старик только что вернулся от каких-то своих родственников.
— Да какая может быть у него память? Он давно, наверное, забыл этот случай.
— Ну, я не думаю, такие случаи не забываются. К тому же я знаю способ вернуть старику память.
— Но не бросать же сейчас работу, — сказал нерешительно Жандар.
— Ничего, работа подождет до завтра. Давай возьмем на всякий случай свидетелей и все вместе отправимся к Хасбулату.
Я услышал, как Жандар складывает инструменты и ссыпает кусочки серебра в жестяную банку. Итак, сейчас может решиться моя судьба. А пригласить меня с собою им и в голову не пришло! Ничего! Я и сам знаю дорогу к сакле Хасбулата.
Быстро, чтобы не попадаться никому на глаза, я выскользнул из комбината и побежал по крутым улочкам в верхний конец аула. На цыпочках поднялся на террасу, где сидел полный, седой, длинноусый старец и ремонтировал старую резную деревянную люльку своего двенадцатого правнука. Живые глаза его под мощными бровями были опущены, толстые губы шептали слова песенки, которую часто можно услышать в погребе Писаха:
Пусть в подвалах старится вино — Чем старее, тем ценней оно. У людей совсем не так, друзья, Значит, нам стареть никак нельзя!Я осторожно прокрался за спиной Хасбулата и укрылся в конце террасы, где было навалено свежее, душистое сено. И едва расположился удобно и безопасно, как услышал голоса приближающихся к сакле людей.
По лестнице чинно поднялись Жандар, мой дядя и двое свидетелей (а в свидетели мой дядя, конечно, предложил отцов моих соперников — почтенных Ливинда и Кальяна). Дядя нес в руках две четверти вина, третью четверть держал за горлышко Жандар.
Заметив вино, старик явно оживился, отодвинул люльку и, кликнув внучку, попросил ее подать угощение.
Приветствия и расспросы о здоровье показались мне бесконечно долгими, и я весь напрягся, когда дядя мой наконец изложил, с чем они пришли.
— А я-то думал, — протянул хозяин, — что вы просто вспомнили старика и зашли проведать. Но прежде всего давайте выпьем: грех долго смотреть на вино.
Они выпили по кружке, старик задумался и наконец заговорил:
— Нет, не помню я, с чего началась ваша вражда. Помню только, лет десять назад шел я по горной дороге, и нагнал меня один уркарахет на арбе, запряженной двумя быками. Предложил подвезти. Видно, не терпелось ему поболтать. Не успели быки сделать и десяти шагов, как он спрашивает:
— Знаешь ли ты Бадирхана?
Я не ответил. Тогда он сам отвечает:
— Да это же председатель райисполкома! Наш человек.
Отъехали мы еще немного, он снова оборачивается.
— А Мирзахана ты, конечно, знаешь? Заведует сельхозотделом, золотой человек, тоже наш, уркарахский.
Я молчу. Едем дальше. Он снова говорит:
— Ну уж Халила ты не можешь не знать. Председатель сельсовета, самый мудрый человек в горах и тоже наш.
Тут я не выдержал и говорю:
— Если еще кто-нибудь будет ваш, то знай: эта арба и быки будут наши!
Старого Хасбулата никто не перебивал: знали, что это бессмысленно. Но прежде чем он начал новый рассказ, Даян-Дулдурум налил ему еще кружку вина и как бы невзначай напомнил, что привело сюда его и других гостей. Однако Хасбулат пропустил эти слова мимо ушей и повел рассказ о том, как двадцать лет назад он пошел записываться добровольцем на фронт, но его вернули, сказав, что и без него война уже выиграна.
Когда стало ясно, что с каждой кружкой старик сбрасывает по десятку лет, ему налили еще. И снова десяти лет как не бывало.
— А тридцать лет назад, — заговорил хозяин, — в тот год я был секретарем сельсовета, а председателем был Квариж, вы его все знаете, пожаловалась нам жена небезызвестного Куле-Име, да-да, того самого, который, подтягивая подпругу на коне, вынужден был из-за своего малого роста подпрыгивать, — пожаловалась, что этот самый Куле-Име ее избил. Квариж поручил мне разобраться в этом, и я пошел в саклю Куле-Име.
Куле-Име лежал в углу с забинтованной головой, но, когда я вошел, он сел и надел папаху. Я начал читать супругам нравоучение, хотя и видел, что хозяину худо. Но он вдруг перебил меня:
— Скажи, пожалуйста, что у меня на голове?
— Папаха, — ответил я.
— А чья она?
— Должно быть, твоя.
— Значит, я могу надвинуть ее на лоб, могу на ухо, могу на затылок, верно?
— Верно, — говорю.
— А если я надену ее набекрень? — спросил Куле-Име и, морщась от боли, сдвинул папаху набок.
— Да пожалуйста! — говорю. — Твоя папаха, твоя и воля.
— Вот так и с женой! — гордо заявил он. — Жена моя, что захочу, то и стану с ней делать!
— Но ты забыл о равноправии…
— Я-то хотел бы забыть, — вдруг жалобно простонал Куле-Име, — да она напоминает! Я всего два слова ей, а она так меня отделала, что неделю на гудекан не выйдешь! — И он опять повалился на спину. Хваленая папаха упала, а жена кинулась к нему с кружкой воды, хотя лучше было бы отпоить его вином.
Жандар ерзал. Чувствовалось, что его оставляет терпение. А невыдержанный Ливинд и болтливый от вина Кальян всячески подталкивали мысль старика, напоминали разные случаи родовой вражды, старались подхлестнуть его память. И только мой дядя, сохраняя спокойствие, то и дело подливал старику вино.
После четвертой кружки Хасбулат начал свою речь словами:
— А вот лет пятьдесят тому назад… — И лица слушателей посветлели: под воздействием винных паров в памяти старика все яснее оживало прошлое. Но он продолжал: — Так вот, лет пятьдесят назад умерла моя жена. Хорошая, добрая была женщина. Сосед мне еще сказал тогда сочувственно: «Бич потерял, бедняга». — «Нет, не бич, — ответил я ему, — а стремя, на которое всю жизнь опирался». Вот с того времени, как умерла моя жена, некому стало прикрывать мои ноги, и по ночам продуло мне их, и, кажется, получил я ревматизм. И сейчас чувствую: погода испортится.
Старик расположился поудобнее, подложив под себя еще одну подушку, пожевал ломтик свежего сыра и поднял кружку, наполненную дядей.
— Дерхаб! — Он выпил и заговорил снова. — Мудрым я слыл в ауле. Философом меня называли. Я еще семьдесят лет назад первым посадил у нас капусту и изобрел железную печь. Однажды ехал я по дороге на ишаке, повстречал друзей. Решили они угостить философа. Налили кружку, другую, я пил, не противился. Но когда почувствовал, что с меня довольно, стал отказываться. А они уговаривают: «Нельзя отставать, ты ведь не просто мужчина, ты философ». Ну и, чтобы не думали они дурно о философе, пил я и пил. И так напился, что утром очнулся сам не знаю где. Голова словно ртутью налита, все тело разбито… Горько мне тогда стало и стыдно. Сел я с трудом на своего ишака и поехал. Подъехали мы к реке, стал мой ишак пить воду. Напился он, а я вспомнил вчерашний случай и стал его уговаривать, чтобы выпил еще. И лаской и угрозами, и голову в воду совал — никак не пьет! «Ну, — говорю я ему, — отныне ты философ, а я ишак».
Конечно, это был тонкий намек со стороны Хасбулата, чтобы больше его не заставляли пить, но гости потратили уже слишком много времени и вина, чтобы уйти ни с чем. Они уговорили старика выпить еще кружечку, после чего тот сразу вытянулся на подушках и захрапел.
Жандар, Ливинд и Кальян в негодовании смотрели на моего дядю, который привел их сюда в самый разгар работы. Дядя был тоже весьма удручен. Наконец он осмелился потормошить старца. Хасбулат открыл глаза, огляделся и спросил удивленно:
— А вы что здесь делаете?
Снова мой дядя с присущей ему сдержанностью и терпением объяснил, зачем они пришли.
— Ну что ж, — отвечал хозяин, — раз вы принесли вино, так налейте!
Дядя налил, старик выпил еще кружку, облизнулся и сказал, благодушно сверкнув глазами:
— Хорошее вино — кровь земли! Так вот, случай ваш вышел лет сто с небольшим назад. В тот день еще отец послал меня за вином к Писаху — тогда был другой Писах — и сказал: попроси, мол, чтобы ради хороших кунаков из Аварии он вино дал отдельно, а воду, которую подливает в него, отдельно. И заплати ему поровну — сколько за вино, столько и за воду. И что вы думаете! Писах точь-в-точь исполнил просьбу моего отца и велел еще передать, что ценит его мудрость. Как же мне не помнить тот день!
Все с нетерпением склонились к старику. Тот молчал, то ли собираясь с мыслями, то ли наслаждаясь вниманием слушателей.
— Как раз тогда пригласил мой отец на праздник ваших предков. Предка твоего рода, Даян-Дулдурум, звали Абдул-Муталим, а твоего, Жандар, Мухамед-Хаджи. И вот после сытного обеда вышли они все на гудекан, и зашел у них спор о строении вселенной. Абдул-Муталим стал утверждать, что Земля наша стоит на панцире черепахи. А разве мог Мухамед-Хаджи, который стал непревзойденным астрономом, не возразить на это? И он заявил, что Земля держится на рогах белого буйвола, ибо это утверждал некогда знаменитый Минатул-Махмуд. Спор закипел, как чабанский котел на огне. «Нет, — закричал, вскочив с места, Абдул-Муталим, — я не допущу, чтобы этот лжец опровергал авторитетное мнение Хашима-Аль-Катагни о том, что Земля стоит на панцире черной черепахи! И именно черной, а не голубой, не красной, не коричневой, не желтой, не синей и не белой!»
— Ну и что же дальше? — перебил Жандар.
— Так-так, — сказал Даян-Дулдурум, потирая руки, будто на футбольном матче.
— Дальше могли произойти большие неприятности. Но дело было осенью, и кинжалы лежали у точильщика. Впрочем, и языки у спорящих были не тупее кинжалов. И когда Мухамед-Хаджи обозвал твоего предка, Даян-Дулдурум, черной черепахой, а тот закричал на весь гудекан: «Поглядите на этого белого буйвола!» — возникла рознь, которая длится, как я вижу, и поныне.
— И это все? — спросил озадаченный Жандар. — Неужели такой пустяк целый век мешал сближению людей?
— Да, это все, — отвечал старик и с чувством исполненного долга откинулся на подушки.
Расхохотался мой дядя. Вторя ему, засмеялся Жандар, и даже двое свидетелей не выдержали.
— Чему вы смеетесь? — спросил помрачневший Хасбулат. Ему не понравилось, что почтенные люди потешались над его рассказом.
— Как же не смеяться, дорогой наш Хасбулат, — отвечал сквозь хохот Даян-Дулдурум, разливая по кружкам остатки вина. — Подумать только, из-за какой-то ерунды два рода бились, как боевые бараны. И столько лет!..
— Нечего смеяться! — возмутился старик. — Или вы считаете пустым вопрос, на чем держится Земля?
— Конечно же!
— Почему, позвольте узнать? — насмешливо спросил хозяин.
— А потому, почтенный Хасбулат, что Земля не держится ни на чем, — отвечал Даян-Дулдурум.
Теперь рассмеялся Хасбулат.
— Ха-ха-ха! — Он смотрел на гостей как учитель на глупых учеников. — Взрослые люди, а не знают! «Ни на чем не держится»! Тоже придумали!
— Конечно!
— Вот уж не предполагал, что разговариваю с такими наивными людьми! Да я вас и в дом бы не пустил, если бы знал заранее.
— Почему это мы наивные? — обиделся Жандар.
— Да пора бы уж знать, на чем держится Земля.
— На чем же? — недоумевали гости.
— Дай сюда руку, Даян-Дулдурум. И ты, Жандар, — сказал старик, соединяя их руки. — Пожмите-ка их крепко. Чувствуете тепло?
— Да, — ответили оба.
— А знаете, что это за тепло?
— Не знаю, — сказал Жандар, а дядя мой промолчал: наверно, он думал, что это — тепло от выпитого вина, но не решился сказать.
— Жаль мне вас, люди, если вы до сих пор не поняли, что это за тепло. Ведь это и есть то самое великое тепло, которым жива наша матушка-земля. А теперь, когда я объяснил это, идите: я хочу спать. — Он сонно пробормотал:
Дело творящего — творить, А говорящего — говорить. Если ж тебя не поймут — не беда! Слова назад не бери никогда!И допив вино из кружки, старик захрапел, будто разом выключился.
Почтенные гости встали и молча поклонились Хасбулату, сыну Алибулата из рода Темирбулата, чье имя всегда стоит рядом со словами «честность», «правдивость» и «добропорядочность».
6
Назавтра, когда звук гонга возвестил о конце рабочего дня и кубачинцы, щурясь на солнце, выходили из здания комбината, ко мне подошел мой дядя. Он был в самом добром настроении.
После моего возвращения в аул нам еще не пришлось по-настоящему встретиться, посидеть, поговорить, да я и не искал такого случая по многим причинам.
— Что же ты не появляешься у нас в новом доме? — спросил он. — Ну-ка пошли!
Когда мы вошли, моя мать, уже сменившая дорогой свадебный наряд на обычное домашнее платье, готовила у печки пирог-чуду ́ с потрохами. Она будто сбросила с плеч добрый десяток лет, расцвела и похорошела, как трава после дождя. Увидев меня, смутилась, не меньше смутился и я. Заметив это, Даян-Дулдурум провел меня прямо в гостиную. Это была большая, светлая комната, застланная превосходным чарахским ковром — подарком моего дяди.
— Ну, как странствовал? — спросил дядя, будто только сейчас увидел меня в ауле.
— Хорошо, дядя.
— Еще бы! На таком коне любая дорога втрое короче.
Вот оно! Все эти дни я мучился, что скажу дяде о коне, но так и не придумал. И потому просто кивнул в ответ.
— Я тут не один бой за тебя выиграл. Теперь дело за тобою, докажи свою любовь и преданность. Ты ведь вернулся с достойным подарком?
— Достойнее в наше время и быть не может.
— Ого! Узнаю голос настоящего мужчины. Надо будет заглянуть к тебе, посмотреть, что это за штука такая.
— Знаешь, дядя, это такая вещь, что даже тебе я ее не покажу до времени.
— Понятно! Удивить решил. Но можно ли узнать, что хоть это за вещь?
— Конечно! Это — ожерелье.
— Ты достал необыкновенное ожерелье?
— Совершенно необыкновенное.
— Дагестанское изделие или из чужих краев?
— Наше! Но ты не расспрашивай, все равно больше я тебе ничего не скажу.
— Смотри не подкачай. Не то заставишь меня краснеть. А я еще ни перед кем не краснел. Срок — неделя.
— Ладно. Неделя так неделя.
— Смотри, как ты изменился за время странствий! Именно солидности тебе недоставало!
Я догадывался, что в глубине души дядя чувствует себя виноватым передо мною: он увел из сакли мою мать.
— А как ты смотришь на мою женитьбу? — как-то неуверенно спросил Даян-Дулдурум.
— Искренне поздравляю!
— Жаль только, недолго пришлось мне побыть с женою. Вот послезавтра уезжаю по делам в Согратль. Да ты не волнуйся, к смотринам вернусь.
Но волновался я вовсе не потому, что боялся, как бы дядя не задержался в Согратле.
— Так что, дорогой племянник, приведи-ка завтра моего коня.
Я не знал, что ответить.
— Что же ты молчишь?
— Коня нет, дядя.
— Что?
— Нет его больше.
— Как нет? Куда же ты его девал?
— Я никуда не девал, но вот волки…
При этом я представил себе искаженное ужасом лицо цудахарца, который вместо козла балхарки Салтанат прирезал дядиного коня.
Вы уже достаточно хорошо знаете характер моего дяди, и поэтому я не стану пересказывать все проклятья, которые обрушились на мою бедную голову. Я мог бы утонуть в нескончаемом их водовороте, если бы вдруг по всему верхнему аулу не пронесся, опережая отставшую где-то почтальоншу с ее неразлучной синей сумкой, клич, что на имя почтенного Даян-Дулдурума получен пакет из Италии от некоего Пьерро Сориано. В душе я послал тысячу благодарностей моему далекому спасителю. Я надеялся, что письмо, а еще лучше какой-нибудь сувенир отвлечет внимание дяди от погибшего коня. Кроме того, кони вообще выходят из моды. Нынче подавай горцу машину, да не какую-нибудь, а легковую, чтобы было мягко и удобно. Но я не успел привести этот спасительный довод, потому что мой дядя выскочил на террасу, а навстречу ему уже поднималась по лестнице запыхавшаяся почтальонша, самая милая болтушка из всех, каких я знал.
Увидав дядю, она опустилась на край лестницы и заголосила:
— Ой, как я бежала, как бежала! Я просто летела и все-таки, дядя Даян-Дулдурум, не успела опередить языки наших кумушек. А так хотелось самой принести вам эту весть: ведь не каждый день мы получаем такие письма. Да и вы так часто спрашивали: «А нет ли чего-нибудь от моего итальянца?..» И вот сегодня разбираю почту, и прямо сверху лежит продолговатый такой пакет, а на уголке штамп: «Международное». Я даже вскрикнула от неожиданности! Вот говорят о дружбе народов, а мне думается, что основой такой дружбы остается дружба между людьми… Разве я не права, дядя Даян-Дулдурум?
— Ну и язык у тебя… Где пакет? Письмо где?
— Есть письмо… Но дай хоть отдышаться, ведь я так бежала, так спешила, всех птиц перепугала, и домашних и диких.
— Да где же пакет?
— Вот здесь! — И почтальонша невозмутимо похлопала но сумке.
— Так давай же его!
— А я что делаю? Вот нетерпеливый человек!
Но все-таки она открыла сумку, и дядя выхватил из рук доброй вестницы длинный, узкий пакет, повертел его в руке, взвесил на ладони, потом надорвал и вскрыл. В пакете на небольшом кусочке красивой белой хрустящей бумаги начертано было несколько строк, и то не по-нашему и не по-русски, а по-итальянски.
Тут мой дядя послал меня за Тубчи-Пашой, тем самым кубачинцем, который в годы войны попал в плен, потом бежал из плена и, оказавшись на итальянской земле, вместе с партизанами итальянского Сопротивления воевал против фашистов. Тубчи-Паша — храбрый человек, он награжден не только итальянскими, но и французскими орденами и медалями. Возможно, что он еще помнит итальянский язык, хотя с тех пор прошло уже двадцать лет.
Тубчи-Паша пошел со мной. Мы застали дядю на террасе, он все еще вертел письмо, а у ног его по-прежнему сидела почтальонша, забывшая, что ей еще надо разнести по аулу двести или триста писем и газет. Дядя, видно, пытался прочитать меж строчек на непонятном языке сообщение о посылке какого-то ответного сувенира.
Тубчи-Паша взял письмо, напомнив о том, какие храбрые, веселые и жизнерадостные были итальянские парни, с которыми он дружил, голодал, мерз, уставал и воевал. После этого долго разбирал строку за строкой, бормоча что-то себе под нос, затем выпрямился и перевел послание. Пьерро Сориано из Италии сообщал, что получил драгоценный для него дар мастера Даян-Дулдурума — турий рог с серебряной отделкой, и заключил письмо обещанием: «Спасибо, дорогой маэстро, я всю жизнь буду пить из этого рога за твое здоровье!»
7
В тот же день я попросил у соседского мальчика десяток тетрадей, ручку и чернильницу. В комбинат я не пошел, а когда за мной зашли товарищи, сказался больным. Заперся в старой сакле, устроился за верстаком, разложил бумагу, обмакнул ручку и начал писать: «Мой дядя — да прославится его имя в веках! — любит приговаривать: „Все вы, конечно, мудрые люди, но помните, что есть только одна непреложная истина: ничего не бывает без начала, и все начинается с дороги“».
Так вот этот самый дядя уехал по своим делам на попутной машине, а я бегал к матери, в ее новый дом, поесть. Впрочем, я позволял себе это только тогда, когда чувствовал, что рука моя отваливается, а в глазах мелькают разом все буквы, написанные за день.
Наступило то время года, когда председатель сельсовета Омар проводит бессонные ночи, планируя график свадеб на всю осень, и пришел наконец долгожданный день, когда красавица Серминаз должна была выбрать достойнейшего из нас. Накануне, поздно ночью, я закончил свой труд — ожерелье для моей любимой, и теперь оставалось лишь добавить к нему завершающее звено — замок, если хотите.
Вернулся дядя; он уже простил мне гибель коня и обдумывал теперь, не купить ли ему машину. Они с матерью подарили мне новый черный костюм и длинноносые туфли. Разодетый, шел я в сопровождении Даян-Дулдурума и матери к сакле Жандара, а по всем карманам были у меня рассованы исписанные тетрадки. Сердце билось как птичка в кулаке: а что, если провалится моя затея, что, если не поймут почтенные аульчане моего отступления от традиций предков? Не знаю, может быть, дядя почувствовал, что в любую секунду я могу бросить все и убежать куда глаза глядят, но он твердо взял меня под локоть и всю дорогу подбадривал.
В просторной гостиной, освещенной электричеством, собрались лучшие мастера нашего аула, знатоки искусства Страны гор. Жандар встретил нас как дорогих гостей. Он проводил мою мать в соседнюю комнату, где уже судачили о чем-то женщины и среди празднично одетых подруг сидела на тахте красавица Серминаз. Как только мы вошли, я глянул на нее в приоткрытую дверь и чуть не ослеп. Я дал себе слово не глядеть больше туда, но взгляд мой словно магнитом притягивала точеная фигура в бледно-зеленом платье, расшитом жемчугами.
Нас с дядей усадили к стене, где на полочках были выставлены редчайшие образцы искусства Страны гор — изделия из керамики, дерева, металла, кости, старинное оружие — все, чему мог бы позавидовать любой музей. «Ну, чем еще вы меня удивите?» — казалось, спрашивал хозяин.
У меня от этой выставки душа совсем в пятки ушла.
Разговор почтенных аульчан переходил от снегопада в Арктике к жаре в Африке, и в комнате, где сидели с родными три соперника, напряжение незримо нагнеталось.
Женщины постелили скатерть, принесли вино и курзе. Только после того как мы поели (я, например, через силу — руки дрожали, во рту было сухо, но не хотелось выдавать волнения), Жандар обратился к нам со словами:
— Ну, молодцы, показывайте, что у вас есть? Кто самый смелый, пусть первым представит нам свой подарок.
Воцарилось молчание. Наконец заговорил отец Азиза Кальян.
— Давай, сынок! Нам нечего стыдиться! И он помог сыну развязать хурджин.
Под восхищенные возгласы присутствующих на свет появился яркий ковер. Не смог сдержать возгласа и я: это был тот самый знаменитый «карчар» чарахской мастерицы Зульфи, с которым я попал впросак! Значит, Азизу повезло там, где не повезло мне. И судя по одобрительному гулу почтенных мастеров, мой соперник мог уже считать Серминаз своею.
— Где же ты раздобыл это чудо? — спросил Жандар.
— У мастерицы Зульфи из Чараха, — отвечал Азиз, гордо улыбаясь.
— Ценная вещь! Что же ты дал ей взамен? — вмешался Ливинд.
— А взамен я оставил ей свое сердце.
Будто гром ударил! Пораженные, все обернулись к Азизу, а он улыбнулся мне и продолжал:
— Да, почтенные аульчане! Я оставил свое сердце у чарахской красавицы Зульфи. Не по своей воле участвовал я в борьбе за Серминаз — за девушку, которую совсем не знаю. Меня заставил отец: мог ли я его ослушаться? Но теперь, когда я достал этот ковер, я выхожу из боя. Я благодарен и тебе, Жандар, и тебе, отец, и Серминаз тоже, — если бы не вы, я не нашел бы своего счастья. И пусть ковер этот будет моим свадебным подарком Серминаз и тому достойнейшему, кого она изберет.
Сказав это, Азиз бережно опустил ковер и вышел. За ним выскочил еще не пришедший в себя Кальян. Все молчали, никто не знал, как расценить поступок молодого мастера.
Но тут на середину комнаты вышел Мухтар. Он ухмылялся — самый опасный соперник уступил ему дорогу! И конечно же, он понимал, что, не имея доказательств, я не посмею публично обвинить его в краже.
Мухтар, ликуя, вынул из свертка украденный у меня поставец, и тот пошел по рукам.
— Оригинально! — раздавались голоса.
— Ну-ка ближе к свету… Узор необычный.
— Как сплетены линии…
— Древняя работа.
— Лет примерно триста…
Постепенно поставец дошел до женской половины, и теперь все взоры обратились ко мне. А у меня будто язык отсох. Я не представлял себе, как покажу этим почтенным людям свои исписанные тетрадки.
— Ну, давай показывай свое ожерелье! — подбодрил меня дядя.
— Ожерелье! Ожерелье! — пронеслось но комнате.
— Это необычное ожерелье, — пролепетал я.
— Ну и хорошо! — ободряюще кивнул старик Хасбулат. — Покажи свое необычное ожерелье.
И я выложил на стол кипу мятой бумаги. Даян-Дулдурум, вспыхнув, схватил мои тетради, будто хотел проверить, не между ними ли спрятана обещанная находка. Но, ничего не найдя, спросил грозно:
— Что это за писанина?
— Люди добрые, — начал я смиренно. — Ожерелье мое, как я уже сказал, необычное. Оно в этих бумагах. Дайте мне немного времени, и вы убедитесь, что я принес Серминаз самое дорогое, что приобрел.
Что творилось в сакле Жандара! Почтенные мастера старались разглядеть тетради, которые дядя зажал в кулаке, намереваясь разорвать. Я пытался отнять у него мой труд. А Серминаз, я это заметил, сидела бледная на тахте и не сводила с меня испуганных глаз.
— Пускай объяснит! — сказал почтенный старик Хасбулат.
— Пусть он скажет, Даян-Дулдурум, нам ведь некуда торопиться, — поддержал и хозяин сакли.
И дядя вернул тетрадки, попутно крепко ткнув меня кулаком в бок.
Я уселся за стол, и тут мигом прошло все мое волнение. Я даже снял пиджак и пододвинул к себе поближе кружку вина на случай, если пересохнет горло. Оглядев всех, я начал: «Ожерелье для моей Серминаз».
И стал читать страницу за страницей, а когда осмелился в первый раз оторвать взор от рукописи, то увидел, что все слушают меня со вниманием.
И вот раздались первые возгласы одобрения и веселый смех именно в тех местах, которые и мне казались смешными, и когда я снова оторвался, чтобы глотнуть вина, то посмотрел прямо в глаза Серминаз, и эти глаза улыбались мне. И я снова читал и читал.
Свое долгое повествование я закончил уже тогда, когда лихой всадник — время — сменил черную бурку ночи на белый бешмет дня. Петухи возвещали утро.
Я отодвинул последнюю тетрадь и, обведя взглядом своих слушателей, сказал:
— Вот и все, дорогие земляки. А теперь судите меня как хотите.
Попросив позволения у хозяина, я вышел из сакли, побрел прочь из аула и бросился на мягкую траву у журчащего родника. Сюда и пришел за мной гонец сказать, чтобы я готовился к свадьбе.
Вот когда я окончательно понял, что любовь — это вещь серьезная.
ЭПИЛОГ
Прошел год с того незабываемого рассвета, и каждый новый день этого годы был для меня прекраснее дня вчерашнего. Как ни старался мой почтенный дядя Даян-Дулдурум — да не померкнет о нем слава в горах! — дать нашему роду наследника более достойного, чем способен дать я, но мать моя, благороднейшая из благородных Айша, родила смуглую курчавую девочку. А вот моя красавица Серминаз, еще более похорошевшая за время нашего супружества, подарила мне сына — большеносого, как я, черноглазого и веселого.
Имя ему — Амру, что означает Жизнь.
1967
Примечания
1
Героям, погибшим вдали от родных мест, горцы ставят памятники у дорог и на перекрестках, дабы люди могли почтить их память. Старинный обычай. (Примеч. автора.)
(обратно)2
Ясин — заупокойная молитва.
(обратно)3
Чухта — старинный женский головной убор.
(обратно)4
Вахарай — восклицание, означающее удивление.
(обратно)5
Камалул Башир — легендарный красавец Страны гор. (Примеч. автора.)
(обратно)
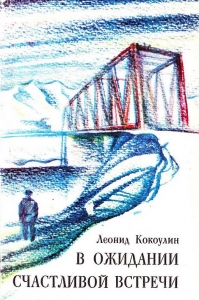




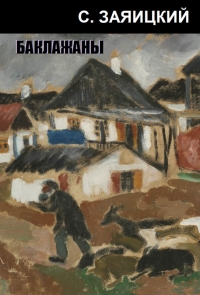
Комментарии к книге «Ожерелье для моей Серминаз», Ахмедхан Абу-Бакар
Всего 0 комментариев