***
Кто палку взял…
Сродно рабам желати всех зреть в оковах.
А. Радищев Кто палку взял — Тот и капрал!.. Как долго это нормой было, И как — не дай, не приведи! — Иная палка с ног валила Того, кто малость впереди. Иль приотстал, изнемогая (Хоть в честной битве изнемог), Иль правду резал, не моргая, И сильному подпеть не мог. И, пусть крупою не богатый. Согласным гимнам вопреки, Своей держался — угловатой, Неподрумяненной строки. Ну, ладно. Было. Пережили. Теперь вздохнул честной народ: Не то капралов порешили, Не то на палки недород. Ну, то есть не совсем чтоб ясность Полнейшая от «а» до «я». Однако — гласность, и согласность, И демократизация. Уже тебя не в хвост и гриву. Как тех измыленных коней, А пусть не приторно-игриво, Но уважительно вполне. Но только — что за наважденье? Каких проклятие богов? Вдруг — снова палок размноженье, Шпицрутенов и батогов! Там «Память» — память изувеча — Раскручивает грозный кнут. Там доморощенным предтечам Бока немилосердно мнут. Там комсомолка с ветераном, Не в силах ярость превозмочь. Звезду эстрады и экрана В пыль предлагают истолочь. Вчера еще капралом битый, — Свободно откричав «ура», — Новейший демократ сердито Сегодня рвется в унтера. Кричит: «Опасно скучковались Вот энти!» И наоборот: «Вон те не с теми целовались!» И на груди рубашку рвет. Понятно: не свою рубашку И не на собственной груди… Оп-пять капральские замашки! Доколе ж, господи прости?! Иль прав он был, тот философ. Судьбой израненный сурово. Сказавши: сродно для рабов Желати зреть других в оковах?Детей Арбата растащили…
Детей Арбата растащили По семьям, кельям и сердцам. Детей отвыли и отмыли. Утерли слезы огольцам. Растиражированный шедро. Чтоб всем хватило — порыдать, И в хмарь осеннюю, и в вёдро, Как Арарат, Арбат видать. С его на Набережной домом И москворецкою водой, С его Гоморрой и Содомом — Крутой наркомовской бедой. А между тем, на божьем свете, — Теперь уж ходоки в собес, — Сиротствуют другие дети — Арбатских сверстники повес. Когда-то супчик с лебедою (Арбатским детям не в упрек, С иною знавшимся бедою) Был их «наркомовский паек». И тараканные бараки. Давно ушедшие на слом. По горкам тем, где свищут раки. Был их «на Набережной дом». Кому ж они не угодили, Что из халуп, как из дворцов. Сибирской ночью уводили «Врагов народа» — их отцов. О них романов не нагонят. Написанные не прочтут, Ну, а прочтут — не растрезвонят. Судьба судьбой… чего уж тут? Да впрочем, были те романы, И вовсе не легли на дно. Про них не били в барабаны — И, может, к лучшему оно. Герои их живут. Удаче Чужой не смотрят жадно в рот… Они из тех, о ком не плачут. Они — не дети… а народ.Песня
Пора достойно умереть, Пора нам умереть достойно Не ждать, пока благопристойно Нас отпоет оркестров медь. Наш бой проигран — и шабаш! — Хоть мы все время наступали. Да не туда коней мы гнали — Промашку дал фельдмаршал наш. Не тех в капусту посекли, Совсем не тем кровя пущали. Гремели не по тем пищали, И слезы не у тех текли. И вот лишь дым… не очагов — Дым бесталанных тех сражений. В нем только наши отраженья — И нет (иль не было?) врагов. Так что ж, солдат не виноват? Душа солдата виновата! А ну, еще разок, ребята: Ура! и с богом! и виват! И в круп коню, в кровавый — плеть! Туда! На эти отраженья! В свое последнее сраженье… Исчезнуть!.. Или одолеть!РАССКАЗЫ
Дыру мы забили в заборе. Ура!
Ура и тому, что имелась дыра!
Ура! — вот стоит наш забор без дыры.
Ура! — без дыры он стоит до поры.
Ура! — засияет в заборе дыра.
И вновь мы ее победим
на ура.
ПОСЛЕДНИЙ ЧУДАК
Я пришел на обменный пункт, видимо, одним из последних. Народ там, как накануне, уже не толпился. Тихо было.
Голову я принес в коробке из-под шляпы, обложив ее предварительно ватой. Поверх ваты была еще пергаментная бумага, и все это я перетянул бечевкой.
— Господи! — сказала девушка-приемщица, сердито дергая неподдающийся шпагат. — Закутали-то, закутали!
— А поосторожней нельзя? — не выдержал я. — Голова все-таки…
— Не понимаю — чего люди трясутся? — сказала девушка своей напарнице. — Ведь сейчас получит новую. Такую еще голову выдадут вместо этой рухляди.
— У вас так не рухлядь! — обиделся я.
— Нам давно поменяли, — сказала девушка.
— Оно и видно.
— Что вам видно? — спросила девушка. — Напрасно иронизируете, гражданин. Головы очень хорошие. Предусмотрено даже знание трех иностранных языков.
Она порылась в картотеке.
— Вы поэт, значит? Что-то не слыхала такого поэта.
— На иностранных языках не пишу, — отпарировал я.
— Хм, — сказала девушка. — Поэт, поэт… Муся! Что там у нас осталось из поэтов?
— Дна песенника, баснописец и переводчик, — сообщила Муся.
— Какие еще песенники?! — заволновался я. — У меня же совершенно другое направление. Песенники, понимаешь, какие-то!..
— Вы бы еще попозже заявились! — сказала девушка. — Хорошо хоть эти остались… Что же мне с вами делать? Ума не приложу…
— А может, девятьсот седьмую? — посоветовала напарница.
— Еще чего! — оборвала ее первая девушка. — Забыла распоряжения Георгия Суреновича?
Муся испуганно прикусила язык.
— А чем вам, собственно, не нравятся песенники? — спросила девушка. — Будете как этот… «а я все гляжу, глаз не отвожу».
— Нет уж, благодарю, — сказал я, забирая обратно коробку. — Где тут у вас главный?
— Пожалуйста! — дернула плечиком девушка. — Муся, проводи. Кажется, я вам ничего такого не сказала. Сами же… То не нравится, другое не нравится.
— Что вы! Очень мило поговорили! — горячо заверил я ее. — Просто не каждый день приходится менять голову — нервничаешь.
В кабинете начальника обменного пункта меня ждал сюрприз. Из-за стола поднялся Жора Сосискян, старый друг — мы с ним еще в университете учились.
— Здорово, Сосиска! — обрадовался я. — Принимаешь гостей?
— Это кто же к нам пожаловал? — растерянно улыбаясь, сказал Жора (он не узнавал меня без головы). — Кто же это пришел… в сереньком костюмчике?
— Это я пришел, — сказал я и назвал свою фамилию.
— Фу-ты! — облегченно вздохнул Жора. — А я смотрю, смотрю — знакомая… походка. А это вот, значит, кто.
— Жора, — начал я, — тут мне, понимаешь, песенника какого-то сватают. Я, конечно, не Пушкин…
— Да не волнуйся! — сказал Жора. — Не переживай, пожалуйста. Отложена для тебя голова. Номер девятьсот семь. Вот, дорогой! — оживился вдруг он. — Дожили, понимаешь! Могли мы разве мечтать об этом?!
— Куда там! — осторожно сказал я, не совсем понимая, к чему он клонит.
— Раньше как было? — наклонился ко мне Жора. — Полная зависимость от болезней, разных там потрясений, я уже не говорю о возрастных изменениях. Допустим, продырявилась у тебя память. Склероз, так сказать. Куда от него денешься, а?
— Да, склероз, — грустно подтвердил я. — Уж от него никуда…
— А теперь? — сказал Жора, и глаза его засверкали.
— Теперь? — откликнулся я.
— Сдаешь это барахло, — сказал Жора, — и получаешь новую голову, не подверженную заболеваниям, инфекциям, депрессиям.
— Высокостойкую, значит, — заметил я.
— Именно, — кивнул Жора. — А кроме того, с нестареющей памятью и гарантией от временных заблуждений.
— Как? И это предусмотрено? — спросил я.
— Ну, разумеется. — Тут Жора перешел на интимный полушепот: — Послушай, дорогой, я тебя уважаю, но знаешь, какой резонанс получило твое последнее стихотворение?
— Кхм, — кашлянул я. — Интересно. Жора достал уже знакомую мне карточку.
— Так, — прищурился он. — Ну, тут повышение производительности труда на ноль целых восемьдесят три десятитысячных процента в сфере коммунального обслуживания, две парфюмерные фабрики перевыполнили квартальные планы, обязательства сотрудников одного института и кое-что еще — из области положительного воздействия… По вместе с тем! — Жора поднял палец. — Шофер такси Букина Эсфирь совершила преднамеренный наезд на диктора телевидения товарища Бабарышника; учащиеся ГПТУ Мудрик и Полоухин вырезали гладиолусы на городской клумбе; двенадцать ночных сторожей подали заявления об увольнении по собственному желанию, и, наконец, некто Левандовский из оркестра народных инструментов…
— Венька? — перебил я.
— Возможно, — сухо сказал Жора. — Некто Левандовский ударил собеседника по голове домброй… А теперь скажи: можем мы такое допускать?
— Ну-у, — сказал я. — Видишь ли… Что касается Веньки, то вряд ли тут мои стихи… Он их и не читает сроду…
— Не можем мы такое допускать! — твердо ответил на свой вопрос Жора.
— Так, так, — вздохнул я. — Значит, теперь этот Бабарышннк будет спокойно гулять, и никто на него, сукина сына, уже не сможет наехать?
— Ну да! — радостно подтвердил Жора. — Если случайно не попадет.
— Случайно он не попадет, — сказал я. — Чего захотел.
— Скажешь тоже, дорогой! — рассмеялся Жора. — Разве я хочу? Пусть живет… Ладно, — закруглил он. — Сейчас распоряжусь, чтобы тебе выдали девятьсот седьмую…
— Погоди, — удержал я его. — Не торопись. Слушай, Сосискян, ты меня давно знаешь… скажи, я просил когда-нибудь для себя исключительных благ?
— Ну! — сказал Жора. — Знаем твою скромность.
— Может, с черного хода чего-нибудь тащил или по блату доставал?
— Зачем такое говоришь? — расстроился Жора.
— Ну вот, — сказал я. — Не просил до сегодняшнего дня. Это в первый и последний раз.
— Понимаю! — вспыхнул Жора. — Понимаю, — повторил он и заерзал.
Потом перегнулся ко мне через стол:
— Имеется одна невостребованная. Готовили для академика… Только как старому другу…
— Тю! — замахал руками я. — Катись ты со своим академиком! Я о другом. Ты мне только выпиши справку: дескать, гражданин такой-то голову поменял. И все. А я уж заберу эту свою. Тем более её еще и распаковать не успели.
— Справок не даем, — официально сказал Жора. — Отрезали эту бюрократию. Навсегда… Здесь! — он похлопал рукой по какому-то лысому прибору. — Здесь все фиксируется. Обменял — зафиксирует, не обменял — зафиксирует.
— Да-а, — задумался я. — А может, подобрать что-нибудь из брака? Что-нибудь похожее на прежнюю?
— Тебе как лучше стараешься, — обиженно сказал Жора, — а ты… понимаешь. — Он нажал кнопку и спросил в микрофон: — Товарищ Маточкина, как там у нас сегодня? Одна? А что за дефекты? Жора усилил звук, и мне стало слышно, как женский голос перечисляет: "Склероз, депрессивные приступы, головокружения, мигрень».
— Господи, Жора! — вскочил я. — Это же почти моя голова!
— Положим, мигрени-то у тебя не было, — буркнул он.
— Эх, Сосиска! — сказал я. — Уж к мигрени я как-нибудь привыкну!
Через час я вышел из обменного пункта. На плечах у меня была моя новая старая голова. В кулаке я сжимал две таблетки. Это Сосискян дал мне их на прощанье.
— Возьми, — сказал, — они сладкие. Кисловатые такие. После этого дела три часа нельзя думать, а без таблеток все равно думается.
Мимо бежала собака. Я хотел бросить ей таблетки, но пожалел. За что ей такая обида — три часа не думать.
Бросил таблетки в урну.
ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС
Недавно с одним человеком по фамилии Мокрецов Федор Степанович (или просто Федя, поскольку Мокрецов еще довольно молодой мужчина) произошел случай, который к числу рядовых явлений, пожалуй, не отнесешь. Он вдруг обнаружил у себя способность слышать внутренние голоса других людей. Причем способность эта прорезалась у Мокрецова сразу, в результате скрытой химической реакции, может быть, или другого какого сдвига. Факт, согласитесь, уникальный. Правда, кое о чем подобном в печати сообщения иногда проскальзывают; о возможности телепатии, например, о чтении книг при помощи пальцев. Но вот про то, что можно чужой внутренний голос услышать от слова до слова, наука пока молчит.
А с Мокрецовым дело было так. Ехал он как-то в почти пустом трамвае. Такой, знаете, новый трамвай с прицепом. И на оба салона — только четыре пассажира. В заднем сам Мокрецов сидел, и рядом с ним, у окна — пожилой интеллигентный мужчина в шляпе. А головы двух других пассажиров торчали из-за спинок сидений далеко впереди.
И вот в такой, можно сказать, разреженной обстановке Мокрецов вдруг явственно услышал, что кто-то поет. Не вслух поет и не шепотом, а как бы про себя. Ну, вот, как если бы репродуктор до конца выкрутить, а потом плотно-плотно ухо к нему прижать — вот такое, примерно, ощущение: когда голоса, вроде, нет, а слова отлично разбираешь.
Но только это было не радио, пусть даже отдаленное. Потому что неизвестно чей беззвучный голос пел неприличную частушку, каких по радио, хоть застрелись — не услышишь. Неприличную, чтобы не сказать — похабную.
Мокрецов оглянулся украдкой туда-сюда и ешё раз убедился, что поблизости, кроме этого в шляпе, никого нет. Вот тогда его и стукнуло: это же сосед пост! Ну, не он сам, конечно, а в мозгу у него что-то такое. Внутренний голос, короче. А Мокрецов этот голос, выходит, запросто секёт.
Голос между тем отбарабанил частушку на три раза, помолчал маленько и начал снова.
«Дает папаша!» — хмыкнул Мокрецов. Он слегка развернулся и уставился на соседа с повышенным интересом. Смотрел, смотрел и вроде опознал его. Ну, точно: этот самый мужик в субботу по телевизору выступал — объяснял, как должен себя культурный человек вести в обществе и дома. А сам он то ли профессор, то ли доцент. Мокрецов хотел еще тогда на другую программу переключиться, да жена не позволила. «Мотай на ус, паразит! — сказала. — А то ведь от тебя кроме матерков сроду ничего не услышишь.»
И вот теперь этот культурный профессор сидел рядом с Мокрецовым, смотрел через очки в книгу и пел в уме разную похабель. Жаль, Мокрецов раньше с ним не встретился. А то бы он тот раз показал жене, как не давать переключаться.
«Вот привязалась, сволота! — выругался вдруг голос. — Хоть бы путное что. Хоть бы эта… как она? — «тебе половина и мне половина…»
Профессор откашлялся, глянул искоса на Мокрецова, опять уткнулся в свою книгу и запел внутренним голосом: «Моя милка, как бутылка…»
«Век бы тебя не слышать! — обозлился Мокрецов и встал. — Интеллигенция, падла-мадла!.. Запудрят, понимаешь, мозги народу, а сами…»
Обиженный Мокрецов прошагал аж в передний салон и там остановился, ухватившись за поручень.
Он сначала смотрел перед собой и не сразу поэтому заметил, что остановился как раз рядом с молодой женщиной. Только когда женщина шевельнулась неуверенно, словно бы собираясь подвинуться, Мокрецов увидел внизу ее рыжий начес. И тут же, еще ниже, он увидел круглые белые коленки, выглядывающие из-под кожаной мини-юбки, и не только, будем откровенны, одни коленки.
Теперь Мокрецову полагалось бы сесть рядом с дамочкой, но под каким соусом это сделать, учитывая совершенно пустой трамвай, он не знал. Мокрецов, вообще, при разговоре с прекрасным полом обходился двумя словами. Жене своей он говорил обычно: «Пошла, зараза!» — а чужим женщинам, с которыми его иногда сталкивала судьба, — «Пошли, что ли?» Сейчас пускать в ход такие слова было вроде рановато, других Мокрецов не знал, и поэтому он продолжал остолбенело торчать на месте, не сводя глаз с этих самых не только коленок дамочки.
«Ну, че пялишься, рожа? — сказал кто-то словно бы внутри мокрецовского уха. — Че ты, вообще, здесь приклеился? Мало тебе, козлу, места в вагоне?»
И в тот же момент женщина сердито потянула юбку на колени, но не добилась успеха и прикрыла их сумочкой.
«Она! — сообразил Мокрецов, невольно пятясь. — Во кроет!.. Будь здоров!»
Он попятился через проход и сел рядом с пареньком в болоньевой куртке и дерматиновой фуражке.
Паренек, похоже, дремал, сдвинув на глаза свой картузик. По крайней мере, он совсем ни о чем не думал — иначе Мокрецов услышал бы, раз у него открылась такая способность. Но продолжалось это недолго. Внутренний голос паренька сокрушенно вздохнул и заговорил, словно продолжая прерванную мысль.
«Все люди как люди, — сказал он. — Как люди, понял?.. А ты?.. Ты же нелюдь. Тебе только бы пожрать да накеросиниться — вот и все интересы. Ну-ка, скажи: сколько лет книжек не читал? То-то! Как нз школы выперли, так ни разу и не притрагивался. Скоро уж, наверное, роспись свою ставить разучишься…»
Внутренний голос паренька, хоть и резал напрямик, был, однако, не злой, а какой-то увещевательный, сочувствующий, что ли, и странно действовал на Мокрецова: расслаблял его и словно бы опечаливал.
«Вон парк культуры проезжаем, продолжал зудеть голос — Ты зачем в него ходишь — вспомни? На карусели покататься? Фигу! Пивная там рядом с каруселью. Рыгаловка твоя любимая. И у тебя это, у жеребца, называется: «на карусели прокатиться». Остряк, понял, самоучка!.. Про театры уж я не говорю. Какие там театры, когда ты шахматными фигурами в уголки играешь. В уголки! — не в шашки даже. Насчет шашек у тебя извилины не волокут… Нет, озвереешь с тобой. Честно, озвереешь.»
«Верно! — крутнул головой Мокрецов. — Верно, в елкин корень!»
Паренька, видать, внутренний голос тоже пробирал — он все ниже клонил голову и сутулился. Мокрецов же, видя его переживания, размяк совершенно и в конце концов дошел до такого сложного состояния, в котором смешались и жалость к этому пассажиру, и уважение, и собственные какие-то надежды, и черт его знает что еще. Впрочем, сам Мокрецов так подробно объяснить не сумел бы, он только чувствовал непривычную расслабленность и телячью нежность.
Они вышли па одной остановке, и ноги сами понесли Мокрецова вслед за пассажиром в картузике, хотя ему было вроде не по пути. Где-то под ложечкой у Мокрецова шевелилась тревога, что вот если сейчас парень скроется из виду, то он так и не узнает чего-то важного, не докумекает, упустит.
Раза два пассажир оглядывался — и тогда Мокрецов сбавлял шаг, делал безразличный вид просто так гуляющего. Они прошли мимо зоопарка, миновали базар, обогнули стадион и оказались на длинной и пустой полудеревенской улице. Тут пассажир остановился и кивком головы поманул Мокрецова к себе. Губы у Мокрецова невольно раздвинулись в извинительной улыбке, он как-то по-собачьи вильнул шеей и стал приближаться. Парень тоже как будто слегка улыбнулся, хотя издали трудно было разобрать. Мокрецов подошел совсем близко. Парень, резко оскалившись, ударил его тупоносым ботинком в коленную чашечку. Боль выстрелила в затылок — Мокрецов замычал и согнулся.
— Ходишь, шакал! Нюхаешь! — сквозь зубы сказал парень, — Я тебя, гада, определил! С Пашки полторы косых вытянул — с меня захотел! На тебе полторы косых!.. На! — и он еще дважды пнул задохнувшегося Мокрецова в правый бок.
Наверное, Мокрецов на минуту отключился. Потому что, когда он поднялся, вялыми руками стряхивая пыль, парня уже не было рядом. Вообще, на всей улице не маячило ни одной фигуры. Мокрецов стоял один, не решаясь сделать хотя бы шаг — сильно ломило в боку и коленке.
«Ну, что, Федя, скушал? — спросил знакомый уже голос. — Вот до чего ты докатился — урки тебя за своего принимать стали.»
Мокрецов суеверно оглянулся.
Ни рядом, ни вдалеке никого не было. Хоть бы курица или собака.
«Мой! — обожгло Мокрецова. — Мой голос!.. И там, в трамвае, тоже был мой…»
Какой-то острый комок стал толчками подниматься у него из желудка и никак не мог выйти наружу.
Содрогаясь от икоты, Мокрецов сел на глинистый край кювета. Прямо в пыль.
Комок постепенно разбухал, теплел, плавной волной подступал к горлу.
Потом у Мокрецова защекотало в носу, и он молча заплакал.
ДЕДОВСКОЕ СРЕДСТВО
Теперь-то Нюрка Толкунова осмелела и даже распевает на гулянках частушку собственного сочинения:
Раньше были времена, а теперь моменты: раньше были колдуны — теперь экстрасенты!А был момент, когда один из этих самых «экстрасентов», нагнал на нее страху. Да и не только на нее одну…
История, о которой пойдет речь ниже, произошла у нас под городом, на тридцать восьмом километре, в поселке. Поселок так и называется «Тридцать восьмой километр». Он ничем не примечателен, безлик, как и его название. Ни колхоза здесь нет, ни совхоза, ни другого какого производства. Есть только ЛТП для алкоголиков (по местному — дурдом). Ну, еще остановочная железнодорожная платформа и магазин продовольственно-промышленных товаров.
Население в поселке, однако, держится стабильно. Даже помаленьку прибывает. Тут есть за что держаться. Огороды на Тридцать восьмом километре немереные, в отношении личного скота государство теперь поощряет, город с двумя колхозными рынками рядом, и сообщение прекрасное.
Народ здесь поэтому оседает цепкий, оборотистый и отважный. В бога не верят, черта не боятся, про экстрасенсов не знают, хотя и смотрят передачи по трем телепрограммам. Вернее, не знали, пока старик Шестернин не просветил всех.
Но это позже случилось. А сначала приехал на Тридцать восьмой некто Мозгалюк Степан Петрович. Откуда-то из-под Кишинева. Приехал, как говорится, на дожитие. Ему там, на родине, к старости климат будто бы начал вредить. Ну, приехал он, значит. Купил себе здесь домишко. Скотиной кой-какой обзавелся. Живет.
Человеком Мозгалюк оказался общительным, свойским. За короткое время он со многими в поселке перезнакомился, а с некоторыми успел даже и покумиться. Одно в нем было неприятно, чисто внешне: он почему-то кривился, морду косоротил. То ничего-ничего, а то скажет слово и скосоротится, подбородок небритый в сторону потянет. Ну, этому в поселке значения не придавали. Тут на всяких чудаков насмотрелись, привыкли. Тот же старик Шестернин, к примеру, постоянно подмигивал. И головой дергал. Мигнет, головой дернет — вроде как приглашает тебя: «Выйдем — поговорим!»
А Мозгалюк, значит, кривился. Ну и ладно. Его собачье дело. Никого это, повторяем, не трогало. До поры. А потом стали замечать, что у него вроде бы еще и глаз дурной. Тоже не сразу установили. Нынче ведь в подобные глупости редко кто верит, даже в таких не шибко цивилизованных местах, как Тридцать восьмой километр. Но факты, давно сказано, упрямая вещь. А факты мало-помалу копились. Такие, например. Зайдет он к кому-нибудь во двор, посмотрит из-под бровей, как бирюк, перекосоротится и скажет:
— У тебя, молодуха, вон тот петушок куриц топтать не будет.
Глядит хозяйка — и точно: до этого вроде намечался петушок, а тут ходит как вареный, жидким марается, перья у него начинают из хвоста выпадать, гребешок усыхает. Через некоторое время не петух уже, а мокрая курица. Хоть самого топчи.
Сперва думали, что у него исключительно на петухов глаз тяжелый — как глянет на которого, так тот и готов. Ну, а когда он таким же способом нескольких свиней изурочил, да еще на Москаленкова Ивана, местного фельдшера, рожу напустил, тогда поняли, что за фрукт к ним приехал. Особенно поразил всех случай с Иваном. До этого еще мнения разделялись. Одни говорили «дурной глаз», а другие не соглашались: просто, мол, совпадения. А тут завезли в магазин «Агдам». Ну, конечно, народ сбежался. А Иван без очереди полез. Ему по-хорошему говорят: «Встань в хвост, чем ты лучше других!» А он, как единственный в поселке медицинский работник, закуражился. «Ничего, перебьетесь. Пропустите одно лицо. Успеете алкоголиками стать».
Вот тогда стоявший тут же Мозгалюк и врезал ему:
— Да разве у тебя лицо? У тебя — рожа!
И привет: через два часа у Ивана — рожистое воспаление рожи. То есть лица.
Мозгалюка стали опасаться.
А как опасешься? Ему, как пенсионеру, делать особенно-то нечего, шарашится каждый день по дворам — и не выгонишь. Во-первых, неудобно, а во-вторых, боязно.
И вот однажды заходит он так к одному из своих кумовей, к Федьке Толкунову. Федьки дома не оказалось. Он завхозом работал в дурдоме и как раз уехал на лошади в районный центр за шифером. А дома была Нюрка. Крышу на стайке ремонтировала. Толкуновы только-только купили корову, и пока она у них прямо в ограде стояла, под открытым небом.
Мозгалюк обошел корову кругом, за вымя пощупал и говорит:
— Слышь, Нюра! Эта корова теленка тебе не принесет. Нетелью останется.
— Типун тебе на язык! — отвечает с крыши Нюрка.
— Ну, гляди, — скривился Мозгалюк. — А я предупреждаю.
— Еще и косоротится! — обиделась Нюрка. — Че косоротишься-то?
— Изжога у меня, — неохотно пояснил Мозгалюк. — Печет. Спасу нет.
— Совсем бы она тебя запекла, черта языкастого!
Нюрка, мало сказать, расстроилась, она прямо в отчаянье впала. Толкуновы и брали-то корову не столько ради молока, сколько ради будущего теленка. Они прикидывали, что если забьют на мясо двух боровков, которые у них откармливались, да вырастят бычка от этой коровки, то и расходы на нее покроют, и еще им минимум на пол-«жигуленка» останется.
Вечером вернулся Федор — Нюрка его и обрадовала: Мозгалюк корову сглазил. Федор даже в дом заходить не стал: сейчас, кричит, морду ему пойду расхлещу. Хорошо, рядом оказался сосед, старик Шестернин, остановил его.
— Сбесился ты, парень! Разве можно до него касаться! Ну, дашь ты ему разок в морду… А он тебя биополем ударит.
— Каким еще биополем-хренодролем? — изумился Федор.
— Эх вы, люди! — дернул головой Шестериин. — Телевизор цветной купили, такие деньжищи вбухали, а ни шиша не поумнели!.. «Каким, каким»!.. Рак напустит! — вот каким! Или туберкулез. И сгниешь. А он сопли утрет — и все.
Старик Шестернин, в отличие от прочих обитателей Тридцать восьмого километра, зациклившихся на своих узких огородно-базарных интересах, обладал широкими и разнообразными познаниями. Ежемесячно он получал журналы «Человек и закон», «Здоровье», «Наука и жизнь», выписывал, кроме того, «Известия» и «Литературную газету».
Тут же, возле калитки, где Шестернин успел перехватить разгоряченного Федора, он прочел ему короткую, но обстоятельную лекцию. Колдунов теперь нет, сказал старик Шестернин, точно так же, как шаманов и знахарей. Все, шабаш! Вывели их ученые. Под корень. Но расплодились взамен экстрасенсы. Эти посерьезнее будут.
— Ну, вроде комаров, — объяснил Шестернин для наглядности. — Помнишь: травили их, травили, а они только злее выросли. И размером больше. Вот так и экстрасенсы. Колдун — он что? Ну, дунет, плюнет, чирьяк куда-нибудь посадит, грыжу наворожит… А экстрасенсы на расстоянии действуют. Могут по телефону, в письменном виде или вообще по воздуху — биополем. Причем такие болячки присобачивают, против которых наука пока бессильна… И Мозгалюк, по всему видать, из этих самых орлов… Так что не ершись, Федя, — заключил Шестернин. — Прижми хвост. Ивана-то вспомни, Москаленкова.
— Ну-ну, — сказал Федор. — И что дальше? Выходит, он так и будет здесь орудовать? И ничем его ограничить нельзя?
— Вот этого я не знаю, — признался Шестернин. — Не могу сказать. Против колдунов, помню, было средство. А против экстрасенсов — не знаю. Врать не стану.
— А какое было против колдунов? Старик Шестернин замялся:
— Да глупость, конечно. Смех… Через потный хомут их прогоняли.
— Как это через потный? — не понял Толкунов. — В бане, что ли, хомут парили?
— Опять двадцать пять! — развел руками Шестернин. — На коне работаешь, а такого не знаешь. С потного коня должен быть хомут. С горячего.
— М-гу, — переломил бровь Федор. — Ну, это можно устроить. Это в наших силах.
— Федя, — старик Шестернин оробел. Понял, что лишнее сболтнул. — Так ведь то колдуны были, не экстрасенсы. Времена-то какие, подумай.
— Я его, курву, — зло сказал Толкунов, — не то что через потный хомут… я его за свою корову через игольное ушко прогоню!..
О дальнейших событиях даже рассказывать неудобно. Стыдно. Федору запала в голову эта адская мысль. И он на другой день приглашает Мозгалюка к себе, будто бы в гости. Ставит на стол бражку, режет свиное сало, лук кладет.
— Давай, Степан Петрович, угощайся. Нюшка, подливай куму. А я только на работу доскачу — директор чего-то вызывал.
Выбежал он во двор, прыгнул в телегу (лошадь у него уже запряженная стояла) и погнал галопом — до дурдома и обратно. Прилетел назад, хомут с коня долой и заносит его в избу.
— Ну-ка, — говорит, — специалист рваный, лезь через хомут!
Мозгалюк дико глаза вытаращил:
— Ты что, Федор, пьяный?.. Вроде бражку-то я пил.
— Лезь, поганая твоя морда! — кричит Федька. — А то башку отсеку! — и хватает лопату штыковую — возле печки стояла.
Мозгалюк видит — дело плохо. У Федьки, пожалуй, не заржавеет. Сунулся он было в дверь, а там Нюрка стоит. Со скалкой. Тоже баба оторви да брось.
Заплакал Мозгалюк и полез. Хотел фуфайку сбросить для удобства, но Федор не дал.
— Лезь так, осколок! Нечего тут шебуршами трясти! Мозгалюк просунулся до середины и застрял: вперед не может, назад не пускают.
— Федька! — взмолился он. — Вытащи меня ради Христа. Что же ты делаешь со мной, сукин сын!
— Ну-ну! — говорит Федор. — Ты мне горбатого не лепи. Тебя вытащишь, а потом руки отсохнут. Давай скребись сам. В другой раз будешь знать, как чужих коров портить.
В общем, пролез Мозгалюк через хомут. Встал у порога — весь склизкий.
— Эх, — говорит, — Федор, Федор! До чего же темный ты человек!
— Зато ты теперь очень светлый стал, — оскалился Федор. — Вполне прозрачный. Обезвреженный. Академик хренов… Петушиная смерть.
Мозгалюк после этого скандального случая упал духом, людей начал сторониться. По дворам, конечно, уже не ходит и предреканиями не занимается. Больше того: недавно у него собственный петух перестал кур топтать. И у коровы молоко пропало. Так что Мозгалюк сейчас ищет покупателя на свой домишко — хочет податься обратно под Кишинев.
Федор Толкунов держит себя героем и спасителем населения. А горластая Нюрка его распевает на гулянках вышеприведенную частушку.
Старик Шестернин, чувствующий, видать, во всем этом свою косвенную вину, иногда поправляет ее:
— Экстрасенсы надо говорить… дура!
— А мне до фени! — отмахивается Нюрка. — Зато по-моему складнее.
КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТАМИ
Вот история, середину которой недавно поведал мне мой приятель Вася Припухлов, концовку я восстановил сам — по наблюденным когда-то сценам, слухам, намекам жены и соседей, а начало, тому назад года два, слышал от случайной попутчицы в самолете и, признаюсь, воспринял его как анекдот. Теперь все это в прошлом, можно лишь улыбнуться, даже и посмеяться. Отчего бы действительно не посмеяться над прошлым, если жить мы теперь стали лучше — во всех отношениях: честнее, трезвее, богаче? В частности, Вася Припухлов бросил пить — причем задолго до объявления всенародной борьбы с этим постыдным явлением. А раньше он, надо сказать, крепенько зашибал, через что и угодил в действующие лица этой самой истории.
Итак, начнем сначала, то бишь со средины.
Середина
Значит, Вася (пардон, Василий Илларионович) бросил пить, образумился и — с целью накопить денег на машину — стал подрабатывать, проще говоря, шабашить во время очередных отпусков: он инженер-электрик высокого класса, голова у него светлая и руки золотые — его в любую «дикую» бригаду с руками этими отрывали, что называется. Накопил он в результате изрядную сумму, а именно — четыре тысячи без каких-то рублей. Накопил и думает: «Ну, еще пару сезонов, от силы три, поупираться — и, считай, с колесами я. В крайнем случае тысчонку можно будет в долг перехватить — у тестя».
Как вдруг читает в местной «Вечерке» объявление:
Если вы решили купить автомобиль…
АВТОМАГАЗИН № 4
предлагает автомашины "Москвич-412".
Для приобретения автомашины нужно иметь при себе расчетный чек на 7300 руб.
Доплата принимается наличными.
Вот тогда-то Вася и прибежал ко мне (мы через дорогу живем), бил себя в голову двумя кулаками сразу, содрогался от рыданий, выкрикивал:
— Лопух! Кретин! Недоумок!.. Вот этими самыми руками! Три с лишним тысячи… И куда? В унитаз!.. Балда! Фрайер!..
Случилось с ним — давно — следующее.
Он, когда еще пристрастие пагубное имел, собрался как-то в командировку, на юг. Решил на дорожку подкрепиться, зашел в ближайший от аэроагентства кафетерий (он его частенько посещал), сказал знакомой барменше:
— Налей-ка чего-нибудь… оскорбляющего человеческое достоинство. Сто граммов.
Барменша налила ему сто коньяка, недолила, конечно, как постоянному клиенту, на полсантиметра (Вася спокойно это воспринял — обычное дело), а при расчете разошлись они в копейке.
Да ладно, мать, не ищи, — великодушно сказал Вася. — Чай, не последний день видимся.
Но барменша показушно запринципиальничала и выбросила ему на стоику коробок спичек.
Он вышел из кафетерия, сунул в рот сигарету, собрался прикурить, а коробок этот, обнаружилось, набит ватой. И поверх ваты лежит тоненькое золотое колечко, на утолщении которого прилепились шесть каких-то светленьких бородавочек. Крохотные такие — со спичечную головку. Незавидненькое, в общем, колечко. Но к нему на ниточке привязан, тоже крохотный, ромбик и на нем цена обозначена. Прочел ее Припухлов и глазам не поверил: ни-чего себе — 3323 рэ!.. Он даже запятую поискал: может, все-таки 33,23 рэ? Или, хотя бы — 332,3 рэ?.. Нет, все точно — 3323 рэ, как одна копеечка… Это кто же такие покупает? Принцы наследные? Обалдеть!
Вася вернулся в кафетерий, положил коробочку на стойку, сказал интригующе:
— Ну-ка, мать, открой. Посмотри, сколько ты на сдачу выбрасываешь.
— А что такое? — насторожилась барменша.
— Да ты открой, открой! — весело повторил Вася. И сам открыл. — Глянь-ка. Ты миллионерша, наверное? Первая леди.
Барменша глянула на кольцо — на Васю — снова на кольцо — опять на Васю… непомерно расширенными глазами. И вдруг глаза ее резко, зло сузились.
— Нарезался уже где-то, — сказала она, — Надрался… алкаш! Ты что мне тут суешь?.. Сволочь! Подзаборник! Я тебя счас определю! Я тебе покажу леди!.. Теть Фрося! — закричала она кому-то через плечо. — Вызывай сотрудника! Срочно!.. Ну, все! Все! Счас ты у меня поедешь… гадина, вонючка!
Вася вылетел из кафетерия пулей, с зажатым в кулаке коробком. Мать перетак! Куда же теперь с ним? Куда?!.. Самому разве в отделение рвануть? Оно тут — за углом… А если ему там — ну-ка дыхни? Он же выпил. И повезут… они такие. А главное — ему же лететь надо. Вон уже автобус рейсовый против агентства стоит, под парами.
В полной прострации он машинально пересек улицу, сел в автобус. Коробок спрятал пока во внутренний карман пиджака.
По дороге в аэропорт разыгралась у него фантазия. «А вдруг это проверочка? — стал думать Вася. — Проверяют меня… Специально?» Он фильм как-то смотрел по телевизору. Многосерийный. Там наши контрразведчики (или как они называются?) вылавливали шпионов… дипломатов. И всех, кто с ними в контакт входил, хоть мало-мальски соприкасался, снимали втихушку на пленку. И потом прокручивали. А там один мужик был, тоже соприкасавшийся. Механик какой-то. Он каждый день в обеденный перерыв в один и тот же магазин заныривал, в «Соки — воды». Занырнет, стакан водки у знакомого продавца под видом минералки шарахнет — и назад. А его аккуратненько снимали. Думали сначала, что он не водку пьет — минералку и что продавец этот тоже агент, а не просто спекулянт, а магазин — явка.
Вася вспомнил: к ним же на завод приезжал месяца два назад иностранец, поляк, некто Миколаек. Вася к нему был приставлен по своей электрической части — сопровождал, давал пояснения. Они сдружились. Дома у Васи были. Выпивали, елки!
А вдруг этот Миколаек никакой не Миколаек был? И вообще не поляк, а заброшенный… оттуда. И Васю рядом с ним — как они братались-то! — скрытой камерой… И последующие два месяца, одного уже, — как он в этот кафетерий: через день да каждый день. А барменша, может, подсадная. И кольцо это кинула ему как наживку. А он — дурак — заглотил! И на крючке теперь…
В общем, к самолету Вася накалил себя до предела, до трясучки. Проклятый коробок жег грудь с левой стороны. И когда после взлета вскочил вдруг со своего места грузинского вида парень и с криком «Ас-станави самалет!» ринулся в кабину пилотов, у Припухлова оборвалось сердце. «Из-за меня! — понял он. — Сейчас брать будут».
Он поднялся, несмотря на запрет вставать (самолет не набрал еще высоты), схватился для вида за живот (да какое для вида — в животе у него стремительно слабло) и мелкой рысью убежал в туалет. Там он затворился, бросил коробок в унитаз, нажал педаль внизу.
И полетел коробок, полетело трехслишинмтысячное колечко в заснеженные сибирские просторы…
Концовка
Барменша Даша (Дарья Петровна) сразу же после странного визита к ней Васи Припухлова отпросилась с работы под предлогом головной боли. Голова у нее, впрочем, на самом деле болела, раскалывалась прямо. Она, пока бежала домой, не отнимала ладоней от висков.
Дома Дарья Петровна начала срывать со стен ковры, увязывать в простыни дубленки и норковые шубы, упаковывать богемский хрусталь. Выволокла из-под шифоньера плоскую коробку с золотом — кольцами, серьгами, кулонами и прочим. Она свое золото под шифоньером держала, в плоской, бросовой картонке, полагая, что вор, если вдруг заберется, нипочем не станет искать его в таком месте.
Муж застал ее, когда она, надрываясь, снимала с тумбочки двухтысячный японский телевизор.
— Заводи машину! — закричала Дарья Петровна. — Выследили, сволочи!.. Ходил, лягавый, алкашом прикидывался!.. Таблетки, наверное, потом глотал, чтобы не косеть. Л сегодня такую подлянку хотел подкинуть… К маме! Все — к маме!.. Мебель… А черт с ней, с мебелью! Хоть это увезти…
Побледневший муж сразу все понял, чуть не кубарем скатился вниз, к машине. Машина, новенькая «Волга», стояла у них под окнами. Они ее недавно купили и гаражом обзавестись еще не успели.
Муж, забыв в панике про ключ, с ходу нажал ручку дверцы — и тут вдруг (ему показалось — прямо над ухом) кто-то рявкнул:
— Стой, ворюга! Руки вверх!
Муж Дарьи Петровны присел от неожиданности и задрал руки вверх.
Как раз эту сцену я и наблюдал — лично: сдающегося неизвестно кому мужа Дарьи Петровны и саму Дарью Петровну, застрявшую с узлами в дверях подъезда. Я же и объяснил мужу Дарьи Петровны, что скорее всего это проделки пацанов, тимуровцев. У нас в доме действовала подпольная тимуровская команда, и был там одни шкет, Славка Никулин, Никуля, большой специалист в области электроники. А у «Волги» мужа Дарьи Петровны накануне кто-то пытался фару вывинтить. Вот Ннкуля, видать, и присобачил тайком к машине какое-то хитрое устройство: чуть дотронешься до нее, как сразу металлический голос произносит: «Стой, ворюга! Руки вверх!»
Муж Дарьи Петровны, услышав про это, завизжал от ярости и так начал пинать неповинную машину, что она после каждого пинка выкрикивала только: «Стой, ворюга!.. Стой, ворюга!» — а крикнуть «Руки вверх» уже не успевала.
А через пару дней он подкараулил Славку и буквально полуоторвал ему уши. Бедный изобретатель неделю целую сидел в классе, не снимая шапки.
Славкин отец сначала хотел набить мужу Дарьи Петровны морду, но, вовремя остановленный супругой, одумался и просто подал на него в суд.
Муж Дарьи Петровны получил за свое варварство год условно, который и отмантулил впоследствии на «химии».
Вот после суда между женщинами нашего подъезда и шли эти разговоры: мало, дескать, дали паразиту. За Славку даже мало: это ведь надо — так ребенка изувечить! И вообще — мало. Потому что он действительно ворюга. Как и Дашенька его. Вместе тянут, на пару. Ну какой же честный человек руки вверх задерет от подобного окрика?.. И откуда машина? На какие шиши приобретена? И шмотки? И обстановка — которую они перед судом два дня из дому вывозили?..
Начало
Его я услышал, как уже говорил, от случайной попутчицы и самолете.
Оказалась рядом со мной этакая дамочка… блондинка, в общем. Довольно пикантная. И общительная. Я в какой-то момент, не помню уж в связи с чем (кажется, передавая ей разносик с едой), сказал: «Позвольте за вами поухаживать».
Она рассмеялась и вспомнила давний случай: как за ней, тоже вот в самолете, ухаживал… один.
Летела она в Сочи, в санаторий. И сел рядом с ней красавец мужчина, прямо артист Кикабидзе, почти одни к одному. Только глаза шибко… отважные. На выруливании уже, от земли еще не оторвались, начал ухаживать: «Меня зовут Резо, а тебя как?.. Куда летишь?» Узнав, что летит она в Сочи, сразу назначил свидание: «Будем с тобой встречаться. Возле ресторана «Приморский», в девять вечера. По вторникам и четвергам. Сегодня что — вторник? четверг?»
Ну, блондинка наша, чтобы не грубить человеку (да она еще с большим чувством юмора оказалась), взяла его на «пушку»: «А почему это по вторникам и четвергам только? А в остальные дни?.. с другими будешь встречаться? Мы у тебя что — по расписанию?»
Резо этот давай ее уговаривать — всерьез все принял: «Не могу другой день, дорогая. Паверь. Никого больше нет — клянусь мамой! Другой день — дела. Работы много, панимаешь». Она не уступает: нет и нет! Или каждый день, или вовсе никогда. Ишь ты! Так я и поверила, будто никого больше нет. Нашел дурочку.
Тогда он, распалясь, стал выхватывать из карманов замшевого пиджака разные коробочки, в том числе спичечные, открывать их: «Бери что хочешь!» А в коробочках — брошки, перстни, серьги!
Она возьми и поддень его: «Это все тем везешь, которых нет? Клялся-то… А жене родной небось и булавочки не купил?»
Резо страшно оскорбился. Сразу чужой сделался, даже враждебный. «Зачем так говоришь? — высокомерно вскинул бровь. — Жене везу самый дарагой падарк!» Он сунул руку в один из карманов. И замер… с полуоткрытым ртом. Потом медленно вынул растопыренную пятерню — пустую: — Г-де?!.. Здесь клал!.. Барканер — враг природы нарисованный. Вай! — и прыгнул из кресла, как барс: — Ас-станави самалет!.. Ас-станави! Генацвале! Ум-моляю! Ас-станави самалет!»
Кое-как две стюардессы, девицы баскетбольного роста, и выскочивший на подмогу штурман скрутили его, затолкали на место.
Он потом сидел, горестно раскачиваясь взад-вперед, а маленько отмякнув, признался, что в коробочке с нарисованным браконьером лежало кольцо с бриллиантами («три тысячи платил… маленько больше»).
Вот что случилось с Резо (он это сам вычислил вслух при попутчице).
Перед отлетом, то есть перед отъездом в аэропорт, он зашел в кафетерий — выпить чашку кофе. Барменша («У-у, каркадил!»), между прочим, предложила ему: «Может, коньячка сто граммов хотите?» Резо посмотрел на этикетку бутылки, презрительно сказал: «Эта коньяк называешь? Эта коньяк — стаканы поласкать», — чем, наверное, жутко обидел барменшу. Однако сразу она виду не подала. Резо допил кофе, вынул сигарету и стал чиркать зажигалкой, но безуспешно — газ в ней, что ли, кончился? Он достал из кармана спички. И тогда барменша, вдоволь насладившись его манипуляциями, сказала:
— Погляди назад.
— Зачем мне глядеть назад? — спросил Резо. — Ты стоишь вперед — ты гляди.
— Погляди назад! — повысила голос барменша. — Видишь, что написано? «У нас не курят».
— А ха-ха! — раскинул руки Резо. — У них, панимаешь, не курят. А у нас курят.
— А у нас не ку-рят! — отрубила барменша и сшибла его спички за прилавок, в общую коробку.
— Падавись… копейкой, — сказал Резо.
— Нна! — барменша звонко хлестнула о прилавок копейкой, припечатала ее. — А курить ты здесь не будешь!
— Падавись этой тоже! — брезгливо скривился Резо и вышел вон с гордо поднятой головой…
Эпилог
Как пережил свою утрату незнакомый мне Резо, не знаю. Думаю, однако, что с протянутой рукой по миру не пошел. На чем-нибудь да утешился.
Вася Припухлов в данный момент, взяв отпуск без содержания, монтирует электрооборудование на животноводческом комплексе колхоза «Рассвет».
Объявления в газете продолжают публиковать. К «Москвичу-412» прибавился «Москвич-2140 люкс» (расчетный чек требуется на 8 200 р.).
Муж Дарьи Петровны, после отработки на «химии», продал «Волгу» и купил «мерседес». Два «мерседеса» в нашем городе: одни — у директора кладбища, второй — у мужа Дарьи Петровны.
Сама Дарья Петровна работает на прежнем месте, и хотя недоливать ей теперь нечего — в связи с решительным курсом на искоренение, — уходить вроде не собирается. Единственно — спички она ни под каким видом не принимает, когда ей завозят их с базы. А посетителям, интересующимся наличием спичек, таким голосом отвечает: «Не держжим!» — что они шарахаются от нее, как от огнедышащего дракона.
ХОД СООБЩЕНИЯ
Дело было в Англии.
А может, и не в Англии. Это сути не меняет. В общем, где-то там, у них — в шибко свободном мире.
Одни узник, приговоренный к пожизненному заключению, прорыл подземный ход. В соседнюю камеру. Четырнадцать лет он упорно трудился — скреб землю бутылочным стеклышком, дробил камень зубочисткой — и наконец объявился у соседа: ку-ку, дескать, а вот и я!
Сосед удивился этому несказанно. Он тоже пожизненно сидел и уже не надеялся живой души увидеть — а тут на тебе: вылезает из-под каменной плиты личность, щурится на свет, очки поправляет.
У соседа волосы дыбом поднялись.
А вылезший раскланивается: позвольте, мол, представиться. Такой-то и такой-то, уроженец таких-то мест. Имею честь быть расквартированным через стенку от вас.
Сосед, видя, что перед ним все же человек, а не привидение, слегка пришел в себя. Обрел дар речи.
— Ффу! — говорит. — Доннер-веттер!.. Так и напугать можно… Ты откуда взялся-то?
— Из подземного хода, — отвечает личность. — Точнее выражаясь — из хода сообщения, отрытого мною собственноручно. Не желаете ли взглянуть?
Сосед свесил башку в дыру, видит — точно, подземный ход. Смежная камера просматривается. Парашу видно и часть кровати.
— Грандиозно! — говорит сосед. — Высокий класс!.. Прямо граф Монте-Кристо.
— Не совсем точно. Граф Монте-Кристо сам ход не копал. Копал его аббат Фариа. И копал, заметьте, чтобы выбраться на волю. Но, как известно, ошибся в расчетах. Я же в своих расчетах не ошибся…
— Погоди, погоди! — растерялся сосед. — Как это не ошибся?.. Ты что… специально ко мне докапывался? Чтобы в гости ходить?
— Ну, если не возражаете, то и в гости. Соседа слеза прошибла.
— Амиго! — закрутил головой он. — Ценю!.. Гран мерси!.. Век не забуду!..
Короче, подружились эти сироты. Стали друг к другу в гости ходить. Точнее, ползать. Сползутся, чашки с похлебкой рядышком поставят, сидят — мирно беседуют.
Сосед попервости нет-нет да и спрашивал своего гости: что же ты, друг, не на волю ход рыл? Гость отвечал мудрено. В том смысле, что свобода-де как таковая — прежде всего свобода выбора. Вот он сделал свой выбор свободно, а не по принуждению, и тем счастлив.
В другой раз соберутся — сосед опять подзуживает: ну, ладно, раз ты ко мне пробился, значит, мог бы и наружу? Так? Сидел бы сейчас где-нибудь в холодке, винцо попивал, устрицами закусывал… Гость ему в ответ: главное, чтобы дух был свободен. А где сидишь при этом — неважно. И устрицы человека поработить могут.
Однако сколько веревочка ни вьется, а концу быть. Застукал их как-то за этим собеседованием надзиратель — в глазок дверной усмотрел. Ну, конечно, поднял тревогу. Сбежалась вся администрация. Начальник тюрьмы притрусил — бледный, перепуганный, пот холодный платком вытирает.
— Хватай их, — кричит, — разбойников! Держи крепче! Где у нас кандалы?! Вон что удумали, архаровцы, — побег! Ну, все! Все! Прилепят вам теперь по второму пожизненному!
Только узники держатся достойно, не выказывают боязни. Ну, второй ладно: не он копал — какой с него спрос. Но и первый, на ком вина, смотрит спокойно, глазом не моргнет. Даже как будто обижается.
— О каком это побеге вы говорите? Я ведь не наружу ход копал, а намеренно в соседнюю камеру. У меня и чертеж имеется — можете лично убедиться. — И протягивает начальнику какую-то бумагу.
Тот развернул её, видит — точно, чертеж. То ли труба, то ли канава изображена в трех проекциях, размеры указаны, стрелки стоят. А пониже — формулы, строчек десять. Синусы разные, косинусы, червяки двухголовые, буквы, скобки.
Начальник смотрит — понять ничего не может.
— Да вы специалиста пригласите, — деликатно подсказывает автор.
Вызвали специалиста — тюремного инженера. Инженер помозговал над чертежом, на линейке логарифмической что-то прикинул, а потом уважительно глянул на узника и докладывает начальнику:
— Все правильно — он к соседу ход копал. Азимут у него точно взят, можете не сомневаться. Удивляюсь только: как он направление сумел определить.
— А я по звездам, — говорит узник. — У меня там окошечко имеется — так я по звездам.
Инженер опять посмотрел на узника пристально и головой покачал. А потом отозвал начальника в сторону, шепчет:
— Уникальный случай. Знаю я это окошечко. Сам проектировал. Из него полторы звезды видно, а какие — убей меня бог — не скажу.
Начальник тюрьмы, сообразив, какая птица к нему залетела, перестал на кандалах настаивать.
— Ладно, — сказал, — оставьте все как есть. Разберемся.
Доложил начальник об этом нелогичном случае своему начальству, начальство отрапортовало по инстанциям высшему руководству, высшее руководство — министрам, министры — королю. Эти уже преподнесли историю не как курьезный случай, а наполнили ее глубоким смыслом.
— Вот, Ваше Величество, — сказали министры, — вы все сетуете, что нравственность падает. А посмотрите, что в действительности происходит, какого размаха патриотические чувства достигли. Узник, даже на пожизненное заключение осужденный, не желает тюрьму покидать. И в доказательство своей лояльности, чтобы, значит, не голословным выглядеть, прокопал подземный ход. Но не на волю, а в соседнюю камеру. То есть подчеркнул тем самым, что мог бы и на волю прокопать, кабы не благословлял своей судьбы, определенной ему законами нашего демократического государства.
Король выслушал донесение министров, ноготок задумчиво покусал и спрашивает:
— Не желает, значит, на волю?
— Никак нет, Ваше Величество! Активно не желает.
— Ну, пусть пока посидит.
Словом, легализовалось положение. Начальник тюрьмы рад-радешенек. Он, конечно, вроде бы и предотвратил побег — с одной стороны, но с другой стороны — у него под носом как-никак четырнадцать лет подкоп вели, пусть даже и не злоумышленный. За такое могло и не поздоровиться. Но, слава богу, все разрешилось наилучшим образом. Более того, начальник тюрьмы к высочайшей особе доступ получил. Стал его король регулярно вызывать. По вторникам.
Вызовет, помолчит, ноготок розовый покусает и спросит:
— Ну, как там наш… патриот? Сидит?
— Сидит, Ваше Величество! — радостно отвечает начальник.
— Хм-хм… И что же он… не копает больше?
— Куда там, Ваше Величество. Накопался!
— Ага… Ну, ступай себе, любезный.
Начальник на обратном пути наберет белых булок, повидла банки четыре — и в камеру. К этим… смежникам. Побудет у них с полчасика, послушает про свободу выбора и растрогается:
— Эх, если б все такими были! Вот бы жизнь-то у нас пошла — душа в душу. А то понасажали головорезов. Вчера одного аж с наружной стены сняли. Едва успели за штаны схватить. Хорошо еще — в штанах был. А если бы он их скинуть догадался? Ищи тогда ветра в поле.
Следующий вторник наступит — король опять начальника вызывает.
— Есть, — спрашивает, — какие новости? Начальник докладывает: все по-прежнему, ходят друг к другу в гости, разговаривают.
— О чем разговаривают? — интересуется Его Величество.
— Да вот, на прошлой неделе все больше про свободу духа спорили.
— М-гу… Про свободу, значит…
— Духа.
— Ну да, ну да, — кивает король.
Начальник после таких приемов летит в тюрьму как На крыльях.
— Ну, ребята, — говорит, — чувствую, что-то будет. Сам король заинтересовался. В детали входит. В подробности. Думаю, выйдет скоро указ: всем копать друг к другу подземные ходы. Большие дела развернем.
Однако начальник тюрьмы ошибался: не последовало указа рыть узникам вверенной ему тюрьмы друг к другу подземные ходы. Равно как и сам он не получил ни повышения, ни награды, на что втайне рассчитывал.
А вот другое случилось. Событие это, невиданное до сих пор и в аналогах истории не отмеченное, произвело на некоторых осведомленных люден странное действие. Охватило их душевное смятение, тоска, нездоровые фантазии стали посещать.
Сначала затосковал первый министр. Этот первый министр за много лет своей службы так привык своему королю неправду говорить, вернее, полуправду — для спокойствия в государстве и собственного престижа (вот, дескать, как я дела веду — все у нас гладко и благополучно), — что забыл давно, какая она, правда-то, бывает. Он как раз и версию преподнес насчет того, что узник прокопал-де подземный ход специально в соседнюю камеру, чтобы подчеркнуть свою благодарность судьбе… Ну, вот. А тут проснется другой раз первый министр среди ночи (его, как человека старого, временами бессонница одолевала), лысину колпаком прикроет, халат на плечи набросит, бродит по своим апартаментам, и что-то такое начинает у него в голове шевелиться, что-то давно позабытое, тревожное. Отвернет он портьеру на одном окне, глянет наружу, а там созвездий видимо-невидимо: Кассиопеи разные. Лебеди, Стрельцы, Водолеи — чтоб им навек потухнуть… Подойдет к другому окну, к третьему: и там звезд битком набито. Тут первый министр вздохнет и подумает, несерьезно вроде подумает: «Это тебе не полторы штуки: копай — не хочу»… Хм… А куда, собственно, копать? Ну, прокопает он, допустим, ход к министру культурных развлечении… И о чем с ним разговаривать? Про свободу духа? Попробуй поговори — эта крыса облезлая на другой же день донос настрочит начальнику тайной полиции.
Приоткроет министр слегка дверь, чтобы хоть свежим воздухом дохнуть — а за дверью два мордоворота-телохранителя. Тьфу ты, господи! — поговорить-то не с кем. Не с этими же бугаями, отожравшимися на казенных харчах до полного отупения. Они и слово-то «дух» только в одном, неприличном, смысле понимают. Тоска зеленая!..
И вот ведь что обидно: сидит где-то в то же время заморенный очкарик, бородой заросший, наверное, до самого пупа и бесстрашно кроет про эту самую свободу. А чего ему опасаться? — он так и так в тюрьме. Да еще, возможно, не про одну свободу. Он небось и такую теорию сейчас развивает: неизвестно, мол, кто больший раб и узник — они с соседом или тот же первый министр, который слова правдивого вякнуть не смеет. Или — господи помилуй! — сам государь. Он ведь, бедолага, если философски взглянуть — с того самого момента, как папашу своего к ангелам отправил, — в тюрьме кукует. Только что камера у него позолоченная.
А начальник тайной полиции, как человек, меньше подверженный душевным депрессиям, взял и отрыл себе подземный ход. К любовнице — госпоже Амалии Пукк. Ну, конечно, он ого не стеклышком скреб или там обломком столовой ложки. У него было кому это дело поручить и способы имелись обеспечить, чтобы в дальнейшем эти отрывающие помалкивали на всю дальнейшую жизнь…
Словом, ход получился — закачаешься. Стены розовым мрамором отделаны, на полу ковровая дорожка, светильники приятный для глаз свет источают, музыка звучит, настраивающая на интимную встречу с очаровательной Амалией.
И вот этот, прямо скажем, перебор и взорвал общественное мнение. Раньше, когда начальник каждый вечер к своей госпоже Пукк открыто на карете с гербами подъезжал, это мало кого тревожило. Ну, ездит и ездит. Возможно — на светские рауты. Приедет, ручку поцелует, ножкой пошаркает, мороженого с клубникой отведает — и назад. А уж когда он в домашних шлепанцах и, пардон, в ночном халате начал туда шастать — тут общественность и прорвало. Пресса свой голос подала: вот, мол, до чего мы докатились в нашем демократическом обществе — до полного игнорирования норм нравственности, до беззастенчивости. А один известный фельетонист — язвительная шельма! — очень остроумно, надо заметить, эти два факта обыграл: у нас, написал, только две категории людей, оказывается, имеют право на индивидуальные ходы сообщения: с одной стороны — закоренелые преступники, а с другой — те, кто с этими преступниками обязан неусыпно бороться. С чем, дескать, и поздравляем прочих почтенных граждан!
В общем, кончилось тем, что члены некоей организации под названием «Задушевные разговоры», организации не то чтобы запрещенной или преследуемой, но и не поощряемой активно, устроили шум: что же такое получается, а? В камере двое узников, к пожизненному заключению приговоренных, спокойно разговаривают на разные интересующие их темы. А у нас? Ни один задушевный разговор не обходится без того, чтобы не сидел в уголке переодетый агент тайной полиции. И устроили демонстрацию. Обложили тюрьму, размахивают лозунгами: «Каждому отдельную камеру!» А некоторые, крайне настроенные элементы, даже и такие лозунги выбросили: «И каждому — персональный ход сообщения!»
Начальника тюрьмы вытребовали.
Тот появился на крепостной стене, чуть не плачет.
— Господа хорошие! — кричит. — Не могу, поверьте!.. Тюрьма и так переполнена под завязку. А во-вторых, как же я вас без суда и следствия? Права такого не имею.
И тогда король принял меры. Вызвал он начальника тюрьмы в последний раз и строго-настрого распорядился: ход засыпать! В двадцать четыре часа. Да не землей засыпать, а забить камнями. Окошко, в которое неизвестных полторы звезды видно, законопатить. Зубочистки из личного пользования изъять! Все!
Что начальник тюрьмы, намыкавшийся с этой историей, и выполнил с понятным рвением.
А узника, который про свободу выбора толковал, на время засыпки в карцер упрятал. Лично сопроводил. И лично же, пока вел, по шее ему накостылял.
— Будешь, — сказал, — другой раз знать, куда подкоп вести. Архимед!.. Понасажали вас на мою шею — умников!
Да, самое главное! Этим-то, из «Задушевных разговоров», пошли навстречу. Удовлетворили их требования — полностью. Даже копать разрешили. Только не персональные ходы сообщения, а один — коллективный. И не ход сообщения, а ров — вокруг тюрьмы.
ЗАГАДКА ПРИРОДЫ
Мы узнали о поразительном качестве Левандовского случайно. Ждали на остановке троллейбус.
— Эх, тюха-матюха! — хлопнул себя по лбу Левандовский. — Мне же носки купить надо! Вы не уезжайте, я мигом.
И он нырнул в промтоварный магазин. Вышел оттуда Левандовский через три минуты, сладко жмурясь и покачиваясь.
Маралевич потянул носом и тихо сказал мне:
— Странно. По-моему, он клюкнул. А ну, понюхай. Я принюхался: так и есть.
До вечера мы ломали головы над этой загадкой — в промтоварах никому еще выпить не удавалось. Потом не выдержали, поехали в магазин и произвели разведку.
Ничего. Заведение как заведение. Ткани, галантерея, трикотаж. Никакой гастрономии, никаких соков.
— А может, директор знакомый? — сказал Маралевич. — Заскочил к нему в кабинет, опрокинул пару стаканов.
Так мы и решили.
Однако на другой день у Левандовского были гости — тесть и теща. Сидели, играли в подкидного дурака, пили чай с малиновым вареньем.
— Веня, — сказала жена. — Достань мне душегрейку.
Трезвый, как стеклышко, Левандовский полез на антресоль за душегрейкой. Там он поколдовал некоторое время, а спускаясь обратно, вдруг оступился и отдавил подстраховывающему его тестю ухо. Потом упал весь, повесился на шее у тестя и забормотал:
— Папаша! За что я вас так безумно люблю?! У тестя получился припадок астмы.
А за Левандовским установили наблюдение. Дома — родственники, на работе — сослуживцы. Но все было тщетно.
Допустим, они с женой садились в автобус. Жена по праву слабого пола шла в переднюю дверь. Левандовский — ни в одном глазу — в заднюю. Когда они встречались на середине автобуса, он бывал уже хорош.
На службе Левандовский неожиданно говорил:
— Ой, что-то живот схватило! И сворачивал под литер «М».
При этом ожидавшие его сотрудники определенно знали: выйдет оттуда Левандовский ни бе ни ме.
И был даже такой случаи. На улице у Левандовского развязался шнурок.
— Подожди, я только завяжу, — сказал он товарищу. Когда Левандовский разогнулся, его пришлось сдать в вытрезвитель.
Наконец жена пошла на крайность. Однажды она заперла Левандовского в пустой квартире. Причем по случаю ремонта вещи и обстановка из комнат были перенесены к соседям, а там оставалось только ведро с известкой, две малярные кисти и четырнадцать килограммов метлахской плитки.
Через полтора часа я позвонил Левандовскому.
— Что поделываешь, старик? — спросил я.
— Ваводя! — закричал он. — Ува-бу-бу!..
— Готов! — сообщил я Левандовской и повесил трубку.
После такого невероятного события Левандовский заинтересовалась общественность. Местное отделение Академии наук выделило специальную комиссию в составе одного профессора, двух кандидатов наук и четырех младших научных сотрудников.
Ученые, с целью развеять миф вокруг Левандовского, присмотрели на молодом Обском море удаленный островок. Островок, как полагается, сначала был проревизован на предмет необитаемости, а потом туда отвезли исследуемого. С ним отгрузили: восемь банок консервов «Лосось», мешок сухарей, байковое одеяло и две пары китайских подштанников — на всякий случай и на похолодание.
Вслед за этим на море ударил шторм девять баллов. Так что добраться к островку было невозможно. Кроме того, расставленные по берегам пикеты тщательно просматривали окрестности в бинокль.
Шторм бушевал трое суток. Лишь только он стих, катер с экспедицией направился к острову. Когда один из младших научных сотрудников, засучив штаны, собрался прыгнуть в воду, чтобы принять чалку, из кустов донеслась разудалая песня:
Скакал казак через долину!..
И навстречу изумленным членам комиссии вышел пьяный в дым Левандовский.
Видя такое дело, профессор, неоднократный лауреат различных премий, развел руками и сказал:
— Наука здесь бессильна.
Но тамошний бакенщик дядя Федя, промышлявший самогоном для личных нужд, напротив, высказал предположение, что на острове растет винный корень.
Целый месяц дядя Федя с двумя сынами допризывного возраста вел на острове раскопки. Но корня так и не обнаружил. Тогда он выругался, сказав: «Свинья везде грязи найдет», — и засеял всю территорию картошкой.
УСЛОВНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ САПОГ
Приехал к нам в гости наш деревенский родственник — зять Володя. То есть не совсем деревенский: он в небольшом горняцком поселочке живет, работает то ли маркшейдером, то ли еше кем-то. Но местность у них там деревенская.
Мы по этому случаю собрали вечеринку, решили ввести Володю в круг своих друзей, с интересными людьми познакомить. Немного, конечно, волновались: как-то он впишется в нашу компанию? Хотя бы внешне. Не будет ли чувствовать себя белой вороной?
Володя, однако, переоделся к ужину и появился среди гостей как денди лондонский. Куртка на нем оказалась замшевая, белая водолазочка из чистой шерсти, брюки польские «Эллана», лакированные туфли. Вдобавок Володя оглядел наш, прямо скажем, не королевский стол: водочку в графине, настоянную на лимонных корочках, вино «Анапу», пошехонский сыр, прищелкнул пальцами, как бы говоря: «минутку, братцы», открыл свой чемодан и достал штоф «Петровской», бутылку настоящего шотландского виски «Клаб 99» да баночку сосьвинской селедки.
Так что смутились, в результате, наши гости. Смутились и, чтобы скрыть как-то свою растерянность, шутливо стали восклицать: эге, дескать, неплохо, как видно, зарабатывают шахтеры!
— Да нет, — сказал Володя. — Похвастаться особенно-то нечем. Жить, разумеется, можно, но бывали времена, когда и побольше зарабатывали.
— Ну, значит, снабжение в глубинке усиленное? — спросили его.
— Снабжение теперь везде неплохое, — пожал плечами Володя. — Как-никак легкая промышленность за последние годы здорово вперед шагнула. Больше товаров стало поступать в торгово-проводящую сеть. Сфера обслуживания расширилась со стольки-то до стольки-то процентов… Я вот, например, в городе давно не был, а вчера прошел по улицам, посмотрел на людей — прямо душа радуется. Про женщин даже говорить нечего — сплошь во французских сапожках щеголяют, любая разодета что твоя продавщица. Но и мужчины тоже не отстают. Я, знаете, специально посчитал: каждый третий — в ондатровой шапке, каждый пятый — в дубленке. Где и когда это видано было?..
Тут гости окончательно сомлели от робости. Но один наш приятель, раньше других оправившийся, осмелился все-таки прервать Володю.
— Простите меня, Володя, за резкость, — сказал он, — но только вы напрасно затеяли этот экономический ликбез. Мы здесь тоже немножко с глазами. И газеты иногда читаем. Так что увеличение числа дубленок от нас, поверьте, не ускользнуло. Равно, как и французских сапожек. Я вам больше скажу. Зайдите в любой дом, — исключая, конечно, этот н ему подобные, — особенно в праздник. Посмотрите, что у людей на столе. И балычок там увидите, и шашлычок из отборного мяса, и крабов, и прочие деликатесы. Но вот откуда все это? Ведь в торгово-проводящей сети, как вы изволили выразиться, ничего подобного днем с огнем не сыщешь. Ну, ладно, когда во всем городе пять дубленок насчитывалось, можно было предположить, что эти люди за границей побывали или в Москве, в комиссионке по случаю приобрели. Но теперь-то, теперь! Согласитесь: пока что каждый пятый за границу не ездит… Воруют? Быть этого не может. Наоборот, преступность у нас, как известно, непрерывно сокращается и скоро совсем будет ликвидирована… Нет, это просто уму непостижимо! Мистика какая-то. Парадокс. И при чем здесь, извините, расширение сферы обслуживания.
— Да вы что, серьезно? — спросил тогда Володя и обвел всех присутствующих недоумевающим взглядом. — Ну, товарищи… Удивляюсь я на вас. Образованные люди, живете в большом городе, научный центр у вас под боком… А такой простой задачки решить не можете… Ну-ка, вооружитесь карандашами. Я вам её объясню.
Мы вооружились карандашами. Володя тоже взял себе один.
— Так, — сказал он. — Вашей статистики я, конечно, не знаю, покажу па примере своей. Кстати, и цифры будут не такие астрономические — легче считать… Ну вот, смотрите сюда. Населения у нас в поселке две тысячи человек. Уберем отсюда детей — им пока французские сапожки ни к чему. Это примерно три пятых, или тысяча двести штук — у нас рождаемость значительно выше, чем в городе, эта самая установка на одного ребенка не привилась еще, слава богу. Остается, значит, восемьсот человек взрослого населения — так? Пойдем дальше. Три-четыре года назад на весь поселок был один магазинчик. Работала в нем Фрося Строева. Значит, у Фроси своя семья была из пяти человек, два женатых брата в поселке жили, свекровь, у свекрови — дочь замужняя, у мужа дочери — два родных брата и один двоюродный. Учтем сюда Фросиных соседей Копытовых, Мякишевых, Забейворота, фельдшера Зою Петровну — она Фросиной свекрови радикулит лечит, — плюс подружек двух-трех с ихней родней… Короче, запишите себе пока округленно цифру шестьдесят. То есть шестьдесят человек из всего поселка могли получить в то время условные французские сапоги — обозначим так разные неповседневные товары… А теперь у нас что? — Володя снова зачиркал карандашом. — Теперь у нас четыре магазина, причем один из них универсального типа, на три рабочих места. Ну, Киру Зверькову из железнодорожного пока отбросим — она недавно к нам приехала после торгового училища, у нее ни родственников, ни близких знакомых. Остается, значит, пять продавцов. Плюсуем сюда одного завбазой, двух экспедиторов и двух грузчиков. Итого — десять человек. Эти — все местные, с детства в поселке живут. Ну, теперь арифметика простая: множим шестьдесять на десять — получаем шестьсот человек, или семьдесят пять процентов охвата взрослого населения условными французскими сапогами, как договорились.
Володя бросил карандаш, поднял глаза к потолку, подумал секунду и сказал:
— Так оно, примерно, и получается. Поголовно никто, конечно, не пересчитывал, но, на взгляд, процентов семьдесят — семьдесят пять охвачено… А вы говорите, при чем тут расширение.
Наступило молчание.
Потом возражавший Володе гость осторожно спросил:
— Скажите, Володя… а это все, — он кивнул на украсившие стол подарки, — тоже результат охвата?
— Это — нет, — скромно сказал Володя. — Видите ли, мы там, группа, ну… управленческих товарищей пока все у Киры Зверьковой покупаем. Просто так. Свободно то есть. Но думаем, это не выход. Она, поговаривают, замуж собралась. И в очень, знаете, разветвленную семью… Так что сейчас руководство шахтоуправления и поссовет обратились с ходатайством в областные организации, чтобы нам в поселке разрешили еще две торговые точки открыть…
ФЕНОМЕН
Уверен, что многие читатели примут эту историю за анекдот, и потому сразу предупреждаю: у меня есть десять тысяч свидетелей. Или даже двенадцать. Я их, конечно, не пересчитывал и называю эту цифру округленно. Просто стадион в тот день был переполнен, а вместимость его у нас всем известна: от десяти до двенадцати тысяч. Правда, эти десять или двенадцать тысяч человек, хотя все события и разворачивались на их глазах, вряд ли смогут дать им правильное объяснение. Истинную причину знают только наши отдельские, которые стояли тогда на восточной трибуне, да еще два посторонних гражданина, отказавшиеся себя назвать по деликатной причине. А было так. Перед самым началом игры между нами затесался какой-то незнакомый товарищ. Можно, говорит, я тут воткнусь — бочком? И воткнулся. Такой необычно одетый товарищ — в кепке с ушами и офицерской плащ-накидке. Хотя сам явно штатский. Эти его приметы, надо сказать, никакой решающей роли в дальнейшем не сыграли, и я их привожу только для того, чтобы подчеркнуть: мы на него сразу как-то внимание обратили. Вдобавок, он себя повел не совсем обычно. Еще до первого вбрасывания шайбы выпил бутылку тринадцатого портвейна, чего другие болельщики не делают, а стараются растянуть ее на все три периода. А он, значит, выпил, закусил, как сейчас помню, двумя крутыми яичками и скорлупу спрятал в задний карман брюк. То ли не хотел потом отвлекаться, то ли еще с какой целью — не знаю. Но это тоже детали попутные, необязательные.
Короче, началась игра. Ну, болельщики традиционно покричали, а потом более-менее затихли, так как на поле пока ничего чрезвычайного не происходило — так себе, взаимный обмен любезностями, перекатывание шайбы от одних ворот к другим.
И тогда, в этой относительной тишине, вклинившийся товарищ крикнул вратарю противника:
— Зайчковский! Подвязывай щитки! Зайчковский и правда попросил остановить игру и начал подвязывать щитки. Как будто мог что-то услышать на таком расстоянии. Вокруг, конечно, хохот.
А наш Семен Разгоняев хлопнул этого товарища по плечу и говорит:
— Ну-ка, друг, отмочи еще что-нибудь. А то скучно стоять.
Товарищ кивнул — дескать, сейчас устроим, — сложил ладони рупором и крикнул:
— А судьи кто?
— Внимание, товарищи болельщики! — сказала судья-комментатор. — Просим извинения — мы забыли представить арбитров сегодняшнего матча. Встречу судят такой-то и такой-то. Оба — всесоюзная категория, город Челябинск.
Вокруг, конечно, опять хохот, А Семен Разгоняев говорит:
— Молоток!.. Ты давай, время от времени корректируй их, лопухов. Чтобы не портачили.
На поле, между тем, заварилась каша. Возле наших порот. Два защитника лежали, задрав кверху коньки, вратарь растопырил в панике руки и ноги, а перед ним образовалась прямо куча мала.
— Кишкин! — закричал товарищ в кепочке. — Сдвигай ворота, осел! Больше делать нечего!
В ту же секунду шайба затрепыхала в сетке и одновременно раздался свисток судьи. Оказывается, наш голкипер Кишкин под шумок успел казенной частью сдвинуть ворота.
Шайбу не засчитали.
Но ихние игроки после этого ожесточились и применили силовую борьбу по всему полю, валяя наших хоккеистов, как первоклашек. Центральный нападающий сделал хитрый финт, защитники провалились, и он неожиданно выскочил один на один с Кишкиным. Защитники гнались за ним в метрах десяти.
— Все! — сказал Семен Разгоняев, хватаясь за уши. — Сейчас слопаем!
Тогда товарищ в кепке весь напрягся и страшным голосом закричал:
— Капуста, падай!!!
И тут заслуженный мастер спорта, ветеран отечественного хоккея, знаменитый Капустин, которого другой раз не могли свалить и трое защитников, вдруг упал. Па ровном месте. Он упал, со скоростью торпеды пролетел мимо ворот и так саданулся головой в борт, что на световом табло мигнули и погасли названия команд.
Стадион взревел. А стоявшие впереди нас два посторонних гражданина повернулись и стали нехорошими глазами смотреть на кричавшего товарища. Видать, они болели за противоположную команду, и такой вариант их не устраивал.
— Ну, чо уставились? — спросил Семен. — Не узнали, да? Труха ваш Капустин. На пенсию ему пора.
После этого случая наши приободрились и повели наступление. И скоро ситуация повторилась в обратном порядке. Слава Хамкайкин перехватил пас и вырвался один на один с ихним вратарем. Болельщики затаили дыхание. А товарищ в кепке, точно рассчитав момент, крикнул:
— Зайчковский! Уходи из ворот!
И — дикая вещь! — мы глазам своим не поверили — Зайчковский вдруг сбросил рукавицы и поехал для чего-то в левый угол поля! Шайба, правда, ударилась в рукавицу и переменила направление, но ее добил набежавший защитник Буглов.
Господи!.. Что тут началось! Мы чуть не передавили друг друга от восторга.
Но два посторонних гражданина опять повернулись, и один из них сквозь зубы произнес:
— А ну, крикни еще, сволота! Крикни попробуй — и с ходу получишь!
Однако товарищ в кепочке, увлеченный сражением, не расслышал, что ли, этих слов и крикнул. И, конечно, получил. С ходу.
Больше он уже не кричал. Как его ни уговаривали. Только мотал головой и зажимал рот перчаткой. Особенно наседал на товарища Разгоняев.
— Ну, крикни «судью на мыло», — умолял он, — За судью тебя никто пальцем не тронет.
Но все было зря.
— Слушай, а мысленно ты не можешь? — спросили его.
Товарищ отнял ото рта перчатку, осторожно — чтобы не запачкать соседей — выплюнул два зуба и сказал:
— Мысленно у меня пока не получается.
В результате наша команда проиграла с крупным счетом: 2: 13.
Обозленный Семен Разгоняев хотел добавить этому несговорчивому типу, но мы его остановили.
И вот теперь я думаю: почему мы тогда сразу не заступились за товарища в кепочке? Что такое могло нас удержать? Ведь кричал-то он в нашу пользу.
Но еще больше тревожит другое: вдруг у него это дело мысленно начнет получаться, Хорошо, если он останется поклонником своей команды. А ну как его в городе чем обидят! Квартиру, например, не дадут. Или какой-нибудь горячий болельщик, вроде Семена Разгоняева, на стадионе добавит.
Что тогда будет?..
Вообразить жутко!..
ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН ГЕНЕРАЛ ДВУХ МУЖИКОВ НЕ СМОГ ПРОКОРМИТЬ
Жил-был на свете генерал — из молодых, да ранний. Служил он по инженерному ведомству — и до генеральского чина дошел исключительно благодаря способностям. Шутка ли: две академии закончил, докторскую диссертацию защитил. Большой то есть образованности был человек. Но — легковесный. С идеями. Со своими подчиненными за ручку здоровался, ко всем, без исключения, обязательно на «вы» обращался. «Вы, — скажет бывало, — рядовой такой-то, позвольте вам заметить…» Это рядовому-то! — «позвольте вам заметить».
И вот из-за легкомыслия попал этот генерал в нелепую историю.
Понадобилось ему собственную генеральскую квартиру отремонтировать: потолки там побелить, зашпаклевать кой-чего, панели покрасить, обои переклеить. Поделился он этой своей заботой с адъютантом капитаном Хверапонтовым. Хверапонтов, наоборот, старый был служака, в традициях воспитанный. Он всяких генералов за свой век насмотрелся, привык мысли ихние на лету подхватывать. Достал он туг же блокнотик, очки железные на носу укрепил, черканул раз-другой карандашиком и докладывает:
— На это дело, товарищ генерал, потребуется ровно четыре человека. Разрешите, завтра я занаряжу сержанта Головко с тремя орлами — они вам за сугки квартирку обделают, как яичко.
Генерал вспыхнул аж весь, услышав такие слова.
— Что вы, Иван Прохорович! — говорит. — Я с вами не преднамеренно поделился, а по-человечески. Зачем же вы так? Ни в коем случае не делайте этого! Я не позволю! Вам мои принципы должны быть известны.
А он, правда, принципы на этот счет имел, и крепко зa них держался. Он даже собственного шофера строго по расписанию использовал: на службу уехать — со службы возвратиться. А чтобы, как иные, на рыбалку с ним в воскресенье отправиться или откомандировать его в распоряжение генеральши — боже упаси. Этот шофер, между прочим, пока у него служил, кандидатский минимум успел сдать и два иностранных языка изучил.
Словом, отказался генерал. Наотрез. Решил обычным путем действовать.
Обычным путем — известно как. Вышел этот легкомысленный генерал после службы на базарную площадь, глянул туда-сюда из-под руки — и видит: стоят в сторонке два вроде подходящих мужика. Комбинезоны у них краской заляпаны, в руках — кисти малярные, ведра. Стоят — забор подпирают, папиросками дымят, сквозь зубы поплевывают.
Генерал к ним, так, мол, и так — не возьметесь ли, ребята, квартиру отремонтировать? И если возьметесь, то сколько это будет стоить?
Старший из мужиков папироску затоптал, на генеральские лампасы покосился и говорит:
— У вас, поди, квартира-то в полногабаритном доме, четырехкомнатная?
— В полногабаритном, — отвечает генерал. — Четырехкомнатная. Угадали.
— В полногабаритном потолки высокие, — раздумчиво щурится мужик. — До них кистью не дотянешься. Без козел. А с козлами, значит, четыреста рублей ста-Генерал стушевался маленько.
— Я, — говорит, — вообще-то триста определил… для себя.
— Для себя — пожалуйста. Для себя, извиняюсь, можете хоть за пол-литра. А у нас по триста только малогабаритки идут.
— Ну, что ж, четыреста так четыреста, — согласился генерал. — Пошли, значит, смотреть.
Явились они на квартиру — генеральша их, по русскому обычаю, сразу за стол. Она уж заранее приготовилась мастеров встречать: новый передничек надела, клеенчатый, с изрисованными на нем «Чебурашками», бегает из кухня к столу, сияет вся. Как же! — дождалась своего часа.
Сели мужики за стол, а к генеральшиным разносолам не притрагиваются. Сидят — покашливают, вздыхают, ложками на скатерти кренделя чертят — мнутся, одним словом.
Генеральша первая сообразила, в чем тут дело, — мигнула мужу. Генерал сходил на кухню, возвратился с бутылочкой «Греми», отпитой примерно на палец.
— Вот. — говорит, — не знаю, как на ваш вкус. Сам-то я лично в чай его добавляю.
Младший мужик заволновался, стал толкать старшего локтем, шептать:
— Дядь Вас, а дядь Вас!.. Это же вроде коньяк? Он же клопами воняет. Как его пить-то, заразу?
— Вы, товарищ генерал, его не слушайте, — повеселевшим голосом сказал старший мужик. — Он только недавно из деревни. Темный еще… Эх ты, чернозем! Клопа-ами! Это когда он клопами-то пахнул? Когда в прежней цене был, А теперь его отучили пахнуть. Верно я говорю, товарищ генерал?..
Выпили мужики генеральский коньяк, съели ужин, задаток получили, велели хозяевам мебель из двух комнат спихнуть пока в две другие, полы старыми газетами застелить, приготовить, словом, фронт работ на завтрашний день — и ушли.
На другой день, в условленный час, заявляется один старший мужик — дядя Вася. Сел он посреди пустой комнаты на перевернутое ведро, скорбно высморкался и говорит:
— Санька-то, а?.. Вот ведь молокосос…
— Да что такое? — встревожился генерал.
— Что-что! — махнул рукой дядя Вася. — Деревня — она и есть деревня… Говорил ему вчера, когда от вас ушли: не пей, говорю, вермута — он с коньяком не сцепляется. Да разве его уговоришь!.. Теперь вот лежит пластом — какой с него работник… Лечить надо парня, товарищ генерал. На ноги ставить.
— Так чего же не лечите, раз надо?
— Затем и пришел, — поднялся дядя Вася. — Ваш он теперь работник — с вас и на лечение.
У генерала мелких не оказалось, дал он дяде Васе четвертную.
— Только уж вы побыстрее на ноги его ставьте. — попросил. — А то — сами видите — в квартире разгром…
На третий день один Санька заявился.
— Дядя-то Вася, а? — сказал он. — Это надо же… меня вылечил, а сам слег… А ведь говорил я ему: дядя Вася, не пей ты эту полинку. Не пей! И так у вас в городе воздух чижолый…
— Какую такую Полинку? — спросил генерал.
— Во! Не знаете, что ли? — изумился Санька. — Политуру-то не знаете?… Ну и ну!.. Вот она, товарищ генерал, дядю Васю и свалила… Надо бы подлечить мужика. На ноги поставить.
Выдал генерал Саньке десятку. Строго наказал: завтра без дяди Васи не являться.
На четвертый день, и правда, пришли мужики вдвоем. Только дядя Вася крючком согнутый. Мелкими шажками семенит и за поясницу держится.
— Перелечил, — говорит. — сукии кот, Санька, на другой бок. Заставь дурака богу молиться — он лоб расшибет. Как теперь буду кистью орудовать, если даже глаз к потолку поднять не могу?
Генеральша дядю Васю спрашивает: может, змеиный яд вам поясницу облегчит?
— Это яблочное, что ли? Не-ет… яблочное в таком случае не прошибет. Не та сила. Вот если бы денатурату… Или хоть обыкновенную.
— Дак я сбегаю, — вызвался Санька.
Сбегал он в магазин, принес бутылку обыкновенной, грамм сто пятьдесят сам принял, остальное дяде Васе выпоил. И что вы думаете? — распрямился мужик!
Распрямиться-то распрямился, но ударило ему в другую область — равновесие потерял. Ходит по комнате, за стенки хватается, обои ногтями царапает… Прямо беда. — Нет, Иришенька, надо их на казарменное положение переводить, — сказал генерал жене после этого случая. — Иначе всё прахом пойдет.
Перевели мужиков на казарменное положение. Генерал им альтернативу поставил: или на казарменное — или задаток назад. А где его возьмешь, задаток-то? Его уже давно тю-тю! Что женам ушло, что — на лечение. Генеральской-то надбавки им не хватало. Поскребли мужики затылки, повздыхали — согласились. Правда, выторговали себе приварок и винную порцию.
Раскинула им генеральша две раскладушки в дальней комнате — и зажили они бивуачно.
День живут, другой, третий. Едят за четверых, пьют за семерых, работают за полчеловека. Но все же работают. Не как раньше, когда на вольном режиме были.
Генеральша на кухне обосновалась. Варит, жарит, печет день-деньской. Тут же на кухне и ночевать приспособилась. Заберется в кресло, калачиком свернется, ноги пледом прикроет — много ли ей места надо?
Иногда, по вечерам, дядя Вася, если не шибко пьяный случался, приходил к ней на кухню — побеседовать.
— Отчего народ пьет, Викторовна? — спросит. Помолчит, да сам и ответит: — Атмосферу чует.
Но больше они с подсобником разговоры вели. Махнет, допустим, дядя Вася кистью разок-другой, остановится, папироску закурит и задумается.
— Александр! Ну-ка, напомни — что-то у меня отшибло — сколько у нас в пивной ящик бутылок входит: двадцать или двадцать пять?
Санька в свою очередь лоб наморщит:
— Двадцать пять, однако… Или двадцать?.. Я. дядь Вась, никогда ящиками не покупал. Я за один раз больше двенадцати бутылок не выпиваю…
В другой раз Санька беседу завяжет:
— Вот, дядь Вась, рассказывал мне свояк про мужика одного, который сроду капли в рот не брал, а каждый день косой ходил в дугу.
— Как так?
— А так. Возьмет с утра палку дрожжей проглотит, килограмм сахару-песку съест, чайник воды выпьет — и через два часа у него в кишках самогонка.
— Хех ты! Свой, значит, змеевик-то?
— Ну да.
Так вот и жили.
Генерал окончательно переселился на службу. Ночевал он теперь в своем кабинете, на диванчике. Обеды ему, в большом термосе, шофер возил. Генеральша ему записочки присылала: «Извини, милый, суп сегодня овощной — на мясо не хватает денег… Как ты посмотришь, если я твой штатский костюм, бостоновый, отнесу в комиссионку? Все равно он не модный — у него брюки, если помнишь, зауженные, а теперь расклешенные носят»…
Только к концу месяца не выдержала она, голубка, разлуки — захотелось ей взглянуть на своего сокола. Поехала генеральша к мужу лично. Схватились они за ручки, сироты бедные, смотрят друг на дружку — и не узнают: генеральша худенькая стала, как девочка, на бледных щеках румянец играет нездоровый; у генерала глаза запали и седины в голове прибавилось. Заплакала генеральша горькими слезами и говорит:
— Давай, милый, отпустим их. Не надо мне больше ни паркетов, ни накатов. Мне твое здоровье дороже.
— Отпускай, Иришечка, — благословил ее генерал. — Горн они синим огнем и задаток этот, и прочие расходы. Как-нибудь не пропадем. Все же я генерал пока, и оклад у меня приличный. Заработаю.
Попыталась генеральша этим же вечером отпустить мужиков с миром — да не тут-то было. Не только генерал с принципами-то оказался. И у дяди Васи свои нашлись.
— Нет, Викторовна, это не дело, — сказал он твердо. — Раз деньги уплочены, должны мы, собачьи дети, все до конца довести. И ты уж нам, Викторовна, потачки не давай…
Вот тогда-то генерал и сломался окончательно — пошел на отчаянные меры: вызвал к себе капитана Хверапонтова и сказал:
— Делай чего-нибудь, Иван Прохорович. Не могу больше. Разорят. По миру пустят.
И капитан Хверапонтов Иван Прохорович провел операцию. Блестящую, прямо скажем. Генерала, учитывая его травмированность. он в дело посвящать не стал, сговорился с генеральшей. Выделил ей из своих сбережений денег, велел закупить восемь бутылок «Стрелецкой», полведра пива, ведро картошки и малосольных огурчиков. Генеральша все сделала, как он велел, и объявила мужикам выходной день. Так и сказала: «Сегодня гуляйте». И когда мужики после «Стрелецкой» с пивом попадали (знал старый служака, что посоветовать!), махнула с балкона белым платочком — знак подала.
Доблестный сержант Головко, который явился уже не с тремя, а с шестью помощниками, взял генеральскую квартиру «на шпагу». Обеспамятовавших дядю Васю и Саньку орлы его покидали в бортовую машину и на большой скорости увезли в неизвестном направлении.
…Утром проснулись мужики — как ничего не было; ни генерала, ни генеральши, ни казарменного положения. Тот же заборчик облупленный. К заборчику кисти прислонены. Рядом сами они лежат — валетом. Перед глазами площадь знакомая простирается. Головы, как всегда, с похмелья болят.
Только над головами деревья не зелеными, а желтыми листочками пошевеливают…
Что же касается до генерала, то он после этой истории совсем другим человеком сделался. Оставил легкомыслие-то свое. Пересмотрел. Теперь уж он подчиненным «вы» не говорит — до подполковничьего чина включительно. И в голосе генеральская раскатистость появилась, на букву «р» стал нажимать. Особенно когда раскалится да начнет слова произносить, которых от него раньше слыхом не слыхивали.
Капитан Хверапонтов, старый служака, эти перемены в генерале одобряет.
Шофер же генеральский, который в заочной аспирантуре учится, не очень. И понятно почему. Он теперь свои конспекты от генерала прячет и даже за баранкой по стойке «смирно» сидит.
ВТОРОЙ КОЛОБОК. (ПОИСКИ И НАХОДКИ)
Впервые мысль о том, что Колобок мог быть не одни, пришла ко мне в голову случайно. Помню, однажды в субботнее утро жена готовила завтрак, а я для чего-то зашел на кухню. Жена пекла мои любимые коржики. Один уже румянился на сковородке, а второй она только раскатывала.
— Послушай, — сказал я, — а зачем, собственно, нужен второй коржик?
— Как это зачем! — удивилась жена. — Один — тебе, одни — мне. Ты что, думаешь — я святым духом питаюсь?
— Хм, — сказал я, — выходит, если бы нас оказалось трое… Гость, допустим, какой-то…
— Ты поразительно догадлив, — сказала жена. — Тогда я испекла бы три.
Я пропустил мимо ушей ее колкость и глубоко задумался.
«А как же Бабка? — думал я. — Ну, та самая, что по сусекам поскребла, по полочкам помела и Колобок испекла? Небось, она тоже не святым духом питалась. Тогда почему испекла лишь один Колобок? Правда, раньше в бедных крестьянских семьях существовал обычай — хлебать всем из одной общей чашки… Но одно дело — одна чашка и совсем другое — один Колобок. Не собирались же они кусать от него по очереди. Странно, странно…»
Я попытался рассмотреть эту проблему с другой стороны — умышленно под углом невозможности появления второго Колобка. Допустим, в то утро у Бабки хватило муки только на один Колобок… О чем, кстати, и свидетельствует фраза: «по полочкам помела, по сусекам поскребла…» Но, во-первых, Бабка могла вместо одного большого Колобка испечь два маленьких. А во-вторых, откровенно говоря, не такой уж бедной была эта Бабка. Если во всей истории с Колобком и есть противоречия, то они как раз относятся к оценке материального благосостояния Бабки и Деда. Ведь замешен-то Колобок был, как-никак, на сметане. По его же собственному свидетельству. Вспомните-ка: «Я Колобок, Колобок…» та-та-ра-та-та и так далее… «на сметане мешен». Оказывается, была у Бабки сметанка! А значит, была коровка. И, вполне возможно, мучица. Короче говоря, не имелось у Бабки достаточных оснований для неиспечения второго Колобка, в то время как испечь его подсказывали и здравый смысл, и естественная потребность.
Но почему же тогда до нас не дошло никаких сведений о судьбе второго Колобка? Короткий, но яркий путь первого описан со всеми подробностями. С того самого момента, как спрыгнул он, горячий и неопытный, с подоконника, покатился за порог, за околицу, в темный лес. Как в дальнейшем, постигая жизнь и накапливая опыт борьбы, перехитрил он недалекого Зайца, грозного Медведя и кровожадного Волка. Как докатился, в конце концов, до той прогалинки, где пал жертвой чудовищной провокации Лисы. А второй?
Что произошло с ним?
Ответ на этот вопрос могли дать только тщательные и всесторонние розыски.
В Деревне я сразу отправился к школьному учителю. Им оказался милейший человек Иван Иванович, краевед-любитель. Иван Иванович привел меня на бывшую окраину Деревни, а теперь — административный центр, и показал рукой па здание нового Дома культуры.
— Вот здесь вот, на этом самом месте, и стояла избушка Бабки с Дедом, — сообщил он. — В позапрошлом году снесли — в связи со строительством.
— А уверены ли вы, что это были те самые Дед и Бабка, не другие? — спросил я.
— Те, — сказал Иван Иванович. — Вне всяких сомнений. Здесь, видите ли, существует традиция — испокон веку пекут только блины да шанежки. А эта Бабка, рассказывают, переселенкой была — из Воронежской будто бы губернии. Ну и, кроме колобков, так ничего стряпать и не научилась. У них даже прозвище по-уличному было Колобковы. Так присохло, что настоящей-то фамилии никто уж и не помнит.
— Ну, а что касается второго Колобка, — Иван Иванович развел руками, — тут я вам ничего определенного сказать не могу. Ни за, ни против. Может, и был. Гипотеза ваша выглядит в общем-то убедительно… Да вы поговорите со здешним старожилом. Он от Бабки с Дедом через три двора когда-то жил — возможно, и запомнил что.
Вечером того же дня я встретился со старожилом — высоким бритым стариком в клепаных джинсах, заправленных в кирзовые сапоги.
— Точно ли Колобок был из вашей Деревни? — спросил я для страховки. — Не из другой какой?
— Как так не с нашей! — обиделся старожил. — А откуль же он? Скажуть тоже — не с нашей!.. Да у нас, дорогой товарищ, дажить пенек сохранился, с которого он ведмедю песенку пел!
И старожил повлек меня за околицу — показывать пенек.
— А что, Дед этот, какой из себя был человек? — продолжил я расспросы. — Капризный, может? Бабку свою, допустим, тиранил? Короче — не домостроевец ли?
— Куды там дома строить! — отвечал старожил. — Он свою-то избушку всю жисть колом подпирал. Жидкий был старичок, слабосильный. Бывало, выйдить за ворота, сядить на бревнышки и сидить — караулить, у кого махорки стрельнуть на закрутку. А мы, парни, идем на вечерки и уж знаем, чего он ждеть. Ну и сыпанем ему специально горлодеру. Он сычас папироску скрутить, разок-другой затянется — и брык с бревнышков. В обмарик, значить…
— Простите, я несколько о другом. Вот, к примеру, были у вас в Деревне такие мужики, ну, эгоисты, что ли? Допустим, сам ест пироги, а жене не дает?
— Как не быть, — сказал старожил. — Хоть того же Потапа Кожина взять, кузнеца… Сычас велит себе блинов напечь и садится исть. А жене с ребятами кислую капусту поставить… А то еще по-другому измывался. Прикажить им тоже блины исть. Тольки сам подсолнечным маслом поливаить, а их заставляить в карасин макать. Так с карасином и наедятся… Всякие звери были, дорогой товарищ.
— А Дед, стало быть, судя по вашей предыдущей характеристике, не мог так поступить в отношении Бабки? — уточнил я.
— Почему не мог, — сказал старожил, — мог, старый кукиш. Мужик — он дурак. Ему над бабой покуражиться — хлебом не корми.
Тем временем вышли мы в молодой лесок, выросший на месте давнишних порубок.
— От здеся, — ткнул сапогом в самый приметный пенек мой провожатый — Тут его, аккурат, ведмедь и съел.
— Как медведь?! — воскликнул я, в растерянности опускаясь на пенек. — Ведь его же Лиса съела!
— Ну, пущай лиса, — согласился старожил, равнодушно зевнул и попросил на четушку…
Не буду утомлять читателя подробным описанием дальнейших поисков. Скажу только, что сведения у меня накапливались самые противоречивые. Так, сторож сельсовета Акулина Кондратьевна заявила:
— Видать не видала — соплива была ищо, а знаю, что два колобка Бабка пекла. Ты подумай, кого бы она сама-то ела? Это теперь у вас в городу с жиру бесятся, пято-десято готовят. Вот и едят потом: один коклетки, другой бутыброды-чертоброды. А раньше, милок, буты бродов не было. Намнут котел картошки — н шабаш.
Заведующий клубом Володя развернул передо мной сравнительную статистику, перечислил количество безлошадных крестьянских дворов и с цифрами в руках убедительно доказал, что в иные годы у некоторых хозяев не только на колобок, а и на просвирку муки не набралось бы.
— Так что, товарищ писатель, этого самого Колобка, я думаю, вообще не было. А возник он, скорее всего, как миф, как легенда, порожденная мечтой беднейшего крестьянства о материальном достатке, о будущей светлой жизни.
Наконец, в городе уже, разбирая архив полицейского управления, наткнулся я на донесение станового пристава Глотова полицмейстеру Квартириади, в котором среди прочих содержалась и такая фраза: «Довожу до сведения Вашего превосходительства, что Бабка опять пекла колобоки…»
«Колобоки… колобок-и… Что это, описка? Или господин пристав просто не очень грамотно произвел множественное число от слова колобок?» Размышляя над этой загадкой, я шел по улице, как вдруг, носом к носу, столкнулся с главным агрономом Деревни, приехавшим в город на курсы повышения квалификации.
— Все ищете, товарищ литератор? — спросил агроном, пожав мне руку. — С Бабкиной сестрой-то уже встречались?
— Сестрой? — опешил я. — Какой сестрой?!
— Ну, как же, — сказал агроном, — Сестра у неё здесь, сродная. Лет уж пять в городе живет. Перевезла ее дочка — за внучатами доглядывать. Неужто не знали?
— Голубчик! — взмолился я. — Ведите меня к ней!..
— Два Колобка было, батюшка, два, — сразу же подтвердила старуха. — Как сычас помню: прибегла я к ним утречком, а Колобки-то на окошке студятся — рядышком.
— Скажите. — заволновался я, — скажите, умоляю! — куда же девался второй?!
— А съели они его, батюшка. Тем же утром и съели — куды ж ему было деваться.
— Ба! — подала голос внучка-пионерка. — А раньше ты рассказывала, что они его странничку отдали.
— Цыц! — прикрикнула старуха. — Странничку они хлебца вынесли!.. Не слухай ее, батюшка, — зашептала она, повернувшись ко мне, — глупая она ищо. Съели — истинное слово. Шибко они. родимые, колобки обожали. А уж за тем, который упал ды разбилси, так плакали, так плакали…
СЧАСТЛИВЫЕ КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА. СКАЗКА
Если верно, что рыба гниет с головы, то допустимо и обратное положение: та рыба, у которой голова в порядке, не подвержена тлению во всех прочих местах.
А теперь от рыбы перейдем непосредственно к будням одного государства, в котором все были счастливы, потому что были счастливы король и королева. Дело в том, что Его Величество король исключительно любил Ее Величество королеву, а Ее Величество королева безмерно обожала Его Величество короля. И всем подданным это было хорошо известно, потому что глашатаи ежедневно, с четырнадцати сорока пяти до семнадцати часов, сообщали, что между ихними Величествами царят небывалые мир да любовь.
Если во дворце случался прием или, скажем, устраивалось представление, король вел королеву под ручку, усаживал на трон и немедленно доставал из кармана дорогую конфетку. Когда Ее Величество докушивала гостинец, король забирал у нее бумажку и тут же вручал другую конфетку — еще вкуснее и дороже.
При этом он не забывал спрашивать:
— Вам хорошо видно, Ваше Величество? Не застит голова вон того советника?
А королева отвечала:
— Ах, Ваше Величество, вы так добры ко мне, не утруждайтесь, прошу вас, я потерплю.
Иногда король слушался ее, но чаще подзывал пальцем телохранителя и говорил:
— Пойди-ка, братец, отсеки башку Его Сиятельству. Она королеве правый угол сцены загораживает.
Вот какая между ними была любовь! Окружающие княгини и баронессы проливали слезы умиления. Музыканты, преданно глядя на коронованных особ, сами, без понуканий капельмейстера, дули в трубы. А первый министр, кряхтя и сморкаясь, казнил себя за то, что опять не удержался, обругал свою старую министершу черепахой, а одной молоденькой фрейлине, наоборот, подарил кружевную комбинацию.
Однако прием заканчивался, и король с королевой возвращались в свои покои.
— Господи! — восклицала Ее Величество, сжимая пальцами виски. — Сколько раз можно говорить — не стучи так своей короной. Голова раскалывается!
— О-о, дьявол! — сдержанно рычал король, — В собственном королевстве изволь ходить на цыпочках! Надоела такая жизнь!
— Ты намекаешь на то, что взял меня без королевства?! — всхлипывала Ее Величество. — Так я уйду! Я развяжу тебе руки! Пожалуйста, женись на этой дуре-принцессе из тридесятого царства! Только учти, королевича я тебе не оставлю!
— Нет, ты не уйдешь! — яростно гремел король. — Чтобы обо мне говорили, будто я выгнал тебя с королевичем на улицу?! Дудки! Такого удовольствия я тебе не доставлю!.. Сам уйду! Свет не без добрых королей — какой-нибудь приютит.
И Его Величество начинал собираться. Он укладывал в чемодан две пары нижнего белья, запасную корону, бритвенный прибор и теплые носки. Потом ставил свою поклажу у дверей, чтобы завтра чуть свет навсегда покинуть пределы королевства.
Но завтра опять был прием, и король, повздыхав, набивал карманы дорогими конфетами.
Снова король с королевой светились взаимной нежностью, музыканты старательно надували щеки, придворные дамы утирали добродетельные слезы, а первый министр, краснея и отворачиваясь, корил себя за греховные мысли о молоденькой фрейлине.
Король с королевой прожили много-много лет и умерли в один день. Память о них, как о самых пылких супругах, до сих пор живет в той счастливой стране. И если случается, что какой-нибудь простолюдин, по молодости да но глупости, прибьет жену, родители ему обязательно скажут:
— Эх, рожа твоя бесстыжая! И когда ты человеком станешь?! Брал бы пример с покойничка короля!
На что такой буян отвечает:
— Да я один разве? Вон и Донька Седельников своюматаню кажин день вожжами полоскает. И Перекукуевы все характерами не сходятся. И дядя Кондрат как на базар едет, так тетку Аксинью в амбар запирает… А король — что ж. У него королева была, а не тетеря, вроде моей. Окромя того, говорят, одних чемоданов осталась тыща штук. И в каждом по две пары белья. Это ж понимать надо…
КРУГЛЫЙ ДУРАК. СКАЗКА
Жили-были старик со старухой. И было у них три сына: двое умных, а третий дурак.
Очень это обстоятельство старика со старухой огорчало. Умные что ни сделают — все ладно, всё хорошо. А дурак за что ни возьмется — все не так, все по-дурацки.
— Ох, горе луковое! — вздыхает мать. — И в кого ты уродился?
— Хы! — говорит дурак и — палец в нос.
— Как дальше-то жить будешь, голова еловая? — спросит отец.
— Хы! — отвечает дурак.
Бились-бились родители, колотились-колотились, видят: никакого толку от дурака нет.
Собрались они тогда и пошли к одному знакомому старичку-волшебнику.
Так и так, говорят, есть у нас три сына, двое умпых, а третий — дурак. Умные что ни сделают — все ладно, все хорошо. А дурак за что ни возьмется — все не так, все по-дурацки. Сделай милость, поправь ты нашего младшенького.
— М-да, — говорит волшебник. — А что, мамаша, сынок ваш окончательно круглый дурак или так себе — придурок?
— Ох, круглый, батюшка! — отвечает старуха. — Такой круглый, дальше некуда.
Подумал волшебник и говорит:
— Есть средство. Присылайте вашего сынка. Раз круглый — можно попробовать. Вот с придурками — с теми много труднее. Только одна баба-яга и берется их пользовать.
Ну, прислали родители дурака, волшебник ему и говорит:
— Научу я тебя одному слову — волшебному. Оно тебя с другими людьми выравняет. Постой, да ты, может, такой дурак, что и слово-то волшебное не запомнишь.
— Небось, запомню, — отвечает дурак. — Давай называй слово, не скупердяйничай.
— Ну слушай. Что бы у тебя ни спросили: про себя, про других или в смысле оценки явлений, отвечай одно: а я, мол. дурак. Дурак и точка.
— Хы! — говорит дурак. — Чо тут помнить-то!
— А ты не скалься, — отвечает старичок. — Лучше на ус мотай. Да еще помни: в больших ли, в малых чинах будешь — спаси тебя бог закобениться, сказать, что умный. Как такое брякнешь — тут тебе и конец.
Запомнил дурак волшебное слово и пошел домой. Ну, попятно, из-за дурости своей не прямо пошел, а дал крюка версты четыре. И так получилось, что угадал он мимо царского дворца. А там как раз сидел на крылечке царский конюший. Сидел, семечки щелкал и разные проблемы обдумывал. А самую главную он проблему обдумывал — кто же теперь будет на царской конюшне работать, поскольку младшего конюха кобыла залягала?
И тут видит конюший — идет мимо парень. Из себя здоровый, морда красная.
— Эй ты, онуча! — закричал конюший. — А ну, подь сюда!
Подошел дурак.
— Ты кто такой есть? — спрашивает его конюший.
— Дурак я, дяденька, — отвечает дурак. — Дурак дураком.
Конюший даже семечкой поперхнулся.
— Ага, — говорит, — понимаю… того, значит… А про себя думает: «Нет, он не дурак. Дурак разве про себя такое додумается сказать. Возьму-ка я его младшим конюхом». И взял.
Прошла неделя-другая — на конюшне новая беда: два лучших жеребца сдохли. Сам министр двора заявился — белый, как молоко, и щека дергается. Отозвал дурака в сторонку, давай пытать: отчего да почему такое приключилось, не ворует ли конюший овес и не говорил ли он, что собирается в Турцию сбежать?
— Не знаю, — отвечает дурак и смотрит на министра прозрачными глазами. — Вроде как говорил чего-то, и матерно говорил, и по-всякому. А что, зачем — не смыслю. Дурак ведь я, Ваше Превосходительство.
Мигнул тут министр дураку — дескать, не беспокойся, все понимаю, — а сам думает: «Ну, в точку я угадал: конюший-то и правда сукин сын. А этот ловок. Ох, как ловок! Ишь, куда гнет: дурак, мол, я… Назначу-ка я его конюшим». И назначил.
Проходит какой-нибудь месяц — и вызывает дурака царь. Является он, а там уж министр двора стоит и трясется весь, аж зубы стучат. А кроме него еще с десяток разных советников и генералов топчутся.
Оказывается, Его Величество у своих приближенных личное мнение спрашивает. Собрался он в гости к соседнему государю и желает знать, как ему карету закладывать: четверней, пятерней или шестерней?
Переминаются советники с ноги на ногу, друг дружку локтями подталкивают, пот с них градом катится. Каждому хочется поумнее свое личное мнение высказать. Так, чтобы легло оно под личное мнение Его Величества, не пошло вразрез с личным мнением Ее Величества да еще потрафило личному мнению Ихнего Высочества, наследника престола. Задача!
А дураку горя мало. Подходит его очередь, он и рапортует:
— Не могу знать! Дурак я, Ваше Величество! «Вот, — думает царь, — умный ответ. И тактичный.
Согласно своему чину в присутствии других более высоких чинов. Таких людей беречь надо. Произведу-ка я его во вторые министры, тем более, что должность как раз свободная». И произвел.
А сам в гости укатил. Туда ничего доехал, а на обратном пути перевернулся в овраг. И разбился до смерти, вместе с царицей и наследником.
Ничего не поделаешь, надо нового царя ставить. Приходят к дураку первый и третий министры — посоветоваться.
Спрашивают:
— Какое мнение Вашего Превосходительства?
— Никакого мнения не будет, — отвечает тот. — Дурак я, разве не знаете.
Тут первый министр, который в одной компании о покойном царе безмерно горевал, думает: «Ой-ой-ой! Что-то он про меня знает! Еще стукнет новому царю, как я по старому убивался…»
А третий министр, который в одной компании про покойного царя говорил: «Туда ему, собаке, и дорога», думает: «Ой-ой-ой! Что-то он про меня знает. Не так просто ваньку гнет. Еще стукнет новому царю, как я о коронованной особе отзывался!..»
Перемигнулись первый и третий министры: дескать, обвел вокруг пальца, шельма: сам-то промолчал и чистый вышел. Надо его царем выбирать — от греха подальше.
И выбрали.
Надел дурак царскую корону и вроде как задумался.
«Если я дурак, — думает, — то почему я царь? Значит, я не царь вовсе, а дурак? Но как же я не царь, когда царь. А если я царь, то почему дурак? Значит, я не дурак вовсе, а умный».
И велел он издать указ: «Мы, Наше царское Величество, приказываем полагать Наше царское Величество умным и не считать дураком.
Помимо того, повелеваем считать отныне всех прочих предполагаемых дураков умными, а всех умных — дураками».
И как только издал он этот приказ, все тут же сообразили, что дурак-то действительно дурак, а никакой не умный.
Сообразили, да поздно: дурак уже на троне сидит.
ХРАПЫЧ. СКАЗКА
Про кота Храпыча рассказывают такую историю. На четвертый день после рождения, еще слепым котенком, он вылез по нужде из гнезда, но вместо того, чтобы расположиться на ковре, прямиком проковылял к песочному ящику и там будто бы оформил все на уровне опытного годовалого кота.
Вот какие, значит, у него были задатки.
В это можно поверить, поскольку и в дальнейшем за Храпычем неблаговидных поступков не замечалось. Скажем, сметану там ополовинить, колбасой со стола поинтересоваться или в марте, по примеру всех прочих котов, закуролесить Храпыч себе не позволял.
Словом, это был кот во всех отношениях положительный. В свое время он закончил гуманитарный факультет при кошачьем университете, дважды был на курсах усовершенствования, затем сам читал лекции на кафедре вкрадчивости и даже защитил кандидатскую диссертацию: «К некоторым вопросам влияния вышепролетающего ветра на нижерасположенное обоняние».
Вот благодаря своим многочисленным заслугам кот Храпыч и оказался к началу нашего повествования на этой должности. Как эта должность называлась, сформулировать затрудняемся, а только известно, что Храпыч приставлен был охранять хозяйский дом изнутри. И в этом смысле он считался как бы начальником над псом Хрипычем, который должен был стеречь тот же дом всего-навсего снаружи. Само собой разумеется, и содержание им положено было разное: и в смысле приварка, и в смысле всего прочего.
Надо сказать, что кот Храпыч сразу же взял твердый курс на оправдание доверия. Дела его активно и последовательно шли в гору. И довольно скоро на вверенном ему участке наступил такой ажур, такая совершенная гармония, что все только ахнули.
— Вот что значит образованные-то кадры! — отметило котово начальство.
В университете, в альма-матер, гак сказать, Храпычем заинтересовались. Пригласили прочесть цикл лекций о его собственном методе. Кроме того, заказали коту книжку, и профессор Львов-Загублянский взялся к ней предисловие написать.
И вот в самый, можно сказать, пик расцвета котовых дел вдруг наступило непредвиденное осложнение. Залаял однажды ночью пес Хрипыч.
— Воры! Воры! — лаял он. — Держи, держи!..
Кот Храпыч в первый момент отнесся к этому факту довольно индифферентно: собака, дескать, лает — ветер носит. Перевернулся на другой бок и захрапел.
Однако Хрипыч следующей ночью снова гвалт поднял. Причем лаял на этот раз еще ожесточеннее и опять невоздержанно кричал: «Воры».
«Чтоб ты околел! — выругался кот Храпыч. — Ох, подведет он меня, этот бобик, под монастырь турецкий! И чего ему, собаке, не хватает. Похлебку свою получает регулярно. Будка исправная — на голову не каплет. Свобода ему предоставлена… в пределах, разумеется. Да ведь иначе с ними и нельзя».
Терпенье кота Храпыча лопнуло на третью ночь, и тогда он решил провести со своим вроде бы подчиненным воспитательную беседу.
Утром кот вышел на крыльцо и поманил Хрипыча лапой.
— Что же это вы, любезный, себе позволяете? — недовольно спросил он. — Выкрики различные необдуманные и… прочее! Будоражите, понимаешь, окружаюшую общественность…
— Так ведь воры, воры! — часто дыша, сказал Хрипыч.
— Ах, да разве я не знаю! — поморщился кот Храпыч. — Конечно, случаются еще отдельные проявления. Мы не скрываем. Хуже того, — тут Храпыч перешел на доверительный шепот, — и мыши есть. Да-да! Но я же ведь не кричу на всех перекрестках: «Мыши, мыши!..» Для чего разжигать нездоровый ажиотаж? Вот вы, к примеру, сегодня ночью разбудили всю округу. И уже слышу, вместе с вами брешет артисткин шпиц. А ведь, между нами говоря, это собака с чуждыми настроениями: еще разобраться надо, с чьего голоса она лает… Так кому от этого польза?
Тут Хрипыч опустил кудлатую голову, вильнул репейным хвостом и спросил:
— Как же быть, если воры, воры?
— Ах, господи! — сказал кот Храпыч. — Да разве я говорю, что на воров лаять не надо? Конечно, надо — это наш святой долг. Но как лаять! Гавкнуть раза два — это и уместно, и необходимо. А утречком доложить мне. Обсудим в рабочем порядке, составим план мероприятий. Наметим, так сказать, пути. Вот как, дорогой мой. Не с бухты-барахты.
— Ну, если два раза можно, еще ничего, — подумав, согласился Хрипыч. — Я тогда погромче гавкну.
— Наооборот, потише, — сказал кот Храпыч.
— Ага! — догадался, наконец, Хрипыч. — Хоть без зубов, да на костылях. Ну, воля ваша.
Ночью, когда появились воры, он, согласно распоряжению, аккуратно гавкнул два раза. Вроде как откашлялся. А чуть свет зазвонил цепью иод окном кота Храпыча. — .: Ну? — поинтересовался Храпыч. — Как настроение?
— Боязно что-то, — сказал Хрипыч, — раньше-то они по двое ходили, а сегодня, слышь, втроем пожаловали. И вроде как с палкой. А может, и с ружьем — не рассмотрел.
— Хм, — сказал Храпыч. — Не скрою, ситуация осложняется. Я думаю, в подобной обстановке лай совсем оставить надо. Есть у нас, знаете, еще такие элементы. Ты два раза гавкнешь, а он скажет: двадцать два. Ты — три раза, а он — триста тридцать три. Дальше — больше. Пойдут разговоры: дескать, в Энском дачном поселке завелись воры. Чего доброго, в Лапландию слух перекинется. А там, глядишь, — еще куда подальше. Соображаете, чем пахнет? В мировом масштабе оконфузимся.
— Совсем-то молчком нам непривычно, — заупрямился Хрипыч. — Вот когда еще два раза — это как-никак.
— Ничего, дорогой мой, потерпите, — оборвал его Храпыч. — А я тем временем план мероприятий закончу. И Хрипыч перестал лаять.
…А воры пришли впятером. Хрипыч лежал в будке и нервничал. «Черррт! — рычал он, разумеется, про себя. — Где же он со своим планом, туды его!»
Ой, как хотелось Хрипычу залаять! Лай распирал ему бока, подступал к горлу. Но Хрипыч, сцепив зубы, молчал.
Когда же воры поволокли связанное в узлы добро, Хрипыч не выдержал: «Эх, до мероприятиев ли теперь!» И, устрашающе рявкнув, он бросился на грабителей.
Одному он порвал бок. Второму ополовинил штанину. Третьему срезал подметку, когда тот повис на заборе. Но четвертый увернулся и ахнул Хрипыча ломом поперек натянутой в струнку спины…
После этого воры возвратились и спокойно забрали остальное имущество. Кота Храпыча они унесли вместе с шифоньером, в который он забился с перепугу.
…В Лапландии про этот факт так ничего и не узнали.
СЛУЧАЙ С ГОСПОДИНОМ ХЕНДРИКОМ ВАН-ДЕР-МЮЛЬДЕ, КОРОЛЕМ ПОДТЯЖЕК
Молодого художника Витю Шубейкина и господина Хендрика Ван-дер-Мюльде судьба свела на оживленном пятачке в самом центре сибирского города-гиганта. Я не оговорился: именно судьба их свела, а не слепой случай. Шубейкин и господин Ван-дер-Мюльде давно и целенаправленно двигались навстречу друг другу, сами того не подозревая. Дело в том, что оба они ставили один и тот же, по сути, эксперимент. Витя Шубейкин проверял на личном опыте — может ли в нашем обществе человек безбедно прожить, нигде не работая, вернее — нигде не получая зарплаты, буквально ни копейки. (Прошу сразу обратить внимание на этот нюанс: не получая зарплаты. Ни черта не работать, но получать при этом зарплату у нас, как известно, можно. Это не фокус, и ради этого не стоило бы экспериментировать). Господин же Ван-дер-Мюльде, со своей стороны, упорно хотел доказать, что и в Советском Союзе существуют нищие люди — безработные, бездомные, отверженные и так далее.
Оба экспериментатора, надо сказать, не преследовали сколько-нибудь прагматических целей, а руководствовались скорее принципиальными соображениями. Так, господии Ван-дер-Мюльде отнюдь не собирался продавать «жареные» факты, которые твердо рассчитывал обнаружить, какой-нибудь реакционной телекомпании или в желтую прессу. Ему вполне хватало собственных капиталов. Он даже сам мог прикупить парочку газет и как раз подумывал об этом. Господина Ван-дер-Мюльде, что называется, «заело». Ему казалось, что знает русских, то есть что он окончательно понял их — после того, как Внешторг заключил с ним контракт на поставку подтяжек, крупнейший за всю историю существования фирмы. Домашним своим, жене Марте и старому папаше Ван-дер-Мюльде, он так и сказал, отправляясь в Россию: «Хватит болтать о пресловутой загадочности русских! Эти люди покупают у меня подтяжки». Действительно, подтяжки господина Ван-дер-Мюльде-младшего служили лучшим свидетельством добропорядочности и благонадежности их владельцев, ибо предназначались они для поддержки солидных брюк, в заднем кармане которых непременно должен храниться толстый бумажник, набитый тщательно пересчитанными пфеннигами. Такой человек мог даже не предъявлять визитной карточки — Хсндрик и без того видел его насквозь. Видел, понимал, одобрял и всегда готов был иметь с ним дело.
Однако в России господин Ван-дер-Мюльде неожиданно столкнулся с другой загадкой: здесь не оказалось нищих и безработных. Это был непорядок. Принять такое он не мог — но двум пунктам: no-первых — объездив пояти весь мир (Хендрик не был только в Антарктиде), он убедился: нищие есть везде; во-вторых — там, где такое огромное количество людей нуждалось в его подтяжках, обязательно должно было существовать соответствующее количество совершенно в них не нуждающихся, тех, кому, пардон, вовсе нечего поддерживать, или, по крайней мере, тех, кто свои единственные дырявые штаны подвязывает бечевочкой, подобранной на мусорной свалке. Только такое равновесие, а точнее разновесие, способно было, по глубокому убеждению господина Ван-дер-Мюльде, двигать вперед прогресс. Не обнаружив признаков его, уважаемый король подтяжек (ну, король не король, а герцог — это уж точно) сначала крепко встревожился, даже усомнился в партнере, но потом, поразмыслив, решил, что здесь его — непонятно с какой целью, говоря по-нашему, дурят, прячут самые убедительные гарантии своей надежности, и принялся настойчиво искать эти гарантии, попросту говоря — нищих.
Вот так примерно — вкратце. Подробнее свою теорию о необходимости присутствия нищих в каждом уважающем себя государстве и о прогрессивной роли их господин Ван-дер-Мюльде пытался впоследствии изложить Вите Шубейкину и его приятелю Лёве Кускису, но не был достаточно понят по причине языкового барьера.
Теперь, — что касается Вити Шубейкина. Витю тоже однажды «заело», гораздо раньше, чем его будущего, так сказать, спарринг-партнера господина Ван-дер-Мюльде. Правда, такое энергичное понятие, как «заело», несколько не личит смирному человеку Вите Шубейкину, но приходится употребить его, пусть и с некоторой натяжкой.
Витя не был убежденным тунеядцем, не желающим трудиться. Наоборот, он мог работать — как вол. И работал — неделями не вылезал из мастерской. Хотя вола вполне прозрачный, христосоподобный Витя напоминал меньше всего. Скорее он напоминал ломкое подземное растение, выросшее без света и воздуха. Сходство с растением усугубляли худые веснушчатые руки, длинная шея и мягкая белесая плесень на подбородке. Лева Кускис так и звал его: «Дитя подземелья», — имея в виду еще и то, что Витина мастерская располагалась в полуподвале. Он же сочинил стихотворную надпись-эпитафию для будущей мемориальной доски художника:
«Здесь жил анахорет Шубейкин, сшибал он на обед копейки».
Относительно копеек на обед друг Лева был частично не прав: Шубейкин не выпрашивал копейки — ему их дарили. Тот же Кускис иногда подбрасывал без отдачи, меценатствовал. Увы, несмотря на сумасшедшую работоспособность, Витя Шубейкин влачил полунищую жизнь. Дело в том, что неординарное его искусство было чуждо широким массам. Так, по крайней мере, считала бессменная начальница управления культуры Муза Спиридоновна, а следом за ней — директор художественного фонда Генрих Кашкаедов. «Массы это не поймут», — говорили они.
Справедливости ради надо сказать, что Кашкаедов тайком сочувствовал Вите и чем мог старался подсобить ему. Последнюю такую попытку он предпринял за год до описываемых событий. Директор организовал Вите выгодный заказ: написать многофигурную композицию для нового Дворца пионеров, открывшегося в старом здании областной филармонии, — нечто такое, вроде «Утро в Артеке».
— Для пацанов-то, для пнонэрии, поди, сумеешь, — сказал Генрих. — Осилишь, поди. Они там, учти, хотят, чтобы сзади было синее море, белый пароход. Но именно синее, понял? Не пурпурное. И без зубов. Не строй из себя Чюрлениса.
Витя успел создать только одну фигуру — мальчика-горниста.
О, что это был за мальчик! Все у него горнило, то есть трубило. Трубили губы. Трубило развернувшееся лотосом ухо. Трубил выстреливший в зенит воспаленный глаз! Мальчик-петух, мальчик-оркестр, мальчик — ликующий вопль! Труба, как таковая, отсутствовала, но… все было единой восторженной трубой!
Чадолюбивая Муза Спиридоновна, увидев расчлененного горниста, тихо заплакала. Генрих Кашкаедов, содрогнувшись побелевшим лицом, сказал: «Ты сдурел!» После чего заказ был передан в надежные руки старого халтурщика Наума Зифермана. Наум не стал корчить из себя Чюрлениса. Вспомнив гипсовых горнистов своей юности, украшавших аллеи парков культуры и отдыха, он выстроил на фоне идеально синего моря идеальную шеренгу краснощеких пионеров с толстыми ляжками — и со спокойной совестью уложил в карман полторы тысячи рублей.
Бессребреник Шубейкин, посмотрев на работу маэстро Зифермана, горестно прошептал: «Стыдно».
— А на подаяния жить не стыдно? — вскинулся стоявший рядом Генрих Кашкаедов. Директор был оскорблен в лучших чувствах: ведь помочь хотел поросенку!
Витя подумал и честно признался:
— Тоже стыдно. Я больше не буду.
— Да ну? — не поверил Кашкаедов. — Святым духом станешь питаться?
Вот тогда Витя и высказал это предположение: можно, дескать, прожить и не зарабатывая денег, то есть нигде ничего не получая.
— Ишь ты! Воровать, что ли, пойдешь? — съехидничал Кашкаедов.
Витя на этот укол не обиделся. Кротко сказал:
— Я попробую.
Так вот все и началось.
С господином Хендрнком Ван-дер-Мюльде Шубейкин мог и разминуться: к этому времени он уже победно завершал свои эксперимент, между тем как Хендрик находился ешё в самом начале пути. Господину Ван-дер-Мюльде не везло: агенты КГБ, не ограничивая официально свободу передвижений любознательного туриста, старательно скрывали от него бродяг, заранее, видать, прочесывая местность.
И все-таки они встретились.
…Это произошло возле фирменного магазина «Русский сапожок».
Рядом со входом в магазин, слегка так откатившись на тротуар, лежала на боку почти новая мужская импортная туфля, сорок второго, примерно, размера.
«Саламандра», — опытным глазом определил проходивший мимо Шубейкин. — Или «Нокиа». — И поднял туфлю.
Он не ошибся: «NOKIA», — было вытеснено поперек подошвы, ниже стояла крупная цифра «42», а еще ниже — мелкая надпись: «MADE IN FINLAND». Изделие было финское. Такой элегантный лапоточек, мягкий и уютный, вроде кроссовки. Один только изъян имела туфля: вдоль не затертой еще эластичной подошвы, пересекая надпись, тянулась трещина, точнее разрез, шрам — глубокий, но не сквозной. Шрам говорил о том, что кто-то здесь только что переобулся. Витя знал — такое нередко случается: купит человек новые туфли, переобуется на крыльце или в самом магазине, а старые, чтобы не таскаться с коробкой, бросит прямо у дверей.
Лично Шубейкину не нужны были в настоящий момент туфли — он интересовался хорошими туристскими ботинками. Но стояло лето, пора отпусков, дальних походов, бивуачных костров — и ботинки никто не выбрасывал. Тем не менее Витя машинально продолжал вертеть в руках туфлю и машинально же прикидывал: если заклеить шрам «суперцементом», вещь запросто прослужит еще лет пять — фирма надежная. Он даже пошарил глазами вокруг — где же вторая-то? Даже нагнулся и перебросил пустые картонки, сваленные тут же, возле урны-мусорницы.
И вдруг он услышал характерный звук: кто-то щелкпул затвором фотоаппарата.
Шубейкин оглянулся.
В каких-нибудь четырех шагах стоял голоногий иностранец, в шортах, рубашке-распашонке, легкомысленной кепочке, и, радостно скаля зубы, прицеливался в него объективом.
— Эй! — растерянно сказал Витя. — Гражданин… или как вас?.. В чем дело-то, собственно?
Злополучную туфлю он при этом не бросил, наоборот — от неожиданности крепче стиснул ее и несколько приподнял: получилось — вроде как заслоняется.
Иностранец дружелюбно замахал рукой: не надо, дескать, не загораживайся! И жестом этой же руки — понукающим, снизу — вверх — скомандовал: давай еще! покопайся там, пошуруй!
— Да вы!! Да я вам кто тут? — Витя чуть не заплакал от обиды: надо же, приказывает еще!.. Прямо как дрессировщик обезьяне.
В этот момент из расположенной по соседству с магазином кофейни вынесло Леву Кускиса. Еще правильнее было бы сказать так: дверь кофейни выстрелила раскаленным Лёвой. — но боюсь, это покажется литературной красивостью, слишком вычурным образом. Хотя никакой вычурности тут нет. Ни на секунду не остывающего Кускнса несло всю жизнь, несло даже в состоянии покоя даже когда он спал. Внутри него клокотала иулканическая магма энергии, она гнала Лёву, распирала, выталкивала из лопающихся джинсовых штанов, из адидасовской майки. Кускиса было от этого очень много: много вспучившейся мускулатуры, бороды, жаркого, запаленного дыхания.
— Че такое, Витек? — спросил Лёва, мгновенно оценив мизансцену: раскрылатившегося друга и нездешнюю фигуру зарубежного джентльмена рядом с ним. — Че этому кенгуру надо?
— Да вот, — сказал Шубейкин. — Фотографирует, понимаешь…
— Так! — Лёва грозно шагнул к иностранцу, — Нью-Йорк таймс? Вашингтон пост?.. А ну, морда империалистическая, засвечивай пленку! Живо!
Господин Хендрик Ван-дер-Мюльде (а это был он) не дрогнул, хотя сразу сообразил, что подвергся нападению местных гангстеров. Опытный путешественник, он умел обращаться с этой публикой. Его однажды в Японии пытались укокошить. Он тогда выпил слишком много подогретой рисовой водки и нечаянно забрел — один, без переводчика — в жуткие трущобы Токио. И там на него, в темном переулке, двинулись два подозрительных типа. А известно, что японские гангстеры самые свирепые в мире. Но господин Ван-дер-Мюльде знал прием. Не дав им приблизиться на расстояние удара ногой в ключицу, он поднял руку и громко выкрикнул: «Но американ!.. Деньги есть!» После чего господин Ван-дер-Мюльде трое суток кутил с этими симпатичными парнями, кочуя из притона в притон, пока не был отловлен сотрудниками посольства.
Вот и сейчас он произнес свое заклинание и, великодушно улыбаясь, протянул Лёве две пятидолларовые бумажки.
Через минуту господин Ван-дер-Мюльде понял, что допустил промашку: следовало протянуть этому громиле сразу весь бумажник. Но бумажник находился там, где ему положено быть, — в заднем кармане куцых штанишек, а две ассигнации, заранее приготовленные, чтобы поощрить ими первого встречного бродягу, хранились под рукой — в нагрудном карманчике рубашки. Хендрика подвела поспешность.
— Чего, чего? — спросил Лёва. — Че он такое буровит. Витек?
Шубейкин пожал плечами: — Говорит, вроде, что не американец. Мани предлагает… деньги то есть.
Сильнее нельзя было оскорбить Лёву Кускиса. Давно и беспошлинно занимаясь разнообразной индивидуальной трудовой деятельностью, он был не бедным человеком, деньги вполне презирал, небрежно называл их «бабками» и «тугриками». Да если бы даже и бедным был… Как ему, Льву Кускису, гордому советскому человеку, осмелились протянуть подачку?!
Произошла безобразная сцена. «Пусть этот хмырь болотный, — кричал Лёва, брызжа слюной, — засунет свои вшивые бабки псу под хвост! У себя на Бродвее! Пусть сам ими подотрется, козел! А если не хватит, Лёва добавит! (При этом он выхватил из тесного кармана внушительную пачку сложенных пополам двадцатипятирублевок, покрутил ею перед носом отшатнувшегося господина Ван-дер-Мюльде и спрятал обратно). — В гробу, — сообщил Лёва на предельной ноте, — в гробу он видел таких Рокфеллеров! В гробу и в белых тапочках!.. И вообще, если этот гад немедленно не засветит пленку, он, Лёва Кускис, засветит ему промеж глаз!».
Кончилось тем, что перетрусивший господни Ван-дер-Мюльде снял с шеи фотоаппарат, присовокупил к нему бумажник и протянул Лёве красноречивым жестом: «Забери все, отпусти только душу на покаяние!»
— Лев! Оставь его! — умолял измаявшийся Шубейкин. — Давайте уйдем!
Леву и самого испугала столь внезапная и полная виктория. Но показать тыл сейчас было бы зазорно. Поэтому Лёва, капризно отпихнув предложенную ему контрибуцию, сказал:
— Пусть поллитру ставит… фрайер! У него там что — валюта? Вот пусть гонит бутылку виски.
— Да где он возьмет виски-то? — пожалел иностранна Витя.
— Как где? В «Березке»… Ты, корабль пустыни! — высокомерно обратился Кускис к побежденному. — Можешь купить бутылку уиски? Бэлая лошайд? И-го-го! Понимаешь?.. Ол райт шнапс тринкен! — и Лёва сопроводил свой вопрос международным жестом.
— О-о, йес! — просиял господин Ван-дер-Мюльде. — Понимаешь! Да-да! Шнапс! Очень ка-ра-шо!
Фу ты, господи! Все становилось на место: повторялся токийский вариант. Гангстеры везде были гангстерами, а толстый бумажник — толстым бумажником.
Они отправились в хитрый валютный магазин с навечно заколоченными парадными дверьми. Лёва, однако, знал способ проникновения внутрь. Он позвонил с черною хода, подмигнул впустившей их девушке: «Рябчика заграничного привели, Мусик, "Белой лошалью" интересуется. Есть?»
— Да хоть залейся. — дернула плечом Мусик. Господин Ван-дер-Мюльде торжественно приобрел бутылку виски.
Лёва приотстал и, пошептавшись с продавщицей, унес еще две. Его учетверенный рубль и здесь срабатывал безотказно, не хуже тщеславного доллара.
В мастерской у Шубейкина господин Ван-дер-Мюльде, индя, как Лёва бесстрашно льет в мутные стаканы виски, забеспокоился было, начал объяснять, что так нельзя, опасно, следует этот напиток обязательно разбавить. «Жжюче! — пугающе говорил он, теребя себя за кадык. — Здесь… жжюче! — и тыкал пальцем в стаканы. — Лёда! Лёда!»
— Да ни хрена с тобой не будет — так стрескаешь! — успокоил его Кускис, разламывая на три части черствый батон. — Нету у старика холодильника, не завел еще. Жжюче. жжюче… напугал. Видали мы твою белую клячу! Верно, Витек?
Шубейкин, не употреблявший ничего крепче кефира, лишь поднял вверх светлые брови.
Господин Ван-дер-Мюльде, выпив неразбавленный виски, нашел, что это не так уж страшно. Более того: после второй порции, последовавшей стремительно вслед за первой, он обнаружил внезапное просветляющее действие напитка. Ему показалось, что он вполне понимает язык своих собеседников. Вернее, наоборот: что они его достаточно хорошо понимают. Во всяком случае, соединенными усилиями им удалось, наконец-то, установить кто есть кто: господин Ван-дер-Мюльде не есть шпион, он независимый бизнесмен: Лёва не гангстер, он тоже… независимый… ну, бизнесмен не бизнесмен, а — как бы это? — деловой человек, предприниматель — о! (тут они, чокнувшись по-русски, выпили в третий раз); Шубейкин — не лаццарони, нет! («У меня даже не берет!» — бил себя в тугую грудь Лёва.) Дальше, правда, возникла заминка: труднее оказалось объяснить господину Ван-дер-Мюльде суть и, так сказать, движущий пафос Витиного эксперимента.
— Из принципа он, понял?! — шумно втолковывал Лёва. — Чтобы доказать всем! Ну, как у вас там один дух по канату над Ниагарой прошел — помнишь?
— Лев, по-моему, он все-таки не американец, — подсказал Шубейкин.
— Да какая разница, — отмахнулся Кускис. — Короче, из спортивного интереса. Во! — сейчас врубишься: спорт! Усек? Дас ист спортсмен!
Господин Ван-дер-Мюльде усек. Господин Ван-дер-Мюльде горячо потряс Вите руку. Спортсменов он уважал. Элкьяер! Марадона! Десять тысяч фунтов стерлингов за один выход на поле. Спорт — тоже бизнес. Хороший бизнес!
Он закивал. Уважительным взглядом окинул Витину мастерскую: вери гуд! Ка-ра-шо!
Посмотреть у Шубейкина было на что. Сам-то он полагал, что главное его богатство — картины, плотно, одна к одной, развешанные по стенам. Но господин Ван-дер-Мюльде другое ценил в этой жизни. Больше всего восхнтила его могучая четырехспальная кровать под балдахином, в стиле ретро. О, это было достойное сооружение! Он даже почтительно поаплодировал кровати: колоссально! И так же почтительно поинтересовался: сколько? Сколько может стоить здесь это чудо архитектуры?
Витя поскреб в затылке:
— Затрудняюсь вам ответить точно, — сказал он. — Видите ли, промышленность давно такие не выпускает, если только в комиссионке… Мне-то лично вот эта обошлась в бутылку.
Да, за громоздкие предметы, за мебель и утварь, Вите Шубейкину приходилось иногда платить. Скажем, хорошие летние туфли или зимние ботинки можно было свободно выудить из мусорного контейнера. Или раздобыть другим способом, более «галантерейным», которым преимущественно и пользовался Витя Шубейкин. Он, когда догоняла нужда (запасов Шубейкин не создавал), просто прогуливался возле обувных магазинов, подкарауливал какого-нибудь переобувшегося гусара или почерневшего внезапную аварию командированного. Такая обувь, с ноги, оказывалась, как правило, мало ношенной, хотя нуждалась иногда в мелком ремонте, особенно — брошенная людьми командированными, заезжими. Но Шубейкина это не смущало: он освоил искусство холодного сапожника и на починку не тратился.
Примерно таким же способом обновлял он верхнюю одежду, только прогуливаться надо было вокруг жилых девятиэтажек и неприменно с утра пораньше. Костюмы, куртки, демисезонные пальто не пролезали в зев мусоропровода, население складывало их поэтому внизу, возле бункера, аккуратно завернув в газетку. Витя же, совершая предрассветный моцион, за полчаса до прихода уборочной машины снимал урожай. Он не торопился, присматривал вещь по плечу и по вкусу. Так, например, костюмы Витя брал только гэдээровские. Здоровые традиционалисты-немцы по старинке шили одежду добротную, удобную в носке, и хотя за ультрамодностью не гнались, ухитрялись оставаться всегда современными.
А вот с мебелью было сложнее. Шифоньеры, кресла, диван-кровати возле бункера мусоропровода никто оставлять не осмеливался: матерились рабочие-грузчики, выявляла по приметам и срамила домовая общественность. От мебели поэтому избавлялись тайком, в ночи: оттаскивали ее подальше от своего подъезда и, чтобы исключить розыски бывшего владельца, частично разрушали «подкидышей», дескать, внимание! — брошено.
Так было и с уникальной кроватью, поразившей воображение господина Ван-дер-Мюльде. Двух мужиков, пытавшихся отломать у нее спинку, Витя прихватил в половине первого ночи метрах в трехстах от своего ателье. Мужики, правда, успели спрятаться за угол, но Витя выманил их оттуда, посулив бутылку, если они утащат это плоскогорье (кровать тогда была еще без балдахина) к нему в мастерскую. Бутылка у Вити сыскалась одна, но большая — ноль семьдесят пять литра, и поскольку насчет емкости специальной оговорки не было, мужики употребили ее всю. После этого подвига они расчувствовались и уже за так, из уважения только, приволокли Вите антикварный буфет позапрошлого века, с амурами и кариатидами.
Господин Ван-дер-Мюльде подивился баснословной дешивизне кровати и ткнул пальцем в буфет: а это сколько?
Витя опять поскреб в затылке. Буфет достался ему даром, в придачу как бы, однако знакомый реставратор, приходивший поставить на место одну кариатиду (мужики заранее вышибли ее, дома еще), выпил между делом полбутылки. Вторую половину прикончил столяр-краснодеревщик, сооружавший по Витиной просьбе балдахин над кроватью. Столяру не хватило одной поллитры — и Витя выпоил ему эти остатки. Стало быть, на круг буфет тоже обошелся в бутылку. Так Витя и доложил.
Затем господин Ван-дер-Мюльде узнал, что за бутылку приобретены также книжный шкаф, четыре кресла (на одном из них он сидел) и огромная театральная люстра, похожая на колесо арбы. Это привело его в крайнее недоумение: что за странная такая цена — бутылка? И что это за всемогущие такие бутылки? (Господин Ван-дер-Мюльде произносил «пудель»). И где, наконец, мистер спортсмен берет эти замечательные пудели?
— Бутылки-то? — спросил Витя. — Так-э… бутылки — за бутылки.
Вот это растолковать было уже чрезвычайно тяжело. Практически — невозможно.
Витю Шубейкина повседневно кормили пустые бутылки. Кормили, поили и даже позволяли создавать скромный свободный капитал. Причем Шубейкин не собирал их. Ну, в самом начале он еще занимался некоторое время этим промыслом, но в дальнейшем, когда эксперимент его набрал силу и получил огласку, так называемая «пушнина» потекла к нему рекой. Братья-художники сами несли Вите порожнюю тару, еще упрашивали принять ее: «Старик, возьми за ради Христа». Дольше всех упорствовал главный поставщик Наум Зиферман, в больших количествах потреблявший по рекомендации докторов «Есентуки-17», но после того, как его однажды возле киоска по приему посуды обозвали хорьком вонючим, да, вдобавок, толкнув на ломаные ящики, разорвали восьмидесятирублевую болоньевую куртку, и Наум сдался.
Все это Витя попытался добросовестно изложить гостю — ну и, естественно, запутал его вконец. Тот прямо за голову схватился: Что за чертовщиниа?! Кровать — пудель, буфет — пудель, люстра — пудель и пудель — тоже пудель!
Совершенно же добил его тот факт, что Витин костюм (а на Шубейкине была скромная, но вполне приличная тройка) вообще лежал на улице, никем не охраняемый. И хотя Витя честно признался: костюм-де пришлось предварительно пропустить через химчистку и в иных местах косметически поштопать, — господин Ван-дер-Мюльде решил: опять его дурят!
— Да валяется это барахло! — азартно орал Лёва (они к этому моменту распочали уже третью «Белую Лошадь»). — Лежит! Гад буду! Пластами лежит! Черноземными! Нe то что у вас там!.. Ты куда приехал-то, подумай!
Господин Ван-дер-Мюльде наконец-то прозрел: какие там, к дьяволу, гангстеры, это же контрразведчики — вот что!
— Но спортсмен! — закричал он, отталкиваясь от Вити растопыренными руками, как Борис Годунов от "мальчиков кровавых". — Я понимай! Ви есть кей-гей-би!
Вити на этот раз поскреб в бороде. Вообще-то его, из-за мягкости характера, трудно было спровоцировать на спор, но тут уж… принцип на принцип дело пошло.
— Ладно, — сказал он. — Тогда пошли.
Одному ему ведомыми тропками Шубейкин вел приятелей по новому, слабо освещенному, жилмассиву. Трижды они пересекали какие-то траншеи по дощатым мосткам. То и дело терявший равновесие Кускис пытался запеть: «Обломилась доска, подвела казака», — но Витя удерживал его: «Лев, помолчите. И хорошо бы не курить. Пока. — И Хендрику: — Но смокинг». Возле темной громады двенадцатиэтажки он остановился, сказав: «Ну, давайте хоть здесь, что ли». И еще раз предупредил на счет соблюдения тишины и «но смокинг».
Постояли они, затаившись, может быть, минут семь.
Вдруг что-то, прошелестев по воздуху, шлепнулось к их ногам.
Витя наклонился, потрогал руками лопнувший при ударе о землю сверток, убедился на ощупь — пиджак.
— Подождем еще, — шепнул. — Гарантий, конечно, нет, но все-таки…
Подождали.
Через пару минут им выбросили и брюки.
Обстоятельно рассмотрели они свои трофеи на свету, когда вернулись в мастерскую. Костюм оказался вполне еще годным, штанины только понизу слегка бахромились. На этикетке значилось, что изготовлен он Заковряженской швейной фабрикой, что несколько разочаровало Витю Шубейкина, предпочитавшего, как уже сказано, гэдээровскую продукцию. Но еще больше был огорчен — да чего там огорчен: потрясен, убит, растоптан! — господин Хендрнк Ван-дер-Мюльде. Он обнаружил, что к траченым этим штанам прицеплены совершенно новенькие подтяжки, сработанные его собственной, всемирно прославленной фирмой. То ли хозяин впопыхах забыл их отцепить, то ли подумал легкомысленно: на кой ему теперь подтяжки, если он все равно штаны выбрасывает — бог знает. Словом, кошмар! Кошмар, конфуз и поругание! Боже, боже! Что это за фантастическая страна, где из окон бросаются лучшими на планете подтяжками, за которые государство платит нефтью, строевым лесом и красной икрой!
Жесткий человек Лёва Кускис не посочувствовал господину Ван-дер-Мюльде, хотя и разделил с ним побратски остатки виски.
— Что, умылся? — тесня Хендрика лешачьей бородой, победно спросил он. — Вот так! Это тебе не Америка твоя занюханная!
Деликатный же Витя Шубейкин пожалел гостя и, чтобы хоть как-то утешить его, подарил господину Ван-дср-Мюльде своего «Горниста».
* * *
Сейчас Витя Шубейкин затевает новый эксперимент: он собрался пройти пешком, с рюкзачком и этюдником, по трассе БАМ — от Усть-Кута до Северо-Байкальска. Я узнал об этом его замысле, когда Витя приходил ко мне за туристскими ботинками (у меня случайно образовалась лишняя пара, которую я как раз намеревался выбросить). До начальной точки маршрута, города Усть-Кута, Витя рассчитывает добраться автостопом, поскольку денег на дорогу у него нет.
Господин Хендрнк Ван-дер-Мюльде продал Витин подарок своему американскому партнеру, знатоку и собирателю авангардистской живописи, за двести тысяч долларов. После этого он окончательно утешился и решил, что с русскими, несмотря на их загадочность, все-таки стоит иметь дело.
Между прочим, в аэропорту Шереметьево, во время таможенного досмотра, «Горниста» у него чуть было не отняли. Таможенники, двое интеллигентных молодых людей, узнав, что он везет произведение искусства, потребовали распаковать картину. «О, это не Рембрандт — попытался успокоить их господин Ван-дер-Мюльде. — Это молодой, безвестный живописец Ху-Бэ-Кин, нe слышали? Ну, разумеется, не слышали. Вряд ли работа представляет какую-нибудь художественную ценность".
— Извините, — уважительно, но твердо ответили таможенники. — Таков порядок.
Проклиная в душе Витин порыв и свою недогадливость (картину можно было «забыть» в отеле), господин Ван-дер-Мюльде принялся распутывать бечевочки, снимать слой за слоем желтую оберточную бумагу. (Витя заботливо спеленал в дорогу свое детище.) Наконец «Горнист» был обнажен.
Две-три секунды таможенники рассматривали картину, затем обменялись понимающими взглядами, и один из них с вежливейшей издевкой заключил:
— Да, это действительно не Рембрандт. Заворачивайте обратно.
Я, видевший работу Вити Шубейкина, согласен с таможенниками: это был, конечно же, не Рембрандт. Это был Питер Брейгель Старший — один к одному.
Директор Художественного фонда Генрих Кашкаедов разделяет мою точку зрения. С одним, правда, уточнением, манера та же, говорит он, да уровень разный — Питер Брейгель Старший в подметки не годится Вите Шубейкину.
ТРУБКА
Одно время, когда еще был молодым и форсистым, курил я трубку. Довольно долго курил, несколько лет. Сначала, знаете ли, поигрывал в этакого маститого писателя, а потом втянулся. У меня даже тогда приличная коллекция образовалась. Незаметно образовалась, постепенно. Некоторые сам покупал (одну аж из Швеции привез, приобрел в Стокгольме, в мелочной лавчонке на последние кроны — не удержался), другие дарили приятели на дни рождения — как закоренелому трубочнику. А иногда случалось и так: закуришь где-нибудь в компании, в гостях, а хозяин увидит — «О, да вы, гляжу, трубку курите! Я, знаете, тоже как-то баловался. Она у меня, между прочим, сохранилась. Вот! — как вы ее находите?» — и покажет какую-нибудь замарашку. Ну, колупнешь ее пальцем, мнение авторитетное выскажешь (а я уже себя знатоком почитал, специалистом) — хозяин расчувствуется и подарит.
Потом коллекцию я разбазарил (суетный век наш не способствует этому неторопливому, «аглицкому» занятию), снова перешел на сигареты, себе оставил парочку «рабочих» трубок — тоже побаловаться иной раз — и все.
Но с одной «коллекционной» очень долго не расставался, хотя и не курил из нее никогда. Только поняв окончательно, что собирателя из меня не получилось и свои «Тринадцать трубок» мне не написать, я завернул её в чистую тряпицу и отвез туда, где взял когда-то.
Берег (и сберег) я трубку не за редкие ее достоинства, не за особенную красоту или древность, а потому, что связана была с ней одна история, пустячная, пожалуй, даже анекдотичная, но круто переменившая жизнь ее владельца, уберегшая его от судьбы то ли героической и жертвенной, то ли злодейской.
Не стану, однако, забегать вперед да философствовать на голом месте. Лучше расскажу по порядку.
В свое время подарил мне эту трубку мой добрый теперь знакомый (а тогда была наша первая с ним встреча) — агроном Виталий Иванович Семипудный. Сидели мы у него дома, я, испросив разрешения, задымил; хозяин — по той самой схеме: «О, да вы трубочку курите! Сейчас я вам кое-что покажу», — порылся в комоде и достал ЕЁ.
Трубка оказалась старинная, то ли голландская, то ли немецкая: маленькая висюлька-носогрейка, с позеленевшим кольцом и дырчатой металлической крышечкой. Бюргерская, словом, такая.
— Знаменитая трубочка, — сказал Виталий Иванович. — Для нашей, конечно, фамилии. Вот если бы не она, неизвестно, как и моя бы жизнь сложилась. Вполне возможно, закончил бы я, вместо сельхозинститута, какой-нибудь там МГИМО, сидел бы сейчас не дома, не на родной земле, а где-нибудь в Колумбии, и не с вами чан распивал, а… с Габриэлем Маркесом, к примеру… А может, и… не приведи господи что!
Принадлежала трубка покойному отцу Виталия Ивановича Ивану Пантелеймоновичу Семипудному, тому досталась в наследство от деда, дед же привез ее будто бы еще с первой империалистической, в качестве трофея.
Но — не в предыстории дело. Виталий Иванович подробной биографией трубки никогда и не интересовался. По случай, связанный с ней, помнил — со слов отца. Наш рассказ, стало быть, пойдет уже как бы из третьих уст — и читателю придется смириться с неизбежными потерями: скажем, с отсутствием документально точного места действия и конкретных исторических дат. Впрочем, это и не столь важно.
Значит, так. Отец Виталия Ивановича был одним из первых стахановцев на селе. Однажды в страду он убрал хлеб с трех тысяч гектаров. Прицепным комбайном! Это была фантастическая производительность. Нынче вон у нас, на теперешней могучей технике, редко когда больше тысячи гектаров убирают — да и то лишь передовые комбайнеры.
Ивану Пантелеймоновичу дали орден Ленина, избрали депутатом Верховного Совета СССР (вместе со знаменитой Пашей Ангелиной они там, между прочим, оказались — в первом созыве) и назначили его заместителем председателя облисполкома. Одним из заместителей. Вот так вот! Скаканул мужик из простых комбайнеров сразу в громадные начальники. Теперь подобное и представить невозможно, хотя, может, кой-кого и не мешало бы пересадить — нет, не с комбайна за руководящий стол, а наоборот. Ну, а тогда были годы отважного выдвиженчества — и не такое еще случалось. Короче, вручили ему бразды: рули, Иван Пантелеймонович, на новом поприще!
Квартиру в городе дали, в новом, только что отстроенном доме, проект которого в тридцать шестом году на Парижской архитектурной выставке высшую награду получил — Гран-при. Там квартирки — закачаешься! И сейчас еще, как посмотришь, зубы от зависти сводит, и в свою панельную малогабаритку улучшенной планировки заходить потом не хочется. По тем же временам — вообще покои! Даже, вообразите себе, предусмотрена была комната для прислуги, сразу за кухней. В кухню, то есть, хозяин мог вовсе не заходить, а только покрикивать: «Маруся! Живо несите щи!»
Жена, Пелагея Карповна, не хотела в город ехать, неделю ревмя ревела: куда же я — без коровы, без поросят, курей?! Но что будешь делать? — не отпускать же мужика одного. Семипудные переехали. Все побросали: огород неубранный, скотину. Свинку, правда, одну взяли. А только и ее вскорости пришлось ликвидировать, как класс, не дожидаясь холодов. Именно что — как класс. Держать-то было где, имелись вокруг дома сараюшки — городушки. Но, во-первых, помотайся-ка в сараюшку к ней с шестого этажа с ведром помоев. Во-вторых, кому пришлось мотаться? — не прежней Поле, а жене зампредисполкома (домработницей Семипудные не сразу обзавелись, а кто они такие — все в доме знали еще до их приезда). Ну, а в-третьнх, не было смысла держать свинку. Какой же смысл, если и свинину, и баранину, и обскую стерлядку, свеженькую, Ивану Пантелеймоновичу приносили прямо на дом. Смысла, значит, не было, а был от свинки один кулацкий душок. И ее ликвидировали.
Прожили они в городе с полгода — и отец понял: не на месте он. Не по нему эта должность. А честнее сказать — он не по должности: головой слаб. Не в том смысле слаб, что ума не хватает, а в том, что грамотешки мало, знаний. Да это бы ладно: грамота — дело наживное, можно и получиться. Он еще другое о себе понял — главное: нет у него настоящих организаторских способностей, умения людьми руководить, обстановку схватывать, просматривать её насквозь и вперед на будущее. На таком-то высоком уровне — нет. Этого еще никто вокруг не успел заметить, а он почувствовал, сам (был, значит, ум-то, природный, не испорченный). И еще он почувствовал: удержаться, конечно, можно. Там, где котелком не довариваешь, взять горлом, кулаком — по столу. И брали — другие, рядом с ним сидящие и даже пониже его.
Но Иван Пантелеймонович решил для себя: надо уходить. Уходить, уходить! Бежать, пока не поздно. Жене Поле так и сообщил о своем решении: «Треба тикаты, жинка. Пропаду тут. Загину». Специально по-хохлацки ворочал, смягчал тревожный разговор шутливостью. Про другое свое соображение — про то, что можно и не пропасть и, наоборот даже, самому судьбы человеческие за вихор схватить, он ей, разумеется, не сказал. И уж тем более не стал исповедоваться: какая это сладкая отрава, какой соблазн — за вихор-то ухватить. Ни к чему, — трезво подумал, — не бабьего это ума дело. Хорошо, что сам понял и вовремя успел тормоза включить. А то и он начал было уже входить во вкус. Нет, кулаком по столу пока не стучал, у него свой способ наметился. Надо, допустим, решить какой-нибудь сложный вопрос, окончательный приговор вынести — Иван Пантелеймонович сейчас трубочку запалит (он ее стал курить сразу после назначения на должность, для авторитета), дымком занавесится, глаз карий ущурит и смотрит на собеседника умненько. Смотрит и помалкивает: дескать, я-то знаю выход из положения, мне он известен, да я хочу, дорогой товарищ, чтобы ты сам! сам его поискал, мне интересно понять — какой ты есть кадр? А собеседник и ерзает под взглядом Ивана Пантелеймоновича, и крутится, и вьется, как червяк на крючке.
Нельзя было про такое — никому, а жене — в первую голову. Бабе, ей ведь только подскажи, только надоумь ее.
Супруге Ивана Пантелеймоновича, однако, не потребовалось ничего подсказывать. Еще полгода назад голосившая по деревне, она прямо-таки мертвой хваткой вцепилась в город: «Нет, Иван, я назад не поеду! Здесь тувалет теплый, вода в кранах, печку топить не надо. Не поеду, и все! Хоть что хочешь со мной делай».
Ой, не договаривала Пелагея Карповна, как и супруг ее, не во всем признавалась мужу. Туалет туалетом и вода в кранах — само собой… А чулочки фильдеперсовые! А лиса рыжая на плечах. А то, что она здесь не та затюканная Поля — в платочке, по самые брови повязанном, с потрескавшимися руками, а всеми уважаемая Пелагея Карповна. И не Пелагея даже, а, на городской лад, Полина. Соседки — тоже разных ответственных работников жены — в рот ей заглядывают, чай у нее отпить за счастье почитают, сама же она ни к кому на чаи не ходит, не набивается — считает ниже своего достоинства. И по квартире у нес теперь бесшумной серой мышкой шмыгает домработница — то ли Нюша, то ли Глаша. А самое главное, она же еще молодая женщина была — и только здесь, в городе, почувствовала: молодая еще! Да, они были тогда не старые. Иван Пантелеймонович, скажем, в том, примерно, возрасте пребывал, в котором нынче начинающие писатели вступают в литературу, а хоккеисты покидают большой спорт. Ну, чуток, разве, постарше.
Так что Семипудные не уехали. Не сумел Иван Пантелеймонович на своем настоять, да и не стал этого делать.
Еще некоторое время они жили в городе. А потом Ивана Пантелеймоновича вызвали в Москву, на какой-то исторический, как теперь говорят, форум. На какой именно, Виталий Иванович не помнил, пропустил как-то мимо ушей, а может, отец и не заострял на этом внимания. Угадывать же, вычислять, сравнивая возраст Ивана Пантелеймоновича с разными этапными событиями, мы не стали: речь-то шла, напомню, всего-навсего о трубке. Во всяком случае, форум был очень представительный. Происходил он где-то чуть ли не в Кремле, и люди на него собрались солидные, ответственные, были даже прославленные на всю страну. Иван Пантелеймонович, к примеру, очутился во время перерыва в одном кружке с известным академиком, был ему представлен, и академик Ивана Пантелеймоновича по плечу похлопал. Его еще не представляли как крупного областного деятеля (как деятель он ничего выдающегося совершить не успел), а как «того самого Семипудного», рванувшего за страду три тысячи гектаров. Вот Ивана Пантелеймоновича и хлопали одобрительно. Академик, между прочим, тоже трубку курил. Только, в отличие от Ивана Пантелеймоновича, который своей трубочки стеснялся, в присутствии людей постарше и поважнее себя за спину ее прятал, академик свою изо рта не выпускал, даже когда разговаривал. Крупный был мужчина, дородный, трубка его величаво плыла над головами окружающих.
Ну-с, покурили они. А тут и звонок — в зал заходить. Иван Пантелеймонович оглянулся — где бы трубочку выколотить? — негде! Кругом сплошной мрамор и позолота. Под ногами — ковры. Он в туалет сунулся — и там все сверкает. Потряс он трубочку аккуратно над белоснежной плевательницей, ногтем ей по затылку пощелкал и сунул в брючный карман. Она туда и булькнула, на дно: штаны в те годы носили не по-теперешнему, в общелк, а просторные, шириною, что называется, в «Черное море».
Значит, управился он и скорей-скорей в зал — чтобы место его случайно кто не занял. Он в шестом ряду сидел, с края, специально такое место укараулил — президиум поближе рассмотреть, вождей народа, старосту всесоюзного.
Сел Иван Пантелеймонович, сосредоточился, блокнотик с карандашом приготовил — мысли очередного оратора записывать. И только начал вникать — как вдруг почувствовал: горит он! Карман, едрит твою в семь, занялся! Дым из него сочится, как из дверей бани по-черному!
Иван Пантелеймонович в панике ворохнулся, да только ворохнуться и успел. Вышагнув откуда-то, похоже, прямо из стены, упали на него два одинаковых человека — стремительно и беззвучно. Один ловко сел на колени, придавив Ивана Пантелеймоновича спиной. Второй навалился сзади и сбоку, обнял за плечи, как друга милого, словно поинтересоваться хотел на ушко: «Ну, как ты тут, Ваня, устроился? Не дует?» А сам, между тем, незаметным приемом заломил ему руки, свел их за спинкой кресла — чтобы Иван Пантелеймонович не мог выхватить из кармана бомбу (или что у него там?) и зафуговать её в президиум.
Иван Пантелеймоновнч задохнулся, как в детстве под "кучен малой". Но боялся и сделать слабое движение, чтобы хоть нос на сторону вывернуть.
Томительно набухали и срывались секунды.
Трубка все сильнее припекала бедро.
Смертники эти героически лежали на Иване Пантелеймоновиче, готовые в любой момент разлететься в клочья.
А взрыва все не было.
Парни выдохнули украдкой, чуть помягчели телом и, подхватив Ивана Пантелеймоновича под руки, буквально вынесли из зала — как ангелы новопреставленную душу. И, не останавливаясь, быстренько-быстренько повлекли куда-то дальше — решительным, падающим шагом.
— Что у вас там? — не разжимая зубов, спросил тот, что справа.
— Тпру, — как на лошадь, сказал Иван Пантелеймонович. — Прруп…
У него отключились ноги, он не успевал переставлять их — чиркал ботинками по ковровым дорожкам. «Покурил! — стучало в голове. — С-сукнн сын!.. Накурился… по ноздри!»
Тот, который спрашивал, свободной рукой на ходу охлопывал его — гасил.
Оттого, видать, что его конвоировали, волокли, как мешок, Иван Пантелеймонович казался себе взаправдашним диверсантом с бомбой в кармане. Такое было ошушенне.
Мелькали под ногами расписные копры, паркет, мраморные ступени, потом — каменные. Все вниз, вниз, в подвалы какие-то. И возник, наконец, коридор — глухой, тускло освещенный, с цементным полом.
«Всё! — сказал себе Иван Пантелеймоновнч. — Вот и всё».
Он знал, куда уводят такими коридорами. Догадывался. Слава богу, сам был немалой шишкой… на ровном месте: имел представление.
Как ни странно, это понимание страшной неотвратимости дальнейшего привело его в себя. Он окреп ногами. И духом. Попросил — движением локтей; пустите, мужики, я сам! Конвоирам передался возникший в нем ток, они выпустили его и даже чуть отодвинулись в стороны (здесь-то, в подвале, куда ему было деваться?). Теперь они уже не вели Ивана Пантелеймоновича, а гнали его, не сбавляя скорости. И он, подчиняясь их напористому шагу, твердо печатал свой, маршировал на полкорпуса впереди.
Промаршировали в небольшую комнату, разделенную глухой тяжелой шторой. Стол там стоял круглый, с газетами и журналами, два жестких стула. Что за шторой — неизвестно. Иван Пантелеймоновнч смекнул: ТО!
«Снимите брюки». — деловито было сказано ему.
Иван Пантелеймоновнч снял — подпрыгивая, наступая на штанины.
Один из «конвоиров» обшарил карманы, вынул трубку, развинтил, выколотил, слазил пальцем вовнутрь, дунул, глянул на просвет в мундштук, вернул Ивану Пантелеймоновичу — развинченную. Второй, не дожидаясь конца осмотра, ушел с брюками за ширму.
Иван Пантелеймонович сидел на стуле, по-сиротски сдвинув колени. Стеснялся. На нем были белые солдатские подштанники с завязочками внизу. Никак он не мог привыкнуть к трусам. Костюм давно уже сшил городской, а с мужицкими исподниками все не расставался. Такой сидел… Ваня деревенский. Каким и был на самом деле. Справа подштанники прогорели насквозь, виднелась через дыру розовая, как у опаленного поросенка, кожа.
«Скорей бы уж, — тоскливо думал Иван Пантелеймонович. — Чего он там столько шарится?.. Нечего там искать». У Ивана Пантелеймоновнча, — он точно помнил, — в брюках, кроме трубки, был только носовой платок — в левом кармане, да еще квитанция — в заднем: он телеграмму домой отправлял — доехал благополучно, разместился там-то. Разве что квитанцию эту расшифровывал товарищ за ширмой?
Напарник ушедшего, проревизовав трубочку, остался здесь, стоял, прислонившись к притолоке, стерег Ивана Пантелеймоновича. Плоские какие-то напряженно-мертвые глаза его устремлены были в ближайшее пространство. На Ивана Пантелеймоновича он не смотрел, но чувствовалось, видел его, постоянно фиксировал — всего: от вихра на макушке до шевелящихся в носках пальцев. Только не живого человека он видел, скрюченного и жалкого (Иван Пантелеймонович содрогнулся внутренне, угадав это), а обезвреженный объект. Неважно, от чего обезвреженный — от бомбы, от трубки ли. Объект! — вот в чем суть. За которым, хоть он и обезврежен, необходимо еще следить, придавливать его поверх головы деревянным взглядом.
Ивану Пантелеймоновичу сделалось вовсе не уютно — как малой букашке на чистой ладони.
Через двадцать минут ему вынесли брюки — целые и отутюженные.
«Надевайте», — сказали.
Иван Пантелеймоновнч влез в штаны (опять у него чего-то руки запрыгали); «конвоиры», или, лучше назвать, телохранители, оглядели его бестрепетно, и одни, сказав: «Позвольте», — коротким движением поправил сбившийся галстук.
Его вернули в тот же вестибюль, усадили на короткую бархатную скамеечку, вежливо порекомендовали сейчас в зал не входить, дождаться перерыва.
Тем и закончился инцидент.
В гостинице Иван Пантелеймонович осмотрел брюки. Следов дыры (там с блюдце выгорело) не было. Что удивительно — но было и следов ремонта. Он уж и наизнанку выворачивал брюки, и чуть не носом проелозил по месту катастрофы — не было следов! Все цвет в цвет — и никаких тебе шовчиков. Может, подменили на новые? Так опять же; где взяли точно такие? Сшили? Уж больно скоро. Разве что у них там, за ширмой, шибко крупный специалист сидел? Стахановец в своем деле? Или даже — двое-трое? По и при таком раскладе одна деталь смущала Ивана Пантелеймоновича. У него на старых брюках, в интересном месте, пуговка имелась приметная, со щербинкой. Он еще пальцем об нее все время царапался. Так вот, пуговица осталась на том же месте. И в ту же сторону щербинкой повернутая. Чудеса!
Эта загадка так поразила Ивана Пантелеймоновича, что он на время, пока находился в Москве, словно бы позабыл про все предшествующее ей. Ну, забыл не забыл, а как-то поблекло оно, стушевалось.
Оказалось, однако, — лишь на время.
Вернувшись домой, Иван Пантелеймонович заболел непонятной болезнью.
Во-первых, он не смог курить трубку. Не вообще не смог, а так, как раньше, и в определенные моменты. Он раскуривал ее, окутывался дымком, собирался уже значительно прищуриться на собеседника — как вдруг чувствовал: не может! Наплывали тягостные видения: как давит его чугунной задницей человек из стены; как тащат его, полуобморочного, вниз по мраморным ступеням, а он ботинками по ним — тук-тук-тук-тук! Вставали перед лицом замороженные глаза этого… у притолоки, росли, заслоняли собой всё и всех… Иван Пантелеймонович слепнул.
Но это была ешё не сама болезнь. Такое-то можно было, наверное, объяснить. И превозмочь.
А вот другое, необъяснимое…
Иван Пантелеймонович сидел в кабинете один, за просторным своим столом. Сидел — ничем ничему. И внезапно начинал уменьшаться. Ощущал: уменьшается. и главное — видел! Руки, лежащие на столешнице, становились ма-а-аленькими, маленькими… и летели, проваливались вместе со столом. А следом, прикованный к рукам, летел вниз, сокращаясь в размерах до зерна, до маковой росинки, весь Иван Пантелеймонович. В тревоге опускал он взгляд ниже, под стол — и видел: крохотные ножки его догоняют проваливающийся пол. И — б-ззззз! — тонко звенело в голове.
«Такой становлюсь — в микроскоп не рассмотришь», — объяснял эти спои состояния Иван Пантелеймонович.
Врачи покрутили его, повертели, пошептались между собой — ничего не установили. Сказали: наверное, это на нервной почве.
Ивана Пантелеймоновича отпустили с должности.
Жена Пелагея Карповна не ревела, страдала по-городскому, интеллигентно — с мокрым полотенцем на голове. Но ничего, оклемалась.
Дома, в деревне, болезнь скоро оставила Ивана Пантелеймоновича Он опять стал работать на комбайне. Работал хорошо, хотя тот свой рекорд ему повторить больше ни разу не удалось.
Одно было неудобно попервости. Трубку он забросил. а от махорки успел отвыкнуть. Курил, поэтому, дорогие папиросы «Казбек» и «Северная Пальмира». Друзья механизаторы называли их «наркомовскими», охотно угощались и за один перекур разоряли Ивана Пантелеймоновича в прах.
По потом была воина — и старшина-танкист Семинудный снова привык к махорке.
Е-ДВА, Е-ЧЕТЫРЕ
Ах, как просто, а вместе изящно и благородно зачинали свои произведения классики!
«Все счастливые семьи похожи друг на друга»…
Или вот еще: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова».
А теперь?.. «Однажды играли в шахматы у зам. начальника управления материально-технического снабжения Карапузина»… Ну, что это такое, ей-богу? Нелепость какая-то. И неправдоподобность. У зам. начальника управления материально-технического снабжения (ху! тяжело-то как) — ив шахматы. Добро бы еще в преферанс.
Но что поделаешь — играли именно в шахматы. Гоняли пятиминутки, с часами. Блицевали. Скромно играли, без конногвардейского шика. И — насухую. В отличие от нарумовской компании, где — вспомним — к утру «шампанское явилось», здесь бокалами не звенели. Хотя выпивка имелась. Стояла на кухне водочка, пивко чешское, закуска к ним соответствующая: балычок, сыр «рокфор». Желающие могли сходить подкрепиться. Желающих, однако, не было: так всех приковала игра. Партнеры сидели, посунувшись друг к другу, напряженные, сосредоточенные, стремительно переставляли фигуры, еще стремительнее включали часы. Такой стоял пулеметный стукоток. И все молчали. Даже ожидавшие своей очереди (их четверо играло).
Один хозяин квартиры Глеб Карапузин позволял себе время от времени балагурить. Но как-то отрешенно, ни к кому не обращаясь. Выборматывал между ходами слова каких-то, похоже, блатных песенок: «Ты думаешь, напал на дикаря… да я тя сделаю культурно, втихаря». И «делал», надо отдать ему должное, чаще, чем другие, побеждал.
И был там среди играющих, то есть среди наблюдающих за игрой, один писатель, Зеленин. Он пообщаться зашел, поболтать на какие-нибудь необязательные темы, расслабиться — после своих одиноких трудов. Они с Карапузиным знакомы были со школьных лет и, несмотря на то, что жизнь распорядилась их судьбами очень уж по-разному, поддерживали отношения. Даже берегли их. Особенно Зеленин. И не потому он дорожил дружбой с Карапузиным. что тот сидел на высоком, «кормовом» месте, нет: Зеленин ни в чем «материально-техническом», кроме пишущей машинки, никогда не нуждался. Просто в квартире приятеля, старого холостяка, всегда можно было за легкой и лихой беседой («Эх, живы будем — не помрем, а помрем — травой взойдем»), отвести душу, снять стресс, отдохнуть, наконец, от «проблемных» разговоров с коллегами-литераторами — всегда однообразных, мучительных и бесплодных. Глеб, несмотря на солидную (и скучную — по мнению Зеленина) должность, был человеком светским, раскованным, и компания у него обычно собиралась для такого времяпровождения подходящая — разношерстная. Писатель кое-кого знал, по именам: Эдик — программист, Сеня — директор плавательного бассейна, Вадим… этот малопопятным для Зеленина делом занимался — сопровождал поезда с контейнерами: две недели катается, три отдыхает.
Сеня, Эдик и Вадим были здесь и сегодня.
По сегодня Зеленину не повезло: нарвался он на этот турнир. Сидят, примагниченные к столу, долбят по кнопкам часов, как дятлы. На него — ноль внимания. Даже, наверное, и не поняли — кто это еще вошел. Вошел и вошел… лишь бы не мешал, не вякал. Прямо фанаты какие-то.
Писатель посидел, посидел — заскучал. Попросил разрешения сыграть одну пятиминутку, испробовать себя в этом скорострельном деле.
Сеня, Эдик и Вадим уставились на него настороженно-мутными взглядами.
Карапузин усмехнулся.
— Ну, садись, — сказал. — Только учти: это тебе не романы сочинять — тут головой думать надо.
Стали играть. Зеленину мешали часы — он забывал выключать их. Приятель, злясь, делал это за него. Свои ответные ходы он наносил (именно наносил) мгновенно, как кошка лапкой — хап!
Зеленин непозволительно долго думал. Дважды, по дилетантскому обыкновению, он попытался переходить. Карапузин, так же мгновенно и молча, вернул его фигуpы обратно.
Дело близилось к финалу, то бишь к эндшпилю. И тут Зеленин увидел, что следующим ходом ставит Карапузину мат. Он не сразу поверил глазам, промедлил какую-то секунду — и уже занес было руку, как вдруг приятель хищно сказал:
— Канут тебе! Флажок упал.
— Как упал? — не понял Зеленин.
— Каком кверху! — рассмеялся приятель — Проиграл ты: время вышло. — И подмигнул: — Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время.
Зеленин расстроился. Что за дурацкая игра! Без одной секунды мат — и ты же проиграл! Догоняшки какие-то. Это получается: ставь фигуры куда попало, шуруй — кто быстрее, а голова вроде и ни при чем.
Он отодвинулся, уступил место Сене. Сам еще какое-то время посидел рядом, понаблюдал за этими… спортивными состязаниями.
Карапузин разок проиграл Эдику, а потом опять пошел щелкать всех подряд. В одной партии у него самого упал флажок, а противник не заметил.
— Флажок-то упал, — услужливо подсказал Зеленин.
— Ты! — вызверился на пего приятель. — Сидишь тут!.. Фрайер Моня. Ему же мат корячился через два хода!
Вот те на! Когда у Зеленина упал флажок, друг не пожалел его. а сам… Ну и ну.
Карапузин, поостыв маленько, сказал:
— Ты, вообще, шел бы на кухню… гроссмейстер закаканный. Водочки выпей. Чайку нам заодно сообразишь. Покрепче.
Писатель и пошел на кухню. Он хорошо ориентировался в квартире приятеля, знал — где что лежит.
А на кухне уже сидел один, тоже, видать, уволенный. Рыжеволосый такой, слегка конопатый и, как показалось вначале Зеленину, очень еще молодой. Сидел — водочку пил. В печальном одиночестве. Зеленин раньше его у приятеля не встречал.
— Здравствуй, — сказал конопатый, — Вова… Я — Boвa.
— Здравствуйте, — ответил Зеленин и тоже назвался. Конопатый, не спрашивая, налил ему водки, горестно шмыгнул носом, пожаловался:
— Восемь партий дунул. Вот же шакальство!
Он, стало быть, горе здесь заливал, проигрыш свой сокрушительный. Да стоило ли уж так-то? Зеленин вон тоже проиграл… одну, правда, только партию, не восемь. Но зато как! — за мгновение до мата.
Выяснилось одно, через минуту буквально, что главное-то горе у незнакомого Вовы другое. Проигрыш — это так, семечки. Судьба у него была поломанная — вся: карьера, личная жизнь…
— Ты кто? — спросил он.
— В смысле? — уточнил Зеленин.
— Ну, работаешь чего?
— Да так… книжки сочиняю, — неохотно сознался Зеленин.
— А-а, писатель, значит! — почему-то недружелюбно произнес конопатый. — Тогда скажи, раз писатель: можно человеку за четыре мешка макового семени жизнь коверкать? Гуманно это?.. В нашем-то обществе.
И, не дожидаясь ответа, принялся излагать свою историю.
Он четыре мешка макового семени украл когда-то. Да не украл — помог сбыть. Завскладом одному помог. Протянул руку помощи. Залежалое было семя, никому не нужное, забытое. А он договорился с какой-то кондитерской — там взяли. (Договорился или указание дал… Что он был тогда за шишка, Вова не уточнил, сказал о себе коротко и просто: «Я торгаш».) Ну вот, помог человеку. И общему делу. Он ведь рассчитывал, что в кондитерской из этого семени рулетов с маком напекут и трудящимся реализуют. А ему за его разворотливость — два года условно. Завскладом — семь лет с конфискацией, а ему — два условно. И пришлось тянуть срок, на «химии». Оттянул, сунулся на прежнее место — хрен да пара кокушек! И вообще — никуда… Хорошо, Глеб помог. — Вова повел головой в сторону комнаты, — воткнул директором рядовом столовки. Это его-то на столовку, а?! Жена, паскуда, ушла, трехкомнатной квартиры не пожалела. Конечно! Директор столовой ей на фиг не нужен — мелкая сошка… «Но что самое обидное! — тут Вова, излагавший все предыдущее ровно и уныло, аж кулаком по столу пристукнул. — Что самое подлое: мак-то этот свиньям скормили! Судья так и сказал: свиньи съели!.. В глаза смеялся, с-сука!»
— Свиньям, а! — с болью повторил Вова. — А ещё молотим: перестройка, перестройка! гласность!.. Вот напишешь ты про такое?
Писатель молчал, не знал, что отвечать. Да и не собирался этого делать. Скучно глядел в тарелку.
Рыжеволосый тоже помолчал. И снова заговорил — не всю еще, как видно, душу вывернул.
— В Америке тюрьмы лучше! — сказал неожиданно. И очень убежденно: будто сам их прошел насквозь.
Зеленин вопросительно вскинул глаза.
— Да-да, лучше, — капнул Вова. — У них посадят опасного преступника в одиночку — и парится он там полностью изолированный. А у нас? Насмотрелся я на этой «химии»… И урки, рецидивисты, и пацаны сопливые — вместе. Buy шестнадцать лет, он бабушку случайно велосипедом переехал, а его — к уркам!
Про бабушку Вове явно понравилось, он повторил со вкусом:
— Представляешь? Он бабушку-старушку великом сшиб, а его — к этим! И они его там образовывают, формируют… Демократия это? порядок? гуманность?.. И про такое ты не напишешь! — заключил он жестко, сделав ударение на «такое».
Зеленин посмотрел на него долгим взглядом. Ч-черт! Карбонарий прямо. Борец за нравственность, за гражданские права. И откуда такой выковырнулся?
— Не напишу, — сказал спокойно.
— Вот! — конопатый ввинтил палец в стол. — А потому, что заелись!
Ответ его, похоже, весьма удовлетворил. Он допил водку и собрался уходить.
Зеленин, выждав пару минут, тоже пошел одеваться.
Вова в прихожей неторопливо влезал в дорогое кожаное пальто. Зеленин потянул с вешалки свое — «на рыбьем меху».
Выглянул из комнаты Карапузин, погрозил конопатому пальцем:
— Княгиня! Карточный должок! Он эрудит был, Глеб Карапузин.
Конопатый достал бумажник, отсчитал сорок рублей — пятерками.
— За восемь партий, — усмехнулся. — Верно? Капитально ты меня прибил сегодня.
— Не горюй! — утешил его Карапузин. — Подтренируешься дома, теорию поштудируешь.
До Зеленина дошло, наконец: они же на деньги играют — по пятерочке партия! Он засуетился:
— Глеб, ты извини, я не при деньгах! — и пошутил неловко. — Автобусными талончиками ты, полагаю, не возьмешь?
— Ладно, старик! — хлопнул его по плечу Карапузин. — С нищих писателей не берем.
Пошутил друг-приятель Глебушка, а получилось точно: нищим выглядел писатель Зеленин рядом с "мелкой сошкой" — полуторатысячным, хромовым, страдающим Вовой.
Они вышли вместе.
Темно было. Порывами налетал из-за угла ветер. Вова поднял воротник. И опять затосковал, заскулил прямо:
— Эх, жизнь!.. Куда пойти? Куда податься?
И топтался на месте, не уходил, будто ждал, что Зеленин вот сейчас нежно обнимет его за плечи и поведет к себе — врачевать израненную душу.
Зеленин не прореагировал. Тоже поднял воротник, буркнул: «Пока», — и пошагал прочь.
И вот, когда шел он, зябко сутулясь, сквозь сырую, ветреную ночь, и стукнула ему в голову эта самая мысль:
Господи! Как же хорошо, как благородно у классиков-то начиналось!., «играли в карты у конногвардейца Нарумова»… В карты! Да еще, наверное, по-крупному.
И компания у конногвардейца, вроде, не шибко положительная собиралась. Герман, скажем… старуху графиню в конце концов уморил. Да и Томский тот же — хлыщ салонный. Шампанское хлестали! — с утра пораньше. А все приличные люди… Тут же! И водку не пьют. И не уморили никого, наоборот даже — сами жертвы невинные (Вовик-то этот). И не в карты режутся — в шахматы играют… А срамотно почему-то, погано — ну, просто вот плюнуть хочется.
Зеленин так и сделал — плюнул.
ТРЕНЕР СУВОРОВ
Поговорим сначала о памяти. Об этой стихийной, расточительной, ненадежной штуке. Да, ненадежной. Один мой старинный друг, поэт, еще в молодые свои годы воскликнул: «До чего ж не надежна ты, память людская, сколько в складках и складах твоих чепухи!» Дескать, всё поперезабудешь к аллаху со временем, а какая-нибудь ерундистика возьмет и врежется — навеки. Ему, кстати, врезались навеки такие вот сведения из школьного учебника географии: «Река Миссисипи ежегодно выносит в море пятьсот миллионов тон ила», А спрашивается — зачем?
Н-да… А может, все как раз наоборот? Может, память наша надежна, мудра, бережлива? По отношению к себе самой бережлива: отбирает и хранит лишь главное, лишь самое необходимое — не казавшееся тебе когда-то ни главным, ни необходимым — и старательно оберегает себя… от чего же оберегает? От пустяков? Да нет, пустяки-то, бывает, крепче другого прочего помнятся, как другу моему — эти миллионы тонн ила. Но и они помнятся каждому свои. Вот он запомнил, ночью подыми — скажет, а я, чтобы привести здесь этот пример, — хоть много раз слышал его стихотворение и глазами читал, — опять вынужден был в книжку заглянуть: сколько там миллионов-то?
И тут, стало быть, загадка.
От чего-то иного, значит, сберегается она, от такого, что тебе, тебе именно, — такому, каков ты есть, каким стал и каким кому-то и для чего-то нужен, — помнить вовсе не надо, не следует. Так, наверное? И если так — все тогда в капризном механизме этом устроено и запрограммировано индивидуально.
Лично у меня память устроена, извиняюсь, хреново. Никчемнушная какая-то, бестолковая, невыгодная. Говорю об этом без кокетства, без желания покрасоваться: вот, мол, я какой! — не от мира сего. Меня самого эта никчемушность памяти частенько раздражает.
Я, например, не помню — никогда не умел запоминать — важные даты, необходимые цифры, мудрые мысли, полезные рецепты (вредные, впрочем, тоже: как, скажем, выгнать преследуемое передовой общественностью зелье без самогонного аппарата и дефицитных дрожжей). Прочту о чем-нибудь подобном или выслушаю — и… в одно ухо влетело, из другого тут же вылетело. Вез шороха и осадка.
То же самое — с людьми. Деятелей исторических не помню: императоров разных (кто, где, когда правил), трибунов, тиранов. Да господи! Нынешнее-то начальство, от самого высокого до непосредственного и близкого, толком не знаю: в смысле кто есть кто, за что конкретно отвечает и к кому из них по какому вопросу толкнуться следует. Хожу из-за этого вечно как дурачок, с вопросительно распахнутым ртом: «Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?» А они, возможно, рядышком, под боком — отцы-то.
Да ладно, за начальство бог простит. Вот что самое обидное и непростительное: правильных, разумных людей, с которыми сводила меня жизнь и от которых мог я почерпнуть много полезного, школьных наставников, в частности, наполовину перезабыл. Если не больше.
Зато хорошо помнятся лица и судьбы разных чудаков блаженных, недотеп, крепко «вывихнутых» на чем-нибудь граждан и даже — прошу простить мне грубое слово — вообще придурков. Отчего это — не могу судить.
Ну, вот… Одним из таких чудаков, из «вывихнутых», как нынче понимаю, был и тренер Суворов, о котором захотелось мне вдруг рассказать. Как говорится — чем богаты…
Впервые увидел я его, когда в нашем горняцком городке, при клубе «Шахтостроитель», начала работать секция бокса. Бокса! — вообразите себе, — не чего-то другого. Гром с ясного неба, цирк с дрессированными слонами, магазин с бесплатными конфетами не потрясли и не восхитили бы нас сильнее, чем открытие такой секции. Окраинные пацаны, изощренные в сражениях улица на улицу и в сражениях этих поочередно изнемогающие, мы воспрянули духом: вот оно, спасение. Теперь нас обучат, как неотразимым ударом бить супостата под дых, в «пятак» и в челюсть! (О том, что «супостат» сам может обучиться этим же приемам, никто, разумеется, не подумал.).
На первое занятие привалило нас, худосочной, заморенной шпаны, человек восемьдесят. Раздетые до трусов, мы стояли, в две шеренги, в длинном, низком бараке — спортзале клуба — готовые на все. Ревниво косили глазом на «вражеские» фланги. Напрягали отсутствующую мускулатуру. Тужились выпятить грудь. Выпячивались, увы, только животы, взращенные на лебеде и капусте.
А перед строем нашим, наскакивая на нас, отскакивая. смешно, петушком, подергиваясь снизу-вверх, бегал маленький сухощавый человечек, страшно похожий на великого полководца Суворова. Даже хохолок у него был точно таком же. (Мы еще не знали, что и фамилия у тренера — Суворов.) Казалось, сейчас человечек выкрикнет что-нибудь такое, вроде: «Пуля — дура, штык — молодец!» — и поведет нас на штурм редутов и бастионов.
И атаку тренер Суворов нас не повел. Он другое испытание устроил — «отборочный экзамен», какому в те времена частенько подвергали новобранцев в секциях бокса. Велев нам рассчитаться на первый-второй, тренер сам надевал перчатки очередным дуэлянтам (перчаток, избитых до белых проплешин, имелось всего две пары) и заставлял их «поработать» несколько минут.
О, это было великолепное двухчасовое побоище! Мы самозабвенно, сладостно валтузили друг дружку. Нашим физиономиям, животам, бокам, испытавшим жесткость голых кулаков, палок и даже кастетов, перчатки были не страшны. Ерунда, щекотка. Все равно, что подушками драться.
Непонятно вот только было — зачем тренеру Суворову понадобилось разыгрывать эту баталию? По окончании-то ее он объявил, что принимаются в секцию все.
Все, конечно, не остались. После праздничного экзамена начались тренировки, изнурительная будничная работа, скучная, однообразная — и пошел отсев. Еще и потому потекли пацаны из клуба, что тренер Суворов тогда же, на первом занятии, предупредил строжайше: применять бокс в уличной драке нельзя. Это нечестно, постыдно и — вообще… приравнивается к холодному оружию, могут дать срок.
Но первую потерю новообразованная секция понесла в тот же день. Потерей этой был я.
Тренер меня обидел. Когда мы уже налупцевались досыта, он придумал еще одно упражнение — на проверку силы. С потолка зала свисали гимнастические кольца — единственный пока спортинвентарь, не считая облысевших перчаток. Тренер заставил каждого ухватиться за них и подтянуться — сколько сможет. Наступила моя очередь. Я повис на кольцах, как государев ослушник на дыбе. Проступили ребра сквозь синюшную кожу. Выперла над животом какая-то острая косточка (раньше я ее не прощупывал). Тренер Суворов подскочил ко мне козликом, больно щелкнул по этой косточке и высоким, дребезжащим голосом крикнул:
— Ишь какие петухи к нам жалуют!
Кругом засмеялись.
«Сам ты петух!» — зло подумал я, спрыгнул на пол, сгреб в охапку шмотки, сложенные кучкой у стены, и ушел… на полгода.
Когда я вновь переступил порог спортзала, то увидел его сильно преображенным. Новенькая «шведская стенка» закрывала унылую штукатурку. Стояла отшлифованная уже руками и задницами «кобыла». Горка «матов» громоздилась за ней. И даже был растянут посреди зала ринг.
Удивительно! — тренер Суворов узнал меня.
— Ты чего сбежал тот раз? — спросил он.
— Да так… — замялся я. — Мать ругалась.
— А теперь? Теперь можешь? Я кивнул.
— Ну, давай, давай, давай — раздевайся! — заторопил тренер.
Опять он устроил мне экзамен (потом я узнал, что для него это был необходимый ритуал: подвергать всех новичков боевому крещению). Но теперь проверял меня «на вшивость» паренек уже поднатасканный — поджарый, мускулистый, проворный. Ох, и погонял меня этот дурачок, обрадовавшийся на бесплатное, из угла в угол. "Bcё! Не примут!" — тоскливо думал я, не успевая заслоняться от его хлестких колотушек.
Однако тренер Суворов меня неожиданно похвалил: — Молодец! Держишь удар. Я еще тогда заметил, что ты способный.
Mue оставалось лишь благодарно хлюпнуть расквашенным носом.
Обнаружилось, что зачуханный наш клуб «Шахтостроитель» превратился за эти полгода прямо-таки в спортивную фабрику. Кроме бокса, работали секции: лыжная, легкоатлетическая, гимнастическая и — неслыханное дело! — секций фехтования. Последняя открылась только что. Суворов раздобыл где-то четыре ржавых эспадрона — и тут же кликнул охотников в мушкетеры. Охотники сыскались: многие из нас посещали не одну секцию.
Понятно, всеми секциями руководил неутомимый, семижильный тренер Суворов. За одну зарплату, без полставок, надбавок и премиальных. Без выходных дней и отгулов — само собой. Он и ночевал здесь, в маленькой комнатушке, служившей раздевалкой и одновременно складом спортинвентаря. Там, в уголке. Суворов оборудовал себе ложе из двух спортивных «матов». Третьим он укрывался. Где-то, на далекой 4-й Кирпичной улице, существовала у него тетка, у которой Суворов был прописан и которую навещал раз в неделю, да по красным праздникам.
И еще деталь, немаловажная: почти во всех командах — лыжников, гимнастов, легкоатлетов — Суворов был, так сказать, играющим тренером, лидером и капитаном. Только на ринге не выступал, объясняя это давним повреждением головы. «Травма, — произносил он редкостное тогда слово. И добавлял более понятное всем в послевоенные годы: — Контузия».
Вот под руководством такого замечательного, или ненормального (не знаю, как точнее сказать), человека и начиналась моя спортивная биография. Теперь существует модное словечко «фанат». Тогда мы его не знали. «Энтузиаст» — слишком высоко и красиво, к тому же подразумевает определенную сознательность ради святой конечной цели. «Одержимый» — самое подходящее. А еще лучше — «ушибленный».
Откуда он к нам свалился, мы не знали. Скорее всего — принесло послевоенной демобилизационной волной. Обезлюдевший за войну тыловой наш город тогда быстро наполнялся новыми жителями. В том числе и спортсменами, преимущественно, почему-то, футболистами, парнями (нам казалось — дядьками) довоенной выучки. Только у нас в городке (а по сути он был всего лишь заречным районом самого города) насчитывалось четыре команды: «Шахтостроитель» — естественно, «Ферросплавщик», просто «Строитель» и «Железнодорожник». Высококлассные команды! Теперь вон болтается где-то в классе «Б», на задворках его единственная… я даже название ее затрудняюсь вспомнить — не то «Угольщик», не то «Забойщик». А тогда! Какие матчи происходили! Какие блистали звезды! Помню вратаря Беню, гуттаперчевого еврея, человека без костей, бравшего любой мяч. «Второй Хомич», — называли его. Поклонники лезли в драку: «Первый! Это Хомич ваш второй!» Помню однорукого защитника, стокилограммового чистильщика Скалу — грозу форвардов. Не знаю, фамилия это была или кличка, но волны нападения разбивались об него буквально как о скалу.
Одним из таких пришельцев был, как видно, и наш тренер.
Любили мы Суворова? Уважали? Не скажу, чтобы очень. Хотя должны были — по идее. Ведь в рекордные сроки он превращал нас, доходяг, в атлетов, бледных червяков — в манильскне канаты. Но… слишком прост был тренер, доступен, демократичен, без суровости и загадки, которые порождают почтительный трепет. Он был одним из нас. Первым, но — одним из. Первенство же его принималось как должное, без зависти и восхищения — тренер ведь. Потрепаться любил Суворов, по хвастаться былыми спортивными подвигами. Однако и подвиги его не вызывали у нас восхищения, возможно, потому, что обязательно содержалась в каждом из них какая-то нелепица. Вот, например: бежал он где-то когда-то, на каком-то первенстве Сибири и Дальнего Востока восемнадцать километров. И какие-то паразиты-соперники заделали ему «козу»: всем участникам утром — шоколад, а ему — свиной шницель с капустой. «От такой нишцелюга!» — Суворов складывал вместе две ладошки. Ну, его на дистанции и скололо. Вдобавок, ему мазь лыжную подсунули не ту. «Я же не скользил! — возмущенно дребезжал тренер. — Бегом бежал! Как лось!» «Как лось» — слышать из уст миниатюрного Суворова было забавно. Главный наш остряк Лешка Пашкевич запустил после этого рассказа шутку — как бы от имени тренера: «И тут врываюсь я, а за мной — ещё два таких же амбала!»
— А все-таки я их, гадов, тогда уделал! — хорохорился Суворов. — Всех!.. Снял кандидата в мастера, как ненки с молока!
Мы не верили. Хотя знали: может. И такие вот, не украшающие его, байки мог рассказывать о себе тренер Суворов.
Шел он как-то к тетке. Ночью. А это у черта на куличках. Там через пустырь надо топать, а потом еще по старой, брошенной, узкоколейке километра три. И перевстретили его двое мазуриков. «Здоровые бугаи!» — снял глазами Суворов. Ну. как положено: «Дай закурить». «Не курю», — это тренер им. «Ах, не куришь, падла! Тогда раздевайся!»
Ну?! — придвигались мы, ожидая услышать эффектную концовку: как уложил он этих мордоворотов крест-накрест.
— Убежал! — радостно сообщал Суворов. — Так рванул — кустики замелькали!
— Не догнали, значит? — не скрывая ехидства, спрашивали мы. Обидно было знать, что тренер наш петлял меж кутов, как трусливый заяц.
— Меня?! — Суворов не замечал издевки, горделиво вскидывая носик, — Попробуй меня догони!
Вот это точно: догнать его было мудрено. Да просто невозможно. Нa километровой дистанции он легко уходил от лидирующей группы на полкруга. На километровой всего! — и на полкруга.
А знаменитый его финиш на первенстве города по лыжам.
Наша команда проигрывала тогда эстафету четыре по десять километров. Проигрывала капитально. Суворов ушел на последний этап лишь пятым. Мы — трое бездарно профукавших предыдущие этапы — ждали его на финише. Не его, увы! Дожидались конца соревнований и собственного позора. И увидели… тренера. Это было невероятно! Метров за тридцать до финиша он вынырнул вдруг из-за спины двух рослых, идущих рядом, ноздря в ноздрю, лыжников. Боже, как он шел! Каким смертельным накатом! Он рвал себя, распластываясь чуть не в «шпагат». Палки взвивались выше головы. Слезы и сопли летели с воспаленного чела. Ослепшие глаза леденели жуткими бельмами…
И он вырвал победу!
На последнем метре!
Так и вонзился в нас, кинувшихся ему навстречу.
…И вовсе он не был трусом. Один случай — печальный для команды — убедил нас в этом.
Лешка Пашкевич нарушил боксерскую заповедь — ударил на улице человека. Паскудно ударил, ни за что, на спор. Лешку дружки его приблатненные все подначивали: «Вот ты боксер, да? Разрядник. А можешь одним ударом мужика свалить? Так — чтобы с копыт? Или ты «по очкам» только умеешь? В перчаточках. Кто кого перетыкает». Лешка отшучивался: «Можно попробовать. Есть добровольцы? Ну, кто смелый? Становись», Но однажды они его дотравили. Выпивши были все. И Лешка тоже. Потому, наверное, и заелся. «Одной левой! — заносчиво сказал. — На спор!.. Кладу первого встречного».
Первым встречным оказался высокий молодой мужчина. Прилично одетый. Шел под руку с красивой девушкой. Девушка в этой ситуации не предусматривалась, но уговор был жесткий: первого встречного!
Лешка, едва доходивший мужчине до плеча, слегка придержал его правой рукой и нанес короткий, неуловимый удар слева. Мужчина как стоял, так и сел на «пятую точку» — будто из-под него ноги вышибли.
И все бы еще ничего: ну, схулиганил разок. Они ведь дальше пошли, пальцем его больше не тронули. Мужчина даже и не понял, что с ним произошло. Да как бы он понял, когда дружки и те не уследили момент удара. Видели, как Лешка мужчину правой рукой за грудь тронул, остановил, — и все. И тот уже сидит.
Но Леху признала девушка — видела его на каких-то соревнованиях — и догадалась, что это был за фокус. Как назло, девушка знала Суворова. Или — кого-то из его знакомых. Не суть важно. Важно, что дело получило огласку — и было общее собрание секции: суд над Лешкой.
Тренер, сгорбившись, сидел на табуретке. Мы, окружив его кольцом, молча болели за Лешку. Пашкевич был талант, кумир команды, душа ее и арматура. Сочувствовали и Суворову: чего уж так убиваться? Ну, дурак Лешка, дуракам поддался. Но ведь не смертельный же случай. И мужчина тот через пять минут проморгался.
— Правда, Леша? — тоненько спросил тренер. — Только честно.
— Ну, правда, правда! — нервно дернулся Лешка. — Ну, что теперь?!
Тренер вдруг заплакал. Горько так заплакал, плечи у него затряслись, как у обиженного мальчишки.
Мы переглянулись: во псих! И перемигнулись: пронесло! Раз плачет — значит, простит, выручит нашу Первую перчатку, отвоюет.
Суворов распрямил плечи, всей пятерней утер мокрое лицо, покачался на табуретке, словно в раздумье, и пустим голосом произнес:
— Ты уйдешь, Леша.
Сказал — как приговор огласил, окончательный и обжалованию не подлежащий: «Ты умрешь, Леша».
Лешка сузил глаза, резко, глубоко засунул руки в карманы.
— Сука ты после этого! — выдохнул. — И где ты, сука, найдешь такого мухача? Еще покланяешься походишь! Да поздно будет.
Он знал себе цену.
Через месяц Пашкевич уже числился в команде металлургического института. Он в этом году закончил школу, собирался податься в пединститут, на филфак, поскольку ни шиша не петрил в математике и физике, но у педиков не было команды (да там, вообще, одни девчонки учились), а у металлургов была. Лешку оторвали туда с руками. Вступительные экзамены он сдал досрочно и, что называется, на фуфло. Просто обошел экзаменаторов с зачетным листом, засвидетельствовал личное почтение.
А еще через полгода они с тренером встретились на ринге. У нас, действительно, не было такого «мухача», как Лешка, вообще никакого не было — и Суворов поставил себя. Глупо это было, конечно. Ну, получили бы одну «баранку», ну проиграли бы, допустим, из-за этого (а мы все равно в тот раз проиграли, заняли только второе командное место)…
Перед соревнованиями Суворов маленько потренировался, провел несколько спаррингов, выбирая в партнеры тех из нас, кто поискуснее. Просил, извиняясь: «По котелку только не целься специально».
…Два раунда Лешка избивал Суворова — зло, настырно, сериями, не давая ему секундной передышки. Нам, посвященным, стыдно было на это смотреть и больно. Больно за тренера, стыдно за бывшего своего товарища: ведь не кого-нибудь — учителя! — давил Лешка беспощадно и брезгливо, как клопа.
Тренер кружил по рингу, зажатый в угол — уходил в глухую защиту, вязал Лешку, клинчевал.
Зал ревел.
Я секундировал Суворову в том бою и слышал, как он в перерывах, хватая воздух, шептал: «Только бы не за преимущество! Не за преимущество!..»
Тогда я не понял значения этих слов. Потому, наверное, что не углядел того, что углядели судьи и чего — боялся Суворов — они могли не углядеть: слепые Лешкины серии были эффектны, но не эффективны. Он лупил по перчаткам, по ловко подставляемым плечам, локтям. «Чистые» удары не проходили. Я, наблюдавший бой небеспристрастными глазами, этого, повторяю, не заметил.
Прозвучал гонг на третий раунд — и Лешка кинулся добивать Суворова. Но вдруг начал натыкаться на встречные удары — точные, жесткие, вразрез. От изумления, видать: «Как? Еще живой?!» — он смешался, на какое-то время потерял себя… И тогда пошли серии Суворова. Началась его изящная игра, которой учил он своего любимца, надежду свою Лешу Пашкевича.
Тренер дотюкал Лешку, победил по очкам.
После боя он зашел к нему в раздевалку. Лешка лежал на топчане, отвернувшись к стенке, переживал.
— Пашкевич! — остановившись в дверях, крикнул тренер. — Уходите из спорта!
— Иди ты в ним! — заорал вскочивший Лешка. — Полоумный! Кретин! Недоносок!
Зачем понадобилось все это Суворову? Неприятный этот, мелодраматический спектакль? Кому хотел он преподнести урок? Лешке? Всем нам? Себя утверждал, принципы свои отстаивал?.. Вроде не в его это было характере — себя доказывать, хлопотать об авторитете. Принципы?.. Ну да, положим, он был — настоящий. Но ведь Суворов и других своих правил — не обязательных, подчас дурацких — держался с тем же фанатизмом.
Единственный раз в жизни я был нокаутирован — по милости тренера, из-за его «принципов». Причем не на ринге нокаутирован, не в ответственном каком-нибудь поединке. Пришел к нам как-то, попросил записать его в секцию мрачный парень по прозвищу Косяк. Косяк потому, что смотрел он на белый свет одним глазом, второй был от рождения закрыт бельмом. Я это знал точно — мы на одной улице жили. Как знал и то, зачем Косяк пожаловал. Он был самым сильным в нашем «околотке», просто чудовищно крепким, долгие годы держал «шишку», а тут мы подросли, да еще спортсменами заделались, ходим в маечках, мускулами поигрываем. И Косяк забеспокоился. У него, кроме дикой силищи, других преимуществ не было — вот он и надумал малость получиться.
Любой нормальный тренер вежливо завернул бы Косяка обратно. В крайнем случае — на другой вид спорта, на штангу, к примеру, переагитировал. Ведь нет же у одноглазого боксера будущего, быть не может — пусть он хоть Илья Муромец по физическим данным.
Суворов, однако, решил подвергнуть Косяка традиционному испытанию. Да хрен бы с тобой! Хочешь одноглазого — бери. Испытывать-то зачем? Чего испытывать? На раздетого Косяка жутко было смотреть.
Роль экзаменующего на этот раз выпала мне.
Косяк, зажмурив последний глаз, лупцевал воздух. Руки его двигались мощно и грозно, как паровозные поршни. Я финтил, уклонялся, нырял. Технично «щупал» Косяка то справа, то слева — щадил. Можно было и посильнее бить — легкие мои шлепки отскакивали от чугунной башки Косяка.
А тренер прыгал вокруг и жужжал, как надоедливая муха:
— Проведи нижний!.. Проведи нижний!
Нижние, апперкоты, были его слабостью. А у меня они шли плоховато. И тренер, значит, пользуясь подходящим случаем (бой-то с новичком, понарошечный), натаскивал и меня тоже.
Короче, жужжал он жужжал, осточертел мне, и я — «Да подавись ты!» — решил провести нижний. Начал готовить его, перегруппировываться — и пропустил прямой в солнечное сплетение.
Меня давно, в детстве, лошадь лягала, слава богу, не подкованная — вот такое же было ощущение… У меня прервалось дыхание, и я почему-то еще оглох.
Вокруг неслышно кричали открытыми ртами.
Отбросивший меня в сторону Косяк пер мимо и вперед, как проходческий комбайн.
А я медленно опускался на кисельных ногах. Опускался помирать.
Ребята подхватили меня, повели, на ходу делая искусственное дыхание: резко — вверх руки! вниз!.. вверх! вниз!
По-моему, я минуты через три только смог сделать первый слабый вдох.
И не помню, куда девался Косяк. Осталось такое впечатление, что он прошиб стенку спортзала и упер дальше — сметать окрестные сараюшки.
Ну, да ладно. Это — случай. Анекдот. И, в конце концов, со мной только.
Другое не могу я простить тренеру (долго не мог, тогда) — Альку Бабаяна.
Алька Бабаян был моим соклассником и другом. Не по летам толстый, могутный, он подтрунивал над нами, спортсменами, истязавшими себя в бесконечных тренировках: «Давай-давай! Закаляйся, как сталь!» Или, где-нибудь на пляже, сгибал руку, похожую на бревно, и приглашал: «Ну, закаленные! Налетай! Можно по двое». «Да ну тебя!» — пятились мы.
Особенно возросла слава Альки после того, как он победил заезжего циркового силача-чемпиона. Цирк работал на рыночной площади, в балагане. Чемпион, после того, как переборол всех соперников, поднял все гири и удержал на себе пирамиду из двенадцати человек, стал выкликать охотников из публики — помериться с ним силою. Он знал, конечно, заранее, что таковых не сыщется. А Бабаян взял да вышел. И даже не постеснялся раздеться до трусов, под смех и свист. Он, вообще, отважный был малый, до нахальства.
Они потоптались, сомкнувшись лбами, и чемпион красивым приемом бросил Альку на карачки. Он, может, хотел сразу на лопатки, да не получилось — очень тяжел был Алька. Даже для такого атлета. Пришлось Бабаяну продолжить борьбу в партере. Циркач не торопился. Походил вокруг Альки, уважительно, на публику, поокруглял глаза: каков, мол, богатырь! Потом взял его за бока, покачал, как бы взвешивая, и рванул. Да так сильно, всем телом, рванул, что руки у него соскользнули и он сам брякнулся навзничь. И тут Алька с неожиданным проворством перекатился на него, всей тушей придавил к ковру. Чистое было туше! Чемпион только ножками маленько подрыгал.
Так вот, однажды Алька, от нечего делать, забрел к нам в спортзал, в раздевалку. А мы там как раз, после тренировки — не наломались еще! — толкали пудовую гирю. На спор — кто и сколько раз выжмет. Алька понаблюдал, поиздевался над слабаками, потом сам захотел попробовать: «Ну-ка, дайте я». Мы уважительно расступились. Алька нагнулся, ухватил гирю, попытался оторвать от пола… и не смог. Мы сначала подумали: придуривается. Но когда Алька, со второй попытки, мучительно перекосившись лицом, поднял гирю до щиколотки — его аж в сторону качнуло.
— Что такое? — пробормотал он растерянно. — Что это я, а?
Мы-то сразу поняли — что. Не из мускулов сложен был слоноподобный наш богатырь, не из мяса даже — из рыхлого, нездорового жира.
И Алька догадался. Он побледнел, обвел нас виноватым взглядом:
— Я больной, наверное, пацаны?
Мы промолчали. Потому, что и сами так подумали.
Алька переполошился. На другой же день он пришел к тренеру Суворову — проситься в какую-нибудь секцию. В любую. И скорее. Лишь бы не остаться таким… таким калекой.
Суворов решил мудро: в легкоатлетическую, общеобразовательную, так сказать. Для начала. Пусть побегает, порастрясет лишний жирок. А там видно будет.
Только на четыре занятия успел сходить Алька.
Свалился нам на головы, тренеру Суворову — в первую очередь, какой-то районный спортивный праздник, устроенный в честь чего-то — и не помню теперь. Про ходить он должен был в парке культуры, и программа затевалась разнообразная: кросс — по аллеям, эстафета, бег с препятствиями и прочее.
Вдруг оказалось: некого поставить на самую длинную и скучную дистанцию, на три километра. Кто-то из стаеров болен, кто-то из города укатил — время-то каникулярное. Ай-ай-ай!
Тренер вспомнил; а вот же Бабаян! Прошлепает потихоньку, ему полезно.
Я попытался отговорить его, предвидя какой-нибудь конфуз: «Подумай — может, не надо?» (Уже числился я ветераном, и с тренером мы давно были на «ты»). Суворов уперся: «Тот не спортсмен, кто оконфузиться боится! Ты боялся?.. Ну, вот. И я не боялся. И вообще: трудно в ученье — легко в бою!» Прямо как его великий однофамилец заговорил. А для Бабаяна, мол, это будет заодно и боевое крещение.
Черт бы побрал его с этой идеей непременных боевых крещений!
Алька бежал.
Зрелище было карикатурное.
Пароду в парк привалило много. Толпились вдоль аллей, подбадривали спортсменов. Про Альку сначала подумали: балуется толстяк, дурит. Потом догадались: а-а, это номер такой, развлекательный! Он — вроде как клоун в цирке. Соревнования-то не настоящие, показательные.
Но Алька все бежал и бежал, круг за кругом. Его обгоняли — дважды, трижды. В конце концов он остался на дистанции одни. Его уже шатало. Он бежал, задыхаясь, хрипя, весь облитый потом, словно выскочил из-под ливневой тучи — а сияло июльское солнце.
И тогда зрители поняли: всерьез старается!
Поднялся хохот.
— Давай, пузо, жми! — кричали Альке. — Не жалей лаптей — дярёвня близко!
Люди постарше сочувствовали ему:
— Парень, да сойди ты! Брось! Зачем уродуешься?!
Какой-то поддавший дедок, с медалями, навешанными прямо на ситцевую рубашку, даже погнался за ним, бренча наградами:
— Сынок! Стой!.. Ты что это, а?.. Ну их к такой матери! Остановись!
Алька не остановился. Он добежал, пересек финишную черту и свернул на траву, невидяще толкая людей.
Мы с товарищем подхватили его с двух сторон: «Походи, Алька, походи! Не садись!»
Не смогли удержать. Он буквально вытек из наших рук сырым, тяжелым тестом.
Его начало выворачивать — мучительно, тяжко, зеленым.
…Я искал потом тренера. Не знаю, что бы я с ним сделал. И тогда не знал. Только горела душа: найти, гада! Вот же гад! Ну и гад!..
Не нашел. Затерялся Суворов где-то среди спортивного и прочего начальства.
А на другой день не с кем оказалось выяснять отношения: сгорел наш тренер в одночасье.
Заявилась какая-то комиссия (мы подумали сначала: разбирать случай с Бабаяном), походила, посвистала… обнаружила в спортзале — на стене, над входом — портрет врага народа и пособника иностранного капитала Берии, уже неделю как разоблаченного.
Как он попал туда? Кто его водрузил, когда, зачем? И главное — почему его-то? Ну, хоть бы общество наше было динамовское…
Бедный тренер Суворов, ничего не читавший, кроме спортивной хроники, знать не знал, кто этот с усиками. Висит себе и висит. Да он его, пожалуй, и не видел. Ведь для этого же надо было, войдя в зал, обернуться и задрать голову. А когда было Суворову голову задирать?
Тренер страшно перепугался. Сам сбегал за длинной пожарной лестницей, сваренной из тонких металлических труб (спортзал у нас теперь был высокий и просторный — в новом Дворце шахтостроителей); сам, как матрос по вантам, кинулся по ней вверх — исправлять политическую ошибку.
Лестница завибрировала от частых ударов его ног, сломилась посредине, быстро поползла вниз. Суворов только ручками успел всплеснуть возле усов врага народа. Хотел захватить его, но сверзился один. Вышиб два пальца на левой руке и сломал ключицу… На роду ему, что ли, такое было написано: попадать из нелепости в нелепость?
Травмы не спасли тренера Суворова. Он был освобожден в тот же день. И понятно: не мог столь близорукий, аполитичный человек воспитывать подрастающую спортивную смену. Не имел права.
Суворов ушел на стройку — машинистом башенного крана. И это он, оказывается, умел.
Спортивная же работа стала хиреть. Разваливались секции. Разбегались по другим командам способные ребята.
Я не был свидетелем этого печального заката, поскольку уехал на учебу в другой город.
УТРО ТУМАННОЕ
Разбудили меня громкие голоса.
Было очень рано: мать еще не затопила печку, только — судя по характерному звуку — колола лучины на растопку. И громко с кем-то разговаривала.
— Да ты, может, не дослышал чего?! С глуху-то… прости меня господи. — Это она добавила потише, с досадой. — Может, говорю, про другого кого передавали — не про него?!
— Как так не про него? Л про кого же? — Я узнал голос деда Стукалина и понял, отчего мать разговаривает чуть не на крике: Стукалин глухой был, как валенок. — Скажешь тоже — не про него. Что уж я — совсем из ума выжил. Да я и не один слухал, с Семеновной. Семеновиа-то зашлась сразу, задвохнулась. Кой-как отходились. Лежит вон пластом.
— Чего она так-то? — насмешливо спросила мать (она не долюбливала заполошную Семеновну). — Еще, может, враки — а уж она пластом.
— Но! Враки! — возразил дед. — Радива врать не станет. На два раза повторили… Ах, мать твою совсем! Это что жа теперь? Как жа? Кого теперь — наместо его?
— Тебя посадят! — сказала мать.
— Куды посодют? — испугался дед. — Чего буровишь? За что меня садить?
— Ну не посадят — поставят. Или не совладаешь?
— Тьфу! — осерчал дед. — Мелешь чего зря! Гляди — домелешься.
— А я не боюсь! — храбро сказала мать, со звоном отколов лучину. — По мне что ни поп, то батька. Хуже не станет, а лучше не надо.
— Врачи это его ухайдакали, — помолчав, сказал дед Стукалнн. — Они, сукины дети, больше некому. Про врачей-то, про отравителей, писали — помнишь?
— Да их же, вроде, пересажали.
— Ну-у, какой-нибудь остался, — предположил дед. — Затаился, вражина. Так-то с чего бы? По годам ему жить бы еще да жить. Он с какого был?
— Я его не крестила! — сказала мать, громыхнув печной дверцей. Она что-то все больше раздражалась.
Дед вдруг охнул:
— А ну, как война опять!
— Типун тебе на язык, черту старому! — заругалась мать.
Еще о чем-то они говорили — я больше не вслушивался.
После первых же фраз я сообразил, о чем речь, — ОН УМЕР!
Ну да, вчера было сообщение в газете: «Внезапное кровоизлияние в мозг… паралич… потеря сознания и речи». А сегодня, значит, по радио передали. О нем — о ком же еще… Дед слышал. И Семеновна… Умер. Это про него они говорят… Умер… умер. Я все повторял это слово — тупо, машинально, — и продолжал лежать, неприятно пораженный тем, что ничего не происходит.
Сколько раз с каким-то жутким восторгом я рисовал себе ЭТО. Ударит страшный миг — и… небо, что ли, расколется, полетит оттуда грозный и скорбный звук, вздрогнет воздух, колыхнутся трапы и деревья, и тысячи тысяч искаженных ужасом лиц упадут в распахнутые ладони.
И вот миг ударил. И — ни-че-го. Стоит, как стояла, наша избушка, маленькое оконце плотно занавешено туманом — словно прилепил кто-то снаружи застиранную простыню, мать — слышно — вздувает огонь в печи, дед Стукалин, шаркая валенками уже на пороге, заканчивает какую-то нелепую фразу: «… водка-то, конечно, не прокиснет, куды ей деваться, а вот стюдень».
Надо было встать, выйти к матери, в кухню. Я боялся. Боялся показать ей свое спокойное лицо. И лежал, законно пользуясь уловкой: вчера, на тренировке, я сильно потянул ногу, с вечера еще сказал матери, что в школу не пойду, — вот она меня и не будила… Но что же это со мной?! Почему у меня не лопается сердце, почему я не корчусь на кровати, не рыдаю, не рву зубами подушку?
Встать все-таки пришлось.
Мать подняла голову — она чистила над ведром картошку:
— Разбудили тебя? Я кивнул.
— Слышал, значит, все. — Теперь, когда дед Стукалин ушел, храбриться ей было не перед кем, в глазах ее была растерянность. — Что же будет, сынка?.. Ох, грехи наши тяжкие. — И снова, без перехода, ожесточилась: резко кинула в ведро недочищенную картофелину: — Только, вроде, жить начали! Хочешь на гору, а черт за ногу!
Она длинно вздохнула, вынула картофелину обратно:
— Стукалины-то свадьбу сегодня играть собирались. Федора опять дед женит. На Зинке Кусковой. А какая же теперь свадьба… Дед-то приходил, спрашивал — нельзя, мол, к нам в погреб кой-чего перетаскать. Там котлет одних два ведра навертели, холодца таз. Пропадет все.
Я проковылял в сенцы, разыскал там среди лопат и грабель старый костыль. В прошлом году донимали меня чирьи, избили все ноги так, что я всерьез охрамел, и Федор Стукалин подарил мне, давно ставшую ему не нужной, с фронта еще привезенную «подпорку».
— Пойдешь все же? — увидев меня с костылем, спросила мать. — И не емши… Давай хоть оладий тебе заверну — в портфель. Только как ты его понесешь-то, хромой?
— Мать, какой сегодня портфель… Какие уроки.
— Ну да, ну да, — закивала она. Я сбежал из дома.
Стыд крохотным червячком засел под сердцем — точил, сосал. Стыдно было за фразу эту, сказанную матери с неискренней горечью: «какой портфель… какие уроки». Ведь не было горечи в моей душе. Ни горечи, ни отчаяния. Мне даже тревожно сделалось от этой своей бесчувственности — словно от внезапного ощущения приближающейся болезни. Или — уже наступившей? Может, я и правда заболел? Может, это болезнь такая?
Но ведь я был, был здоров. Еще вчера, когда читал сообщение в газете. И позавчера. И раньше, давно.
А как я был здоров в тот памятный день, в день пятилетия Победы. Тяжко памятный для меня…
Откуда-то, не помню, я прибежал вечером домой и застал остатки праздничной компании. За столом сидели только отец да сосед наш — дядя Петя Сорокин.
У них еще оставалось в бутылочке, на дне. Разгоряченный вином отец вспоминал какой-то фронтовой случай, наваливаясь грудью на стол, кричал в лицо задремывавшему дяде Пете:
— Сидим мы в грязи, в болоте — по ноздри! А он режет, сучка! Так режет — головы не высунуть! А мы сидим вторые сутки — мокрые, голодные, кишки свело! Ну, и не вытерпели. Как повыскакивали все — без команды! Как рванули: в бога душу мать!
Я ослеп — словно в темную яму провалился. Что он говорит! Ведь они должны были кричать ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА! Ведь все же так кричали!
Я убежал в огород, в дальний конец его, упал там между грядок и долго, горько плакал от стыда. А потом еще несколько дней не мог поднять глаз на отца. Он казался мне каким-то… дезертиром прямо, чуть ли не врагом народа.
…Туман был на улице. Такой плотный, что его не пробивали даже звуки. А может, и вовсе не было никаких звуков. Наверное, так. Наверное, все притихло, прижухнулось на окраинной нашей улочке. Никто не отваживался скрипнуть калиткой, ударить топором в звонкий настывший чурбак. Я представил, как где-то в нетопленых домах тихо, недвижно, сидят сейчас люди с замороженными глазами.
Я пошел — и тишину прорезал первый звук: скрип моего рассохшегося костыля.
Дорога к центру городка шла на подъем, туман быстро редел — и мне опять сделалось не по себе. Теперь я боялся встречных людей: ведь они могли увидеть мои глаза, в которых не было слез, не было страдания.
Редкие прохожие стали попадаться, и я сначала трусливо опускал глаза долу, но потом, не в силах удержаться, как кролик на удава, стал вскидывать их на встречных. И вдруг заметил, что прохожие, деловито спешащие куда-то по своим делам, бросают на меня беглые сострадательные взгляды.
Меня осенило: костыль! Костыль был моим спасением и оправданием. Такой юный и такой несчастный, хромой, перекособоченный — я был олицетворением самого горя. Возможно, даже это оно вот только что ударило меня, согнуло, искалечило.
Я не дошел до школы. В одном месте меня задержала реденькая толпа людей, окруживших столб с укрепленным на нем колоколом-громкоговорителем. В сером тумане стояли серые, маленькие, однорослые какие-то фигурки, уронив руки вдоль тела. Почему-то все они были одеты в одинаковые ватники (или мне показалось — в ватники). И я, маленький калека, примостился за их спинами.
Опять передавали сообщение.
Слова, горестно-торжественные, тяжело падали на головы людей. Я слышал только голос, бьющий в самое темя, — и никак не мог сосредоточиться, ухватить смысл.
Колокол умолк. А люди еще продолжали стоять — не расходились.
И тогда от столба отделился не замеченный мною раньше странный старик. Высокий, худой, в серо-белесых длинных одеяниях, с клинообразной седою бородой до пояса, с былинным посохом в руках — он был как сгусток тумана. Откуда взялся он в нашем рабочем городке, населенном преимущественно людьми молодыми — вербованными, демобилизованными? Из какой возник сказки-небыли?
Старик устремил взгляд истово горящих глаз поверх толпы, пристукнул посохом в, воздев перст к небу, громовым голосом произнес страшные слова:
— Ябреи все!.. Жады!.. Да будут прокляты они — и ныне! и присно! и во веки веков.
Жуткое видение это погнало меня прочь. Я брел долго, не примечая времени и не разбирая дороги, пока не обнаружил себя в старом центре города, называвшемся у нас «трамвайное кольцо».
Резкие звонки трамваев и заставили меня очнуться. И я увидел, что давно растеплело, вовсю жарило солнце, капало с крыш; возле деревянного особняка — здания райисполкома (его не успели еще перенести в новый центр города) дремал запряженный в ходок сивый мерин. Нахальные воробьи прыгали у задних его ног, расклевывая горячий навоз.
А у единственного на кольце газетного киоска стоял парень из параллельного 10 «Б» класса Кобзарь. Я даже имени его не знал. Из-за редкой, звучной фамилии все так и называли его — Кобзарь. И еще — Кабздох.
Кобзарь не просто стоял, он словно бы хоронился от кого-то, осторожно выглядывая из-за киоска. «С уроков, что ли, дунул?» — подумал я. Хотя… бесстрашный Кабздох вряд ли стал бы прятаться из-за такой мелочи, как подрыв с уроков. Наверное, распустили всех, а это он так чего-то. Я поковылял к нему, чтобы узнать — как там, в школе? Распустили — нет? — но не успел и рта раскрыть: Кобзарь вдруг рванул меня за рукав, едва не свалив с ног.
— Видишь гада? — спросил, не разжимая зубов. — Видишь? — и показал твердым подбородком через дорогу.
По противоположной стороне улицы, глубоко припадая на левую ногу, шел наш учитель физики. Старенькое пальто его было распахнуто, на лохматой, неестественно большой, голове чудом держалась старомодная шапка-пирожок.
«Значит, все-таки подорвал», — подумал я о Кобзаре.
Физика мы не любили. Объяснял он свой предмет бестолково, путанно, страшно заикался. Заикание и хромоту (одна нога у физика была короче другой) он привез с войны. Но поговаривали, что он не был на фронте, не воевал, а только попал где-то под бомбежку, когда эвакуировался, «драпал когда» — насмешливо говорили ребята. Не умея путем объяснить материал, физик нажимал на опыты. По и опыты ставил бездарно. Вечно у него что-то там искрило, трещало, дымилось; он метался между приборами — носатый, лохматый, искорёженный карлик — и с перепугу взрывал что-нибудь наконец. И с перепугу же (он панически боялся директорши) лепил нам двойки — за свою же, получалось, бестолковость.
Кобзарь сплюнул:
— Водку покупает, подлюга! Вторую бутылку уже поволок. Гулять ему приспичило, самострелу. Радуется!.. Ну, Карла! Щас ты у меня обрадуешься! — он опять сплюнул, злее. — Пошли за ним. Ты по этой стороне, я по той… Только осторожно — чтоб не заметил.
Я не понимал, зачем надо идти за физиком, но машинально подчинился напору Кабздоха. Мы пошли. Покрались.
Мне было проще: костыль выравнивал нашу с физиком скорость движении. Кобзарь, на той стороне, нервно «танцевал»: шел вилюшками, подпинывая перед собой ледышку, иногда специально отбивал ее вбок, поворачивался спиной, с преувеличенным вниманием разглядывал объявления на столбах.
Так мы скрадывали физика целый квартал. Потом он свернул направо, в свой переулок, где третьим от угла (мы знали) стоял его дом. Кобзарь замахал мне — «давай сюда»! На углу мы соединились. Кобзарь нетерпеливо побежал вперед и шагов через двадцать резко затормозил, остановился… Над крылечком домика Карлы укреплен был маленький траурный флажок.
— Висит, — разочарованно сказал Кобзарь, когда я доскребся до него. — Для маскировки, наверное. А попробуй докажи… Ну, повезло гаду.
В чем повезло физику? Кому и что хотел доказать Кобзарь? — не пришло мне в голову спросить у него. Я спросил, наконец, о том, о чем собирался сразу, — о школе.
— Да кого там на фиг! — махнул рукой Кобзарь. — Всех разогнали… в пим.
Я вдруг решил идти к Полинке. Сразу решил и сразу, круто развернувшись, пошагал, даже не кивнул Кобзарю на прощание.
Никогда еще я не был у нес дома. А сколько раз, бывало, кружил около, прогуливался, будто случайно, мимо, торчал на углу — в надежде, что вот она выйдет за чем-нибудь. Но переступить порог не отваживался. Мне казалось — она сразу догадается, ПОЧЕМУ я пришел: потому, что мне еще раз хочется увидеть ее сегодня, мне просто невыносимо ждать до утра, а утром, после первой, радостной мысли: «Я опять ее увижу!» — вздрагивать и сжиматься от второй: «А вдруг она не придет сегодня в школу! Вдруг заболеет!» Или она не догадается, поднимет тонкую бровь и, чуть повернув лицо в сторону, как она умеет, удивленно посмотрит на меня круглыми глазами: «Ты чего это?!» А я буду молчать и только глупо улыбаться подрагивающими губами — влюбленный до немоты идиот.
Но сегодня она не удивится, ни о чем не спросит. Я не подумал так: «Не удивится», — просто знал: сегодня можно… могу.
Полинка не удивилась. Быстро — понимающе и сострадательно, как те, утрешние, прохожие глянула на мой костыль, быстро, схватив за рукав, провела в свою «светелку» (отец отгородил ей, взрослой девице, крохотный уголок в кухне — тонкой стеночкой в одну тесинку).
«Садись», — кивнула. И сама присела у маленького столика, положила подбородок на стиснутые кулачки.
Мы сидели друг против друга, очень близко, и я видел только глаза ее, устремленные мимо меня, — светло-карие, в неожиданных пестринках-веснушках. Боже! За что я был осужден на эту муку — ТАК любить её: так давно и безнадежно, так преданно и всепрощающе?
Потом она тряхнула головой (светлые волосы двумя крылышками упали на виски) и — «Да! Тебя же не было сегодня, ты же ничего не знаешь, потому и пришел» — стала рассказывать: сначала негромко, медленно, а затем — все более возбуждаясь:
— Ну… пришла завуч… вместо математички — по расписанию… забыла их посадить… молчит. Сама стоит — вся черная, и все стоят… Начала говорить. Но только первые слова смогла произнести — главные, дальше не выдержала — зарыдала, задергалась… вот так вот — молча, жутко. Стиснула горло руками — и вышла, почти выбежала… И — ой! Что началось! Все в коридор высыпали, девчонки на подоконники попадали, ревут, колотятся!.. Ребята, правда, крепились. Носами маленько пошмыгали — кое-кто. И один только Левка — представляешь, Левка Кирпичев! — забился в угол возле учительской, за дверь (она открытой была), и так плакал! Так рыдал! С ним просто припадок случился. Хотели даже скорую вызывать… Это Левка-то! Кирпичев!
В последних словах её послышалось мне вдруг восхищение — ну да, восхищение Левкой Кирпичевым, способным горевать так сильно, так безутешно, как никто другой.
Я обреченно уронил голову: ну вот и Левка!
Кирпичев появился у нас в 10 «А» в начале октября. До этого он уже прослужил полтора года на флоте, но был списан за какую-то болезнь. А может, папаша, наш райвоенком, выцарапал его оттуда. Во всяком случае, в дневную-то школу, доучиваться, великовозрастного Кирпича, точно, воткнул отец. Левка, в отличие от нас, молокососов, был мужчиной — сильным, красивым, отважным. По крайней мере, светлые глаза его смотрели на всех отважно, дерзко. Пренебрегая школьными правилами, Кирпичеи ходил на уроки не в обязательном кителе, а в форменке и тельняшке, не закрывавших его высокую, крепкую шею. Парни, раскрыв рты, слушали его морские истории. Девчонки сохли по Левке, соперничали из-за него.
«Значит, теперь Левка!» — повторил я себе. Предчувствие не могло обмануть меня. Слишком хорошо я изучил Полинку. Вот так же, год назад, восхитилась она аккуратным мальчиком Толиком Старовойтовым, узнав, что он занял первое место на каком-то скрипичном конкурсе. И скоро тихий, вежливый Толик стал провожать ее из школы. А спустя несколько месяцев она вдруг начала, к месту и не к месту, радостно округляя глаза, говорить о Женьке Пасмане — знаменитом волейболисте, мастере спорта: про то, какие «гвозди» он заколачивает, как пробивает любой блок, про то, что без Пасмана наша команда, уж точно, тащилась бы в хвосте и прочее. И конечно же, Пасман сменил Толика. По Женька провожал ее уже не из школы, а, по вечерам, с танцев. Гуляли они по-взрослому: почти двухметровый гигант Женька держал миниатюрную, хрупкую рядом с ним, Полинку под руку… А я, одинокий вечерний блукальщик, завидев их издали на слабо освещенном деревянном тротуаре, поспешно прыгал в темноту — не хотел попадаться на глаза.
И вот — Левка! И это конец!.. Я знал, что сделает с ней бывший герой-подводник. Потому, что хорошо знал (все наши ребята знали), что проделывает сволочь Кирпичев с влюбляющимися в него дурехами.
Я заплакал.
Нет, не при ней. Стиснув зубы, удержал, остановил внезапно наполнившие глаза слезы. Медленно, боясь расплескать их, выпрямился и пошел вон, твердо ступая на больную ногу.
Все понявшая «правильно» Полинка, — это о НЕМ уношу я слезы, — неслышно догнала меня на пороге, легко ткнула в спину забытым костылем. Я вырвал его, не оборачиваясь.
А слезы пролил на улице, на оградку из штакетника, за которую ухватился. Они буквально хлынули, не струйками — сплошным потоком, словно прорвалась внутри меня какая-то запруда. Я захлебывался ими, мотал головой, а они текли и текли… но не приносили облегчения, не утешали боль. Я плакал, кусал губы, мычал — и бил, бил, бил! — костылем по оградке, круша штакетины и расшепляя костыль.
…Некое Всевышнее Око строго, осуждающе глядело на меня с небеси — на букашку, в ТАКОЙ ДЕНЬ оплакивающую свою букашечную судьбу.
И был еще вечер.
На площади перед Дворцом Алюминщиков происходил траурный митинг.
Я затесался там, среди настоящей людской, отголосившей с утра, а теперь уже молчаливой беды.
Народ стоял давно, а митинг еще только готовился. Еще сдвигали перед фасадом Дворца два грузовика, подгоняли их задними бортами, подравнивали — готовили помост для ораторов. Еще суетился и нервничал, отдавая распоряжения, товарищ Вайсман — секретарь парткома треста Алюминьстрой: в распахнутом пальто, без шапки, с прилипшими к высокому лбу черными кольцами кудрей.
Потом помост покрыли чем-то красным, товарищ Вайсман легко вспрыгнул на него и стал произносить речь.
Товарищ Вайсман был замечательным оратором, лучшим в нашем районе. Выступал он всегда без бумажки — страстно, зажигательно, отбрасывая одной рукой буйные свои кудри и коротко гвоздя ею же воздух… На этот раз он начал не вдруг. Помолчал минуту, нависнув над толпой бледным пятном лица, и заговорил тихо, прерывисто. Но слова — «с чувством глубокой скорби… большое безмерное горе… тяжелая утрата, понесенная нами… клянемся» — насквозь прожигали болью, заставляли людей все ниже и ниже опускать головы. Невозможно, боязно было взглянуть на оратора.
Товарищ Вайсман говорил долго, так почти и не повысив голоса. Разве чуть громче и тверже произнес он последние слова, призвав всех к стальному единству и монолитной сплоченности.
И умолк. Как-то внезапно.
Тогда, наконец, люди, словно ожидая продолжения, подняли лица — и!., единый судорожный вздох сотряс толпу: товарищ Вайсман стоял перед нами седой! Белым дымом клубились над головой его знаменитые кудри!..
* * *
У Стукалииых расстроилась свадьба. Как раз в траурные дни, как снег на голову, свалился откуда-то бывший хахаль Зинки Кусковой Пашка Иннокентьев, долго болтавшийся по северам в поисках длинного рубля. Свалился — и увел непутевую Зинку, что называется, из-под венца.
Не везло добряку и красавцу (да красавцу!) Феде Стукалину с женами. Трижды, после возвращения Федора с фронта, окручивал его дед Стукалин. Две первых жены сбежали от него, третью он выгнал сам. Дело в том, что Федор был шибко корявым — и в этом смысле всегда «рубил дерево» не по себе: влюблялся в симпатичных. А вкус симпатичных дам с нашей улицы воспитан был на киноартистах Дружникове да Самойлове — и они не умели рассмотреть под корявостью Федора ни красоты его, ни доброты.
Товарища Вайсмана я встретил месяца через полтора, уже посуху.
На площадке перед Управлением треста Алюминьстрой я накачивал обмякшее колесо своего велосипеда. Товарищ Вайсман вышел из дверей и быстро направился к машине. Полуоборачиваясь, сверкая белыми зубами, он весело говорил что-то догоняющему его сотруднику. Кудри товарища Вайсмаиа были черны и блестящи, как антрацит!
От неожиданности я не в ту сторону крутанул ниппель — и только что загнанный в камеру воздух со свистом вылетел наружу.
Потом уж, поразмыслив, сопоставив факты, я догадался, что произошло на митинге. Тогда, после дневной оттепели, к вечеру начало резко подмораживать — и взмокшие кудри разгоряченного товарища Вайсмаиа, пока он держал речь, заиндевели.
Полинка… О ней лучше ни слова.
В тот далекий теперь день мне казалось, что мир рухнул, все кончилось. Для меня-то уж точно.
Я ошибался: все только начиналось — для меня, для Полинки, для всех нас.
Все только начиналось, как начиналось тысячи раз до нас и как будет начинаться снова и снова, когда нас уже не станет.
Ибо у жизни на кругах её — у смертных мук и светлых радостей, у прозрений и заблуждений, самосожжения и корысти, любви и ненависти, мудрости и безумства — всегда существуют только начала.
И нет и не будет конца.
МГНОВЕНИЯ
Утро
Море желтое.
После дождей поднялись речки, принесли всякую муть, лес.
Тихое море, ровное, чуть, пожалуй, вспученное, как отекшее лицо.
Но вдруг далеко-далеко образуется в одном месте чуть заметная белая полосочка, тоненькая, как бритвенный порез, катится, катится к берегу, превращаясь в пенистый длинный язык — и язык этот разбивается о сушу.
"Море показывает язык"…
Желтое море, сизый сумрачный горизонт, с полоской бледных облаков над этой сизостью. Красота необычайная!
И «языки» эти — бегущие, кажется, прямо от горизонта. Дразнящиеся.
Еще очень-очень рано, далеко до восхода солнца. Васенин сидит на балконе, закутавшись в одеяло.
Один на один с морем.
Его вдруг охватывает мистическое чувство: это же его дразнит море! Ему показывает язык, жалкому черняку.
Это Вечность показывает язык!
Поежившись, он пытается укрыться за шуточку: «Не очень-то солидно для Вечности — язык высовывать».
Но спокойнее не становится. Не проходит ощущение своей малости, ничтожности, микробности перед лицом молчаливо забавляющейся стихии. Ничтожности не только своей, но в всего, что нагорожено здесь, на этом плоском берегу: санаториев, дворцов, дач артистов и писателей, безбоязненно носящих имена — «народные».
Море катит, море выпаливает свои гигантские языки: вот вам, Цари природы! Вот вам — Великие! Вот — Народные!
«Гад! Смотри Природу!.. Смотри! — вдруг говорит себе Васенин в приступе какого-то болезненного самобичевания, словно прожил до этого жизнь недостойную, срамную. — Смотри, слушай… Для кого поют столь прекрасно птицы? Для тебя? Для человека? Но слепая Природа не знала, что вырастит существо, способное оценить соловьиный бой. Или знала?.. А если не знала?.. Для кого же тогда поют птицы?.. Почему извивается червяк, когда его насаживают на крючок? Почему он сопротивляется, крутится отчаянно? Ему больно?.. Мир божий громаден, сложен, многообразен, говорят, — совершенен. Зачем появился человек? Чтобы изгадить его?.. Чтобы познать и усовершенствовать?.. Зачем? Для счастья? Чьего счастья — червяка на крючке? И что та= кое, вообще, счастье? Что знаем мы о мире, о Вселенной? О-о, много знаем, очень много! Но знаем. А чувствуем — что? Как живет, например, карась в красивейшем подводном мире, где ползают улитки, ручейники, жучки-паучки? Что он чувствует? Он счастлив там… А улитки?..»
«Языки» становятся короче. Они уже не достают до берега, все дальше отступают к горизонту, сворачиваются опять до тончайших порезов. И эти порезы мелькают там вдали, как стая играющих рыб.
Никогда он не видел такого странного явления.
— Надо быть поэтом! Больше — никем! — он выговаривает это вслух и сразу: слова не прозвучали раньше в голове. — Только поэтом!
Но поэтов хватает и без него. Вот и сейчас двое из них спят в комнате. Один — старый его друг, весьма известный поэт. Второй — друг новый, поэт еще малоизвестный, но чрезвычайно пылкий. К Васенину очень привязался, полюбил его за что-то. Стихи недавно сочинил. Понаблюдал, как тут, у моря, все мало-помалу подружками обзаводятся, и сочинил:
Все нашел себе подруга,
Только мы нашел друг друга.
Спят поэты… И не видят всей этой тревожной, дразнящей красоты.
Вчера у старого друга был день рождения. Поэты проснутся, когда взойдет солнце.
День
Они покупали вареную кукурузу. Кукурузу продавали двое: тощий, высохший до щелочного состояния, абхазец и толстая, лоснящаяся жиром, абхазка. Кукуруза у них была забавно-противоположная: у абхазца — круглые, похожие на молодых поросят, початки: у абхазки — длинные и тонкие, как веретешки.
Вообще-то им не нужна была кукуруза. Они за молодым вином пришли на этот крохотный базарчик. Но по дороге Васенин заупрямился: никакого вина! У него свои имелись планы на вечер, и, согласно этим планам, он должен был сохранить себя трезвым.
А еще его смутил Большой поэт. Отвлек мысли от грешного намерения. Когда они, праздные и похмельные, шли на базар. Большой поэт под страшным пеклом реконструировал свою гасиенду. Он купил ее здесь за бешеные деньги, а теперь усовершенствовал за еще более бешенные.
Два молодых, чернобородых, голоногих парня топтали на кругу глину. Рядом стояла нерусского типа женщина, этакая утонченная пери, правда, в сарафанчике, с трогательным животиком будущей мамы.
Поэт, высокий, жилистый, прокаленный солнцем, закатав рукава белой рубашки, черпал глину широкой пятерней и, как штукатур, с размаху лепил ее на стенку дачи.
— Надо бы поздороваться, — сказал тот друг, который был известным поэтом. — Мы ведь знакомы. Когда-то вместе начинали.
— Может, пойдем? Смотри, как он занят, — сказал Васенин.
Он подумал: зачем Большому русскому поэту дача в этих экзотических местах? Не лучше ли завести ее где-нибудь в глубине России, на Владимирщине где-нибудь, среди дубрав и тихих речек?
— Да неудобно как-то молчком проходить, — сказал друг и, улучив момент, приподнял белый картузик.
— Все созидаем? — спросил он Большого поэта.
— Aгa! Созидаем! — ответил тот, влепив в стенку очередную порцию глины.
Какая-то ярость была в его поджатых губах, в заострившемся лице с играющими желваками.
«Зачем ему?» — опять подумал Весенин.
«Пери» улыбнулась им вышколенной, жалкой улыбкой.
Когда они возвращались обратно, женщины их грелись на пляже.
Их женщины — это жена известного поэта и ее подружка, оказавшаяся здесь проездом на несколько дней.
Жена поэта лежала на горячих гальках, подставив спину жаркому солнцу.
Подружка стояла — стройная, как манекенщица. Или — как богиня. Нет, богини, пожалуй, были слишком сытые. Как юная манекенщица она была. И черные, короткие волосы ее, чуть тронутые сединой, летели в сторону, отбрасываемые легким ветерком.
А рядом с ней стоял Большой поэт. Уже в другой рубашке, с отмытыми руками.
Он говорил… Васенин не хотел бы слышать, что он говорит, но ветерок наносил в их сторону, а голос Большого поэта, выкованный на эстрадах, был звучен и округл.
Он говорил:
— Я чувствую в вас женщину созвучной мне судьбы. Мы оба пережили трагедию. Сознайтесь — ведь вы ее пережили тоже?
Подружка, отвернувшись к морю, молчала.
Она не любила Большого поэта. И не могла полюбить. По какой-то иронии судьбы она тянулась к Васенину — неизвестному и недостойному, рисующему здесь картинки — зайчиков, белочек, ежиков, к детским книжкам своих расшалившихся друзей-поэтов.
Но, господи, боже ты наш! Он не мог полюбить ее, хотя полон был к ней нежности. Не мог, потому что знал ее трагедию, и она пока еще остро болела в ее душе.
Не мог еще и потому, что уже любил других женщин. Нет, не так; одну женщину, врученную ему судьбой, и одну фею.
А она не могла полюбить Большого поэта. Потому что он не знал ее трагедии. Только угадывал. И угадывая — угадывал будущее острое ощущение. Приключение, достойное темперамента Большого поэта. Как ненужная дача на этом далеком, чужом берегу.
…Море лежало белесое и плоское, без единой морщинки, словно накрахмаленная простыня.
Вечер
Они опаздывали.
Известный поэт провожал их — рысил рядом. Это он был виноват в опоздании. Отговорил сесть в специальный автобусик, организованный санаторием, — тесно, мол, будет, — убеждал, что рейсовый всегда проходит мимо, подбирает желающих уехать до большого города. А рейсовый взял и не прошел. И теперь надо было бежать к нему в центр городка.
Вдали — навстречу им — показался вишневый «жигуленок» Большого поэта.
— Эх, черт! — сказал провожающий. — Можно бы попросить его развернуться — здесь всего три километра. Да неудобно как-то одалживаться.
А пылкому поэту было все удобно.
— Эй! — закричал он и назвал Большого поэта по имени. — Стой, пожалуйста!
Большой поэт резко тормознул — машину сзади обдало желтой пылью.
И тогда провожатый отважился.
— Это мои друзья, — сказал он, взяв их почему-то за руки, как детей. — Они страшно опаздывают. Тут всего три километра, а?
Большой поэт лихо развернулся. Они сели.
Некоторое время ехали молча. Но пылкий друг Васенина не выдержал искушения.
— Слушай, — заговорил он. — Что новенького пишешь? Стихи? Поэму? Чем обрадуешь?
Васенин пожалел Большого поэта, хотя лично знаком с ним не был.
— Спроси лучше у человека, когда он с дачей своей разделается.
Он произнес это нарочно грубовато.
— Точно! — обрадовался избавлению Большой поэт. И сбросил руки с баранки. Они были в мозолях, ссадинах, с покалеченными ногтями. — Что можно написать такими руками?
Друг, однако, не унимался:
— Слушай! Напиши автограф, а? Два слова, а? Вот хоть на папиросной коробке.
От автографа Большого поэта спасло то, что они подъехали к остановке рейсового. И автобус стоял уже «под парами». Пришло время пожимать руки и благодарить.
Пылкий поэт смотрел вслед удаляющемуся «жигуленку». Глаза у него были разнеженно-бараньи.
— У меня такое чувство, будто я только сошел с каравана поэзии! — молитвенно произнес он.
Васенин понял, что очень скоро прочтет об этом случае какие-то возвышенные стихи.
…Зал, где она выступала, был переполнен. Даже проходы оказались забитыми.
Васенин сразу увидел ее. И сразу понял, что не останется у входа. Работая локтями, он стал пробиваться к сцене. Наверное, было в его лице нечто такое, что на него не шикали. А может, приняли за какого-нибудь распорядителя.
Он выгреб к самой авансцене. Там, на приступочках, оставалось еще не занятое место. Васенин занял его. Теперь он уже не мог видеть ее. Но зато слышать мог хорошо.
Она…
Про это надо рассказать особо.
Хотя про что же рассказывать? Ничего ведь, в сущности, и не было.
Приятель спросил его однажды:
— Хочешь познакомиться с ней?
— Нет! — быстро ответил он. — Не люблю знакомиться со столичными знаменитостями. Они потом проходят сквозь тебя, как сквозь воздух.
— Она не такая, — покачал головой приятель. — Да и поздно уже. Я позвонил, сказал, что мы сейчас заедем.
Делать ничего не оставалось — они поехали.
И сначала вроде все было заурядно. Ну, села в машину женщина: шубка, шапка, носик, безутешная какая-то складка губ. «Здравствуйте», — улыбка — рукопожатие.
Затем — маленький, угловой столик в ресторане, который сразу окружили, обсели ее друзья и обожатели — кожаные, замшевые пиджаки, холеные, аристократические лица.
И он тут — сбоку-припеку.
Правда, сразу представленный — или поставленный на место: «Наш сибирский друг. Художник».
Но потом была только она. Одно ее лицо, ее губы, ее глаза, ее глубоко открытая грудь в обрамлении черных кружев (это ведь надо же! — так целомудренно возвеличиваться, так олимпийски царить — грешной и смертной — над мешаниной кружев, кофейных чашек, блюдец, острот). Было только ее сияние, излучение, только её слова — а может, звуки? — ибо Васенин запомнил из всего произносимого одно лишь заклинание: «Ребята, давайте любить друг друга!»
И это «давайте любить друг друга» относилось к нему тоже. Значит, и он тоже мог, должен, обязан был любить ее.
И Васенин влюбился. Обвально. Ошалело. Загипнотизированно. Без ревности к тем, кто мог когда-то касаться этих нежных рук, этих губ, этих волос.
Так, наверное, не в женщину влюбляются. Так влюбляются в явление природы. В талант и гений, которые — суть явления природы.
Поздно ночью уходил его поезд (он ехал работать на дачу художников). Васенин пришел в гостиницу, чтобы собрать веши, — и не смог. Ему хотелось пройти сквозь стену — такое было состояние.
Чемодан Васенину уложила дежурная по этажу, сердобольно приговаривая:
— Да куда же ты, миленький, такой-то на ночь глядя? Ведь ты горишь весь.
В этом лихорадочном состоянии он и проработал целый месяц. Там, куда приехал Васенин, полыхала необыкновенная осень — и он писал осень, осень, осень!
Друзья потом, посмотрев эти листы, изумленно сказали:
— Ты что же делал-то раньше, самоубийца? Ты почему придуривался до седых волос?
И вот теперь, сгорбившись, Васенин сидел на узкой ступеньке: спиной к сцепе, лицом — к многоглазому залу.
По все равно он видел ее, помнил: от высоких, тонких каблуков, длинного концертного платья, обрамленного мехом, до стиснутых на груди нервных рук и романтического поворота головы.
Первые же звуки неповторимого голоса заворожили его. Голос баюкал, звал, возносил мольбу, страдал надрывно, ласкал, негодовал.
Он смотрел в зал и видел сотни завороженных глаз.
И вдруг — будь проклято это мгновение! — вдруг подумал: «А что они слышат — кроме ворожбы голосом? Кроме чародейства?»
А подумав так, невольно сам стал вслушиваться в текст. Ужасное слово-то какое — «текст»! Но он уже не мог пересилить себя — стал вслушиваться. И ждать.
Ждать, когда какая-то строчка вдруг резанет, уколет в сердце, когда по спине пробегут «мурашки».
Может быть, это не очень эстетично — «мурашки по спине», но у него всегда так бывало: спина, позвоночник, хребет прежде всего отзывались точному слову.
Увы, спина его молчала.
И он, расколдованный, ловил уже только слова. Только их — очищая от интонаций, придыханий, пристанываний.
И не мог поймать.
«Что со мной?! — запаниковал Васенин. — Или — с нею?.. Нет, с нею не может случиться. Что-то со мной».
Он зашарил взором по залу, по лицам где-то же, в каком-то далеком ряду должны быть потрясенные глаза.
Глаз было сотни — он растерялся от их множества. Видел затуманенные, зачарованные, сомнамбулические. Потрясенных не видел.
Неужели гипноз? Шаманство? Ворожба?
…Публика потекла из зала. Рядовые обчлененные выстроились в длинную очередь у стойки бара, заняли столики на антресолях.
Для избранных был накрыт длинный стол у стены. Там чествовали «именинницу».
Знакомый литератор махнул Васенину рукой, рядом с ним нашлось свободное местечко.
И Васенин неожиданно оказался визави с нею.
Московский приятель оказался прав: она не страдала забывчивостью «звезд».
— А вот и Витя! — сказала, улыбнувшись ему. И — показалось — обрадовалась.
Он сразу простил ей все. Даже молчание своего слоновьего позвоночника. «Ребята, давайте любить друг друга!.. Давайте любить…» — от этих строчек бежали по спине «мурашки».
Гордость, что ли (вон ведь сколько блистательных мужчин, а отмечен только он), а может, бокал «Алазанской долины», которым Васенин подогрел себя, понесли его к ней, вокруг всего стола.
Она, не вставая, с улыбкой полуобернулась.
Наверное, надо было просто поцеловать ей руку. Красиво и достойно.
А он заговорил. Начал смутно благодарить ее за ту маленькую «болдинскую осень», которую подарила она ему когда-то.
Возможно, Васенин сказал фразы на две больше, чем полагалось по этикету.
Она вдруг взяла со стола бокал с вином и протянула ему:
— Выпейте, Витя. И отвернулась.
А он остался с этим дурацким бокалом за ее чужой спиной — как извозчик на заднем дворе.
И вся ее свита, только что с ревностью наблюдавшая за ним — кто это столь отважно приблизился к королеве? — утратила к Васенину интерес, громко заговорила о своем.
«Море показало язык»…
Он постоял несколько секунд, тихо поставил бокал рядом с ее локтем (она не заметила) и так же тихо отошел.
На демократических антресолях к Васенину кинулись две знакомые издательские ламы, которые давно уже, как видно, следили сверху за его светскими маневрами.
— Ах, как красиво вы поступили! Как достойно вернули ей эту подачку!
Ночь
Там, на антресолях, Васенин досидел до последнего звонка, когда ушел уже и организованный санаторием автобусик, и последний рейсовый. Он пытался постичь истину. По истина оказалась не в вине.
Истина открылась ему, протрезвевшему до дрожи, на перевале, когда одни, среди куинджиевской ночи, топал он из большого города в маленький.
«Нет, — думал Васенин, вбивая каблуки в асфальт. — Вечность не показывала тебе язык. И море не дразнило. Только и делов у моря, чтобы дразнить нашего брата… Наоборот — оно одарило тебя. Окатило однажды соленой волной, осыпало янтарными брызгами, ударило в глаза ослепительным спетом!.. Вспомни ту свою осень. Пусть одну. И будь благодарен морю! И любви! И шаманящей женщине!..»
СВАНКА, КЕФАЛЬ И ДРАКОНЧИКИ
Все началось с того, что я купил себе сванку — войлочную сиамскую шапочку — и сразу стал походить на старого, беспутного свана. Не знаю, бывают ли беспутные сваны, думаю, что нет, во всяком случае, мне встречать таковых впоследствии не доводилось, но сам-то я походил именно на беспутного. Возможно, из-за худобы, из-за неумения держаться достойно и невозмутимо. По тут уж, как говорится, чего нема — того нема. Такое полезное умение — «нести себя как важный груз» — либо приобретается наследственно, при рождении, либо вырабатывается долгими тренировками.
Так вот, о шапочке. Из-за нее упустил я, может быть, единственный свой шанс поймать крупную рыбу. На крупную рыбу мне никогда не везло. Даже с заветных, легендарных водоемов, где другие, рядом с тобой стоящие, выворачивают «лаптя» за «лаптем», я всегда ухитрялся возвратиться с таким уловом, о котором один мой товарищ, тоже рыбак азартный, так рассказывает: «Мужики там че-то уродуются, мудрят, орудия у них какие-то дальнобойные — спиннинги, катушки, всякое туе-мое… А мы с братом встанем возле мостика, как вдарим в две удочки — так через час семьдесят восемь хвостов! Полная пол-литровая банка!»
Вот так, примерно, и у меня обычно получалось. А уж если удавалось мне иной раз выудить пару карликов в ладошку величиной, домашние на меня только что не молились: и добытчик-то я, и кормилец, и герой!
Ну, а в этих благодатных местах, где я, значит, свайкой обзавелся, рыба чуть ли не сама на сковородку прыгала. И какая рыба!.. Кефаль! Форель!
Дело в том, что напротив нашего дома творчества располагалось рыбное хозяйство. Рыборазводное. Озеро, при нем соответствующие постройки: административные городушки, другие какие-то сооружения, специального, видать, назначения. А с краешка, прямо у дороги — знаменитый ресторанчик «Инкит», монопольно перерабатывающий эту деликатную живность и реализующий ее по вполне людоедским ценам. Такое, словом, заведение, где осуществлялась ловля фрайеров на рыбную наживку.
Да бог бы с ними, с аристократическими ценами: в конце концов разок-другой за сезон каждый из отдыхающих здесь инженеров человеческих душ мог позволить себе тряхнуть мошной — красиво пожить вечерок в «Инките». Даже если он не Михалков и не Юлиан Семенов. Но ведь для настоящего-то рыбака, для человека, ушибленного этой страстью, — не та рыба, что в магазине, а уж тем более на сковороде. На сковороде она — просто харч. Ну, пусть вкусный. Ну, изысканный. Так ведь и это — кому как. Один от форели истомно глаза заводит, а другой превыше всего ценит жареных пескарей. Кстати, форель, королеву эту, Хемингуэем воспетую, в «Инките» готовили хреново. Формально как-то, бездушно. Деньгу гребли — и все.
По вечерам, после захода солнца, рыба играла. Тяжелые веретенообразные кефалины вылетали из воды вертикально и, на долю секунды зависнув в воздухе, плюха лись обратно. По всему озерку шли круги от этой пляски. Красивое было зрелище. Захватывающее. Коллеги мои, сострастники, так сказать, сидя на берегу, тоскливо мычали: «Ы-ых! Со спиннингом бы сюда сейчас! На спиннинг бы ее, зар-разу!»
Но ловить рыбу в озере строжайше запрещалось. Равно, как и на канавах, расположенных через дорогу. Эти канавы-прокопы, соединенные с озером трубами, проложенными под дорогой, заиленные, заросшие камышом, служили, как видно, для нагула молоди. Словом, тоже были территорией рыбхоза, его пастбищем. На канавах, однако, полавливали. Окно моего номера выходило как раз на канавы, и мне, с десятого этажа, хорошо было видно: ловят, черти! Сидят там. хоронятся в камышах, белеют кепочками и панамками.
И местные жители, сотрудники нашего дома, подтверждали: на канавах ловят. Ловят кефаль, мелкую, правда, а главным образом — самостийно расплодившегося карпа. Но карпы такие!.. Поросята, одним словом.
Ловили по выходным дням, по субботам и воскресеньям. В будни на канавах было пусто. Я долго не понимал смысла этого строгого расписания, пока не стукнуло мне в голову: да ведь юг же! Отдыхают караульщики-то. Климат здешний и разлагающее влияние множества праздных курортников не способствуют нашей, сибирской, допустим, истовости. Пять дней он страж, а и субботу и воскресенье лежит небось под чинарой густой пузом кверху — и его все это «нэ касаэтся».
И вот тогда, каюсь, отважился я на злодейство.
Соорудил немудреную снасть, смотал ее, утолкал в спичечный коробок, коробок — в карман. Полиэтиленовый мешочек — под будущий улов — за брючный ремень. Сверху рубашкой-распашонкой примаскировал. Наковырял чернвков под коровьими лепешками — в другой коробок (не с банкой же тащиться). Зарядился, значит, и, с независимым видом просто так гуляющего, отправился в сторону рыбных угодий. По дороге короткий прутик подобрал, метра в полтора — длинное-то удилище на канавах ни к чему.
Иду себе, помахиваю прутиком, репьи сшибаю. Кругом жара и безлюдье.
Но возле служебного домика, прямо под запретительным плакатом, намалеванным на бросовом куске жести, стоит голубой, форсистый «жигуль», на каких здесь преимущественно ресторанная обслуга гоняет.
Я было затормозил — не начальство ли какое нагрянуло?
Когда гляжу — прямо против «жигуля», за горбатой толстой трубой, переброшенной через кювет, у тихой заводи-прогалинки сидит рыбак. Сидит, покуривает, сдвинув на глаза непременную белую кепочку. Две удочки у него укреплены на рогульках. А из брезентового мешка, лежащего рядом, три карпьих хвоста высовываются. И по хвостам этим видно, что зверюги там лежат!., не меньше чем под три кило каждый.
— Здравствуйте, — сказал я рыбаку, не переходя пока на его сторону. — Ну, и как оно? Поклевывает?
— Поклевывает, поклевывает, — буркнул он таким тоном, за которым явственно пропиталось: «Ступай себе мимо!»
Так он здесь открыто, по-хозяйски, расположился и так недружелюбно-начальственно ответил мне, что я подумал: из своих кто-нибудь, на досуге балуется.
Я потоптался, прутиком по штанине пощелкал и спросил:
— Ну, а как же насчет запрета? Здесь вроде запрещено ловить? Бон и объявление висит.
Спросил тонким почему-то голосом, подрагивающим, а получилось — словно бы ехидно, с намеком.
Рыбак долго молчал, все ниже клоня голову. Губы у него сжимались в полоску, желваки набухали. Я решил уже, что он и слова больше не проронит. Но рыбак, резко вскинув подбородок, вдруг заговорил.
— Перераспротак твою в перетото и в перевотэто! — с невыразимой горечью сказал он. — Всю неделю мантулишь на этом пекле!., наверху! на лесах! Выполняешь и перевыполняешь! Санатории-профилактории им, гадам, строишь — в рот их, в нос, в уши, в потроха! Раз в неделю соберешься отдохнуть по-человечески — и тут тебя догонят! Там запрещено, здесь запрещено, кругом запрещено! В гробу только не запрещено!.. А им можно! Им все можно!.. Там сидит… прорабишка какой-нибудь, мастеришка, начальник хренов, дерьмо, козявка — а весь в коврах, в телевизорах, бабах — в импорте, в бриллиантах! Такие деньги получают ни за что! Да ещё воруют, паразиты!..
Я молчал — подавленный, обалдевший! Рыбак же все больше распалялся.
— Воруют! — воздел он руки. — Как воруют-то!! — и выхватив из кармана сшивку каких-то пожелтевших газетных вырезок, обличительно потряс ими. — Вот! Во-от!.. Это же — волосы дыбом! Конец света!
Закончил свою филиппику разгневанный пролетарий неожиданно и странно. Вскочил, нервно собрал удочки, прыгающими руками кое-как увязал их в пучок, подхватил сумку с карпами, пробежал мимо меня, сел в эти самые раскошные «жигули» и так рванул с места, что мелкие камешки из-под задних колес шрапнелью ударили по моим джинсам.
Я постоял, подивился на это явление, ни черта не понимая, — чумовой какой-то товарищ, ужаленный! — потом перебрался по трубе через кювет. Труба была скользкой: из микроскопических дырочек били игольчатые, почти невидимые фонтанчики — увлажняли ее. Занять насиженное и, надо думать, прикормленное местечко я не решился, — очень уж открыто здесь было, голо, дискомфортно, — двинулся вдоль канавы. И вскоре набрел на двух белоголовых хлопчиков. Они сидели среди высокой травы на маленьком вытоптанном пятачке, словно в скрадке, открытые только сверху, и настолько были увлечены делом, что не услышали, как я подошел. Я осторожно покашлял. Пацаны вздрогнули, разом оглянулись и утянули головы в плечи.
— Ну что, орлы, каковы успехи? — бодро сказал я.
— Да мы, дядя, так, — заюлил тот, что слева, — мы это… мальков ловим… для аквариума.
— Ara, для аквариума! — закивал его дружок: Но тут у него нырнул поплавок.
— Ой! — испуганно вскрикнул он, вытягивая небольшую кефальку.
— Ну вот, Петька, опять ты! — упрекнул его товарищ.
— Да я что, нарочно? — плаксиво заоправдывался Петька. — Она же сама!
Кефалька, выгибаясь, прыгала на траве. Петька не решался к ней притронуться. Даже не смотрел на неё, отвернулся.
Я снял кефальку с крючка, полюбовался ею, отбросил рубашку, прикрывавшую проволочный садок (я его сразу заметил): там уже лежало с десяток таких же рыбок, заснувших.
— Что же вы ее на солнце держите, — сказал. — Опустили бы в воду. Пропадет ведь.
Пацаны обреченно молчали.
— Эх, рыбаки! — вздохнул я. — Ну, ладно… Глубоко тут — нет? Если на ту сторону перебрести.
— У-у, дядя, глубоко! — оживились пацаны.
— Да здесь еще трясина — засасывает!
— Ага, ил сплошной!
— Вы, дядь, садитесь рядом — места хватит.
— Вон удочка у нас, запасная. Берите.
— Спасибо, — поблагодарил я. — Чего ж вам мешать, тесниться. Пройду еще… Садок-то опустите в воду.
— Опустим, дядь, опустим! — радостно заверили пацаны.
Еще маленько я прошел, высматривая местечко на берегу, а когда поднял глаза, увидел, как метрах в двадцати по курсу двое мужиков торопливо сматывают удочки. Один, ухватив за лямку рюкзак, боком кинулся в заросли. Второй замешкался, метнулся туда-сюда и вдруг, развернувшись, прыгнул через канаву. То есть хотел прыгнуть, но оскользнулся и булькнул в метре от берега. И стремительно начал тонуть. Неуклюже, словно спутанный, развернувшись, он пытался рывками дотянуться до травы, но под ногами не было твердой опоры, с каждым судорожным толчком он только глубже погружался и уже хлебал ртом воду.
— Руку! — заорал я, плюхаясь на живот. — Не толки ногами! Вытаскивай их!.. Держись на плаву!
Отпячиваясь, извиваясь ужом, помогая себе коленями, подбородком, свободной рукой, я кое-как подбуксовал его к берегу. А тут уж он сам закостенело вцепился в коренья трав, продышался, вылез. Стоял — весь в ряске, в тине, мотал головой, отплевывался.
— Ну? — спросил я. — С легким паром?.. Нашел место купаться! Мало тебе Черного моря?
— Придурок! — выговорил рыбак.
Смотрел он куда-то поверх моей головы, и я решил сначала, что это он о себе — столь не лестно. Но ошибся.
— Ты бы еще ружье взял, придурок! — злобно продолжил он. — Или фуражку милицейскую нацепил, вместо этой бородавки!.. Понаедут… придурки, тунеядцы! Деньги им, падлам, девать некуда… «Черного моря мало!» — передразнил ои меня. — А тебе мало, да? Шарашишься тут… ту-рист! — Он снял штаны, резко встряхнул их, обдав меня грязными брызгами. — Ну, что выпялился? Медаль ждешь — за спасение утопающих? Счас откую — по ряшке!.. — И, повернувшись к зарослям, закричал: — Э-гей! Серега! Давай сюда! Иди, не бойся!.. Тут одному медаль выдать надо!
До меня дошло — сванка! Они же меня все — и хлопчики, и пролетарий тот дерганый — из-за шапочки этой и вполне закавказского моего облика (если издалека или внезапно) за местного деятеля, за рыбоохраиника какого-нибудь приняли, который сам лопает в три горла, жиреет, а над другими, у кого всей радости-то — раз в неделю с удочкой посидеть, руку правую потешить, измывается, сволочь такая, дохнуть не дает. Выходит, как Печорина, судьба (да какая там судьба — сытая прихоть бездельника) кинула меня в «круг честных контрабандистов», — то бишь, честных браконьеров, как он, я «встревожил их спокойствие» и даже — о ужас! — едва не утопил человека.
Я развернулся, пригнул голову (не огрели бы чем сзади!) и быстро пошагал прочь.
Такую вот шутку сыграла со мною сванка. Крепко подозреваю, что за всю историю невинного браконьерства на канавах это был первый случай появления там «гонителя», вообще — постороннего человека. И надеюсь — последний. Я, во всяком случае, на канавы больше не ходил. Хотя мог бы, поменяв предварительно свою сувенирную шапочку на какой-нибудь стандартный головной убор. Однако столь неудачный, конфузный дебют охладил мой пыл, канавы перестали меня интриговать, и я перешел на легальный морской промысел. Здесь не надо было ни хорониться, ни оглядываться, ни напрягать спину в ожидании сурового окрика.
На море изредка поклевывала усатая барабулька, симпатичная рыбка длиною в сигаретку, да столь же редко, но зато мертвой хваткой брал ханластый морской дракон из многочисленного семейства скорпенообразных, распространенного от Арктики до Антарктики. В этом мелком разбойнике, напоминавшем внешностью нашего континентального ерша, всего-то и достатков было, что башка, смертельно ядовитый шип на загривке, пузо да хвост. Но зато охота на него оказалась увлекательнейшим занятием, настоящим спортом, азартным и опасным.
Во-первых, приходилось нырять за мидиями (дракон лучше всего клевал на мускул этих моллюсков), во-вторых — с немалым риском обезвреживать грозную добычу. Я вытягивал ощетинившихся дракончиков на пирс, глушил их резиновым шлепанцем, осторожно — не приведи бог уколоться! — отсекал ножом ядовитый шип, вместе с несъедобной головой. Оставшиеся пустяки складывал в полиэтиленовые мешочки и замораживал впрок в холодильнике. Землячество наше — трое моих друзей и супруги их — заинтересованно следило за моими хлопотами. Давно донимали нас жены, просились на пикник, очень их сооблазняла лесистая горушка, маячившая вдали, за угодьями рыбхоза. Так что к неходу недели, когда в холодильнике скопилось тридцать хвостов (две полулитровые банки!), было объявлено торжественное съедение дракончиков.
На горе уже, на облюбованной под бивак полянке, дамы ошарашили нас новым капризом: какой же это пикник без вина?! До этого они вполне одобряли антиалкогольные строгости, царившие в курортных местах, а тут прямо засрамили нас: эх вы! а еще мужики! Кулинарные свои познания призвали на помощь: дескать, к рыбным блюдам полагается подавать белые сухие виноградные вина — как-то: «Цинандали», «Гурджаани», «Цоликаури», а также столовые — «Баян-ширей» в «Сильванер». Тогда, оставив их под присмотром четвертого мужчины, трезвенника по убеждению, а не по принуждению, мы втроем отправились на разведку в деревеньку, крыши которой проглядывали впереди меж деревьев.
Странное селение открылось нам: совершенно пустое, словно бы вымершее. Только бродили по единственной улице пыльные свиньи, да грелись возле некоторых домов новенькие «волги». Но в первом же дворике, где ворохнулась жизнь, мы обрели искомое. Самый бойкий из нас, поэт Володя, окликнул хозяина.
— Папаша, неплохо бы вина выпить, — сказал он с развязностью Остапа Вендера.
С минуту хозяин подозрительно разглядывал нас. Ни смуглая физиономия полубурята Володи, ни мои сивые патлы (сванку я предусмотрительно засунул в карман), видимо, не внушали ему доверия. Но рядом сиял рыжей бородой, неистребимым российским простодушием, молодой открытостью наш романист Миша — и на нем взгляд хозяина отмяк.
— Ест вино, — сказал он. — Только плохой. Прошлогодний. Хочешь — попробуй.
Он завел нас в кладовку. Десятка полтора гигантских посудин стояло там в ряд. Такого количества жидкости хватило бы па все лето — поливать огород. Или — на несколько кавказских свадеб.
— Этот совсем пропал, — тыча пальцем в бутыли, бормотал хозяин. — Этот тоже совсем пропал… Этот, может, не совсем пропал.
Мы попробовали не совсем пропавшее вино. Было оно красным, кислющим, слегка напоминало вкусом «изабеллу».
— Да, это не «Баян-ширей», — согласился Володя. — Но — берем!
— Шесть рублэй, — сказал хозяин, нацедив трехлитровую банку.
«Однако!» — переглянулись мы. Но деньги выложили. Тогда хозяин, понизив голос до шепота, сознался:
— И чача тоже ест. Только слабый. Старый.
Попробовали чачу, выдохнувшуюся двадцатиградусную водичку, и — эх, гулять так гулять! — решили купить бутылочку.
— Сэмь рублэй, — сказал хозяин. Ай. хороший человек! Сделал-таки скидку против сорокаградусной казенной водки.
На обратном пути Володя вдруг разродился стихами. Он ехал сюда с намерением поработать, но работа у него не пошла — и каждое утро Володя уныло приветствовал нас перефразированным девизом «серапионовых братьев»: «Здравствуй, брат! Писать очень неохота». И только здесь за околицей деревни «Слабая Чача» (как мы ее сразу же окрестили) ему наконец запелось:
— А здесь, признаться, неохота Работать до седьмого пота — Когда напротив есть «Инкит» И море бирюзой горит! —неожиданно продекламировал он, помычал, отбивая рукой такт, и закончил:
— Да за горушкою селенье, Где — если одолеть подъем — Начачишься до изумленья… Туда и сходим мы втросміБыла в стихах неправда, или, мягче сказать, поэтическая вольность. Дело в том, что «Инкитом» сам Володя не увлекался, даже вполне презирал это заведение, после того, как его однажды угостили там шашлыками из протухшей свинины, зажаренной на сковородке и лукаво нанизанной на шампура. Начачиться до изумленья «не совсем пропавшими» напитками нам тоже не удалось. Но аппетит они подогрели — и оттого, наверное, морские дракончики, поджаренные на костерке, дымком пропахшие, показались нам ничуть не хуже ресторанной кефали. Более того: по общему приговору они напрочь зашибли её своим несравненным вкусом.
…А кефаль поймал Акакий Аграбиа — мрачный красавец, отец двух юных витязей, стройных, нежных и загадочно-молчаливых. Поймал руками. Акакий совершал перед завтраком ежеутреннюю оздоровительную прогулку вдоль берега озера. Кефаль выплыла из пучины на мелководье и остановилась в метре от уреза воды, сдержанно пошевеливая хвостом. То ли на солнышке грелась, то ли залюбовалась редким экземпляром гомо сапиенс.
— Цып-цып-цып! — сказал Акакий, присев на корточки. — Иди сюда, дарагой. Не бойся — ничего не будет.
И когда доверчивая рыбина подплыла к подошвам его башмаков, хищно схватил её под жабры.
Так, на прямой руке, не забрызгав белых штанов, гордый Акакий и пронес эту полуметровую дурочку на кухню — мимо изумленно подавившихся манной кашей сотрапезников.
Даже невозмутимые обычно сыновья его привстали из-за столика и сделали движение навстречу отцу.
Но Акакий, не укорачивая шага, строго бросил им:
— Это будет на ужин.
Вышколенные мальчики враз кивнули, потушили глаза и с достоинством вернулись к своему завтраку.
ВИТЯ
В третьем классе, в самом конце учебного года, появился у нас новичок.
Было уже тепло и сухо, оттаявшая после долгой зимы пацанва стекалась в эти дни к школе пораньше, чтобы поиграть, побеситься на большом, утоптанном пустыре — месте наших сражений в запретную «чику», благородных рыцарских поединков один на один и кровожадных драк стенка на стенку. Бесился на пустыре обычно мелкий народ, первоклашки да второклашки. Мы же — те, которым от силы месяца через полтора предстояло сделаться четвероклассниками и, значит, выпускниками (школа наша была начальной), вели себя достойно: посмеиваясь, наблюдали за их возней со стороны. Но в этот день, особенно яркий, прямо летний, щенячий восторг охватил почти всех, даже несколько лбов-четвероклассников не устояли на месте. Мелюзга затеяла на них охоту, окружала, висла гроздьями, стараясь повалить… Новенький возник неожиданно.
Вдруг все увидели: стоит с краешку незнакомый пацан — чистенький, довольно упитанный, красиво причесанный на косой пробор, в белой матроске и — что уж ни в какие ворота не лезло — в коротких штанах до колен! Стоит, интеллигент конопатый, и удивленно рассматривает нас, как мартышек. Словно его папа и мама за ручку в зверинец привели: полюбуйся, мол, детка, какие тут рожи.
Я оглянулся на ребят — глазами спросить: кто такой? — а когда повернулся обратно, этого придурка уже били.
Мгновенное начало драки я пропустил, увидел сразу разгар её. Конопатого азартно лупцевали — сумками, портфелями, фуражками; кто-то, оттесненный спинами, высоко выпрыгивал, пытаясь достать сверху, через головы дорвавшихся счастливчиков, ботинком, снятым с ноги… При всем том, как ни удивительно, это была именно драка, а не избиение. Потому что новенький не убегал. H не закрывался. Набычив круглую голову, зажмурившись, он отчаянно сражался — молотил кулаками воздух. Доставалось иногда и летевшим в него портфелям.
Проклятие школы, вечный второгодник Гошка Мыло, достал из кармана своего совершеннолетнего пиджака коробку роскошных папирос «Северная Пальмира», закурил и, лениво щурясь, сказал:
— Упорный… козлик.
А еще через час с новичком дрался я.
Это случилось на первой же перемене.
Мы уже успели узнать, что зовут новенького Витя Пророков, что приехал он из города Свердловска вместе с мамой, инженером-конструктором, и что ему недавно исполнилось одиннадцать. Тут мы, переростки военных лет, уважительно загудели: ишь ты, шустрый какой — еще одиннадцать, а уже в третьем классе… в четвертом, считай! Но больше всего нас поразил последний Витин ответ. «А что у тебя с лицом?» — спросила учительница Ольга Игнатьевна (лицо у новичка, после недавней схватки, было все в красных пятнах). Класс замер. Судьба новичка висела на волоске. Витя вскинул подбородок и — никто не ждал такого — гордо отчеканил: «Не беспокойтесь — это не заразно». У Ольги Игнатьевны полезли вверх брови. «Н-ну. — сказала она, — гляди сам… тебе виднее».
Так вот, на перемену новенький не пошел: достал платочек и принялся оттирать затоптанный первоклашками портфель.
А я, пробегая мимо, решил ободрить его — за геройский ответ. «Молодец, незаразный!» — крикнул и слегка щелканул по затылку. И тут же получил за свой порыв в морду. Но как получил! Этот ненормальный ударил меня но щеке. Прямо будто граф какой-нибудь: вспыхнул и дал пощечину. Я опешил — сроду у нас так не дрались — и, наверное, скушал бы оплеуху, если бы он сам не помог мне. А он, как там, на пустыре, набычил голову и двинулся на меня, молотя кулаками воздух. Ну, это было совсем другое дело! Балда этакая — лицо-то оставлял незащищенным. Я отступил на шаг и снизу вверх набуцкал ему по мусалам. И, конечно, до крови разбил нос. Просто невозможно было не разбить при такой Витиной позиции. Обмен получился вполне достойный, в мою пользу, и я приготовился к тому, что мы сейчас разойдемся. Но не тут-то было. Новенький поднял лицо, попробовал языком юшку, убедился на вкус — кровь! — и снова хлестанул меня по щеке. И опять принял стойку.
Мне сделалось скучно. Что же это, всю перемену его теперь валтузить? Да хоть бы драться-то умел. А то… научили поросенка пощечины лепить.
Слепые кулаки его были мне не опасны, но он лез и лез на меня настырно. Я посторонился, пропустил его и — «да пошел ты начисто!» — сильно толкнул ладонью в затылок. Витя улетел под ноги Гошке Мыло, сразу же вскочил — и я уже подумал обреченно: «Сейчас начнется!» — но тут, на мое счастье, вернулась зачем-то в класс Ольга Игнатьевна.
— О, господи! — вздохнула она. — Уже!.. Мыльников, уйми ты их Христа ради.
— Да всё, всё, — сказал Мыло, придержав новичка за плечи. — Они уже разобрались. Больше не будут.
Но сам-то Мыло, как выяснилось, не считал, что мы с Витей разобрались. На большой перемене он подошел ко мне, помолчал, покидал на ладони пятак, потом сунул его в карман и, глядя в сторону, небрежно этак спросил:
— Ну что, будем дрессировать козлика? Или как?..
Вот уж когда мне сделалось не просто скучно — тоскливо. Опять он, гад, советовался со мной.
Жуткий был тип Гошка Мыло — подпольный предводитель подпольной шпаны. Никто этого не знал. Немногие полупосвященные, вроде меня, лишь догадывались. Учителя считали Гошку тупицей, смотрели на него, как на неизбежное зло, в первых классах еще вздыхали сокрушенно: «Мыльников, Мыльников, на что ты в жизни пригодишься? Землю разве копать». Когда же Гошка заматерел окончательно, примирились и даже научились извлекать пользу из его второгодничества: Мыло помогал им держать в послушании школьных озорников.
Знали бы учителя, кому они сочувствуют и на кого опираются. Мыло не был тупицей — уж это мы хорошо знали. Правда, уроков он никогда не готовил. Зачем? Достаточно было вокруг смышленых папанов, всегда готовых подсказать ему или дать списать домашнее задание. По он и этим редко пользовался. Мыло не торопился из школы. Куда ему было торопиться — в землекопы? Гошка не собирался кайлить землю. Давно уже распланировал он свое будущее, вытатуировав на одной ступне установку: «Иди туда, где нет труда», а на другой девиз: «Всю жизнь под конвоем», — и теперь обстоятельно готовил себя к карьере профессионального урки. Чтобы начать её, Гошке не хватало паспорта и свидетельства об окончании школы-четырехлетки. И то, и другое должен был он обрести через год.
За пределами школы были у него какие-то таинственные взрослые покровители. Иногда очередной «брат из деревни» вызывал Мыло прямо с урока. «Братья из деревни» одевались по-городскому, были всегда разными и с каждым из них Мыло исчезал на несколько дней. Учительница наша смотрела на отлучки Мыло сквозь пальцы. Гошка же отрабатывал ей за это по-своему. Вернувшись, ои сразу обозначал свое присутствие в классе: наметив какой-нибудь вертлявый затылок, молча поднимался среди урока и присандаливал забывшемуся огольцу здоровенный щелчок.
Ольга Игнатьевна неискренне строжилась:
— Мыльников! Это что такое? Что за самосуд?
— Нормально, — басил Мыло, умащиваясь на задней парте. — Он больше не будет.
Как правило, Гошка обходился одним щелчком — для порядка и «для отмазки». После чего, до следующего исчезновения, мирно подремывал у себя на «Камчатке». Дешевым командирством Мыло не соблазнялся, оно было ему не нужно. Наоборот даже, помешало бы спокойно отсиживаться в школе, А Мыло, к тому же, не просто отсиживался. Потихоньку-полегоньку, втайне от учителей, и, похоже, от «старших братьев», он сбивал собственную команду. Команду страшненькую, такую, перед которой наши стихийные кодлы выглядели невинным баловством. Я понял это, когда сам, по несчастью, угодил в Гошкину паутину.
То было время атаманов и атаманчиков, правивших на улицах, во дворах, скверах, кинотеатрах. Был и у нас на улице свой атаман Васька Зюкин. Этот Васька в последнее время не столько правил, сколько тужился править. Когда-то самый старший и самый сильный среди нас, он затормозился в росте, оказавшись той маленькой собачкой, которая до старости щенок. Мы тянулись вверх, обгоняли Ваську, выходили из-под его власти. Васька пугал нас, темнил, намекал, что он блатной, что дружит с настоящими урками и сам почти урка. В подтверждение он выбросил рогатку и положил в карман ножичек. И вот с этим-то Васькой дернуло меня завраждовать. «Сопля ты, а не урка!» — сказал я ему однажды. Сказал отважно, веря, что Ваське не побить меня в честной драке. Васька побледнел. Так открыто никто еще не бунтовал против него. «Зарежу! — пригрозил он, — Подкараулю и зарежу. Сукой быть!» Скажи он мне такое один на один, я только рассмеялся бы: резатель нашелся! Но Васька поклялся принародно — и мне стало не до смеха. Ножичек-то у него был. Возьмет и пырнет, фашист. Или дружков каких-нибудь подговорит.
Я вооружился: выстрогал короткую, крепкую палочку, насадил на конец ее свинцовый набалдашник. Штучка получилась увесистая — свободно можно было проломить голову.
Ползимы я протаскал свою палицу в рукаве. Прибегал в школу раньше всех, когда первая смена еще сидела на уроках, топил ее в сугробе возле крыльца, запоминал место. После занятий доставал. Сделать это незаметно было труднее, чем запрятать палочку днем: приходилось дожидаться, когда школа опустеет, когда даже учителя разойдутся. А затеряться в единственном коридоре нашего одноэтажного барака было негде. Я надоел уборщице, стала она меня гонять, грозить, что пожалуется директору.
Жизнь сделалась трудной и вдвойне опасной. Палочка в рукаве не давала забыть о Васькиной угрозе. По вечерам я возвращался из школы разными дорогами, в разное время, но все равно Васька с ножичком мерещился мне за каждым углом. С другой стороны, я постоянно ждал, что меня самого вот-вот застукают, как диверсанта, с моим грозным оружием. Но выбросить палочку не хватало смелости. Хотя непонятно уже было, кого я боюсь больше: Ваську ли, себя ли вооруженного. Мог, мог пырнуть меня Васька. Но мог и я прошибить ему калган.
В конце концов все это меня так изнурило, что я постыдно стал думать о заступнике. И, конечно, остановил свой выбор на Гошке Мыльникове. Да и что значит — остановил выбор? Ни надежного друга, ни старшего брата у меня не было, а пожаловаться отцу не позволял уличный кодекс чести.
Никогда не проси защиты у сильного, у сильного и неправедного — тем паче. Эту истину не скоро еще предстояло мне усвоить.
Мыло не высмеял меня: кому ты, дескать, нужен такой — резать тебя? Внимательно дослушал, покатал во рту папироску, поразмышлял вслух: «Вообше-то, не должен. Если кто зарезать хочет — тот заранее звонить не будет. Когда, говоришь, обещал?.. Ну-у-у. Давно бы уже зарезал… Не, не должен».
— Но, — сказал Мыло, — подрессировать надо. Для порядка.
Я думал, это будет, как обычно: мы вместе повстречаем Ваську — и Мыло пригрозит ему: «Запомни, падла, если хоть пальцем тронешь…» Возможно, даже припарит разок-другой или слегка напинает.
Но Ваську «подрессировали» без меня. И узнал я об этом не от Гошки.
Через несколько дней прибежала к нам Васькина мать тетя Нюра Зюкнна. Она и раньше частенько забегала — пожаловаться моей матери на головореза Ваську. На этот раз тетя Нюра не кричала, не материла Ваську — тихо плакала, сморкалась: «Там курочке клюнуть негде — весь в синяках! Рожа, что твоя сковородка, глаз не разлепляет… Ой, добегается, паразит, доблукается! Или убьют где дружки-то эти, или сам кого пришибет да сядет».
Я понял, что Ваську избили. Догадался — из-за меня.
Это было страшно. Страшнее, чем палочка в рукаве.
Мыло ничего мне не сказал. Только поглядывал ободряюще: не дрейфь, мол, все в порядке!
После этого случая и начал он потихоньку приручать меня. Нет, Мыло ничего не просил, не требовал. Он хитрее поступил: сделал из меня вроде как сообщника. Стал намекать о своих темных делах. Перед тем, как исчезнуть с очередным «братом», заговорщицки подмигивал: «Что-то денежки кончились», — и по плечу хлопал: жди, мол, вернусь богатым. Непременно сообщал о готовящихся «дрессировках», таким тоном — будто советовался. Сам Гошка не участвовал в расправах, — кодла его приучена была делать это без командира, — но кого, когда и за что — решал он. Только раз видел я «дрессировку» — издали. Лучше бы не видеть. Там не придерживались наших рыцарских правил: кучен на одного не наваливаться и лежачего не бить.
Тошно мне было. Получалось, что я, как колобок, ушел от мелкого бармалея Васьки, а прикатился прямо в пасть бандюге Мыльникову. Рано или поздно Мыло должен был подкараулить меня на чем-нибудь. Не все же ему только закидывать удочки, придет время вытаскивать.
И вот Мыло подкараулил меня — на Вите, на нелепой нашей драке. Теперь он ждал ответа, не отходил. «Сволочь! — хотелось крикнуть мне. — Ты же меня дрессируешь — что я, не понимаю?»
— Ну, — Мыло снова подбросил пятак. — Чо молчишь-то?
Я собрался с духом, наверное, я даже зажмурился и сказал — как с обрыва шагнул:
— Не будем!
Плохо я знал Гошку. Он тут же вывернулся — не принял моего самосожжения.
— А-а, понял-понял, — сказал быстро, — допер. Ты сам, значит, хочешь, одни? Ну, правильно, молодец! Уделай его как следует. — И оставил меня — с распахнутым ртом.
Ничего не случилось до конца уроков, о чем я мечтал: школа не загорелась, меня не увезли с внезапными коликами, Витя не испарился.
Я подошел к нему после звонка:
— Эй, незаразный… Пошли.
Витя сразу все понял. Аккуратно уложил портфельчик, поднялся:
— Я готов.
— Слышишь? Он уже готов! — табачно дохнул сзади подошедший Гошка. — Уже в штаники наклал.
Я не обернулся.
…Витя шагал впереди. Помахивал портфельчиком, прямо держал голову.
И плелся за ним я — подневольный конвоир, махновец, которому приказали отвести на расстрел комиссара. Так мне представлялось это со стороны.
За углом первого же от школы барака новенький остановился, повернулся ко мне:
— Может быть, здесь? Здесь нас не увидят. Ведь тебе надо, чтобы не видели, так?
Я пинал камешек. Витя спокойно ждал.
— Знаешь, — сказал я, — дуй-ка ты отсюда. Он с интересом взглянул на меня:
— Дунуть я могу и без твоего разрешения… Скажи — ты кого-то боишься, да?
— Ага! — обозлился я. — Тебя боюсь! Гляди, испугался — коленки трясутся!
Витя покачал головой:
— Ты кого-то боишься — точно. Кого?
— Ну, хватит! — он опять надоел мне; не объяснять же было ему, умнику, про дрессировку. — Мне — сюда, тебе — туда. И жми давай… на все педали.
Тут я его и оставил. Думал, что оставил.
Витя догнал меня через несколько шагов.
— Интересно, — сказал. — Ты извини, но, оказывается, мне тоже сюда.
— А мне туда! — заорал я, развернулся и пошагал в сторону, противоположную дому.
На другой день мы пришли и школу вместе. То есть я-то не знал, что мы идем вместе: Витя, видать, пристал где-то по дороге и шлепал следом, не обнаруживая себя.
Возле школы на этот раз шло серьезное состязание. Осенью еще против нашего крыльца пленные немцы нарыли траншей под котельную. Растаявший снег сбежал В них, тяжелая глинистая вода испарялась медленно, бровки траншей раскисли. Но кое-где они уже обсохли — и пацаны наши в этих местах наладились прыгать через траншеи. Траншеи были не широкими — кроме одной, короткой, соединяющей две половины котлована. Здесь ширина была, однако, метра четыре. Как раз перед этой, непокоренной еще, канавой и стояли запалившиеся прыгуны. Мыло, всегдашний снисходительный наблюдатель, попыхивая папироской, насмешливо оглядывал их: ну, кто смелый?
Увидев нас (я-то думала меня только), он разулыбался:
— О! Сейчас козлик прыгнет! Он у нас дрессированвый, — и подмигнул мне. — Верно?
Я оглянулся — позади стоял Витя. Вид у него, и правда, был какой-то укрощенный; штаны длинные, наползающие на ботинки, — не вчерашние октябрятские трусики; глаза светились робким любопытством: а что это тут такое, а?
Надо было что-то делать. Немедленно. Мыло уже и руку мне на плечо положил, и нажал слегка: скомандуй ему, дескать.
— Этот, что ли? — пробормотал я. — Да ну… куда ему. Слабо.
«Догадайся же ты, морда! — мысленно умолял я Витю. — Смикить!»
Черта с два он догадался. Стоял, простодушно моргал глазами. Даже соизволил честно сознаться:
— Наверное, ты прав: мне такое расстояние не перепрыгнуть. Во всяком случае я еще ни разу не пробовал.
У меня аж зубы заныли: спрашивали его тут, зайца, — сможет — не сможет! Я выдернул плечо.
— Ты, фрайер! — грубо сказал Вите. — Подержи сумку… Учись, пока я добрый.
Места для разбега на этой стороне было мало, а противоположный берег оказался чуть выше: я не долетел, упал животом на бровку и, ко всеобщему ликованию, сполз в траншею. Воды в ней оказалось по грудь.
Пацаны взвыли:
— У-у-у!
— Ныряй с головой!
— Давай вразмашку!
Под их улюлюканье я перебрел траншею, рявкнул на Витю:
— Дай руку! Выпялился…
Он помог мне выбраться, посочувствовал:
— Надо было сразу брюки снять.
— Тебя не спросили!
Я вылез из штанов, зло отпихнул их ногой, разбежался снова — и перемахнул траншею.
Пацаны стихли. Сгрудились на бровке, таращились на меня.
И Мыло смотрел. Задумчиво щурился — соображал, наверное: чего это я так уродуюсь?
Ну, глядите, глядите! Я отошел подальше, прицелился и — э-э-ээх! — полетел прямо в толпу.
Прыгуны ухнули в стороны.
Мыло хладнокровно отступил на шаг.
С крыльца школы дежурный звонил в колокольчик.
Мыло, уходя, оглянулся, долго посмотрел на меня. Я видел это краешком глаза, но головы не поднял — выжимал штаны.
— Давай помогу, — вызвался Витя.
Вдвоем мы кое-как выкрутили мои штаны. Но все равно они остались влажными. А главное, так были перемазаны глиной, что идти в них на урок я и не подумал.
— Куда ты теперь? — спросил Витя.
— На кудыкины горы, — буркнул я, поднял сумку и пошел прочь.
— Послушай! — крикнул Витя. — Нельзя же так!.. Подожди!
Я не ответил.
Что-то вдруг громко булькнуло у меня за спиной. Я оглянулся — Вити не было на берегу. «Прыгнул, псих!» — догадался я.
И правда — Витя бродил там, под стенкой траншеи. Ему вода доходила до подмышек. Я сел на землю (штаны можно было теперь не беречь): интересно посмотреть, чем это кончится.
Витя отыскал на той стороне бережок пониже, выкарабкался сам, улыбнулся:
— Назад я, пожалуй, смогу.
— Прыгай, где поуже, — посоветовал я.
— Нет, только здесь! — Витя гордо выпрямился, как вчера и классе. — Пусть даже не перепрыгну, но трусом никто не назовет.
Ой-ёй-ёй! Про таких красивых дураков мне только в книжках читать доводилось.
— Штаны хоть сними тогда.
Штаны он снял. Скомкал их, перебросил мне. Потом и сам перепрыгнул. Плюхнулся, как лягушка, на живот — но перепрыгнул. И встал — довольный.
— Что же ты сразу их не снял? — ехидно спросил я. — Раз умный такой.
Витя пожал плечами, посмотрел с сожалением на свои брюки, которые были теперь не лучше моих:
— Не хотелось бы, конечно, огорчать маму.
Он так и произнес: не «от матери попадет», а — «не хотелось бы… огорчать». Я подумал маленько.
— Ладно. Пошли к нам. У меня мать добрая.
— В принципе, — сказал Внтя, шагая рядом со мной, — моя мама тоже не злая. Но дело в том, что это единственные мои брюки, и она только вчера вечером их дошила.
Я остановился:
— Так ты из-за этою, что ли, пришел вчера… такой? Витя кивнул.
— Ну и… не ходил бы совсем. А то — приперся.
— В принципе, — сказал Витя (все у него было в принципе), — человеку вовсе не обязательны брюки. Люди рождаются голыми, это их естественное состояние. В Африке, например, все ходят в одних набедренных повязках.
Нет, точно, — он ненормальный был. Я представил, как бы Витя заявился в школу в набедренной повязке, и скис от смеха.
Витя поморгал:
— Ну, не поголовно все, конечно… Бедуины ходят в бурнусах.
Дома мать выполоскала наши брюки и рубашки, выговаривая сокрушенно: «Ну, идолы! Вот ведь как устосались, идолы!» — разбросила их на веревке сохнуть.
— Теперь жди, — приказала Вите. — Голяком-то куда пойдешь… Ты хоть чей такой, что-то я тебя раньше не видела? Как звать?
— Бедуин его звать, — опередил я Витю.
— То-то, что бедуин, — согласилась мать. — Черти! Отхлестать бы вас штанами этими.
Мы забрались на крышу сараюшки, расстелили там старый отцовский дождевик, загорали. Витя сказал:
— В принципе, мы с тобой могли бы стать друзьями. Если бы не одно обстоятельство…
— А не в принципе? — окрысился я.
Нет, поглядите какой! Он раздумывал, оказывается! стоит — нет со мной дружить? Как будто я напрашивался.
— Ты все-таки кого-то боишься. — объяснил Витя. — И, кажется, я догадываюсь, кого. Мыльникова, да? Я прав?
Эх, как мне захотелось смазать ему по соплям! За его правоту.
Но Витя был у меня в гостях. И штаны его все еще сохли на веревке — не скажешь: «Пошел ты отсюда со своей дружбой!»
Я только плюнул:
— Кажется ему!.. Да ты знаешь, кто такой Мыло?
— Ну, кто же он такой? — насмешливо, как взрослый маленького, спросил меня Витя.
— Кто, кто… — хмуро буркнул я, жалея уже, что проговорился.
Пятиться, однако, было поздно: Витя, пожалуй, снова начал бы гадать — чего я не договариваю, кого опять боюсь?
Пришлось рассказать ему про Гошку Мыльникова: про то, как он защитил меня от Васьки Зюкина, про его «братьев» и его команду.
Рассказывал — словно оправдывался в чем-то.
Витя оживился:
— Ну, правильно! Так я и знал!
— Что ты знал? — отвернулся я, уныло понимая: не о том я ему. Не рассказал ведь, что Мыло приговорил его к «дрессировке». Не смог почему-то. И сам получился такой уж… перед Васькой дрейфил, у Гошки просил защиты.
Витя поднял прошлогоднюю сухую соломинку, отломил кончик — со спичку:
— Вот! Это Зюкин.
— Ух ты, страшный какой, — кисло пошутил я. Витя не заметил насмешки — торопился.
— А это — Мыльников! — отщипнул от соломинки кусочек подлиннее, положил рядом с «Васькой». — Мыльников побил Зюкина — так?
— Ну, так.
— Но кто-то другой побьет Мыльникова! — у Вити азартно блестели глаза. — Кто тут у вас может с ним справиться? Отцы только не в счет.
— Да понял, — я задумался.
Витя нетерпеливо ждал. Он уже приготовил соломинку — длиннее двух первых.
— Ирод побьет, — предположил я. — Если захочет.
Ирод был легендарный зареченский бандит, державший в страхе весь городок: форштадт, верхнюю колонию и поселок шлакоблочный. Сам я даже и не видел его никогда.
— Ну вот… Значит, Ирод побьет Мыльникова, — соломинка присоединилась к двум другим. — И все равно найдется кто-то, еще сильнее вашего Ирода. И так — без конца — Витя кинул на плащ остаток соломины. — А теперь скажи — где здесь ты?
Я тупо уставился на соломинки: ну, где тут я? Подлиннее Васьки — если он без ножичка, и покороче Мыла, что ли? На это он намекает?
— Ну и что? — спросил. — Я-то при чем?
— А то! — Внтя сел, обхватил руками кругленькие коленки. — При том! — Лицо у него было важное, строгое. Видать, он не первому мне показывал этот фокус, потому что следующие слова произнес заученно и гладко, отмерил прямо — как по линейке: — Запомни — побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кого нельзя победить, кто не сдается!
— Ага! — я раскрыл рот. И опять уставился на соломинки. — Значит, вот это Васька? А это — Мыло… Интересно!
Интересно, где бы тут Витя искал себя, узнай он всю правду?
Я дунул на соломинки. «Васька», «Мыло», «Ирод» и тот — «сильнее Ирода» — разом улетели с подстилки. Как просто: дунул — и нету!
Я рассмеялся:
— Ну и доходяги!
Витя сидел — все такой же важный, может, потому, что солнце било ему в глаза, и он щурился. Сказать разве?
Но странно: отчего-то мне не хотелось с ним спорить. Ни спорить, ни испытывать его вчерашними страхами.
Я только сказал:
— Умный ты шибко, как погляжу.
И легко подумал: «Пусть лучше не знает».
ЖЕНИТЬБА ТЕЛЯТНИКОВА
Телятников был приглашен на встречу Нового года. И одновременно на день рождения. Но самое главное — на смотрины. Смотреть должны были его — родители невесты. Как бы невесты. Впрочем, не как бы — невесты, чего уж там. Но об этом позже.
Три дороги, как перед витязем на распутье, лежали перед Телятннковым: поступить в аспирантуру, уехать на БАМ или жениться. Однако, чтобы поступить в аспирантуру, надо было готовиться, а Телятников за пять институтских лет приустал от школярства. Уехать на БАМ или другую престижную стройку из постылого конструкторского отдела, где он, как молодой специалист, занимался пока работой до обидного примитивной — привязывал типовые проекты, мешало то обстоятельство, что попал Телятников в эту шарагу по распределению и, следовательно, обязан был отработать три положенных года.
А вот жениться Телятников мог хоть завтра. Как-то незаметно, что называется, явочным порядком он оказался женихом. В этот проектный институт распределили двоих с курса — его и Майю Варнелло, из параллельной группы. Только Телятников приехал из родного города в чужой и, соответственно, из маминой однокомнатной квартирки — в общежитие для молодых специалистов. Майя же. наоборот, из чужого города в свой, из общежития — в коттедж, елки-палки! Телятников и не подозревал, что кто-то у нас может так жить, думал — это только там бывает, на западе. Но родители Майи оказались крупными учеными: папа — член-корреспондент, химик: мама — доктор исторических наук. И был у них коттедж — в Академгородке, знаменитой, в стихах воспетой, Золотой Долине. Не целый коттедж, правда, половника, но какая половинка! Телятников был там однажды, в тот день, когда они с Майей приехали из альма-матер. Майю никто не встретил — родители оказались в заграничной командировке — и Телятников сопроводил ее до этого самого отчего дома.
Он там, в общем-то, лишь на пороге потолокся. Успел рассмотреть просторную прихожую — побольше, однако, всей маминой квартиры, — несколько дверей, ведущих в комнаты, витую лестницу — на второй этаж. Лестница эта ого особенно потрясла.
— Ну, старуха, — сказал он ошарашенно. — Ну и ну! Здесь же сцены можно снимать из комедий Островского. — И запоздало догадался: — Постой! Этот Варнелло, ну, по которому мы учились, отец твой, что ли?.. Надо же! Я думал, он помер давно.
Майя, между прочим, предложила ему тогда остаться на время, пожить до разрешения вопроса с общежитием — места достаточно. Но Телятников, словно туземец, заробевший от этого великолепия, отказался. «У меня здесь тетка где-то, — соврал, — троюродная. Перекантуюсь у нее». А жил потом, как Остап Бендер, у дворника, с которым случайно познакомился. Собственно, он и не жил — чемоданчик кинул да три раза переночевал. За три бутылки портвейна, само собой.
Так вот. Маня Варнелло взяла и влюбилась в Телятникова.
В институте они вроде бы даже и не замечали друг друга. Нет, Телятнков-то. конечно, замечал ее — уж очень красивая была девушка Майя Варнелло. Красивая, статная и не то чтобы заносчивая, недоступная, а слишком строгая какая-то, не современная. Чем-то напоминала она тургеневских барышень. Телятников так и называл ее про себя: «барышня». К тому же учились они в разных группах и, стало быть, встречались редко. Еще и потому редко, что Майя жила в общежитии, а Телятников — дома.
Наконец, у него, как говорится, своя была компания. Вернее, компании — то и дело меняющиеся. Разносторонне одаренным человеком был студент Владимир Телятников, но — обормотом. Он и сам про себя понимал — обормот. Впрочем, по легкости характера, что ли, не очень из-за этого огорчался.
Так, на первом курсе открывался ему путь в олимпийские чемпионы. Еще в школе он увлекся легкой атлетикой, бегал спринтерские дистанции: сто, двести, четыреста метров — выполнил норму кандидата в мастера. В институте положил на него глаз сам завкафедрой физкультуры: «Я из тебя, Телятников, второго Маркина сделаю».
Телятников начал тренироваться — по индивидуальной программе. По скоро бросил. Дурак оказался тренер. Шуточки у него были дурацкие, как у того боцмана из анекдота. Вернее, одна шуточка, которую он варьировал на разные лады. Он подкарауливал какого-нибудь слабачка и выдавал свою «коронку»: «Какой же из вас получится инженер, если вы через козла перепрыгнуть не можете». А тут еще повезло ему. Попался в группе парнишечка, вовсе хилый, у него стойка на голове никак не получалась. Завкафедрой взорлил прямо, довел свою хохму до совершенства, отшлифовал: «Какой же вы будете работник умственного труда, если на голове стоять не можете?» Причем серьезно так, с государственной озабоченностью в голосе. Парни, ко нечно, ржут. Девчонки хихикают. А этот несчастный — ручки, ножки тоненькие — чуть не плачет, в глазах затравленность. Телятников терпел, терпел и взорвался однажды: «Может, хватит?»
— В чем дело, Владимир? — не понял завкафедрой. — Чего хватит?
— А того! — дерзко сказал Телятников. — Жеребятины вашей!
И ушел из спортзала, хлопнув дверью. И не только индивидуальные тренировки бросил, но и обязательные занятия по физкультуре перестал посещать. Его после первого семестра чуть со стипендии не сняли. Хорошо, кандидатство в мастера выручило.
Через год ударился он в науку, причем по предмету, непопулярному среди студентов, считавшемуся второстепенным и занудным, — основаниям и фундаментам. Но Телятников вообразил, что его интересуют проблемы строительства на вечной мерзлоте. Сначала вообразил, а потом увлекся всерьез. Просиживал в лаборатории, давил кубики, реферат подготовил и с блеском выступил с ним на городской конференции научно-студенческих обществ. Завкафедрой, тщедушный старичок, не вырастивший пока ни одного достойного ученика и сам не продвинувшийся к своему далеко запенсионному возрасту выше кандидата наук, молился на Телятникова, большое будущее ему предрекал.
Но умер учитель. Внезапно. Почил в бозе. Начались на кафедре грызня за освободившуюся вакансию. Научный кружок, в лице одного Телятникова, был заброшен. Волге того, молодые, но дальновидные сотрудники стали коситься на него, как на возможного конкурента и будущем: черт его знает, оставят после окончания института на кафедре — и попрет в гору, сопляк. Хотя до окончания института было еще о-го-го сколько.
Словом, тьфу — да и только. Телятников так и сделал: плюнул.
А уже на последнем курсе начал он было учиться играть на трубе. Забрел как-то на репетицию институтского эстрадного оркестра, попросил у трубача: «Дай разок дунуть. Куда тут нажнмать-то?» И дунул. Руководитель оркестра пришел в восторг: «Вот это импровиз! Потрясающе! Давай к нам, а?» Телятников отмахнулся: «Да ну… Я и нот не знаю». Руководитель велел трубачу сыграть что-то, сказал Телятннкову: «Повтори». Телятников повторил — с третьей попытки. «Ты же гениальный слухач! — закричал руководитель. — На фига тебе ноты знать!»
Телятников купил трубу, начал упражняться.
Но тут взбунтовалась его безропотная мама. Наладилась ставить одну и ту же пластинку, диск, с песней Булата Окуджавы о трубаче: «Заезжий музыкант целуется с трубою…» Причем так: доиграет до слов: «Трубач играет туш, трубач потеет в гамме, трубач хрипит свое и кашляет, хрипя…» — передвинет адаптер — и снова.
Телятников пытался урезонить ее: «Мать, ты что — ушибленная? Может, хватит?»
Тихая, маленькая мама ничего не отвечала, кутаясь в платок, передвигала адаптер.
Телятников, в конце концов, озверел, возненавидел этого потеющего хрипуна, и замусоленную трубу его, с которой он целуется по утрам, и свою собственную — тоже.
Он забросил трубу в чулан, приналег перед финишем на учебу и даже защитил дипломный проект на пятерку. Хотя эта пятерка не нужна была Телятникову, ничего ему не давала — во вкладыше к диплому стояли у него сплошные хоры и уды, против оснований и фундаментов только было написано «отлично». К тому же Телятников страшно расстроился за друга своего закадычного Мишку Расщупкнна, который все пять лет проучился исключительно на одни пятерки, а на защите ухитрился схватить четверку, и она, единственная, подрезала ему диплом с отличием. На выпускном вечере, на банкете (тогда они еще не осуждались), захмелевший от пары бокалов шампанского Телятников подсел к декану и всерьез принялся уговаривать его поменять им с Мишкой оценки: подумаешь, мол, дерьма-то — одну строчку переправить, никто и не узнает. Декан, тоже слегка захорошевший, называл Телятникова Володимиром и коллегой, великодушно басил: «У вас светлая голова, коллега, но в данном случае, Володимир, ты несешь хреновину».
В такого-то вот несерьезного Телятникова и влюбилась великолепная Майя. «Почему? Не наше дело. Для чего? Не нам судить.» Не нам судить — для чего, но почему — предположить, в общем-то, можно. В конструкторском отделе работало восемнадцать женщин и лишь трое мужчин, не считая заведующего отделом, — новичок Телятников и два фирмовых балбеса Марик и Рудик. Заведующий был стар и одноглаз, к Марину и Рудпку, третий год околачивавшимся на должностях рядовых инженеров (что, впрочем, ничуть их не колебало), женщины привыкли, считали их общественным достоянием — милым, безвредным, но и безнадежным. При появлении же Телятникова некоторые холостые дамы, а таких было большинство, сделали было стоику, но тут Маня — инстинкт в ней, что ли, сработал женский? — отгородила его своей покровительственной опекой, пристегнула, на правах сокурсницы, в кавалеры. Сделать это было совсем не трудно: занять очередь в столовой, махнуть: «Володя, я здесь!», подхватить после работы под руку и — заглядывая в глаза: «Проводишь?»
Отдельские дамы утратили к Телятннкову специфический интерес, решили, видно: эта парочка такой уже и приехала, сформировавшейся. Отношения к ним с Maйeй установились какие-то холодно-натянутые. Да не к ним — к Майе. «Ишь, стерва! — читалось в глазах и тоне женщин. — Всё у неё есть: и красота, и папа-членкор, и коттедж, и жениха привезла готовенького».
Телятников ничего этого не замечал. Точно так же, как и внезапное внимание к себе Майи принял сначала за продолжение их студенческого товарищества. Ну да, там они не дружили. Но здесь-то оказались только вдвоем. И всё понятно.
Он был благодарен Майе: в этом незнакомом городе не было у него ни одного близкого человека, и по вечерам накатывала тоска — особая, общежитская, бездомная. Провожал Майю — с работы, из театра (она любила балет, когда-то даже проучилась два года в хореографическом училище). Вот и за это Телятников был ей благодарен: и одиночку он ни за что не переступил бы порог Оперного. Монументальное, холодное здание театра давило его, пугало, казалось, войти туда — все равно что шагнуть в пирамиду Хеопса.
Провожал он Майю обычно до конечной остановки академгородковского экспресса, на прощанье по-братски целовал в холодную щечку. Да, именно братом он себя чувствовал в такие минуты, причем младшим. Наверное, оттого, что Майя сама, сделав едва заметное, изящное движение, подставляла ему щеку — приказывала: целуй! И, обернувшись, махала из дверей перчаткой: «До завтра!»
Мог, наверное, должен был Телятников догадаться вовсе не о братских чувствах Мани. В театре, например, когда она, утонув в кресле, делалась вдруг маленькой, беззащитной какой-то, когда полумрак растворял ее строгую красоту, и она, в особо чувствительные моменты, полуоборачиваясь, коротко взглядывала на него и прислонялась плечом — словно спрашивая: «Хорошо нам, а?» Или когда промелькнуло у нее — и раз, и два — словечко «мой», пусть и в таком несерьезном контексте, как «недотепа ты мой» и «мой ты инвалидик» (был случай — Телятников сломал палец и недели две носил гипс).
Мог, да не мог. Не мог, прежде всего, поверить в такую возможность. Да, в театре, в полумраке, когда она прижималась к нему плечом, Телятникова. что скрывать, окатывала волна нежности к этому доверчиво дышащему рядом существу. Но вспыхивал свет. Маня поднималась из кресла юной графиней, прямо — «кто там, в малиновом берете, с послом испанским говорит?»… А кто тогда рядом-то сидел?.. Не-ет, здесь Онегина подавай. А Телятников что? Паж, братик — и на том спасибо.
Он ни черта толком не понял даже после того странного случая в общежитии, нарушившего равновесие их отношений.
Как раз он носил гипс, был на больничном, скучал в комнате один. Майя пришла навестить его, примчалась в обеденный перерыв: как ты тут, инвалидик? В сумке у нее оказалось полно разных домашних харчей, даже термос с горячим кофе она прихватила. Телятников — хотя не голоден был, но как не оценить такое движение — уплетал ее разносолы, мычал, закатывал глаза: «Ну, Майка! Ну, даешь! Ну, умница!» Майя сидела рядышком, подперев рукой подбородок, смотрела на него, улыбалась — непривычно мягкая, домашняя.
— Жутко представить! — весело сказал Телятников. — Вот влюбишься когда-нибудь — ведь забросишь меня, сироту.
— Ты бы меня не бросил, Володенька, — вздохнула Майя, чуть касаясь, провела рукой по его волосам, по лицу и вдруг судорожно, крепко прижала ладонь к щеке.
Телятников калечной рукой притянул ее за плечи, намереваясь благодарно чмокнуть в лобик, но вместо этого, — прямо как в романах пишут, — уста их слились в горячем поцелуе.
Слишком долгим получился этот внезапный поцелуй, Пьянеющий Телятников все сильнее прижимал к себе задохнувшуюся Майю, она, наконец, с болезненным стоном, оторвалась от него, вскочила, отошла в угол. Постояла там, закрыв лицо руками, потом тряхнула головон и, не оборачиваясь, глухо проговорила:
— Прости, Володя. Я, наверное, дура несовременная, но… вот это — только после свадьбы.
«Какой свадьбы? Чьей?» — метнулось в голове Телятникова.
Он продолжал ошалело сидеть.
Маня одевалась.
Телятников кинулся помочь ей. Она поняла его порыв по-своему, мягко придержала: «Все-все, Володенька! Не надо больше. Пока.» И снова — ладонью по щеке, нежно, умоляюще.
Как будто в кино. Будто не с ним. И Майя — не Майя, а какая-нибудь там Маша Дубровская, которую собрались выдать за немилого князя-Верейского, и она прибегала последний раз — проститься со своим несчастным любимым… или — несчастным влюбленным.
Полным идиотом надо было быть, чтобы не догадаться: Майя не вообще свадьбу имеет в виду, не чью-то, не с кем-то другим. И все же Телятников не сообразил. Вернее, он по-другому перепел её: Майя не из таких, чтобы позволить себе подобное до свадьбы. В принципе. Но в это он и раньше верил. И зачем было подчеркивать?
А сегодня она сообщила ему об именинах, совмещенных с Новым годом. День был суматошный, предпраздничный, Майя перехватила его в коридоре на бегу. «Приезжай пораньше, — сказала. — Часам к десяти. И, пожалуйста, будь в форме, Вовка. Тебе предстоит очаровать моих чопорных родителей». И словно извиняясь за свою деловитость, быстро прикоснулась к нему, поправила сбившийся галстук. Как будто ему вот сию минуту уже предстояло расшаркиваться перед папой-мамой.
И вот торчал Телятников перед зеркалом, не решаясь — какую из двух имеющихся, более-менее приличных, рубашек выбрать? Надеть батник, серо-голубой, с погончиками? Но к нему галстук вроде не личит. Белую? Шибко уж вид жениховский… И тут ему горячо ударило в голову: жених! Иначе — зачем очаровывать папу с мамой?.. Да к черту родителей — он давно жених. Как раньше не дотумкал?
Телятников содрал рубашку, бросил, сел на кровать. Сидел, уронив руки, как приговоренный. Ведь он даже не спросил еще себя — любит ли Майю. Не успел… Да, любит, любит, конечно. Но любит ли так? Так ли любит?.. Ах, да и не в Майе дело. Не в ней самой. Отчего же не любить ее, и кого же тогда еще? Но чтобы через каких-то два часа и — как это? — обручение. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит… Телятникову казалось: что-то огромное, неотвратимое движется на него. Словно Оперный театр сдвинулся вдруг с места и медленно пошагал своими величественными ногами-колоннами. Так что же, туда, значит, — в пирамиду? Навсегда? На всю оставшуюся жизнь?
Таким, полуодетым, растерянным, и застали его неожиданно ввалившиеся Марик и Рудик.
У Марика и Рудика возникла, оказывается, роскошная идея: заявиться сегодня к Майке — незваными. Они не комплексовали из-за аристократической холодности Майи. Видали они аристократок! И папа-членкор их не смущал. Видали они членкоров! Они, вообще, все видали. К тому же Марик и Рудик успели подогреть свою отвагу. И Телятникову кой-чего принесли — в пузатой импортной бутылке с надписью «Клаб-99». Налили полстакана, остатки выплеснули себе: «Ну, проводим старый!» Марик сказал, что в этот напиток необходимо положить лед, но поскольку льда у Телятникова не было и быть не могло, наскреб в свой стакан инею с оконного стекла. А Телятников с Рудиком хлопнули виски неразбавленными.
Телятников задохнулся, вытаращил глаза:
— Мужики! Разыграли, черти! Это же самогонка!
Марик и Рудик «выпали в осадок»: кому стравили! ай-ай-ай! Ну скажи, сознайся — коньяк тоже клопами пахнет?
От виски ли, от балдежа ли их все для Телятникова упростилось. И даже вопрос, во что одеться, перестал мучить. Конечно, батник. А сверху — курточка комбинированная. Сой-дет!
На улице уже, далеко от общежития, он спохватился: подарок-то! Ведь как-никак день рождения. А четвертная, прибереженная им для праздничных безумств, осталась в отвергнутом пиджаке. Они наскребли по карманам девять рублей с копейками и в дежурном гастрономе, в промтоварном киоске (универмаг уже не работал) купили зa семь восемьдесят синтетического медвежонка. Самого маленького и дешевого выбрали — по деньгам. Подарок, для трех-то инженеров, получился нахальный, студенческий, спасти его, то есть их, могла только какая-нибудь, тоже студенческая, хохма. И хохма родилась.
Пока ехали в автобусе, сочинили стишок. Телятников сочинил, поскольку Марик и Рудик, молившиеся на Высоцкого и Клячкина, сами не в состоянии были связать и двух строчек.
Вот такой получился стишок:
Медведи, на что уж серьезные звери, И те в этот день усидеть не сумели. Покинув берлоги и выплюнув лапы, Они убежали от млмы и папы. Медведи назад нипочем не вернутся, Медведи сегодня как свиньи напьются. Медведи отважно «Бродягу» споют. Съедят винегрет и под стол наблюют!Хороший вышел стишок — в масть. Вполне оправдывающий одного жалкого мишку на троих. Три последние строчки, правда, отдавали кабацким душком. Но, во-первых, не осталось уже времени облагородить их, а во-вторых, Марик и Рудик имено от этих последних строк опять «выпали в осадок»: «Полный кайф, старик! Отпад! Не вздумай переделывать!»
Компания у Майи Варнелло собралась небольшая — узкий круг: кроме папы с мамой, только две молодые дамы, интеллектуалки академгородковские — то ли Майины подружки, то ли мамины ученицы. По выражению, мелькнувшему в глазах Майн, Телятников понял: не таким его здесь ждали. И уж, разумеется, не в такой компании. Замешательство, впрочем, длилось недолго, вообще, кроме Телятникова, никто его и не заметил. Светские ухари Марик и Рудик быстренько оттеснили его на второй план, дезавуировали, получилось вроде — не он их привел, а они его. Да так оно и было на самом деле.
Словом, все покатилось по сочиненному наспех сценарию. Они вручили подарок, прочли стихи. Причем Марик — ему было поручено начинать — ловко ввернул довольно изящную шутку; «Сейчас экспормт вспомню», — сказал. Интеллектуальное общество это оценило.
Последние две строчки они произнесли хором, разделили, так сказать, ответственность за неприличную угрозу.
Папа-членкор, задрав скандинавскую бороду, радостно заржал.
Но у мамы глаза расширились от ужаса. Похоже, она взаправду поверила, что эти разбойники вознамерились заблевать ее апартаменты. Провожала потом взглядом каждую их рюмку. А Телятникову, когда он и вторую — за здоровье родителей именинницы — добросовестно осушил до дна, даже заметила: «Как вы ее, однако!»
Майя надулась — то ли на него, то ли на мамину бестактность. Телятников-то понял — на него. И тоже замрачнел.
Не унывали только Марик и Рудик. Маму эти гусары успокоили, заверив ее, что они алкоголики и опасаться за них уже поздно, подружек-учениц совершенно обворожили, папу усадили на его любимого «конька». Украшением стола был огромный запеченный лещ, которого не далее, как вчера, папа выловил лично на Обском водохранилище. Марик и Рудик дружно восхитились его подвигом, папа завелся, они его тут же бросили, и товарищ членкор всем своей рыбацкой эрудицией (тут он прямо-таки академиком был) навалился на покинутого дамами Телятникова. Сначала он в подробностях пересказал, как тянул этого гигантского леща, потом повлек Телятникова в кабинет — показывать свои самодельные (магазинных он не признавал) орудия лова, потом достал какую-то страшно импортную, купленную за валюту леску и начал демонстрировать крепость ее, подвешивая гантели разного калибра.
Телятников затосковал. Трубач хрипел свое. В гостиной резвились Марик и Рудик. Там прекрасно обходились без него. Во всяком случае, Телятников так подумал: «Прекрасно обходятся».
Улучив момент, он извинился, намекнул своему мучителю: надо, мол, ненадолго… вниз, — спустился в прихожую, отыскал на вешалке пальто, попрощался за лапу с добродушным пуделем…
Скоро хватиться его не могли: приятели и дамы знали, что он затворился в кабинете с папой, пана терпеливо будет дожидаться возвращения гостя из туалета. На всякий случай он ударился все же не по дороге, а напрямую, через лес, тропкой. Заблудиться здесь было невозможно.
Hа проспекте уже — он вышел к Дому ученых — Телятников вспомнил: денег же ни копейки! Даже автобусных талончиков нет. Да и какие сейчас автобусы… Придется возвращаться, успокаивать народ, врать чего-нибудь: дурно стало, пошел подышать. Мама опять глаза по тарелке сделает: ясно! назюзюкался все-таки. Тьфу ты!
И тут — о Его Величество Случай! — подкатило такси с зеленым огоньком. Водитель даже сам дверцы приоткрыл: «В город?»
— Денег нет, земеля, — сознался Телятников. Не сообразил сразу, что может рассчитаться на месте, в общежитии.
Водитель подумал секунду:
— Куревом не богат?
— Есть.
— Садись, — сказал водитель. — Хоть по-московскому успеть встретить.
На полпути подхватил он, однако, шумную компанию — двух девиц и пария, — собравшуюся всю ночь колядовать по друзьям и знакомым. Водитель предупредил их, кивнув на Телятникова: «Это мой сменщик». Но компании наплевать было, кто такой Телятников, рассчитались они сразу и более чем щедро.
Водитель повеселел.
— Я тебя в центре выброшу, перед площадью, — сказал Телятннкову. — Годится? А то, знаешь, пока её в стойло, пока то-сё…
На площади, в сказочном городке, возведенном вокруг великанской елки, было многолюдно. Из распахнутых ртов снежных богатырей и чудищ, по ледяным языкам-горкам сплошным потоком катилась визжащая толпа. Был тот час новогодней ночи, когда народ, оторвавшись от праздничных столов, двинулся в центр, к елке — подурить, поразмяться.
Телятников тоже проник в дыру, куда-то под мышку богатыря, поднялся (и спину подпирали) по деревянным, скользким ступеням, вдруг оказался в огромной, разверстой наружу пасти и ухнул вниз — стоя. У подножья горки не удержался — сзади подшибли, — упал, завертелся пропеллером — и сам подшиб какую-то глазеющую на этот балдеж девчушку. Вскочил, поднял свою жертву, хотел было обругать ее, а девчушка, приступив на правую ногу, вдруг ойкнула от боли, обвисла у него в руках. В следующий момент налетели на них две возбужденные бабехи, замахали варежками, закудахтали: «О, Дульсинея-то! Уже обнимается, тихоня! Уже с кавалером!» — и узнали Телятникова: «Володя! Ура! С Новым годом!»
И Телятников узнал налетчиц: студентки из нархоза. Как-то раз был у них в гостях, в общежитии, Марик и Рудик затащили.
— Тихо, девчонки, тихо! — усмирил он их. — Не толкайтесь. У нее вой с ногой что-то. Идти не может.
— Ой!.. Ай!.. — запереживали девушки. — Что же делать-то! Надо такси поймать!
— Да где его сейчас поймаешь? — сказал Телятников. — Ну-ка! — он легко поднял девчушку.
Они пошли.
Подружки семенили рядом, стараясь хоть как-то помочь Телятннкову, ручку-ножку поддержать этой… ушибленной. Больше мешали. Он вспомнил их имена: худая и чернявая, вся какая-то развинченная — кажется, Зинаида; та, что постепеннее, самоуверенная толстуха — почему-то Maнефа. Маня, наверное? Маша… Телятников тогда, при знакомстве, не поинтересовался.
До общежития было недалеко, квартала три, и девчушка оказалась совсем легонькой — вначале. Но помаленьку руки у Телятникова начали уставать.
— Эй, там, на нижней полке! — окликнул он. — Ты живая еще? Держись, пожалуйста, за шею. А то виснешь, как… Уроню ведь.
Она обняла его за шею, неожиданно крепко, прижалась холодным носом и губами к щеке. Новое дело! Телятников завертел шеей:
— Задавишь!.. Где вы такого сумасшедшего ребенка откопали? — спросил подружек. — Удочерили? Что-то в прошлый раз я ее не видел.
— Она в академическом отпуске была, — объяснила Маиефа. — После операции. Ей ногу резали.
— Хорошо еще, что не ту самую подвернула — другую! — это Зинаида.
— Укусись! — одернула ее Манефа. — То на одну хромала, а то на две станет.
— Сама укусись! На две… скажешь.
В общежитии, в комнате, они стащили с нее сапожок, осмотрели ногу, пощупали, помяли — Дульсинея попищала маленько, поморщилась.
— Ерунда! — решили девицы. — Растянула маленько, Или ушибла. До свадьбы заживет.
— Верно. Даже и опухоли нет. Могла бы сама дойти, притворяшка.
— А ей на ручки захотелось, лялечке маленькой!
Телятников, пока они вокруг нее хлопотали, рассмотрел девчушку: худенькая, тоненькая, словно бы прозрачная. Дюймовочка этакая. Дюймовочку она еще нарядом своим напоминала. Платьице на девчушке, когда она сняла шубу, оказалось белым, воздушным, вроде подвенечного. Правда что — лялечка маленькая, куколка. Но глаза из-под короткой челки смотрели скорбно, посторонними были на ее детском лице. И в уголках губ — скорбные морщинки. Неожиданное, странное лицо.
Решили пить чай. Тем более что все необходимое для него имелось на столе, даже не до конца разрушенный торт. Беду пронесло, девицы опять развеселились, задурили.
— Володя, Володя, скажи тост! — кричала Зинаида.
— Под чай-то? Офонарела! — смеялась Маиефа.
— Ну, а почему бы? — Телятников задумался на мгновенно — и срифмовал: — Всем святошам отвечаем: Новый год встречаем чаем!
— Гениально! — подпрыгнула на стуле Зинаида. — А теперь я!.. Нет, пусть сначала Дульсинея. Дульсинея, давай! За своего спасителя!
— Спаситель! — фыркнула Манефа. — Чуть не изувечил.
— Ну, за носителя! Вообще, сидит… как не знаю кто! Ей кавалер, можно сказать, с неба свалился, другая бы, точно, сдохла, а эта… Давай говори!
Дульсинея подняла свою чашку двумя руками, словно боясь по удержать одной, повернулась к Телятникову — и вдруг заплакала. Заревела, беззвучно содрогаясь, выплескивая чай на подол.
Зинаида и Манефа понимающе переглянулись: началось!
«Чего это она?» — одними губами спросил Телятников.
Зинаида ответила громко:
— Да ну! Блаженная! Никто замуж не берет.
— А кто берет, за того она не хочет, — добавила Манефа.
— Да кто берет? — Зинаида дернула плечом. — Этот, что ли? Будто не знаешь.
Телятников не понял — о ком они. Удивленно уставился на Дульсинею.
— Ты что, правда, замуж хочешь? — он осторожно отнял у нее чашку.
Девушка, шмыгнув носом, кивнула.
— Так выходи за меня! — великодушно предложил Телятников. — Пойдешь?
— Пойду, — сказала Дульсинея. Зинаида захлопала в ладоши:
— Ой, правда, Володя, женись на ней! Женись! Манефа сказала: «Пф!» — и сочувствующе глянула на Телятникова: вот идиотки!
Но Зинаиду уже взорвала эта идея. Она сбегала куда-то, вернулась с открытой бутылкой шампанского, приплясывая («Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба!»), обежала стол, налила всем:
— Горь-ко!
И покатилась «свадьба».
Телятников добродушно улыбался. Ему было легко, забавно. С «невестой» он целовался так, будто ему в фантики это выпало. «Невеста», однако, была серьезна. Телятников, даже когда поворачивался от нее к столу, к общему веселью, знал, щекой чувствовал: Дульсинея смотрит на него, глаз не отводит. «Ой-ой!» — думал Телятников. Но не дальше.
Где-то, в красном уголке, наверное, звучала музыка. Там все еще танцевали.
Разгоряченная шампанским Зинаида то и дело убегала туда — поплясать. Один раз исчезла надолго.
— Вот бешеная-то! — сказала Манефа и вышла. И тоже не вернулась.
И музыка скоро умолкла. И вообще, шел уже седьмой час утра. Телятников поднялся — где же девчонки-то? — дернул дверь. Дверь не подалась.
— Они не придут, — напряженным голосом сказала за спиной Дульсинея.
«Конечно, не придут!» — запоздало разгадал их маневр Телятников. — Ай да девахи! Это у них, значит, свадьбой называется? Гениально! Простенько и со вкусом. Сегодня одной сыграют, завтра — другой. Хорошо устроились!.. А ты не ждал? Не плыл по течению? Совсем-совсем? Ой, врешь!.. Вот и приплыл. И не барахтайся. Смешно барахтаться. Да и зачем?..»
Он вернулся к столу, взял Дульсинею за плечи, грубовато спросил:
— Ну, что будем делать, невеста?
Дульсинея закинула лицо, воспаленно заговорила: — Я знала, знала, что так будет! Еще когда ты меня нёс — зналаІ Чувствовала!.. И пусть! И пусть, пусть!.. Если бы они не догадались — я бы сама!..
У них ничего не получилось. Сначала Телятникову мешали ее готовность ко всему, торопливость, которые принял он за доступность, за порочность. Да она сама ему это подсказала — своим признаньем: «знала». А потом оказалось — оба они совершенно неопытны (ои и не подозревал, что здесь опыт какой-то нужен). Телятникова вдруг оглушил стук собственного сердца: «Да как же она?! Почему?!» — и больше он уже ничего в себе не слышал, кроме этих бешеных ударов. Девчонка, не понимая, что с ним происходит, ловила в темноте его прыгающие руки, целовала: «Милый! Милый!.. Ну, что ты? Что?»
Обескураженный своим конфузом, Телятников резко сел на кровати. Нашарил брошенную рубашку. Надел. Ударяясь о стулья, пошел искать выключатель. Дульсинея. почему-то шепотом, подсказывала ему направление.
Когда он включил свет, она уже сидела на кровати, закутавшись в одеяло, такая несчастная, убитая — Телятников аж зажмурился.
Он подошел, опустился рядом. Плечом почувствовал, как ее колотит.
— Я не понравилась тебе! Я уродка! Уродка! — у нее прямо зубы стучали. — Ты никогда на мне не женишься!
Телятников бережно обнял её, стал гладить волосы, успокаивая. Жалко было девчонку, словно это она виновата в случившемся, то есть — фу ты, господи! — в неслучившемся. Да она, видно, так и считала — сама виновата.
Он всё гладил, гладил ее волосы — машинально. Они затихла постепенно, перестала трястись.
— Уйдешь теперь? — не то спросила, не то заключила — обреченно.
Телятников молчал. Она длинно вздохнула:
— Дверь не закрыта. Надо кверху надавить и дернуть посильнее. Она у нас с капризом. Только… не уходи сразу.
Он не ушел сразу. Хотя понимал — надо уходить.
— Тебя так и зовут — Дульсинея? — спросил.
— Нет. — А как?
— Смеяться будешь. Очень допотопное имя.
— Ну уж… Матрена, что ли?
— Хуже.
Телятников улыбнулся:
— Куда хуже-то?
— Дуня, — неохотно призналась она. — Евдокия.
— Действительно, — согласился он. — Поторопились родители: Дуни у нас пока не реабилитированы.
— Вот видишь… Можно, вообще-то, Ева. Некоторые зовут.
Телятников кивнул головой: ну, конечно, Ева! — кто же она еще? Сразу надо было понять. А он, выходит, Адам. Фрайер несчастный! Зинаида — змей-искуситель. Подобралась компашка.
— Ладно, Евдокия, спи. Не вставай — свет я тебе погашу.
— Володя, — едва слышно окликнула она его, когда он был уже у дверей. — Неужели всё?
Он вернулся, поцеловал ее.
— Перебор, Дунечка! Не надо, честное слово. Спи давай.
— Все равно я назад не вернусь, — непонятно и, ему показалось, торжественно произнесла Дульсинея. Стихи, что ли, какие-то процитировала?
Проснулся Телятников в полдень. Его разбудили. Распахнулась дверь, голос комендантши, чему-то злорадствуя, сказал: «Здесь он!»
Телятников открыл глаза. Вместо комендантши перед ним стоял незнакомый прапорщик: прямой, крепенький, светловолосый и светлоглазый.
— Владимир Телятников? — милиционерским голосом осведомился незнакомец.
— Так точно! — Телятников свел под одеялом пятки. — Чем могу служить?
Прапор швырком придвинул табуретку, сел, не согнув спины, вонзился в нее — как ружейный прием выполнил: «К ноге».
— Я — жених Евы!
«Еще одни Адам! — отчего-то обрадовался Телятников. — Как интересно!» Он прокашлялся:
— Поздравляю, товарищ главнокомандующий. Дальше?
— Не смейте издеваться! — задохнулся от возмущения прапор. — Ева мне все рассказала! Во всем призналась! Но я не верю, она не могла — сама! Это вы! Вы! Гнусный, растленный тип! Негодяй! Вор!
— Чего-чего? — Телятников приподнялся на локтях.
— Лежать! — вибрирующим голосом крикнул прапор. I Іу, уж это слишком!
Телятников сел, сбросив одеяло.
Неслабый он был парнишка: таким не покомандуешь — ушибиться можно. Прапор, надо полагать, сразу оценил это. Но продолжал катить по инерции свои высокопарные домашние заготовки. Только тон чуть сбавил.
— Вы воспользовались минутной слабостью девушки! — отчеканил, как из романа выстриг. — Вы обесчестили ее. надругались! Вы…
— Эго она тебе так сказала?! Она?! — Телятников яростно тряхнул прапора.
Он вскочил, лихорадочно начал одеваться. Для чего-то рванул из шкапа забракованный вчера костюм, зацепил рукавом за какой-то гвоздь, чуть не порвал — ч-черт!
Прапор, выпустивший пар, плакал на табуретке, выхлюпывал, наконец, человеческие слова:
— Мы же с ней… мы с шестого класса… Она же для меня… Мы заявление договорились подать… Как же это? Как можно?.. И при подружках, главное — о-о! — И снова аабуровил: — Вы все разрушили! Растоптали душу!..
— Кретин! — зверея, пробормотал Телятников (он уже натягивал пальто). — Ты кретин! Слышишь?
Прапор высморкался, распрямил плечи и, придав голосу ровность, сказал:
— Мне придется застрелить вас.
Телятников хлопнул дверью.
Oн стремительно шагал в распахнутом пальто — ему было жарко. Взмахивал руками, пугая прохожих: «Ничего себе — шуточки!.. Кошмар какой-то!.. Нет, это надо же! Задвинутая! Точно — задвинутая!.. А этот-то, этот! Дуэлянт! Невольник чести!» Телятников застонал прямо, вообразив, как стоял он, неколебимо, гранитно, перед этой дурехой безмозглой и требовал назвать имя совратителя. Ведь он небось, дубина, так и формулировал: «Совратитель».
Дверь в их комнату он не открыл — вышиб плечом.
Две фигуры испуганно взметнулись при его появлении и — закаменели. Ничего они не взметнулись, на самом деле. Просто Маиефа и Зинаида, собравшиеся куда-то, уже одетые, стояли посреди комнаты — и резко по вернулись, когда он возник в дверях, как статуя Командора.
Между ними, на стуле, сидела Дульсинея в какой-то неудобной позе: одна нога в сапоге, будто загипсованная, вытянута прямо; вторая — разутая — глубоко поджата, спрятана под стул. Похоже, здесь только что происходила бурная сцена, даже схватка: видать, эти две «чернавки» насильно пытались обуть Дульсинею, чтобы «весть царевну в глушь лесную». Во всяком случае, глаза ее засияли навстречу избавителю Телятникову такой радостью, такой любовью, что он, не в силах сделать следующий шаг, привалился к косяку.
— Вот!., вот! — Дульсинея смеялась… и плакала. — А вы говорили!
— Ну, все, — хмуро сказала Манефа. — Никуда она теперь не пойдет. — Она дернула за рукав Зинаиду. — Давай отсюда. Не видишь?.. Они же очумелые.
Зинаида провихляла мимо Телятникова, намеренно толкнула плечом:
— Чао, рыцарь бедный! Чао-какао!
…Через два дня они сняли комнатку на окраине города, у полуслепой старухи, дальней родственницы Манефы, и отнесли заявление в ЗАГС.
В отделе внезапная женитьба Телятникова произвела шок. Женщины дружно пожали плечами: дурак — и не лечится!.. Отказаться от такой партии! И ради кого! Ну, добро бы из своего стада выбрал, а то… подхватил какую-то шерочку, первую попавшуюся шлюшку. Майе даже не сочувствовали. В чем тут сочувствовать-то? Туда ему, значит, и дорога, трущобному типу — в трущобу!
Где-то в начале марта Телятникова пригласил к себе завотделом. К себе — это за пластиковую стеночку, отгораживающую его каморку от остального загона.
Сначала шеф торжественно объявил ему о прибавке к жалованию десяти рублей и долго, занудно внушал, что рассматривать это следует, как аванс, как веру руководства в его, Телятникова, будущий рост. «Чего же так, втихушку? — гадал Телятников. — Ага! Мне одному, наверное? Забота о семейном человеке. Чуткость».
Но не десятка оказалась единственной причиной вызова. Покончив с прелюдией, шеф уткнул единственный глаз в бумаги и заговорил о главном: он-де просит по нять его правильно, не оскорбляться, сам был молодым, знает — чувства, горячность и все такое. «Но, Владимир Иванович, мой вам отеческий, если позволите, совет: воздержитесь пока от ребеночка. Какое-то время. Вам сейчас утверждаться надо, как специалисту, супруге — она ведь студентка, насколько мне известно? — заканчивать учебу. А ребеночек свяжет вас — это неизбежно. Ещё раз прошу — не поймите превратно.»
Телятников знал, что все отдельские новости проникают за перегородку к завотделом с большим опозданием, Но чтобы с таким! «Увы, дядя!» — вздохнул он про себя. IІозавчера его Дульсинею положили в больницу, на сохранение беременности. Она трудно, мучительно переносила это свое состояние. Держалась, правда, мужественно Когда уж совсем худо становилось, улыбалась емѵ виновато: «Потерпи, милый.» А вот пришлось все же лечь в больницу. Теперь лежит, просит компота из консервированных вишен. Именно из консервированных. Сегодня надо занести. Где только их достать?
«Отеческую» же заботу шефа Телятников понял не превратно: «Боится, хмырь — квартиру просить стану».
И ведь как в воду глядел завотделом: заявление на квартиру Телятников неделю уже носил в кармане. Все не решался подать. Не достал он его и сейчас. Совсем бы дебильно выглядело: слушал, слушал наставления и — хлоп!
Смиренно поблагодарив шефа за все, откланялся, вышел в коридор. Там, в конце его, у окна, отведено было место для курения. Он сел на подоконник, закурил.
Здесь его и догнала Майя. Впервые подошла после той новогодней ночи. Попросила сигарету. «Вот как! Курить стала!» — удивился Телятников, но вслух ничего не сказал.
Майя так и не прикурила, вертела сигарету в тонких пальцах, смотрела мимо него, в окно.
— Скажи, Володя, — заговорила трудно. — Объясни… если можешь, что тебя остановило тогда? Я была виновата? В чем же?
Телятников смотрел на нее, молчал. Что-то изменилось в Майе. Что? Похудела словно, еще повзрослела. Другими какими-то сделались строгость ее и красота. «Постриглась! — догадался он наконец. — А ее коса острижена, в парикмахерской лежит».
Майя не дождалась ответа. Губы ее дрогнули, покривились.
— Ладно, — она усмехнулась, подняла на Телятникова глаза. — Счастлив ты, по крайней мере?
О чем она? И зачем? Все это было так бесконечно давно, в далекой, туманной, потусторонней жизни!..
— Да! — легко ответил Телятников, словно отпустил Майе непонятный грех. — Счастлив. — И спрыгнул с подоконника.
Потом он вызвал в коридор Рудика. Не заходя в отдел, помаячил ему из двери: выйдь!
— Чо такое, старик, а? — заблестел глазами Рудик. — Майка, да? Чего она?
— Рудольф, — сказал Телятников. — Займи пятерку до послезавтра.
…ЛИСА БЛИЗЕХОНЬКО БЕЖАЛА
Вспомнилось вдруг ни с того ни с сего: у меня же были золотые руки!
Ну да, в детстве. Одно время я был главным, да чего там главным — единственным — оружейником нашей улицы.
Мы тогда, в сороковом, предвоенном, году все сражались и сражались, других игр не знали, и я — один! — вооружал пацанов. Из материала заказчика, плоских, ровных дощечек (сучковатые с ходу браковались), я вырезал ножи. Прямые узкие кинжалы, с желобком посредине — они назывались кавказскими; финские — с полумесяцем изогнутым жалом; пиратские.
Я кромсал дерево столовым ножом, скреб затем бутылочным стеклышком и наводил окончательный блеск наждачной шкуркой. Не думаю, что поделки мои отличались большим совершенством. Вряд ли. Ну, да ведь мне тогда шел всего лишь седьмой год.
Имена пацанов я перезабыл, забыл даже лица их — напрочь. Вспомнились только ножи — смутно, как сквозь туман, проступили их очертания, формы. Кстати, по конфигурации самыми трудными были кривые пиратские, с широким лезвием. Тут заказчики, случалось, привередничали, торговались… Да-да, я не задаром вооружал пацанов. «Черкесы», «пираты» и «диверсанты» (эти предпочитали исключительно финки) несли мне карандаши. Я карандашами брал за работу. Нищим «черкесам» выстругивал простенькие кинжальчики за половинку карандаша, случалось — за огрызок даже. За финские требовал целый карандаш. Штучные пиратские шли по два.
Интересно, что я забыл об этом кусочке своей жизни. Нет, слово «забыл» тут не годится. Я не знал. Не знал много лет, десятилетия. И когда вспомнил — узнал, не Сразу поверил, что было это со мной.
А вспомнилось как-то по-киношному. Сон привиделся — наяву.
Внук подошел ко мне, протянул чистый лист бумаги, карандаш:
— Деда, нарисуй.
Я взял карандаш — и… словно тонкий лучик упал на зетемнённую сцену, зажег тускло-желтое пятно света. И в этом пятне — рука, берущая карандаш. Рука уплыла в темноту и вернулась обратно, с деревянным кинжальчиком. Что это? Где я такое видел? Когда? Приснилось?.. Кадры замелькали, задергались: рука берет карандаш — исчезает — появляется с кинжальчиком — берет карандаш… Рука моя: маленькая, с объеденными ногтями, в занозах.
Круг света начал шириться — и я увидел (и узнал) Пашку, длинного, желтоглазого парнишку, и — каким-то затылочным зрением — себя: маленького, растерянного, виноватого.
Пашка отталкивает мою руку с кинжалом, что-то говорит беззвучно, Aгa!.. он требует пиратский нож. Пашка — наш атаман, оружием бедных джигитов он брезгует. Но ведь у него только один карандаш, да и тот начатый. Что-то говорю Пашке я, мямлю — тоже беззвучно. Наверное, про два карандаша. Пашка высокомерно смотрит на меня, сплевывает. Фу ты, пропасть! Почему я так унизительно мямлю-то, почему суечусь? Ведь я не боюсь Пашку. Никогда не боялся… А-а, вот в чем дело! — я виноват, преступен. Пашка поймал меня с поличным.
Немую сцену догоняет звук:
— Ее кашу лопаешь?
«Она» — совсем маленькая девчушка, то ли соседская, то ли хозяйская, за которой я приставлен смотреть. Наверное, всё же хозяйская: в конце сорокового года мы собирались переезжать в деревню и жили какое-то время на квартире.
Итак, я нянчился с девчушкой, кормил ее манной кашей, сдобренной вареньем. Черпал кашу ложечкой и сначала — «ням»! — отправлял в свой рот, облизывал, а потом — «за папу, за маму» — скармливал девчушке.
Таким, с перемазанными кашей губами, и захватил меня быстро вошедший Пашка. Он эыркнул кошачьими глазами по комнате, остановил их на мне, все понял и… насмешливо одобрил:
— Её кашу лопаешь?
От растерянности я кивнул, сглотнув слюну. Получилось — кашу доглатываю.
Мое замешательство в решило исход торга. Пашка унес роскошный пиратский нож — за неполный химический карандаш. А я остался мелким гаденышем, паскудником.
Тот далекий Пашкин визит (правда, я многие годы не мог, да и не пытался, восстановить — чей именно) и оставшееся после него чувство гадливости к самому себе запомнились на всю жизнь. А вот зачем приходил Пашка — высветил внезапный этот лучик. И всю мою «оружейную мастерскую» он высветил вдруг.
Мою ли?
Как археолог на месте раскопок, случайно вскрывший слой неизвестной ему культуры, я всматривался в эти изделия-видения — и верил, и не верил.
Но — карандаши! Они-то были. Разномастные, разнокалиберные, замусоленные карандаши связывали сон и явь. Вот, значит, откуда скапливалось их у меня так много в те нищие годы.
Карандашами я рисовал — это помню точно. Рисовал коней. Горячих скакунов и широкогрудых сказочных тяжеловесов, с гривами до земли. Тяжеловесы несли на себе закованных в броню богатырей, скакуны — красноармейцев и белогвардейцев. Табуны лошадей мчались вскачь, пластались, распустив по ветру хвосты; лошади, вскинувшись на дыбы, грызлись в кровавых сечах, роняли порубанных всадников; раненые — они бились в постромках опрокинутых взрывом тачанок.
Целые батальные полотна создавал я в миниатюре, на клочках бумаги. Нарисованных мною лошадей хватило бы, чтобы посадить «на конь» несколько казачьих дивизий…
— Деда, нарисуй! — прервал мое оцепенение внук.
— Ах, да! — встрепенулся я. — Нарисовать тебе. Сейчас, сейчас. Что бы такое нам нарисовать? Может, лошадку? Давай лошадку. Во-от… это у нее будет голо-овка.
Я попытался нарисовать лошадиную голову — рука мне не повиновалась. Что такое? Вот же она — голова, морда… стоит перед глазами: гнедая, в мелкой, плотной шерсти, выпуклый блестящий глаз, мягкие черные губы. Я даже могу заставить ее двигаться: раскрою руку — голова потянется, губы, бархатно щекотнув ладонь, снимут кусочек сахара…
— Ну же, деда! — подтолкнул меня внук.
— Погоди-погоди… головка, значит. М-гу…
Я перевернул чистой стороной и… позорно вывел некий «огуречик» с утонченным концом. И покатился по наклонной: глазик — точечка, ротик — черточка, шея — две параллельные линии, грива — расческа, кверху зубьями. Дальше — не мудрствуя лукаво: туловище — огурец, лежащий горизонтально, хвост — щеточкой, четыре палочки — ноги, копыта — треугольнички.
— Готово!
— Бычок! — установил внук, поизучав мой рисунок. — Идет бычок, качается. Он замерз.
Да, на взъерошенного бычка походила моя лошадка. На печального мультипликационного теленочка. Сын подошел, прищурился насмешливо:
— Ну, дед! Крупнейший ты у нас анималист. Выдающийся. — И внуку: — Ладно, пора домой собираться. Пошли-пошли. Я тебе там настоящую лошадку покажу — в книжке.
Внука давно увели домой, а я все сидел над бумагой, пораженный странной этой расстыковкой: закрою глаза и вижу коня, целиком нижу и по частям — раздувшиеся ноздри, грудь в буграх шевелящихся мускулов, сухую стройную ногу, круп; открою глаза, пытаюсь перенести какую-нибудь деталь на бумагу — видение пропадает, рука не слушается. Промаявшись так около часа, я сдался: раскрыл книжку «Соседи по планете» и срисовал из нее ахалтекинца, изображенного там в профиль. Я тщательно следовал оригиналу, даже проверял соразмерность частей тела линеечкой, и тем не менее у меня получилось нечто среднее между лошадью и догом. Вдобавок мой собако-конь имел только две ноги, переднюю и заднюю — левые. Прирастить ему две другие ноги я не смог, как ни бился. Все получалось, что они торчат из живота. В конце концов я стер их вовсе, малодушно решив: будем считать, что с этой позиции они не видны — конь стоит очень ровно, правые ноги закрыты левыми.
Конь стоял… деревянный, мертвый. Никакая сила не могла заставить этого «скакуна» взвиться на дыбы.
Когда же я разучился рисовать? Когда споткнулась, забуксовала, омертвела моя рука? В какой миг порвался, лопнул «привод», напрямую соединявший ее с воображением?.. Или не было такого мига, «привод» перетерся постепенно, истлел, атрофировался, после того как я прикончил свои карандаши — и нечем стало рисовать. И не на чем. Единственную тетрадь, сшитую из грубой мешочной бумаги, приходилось экономить, растягивать на целый учебный год.
А может, это случилось — началось — гораздо раньше: на самом первом уроке рисования, в первом классе?
Учительница тогда прочитала нам басню Крылова «Ворона и лисица» и велела каждому нарисовать по ней картинку.
Мы рисовали, высунув от усердия языки. Учительница расхаживала между рядами парт. Вдруг она остановилась за моей спиной.
— Так, мальчик! Как тебя звать-то?.. Так, Коля… Лиса у тебя очень хорошая получилась. Очень. Только почему она больше дерева? Таких лисиц не бывает. Давай-ка перерисуй.
Я удивился: как? разве учительница не понимает?!.. ведь лиса же близехонько бежала. И я напомнил ей об этом.
— Ах, вон что! — рассмеялась учительница. — Правильно, она бежала близехонько. Близехонько от дерева. А дерево больше лисы.
— От меня, — прошептал я.
— Нет, от дерева! от дерева! — учительница дважды пригнула мою голову к парте. — И не спорь, пожалуйста. Какой упрямый.
Неужели я поверил ей тогда? Зачем поверил?
Вырезать пиратский кинжал из дощечки я не стал. Хотя и подходящий материал у меня имелся, и инструментом я располагал достойным — не одним лишь столовым ножом. Но я уже знал точно: никогда не сравниться мне с тем далеким маленьким оружейником, не достичь его вдохновенного умения.
Через два дня праздновали мой пятидесятилетний юбилей.
Старый друг и соратник произносил речь. Друг любил меня. Он высоко ценил мои прежние книжки и верил, хотел верить, в будущее. Он желал их мне.
— Этот бокал, — сказал друг, — я хочу поднять за лучшее произведение нашего юбиляра — за то, которое впереди!
Я благодарно склонил голову. И подумал: «Поздно, брат!.. Ты помнишь луну над заполярной Аксаркой? Помнишь этот явственный шар, бледно-желтую ледяную глыбу с неровными, побитыми чем-то тупыми боками? Помнишь… огромного желтоглазого циклопа, который, склонившись, рассматривал притихший поселок — щепотку огоньков, брошенных на темную ладонь тундры?.. Эту луну я увидел — и написал — двадцать лет назад. Другой такой не будет. И ты это знаешь».
Потом взял слово мой давний недруг. Я знал, что он уколет меня, но пока не знал, как. И он еще не знал, как уколоть — чтобы и побольнее было, и пристойно выглядело: рот уже приоткрыл, а все доискивал что-то глазами. Вдруг взгляд его упал на моих детей, — они сидели напротив, задеревенев от важности момента, — и он (нашел-таки!) ликующим голосом выдал:
— Давайте выпьем за единственно достойные, за самые лучшие произведения юбиляра — за его детей!
Так он изящно уязвил меня, растер, уничтожил. И гак он нечаянно сказал правду.
Да, лучшие наши произведения — наши дети. Лучшими произведениями наших детей станут их дети, лучшими произведениями детей наших детей — дети детей наших детей. И так без конца.
И, возможно, где-то там, в дали не просматриваемой, за чертой еще не рожденной, грядет мальчик, близехонько от которого пробежит однажды его Лиса, и мальчик никому не даст убедить себя в том, что пробегала она близехонько от дерева.
И этот мальчик будет гений.
ЛЕТО СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ
Не умею выдумывать — вот какая беда. В смысле — сочинять. Хотя сочинительство и хлеб мой насущный, и занятие вполне почтенное. Да и само слово «сочинитель» едва ли не древнее и понятнее позднейшего «литератор». Но вот… не могу. Сколько раз порывался я начать повествование как-нибудь этак: «Иван Иванович проснулся утром, напился кофию, надел архалук и поехал на Бежин луг…» — и всегда терпел крах. Потому что не знаю никакого Ивана Ивановича. Не встречал. С ним вместе не служил. И не могу представить ни его кофия, ни его судьбы. Худо-бедно я знаю себя. Худо-бедно — тех, с кем соприкасался плечами, чью жизнь, чьи истории наблюдал с близкого расстояния. Но этою, говорят, мало. Надобно уметь представлять. Один мой приятель, известный литератор (я его глубоко уважаю), прямо-таки на теоретическом уровне доказывает: пока человек пишет только о себе, о своей жене, теще, соседе — о ближних, — он еще не писатель, а так… зарисовывальщик. И лишь когда он проникнет в душу дальнего, неизвестного — вот тогда заработает право носить высокое звание российского литератора.
Да бог бы с ней, с теорией. Теорий-то разных много. Практика бьет — вот в чем дело. Другой раз — прямо наотмашь.
Написал как-то о знакомых дураках. Они себя — дураки дураками — а узнали. И в крик: оклеветал! Ладно — дураки: что с них взять? О генерале знакомом написал — умном, интеллигентном. С симпатией и сочувствием написал. Про то, как он двух мужиков не смог прокормить. Такие, извиняюсь, глоты попались — чуть по миру его не пустили. Так вот, мужики — ничего, а генерал обиделся. Да так крепко, что подговорил других генералов — и пошли они на меня войной. Мать честная! Года два, однако, в осаде держали. Фронт развернули от Москвы до Охотского моря.
Если память мне не изменяет, именно после этой кровопролитной кампании я сделал последнюю отчаянную попытку научиться писать по рецепту моего друга-теоретика. Ну да, после нее… Об этой попытке хочу рассказать отдельно. Для чего? Да хотя бы в назидание — прежде всего самому себе.
Итак, безумно жарким летом, в памятный год полного солнечного затмения, сбежал я на дачу. Сбежал от городского варева, от суеты, телефонных звонков, собраний, от позарез необходимых, а чаще всего вовсе не нужных встреч, от бесконечных «надо», — сбежал, чтобы, наконец-то, сгрести в кучу расползшиеся, растерзанные мысли и спокойно поработать. Пусть даже не написать что-то, начав и кончив, а хоть зацепиться за работу, заболеть ею, повесить этот сладкий груз на душу. Чтобы лежала потом на краешке стола спасительная стопочка бумаги — и гипнотизировала, укоряла, тянула к себе, как магнит. Ну, и была, как уже говорилось, спецуста новка: сочинять! Завеситься, закрыться, зажмуриться. Не увлекаться — тьфу, тьфу! — ни злободневностью, ни близлежащестью. «Иван Иванович проснулся утром…» — и все. И шабаш!
Условия на даче у меня были завидные. Настолько, что я сам себе завидовал.
Два лета назад я возроптал. «Что же это, — сказал домашним, — вы везде живете, а я нигде. Давайте пригородим хоть какой-никакой пенальчик, метра на полтора-два, пусть и одну дощечку. Лишь бы столик вошел да раскладушка — мне больше не надо». Тесть, обстоятельный человек, идею «пенальчика» категорически отверг. «Еще городушек мы не городили, — сказал. — Давай уж тогда второй этаж строить». И соорудили мы с ним в ударном порядке, за месяц моего отпуска, «голубятенку» — мансардочку на десять квадратов. Построили любовно, стены ничем оклеивать не стали, чтобы держался постоянно в «голубятенке» запах строганого дерева. Я сам сколотил стол — по собственному вкусу: просторный и прочный. Оборудовал лежанку. Повесил на стенку незамысловатую поделку одного любителя — церквушку, отчеканенную по жести, на обожженной до черноты — под старину — доске. Привез из города полуоблысевшую медвежью шкуру — давний подарок забайкальских друзей-охотников…
Но тут кончился мой отпуск.
Осталось только полюбоваться «голубятенкой» и вздохнуть: ничего, будет еще впереди лето.
Однако миновало следующее лето, прошло еще одно, а засесть в мансарде так и не удавалось. Раз в две, а то и в три недели я приезжал на дачу с ночевкой, открывал «голубятенку» — и под сердцем у меня тотчас же возникал тонкий скулёж. Пустым стоял мой уголок. Не сроднился я с ним вымученным слоном. Не обжил бессонным трудом.
Мне трудно передать это состояние. Я ведь, в общем-то, не бездельничал. Работал. Случалось, и напряженно. Но вот здесь… Возможно, меня понял бы тот редкостный, уникальный даже, автолюбитель, если только он существует на свете, который купил машину, но за много лет так ни разу на ней и не прокатился. Хотя никто ему этого не запрещает, и водить он умеет, и права у него в порядке. Но ему лишь изредка удается переночевать рядом с ней в гараже, и он скулит там, поглаживая в темноте холодный, неотзывчивый бампер.
И вот я вырвался. Приехал не скулящим ночлежником, а постоянным жильцом, хозяином и работником.
Я разложил на столе бумагу, записные книжки, наброски, начала. Погрузил босые ноги и редкий медвежий мех, вздохнул полной грудью: «Наконец-то!»
…А работа вдруг не пошла.
Она и не могла пойти, при той, искусственной, установке. Теперь-то понимаю. Но тогда я подумал, что просто меня подкараулил некстати очередной период «детоубийства» — когда все, найденное с утра и казавшееся ярким, глубоким, точным, к вечеру становится плоским, бездарным, постыдным, и ты — «слуга чернильницы пузатой, лишенный божьего огня!..» — рвешь в клочья написанное за день. Освободиться, скорее освободиться! — чтоб утром «замысел внезапный пронзил, как молния, меня».
Я сразу поставил диагноз болезни, но недооценил силы приступа. Подумал: переболею день, другой, третий, наконец, — и отпустит. С утра, «пронзенный замыслом внезапным», я усаживал себя к столу. Вечером, отчаявшись, рвал жалкие странички, рвал мелко — «не было! не было!», — спускался с «голубятенки» и, независимо продефилировав мимо супруги (ее всегда очень расстраивают мои «детоубийственные» периоды), высеивал написанное в уборную. Бумажки летели во тьму зева беззвучными новогодними снежинками…
Так продолжалось недели полторы, пока, топча этот несуразный маршрут, я не вытоптал злобно колющую мысль: «Вот место, которого достойны все твои сочинения. Все, все! — не пытайся защититься прошлым». Прошлым защищаться бесполезно. Другие могут защитить тебя, сам же перед собой ты беспомощен и наг. Сколь ни перелистывай страницы когда-то написанных тобой книг, сколько ни вспоминай добрые рецензии — легче не станет. Ты пуст сейчас — и это главное. Пуст сейчас — и, значит, бездарен навеки.
Я стал уходить на Обь. Говорил себе: отдыхай, раз не пишется. Отдыхай, чего маешься? Лето проходит.
Обь протекала в километре от ворот дачного кооператива. Она делилась здесь на собственно Обь и обводной канал, ведущий к шлюзам. Укрощенная жарой река выглядела жалко. Языки песчаных отмелей вылизывали ее почти до середины. Красный буй пьяно мотал башкой на мелководье.
Выше, за плотиной, цвело Обское море. Продукты цветения переливались через шлюзы в нижний бьеф, истолченные в мельчайшую взвесь, ровно зеленили воду.
В будние дни на пляже было пусто. Кружили чайки, да звонкими голосами сквернословили облепившие буй дети — компания хулиганистых пацанов из ближней деревни Нижней Ельцовки. Они пытались положить его на бок и удержать в таком положении. Буй выпрямлялся ленивым ванькой-встанькой.
«Чего тут поворачивать-то… на юг? — думал я, глядя на обезвоженную реку. — Часть какого стока?».
Раскаленный добела песочек жег меня снаружи. Тоска грызла изнутри.
Это неправда, что нет мук сильнее муки слова. Есть. Мука бессловесности, каменной немоты. Камень — тяжелый, горячий, набухающий, словно квашня, — распирал мою грудь. Мне страшно было заплыть: казалось, я сразу пойду ко дну, как жернов, — никаких колосников к ногам привязывать не потребуется.
И я не выдержал. Однажды утром позорно бежал с дачи, громко проклиная неповинную «голубятенку».
Уже за калиткой догнала меня теща. Теща гналась за мной, задыхаясь и кренясь набок под тяжестью полутораведёрной сумкн с помидорами.
— Хоть помидорчиков увези домой, — сказала. — Чего там есть-то будешь?
И тут лишь Я обнаружил, что убегаю босиком. Я поносил сумку на штакетник, вернулся и «голубятенку», надел туфли.
Неожиданных союзников моего бегства ниспослало мне провидение. Сразу же за воротами кооператива вдруг остановился обогнавший меня служебный автобусик, призывно бибикнул и раскрыл дверцы.
— В город? — спросил я, запрыгнув в салон. Молчание было мне ответом.
Странные, окаменелые люди сидели на скамейках, расположенных вдоль бортов автобуса, — двое мужчин и две женщины. Напряжены были их спины, не касавшиеся стенок, неподвижны руки, впаянные в скамейки, запечатаны уста. Остановившимися, скорбными, как мне показалось, глазами смотрели они все на огромный холодильник, стоявший между ними. Так сидят родные и близкие в катафалке, возле гроба покойного.
Мне сделалось не по себе. Представилось на минуту, что там, внутри, лежит убиенный младенец — и эти люди, по причине сокрушительной жары, спешат увезти его домой замороженным. Чушь какая! Я аж головой затряс, отгоняя жуткое видение… Да нет, наверное, все-таки что-нибудь полегче. Возможно, у них сгорела дача, и холодильник — единственное, что успели они выхватить из огня. Вот и сидят теперь с похоронными лицами. Да! Но как они втащили в автобус такую громадину? Я оглянулся украдкой и — царица небесная! — увидел в задней стене автобуса широкую двустворчатую дверь. Это был на самом деле катафалк!
В гробовом молчании доскреблись мы до города. Я тоже закаменел, не мог отлепить взгляда от блестящей ручки холодильника. Убиенный младенец окончательно завладел моим воображением. Господи! Только бы не распахнулись дверцы на какой-нибудь выбоинке!
Возле железнодорожного вокзала я вышел — дальше было не попутно. Водитель зловещего «летучего голландца», такой же молчаливый и загадочный, как его пассажиры, принял мою трешку, не повернув головы. Я выпрыгнул прямо в привокзальную людскую сутолоку — и здесь только спала с моих глаз пелена. Я вдруг увидел то, что должен был увидеть, да, собственно, и увидел, в первую же минуту. Ведь они же просто удерживали коленями холодильник, чтобы не ерзал и не содрогался. Тридцать километров изо всех сил сдавливали его бока, упираясь окоченевшими руками и задами в скамейки. Боялись даже рты раскрыть, черти. Вот это выдержка!
Я рассмеялся. Я оттолкнулся от земли и зашагал, вольно помахивая руками этак сверху вниз, и оттого словно бы подлётывая при каждом шаге. И так я шагал, припархивая, пока меня не обожгла мысль: «А чего это я машу двумя руками? В одной должна быть сумка!» Сумки не было. Елки-палки! Полтора ведра отборных, ядреных, свеженьких — с куста — помидоров увозил в неизвестном направлении автобус-призрак.
Да что же это такое?! Да сколько же можно-то?!
Я опустился на ступеньку гастронома и, кажется, заплакал.
Не помидоры оплакивал я, — они оказались только последней каплей, переполнившей чашу, — а две недели, попусту спаленные в «голубятенке», высеянные в сортир мысли и чувства, обессиленную Обь и обессиленного себя, свою растрепанную душу, нелепую свою жизнь. Вся-вся виделась она мне нелепой — прошедшая, настоящая и будущая.
И, конечно, прозвучала надо мной сакраментальная фраза:
— Во как нарезался с утра, орелик! И ведь не молоденький — голова, гляди-ка, белая.
…Потом я лежал на диване, уткнувшись лицом в подушку. Маялся. И, как в кино, возник на пороге старый институтский друг. Преобразователь Севера, главный инженер некоего могучего строительного треста, он прилетел из Якутии (восемь часов лету с двумя посадками — полторы минуты экранного времени).
Сценарий нашей встречи через многие годы, может быть десятилетия, мысленно был написан мною давно, еще на последнем курсе института, когда одолел меня зуд писательства и я смутно прозрел свою будущую судьбу… Друг — по сценарию — заявлялся глубокой ночью и непременно зимой. Зима нужна была для колорита: собачьи унты (на друге), кухлянка, сосульки в бороде (за полторы минуты экранного времени сосульки, конечно же, не успевали растаять). А вот я: на мне вязаная рубашка, горло укутано шейным платком, лицо бледное, под глазами темные круги, виски пробила благородная седина. Я, понятно, не спал всю ночь, я работал. Настольная лампа освещает небрежно отброшенные испещренные страницы, и ту, почти девственную, на которой дымится очередная недописанная фраза. Мы молчим, не торопимся начать разговор. Я достаю из буфета початую бутылку коньяка, две рюмки, ставлю на край стола. Сильный мой друг — землепроходец, большой начальник — выщипывает сосульки из бороды, уважительно косится на результаты моего ночного бдения. Там — мудрость, там — прозрения и пророчества, там, возможно, — ответы на вопросы, которые мучают и его в бессонные ночи…
Я не узнал друга. Он стоял передо мной — не в унтах и кухлянке — в хорошо пригнанном джинсовом костюме, гладко выбритый, моложавый, стройный, подсушенный холодным северным солнцем. Умные глаза его смотрели твердо и превосходительно. Современный энергичный руководитель, технократ, ворочающий многомиллионным делом.
И сутулился перед ним я: мятые дачные брючишки, сползшие на бедра, бледная полоска живота — между ними и куцей рубашкой, седые, всклокоченные волосы, не круги, а мешки под глазами. И не было у меня мудрых страниц, все мои прозрения и пророчества, изодранные в мелкие клочья, покоились… не хочется лншний раз повторять где. И коньяка у меня не было, и ни корки хлеба в доме, и помидоры свои я забыл в катафалке.
Марочный коньяк, копченую колбасу, сыр «рокфор» и банку крабов достал друг — из элегантнейшего чемодана натуральной кожи. Практичный человек и богатый северянин, он сразу после прилета нанес визит в ресторан аэропорта, а уж потом отправился ко мне.
Через полчаса, когда в бутылке заметно поубавилось, друг, наслушавшись моих жалоб, насмешливо процитировал:
— Пиши про рожь, но больше про кобыл…
И завелся. Вскочил. Стал ходить по комнате — прямой, резкий.
— Про жизнь пиши! Про нашу жизнь! Про вчерашнюю и сегодняшнюю. Про восторги и победы, про срам и стыд!.. Про меня! — Он остановился, ударил руками в грудь. — Чем я не герой книги?.. Пиши про себя! Напишешь о себе — расскажешь о времени. Если ты не слеп и глух и не только собственные драгоценные сопли способен размазывать по дряблым шекам!
И это было лучшее, что успел сказать мне друг до начала солнечного затмения.
Через несколько минут — привыкший доверять не эмоциям, а расчету — он уже конструировал мою судьбу на оставшиеся годы: соединял достоинства моего пера с различными жанрами — фантастикой, драматургией, критическими эссе, — проигрывал варианты и оценивал перспективы. И далеко-далеко где-то бледнело и таяло единственно верное — «Пиши про рожь… Пиши про жизнь».
Затмение меня спасло.
Мы наблюдали его с балкона. Закопченных стеклышек у нас не было, пришлось воспользоваться моими рентгеновскими снимками. Другу достались шейные позвонки, угнетенные застарелым остеохондрозом. Себе я взял снимок крестца и тазобедренных суставов, где свил гнездо остеохондроз помоложе.
Красное, убывающее солнце просвечивало меня насквозь. Розовели, поджаривались бледные косточки малопочтенной части моего организма.
Потом солнце закрылось совсем — и меня не стало.
Холодный горний ветер мягко и мощно промчался, словно долгий выдох Вселенной.
Далеко внизу неслышно колыхнулась листва на деревьях, белой ножевой поземкой рванулась пыль по спортивной площадке.
Друг мой вздрогнул и поежился.
Легкие, бестелесные парили мы над плоскими крышами панельных пятиэтажек, нал травой и деревьями, над одиноком собакой, застывшей в стоике по непонятному зверю.
Мы плыли, мы возносились от мрака стремительно остывающей земли в ледяной мрак небес…
А сумку с помидорами я, оказывается, забыл на штакетнике, когда бегал в «голубятенку» обуваться.
Замаскировавшиеся кустом сирени, помидоры провисели там три дня и достигли идеальной степени зрелости.
Что ж, видно, и правда — «всякому овощу — свое время»: и помидору, и замыслу.
И вот результат, читатель. — эта книга, где опять не будет неизвестных мне Иван Иванычей.
Прими, как говорится, собранье пестрых глав и не обессудь, если сможешь.
МЕШОК КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ
I
Учительница Душкина Генриетта Сергеевна привезла в город, на продажу, мешок кедровых орехов. Приехала она, вернее привезли ее добрые люди, поздно, в двенадцатом часу ночи, приткнуться ей до утра, до открытия рынка, оказалось негде. Вообще-то, в городе у нее жила родная сестра, Ирина, артистка драматического театра, однако к сестре по некоторым причинам путь ей был закрыт. Хотя в доме сестры ложились поздно — можно было еще успеть. Но как раз то, что поздно ложились, Генриетту и смущало. А вдруг у них компания. Муж Ирины Виталий — тоже артист, знаменитый, его в кино часто снимают — человек общительный, живой, народ вокруг него всегда роится. И вот тебе картина: там компания — артисты, художники, «бомонд», как говорит Ирина, а тут она заявляется—бабеха деревенская, клуша… с мешками (у нее, кроме мешка орехов, был еще полнехонький рюкзак шишек).
Но все-таки не это было главным, а то, что люди, с которыми она доехала, не могли петлять по городу — опасались. И не без оснований.
Попутная машина до города подвернулась ей так: приехали к соседу, к ветврачу, родственники — брат с женой. Приехали на служебном автобусе, на «пазике»: брат в городе работал начальником какого-то небольшого гаража. И еще с ними было семейство: механик — подчиненный брата, супруга его и пацан лет пятнадцати. Два дня погуляли, а потом набили автобус мешками с картошкой, с орехами теми же — собрались домой. Тут Генриетту и осенило: вот же случай! Другой когда еще представится. А на рейсовом автобусе, в который всегда не протиснуться, с грузом-то мука мученическая. Да он к тому же только до райцентра, а там пересаживаться надо.
Короче, напросилась она в попутчицы. А мужики оказались какие-то шибко яростные — начали дорогой водку хлестать. Именно хлестать. Останавливаются в деревне, берут поллитровку, располовинивают — и вперед. Только кустики мелькают. В следующей, километров через двадцать, — та же история. Жены попытались было укоротить их, а мужики: «Цыть! А то перевернем к такой матери!» Вроде весело цыкнули, а бабенки сразу прижухнулись. Матриархатом нынешним тут, похоже, не пахло. Мужики, видать, добытчиками были, на них семьи держались, жены поэтому пикнуть не смели. Вообще, странная у них компания подобралась, интересная — внешне даже. Мужики похожие друг на друга: крепкие оба, пузатые, красномордые — как два гриба боровика. Жены еще больше похожи: худые, остроносые, злющие, от вечной задавленности наверное. Сестры, что ли? Хотя… Генриетта с Ириной тоже сестры, а рядом поставь — никто не поверит. Ирина стройная, изящная, моложавая, несмотря что старше на три года. Генриетту же так разнесло — поперек себя шире. И мастью тоже не сошлись: Ирина беленькая — в мать угадала, а Генриетта черноволосая — в отца.
После второй бутылки мужики вовсе бешено погнали машину. А еще до Ползунов не доехали. За Ползунами гравийка, хоть и щербатая, там полегче все же. А здесь насыпная грунтовка, растолченная тракторами в кашу, колдобина на колдобине. Автобус юзит, кидает его на ухабах из стороны в сторону, мешки по салону так и порхают, поразвязывались некоторые, картошка под ногами катается, бьется. А по сторонам дороги кюветы глубоченные…
Генриетте страшно сделалось: перевернемся! Не доедем! Угробят, охломоны.
Дернул же черт связаться. И ведь никуда теперь не денешься, не выскочишь среди поля — с грузом-то.
Перед самым городом за руль сел пацан. У него прав не было, а водить умел. Вот отчего они так храбро себя держали — на пацана надеялись. Но по главным улицам ехать им было все же нельзя. Закоулками, переулками прокрались они на другой край города, где у брата ветврача был свой дом, каменный. Автобус загнали в ограду, разгружать не стали — до утра, мол. Мужики, как вошли в дом, попадали сразу спать, даже ужинать не стали. Остроносые жены их присели у стола, голова к голове: шу-шу-шу… На Генриетту не смотрят, как будто ее и нет здесь. Она потопталась, потопталась у дверей… да черт с ними! Куда же теперь деваться, ночью? Не выгонят, поди. Побоятся мужей. Кинула в кухне на полу свое пальтишко, платок пуховый комком свернула — под голову — и легла…
II
В Заикино Душкины приехали полтора года назад. До этого учительствовали они в большом селе, в Кулунде. Даже не село это было, а рабочий поселок: три тысячи жителей, совхоз богатейший, птицефабрика, свой Дом культуры, музыкальная школа, две общеобразовательных: восьмилетняя и десятилетняя. Душкины были там на хорошем счету. Генриетту, например, сколько раз в район посылали — рассказывать о своем методе преподавания в младших классах. И к ней из других: ел приезжали учителя опыта набираться.
Но кругом поселка лежала степь, ровная, унылая, местами белесая от солончаков, как выскобленная доска. И муж Геннадий, выросший в таежном, речном краю, тосковал: с удочкой посидеть негде! А еще, называется, в деревне живем. Ребятишкам за грибами сбегать некуда.
Генриетта, когда умерла свекровь и никого у них из родни не осталось, кроме сестры Ирины, согласилась на переезд в другую область. «Только подбирай район поближе к городу, — сказала, — поближе к Ирине».
В Заикино помог им устроиться муж Ирины Вита-гай. Позвонил в ближний район, секретарю райкома: он там с шефскими концертами часто выступал, знал секретаря хорошо. Возьми, попросил, свояка. Секретарь, поскольку были они с Виталием накоротке, прямо поинтересовался: а чего это он к нам? Не сработался там? Он, вообще, как — не склочный мужик?
— Да не склочный, не склочный, — заверил Виталий. — Нормальный… губошлеп. Дон-Кихот. Бессребреник. Убежден, что его место только в деревне. Просто ему там не климат, ностальгия замучила — по дубравам. А у вас — леса. Ты его хватай тепленького, на таких воду возят.
Секретарь подумал секунду.
— Школу потянет?
— Он прицеп тракторный потянет! Будет хрипеть, падать, но тянуть.
— Ну, пусть подъезжает, — сказал секретарь. — Познакомимся.
Геннадий прилетел. Хотя и каникулы были, летние, а вырваться ему из школы удалось только на один день. А что за день увидишь? Да еще часть времени у него секретарь отнял: счел необходимым лично встретиться, побеседовать. Ну, порасспрашивал Геннадия, затем район обрисовал: такие-то посевные площади, такое-то поголовье крупного рогатого скота, культура, быт, то, се… Под конец странную фразу произнес:
— Хозяйство у нас среднее. Ну, а что касается благосостояния… народ живет крепко. В целом по району двенадцать миллионов на сберкнижках.
Геннадий внутренне хмыкнул: интересно — хозяйство среднее, а живут крепко! Но отметил он этот парадоксальный факт мельком: в кабинете сидела заврайоно, а у подъезда ждал «газик» — надо было ехать, смотреть школу.
До Заикино, куда повезла его заврайоно, было километров семьдесят. Проезжали озера—они тянулись вдоль дороги цепью, разделенной узкими перешейками. Потом леса начались, колки березовые.
Геннадий крутил головой, схватывал красоту эту. Заврайоно заметила его интерес, сказала:
— Уток здесь осенью — тьма. А от деревни — километрах в семи — кедрач пойдет. Жалко, времени мало, не посмотрим.
Времени у них, действительно, мало было, только со школой познакомиться. А чего там знакомиться? Длинное бревенчатое здание, одноэтажное. Геннадий прошагал по нему деловито, размашисто. Толкнул двери в некоторые классы, стукнул кулаком в облупленную стену:
— Ремонт требуется.
Заврайоно семенила за ним, смущалась и недоумевала. Ее недоумение раньше охватило, еще в кабинете у секретаря. Странно: мужчина, с высшим образованием… интеллигентный с виду, похожий на киноартиста Тихонова, не на Штирлица, а на того, каким он играет в фильме «Доживем до понедельника», потощее только… и вдруг — в деревню! Откуда все выпускники пединститута бегут при первой возможности.
Она кашлянула:
— У меня еще три школы без директоров. Может, посмотрите? Поближе к райцентру. И получше. Задержитесь дня на три. Гостиницу мы вам организуем.
Геннадий повернулся к ней. Резко. Длинные ноги — циркулем, руки за спиной, глянул сверху вниз. И выдал свое кредо:
— Нет плохих школ. Есть плохие учителя.
Заврайоно оробела. Ей такие слова только от высокого начальства слышать доводилось.
Так Душкины и очутились в Заикино.
Места были тут чудесные, ничего не скажешь: лес, озера, кедрач в семи километрах. Непролазный, дремучий. Но вот деревня… Ее сносить собирались, когда кампания шла за ликвидацию малых сел. А потом оставили на неопределенное время. Отделение совхоза. Дворов примерно шестьдесят. Мелкота — по теперешнему времени.
Школа запущенная до крайности. А как ей запущенной не быть? В пятнадцати километрах центральная усадьба, все лучшие кадры там. А здесь девчонки преподают, после десятилетки, из местных же. Да какие! Которые сами в институт поступить не смогли. С высшим образованием — один физкультурник. Был. Года за два до приезда Душкиных. Сбежал. Но не в город. Сориентировался парень. Понял, что в городе ему ловить нечего: там таких специалистов пруд пруди. Остался здесь, в кладовщики пошел. А что? Грамотный человек, управляющий за него двумя руками ухватился. Ну вот: сам кладовщик, жена продавщица — завели хозяйство, обжились. Полтораста уток каждый год выкармливают, восемьдесят гусей. «Ниву» купили. Чем выкармливают — ежу понятно. А попробуй докажи. Да и кто доказывать станет?
Ребятишки, естественно, темные. Генриетта приняла второй класс — они ни бе ни ме.
Ну, да ладно. Это школа, работа. К такому не привыкать было.
С другим обстоятельством Душкины здесь столкнулись. Не то чтобы с непредвиденными — они деревенскую жизнь, слава богу, знали. Но тут уж… В общем, открылся смысл той, секретарской, фразы. Город близко, областной центр — вот в чем штука. Не так уж и близко, километров полтораста, но когда у каждого второго свои колеса — считай, рукой подать. Личным подсобным хозяйством никто не брезгует. Скотину держат — свиней, овец, а главным образом — птицу, гусей. Гуси инкубаторские (в районе свой инкубатор), белые, крупные. Летом выйдешь на улицу — деревню будто снегом замело. Красиво.
А вот купить чего-нибудь, мяса или молочка — шалишь! И понятна психология: драть три шкуры со своих же деревенских, тем более с учителей, неудобно, а дешево продавать невыгодно. В городе-то, на рынке, те же гуси по двадцать рубликов. Вот они — миллионы на сберкнижках.
Геннадий наладился было, как на прежнем месте, к управляющему, а тот оказался с заскоками, неровный мужик. Если в хорошем настроении — черкнет записочку: отпустить. Но и записочка — только записочка, еще не продукт. С нею к завскладом надо. Кладовщик же, даром что сам бывший учитель, очень быстро осукинсынился. Захочет — отпустит, не захочет: «У меня бригады кормить нечем… обождешь». Геннадий однажды, получив от ворот поворот, разогнался обратно к управляющему — пожаловаться на кладовщика. А управляющий уже в другом настроении: «Что? Не дал? И правильно сделал. Там люди вкалывают без разгиба, а ты разгуливаешь тут… в шляпе. Интеллигент».
Геннадий, правда, носил шляпу. И не только шляпу. Галстук носил. Костюм всегда отутюженный. В школу собирается—туфли начистит до блеска. И пройдет по любой грязи, не запачкается. Генриетта удивлялась на него: «Ты уж настолько высох — тебя грязь держит. Скоро, как Христос, по воде ходить станешь». Сама она, впрочем, в школу тоже одевалась нарядно. Это у них правилом было: учитель должен выглядеть опрятным, красивым. Только Генриетту грязь не держала. Она в резиновых сапожках ходила. А туфли носила в сумке. В школе переобувалась.
Так вот, не шибко дружелюбно относился управляющий к интеллигенции. Когда и где она ему соли на хвост насыпала? Всего-то интеллигенции в Заикино было: учителя да завклубом Володя — молодой человек, холостой и — временный: отбывал распределение после культпросветучилища. Даже не скрывал, что отбывает. Этот Володя один раз схватился с управляющим, у него же дома, в гостях сидели — сам вдруг позвал чего-то. Генриетта с Геннадием тоже были.
Володя за столом расхрабрился, ударился в философию:
— Вы почему равняете сельскую интеллигенцию с теми, кто пашет? Интеллигенту нельзя в навоз зарываться, некогда. Он свет должен нести. Раньше учителей, например, миром содержали, опчеством. И вообще… знаете, как говорил Максимилиан Волошин? Человечество должно кормить своих поэтов, иначе оно зажиреет и погибнет.
Управляющий тяжело уставился на Володю.
— Ты, что ли, поэт?
— Я про поэтов в широком смысле, — заносчиво вздернул голову Володя.
— Ну дак и… — управляющий послал Володю в узком смысле.
Душкины помыкались, помыкались — решили покупать корову. Надо же ребятишек кормить, двое пацанов у них. Купили. Залезли в страшенные долги. Лишних денег у них отродясь не водилось, а тут и вовсе: когда срывались с прежнего места, огород даже не успели убрать. Картошку в земле оставили, соседям. Копать еще рановато было, а на корню ее не продашь. Залезли в долги — а из чего отдавать? Из каких шишей? Новые знакомцы посоветовали им: заводите поросят. Самое верное дело. Выкормите за лето, — да они тут на воле, на подножном корму, сами перебьются, — а осенью мясо на базар, оправдаете и корову, и поросят. Послушались они совета, купили двух поросят, свинку и боровка — опять же в долг. С курицами, которых Душкины еще раньше, до коровы еще, завели, образовалось целое хозяйство. Надо им заниматься, Генриетте — хоть работу бросай. В Кулунде у них тоже кое-какая животина имелась, но там по хозяйству управлялась свекровь. А они с Геннадием одно знали — школа.
Вдобавок, не повезло им с живностью. Или они просто неважными хозяевами были? Началось с петуха. Такой вырос… неутомимый, повадился, хлюст, чужих кур топтать. С утра своих перетопчет — и бегом в соседний двор, к ветврачу. А соседу обидно… хотя вреда-то, урона, вроде бы ему никакого и нет.
— Максимыч, зашиби своего ухажера. Свари из него суп. А то, гляди, я зашибу.
С поросятами тоже промахнулись: маленькие, горбатые, злые, ни черта не растут, одна щетина прет вверх. А прожорливые — ужас. С утра покормишь, выгонишь на улицу — они через полчаса уже калитку подрывают, визжат пронзительно, жрать просят. Геннадий обзавелся бичом—гонять их, паразитов. Измочалил за неделю бич — все бестолку.
Сосед, озверевший от этого визга, и то не выдержал. Зашел раз, предложил помощь:
— Да-кось, Максимыч, я их своим кнутом жигану.
И жиганул. Угадал по боровку. Тот свился кольцом, подпрыгнул метра на два, однако, и так бузанул по улице — аж грязь во все стороны.
— Ну и рука у тебя! — подивился Геннадий.
— Да не в руке дело, — сосед протянул ему бич. — Глянь, что у меня там на конце.
Геннадий глянул. К самому кончику бича, к хлыстику, привязана была металлическая гайка.
— Слушай! — растерялся он. — Так ведь и зашибить можно!
— А его и надо зашибить, — скривился сосед. — С него проку не будет.
— Ты чего такой кровожадный-то? — возмутился Геннадий. — Вчера — петуха зашиби, сегодня — поросенка, а завтра что посоветуешь? Жену зашибить?
В общем, слабые были надежды на поросят. Росли они, конечно, помаленьку, но сала не накапливали. Прогонистыми оставались, худыми.
И тогда Геннадию стукнула в голову идея — кедрач!
Урожай в этом году на шишку выдался рекордный. Из города люди ехали, жили неделями. Били шишку, гут же рушили, отвеивали, увозили чистый орех. Тысячи увозили, если на деньги перевести.
Геннадий бить шишку не мог. Для этого компанией нужно действовать, бригадой. Он падалицу собирал. Сбегает после работы, полмешка насбирает. Туда семь километров, обратно — семь. Да там часа два понагибаться надо. Месяц целый бегал — не каждый день удавалось время-то выкроить.
Однажды его с трофеями этими лесник прихватил. Стой! Куда? Ты что же это, а? Браконьерничаешь? Не знаешь разве: половину ореха в лесничество надо сдавать. Готового, прокаленного.
Геннадий, замотанный этими рейсами, психанул. Бросил мешок наземь:
— На! Забирай все! Я же падалицу подбираю — все равно сгниют. Сам хвастался, что у тебя с прошлого года еще на полторы тыщи ореха лежит, недопроданного. А тут увидел. Поймал браконьера!
Лесник, не ждавший такого отпора, оскалил редкие зубы:
— Ладно, неси. С тебя пол-литра.
И потом, за пол-литра, выдал справку: сдан, мол, орех, положенное количество. Справка такая требовалась для базара.
III
Поднялась Генриетта чуть свет. Мешки свои она из машины вечером еще выкинула, чтобы с утра хозяев не беспокоить. Вышла на дорогу — пусто, край города. Но через полчаса замелькали машины. Генриетта остановила такси, не попутное, с пассажирами. Шофер при слове «базар» оживился. «Жди, — сказал. — Щас доброшу людей, развернусь». И когда вернулся, сам мешки в багажник утолкал: надеялся, видно, на хороший заработок. А Генриетта ему за все—трешечку. У нее всего-то четыре рубля было. Но последний рубль она берегла — талончик купить, за место у прилавка.
Шофер заметно поскучнел, мешки обратно вытаскивать не кинулся. Генриетта выворотила их сама. Дотащила волоком до прилавка. Расстелила чистую тряпнцу, насыпала горку орехов, рядом шишки положила. Шишки у нее были крупные, одна к одной.
Расположилась, словом. Огляделась, Орехов кругом — море. Полных два ряда. И с боков еще подтаскивают мешки, кому за прилавком места не хватило. Понабирали где-то фанерных ящиков, ставят на них весы. Торгуют преимущественно на вес: шесть рублей килограмм. Стаканами редко кто. И покупатели больше толкутся возле тех, кто килограммами продает. Думают — так дешевле. Не понимают, в чем хитрость. Из килограмма-то восемь стаканов насыпается — и обходится стаканчик по семьдесят пять копеек. Когда тут же рядом за шестьдесят отдают.
Генриетта решила пустить свои по пятьдесят, хотя стакан у нее был домашний, большой, с ободком.
Первый раз она таким делом занималась. Стыдно было отчего-то, тяжело. Она платок пониже надвинула: «Вот так вот, Генриетта Сергеевна! Дожила. Докатилась… от учительского стола — до базарного прилавка».
Стали и к ней подходить люди. Попробуют орехи:
— А чего это они у вас такие блеклые? Генриетта — глаза вниз:
— Какие есть.
— Не каленые?
— Сами видите.
— М-гу…
И отходят к другим, у которых каленые. А какие там каленые-то! Генриетта эту хитрость знала. Их перетереть с капелькой постного масла — они потемнеют и заблестят.
Часа два с половиной она простояла — никакой торговли: стаканов десять продала всего-навсего.
И вдруг повезло ей. Заявилась группа иностранцев. Не иностранцы — потом-то выяснилось — туристы из Прибалтики. Рассыпались вдоль прилавков. А руководитель их, гид, представительный мужчина, седовласый, остановился возле Генриетты.
— Здравствуйте, — сказал вежливо. — Почем орешки?
— Пятьдесят копеек.
— Да вы что? — мужчина понизил голос. — У вас же орех отборный, калиброванный. Ну-ка, минуточку. — И замахал рукой, закричал: —Товарищи, товарищи! Все сюда! Ко мне!
В пять минут он ей полмешка расторговал. Зачерпывал стаканом, сыпал в карманы туристам, прихваливал. И шишек каждому навялил — в качестве сувениров.
Сам потом задержался возле Генриетты, взял горстку орехов, кинул один на зуб, улыбнулся по-свойски: — Я их всегда сюда привожу — сибирский колорит продемонстрировать… Ну, спасибо большое. Кланяйтесь вашим.
Генриетту как обожгло. Кому это кланяться велел? Неужели узнал? Неужели приятель какой Ирины с Виталием? Мать ты моя, царица небесная!.. Она ведь с кем только в доме у сестры не перезнакомилась. Один раз с Михаилом Боярским рядом сидела. Он на гастролях здесь был, а Виталий затащил его в гости.
И затрясло ее. Она вспомнила: тут же рядом, через дорогу, Дом журналистов — Ирина показывала. И театр в каких-то двух кварталах. А если кто хорошо знакомый зайдет, увидит ее? Срамотища! Родственница известных артистов на базаре торгует! Ирине-то потом, Ирине как людям в глаза смотреть? Удружила сестрица, освинячила!..
— Присмотрите тут, пожалуйста, — попросила она соседку. — Перекушу чего-нибудь схожу.
Отошла от прилавка, потолкалась среди народа. «Что же делать-то? Надо что-то делать… На Ипподромский разве рынок перебраться? Черт меня надоумил на Центральный поехать! Идиотка! Где голова-то была?»
С этой мыслью — «надо уезжать» — она и вернулась. Убрала стакан, нагнулась было за мешком — как вдруг:
— Почем орешки?
Генриетта полураспрямилась. Да так и закаменела в этой позе. На нее глядела распрекрасными своими, пугливыми глазами Иринина подружка Соня, Софья Игнатьевна, театроведка. Сколько кофеев вместе у Ирки на кухне перегоняли.
У Сони от неожиданности приоткрылся рот. Она ойкнула, захлопнула его ладошкой и вдруг побежала, побежала — мелко, боком, стукаясь плечом о людей.
У Генриетты ослабли ноги, она опустилась на мешок, закрыла лицо платком, закутала. Это надо же! Нарвалась! Вбухалась в историю… веточка кедровая!.. (Геннадий, когда она молодой была, тоненькой смугляночкой, стихи ей сочинял: «веточка кедровая моя».) И вот пожалуйста: сидит… веточка кедровая — пятипудовая… на мешке. Раскорячилась. Провалиться бы сквозь три земли!
Она не поехала на Ипподромский рынок, уехала к сестре. У них перед домом скверик был разбит, скамеечки стояли. Генриетта выбрала такую, чтобы подъезд видно было, и просидела там до вечера, как диверсантка, — караулила Ирину.
Ирина пришла уже потемну. Но лампочка над подъездом светила — Генриетта увидела сестру. Только окликать не стала, чтобы, опять же, не конфузить мешками своими — вдруг из соседей кто встретится.
Подождала еще маленько, дотащила мешки до лифта (они теперь полегче были) — ив лифте прямо заревела, залилась слезами…
IV
Не успела она просохнуть, носом отхлюпать, заявился Виталий.
— О, Генриетта! — обрадовался. — А я думаю — чьи это сидора в коридоре. А тут Генриеточка. — И забалагурил по обыкновению: — Генриетта, Генриетта, я люблю тебя за это! — похлопал ее по могучему бедру. У него такие шуточки не скоромными получались. — Одна приехала? — И вдруг заметил, что Генриетта зареванная, обеспокоился: — А чего такая? Случилось что? С Генкой? С ребятишками?
— Да комплексует дуреха, — усмехнулась Ирина. И пересказала мужу все, что уже знала от Генриетты, — вплоть до бегства ее с рынка.
— Так ты Махотьки, что ли, испугалась?! — изумленно вытаращился Виталий (фамилия театроведки была Махотькина). — Нашей-то Махотьки?.. — Он захохотал. Зашелся прямо, до слез. — Ну, мать!.. Ну, даешь!.. Ну, уморила!.. От Махотьки, значит, дунула!
Прохохотавшись, Виталий посерьезнел, постарался придать своему красиво-отважному лицу строгое выражение и по-отечески этак стал ругать Генриетту:
— Украла ты их, орехи эти? У какой-нибудь Мотри по дешевке скупила? Ты же не спекулянтка. Ты свой труд продавала. Ну, пусть не свой — Генкин. Какая разница? Он сколько там по тайге шарашился, сколько горбил — подумай!
Назидательный тон не шел Виталию, не личил, и он скоро сбился с него.
— Елки!.. Тоже мне, нашлась кровопийца! Да ты знаешь, как тут некоторые… в городе? Вон у нас артист музкомедии, Венька Изюмов, знаменитость… У него «жигуленок» собственный, и он, хмырь, грабит на нем окрестные рощи. Раз захожу на базар — а он стоит, грибами торгует. Груздями. Открыто! Набил полный багажник и фугует их. Стоит, гад, глазом не моргнет, улыбка, как у Алена Делона. Красавец! А его полгорода в лицо знает. Я говорю: Венька! Ты бы хоть загримировался, сукин сын, хоть бы усы наклеил!..
Тут Генриетта и поймала родственника на противоречии, на неискренности.
— Вот! — сказала. — Артисту, значит, зазорно, а учительнице, да еще сельской, ты, гляди-ка, дозволяешь.
Виталий смешался, крякнул:
— Слопал!.. Хотя, постой — есть же разница: то Венька, а то…
— А то я, тетка деревенская, — подсказала Генриетта.
— О! душит прямо! — запротестовал Виталий. — За горло берет. Ирка! Ирка! Угощать-то нас будешь?
…Генриетта отмякла, раскраснелась лицом, сняла стягивающую ее формы кофту крупной вязки, отчего вовсе расплылась, по-домашнему. И опять загорюнилась, теперь уже без надрывности.
— Вот это жизнь! — вздохнула. — Вот это дак жизнь. Ни дна бы ей, ни покрышки!
— М-да, жизнь, — откликнулся Виталий, о чем-то своем вроде задумавшийся. И продекламировал стихи. Но не как артист, просто выговорил, душевно:
Вот так страна! Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом дружен? Моя поэзия здесь больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.— Какого черта вы там сидите? — спросил сердито, — Сколько можно? Уж вы-то свое отсеяли. Разумное, доброе. На десять лет вперед. Перебирались бы в город.
— К вам, что ли, в квартиранты? Со всей оравой? Кто нас тут ждет, в городе?
Ирина быстро опустила глаза. Испугалась, наверное: вдруг ее азартный муженек в припадке великодушия ляпнет: а что? давайте хоть к нам — поместимся.
Но Виталий другое сказал:
— Ну, хорошо. Давай тогда по большому счету, как говорится. Нужны вы там? Поэзия ваша нужна кому-нибудь? Необходима?
— Ой, не знаю, Виталенька, не знаю! — Генриетта сжала ладонями лицо. — Если управляющего спросить — так для него мы хоть завтра дымом развейся. Лишь бы дом казенный по бревнышкам не разобрали да не увезли — нового директора поселить. А с другой стороны… Вот у меня в четвертом классе всего два ученика. И оба, — Генриетта постучала костяшками пальцев по столешнице. — Не проколотишься… Думаешь, это легче, что их двое только? В городской школе в классе, допустим, тридцать человек. Сколько-то способных, сколько-то прилежных, сколько-то балбесов — без них ведь тоже нигде. Она, учительница, пятнадцать, пусть десять гавриков, одну треть, людьми сделала, передала дальше подготовленными — уже итог, уже собрала какой-то урожай. С потерями, а собрала. Остальная масса — середняки. Ну, пять-шесть вовсе безнадежных. И тут оправдание: тупицы, что с них возьмешь… А когда только двое? Мне же, с моей делянки, стопроцентный урожай надо собрать, ни зернышка не обронить. Вот и суди теперь: нужна — не нужна… поэзия.
— Так, — Виталий хмыкнул. — Высокая материя. Что и следовало ожидать… Другие не могут? Только вы с Генкой должны? Сухомлинские…
— Другие, — Генриетта даже ревниво губы поджала. Она хорошим была преподавателем. Сознавала это. И сознавая, не позволяла себе расслабиться, не делала скидку на то, что в деревне, мол, и кой-как сойдет — хоть пень колотить. Ребятишки ее, между прочим, любили. Она и про это знала. — Другие… Встретилась я там с одной другой… сразу, как переехали. Пошла школу посмотреть—первый раз. А там, в ограде, на лужайке, игра идет. Они продленку пытались наладить для некоторых детей. И вот с этими, из продленной группы, играет… тетеха — вдвое потолще меня, хотя, однако, вдвое помоложе. Выстроила их шеренгами друг против друга и понукает: «Ну, вот вы! Кричите: гуси-гуси! Давайте все вместе: гуси-гуси!» Ребятишки зачуханные, носы в землю опустили, с тоской: «Гуси-гуси». Эта энтузиастка — другой шеренге: «Теперь вы—дружненько: га-гага!» Ребятишки: «Га-га-га!» Такие невольнички понурые — до слез жалко. Тетя, между тем, командует первой шеренге: «Есть хотите?!» Те повторяют. Вторая шеренга отвечает: «Да-да-да!» И тут первые — раскачала она их все-таки — без команды уже спрашивают: «Хлеба с маслом?» Как она заорет: «Стоп! Не надо хлеба с маслом!»
Я обалдела прямо: что, думаю, за дурында?.. А потом оказалось — не такая уж дурында. Это когда Гена начал помаленьку в дела вникать, разбираться что к чему. Их в продленке кормили, полдник давали. Полагалось на полдник — чай с молоком и хлеб с маслом. Так вот, хлеб она им давала, а масло… понимаешь? Это у детей-то, кобылица!..
Виталий покачал головой:
— Полная безнадега. Вы же неисправимые. Больные. Вы до пенсии там присохнете.
— Может, и до пенсии, — сказала Генриетта. Помолчали.
— Ну, ладно. Дары-то природы как? — Виталий кивнул головой в сторону коридора. — Назад увезешь?
— А! — отмахнулась Генриетта. — Брошу здесь. Сощелкаете за зиму. Знакомых кого угостите.
— Привет! Мы будем орешки щелкать, а вы зубами клацать? За корову сколько должны еще?
— Шестьсот, считай, — сказала Генриетта. — Пятьсот восемьдесят.
— Вот! И ты, значит, подарок нам решила сделать? Бухнуть сотню — полторы! Ну, не дура ли ты, Генриетта!.. Все! — Виталий вскочил, загоревшись какой-то идеей. — Сейчас я буду командовать парадом. Ирка! У нас насчет пожрать как?
Ирина повспоминала секунду-другую:
— Сыр. Икра баклажанная. И палочки кукурузные… кажется.
— Сойдет. Более чем достаточно… Ну, сейчас я вам накомандую!
И Виталий закрутил «кино». Генриетта только глаза округляла. А Ирина, привыкшая к выходкам супруга, сдерживала смех, махала на сестру рукой: сиди! молчи! не вмешивайся!
— Старуха! — кричал кому-то в телефонную трубку Виталий. — Ты чем занимаешься? Бросай все — дуй ко мне! Немедленно! Тут Нонка приехала. Какая-какая… Нонна Мордюкова — вот какая! Ну!.. Проездом из Владивостока. Пролетом… Че иди ты, че иди ты! Думаешь, У Язовицкого приличных знакомств нет? Мы же с ней учились вместе… Ох, ну ты и зануда! На курсах вышивания—устраивает?.. Да! Денег захвати рублей тридцать. Ей, понимаешь, на билет до Москвы не хватает, а мы с Иркой на нуле!
— Ира! Что он делает-то? — испуганно шептала Генриетта. — Я не выйду, нет! Со стыда сгорю. Ты меня спрячь куда-нибудь.
— Да не трясись ты, — успокаивала ее Ирина. — Пусть резвится. Это же все его пассии. Вернее, он их пассия. Влюблены, как кошки. Вот увидишь — нормально будет. Еще просидят до полуночи, не выгонишь.
Дамочек набежало четыре штуки. Виталий в коридоре встречал их.
— Ладно, ладно, — говорил. — Мордюкову ты в кино посмотришь. А у меня поважнее гостья: Генриетта вон приехала. Помнишь Генриетту?
Одни помнили, узнавали. Другие, может, и не помнили, но делали вид, что помнят. Обцеловали ее всю. То ли искренне радовались, то ли притворно — не отличишь: артистки!
А Виталий гнал спектакль, не давал им передышки:
— Представляешь! Генриетточка-то… Орешков привезла, умница. Сама наколотила. Пойду, говорит, завтра — сдам в коопторг. Я вот те сдам! — Он грозил Генриетте кулаком. — Мы тут с девочками на базар за ними бегаем, спекулянтам переплачиваем. Верно, старушка? Ты сколько возьмешь? Двадцать стаканов—тридцать? Ирка! Поищи там мешочек полиэтиленовый!
Он сам отмерял орехи. Так лихо действовал — Генриетта подумала: «Вот бы его к прилавку… как того артиста из музкомедии». Она вошла в роль. Не старалась специально, естественно включилась.
— Виталий, Виталий! — урезонивала деверя. — По сорок копеек! А то не продам. Что я — живодерка?
— Она не живодерка! Глядите на нее! Любуйтесь! Цветите, юные, и здоровейте телом! Можно сказать, с доставкой на дом — и по сорок. Да на базаре, у этих, какие стаканы — видела? Рюмки! Они их по индивидуальному заказу делают. А здесь — бадья! Не-ет, только шестьдесят. Мы тоже не живодеры.
Последней пришла пугливоглазая театроведка. Генриетте обрадовалась пуще всех. Как будто и не видела ее сегодня на рынке. Орехов театроведке уже не хватило. Остались только шишки — с полведра. Разбушевавшийся Виталий хотел было продать их пугливоглазой по четыре штуки на рубль, но Генриетта решительно воспротивилась.
— Осатанел?! Стакан орехов с четырех шишек набирается, сама вымеряла. Это что же, по рублю за стакан? — Она вытряхнула шишки в сумку театроведки (у той была просторная спортивная сумка на ремне) и вовсе отказалась от платы: — Не возьму и не возьму! А будете настаивать, и ночевать не останусь. Уйду вот на вокзал.
Театроведка, в свою очередь, половину шишек вывалила тут же на стол — угостила всех.
И чудесный получился вечер.
Дамочки эти, влюбленные в деверя, и к Ирине относились с нежностью. Прямо каждое движение бровей ее ловили. Икру баклажанную нахваливали так, словно хозяйка сама ее готовила.
А Виталий вдруг хлопнул себя по лбу:
— Бабы! Да у нас же клюква есть!
Он сбегал на балкон, принес полное ведро отборной клюквы.
— Знаете, как досталась?.. Утром позавчера звонит кто-то под дверью. Я только встал, пардон, в неглиже еще. Открываю — стоит незнакомый мужичок, после ба-альшой, видать, поддачи. Клюквы надо? Ведро? А я знаю: надо — нет? Крикнул Ирину. Она халатик накинула, выходит. Почем? — спрашивает. Мужик говорит: двадцать пять рублей. А эта руки в бока уперла — и высокомерным тоном: сдалась она мне по двадцать пять, когда ее на базаре по тридцать продают. Не врубилась спросонья, поняли! Не дошло до нее, что мужик дешевле предлагает! А дядя с похмелюги страшной — тоже не врубается. Ну, давай, — говорит, — за двадцать. Завал! Двадцать рублей ведро. А клюква, — глядите какая — виноград! Нарымская!
Засиделись гостьи, как и предсказывала Ирина, до полуночи. Виталий потом заказал такси, развез их по домам.
На другой день Генриетта возвращалась в деревню. Тряслась в рейсовом автобусике по избитой гравийке. В сумке, лежавшей на коленях, неприлично бренчала мелочь. Вчера туристы насыпали ей пригоршню серебра да медяков, а обменять на бумажки Генриетта их не успела. Она поплотнее прижимала сумку к ногам. Выручка — двести сорок рублей с копейками — вся лежала там, завязанная в платок. Двести сорок… Значит, останется теперь долгу триста сорок. Это за корову только. А еще сто восемьдесят за поросят. Виталий вечером спросил ее про долг за корову, она и ответила — пятьсот восемьдесят. А ведь поросята им обошлись по девяносто рубликов за голову. Весенние поросята дорогие. Это после осеннего опороса многие хозяева давят их и выбрасывают. Потому что осенние за зиму почти не вырастают и никакой, получается, разницы нет, что осенних, что весенних потом выхаживать. Только перевод корма. Они еще потому невыгодны, что матку перед зимним забоем вытягивают, она худеет, вес теряет. Вот их и давят — покупателей нет. А весенние кусаются. Они с Геннадием еще дешево взяли — по девяносто. Зато, правда, и нарвались на лядащих… Итого, стало быть, пятьсот двадцать рубликов. Уй-ю-юй! А где взять? Одна надежда на тех же поросят. Через месяц им ножик в бок: дальше кормить смысла не имеет. И если по пять рублей килограмм… Генриетта углубилась было в подсчеты, но спуталась. Мысли от автобусной тряски скакали. И перескочили незаметно на другое: «Хорошо бы столовку школьную доколотить… хоть к октябрю. Добьет — нет Геннадий? Должен — он настырный… Да пригородить бы там свинарничек, голов хоть на шесть. Тут тебе ребятишкам и трудовое воспитание, и подкормка им же. И не надо ходить к этому дураку бешеному, кланяться: отпусти мяска для школы»…
СИЗАЯ КУКУШКА НА ЖЕЛЕЗНОМ ЗАБОРЕ
Умер дядя Гриша.
Сам я в это время лежал в больнице, поехать на похороны не смог, младший брат ездил, он и рассказал мне подробности.
Было так. Дядя Гриша вернулся домой утром (он все еще работал — ночным сторожем), поставил на плитку чайник и пошел к раковине умыться. Жил он в собственном доме, но водопровод у него имелся. Он только успел чуть отвернуть барашек крана — и тут его качнуло. Дядя Гриша ухватился за скользкие эмалированные края раковины и повалился, отрывая раковину от стены. Железные руки его не разжались.
Так ои лежал, скрючившись, рядом с треснувшей раковиной, вода тонкой струйкой бежала из крана, натекала дяде Грише под правый бок.
Но он не умер в этот раз.
Через двое суток его, закоченевшего, обнаружил сосед. Здесь, на горе Островской, где в частных домах доживали свой век пенсионеры, держался еще деревенский обычай: выглядывали по утрам — все ли окрестные трубы дымятся. Холодная дяди Гришина труба и привела к нему соседа.
Сосед растер дядю Гришу самогонкой, расцепив ножом зубы, влил полстакана вовнутрь.
Это же у тебя, Григорий, инсульт, — определил он. — Тебя в больницу надо.
Дядя Гриша, при всей своей прогрессивности, не знал, что такое инсульт. И что такое рак — он не знал, упорно называл его «катар желудка». Да что рак — дядя Гриша обыкновенной простуды за жизнь не перенес. Его одно время, давно еще, одолевали бородавки — вот и все. Дядя Гриша лечил их языческим способом: перевязывал ниточками, ниточки затем бросал под порог и ждал, коіда они там сопреют. Бородавки должны были к ному моменту отпасть. Я однажды — молодой тогда и азартный — схватился с дядей Гришей.
— Постыдись, дядя Гриша! Ты же член партии, безбожник, а в такую глупость веришь!
Он посмеивался:
— ну, спробуй сам. Вон у тебя две штуки растут.
Тайком и перевязал бородавки, кинул ниточки под порог… и эабыл о них. Бородавки же через какое-то время сошли.
Словом, от больницы дядя Гриша отказался. Отсидевшись малость, выпил еще полстакана самогонки и ушлёпал потихоньку из нетопленой избы за четыре километра, в посёлок Запсиба, к приемному сыну Шурке.
В квартире у Шурки царил уют. К своему пенсионному уже возрасту беспутный Шурка, поменяв за жизнь девять жен, остановился на шустрой бабенке, корявой и бельмастой. Но зато хозяйку в ней угадал идеальную. Красовались у него на столе вязаные салфеточки, домотканые дорожки устилали пол, цветной телевизор показывал «В мире животных».
Дядя Гриша лежал на диване в теплых шерстяных носках — и было ему хорошо.
Шуркнна жена подчеркнуто хлопотала вокруг него. Прицельная была бабочка. Дурковатый же Шурка хитрить и выцеливать не умел.
— Дед, — сказал, — помрешь — на что хоронить будем?
Дядя Гриша поднялся. Дошел до сберкассы, снял триста рублей на похороны (у него была накоплена тыщейка). Тем же ходом завернул домой, нагреб безогородному Шурке два ведра картошки. Потом воротился назад, снова лег на диван… и помер.
А я, значит, в больнице лежал. Болезнь у меня оказалась такая… ну, в общем, тоскливая болезнь: не бородавка — ниточкой не перевяжешь.
Старик Егерман оказался пророком. Невольным, конечно. Он при жизни не метил в пророки, не претендовал. Просто бескорыстно влюблен был в чистое искусство. Из любви к искусству Егерман сочинял эпиграммы на сотрудников редакции. Беззлобные, неточные, но забавные. На меня он такую сочинил:
Вот идет новосибирский Гамлет, Ои слегка на леву ножку храмлет.
Почему Гамлет и почему храмлет? Не хромал я тогда ни на левую, ни на правую ногу, и сомнения меня не мучали. И вообще… я был довольно крепким молодым человеком, тело мое помнило студенческие тренировки. Между прочим, именно с моей подачи в решающем матче между командами союза журналистов и оперного театра Славка Гоздан заколотил балерунам наш единственный гол. Я точно сбросил мяч головой в ноги Славке — и он послал его в «девятку».
Пророчество старика Егермана сбылось через много лет: я захромал. И усомнился. Сомнения были банальными, изжёванными за века многочисленными философами и скептиками: что, мол, она такое — жизнь человеческая? и надо ли скрестись и цепляться, если все там будем? и стоит ли сражаться против подлости, на груди рубашку рвать, сл<игать нервные клетки, когда подлость ничуть от наших атак не хиреет, расхаживает с лоснящейся мордой, битком набитая целехонькими нервными клетками? Ну, и в таком духе… Я понимал банальность и бесплодность сомнений, да, видно, душа хромала синхронно с ногой.
Мужественно отхромав год, я сдался врачам, в стационар.
Палата, в которую меня уложили, была привилегированной, люксовой — на двоих. С телевизором и туалетом.
Вторым со мной лежал секретарь парткома крупного совхоза из Чистоозёрного района Василий Иванович. Впрочем, Василий Иванович не лежал, он бегал. Его "прострелило»" в машине (он сам был за рулем газика), Василий Иванович кинулся в медпункт — всобачьте, мол, пару уколов, а то некогда: сев идет; из медпункта его — в райбольницу; в райбольнице сказали: нет таких процедур — и сюда, в город. Ну, а здесь процедур всевозможных — хоть ртом ешь. Василий Иванович в первый день нахватал восемь штук: токи Бернара, аппликации, грязи, подводную вытяжку, уколы само собой, еще чего-то там… На высоком лбу его, на гордо вздернутом носике блестел трудовой пот. «Недельку покантуюсь — и домой!» — возбужденно говорил он. Однако на другой день исчезла в больнице горячая вода — и ряд процедур отменили. В том числе прогрессивную подводную вытяжку.
Василий Иванович затосковал. Все рушилось дома, в совхозе, без руководящего глаза: мычали недоеные Коровы, разбегались скотинки, околачивали груши специалисты… А главное: без него не шли дожди и потому горели посевы.
Василий Иванович уходил на улицу (он был начнающим больным и долгие прогулки пока не утомляли его) и возврашался ещё более расстроенным.
— А? — говорил он. — Июнь-то какой! Июнь-то какой стоит!
А на дворе действительно праздновал благодатный июнь. Цвели яблони. Кричали вставшие на крыло молодые скворцы В частом секторе, граничившем с больничным городком и отделенном от нашей территории металлической сетчатой оградкой, тучнели унавоженные огороды. Нaлитые пригородным здоровьем молодухи копались там промеж грядок и, заметив тоскливо взиравшего на них через сетку полосатопижамника, недовольно поворачивались к нему крепкими задами. Затянувшееся отсутствие атмосферных осадков молодух не волновало: огородничество их держалось на поливной основе.
А где-то в степной, солончаковой Чистоозерке трескалась от жары земля и скукоживались, сохли бледные росточки.
Чем мог я, отравленный своими проклятыми вопросами, утешить Василия Ивановича? Вздохнуть сочувственно: «Все мы, все мы в этом мире тленны»? Черта ли было ему в этой красивой истине.
Потом пас уплотнили.
Две нянечки внсели кровать, сказали нам сухо: «Придётся вас потеснить», — а товарищу, вступившему за ними следом, заискивающе: «Минуточку… потерпите, одеяльце, если озябнете, второе можно».
Товарищ достойно ждал: плотный, лысый, носатый.
Мы с Василием Ивановичем переглянулись. Василий Иванович — я заметил — невольно вытянулся на кровати, убрал живот, свел пятки и развел носки.
Товарищ, однако, рассекретился, как только откланялись нянечки. Он ляпнулся на кровать, качнулся пару раз, сказал: «Пойдет», — и повернулся к Василию Ивановичу:
— Ты, что ли, писатель будешь?
Лицо его удивленно преобразилось: помолодело, заострилось словно бы, отчего крупный нос еще больше выпятился; большой, редкозубый рот распахнулся и выразил любопытство. Именно рот выражал любопытство, а не глаза, как положено.
— Нет, что вы, — заробел Василий Иванович и указал подбородком на меня: — Вот они.
Товарищ крутнулся ко мие, протянул руку.
— Генка, — представился он. — А мне говорят: писатель у вас в палате, если не возражаете. А мне чо возражать? Хоть живого писателя посмотрю, думаю. А то я одного только видел по телевизору. Ну, тот попузатее тебя будет. Вот друг, — он снова повернулся к Василию Ивановичу, — Тебя как звать? — Василий Иванович отрекомендовался. — Вот Иваныч больше тянет на писателя.
Я сказал: разные бывают писатели. Разной степени пузатости. И по телевизору показывают разных.
— Да и когда его смотреть, телевизор-то? Это баба с дочкой целыми вечерами не отлипают. А я до ночи за. баранкой. Хоккей, елки, и то пропускаешь.
Василий Иванович воспрянул, угадав в новичке работягу, да еще, похоже, забулдыгу, с какими он ежедневно, небось, собачится, и не без ехидства спросил:
— А за что вас — Гена, говоришь? — за что тебя, Гена, сюда с таким пиететом?
Вряд ли Гена знал слово «пиетет», но Василия Ивановича понял.
— За лысину! — радостно сообщил он. — И за румпель. Я когда молчу, пока хлебальник не открываю, меня везде за какую-нибудь шишку принимают. Ну, и тут… Они передо мной тю-тю-тю-тю, а я молчу. Молчу, понял, как этот… как мумиё. Пусть, думаю, тютюкают. Может, получше устроюсь. А то сунули бы в загон голов на восемь. А я только что из такого загона. Месяц с лишним у себя в районе отвалялся. Вся задница в дырках. Bот кадры, а! Простой укол поставить не умеют. Пятнадцать минут впиливают — всю правду расскажешь… расколешься, как шпион.
Всю правду о себе Гена рассказал и нам. Тут же, без паузы.
Он шофер. Работает в совхозе, в соседнем с Василием Ивановичем районе. Радикулит свой (так он называл остеохондроз) прихватил на этой собачьей работе. Ранней весной сел в одной колдобине на дифер. И вдобавок колесо спустило. Он поддомкратился, снял колесо, разбортовал — и ку-ку. Обратно его на попутке привезли скрюченного. Прямо в больницу.
А до этого Гена жил в городе, работал таксистом. Но, во первых, жена скулила: она деревенская, а там, у тестя с тещей, свой домина — хоть футбол гоняй. Ну, и хозяйство, конечно: скотина, мясо, молоко собственное, не покупное. Во-вторых, самого Гену город крепко обидел. Про эту обиду он так нам изложил:
— Взял как-то в центре парня одного с двумя деицами. Вези, говорит, в Бердск. В Бердск им, понял, понадобилось на ночь глядя… Ладно — попер. Одна со мной села, а парень с другой — сзади. Ну, думаю, эти, парочка, им пообжнматься — дорога-то дальняя. Но нет, не обжимаются, не воркуют. И эта — рядом — сидит, как деревянная. Потом те заговорили. И вот же сволочь! По-русски вроде говорят, а ничо не понятно. У меня очко заиграло. Впил, думаю. Монтпровочку на всякий случай подтянул под правую руку и встречным таксистам помигал условно: опасность!.. Меня уже до этого убивали два раза. Пытались. И главное — кто! Пацанье, сосунки. За Академгородок выскочили — кээк меня чем-то тяжелым сзади ахнут! Ну, у меня репа, видите, какая — я сразу не вырубился, достал этого фрайера монтировкой наотмашь. А девка, которая рядом — давай меня резать. Во, смотрите! — Гена отгреб остатки кудрей над ухом, показал неровный: шрам. — Девка — это надо же! Режет меня, гадина, тычет ножиком! А я уже поплыл от удара — и носом в баранку… Хорошо, ребята успели подскочить на двух машинах, а то бы конец… — Гена помолчал. — Вот после этого случая и решил: не-е, уезжать надо. На четвертый раз точно зарежут.
— В районах-то разве шпаны нет? — вступился за город Василий Иванович.
— Да везде её…
Гена умолк, И мы тоже молчали, переживали этот дикий факт.
— Ну, хорошо! — Гена сел на кровати. Ложился легко, а сел с кряхтением. — А теперь вот — что? Тяжелую работу нельзя. Проситесь, говорят, па легкий труд. А на какой легкий? Я же здоровый мужик, я молодой еще. Ну, лысый. Дак это от природы, у нас в роду все мужики лысые… И по хозяйству — тоже. Мешок картошки поднять не могу. Баба не верит: придуриваешься! Об тебя, черта, поросят бить можно… Как жить дальше?
Это он меня почему-то спросил. В упор. Круто он забирал, Гена. Не знал я, что ему ответить. Меня самого, может, эти же вопросы мучали.
— Ты кому тут жалуешься? — недовольно заворочался Василий Иванович. — Он тебе что — профессор? Или председатель профкома?
— Да, конечно, — сник Гена. — Его не колеблет. Легкой работы искать не надо — и так легкая: сиди-посиживай.
Мы с Василием Ивановичем вышли на воздух, покурить, и Василий Иванович спросил: как вам, дескать, душа новоявленная? Видать, Гена не понравился ему: разговорчив больно, не по чину, и бесцеремонен.
Я ничего не успел ответить, потому что увидел брата. Брат сидел на скамейке, смотрел вверх, на окна нашей палаты — усталый, небритый, дорожная сумка стояла возле ног. Значит — прямо с поезда.
Тут мы и заговорили о дяде Грише.
— Хороню, что ты не поехал. — сказал брат. Он был расстроен. Мне показалось — даже усы у него как-то обвисли.
Срамотищи он там, оказывается, натерпелся. Подвыпивший Шурка прямо на поминках, за столом, начал выяснять: кому же теперь достанутся оставшиеся от дяди Гриши семьсот рублей? А главное — дом? Кому?
Они-то с женой не прямые наследники. Вообще — никакие. По помер-то дядя Гриша у них. Закапывал-то он, Шурка. Дак кому?.. Жена понесла на Шурку: дурак, тетеря! Триста рублей выхватил и рад. А где они? Вот — все здесь. А надо было, пока живой, завещание с него потребовать. В общем, бой в Крыму. Родственники — их изрядно набралось — сидели как оплеванные. И сестра паша старшая, Антонина, беспощадная в суждениях, подвела жесткий итог: "Жил смешно и умер грешно".
— Хорошо, что тебя не было, — повторил брат.
Говорили мы негромко. Людно было вокруг. Больные наши, калечные, увечные, высыпали на улицу, на солнышко. Женщины судачили на скамейках, мужики, разбившись кучками, играли на травке в карты.
Гена подошел. Спросил:
— Братан? Похожи, гляжу… — Его все еще распирало давешнее недоумение. — Это что же делается! — хлопнул он себя по коленям. — О! сидят бугаи. Анекдоты травят, ржут, как лошади. А распрямляться кто начнет — с матерками. Каждый перекособочен. Что за болезнь такая, подлючья?!
Туг его окликнули из одной компании:
— Эй, кучерявый! Четвертым пойдешь, на высадку? Гена ухромал.
Брат сидел, молчал, стряхивая пепел между ботинок. И вдруг вскинул голому, глянул на меня повеселевшими глазами:
— Преудивительный мужик был дядька-то, а?
Я вздрогнул даже: сам как раз об этом думал.
Думал: вот ушел из жизни последний из прежнего поколении мужчин нашей странной, непохожей, разномастной какой-то фамилии… Чего оставил? какой след?.. Нет, вру. Про след и еще ие думал. То же слово стукнуло в голову, которое брат произнес: «Преуднвительный мужик…»
Брат засобирался уходить. Хотел он успеть еще на двухчасовой автобус, торопился к себе в деревню: учебный год там заканчивался, а директор отсутствует четвертый день уже. Проводить себя не позволил. «Сиди, — сказал, — я быстро подамся». И, подхватив сумку, зашагал действительно быстро, размашисто — худой, высокий, сутоловатый. На углу корпуса повернул и — в профиль, мгновенно — напомнил покойного нашего дядьку…
«Преудивительный мужик»… Первый раз мы о нем так подумали и сказали. Прежде другое слово употреблялось в разговорах: «нелепый». Женщины говорили — дурной. Мать наша, открыто не жаловавшая дядю Гришу, выражалась резче: «Ни богу свечка, ни черту кочерга».
В молодости дядя Гриша был франтом и задирой. В тридцатых годах, во время великого исхода мужиков нашего клана в город, он, единственный из всех, явился холостым. Братовья, зятья, шурины их приволоклись с детьми, скарбом, по-деревенски быстро стареющими женами. Дядя Гриша был свободен и гол как сокол. Он поучился маленько на курсах мастеров сталеварения, вышел подручным сталевара и сразу обогнал по грамотности других мужиков, придавленных семейными заботами. Умнее дядя Гриша, однако, не стал. Только гонору в нем прибавилось.
— Пентюхи! — насмешливо говорил он о родственниках, пытавшихся здесь, в городе, наладить жизнь на прежний крестьянский манер — с огородами, курами, поросятами. — Понахватали пентюхи деревенских дур, теперь колотятся с ними. Не-е-т, я себе городскую найду, в шапочке.
Он завел две пары штиблет: черные и белые, парусиновые. Черные дядя Гриша чистил ваксой до зеркального блеска, белые натирал мелом. Прицепив невиданный галстук, он уходил на танцы в соцгород, где бывал неоднократно бит тамошними парнями, «барачными» — так у нас их звали. Справедливости ради надо сказать, что били дядю Гришу только скопом. Выходить на него поодиночке, вдвоем, даже втроем не отваживались: при внешней худощавости дядя Гриша был необыкновенно крепок, скор на руку и в драках неустрашим.
Потом он женился, «привел жену», — как сказали у нас дома.
Момент этого «привода» я помню, он стоит перед моими глазами контрастной, черно-белой фотографией.
То ли самое начало зимы, то ли конец её. Ночью нападал мягкий, пушистый снежок. Мы с Толькой Ваниным, соседским парнишкой, на краю улицы сгребаем его маленькими лопаточками в кучки. А по белой, не затоптанной еще дороге идет дядя Гриша. В одной руке у него сундучок, в другой — швейная машинка. За дядей Гришей семенит незнакомая женщина, коротко, по-городскому, стриженная, в шапочке, то есть берете, сдви цугом на ухо. За женщиной плетется долговязый пацан.
Поравнявшись с нами, пацан быстренько нас поколотил — надавал подзатыльников, натыкал носами в снег. Столь проворно и бесшумно действовал, что взрослые не услышали возни, а мы даже не успели зареветь — так и остались сидеть с залепленными ртами, изумленно глядя вслед пацану, который опять вяло и ломко плелся дальше, будто это и не он только что пас отбутузкал.
Родственников и соседей женитьба дяди Гриши пришла в полное недоумение. Глафира его хозяйкой оказалась никудышной: ни сварить вкусно, ни постирать чисто, ни в огороде развернуться. «Барачная», словом, безрукая. Швейная машинка (Глафира работала швеей), с помощью которой другая бы озолотилась, не приносила семье дохода: мастерицей Глаша была бездарной, заказчики её обегали. «Шьет да порет», — говорили про нее насмешливо.
Внешними статями или умом дяди Гришина избранница тоже не отличалась: полоротая какая-то, все похохатывала. По это был не смех симпатичной, веселой хохотушки, а дурное, беспричинное гыгыканье.
— Мой-то — хо-хо, гы-гы! — говорила она. — В баню — гы-гы, хо-хо! — пошел.
Собеседницы терялись, не знали, что и отвечать. Ну, пошёл мужик в баню… не в цирк же. А хоть бы и в цирк. Чего смешного-то?
«От это выхватнул! — судачили за спиной у дяди Гриши женщины. — Оторвал… от жилетки рукава. Хвастался — в шапочке найдет. В платках ему, видишь, не глянулись, мотри деревенские… И нашел. Только и есть что шапочка. Шапочка… с довеском».
«Довесок» — сын тетки Глаши Шурка, прижитый ею от какого то геройского будто бы летчика, особенно всех смущал. С «довеском» брали жен вдовцы, немолодые мужчины, сами оставшиеся с детьми на руках. А тут — орел! Орлом ведь ходил дядя Гриша. Грудь выпячивал, сиял штиблетами. И на тебе — отоварился!
«Довесок» Шурка был к тому же какой-то дурковатый, «оглашенный». Даже с ребятами на улице он не сошелся, его не принимали в игры, не подбивали на опасные затеи. Шурка разбойничал одни. Кличка у него была — Рыцарь. Откуда пришло это слово и что означало, никто из пацанов не знал. Нам слышалось в нем что-то опасное, что-то собачье, рыскающее.
Шурка, и точно, рыскал. Трешали от его набегов чужие курятники, стонали огороды. Не раз его приводили домой в красных соплях, кричали дяде Грише; «Уйми звереныша!»
Дядя Гриша отсылал конвоиров к такой-то матери, но Шурку наказывал. Бить его он считал невозможным — не родной сын. Он арестовывал Шурку: сажал под замок в сараюшку.
Шурка вышибал доску или делал подкоп и сбегал из дому на неделю.
Уж лучше бы дядя Гриша драл пасынка. Это было бы как-то… роднее, что ли. Вытянул разок-другой ремнём и порядок. Обычное дело: всех отцы лупили. А эти аресты выглядели в глазах окружающих бесчеловечными, изуверскими прямо-таки. Дядю Гришу осуждали: «Этот навоспитывает. Искалечит парнишку окончательно». И сочувствовали Шурке: «Не родное дите — оно и есть не родное. Охо-хо! Была бы мать путевая…»
Увы, мать была непутевой. Настолько, что регулярно, раз в месяц, бросала дядю Гришу, уходила от него. Они попервости частенько скандалили и, поскольку жена, в отличие от пасынка, была родная, горячий дядя Гриша заканчивал дискуссию «увесистым аргументом». На другой день Глаша, запудрив сиияк, отправлялась к товаркам в общежитие. Остывший дядя Гриша по-рыцарски нес следом сундучок и швейную машинку.
Через неделю «кино» прокручивалось обратно: дядя Гриша приводил одумавшуюся жену домой. Теперь он шагал впереди, с неизменными машинкой и сундучком в руках, а тетя Глаша мелкой утицей колотила следом.
Почему дядя Гриша — крутой, самоуверенный, нахрапистый — не разорвал эти кандалы сразу? Не воспользовался хотя бы одним из картинных уходов своей любезной? Все, мол, точка: раз ушла — назад не возвращайся! Ведь были у него на то основания. Глафира не беременела, дяде Грише, стало быть, грозила перспектива остаться бездетным. Рос сорной травой недоумок Шурка — вот и вся радость.
Догадка пришла ко мне через много лет. Мужчины в нашем роду никогда сами не бросали женщин. Даже если жена была не подарком судьбы, а сущим наказанием. Венчанные или не венчанные, они терпели, несли свой крест. Дядя же Гриша, беспричинно убежденный в том, что живет он лучше и правильнее других, и крестом свою судьбу не считал. Спустя несколько лет он даже стал как бы гордиться супругой, называл ее уважительно: «Михаловна».
Случалось, он заходил к нам, и мать приглашала: «Садись обедать, Григорий».
— Сытый, — небрежно отвечал дядя Гриша, поковыривая спичкой в зубах. — Моя Михаловна седни такие, слышь, пельмени сварганила!
Мать, чтобы скрыть негодование, отворачивалась. Знала она, что за кулинарка Михаловна и какие пельмени может сварганить. Сварит их — мясо отдельно, тесто отдельно — и сама же удивляется: «А чо эт они такие?., гы-гы!»
Но это, повторяю, случилось позже. А тогда началась война и многое, как выражались в то время, «списала». Тетя Глаша сделалась солдаткой, честно дождалась мужа и тем самым закрепила свое положение окончательно…
Гена читает исторический роман — о Кутузове. Вычитал, что у великого полководца тоже был остеохондроз, «прострел». Денщик лечил его кирпичом. Нагревал кирпич, Кутузов ложился на него поясницей и лежал.
— Вот-вот, по хорошему кирпичу нам только и не хватает, — язвительно прокомментировал это сообщение Василий Иванович. — Разок по темечку — и все как рукой снимет.
Василий Иванович сделался в последнее время раздражительным. Лежим третью неделю, а горячей воды нет, значит, эффективного лечения тоже. Заведующий отделением, милейший Эллегий Павлович голову сломал, придумывая для нас новые процедуры. А что придумаешь? Без воды, как известно, «ни туды и ни сюды». Один кабинет аутогенной тренировки работает бесперебойно. Там воды не требуется. Накрывайся простынкой, расслабляйся и слушай магнитофонный голос: «Мои руки тяжелые… мои руки тяжелые… тяжелые… Мой лоб совершенно спокоен…»
Гена с Василием Ивановичем посещают «автогенку». Гена записался из любопытства: он думал, это нечто вроде велотренажера. Оказалось — лучше. Легко внушаемый Гена засыпает на четвертом предложении и сорок минут дрыхнет как убитый. Зачем ходит Василий Иванович — непонятно. Разве что намеренно душу корябать? На него уговоры не действуют. Когда он слышит дурацкое внушение: «Мой лоб совершенно спокоен», — ему начинает мерещиться беспокойный, суетящийся лоб, что-то вроде гигантской инфузории. А фраза: «Надо мною изумрудная зелень крон», — вызывает у него судороги.
Я понимаю его: от «изумрудной зелени крои» можно озвереть. А Василия Ивановича слова эти особенно ранят. Изумрудная, видите ли… Веточный корм! — вот что она такое. Опять ведь придется веточный заготавливать. Здесь в городе начали перепадать дожди, а там — он звонил недавно домой — и капли еще не капнуло. Покосы выгорают.
Через день заходит Эллегий Павлович, простукивает одного из нас, давление измеряет, интересуется самочувствием.
Сегодня моя очередь.
— Ну-с, как себя чувствуем? — спросил Эллегий Павлович.
— Да знаете… несколько лучше, чем вчера, — я незаметно подмигнул Гене. Это мы с ним сговорились — так отвечать. Жалко Эллегия Павловича. Уж больно откровенно он огорчается, когда мы жалуемся: «Не чувствую изменений, доктор».
— Так, — Эллегий Павлович повеселел. И тут же напустил на себя строгость: брови сдвинул… а глаза довольные. — А не примечаете, в каком положении вам легче: когда сидите?.. или когда ходите?
— Когда лежит, — подсказал Василий Иванович. Эллегий Павлович покивал головой.
— Н-да… Сидеть вам следует как можно меньше. Особенно пот этак — склоняясь вперед.
Это я и сам знаю. Стоит часа полтора посидеть за машинкой — и готово: нога немеет, в позвоночник будто кол вбили.
— Да не получается без наклона-то, забываюсь.
— Попробуйте писать стоя. Заведите конторку — и стоя. Как Хемингуэй.
Тут я уж возроптал.
— Да стоя-то, Эллегий Павлович, еще тяжелее. На одной ведь ноге приходится стоять.
— Тогда чаще меняйте положение. Посидели, походили, снова посидели. И диктуйте на магнитофон. А секретарша потом перепишет.
Ба! Никак он с классиками меня путает? Это у Константина Симонова секретарши да стенографистки были.
— Вот тебе и легкий труд! — подытожил Гена, когда Эллегий Павлович ушел. — Выходит, и твое дело швах, Яковлевич? Меняй профессию.
— Ничего, пусть лежа пишет, зубами, — мрачно сказал Василий Иванович. — Один целую книгу так написал. Зажимал карандаш в зубы и шпарил.
Василии Иванович, похоже, начинает тихо презирать меня. И я догадываюсь за что. Воды нет! А этот… писака! — лежит тут, как бревно, пальцем о палец не стукнет. И опять — я понимаю Василия Ивановича. К журналистам, к литераторам идут у нас нынче как в последнюю инстанцию, когда уже и прокурор бессилен помочь. Ну, а здесь что поделаешь? Даже позвонить неоткуда. Только из кабинета Эллегия Павловича. Ходил я к нему, предлагал: «Давайте в редакцию позвоним. У меня там знакомые. Продиктуем сейчас письмо. Наша палата подпишется, из других кто-нибудь. Пусть они тряхнут эту контору. Сколько можно терпеть?» Эллегий Павлович побледнел, руками замахал: «Что вы! Это же все бумерангом возвратится — и по мне! Откуда кляуза, нз какого отделения? От Синченко? Меня съедят потом! Вам-то что — выпишитесь… Нет-нет-нет! Умоляю!»
Я все-таки позвонил. Из соседнего корпуса, по телефону-автомату. Трубку ладонью прикрывал, чтобы стоящие в очереди больные не услышали. Знакомый завотделом ахнул: «Три недели! Да вы, наверное, завшивели там!»
— Только ты меня не называй, — попросил я. — И, вообще, не ссылайся на сигнал из больницы. Придумай что-нибудь. А то хорошего человека подведем.
Противно было. Словно я аноним какой-то. Словно не за доброе дело радею, а подло на кого-то кляузничаю.
И Эллегия Павловича жалко. Впрочем, жалко — не то слово. Обидно за него. Ведь он же крупнейший специалист, авторитет в своей области, светило. По сути, на него должны все больничные службы работать, администрация, сам главврач — в первую очередь. А получается — он на главврача упирается: чтобы у того все в ажуре было, чтобы начальство на него не осерчало за то, что подчиненных плохо воспитывает, позволяет им сор из избы выносить.
Идиотизм какой-то! Сбежать бы отсюда к чертовой матери. За стенами-то больницы руки были бы развязаны.
…Они вылезли тайком, много не доехав до своей станции.
Местность называлась — город Коканд… И так далеко от него лежала родная Землянка, что от одной думки об этом у Татьяны становилось холодно под сердцем.
…С год назад, однако, Прохор зачудил. Избушка деда Мосея так ему не поглянулась, что он, заходя в нее, даже шапку не снимал с головы. Да он туда редко и заходил. Больше сидел во дворе или шлялся по дружкам. Ни скотины, хотя бы и отцовской, ни земли у Прохора в один день не стало, и он с непривычки тяжело затосковал. В это время пристрастился он играть в карты. Правда, заядлым картежником не успел стать. Как-то за одну ночь Прохор проиграл в очко все деньги, вырученные женой за корову, и навсегда отшиб охотку.
Сильнее всего Прохора поразило не то, что он большие деньги спустил, а то, что он, получалось, целой коровы за ночь лишился.
— Как же так, мать? — изумлялся утром Прохор. — Ить по копейке же ставил!.. Вот это сыграл!
Татьяна поубивалась несколько дней, а потом решила: бог с ней, с коровой — мужик зато уцелел.
Зимой Прохор наладился ловить зайцев. Охотился он на них способом хитроумным, но тяжелым и маловыгодным. Зима была теплой, земля глубоко не промерзла — Прохор рыл ямы, закрывал их сверху прутиками — вершинки навстречу, — а над ямой привешивал к ветке приманку. Зайцы сбегались, прыгали за приманкой и булькали в яму. Прутики их пропускали и обратно схлестывались над головой.
Утром приходил Прохор с мешком, спускался в яму, вязал зайцев, как пьяных мужиков, и выбрасывал по одному наверх. В первый раз ои связал их так: передние ноги с передними, задние с задними — и когда сам вылез из ямы, увидел, как последний заяц редкими прыжками, падая и опять вскакивая, улепётывает в лес.
«Надоть переднюю к задней вязать, — сообразил Прохор. — Так его не удержишь». Смекнул он это сразу же, но и на другой день и на третий продолжал вязать зайцев по-прежнему, а сам, покуривая возле ямки, глядел, как разбегаются они по кустам, петляя и тыкаясь мордами в снег.
Ближе к лету Прохор засобирался уезжать нз Землянки.
От младшего брата Сереги, раньше уехавшего куда-то в Среднюю Азию, пришло неожиданное письмо. «Чего ты ждешь там? — писал брату Серега. — Чего высиживаешь? Бросай все и приезжай. Мы здесь по яблокам ходим…»
— Куда еще поедем нищетой трясти, — засомневалась Татьяна. — Здесь надо обживаться. Давай в колхоз запишемся.
— Чего я там не видел, в колхозе? — отвечал Прохор. — В драных-то штанах я и один прохожу.
— Теперь все же полегче, — уговаривала жена. — Мунехина, вон, сняли — слышал? Головокружение будто нашли.
— Мне мать его так, — чего у него нашли! — закипел Прохор. — У этого головокружения, а у другого, может, что похуже. А мы — нюхай!
— Смотри, Прохор, — качала головой Татьяна. — Наплачемся. Локти кусать будем.
Тогда упершийся на своем Прохор сказал:
— Кто бабу слушает, тот не человек.
Приходил уговаривать Прохора даже снятый товарищ Мунехин.
— Ты, Гришкин, — говорил он, — вполне теперь доспел для новой жизни и тебе здесь ее надо строить, на месте. Повремени чуток, ты скоро по-другому кругом глянешь — сознательными глазами.
— А я и так гляжу, — отвечал Прохор. — Я к тебе вон давно приглядываюсь: ты когда еще доспел, а тебя чегой-то по шапке мешалкой.
— На! — кричал товарищ Мунехин, протягивая Прохору худые веснушчатые руки. — На, отсеки мне их! Отсекешь — а я зубами буду за Советскую власть грызться!
— Да грызися ты, — пятился от горячего товарища Мунехина Прохор. — Меня-то чего держишь? Ты же один привык — тебе напарников сроду не надо было… Вот и грызися.
…На базаре в Коканде Прохора Гришкина обворовали.
Сначала все шло будто неплохо. Товарища в галифе увез поезд, и Прохор повеселел.
— Ничего, мать, не пропадем! — говорил он. — Вот пиджак продам сегодня. Гляди, какая тут теплынь — нагишом ходить можно. Продадим пиджак, билеты купим — и дальше. Нам ведь только до места добраться, до Сереги.
Но сбегать нельзя. Неблагодарно. Вот тут уж действительно жалко Эллегия Павловича: ведь он искренне хочет на ноги меня поставить. Всех нас.
Значит, остается терпеть и ждать. И… вспоминать о дяде Грише, который почему-то втемяшился в голову. Наверное, от больничного безделья. В повседневной суете, в напряженке, вряд ли стал бы я перебирать по камушкам нескладную биографию странного своего дядьки. Ведь мы, собственно, и близки-то с ним особенно не были при жизни его.
Итак… дядя Гриша, помнится, уходил на фронт в первые дни. Первым же из всех наших мужчин вернулся обратно. Уже в декабре, под Москвой, он подорвался на мине. Пришел домой на костылях, ничуть, однако, не удрученный своим инвалидством. По крайней мере, внешне этого не было заметно: дядя Гриша держался молодцом. Вот так же возвращался он с танцев из соцгорода, побитый тамошними парнями: как будто не его отходили, а он всех перевалял.
В первое время, по примеру других инвалидов, он ударился в мелкую спекуляцию — торговал поштучно папиросами. Не знаю, насколько успешно шла его коммерция. Думаю, дядю Гришу больше увлекала сама обстановка: посидеть на людях, побрехать с такими же, как он, бывшими окопниками. Однажды мы с Толькой Ваниным застали его за работой. Прибежали на базар (образовалось у нас несколько рублей) и увидели там дядю Гришу. Он сидел на земле, привалившись спиной к стенке ларька, и с удовольствием покуривал собственный товар из раскрытой пачки. Тольку, однако, задарма не угостил, когда тот нахально протянул руку: «Дядь Гриш, дай закурить».
— Купи, — сказал. — На рубль — две штуки. — И, спохватившись, предупредил: — Сам кури, Миколаю не давай!
Дома у него по-прежнему было неприютно, ходить туда не хотелось. Хоть дядя Гриша и зазывал меня: «Заходи, Колька. Щас велим тетке Глахе драников напечь. Драники любишь?» Драники-то я любил (правда, у тетки Глаши получались они пресными и жесткими), да с дядей Гришей было не шибко интересно. Он, например, вовсе не рассказывал о войне: ни о подвигах, ни об ужасах — ни о чем. Только песня в его репертуаре приба вилась одна — «Землянка». «Вьется в тесной печурке огонь!» — громко пел он, мотая от усердия головой. Казалось, не суть песни — грустная, щемящая — волнует его, не слова ее, а лишь звукосочетания интересуют. Он пел и словно бы прислушивался к себе: как оно, дескать, получается? Закончив строчку: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага», — дядя Гриша замолкал, отмерял по столешнице четыре вершка негнущимися пальцами: туп! — туп! — туп! — туп!.. Та, до которой нелегко было ему дойти, смеялась, прикрывая рот: «Гы-гы! — вот, черт-дурак — гы-гы!..»
Странно: дядя Гриша захватил самый ад войны, самые обидные месяцы её — отступал, сидел неделями в болотах, прорывался из окружений. Но ни горечи не принес в глазах, ни подавленности, ни даже простой усталости.
Другой дядька — дядя Ваня, брат матери, — вернувшийся с фронта позже, долго еще болел войной.
— Мы в шинелях заледенелых, — негодовал он, — с одними карабинами да клинками скачем на них! Лошадям снегу по брюхо, а скачем! Без артподготовки, без ни черта! А нас из пулеметов режут. Это как, а?
— Паникер! — отрубал дядя Гриша. — Тебя расстрелять надо было.
— Это почему же паникер? Я разве там паниковал? Назад поворачивал?.. Я тебя тут спрашиваю: можно так воевать — с клинками против танков?.. Кавалерия свой век отжила.
— Но! отжила! — задиристо говорил дядя Гриша, словно сам был маршалом кавалерии. — А песню помнишь: «от Москвы до британских морей Красная конница всех сильней?»
Дяди Ваня уставал от такого шапкозакидательства.
— Песню-то я помню, Григорий, — вздыхал он. — И не про конницу в ней поется, не путай — про армию в целом. Только я помню еще, как драпали самые сильные.
Ты сам драпал.
— Ни хрена! — храбрился дядя Гриша. — Нас дерут — мы крепнем. За битого двух небитых дают.
— Дают… дали вон за тебя, за битого: сидишь — папиросками торгуешь.
— Ты меня не закапывай! — прищуривался дядя Гриша. — Это временный период. Мне только костыли бросить — я вам всем носы поутираю!
Скоро он, и правда, бросил костыли. В горячий цех ему все же возвращаться было нельзя. Дядя Гриша устроился средней руки начальником — заведующим конным двором. И снова возвысился над родственниками. Конечно, он теперь не франтил, как в молодости, одевался соответственно своему солидному положению: хромовые сапоги, суконный пиджак, кепка. И не заносился откровенно. Однако, в компании где-нибудь, в гостях, не забывал при случае подчеркнуть: «Я производством руковожу», — и последнее слово старался оставить за собой.
Дядя Ваня, работавший шофером, к дяди Гришиному производству относился без должного почтения: «Да твое-то производство… вчерашний день: кобылам хвосты заносить». Отец же наш, рядовой коновозчик, уважительно покачивал головой: «В гору пошел Григорий, гляди-ка ты!»
Но то был путь не в гору.
Прав оказался дядя Ваня: «кавалерия» отживала свой век.
Год от году сокращалось, хирело дяди Гришино «производство», всемогущая некогда конная тяга отодвигалась на задний план, на задворки стального, многосильного технического прогресса.
В никуда оказался путь.
Другими словами, дядя Гриша опять «женился не на той».
Надо было, наверное, дяде Грише сменить работу, как в свое время следовало поменять жену. Осмотреться, понять обреченность «производства» — и сменить. Но он и здесь остался верен себе. Момент воодушевлял его, а не перспектива. Он гордился тем, что время от времени кто-то ломал пред ним шапку: «Григорий Григорьевич, выручай! Две параконные подводы надо позарез, а то грузы со станции не успеем выдернуть». Его приподнимало в собственных глазах то, что на каком-то собрании он не побоялся — распушил за дело важного начальника, а начальник потом, с глазу на глаз, будто бы сказал ему: «Прав был ты, Григорий Григорьевич. Есть у нас отдельные недоработки. Стараемся, но трудно. Трудно!»
А еще уходила дяди Гришина энергия на заботу о культуре тела. Он возобновил ежедневные физзарядки, окончательно поставил себя на ноги, настолько, что старые раны его перестали мозжить по ночам, окреп, зака менел телом. В ознаменование этой победы дядя Гриша устроил вечеринку, в разгар которой торжественно, при свидетелях, сжег ставшие ненужными костыли.
Именно к этому времени относятся два его знаменитых подвига. Первый раз он выволок в гору телегу с продовольственным грузом для коновозчиков, откомандированных на подсобное хозяйство. Дорогу после дождей развезло, лошадь заскользила на взгорке, не пошла, повариха, сопровождавшая дядю Гришу, предложила вывезти груз по частям, по дядя Гриша заупрямился: «Нн-о! Будем еще тут мурыжиться!» — впрягся в оглобли сам и выдернул воз.
Второй подвиг, хотя он и закончился конфузией, тоже заслуживает уважения и огласки. Дядя Гриша, вполне в духе того восторженного времени, вознамерился повернуть вспять реку, точнее — безымянный ручей, рассекавший надвое нашу улицу. Ручей этот впадал в обширную согру (тогда она казалась нам обширной), обводнял ее и на противоположном краю вытекал вовсе жалкой ниточкой, которая где-то далеко-далеко вливалась в малую речку Рушпайку. Но вытекал он только в половодье и во время затяжных дождей. Летом же, в сухую погоду ресурсов его хватало лишь на то, чтобы расползтись по согре.
Так вот, дядя Гриша решил осушить согру, дабы потом желающие могли раскорчевывать её под огороды. Для этого требовалось прорыть трехсотметровую траншею (дядя Гриша говорил: канал) от ручья до заброшенного песчаного карьера, затем перегородить ручей дамбой и отвести таким образом воды его в необъятную чашу карьера.
У мужиков от изумления лезли на затылок шапки.
— Да ты соображаешь, башка? — говорили они. — Ну набузует он полный котлован, до краев, а дальше куда? Ведь это тебе не десяток цистерн вылить — он же, сволочь, всю жизнь течь будет.
— Ни хрена! — упорствовал дядя Гриша. — Всосется!
Сообщников он себе, разумеется, не навербовал — рыть пришлось одному. Дядя Гриша трудился, как экскаватор, за половину собственного очередного отпуска прошел метров пятьдесят трассы, но тут случилось непредвиденное: дядю Гришу подстерегли грунтовые воды. К тому же он перекопал единственную дорогу, ведущую к улице. И хотя дорога эта не была важной транспортной артерией, все же именно по ней шло снабжение нашей окраины угольком и дровишками. Вмешался уличный комитет, затем райисполком, дядю Гришу штрафанули за самоуправство, а траншею приказали зарыть. Тут, понятно, нашлись охотники, отрезок «канала» и месте расположения дороги быстренько засыпали и утрамбовали, на всем же остальном протяжении — дураков нет! — трогать его не стали — и «канал» остался, как памятник неравной схватки дяди Гриши с природой.
Казалось бы, этот случай должен укротить дяди Гришину дурь. Собственно, все так и думали — укротит. Но, как вскоре выяснилось, ошиблись.
…В начале шестидесятых годов он построил дом — чем, в который уже раз, снова ошеломил родню.
Случилось так: сначала построился дядя Ваня. У него разрослась семья — трое сыновей, дочь, да еще старенькую мать дядя Ваня покоил, — рассчитывать на государственную квартиру мог, но по тем годам не более чем на двухкомнатную «проходную»; такой вариант проблем его не решал — и дядя Ваня надумал строиться. Взял участок на горе Островской и заложил настоящий особняк: четыре комнаты наверху, правда, крохотные, да полуподвальная часть — с кухней и каморкой для бабушки.
Помогали ему всем кланом. По выходным дням, вечерами после работы, собирались мужики, еще удерживающие топоры в руках, тюкали дотемна.
Дядя Гриша, который не столько помогал, сколько, редко появляясь на стройке, мешал советами и командами, во время новоселья, за столом, вдруг хвастливо заявил:
— А я лучше построю!
Гости склонились над тарелками. На кой ляд нужен был дяде Грише дом? Остались они с Глафирой вдвоем. Давным-давно вел самостоятельную, неправедную жизнь Шурка: то отсиживал короткий срок, то — возвратись — очередной раз женился, то, бросив жену, подавался на Север — за длинным рублем… Дяде Грише, как участнику войны и какому-никакому руководителю, запросто могли выделить однокомнатную секцию. Живи — не хочу.
Но дядя Гриша отгрохал дом. Один, без помощников. Он намекал на помочь, и мужики были не против (веселое дело помочь, артельное), но открыто возроптали женщины: «Этот черт до старости лет блажить будет» а вы на него горби! Пусть Шурку запрягает, да уголовника его». (У Шурки был пятнадцатилетний сын Славик — от первой жены: такой же беспутный, как отец, вороватый и хулиганистый).
Переплюнуть особняк дяди Ванн, конечно, не удалось, не хватило у дяди Гриши ни фантазии, ни умения. Дом получился каким-то казенным: просторная кухня и огромная комната-загон, вроде конторы деревенской. «Безрукая» тетя Глаша, не умевшая создать уюта даже в прежней хибарке, территорию эту не освоила. Они ютились на кухне, хватало им её по-за глаза, комната же пустовала.
— Ну, вот зачем он тебе? — прямо спрашивали дядю Гришу.
— Пусть стоит, — отвечал он. — Хлеба не просит. А помрем — Славке отойдет.
— Господи помилуй! — пугались не только родственники, но и соседи. — Да он спалит нас тут всех!
В этой «конюшие» дядя Гриша и дотягивал век, после того, как похоронил свою Михаловну.
Впрочем, «дотягивал» не то слово. Дядя Гриша не впал в уныние, одиночество не согнуло его. По-прежнему каждое утро он делал физзарядку, обливался холодной водой, а зимой, вместо умывания, катался в сугробе. Теперь он хвастался силою своей — перед нами, племянниками, и редкие паши приезды.
— Хиляки! — задирал он нас. — По курортам, небось, ездите? Я сроду на курортах не бывал, а ты глянь на меня! Пощупай-ка вот! — Он сгибал руку. Под рубашкой перекатывался деревянной твердости шар.
— Да ты пальцем-то не тычь — сломишь! — насмешничал дядя Гриша.
Ои ударился в огородничество. Знаменитой огородницей числилась у нас жена дяди Вани тетя Пана. Дяди Гриша приходил к ней, усаживался на завалинке и горделиво перечислял:
— Нынче картошки накопал двести пятьдесят ведер. Помидор двадцать банок закатал, трехлитровых. Бочку; огурцов насолил… Капусту вот скоро рубить. Морозец стукнет — и рубить. Там вилки выбухали — прям как поросята.
— Торговать, наверное, будешь, Григорий Григорьевич? — прятала усмешку тетя Пана. — Одному-то тебе куда столько?
— Да ну… я в жизни не торговал, — отвечал дядя Гриша. — Съестся. Подберется за зиму.
Подбиралось. Налетала орда: Шурка с новой «матаней», оглоед Славик, жена его. Жрали, пили, колотили, растаскивали.
Дядя Гриша считал это вроде бы в порядке вещей. Даже не без важности (я, мол, не бедняк какой) отчитывался:
— Вчера Шурке нагреб два мешка картошки. Да Славке насыпал. Да помидор унесли по две банки.
На него уже не удивлялись, не спрашивали: «Да кто они тебе такие, саранча эта? Кому стравливаешь?» Поздно было учить дядю Гришу — ему шел восьмой десяток. Да он никогда и не воспринимал науку, наоборот — сам других поучал. Махали рукой: «Горбатого могила исправит».
Так он и жил — странный, нелепый, преудивительный мужик дядя Гриша, — пока не свалил его внезапный удар…
— Яковлевич! — окликнул меня Гена. — Все спросить собираюсь… как твоя фамилия?
Я назвался.
Гену подбросило на кровати:
— Слу-шай!.. Ты же про меня писал.
— Когда, Гена? Где? Не припоминаю.
— Ну как же! Книжка у тебя есть, я название только забыл! Там случай описан, на рыбалке. Парень на моторке крутится возле берега, рыжий — ха-ха! рыжий!.. Петька это был Савельев! — крутится и кореша своего матерно нз кустов вызывает. А кореш — его с берега-то не видно — тоже матерно отвечает: подождешь, не облезешь!.. Ну, вспомнил?.. Дак это я в кустах-то сидел тогда! Я!
— Погоди, Геннадий… У меня же пригородная местность описывается. А ты вон где живешь.
— Дак я сколько в деревне живу? Пятый год. А до этого — рассказывал же — в городе жил… У нас тогда черви кончились. Он меня высадил, я червей наковырял малость, и тут меня… ну, присел, в общем, на корточки. А он орет и орет, хайлает. Я его и послал подальше. А ты, значит, там был? Ну, елки! Это надо же так! Мне ребята говорят: про вас с Петькой в книжке написано. Я прочитал — точно! Один к одному: местность, все! Только у тебя он Гошку вызывает, а он Генку кричал, меня! Ты спутал… Или нарочно поменял?
Василий Иванович слушал, слушал и не выдержал, взорвался:
— Тьфу! Вот он — герой наших дней! Образец для подражания! Сидит в кустах, обормот, сквернословит на всю округу! А его — раз! — и зафиксировали! Увековечили для потомков! Правильно! Так и надо! Давайте возвеличим их — матерщинников, алкашей! У нас ведь других нет, настоящих тружеников! Мы их не находим, не видим!
Василий Иванович рассчитывался с Геной за вчерашнее. Вчера еще они задрались, с утра.
На завтрак опять принесли кашу, залепуху непроворотную, то ли ячневую, то ли перловую — невозможно разобрать.
— Хоть бы раз гречкой побаловали, — недовольно проворчал Василий Иванович.
— Дома побалуешься, — утешил его Гена. — Собственной. Закажешь жене — она тебе наварит полный чугунок.
— Мы гречиху не сеем, — сказал Василий Иванович. — Условия неподходящие. И вообще… трудоемкая очень культура.
— Во! — нацелил в него ложку Гена. — Так и скажи: невыгодно! А то — условия… Слышь, Яковлевич! Не сеют они гречку. И мы не сеем, тоже, понял, на условия ссылаемся. А лопать все хотим.
Гена выступал беззлобно и не одного Василия Ивановича имел в виду, но тот принял все только на свой счет, помрачнел еще больше.
А вечером смотрели телевизор. Шел сборный концерт. Василию Ивановичу все не нравилось.
Пятеро молодых грузин в белых штанах пели песню.
— Бригада целая! — страдал Василий Иванович. — На одну песенку! И каждому полная ставка идет. Ишь, жеребцы какие! — В оглобли можно закладывать.
Грузин мы не пожалели. Действительно, сытые были ребятки.
По Василий Иванович имел неосторожность напасть на Хазанова:
— Вот кого не люблю! Перекосоротит морду, дурачком прикинется! Миллионер уже, наверное. Моя бы воля — я бы его давно запретил.
Гена, только что вдоволь нахохотавшийся, завелся:
— Соли он тебе на хвост насыпал? Запрещатель… И чо ты за его деньги переживаешь? Он их не задаром получает.
— Не задаром?! Да он же одно и то же гонит, про свои калинарный техникум! Который год уже. Надоело!
— А ты разное гонишь? Тоже про одно талдычишь. Да еще по бумажке.
Василий Иванович заупорствовал:
— Несравнимые вещи, дорогой. Мы хлеб выращиваем. Мясо! А пока не будет хлеба и мяса — ни песен, ни басен не будет.
Очень ему это открытие поправилось, насчет первичности хлеба и вторичности зрелищ. Он даже повеселел.
— Хлеб всему голова! Посмотрю я, как они запоют на голодное брюхо. А то, понимаешь, там люди от пота не просыхают…
Гена вдруг, словно утратив интерес к разговору, спросил меня:
— Яковлевич, ты какую-нибудь крестьянскую работу делать умеешь?
— А что такое?
— Ну, умеешь — нет?
Я подумал чуток. Вспомнил:
— Косить умею, — сказал я. — Не мастерски, конечно… Да! Коня еще запрягать.
— Хомут как надевать будешь? — быстро спросил Гена.
— Вверх, вверх клешнями! — рассмеялся я. — Не лови.
— Так, правильно. На кусок хлеба уже заработал. А допустим, тебя на курсах комбайнеров поучить — и за штурвал? Сто двадцать процентов, ты, понятно, не дашь — кишка тонка. Да и возраст. Ну, а на семьдесят-восемьдесят сработаешь. — Гена, похоже, гнул куда-то. И внезапно обнаружил, куда: — А если тебя на его место назначить, — он мотнул головой в сторону Василия Ивановича, — за месяц в курс войдешь. Тут главное — с людьми перезнакомиться. А политику им разъяснить… ты же не малограмотный. Член партии? Ну, вот!.. А тебя, Иваныч! — тут Гена всем корпусом развернулся к Василию Ивановичу. — Тебя если палками даже бить, ты ни стишка, ни рассказа не сочинишь!
— Да я… стишки сочинять! — Василия Ивановича огорошил неожиданный этот поворот. — Про изумрудную зелень крон? Да я в гробу!.. А комбайном не пугай, пожалуйста. Я, между прочим, инженер по образованию: потребуется — управлюсь и с комбайном.
— Вот иди и управляйся, — сказал довольный Гена. — А принижать тоже давай не будем. — Он ткнул пальцем в телевизор. — Не будем давай! Ни хлебом, понял, единым живем… От пота он не просыхает! Просыхаем. Успеваем просохнуть. Как электричество отключат — так коровы три дня не доены. От водки больше не просыхаем.
Здорово он, оригинально заступился за нашего брата интеллигента. Но Василия Ивановича крепко обидел. Особенно палками этими.
И теперь вот Василий Иванович, в свою очередь, поймал Гену, прищучил. А попутно и меня, как соучастника.
Мне бы помирить их сразу: сознаться, что рыжего парня на моторке я выдумал. И Гошку, отвечающего из кустов, тоже. То есть не совершенно выдумал, с натуры, в общем-то, списал, с действительных мотоковбоев, отравлявших жизнь пешим рыбакам-удочникам на излюбленном моем водоеме. Перекрасил только какого-то блондина или, возможно, брюнета в рыжий цвет да. приятеля его ссухопутил, в кусты загнал.
Но, во-первых, не хотелось разочаровывать Гену. А во-вторых, перед Василием Ивановичем я бы его таким признанием все равно не защитил. Ведь сидел же когда-то Гена в кустах. И матерился.
Я смолчал.
А Гена оскорбился.
— Да и что — всю жизнь по кустам прячусь?.. А герои — что? У них животы никогда не схватывает, они в кустики не бегают? Герои, герои… А я и есть герой! Я, к вашему сведению, герой соцтруда! Газеты читать надо.
Он сделал движение — отвернуться. Но отвернуться было некуда: кровать Гены стояла посредине. Тогда он просто вытянулся и закаменел, уставя нос в потолок, Лежал гордый, неприступный.
Василий Иванович разинул рот. И я, признаться, тоже. Так вот почему его в палату чуть ли не под руки ввели. Герой Социалистического Труда! А каким простаком прикинулся: за лысину! Вот тебе и Гена!..
После отбоя Василий Иванович курил у приоткрытого окна. Раньше он этого никогда не делал — опасался дежурной сестры: в больнице существовал строгий запрет на курение. А сейчас Василий Иванович курил, деликатно выдувал дым наружу. Сильно, видать, расстроился человек.
Гена поворочался-поворочался, покряхтел — не вытерпел: встал, прошлепал босыми ногами к подоконнику:
— Иваныч, дай разок дернуть.
Помирятся… куда им деваться? Куда нам деться тут друг от друга?
Все думаю я о дяде Грише.
О жизни его. О смерти. В том смысле, что вот умер человек, а что после себя оставил? Семьсот рублей на книжке да уродливый этот дом? Всего-то?
Казалось бы, пожать плечами, как пожимал я раньше, прослышав об очередном чудачестве дядьки или очередной его неумной похвальбе. Ну, умер и умер. Закончил свой век.
Или облегченно, стандартно оправдать его: дескать, ну как же? Ведь работал худо-бедно. Воевал. Внес, так сказать, вклад и в индустриализацию, и в Победу. И не корыстничал. Наоборот: в последние годы даже горбил на вовсе чужих ему людей. Чего же еще?
Подумать так — и, выражаясь протокольно, закрыть вопрос.
А вот не закрывается вопрос.
Какая-то загадка мерещится мне в судьбе дяди Гриши. Вернее, так: судьба его представляется мне теперь загадкой.
Была, была загадка.
Почему именно дяде Грише, а не кому другому, было отпущено столько жизнелюбия (пусть куражливого, фанфаронского), столько упрямства, столько здоровья, трехжильности, которой хватило ему до последнего вздоха? (Это ведь надо! — раковину оторвал… ходил несколько дней после инсульта на своих ногах… картошки припер дуролому Шурке).
Зачем жил он и жил — не оставивший ни потомства, ни мудрых заветов — столь долго и упорно? Не доживал тихо и немощно, а именно жил, топтал землю, как последний мамонт.
Какой урок хотела преподнести природа его примером? Кому? И для чего?
Иногда мне приходит в голову несерьезная вроде догадка. Были в нашем роду и до него мужики с чудинкой, тащили, случалось, «корову на баню». Так вот: вдруг природа решила собрать в дяде Грише, сконцентрировать всю непрактичность, чудаковатость, все головотяпство и пошехонство родового нашего корня, чтобы показать вот так вот крупно, назидательно, а потом взять и похоронить разом? Как говорится: в мешок, да в воду.
Но когда я думаю так, мне почему-то становится чуточку обидно. Несправедливо, думаю я, оставлять нас вовсе-то без наследства, пусть даже такого никчемушного, обременительного, от которого только себе хуже.
Да и сдается мне, что затея эта окончательной викторией пока не увенчалась.
Отчего, например, хлещется и хлещется в деревне своей, в глуши, в Тмутаракани одержимый братец мой? Запалился уже на службе этой, до лихорадочного блеска в глазах. А дли себя лично за многие годы так и не нажил ни палат каменных, ни ковров пламенных.
А сам я?.. Зачем все строю свои «дома», горожу низкорослую «улочку», населяю ее чудаками и простофилями? Ведь знаю же: заслонят «улочку» кварталы многоэтажных, многотомных, современных «зданий» — и будут из окон их свысока поглядывать на обитателей моей «улочки» положительные, благоразумные жильцы…
Больные наши косят газон.
Выпросили у старичка служителя зазубренную литовку, рвут ее из рук друг у дружки: «Дай-кось мне — хоть рядок пройду!»
После дождей наросла трава, у мужиков душа затосковала: больница то областная, лежат здесь преимущественно сельские жители, крестьяне, и возраст самый тягловый — от тридцати до сорока лет.
Косят. Выхваляются друг перед другом. Не показывают виду, что стреляет каждый взмах то в поясницу, то в плечо. Орлы!
Срамят владельца инструмента, дядю Федю.
— Что ж ты, хрыч старый?! Отбить полотно — руки отсохли?
— Ну! Ею не траву косить — кочаны капустные тяпать!
Дядя Федя покуривает на скамейке, поплевывает, кивает согласно багровым, пористым носом: так-так… верно. Инструмент не его, казенный. Вот пусть и отбивают, кому надо. Главврач пусть отбивает.
Теплынь. Благодать. Почти все отделение на улице. Некоторые, здесь уже образовавшиеся, парочки вообще подались в кустики, под забор частного сектора — дружить.
Строжиться, загонять в помещение сегодня некому. Воскресенье, беспроцедурный день. Из медперсонала в отделении только дежурный врач да сестра. А кабинет врача на другой стороне здания.
Остриженный под машинку парень, голова перевязана, прямо тут, на скамейке, принародно обнимает тонкую женщину в цветастом платье, тискает ее, прижимает к себе. Подружка, наверное, проведать пришла.
Сверху, с пятого этажа ему кричат:
— Ты! Задавишь! Чо жмешь-то, чо жмешь! Парень поднимает голову:
— Не задавлю! Я же не этот… не илигатор! Женщина смеется из-под руки парня.
Впереди меня по дорожке, взявшись под руки, движутся три тети в больничных халатах. Такие широкие — не обойдешь.
Средняя негромко рассказывает подружкам:
— Ну, присмотрелась я… мужичонка вроде неплохой, подходящий вроде. Ну, сошлися, стали жить…
Я сбавляю шаг — неудобно подслушивать чужие откровения.
И тут из-за тетушек выворачивается навстречу мне Гена.
Что-то он сегодня слишком перекособочен. И левую руку, согнутую, держит так, словно бережет после перелома. Но глаз у Гены веселый, интригующий.
— Яковлевич! — говорит он. — Я вот что думаю: пора нам в самоволку.
— Ох, пора, Гена, пора! — вздыхаю я.
— Тогда… не обидься только — слетай в палату за стаканчиками. И зажевать чего-нибудь. Мне самому в корпус нельзя, — он показывает подбородком куда-то под мышку, мигает: — Я тут в монопольку, понял, смотался в ихнюю, в деревенскую… Вынесешь — а я тебя под кустиком подожду.
Мы с Геной уютно расположились под кустиком. За спиной сдержанно пошумливали корпуса больницы. Впе реди лежала «деревня» — деревянные кварталы ближнего пригорода, — полого сбегала вниз, к далекой, бледно голубеющей реке. После недавнего дождичка земля парила. Восходящие токи струились, дрожали — и дрожали, словно бы неспешно плыли куда-то крыши домов, деревья, скворечники.
Гена достал из-за пазухи бутылку грузинского вина «Эрети», прочел на этикетке: "Двенадцать градусов".
— Самое то… для калек. Говорят, на Кавказе детям лают. И обезьянам в зоопарке. Не хватает у них чего-то в рациноне — добавляют для бодрости.
— Надо бы Василия Ивановича пригласить, — нерешительно предложил я.
— Не пойдет! — мотнул головой Гена. — Он мужик, вообще-то, неплохой, но не пойдёт… с работягой. Если бы еще городской начальник был, а то наш, деревенский. Они там, понял, от таких, как я, берегутся. И правильно делают. Авторитет!
— От каких таких? От героев-то соцтруда?
— Да какой и герой! Это я для Иваныча специально…
— Соврал, что ли? — удивился я.
— Насчет героя только, — сказал Гена. — А вообще-то орден у меня есть. Мне в позапрошлом году, за уборочную, веселых ребят повесили.
Я не понял его.
— Ну, Знак Почета, — пояснил Гена. — Не знал разве? Его у нас так называют. — Он вдруг словно заизвинялся: — Да ведь хлеб той осенью был — страшенный! Захлебывались им, сам знаешь… У нас тогда одному Комбайнеру Героя дали, еще одному и директору совхоза — по Трудовому Красному Знамени, а мне — Знак Почёта.
— И сказал бы про Знак Почета. Зачем дурачился-то? Вполне достойный орден.
Гена и сам, видно, гордился орденом. И оттого, наверное, еще больше заизвинялся:
— Да мне как раз машину новую дали. Прям с иголочки. И ты знаешь — хоть бы раз за всю уборку чихнула. Я и понужал. От темна до темна. Да чо там до темна — и по темну тоже.
Оті выпитого вина ли, от пейзажа деревенского, лежащего перед нами, или от воспоминаний о прежней горячей работе (а скорее — от всего вместе), сделалось Гене грустно. Он закурил было, но и папироску, не докончив, ткнул в землю.
— Яковлевич, — сказал тихо. — А что впереди будет? С нами-то?
Впереди?.. Я знал, что будет с нами впереди. Отлетели мои гамлетовские вопросы (господи! да там гамлетовского-то)… А то самое и будет. Будем подниматься со скрежетом зубовным. Будем кряхтеть и гнуться, и распрямляться, и, взяв себя за шкирку, тащить и тащить вперед! То, что растеряли, не возвратишь, а с тем, что приобрели, придется жить. Надо! Значит, будем жить, пока… пока не оторвем спою раковину от стенки.
Но обо всем этом я не мог сказать Гене. Длинно. Да и бодрячеством прозвучало бы, красивостью.
Я сказал ему полуправду:
— Впереди будет лучше. Гена.
— С какого такого крюка? — усмехнулся он.
— А вот нам еще выйти отсюда предстоит. Разве это не лучше?
— Ты баптист, однако, Яковлевич, — сказал Гена. — Все у тебя распрекрасно.
Прилетела сизая кукушка, села на железный столбик ограды, совсем близко, метрах в пяти. Я загадал, как в детстве: «Кукушка, кукушка, посчитай, сколько мне жить».
Кукушка откуковала восемь раз, умолкла было, по потом, почесав клювиком под мышкой, отмерила еще один год.
Я почему-то обрадовался этой скромной добавке.
— Вот же сволота! — плюнул Гена. — Пожадничала! — Он зашарил в траве камешек.
Выходит, тоже загадывал.
— Не надо, — удержал я его руку. — Это не твоя. Твоя еще летает.
— Ладно, — сказал Гена. — Черт с ней…
Кукушка снялась и полетела. Над огородами, над крышами — в сторону зарозовевшей в предзакатных лучах Оби.
ГДЕ ТЫ, АИСТ?
Итак, демографический взрыв, как выяснилось, нам больше не грозит.
И стало быть, карточная система в двухтысячном году — тоже.
Как говорится, всем хватит хлеба с маслом. Можно не волноваться и не пороть горячку.
А то одно время крепко народ пугнули этими скороспелыми прогнозами. Пугнули, в основном, западные философы и социологи. Они, вообще, большие любители по всякому поводу караул кричать. То сушь великую напророчат, то глад, то мор.
Вот и с этим демографическим взрывом. Посеяли ведь панику, канальи! Вплоть до того, что отдельные узкомыслящие граждане начали сливочное масло скупать и в холодильники прятать. Как будто возможно в холодильниках сохранить масло до двухтысячного года.
Спасибо нашим ученым. Все же не зря они свой хлеб едят. Сумели-таки все трезво проанализировать, подсчитать и повернули, в конце концов, общественность лицом к насущным проблемам.
Обнаружилось, что в пылу этой дискуссии о перенаселении мы чуть было не проморгали реальной угрозы. Какой там, к лешему, демографический взрыв, когда у нас, оказывается, рождаемость падает и уже не хватает рабочих рук. В городах повсюду царит «айн киндер систем», в детских садиках — недоборы, а встретить на улице живого первоклассника стало так же трудно, как космонавта.
Короче, положение складывается незавидное, и надо что-то делать.
То есть что делать, в общем-то, ясно. Рожать надо. Рожать, рожать и рожать.
Но рожать почему-то воздерживаются.
Надо полагать, ученые теперь на полпути не остановятся, и со временем докопаются до причин такого отношения к важной задаче и выработают свои рекомендации. Но пока, как говорится, улита едет, нам хотелось бы тоже поделиться некоторыми наблюдениями. Разумеется, обобщающими цифрами в союзном, или хотя бы областном, масштабе мы не располагаем, но отдельные красноречивые факты нам известны.
Так, например, недавно одна знакомая нам молодая особа, некто Свекольникова Галина Степановна, отважилась заиметь ребенка. И поскольку беременная женщина теперь большая редкость, наша дворовая общественность за Галочкой (у нас ее Галочкой зовут) следила с живейшим интересом, а разные истории, происходившие с ней на этой почве, передавались из уст в уста.
Ну, про истории несколько позже. А сначала надо отметить такую деталь: Галочка с нетерпением готовилась стать матерью и своей беременности, в отличие от многих других женщин, ничуть не стеснялась. Другие, знаете, стыдятся, лишний раз на люди норовят не показываться, прикрывают свои интересные изменения оренбургским пуховым платком, и если когда говорят об пом, то не напрямки, а как бы вскользь и потупя глаза: искать, да, ничего не поделаешь — в положении я. А Галочка гордо носила свой располневший стан и слово это — вроде бы как запретное — выговаривала легко и естественно.
И вот с ней происходили разные истории. Отчасти, может быть, по этой самой причине — то есть из-за желання легально и даже подчеркнуто ходить беременной.
Садится, допустим, Галина Степановна в трамвай. Впрочем, не допустим, а точно садится однажды. Трамвай не то чтобы переполненный — пространства еще достаточно. Но Галочка, чувствуя за собой право, входит все же с передней площадки. И при этом слегка задевает плечом некую юную особу в джинсиках и с распущенными волосами. В общем-то, почти что свою ровесницу.
Юная особа немедленно реагирует: — Могла бы и в задние двери войти. Не пенсионерка. Галочка независимо отвечает ей:
— Видите ли, девушка, я беременная, и мне положено.
— Фу! — брезгливо отскакивает юная особа. — Бессовестная! Как только язык поворачивается! Фу!
Она убегает в дальний конец трамвая и оттуда, не в силах успокоиться, долго еще бросает на Галочку негодующие взгляды и передергивает плечиками.
При этом пассажиры в трамвае осуждающе усмехаются не над юной особой, а, как ни странно, над Галочкой. Иные опускают глаза, пряча улыбку, а иные поджимают губы, переглядываются и покачивают головой: ну и ну, дескать — нашла чем похвастаться! И кому сообщает-то? Считай, что ребенку. Вот они, нынешние…
И едет наша Галина Степановна дальше — вроде бы как слегка оплеванная.
Другой случай. Приходит она по своим делам в женскую консультацию. А надо сказать, консультацию Галочка, серьезно относясь к своему будущему материнству, аккуратно посещала и все рекомендации врачей старалась выполнять.
И вот она приходит в очередной раз.
В консультации сидит доктор Эсфирь Борисовна — строгая такая женщина, с красивыми усиками над верхней губой.
— Раздевайся, — не глядя, говорит Эсфирь Борисовна. И затем начинает осмотр, в процессе которого и трогает и мнет Галочку своими решительными жесткими руками.
Галочка в какой-то момент морщится и ойкает.
— Чего кривишься! — раздраженно прикрикивает на нее Эсфирь Борисовна. — Я вот тебе покривлюсь! Знала, как к мужу в постель прыгать, — вот и терпи. А то раскривилась тут.
Господи боже мой! Это же только с куриным воображением можно не понять, что тебя здесь почему-то, черт знает с какой стати, вроде бы ничем от гулящей не отличают. И вообще, делают большое одолжение, бесплатно обслуживая. А могли бы и за дверь выставить.
А что делать? Ребеночка-то хочется родить здоровенького. А Эсфирь Борисовна — доктор знающий. И, значит, опять к ней надо будет идти.
А однажды Галине Степановне пива захотелось. Ну, сами понимаете, у женщин в таком положении возникают иногда неожиданные желания. Ей, в частности, захотелось пива. Терпела она, терпела, опасаясь, что это может повредить ребеночку, а потом думает: «Ну, от одного-двух стаканчиков, поди, ничего уж такого страшного не случится? Пойду куплю».
Взяла бидон пластмассовый на полтора литра и отправилась в расположенный напротив пивной киоск. Возле киоска, конечно, очередь стоит в четыре загиба. С канистрами стоят, с ведрами, с двадцатилитровыми бутылями из-под тормозной жидкости.
Галина Степановна, видя такое дело, подходит сбоку и говорит: разрешите, мол, товарищи мужчины, взять нива без очереди. А то я беременная и мне стоять трудно.
Тут в очереди наступает веселое и недружелюбное оживление.
— Хо-хо! Беременная!.. А с чего это ты? Ветром надуло?
— Давай-давай — в общем порядке!
— У нас здесь все беременные!
— Вон, гляди, дядя стоит — наверняка тройню ожидает!
А там, правда, неподалеку стоит один такой жуткий боров, чуть разве потоньше пивного киоска. Такой фантастический толстяк, что от полноты уже говорить не может. Только сипит. Но сипит, сволочь, членораздельно. И не что попало, а высипливает теорию:
— Пущай у хвост становится… У хвост… В нас теперь равноправие. Это когда женщина вгнетена была, мы их уперед пропускалы и ручки целовалы… А теперь в нас матрыархат… Теперь мужик вгнетен… Так що должны оны нам ручки целовать…
Ну и, конечно, отправляется Галина Степановна в хвост. И стоит в этой перегарной очереди, подавляя тошноту и жажду.
Но это мы все приводили мелкие житейские случаи, досадные уколы действительности, на которые Галина Степановна, имея пока что здоровые нервы, старалась не очень обращать внимание. А была с ней история далеко не мимолетная. Это когда она переходила на другую работу. Дело в том, что Галина Степановна, выйдя замуж и вскорости забеременев, решила устроиться работать куда-нибудь поближе к новому месту жительства. А то ей раньше приходилось ездить на электричке и двух автобусах. Далековато, все-таки.
Но она не учла одной детали. Как известно, на кадрах у нас сидят повсюду люди тертые, стреляные воробьи, которые человека насквозь видят. А уж беременную женщину определяют с полувзгляда. Почище гинекологов. Потому что беременная женщина для кадровиков — бич. Она — по ихней классификации — числится где-то посредине между алкоголиком и диверсантом.
Так что Галочка за две недели экскурсий по предприятиям ничего не выходила. Отовсюду ее вежливо выпроваживали, несмотря на дефицитную специальность (она копировщицей работала).
Тогда Галочка применила военную хитрость. Накинула на плечи этот самый оренбургский пуховый платок, мамину широкую юбку надела — и в таком затрапезном виде отправилась куда-то, в Цветметпроект, что ли.
Кадровичка в Цветметпроекте полтора часа из кабинета ее не выпускала. Измором хотела взять. Все ждала, что ей жарко станет и она платок этот свой подозрительный скинет. Но Галочка сцепила зубы и выдержала. Даже усилием воли заставила себя не вспотеть. А на другой день, конечно, тайное стало явным. И оскорбленная кадровичка открыла против Галины Степановны холодную войну. Не могла она пережить, что ее, старейшую работницу, двадцать лет просидевшую на кадрах и неоднократно премированную за бдительность, провела какая-то соплячка.
Нет, к начальству она не пошла. Начальство тут ничем помочь не могло, поскольку официального законоположения, направленного против беременных женщин, у нас не существует. Даже и профсоюз обязан защищать их наравне с другими трудящимися.
Она по-другому сделала. Стала ходить из отдела в отдел и шептать своим приятельницам:
— Видели новенькую?.. Авантюристка!.. Такой овечкой прикинулась, такой тихоней, а сама беременная по пятому месяцу. Вот змеюка!.. Будет теперь тянуть с нас декретные. Ну, я ей так не спущу! Наплачется она у меня.
И эта грымза сдержала свое слово.
Она поедом ела Галочку до самого декретного отпуска, до последнего дня и часа.
Ну, довольно, пожалуй. Всего не перечислишь. Скажем в заключение, что эта мужественная женщина, Галина Степановна, все-таки родила ребенка. Она счастлива и не раскаивается. Сейчас она воспитывает своего карапуза и, объединившись еще с двумя молодыми мамашами из нашего дома, ведет героическую борьбу с превосходящими силами собаковладельцев, чьи жучки, просим прощения, вконец записали единственный зеленый газончик во дворе.
Но когда родные и знакомые намекают ей в разговоре, что неплохо бы, пока годы не ушли, завести второго и тем самым выполнить-де свой долг перед обществом, Галина Степановна отвечает:
— На фиг мне это надо! Я вот себе одного родила — и хватит. А общество пусть застрелится. Пусть им листы детей приносят, раз про них песни поют. Что-то про беременную бабу пи одна собака песни пока не сочинила.
КОРОЛЕВСКИЙ ТЕРЬЕР
Собака — друг человека. Истина эта стара, как мир. Ни у кого она не вызывает сомнения. Случается, что собака рвет на человеке штаны или даже, взбесившись, кусает собственного хозяина, но все равно — друг человека. Нет смельчака, который бы отважился опровергнуть эту формулу. Мы, по крайней мере, такого не встречали. Очевидное «дважды два — четыре» вызывает у некоторых умников скептические улыбки, лирическое «Собака — друг человека» — никогда. Нет такого декрета, указа, законоположения — считать её другом, но убеждение это, как выразился один знакомый писатель, «записано алмазными иглами в уголках наших глаз».
Бывает, что и человек — друг человека. Случается. Но реже. Друга-собаку завести просто. Купил за полста рублей щенка, обучил его подавать лапу — вот и друг. Друга-человека за полсотни не купишь. Не купишь и за тысячу. Друзья, давно замечено, вовсе не покупаются. Они, увы, только продаются. И вообще с человеком, прежде чем он станет тебе настоящим другом, надо, как известно, съесть вместе пуд соли. Что с другом-собакой делать не обязательно.
Однако ближе к делу.
Аркадий Сергеевич Зайкин и Лев Иванович Киндеров съели вместе двенадцать пудов соли. Они однажды, интереса ради, подсчитали — и убедились: точно, двенадцать. Даже двенадцать с половиной — ровно двести килограммовых пачек. Но полпуда они, для ровного счета, великодушно сбросили. Ели они соль на Таймыре и Чукотке, в Уренгое и Нижневартовске, в Приморье, на Камчатке, Уруие, Итурупе и Кунашире, на Енисее и Витиме… Да где только не ели! И не потому, что соль в местах отдаленных казалась им вкуснее. Просто Зайкин и Киндеров работали в одном проектном институте, в одном и том же отделе изысканий и мотались по стране совсем не ради пикников на лоне нетронутой природы. Гнал их в глухомань служебный долг — во-первых, и похвальный энтузиазм, святое горение (пока были молоды) — во-вторых.
Но пришло время — и друзья осели в городе. Аркадий Сергеевич дослужился до начальника своего же отдела изысканий, а Лев Иванович, обладавший умом более аналитичным и успевший написать за годы скитаний кандидатскую, перешел работать в научно-исследовательский институт, где сразу получил лабораторию, а вскоре защитил и докторскую диссертацию.
Соответственно изменился и образ жизни их, быт. Уже не одна палатка на двоих грела друзей. Зайкин занимал и городе трехкомнатную малогабаритную «распашонку», а доктор Киндеров — трехкомнатную же, но полногабаритную квартиру и Академгородке. Видались они теперь реже: интересы разделяли, правда, чуть-чуть, а больше занятость и расстояние. От центра города до центра Академгородка как-никак тридцать километров — не через дорогу перебежать.
По дружба осталась. Прокопченная у костров, промороженная во льдах Таймыра, просоленная двенадцатьо пудами вместе съеденной соли, не считая мелких брызг морей Карского, Лаптевых, Чукотского, Охотского и пролива Лаперуза.
Встречались. Разок, а то и два в месяц. Чаще — на территории Льва Ивановича. Он как-то сделался вроде бы старшим в дружбе. Что ж, дело понятное: доктор наук, светило, за границей печатают, на симпозиумы в Канаду приглашают. Ещё и потому они не могли не встречаться, что давно дружили их супруги, еще с того времени, когда сами они по Сибири колесили, надолго оставляли жен. И сошлись женщины, похоже, крепче даже, чем их мужья. Хотя мужчины к пылкости дамской дружбы относились с некоторой иронией, считая свою надежнее, железобетоннее.
Вот такая ситуация сложилась к моменту, когда Лев Иванович Киндеров вдруг завел собаку.
Завел он ее как-то странно, не по-людски, ну, не в обиду будь сказано, — по-пижонски. Привез щенка из Москвы, на самолете. и отдал там за него двести рублей. Почти что месячную зарплату своего друга, если отбросить сибирский коэффициент.
Аркадия Сергеевича, крестьянского сына, такой аристократический жест не то чтобы покоробил (он и сам прижимистым не был), но ошеломил.
— Ну, даешь, профессор! — вытаращил он глаза. — Небось и билет на него покупал?
Оказалось, да: пришлось покупать на песика билет. Но щенок того стоил. Был он редчайшей породы, называлась эта парода кинг-блю-терьер, что в переводе означало будто бы — королевский голубой терьер.
Вот так вот! Королевский — не меньше. В Москве немногочисленные владельцы таких собак объединялись в отдельный клуб, а здесь единственным клубменом, получалось, сделался теперь Лев Иванович.
— Невестушку-то где ему будешь искать, когда подрастет? — поддел друга Аркадий Сергеевич.
— Да, это будет проблема, — серьезно ответил Киндеров.
К щенку прилагалась его родословная. Мать честная! Что это было за генеалогическое древо! Лично Аркадий Сергеевич своих предков дальше деда Куприяна, выходца из Вятской губернии, не помнил. Да и деда он помнил смутно, а уж как отчество его, вовсе не знал. Куприян Зайкин — и все. Землепашец и по совместительству скорняк. Лев Иванович проглядывал свою родословную чуть дальше. По мужской линии он происходил из обрусевших немцев, знал, что прадед его носил фамилию не Киндеров, а Киндеркнехт, что намекало на причастность прадеда или его далеких предков к воинскому делу.
Пес в этом смысле давал друзьям форы лет триста. Звали его Гамильтон, но перед этим, последним, стоял еще такой список имен, что невозможно было упомнить. Среди неисчислимых же предков щенка вот какие значились высокопоставленные особы: Аякс фон Дитрих Сберг, Клиф фон Цилли энд Гренди, Цилли фон Дитрих Фриденсбург, Ирвин Блю Стар Инч; а по сучьей (извиняемся), материнской линии — Беата Айриш Хиппи, Лав-Алка-Дарья, Дуня фон Блауен Шевалье… И все — германских, английских, нидерландских кровей. Все — с медалями, грамотами, дипломами, призами…
Впервые друзья не вспоминали былые походы, а целый вечер говорили только о щенке. Гладили его, почесывали брюхо, трепали за ушами. Пес на ласки не отвечал. Был он черен, кучеряв, как воротник из каракуля, и угрюм. Но весь секрет заключался в том, что с возрастом граф этот или виконт должен был поменять масть, сделаться голубым — чем хозяин особенно умилялся.
Аркадий Сергеевич, в отличие от черноволосого друга, сам давно уже стал голубым, то есть сивым, но эту перемену масти ему никто в заслугу не ставил. И прежде всего жена, которая была значительно моложе Зайкина.
В общем, так: впервые, опять же, Аркадий Сергеевич с женой красноречиво переглянулись, украдкой от приятелей. Раньше мужчины переглядывались по поводу каких-нибудь фантазий супругов, а теперь вот Зайкин с женой; дескать, доктор-то наш… того, с жиру беситься начинает.
Такая вот произошла история. Аркадий Сергеевич конечно же щенка не воспринял серьезным конкурентом. Просто подивился чудачеству друга. Ну, дома, когда вернулись, маленько позлословили. Да нет, не позлословили (слишком сроднившимися они были людьми) пошутили, побалдели, как теперь говорят. Жена, запомнившая из всех предков щенка только Дуню фон Блауен, называла его «дунькин сын>, и это её очень веселило.
Однако еще ближе к делу. То есть теперь уже непосредственно к нему.
Праздновали день рождения Ирины Киндеровой. Компания собралась небольшая, в основном женская. Две сотрудницы Ирины, непрерывно курившие сигареты (Ирина была учительницей, в школе у них курить не разрешалось, и бабоньки отводили душу в домашних условиях); секретарша Льва Ивановича, дама еще довольно молодая, но чопорная, значительная — она видом своим, прямизной, суровостью старалась всегда уравновесить некоторую мальчишескую развинченность шефа, излишний его демократизм, считала это своим долгом; из родственников — мать именинницы и двоюродная сестра.
Пришел и Аркадий Сергеевич со своей Машей. Маша, как только разделась, так сразу села около именинницы, лак сразу они и слепились плечиками и заворковали. Очень любили друг дружку жены Льва Ивановича и Аркадия Сергеевича.
На стол подавала сестра Ирины. Она была за хозяйку. Именинницу из красного угла не выпускали.
Подступила очередь гвоздя программы всякого сибирского застолья — пельменей. Возникла пауза. Изрядно уже насытившиеся гости откинулись от стола, закурили теперь все.
Пошла сестра-хозяйка. Вместо блюда с пельменями она держала на вытянутых руках, словно большую рыбину, изящный французкий сапог коричневой кожи. Увы, бывший изящный.
— Гамильтон съел сапог! — сказала сестра трагическим шепотом. Вид у нее был настолько обескураженный, убитый, словно это не пес поработал над импортным дивом, а сама она, лично.
Сапог выглядел ужасно. Собственно, это был уже не сапог, а жеваная половая тряпка. Даже металлической молнией-застежкой не побрезговал потомок Аякса фон Дитриха.
Жены Киндерова и Зайкина стремительно вскочили.
— Мой! — крикнула Ирина.
— Мой! — крикнула Маша.
Аркадий Сергеевич увидел глаза жены, и ему сделалось страшно: отчаявшиеся, ослепшие, безумные глаза!
Женщины стояли как гренадеры на смотру, как… соляные столбы. У них даже на междометия, на вздохи сил не хватало. Они только, перекрикивая одна, другую, как заведенные повторяли:
— Мой!?
— Мой!!
— Мой!!!
— Мой!!!!
Первой обрела способность двигаться Ирина. Хватаясь за прически школьных подружек, она выбралась из-за стола, рванула из рук сестры сапог, поднесла к глазам, отыскивая какие-то приметы. Подняла бледное лицо.
— Мой, — сказала горестно, и злые слезы мелким дождем сыпанули из её широко открытых глаз.
Жена Аркадия Сергеевича обессиленно упала в кресло. Не её был сапог! Слава тебе, пресвятой господи!
Зайкину от ее столь явного облегчения сделалось ещё хуже, совсем нехорошо. Он даже зажмурился на секунду. А когда открыл глаза, увидел, что Ирина, зловеще помахивая сапогом, движется к мужу. Левушка же ее медленно, обреченно втягивает голову в плечи. И каменная вокруг стоит тишина.
Ирина не дошла до мужа, круто развернулась в сторону коридора:
— Сейчас я ему, гаду, башку расшибу! Лев Иванович вскочил, поймал ее за плечи:
— Не смей! Лучше — меня.
— Aгa! Жалко! Тебе его жалко!.. А ты знаешь, сколько они стоят? — она потрясла сапогом. — Ты знаешь, сколько за них на барахолке просят? Не хватит рассчитаться ни этой тварью, ни его поганым потомством!.. Если у него будет потомство.
Тяжелая получилась сцена, неприятная. Про пельмени забыли. Какие там, к дьяволу, пельмени!
По мало-помалу смута улеглась. Взяли себя в руки — все-таки интеллигентные люди. Даже постарались перевести драматическое событие на шутку. И тут очень помогла секретарша (она — молодец женщина: чутко пасла интересы шефа и о самочувствии его заботилась): изменила своей обычной чопорности и рассказала анекдот, который то ли где-то слышала, то ли в «Крокодиле» вычитала. Суть примерно такая: некая дама прогуливает на поводке боксера, а некий прохожий спрашивает у нее — не продадите ли собачку? Дама отвечает: я бы продала, да вам не по деньгам будет. «Отчего же? — спрашивает прохожий. — Ведь не слона же вы продаете и не льва, а всего-нанесго собаку, так сказать, четвероногого друга». — «А потому, — сказала дама, — что этот друг, как вы изволили выразиться, изгрыз у меня стенку стоимостью в две с половиной тысячи рублей и арабский спальный гарнитур. Короче, если у вас имеется с собой восемь тысяч — забирайте. Вместе с намордником".
Посмеялись. И Лев Иванович сказал несколько отмякшей супруге:
— Ладно, старушка, не убивайся. У меня скоро статья и журнале выйдет, считай, что это твои будущие сапоги.
Ну-с, закончился праздник. Стали гости расходиться. Супруга Зайкина попробовала надеть свои уцелевшие сапоги, а они ей вдруг не полезли! Хозяйкины оказались сапоги, тридцать шестого размера. А Маша, которая была значительно крупнее своей субтильной подружки, носила тридцать восьмой.
Все онемели.
Маша силилась улыбнуться, но у нее дрожали губы.
У, крокодил! — взорвалась Ирина и такого пинкаря дала подвернувшемуся щенку, что он, вякнув, отлетел метра на три.
Машенька, голубчик, золотко! — заговорил Лев Иванович. — Не переживай, я все возмещу.
— Да брось ты, — буркнул Аркадий Сергеевич. — При чем тут «возмещу»… Домой вот как добираться…
Решили вызвать из города такси. Поскольку время было ночное, диспетчер предупредила: «Пойдет с включенным счетчиком». А это означало — готовь четырнадцать рублей. Лев Иванович засуетился, выхватил кошелек;
— Аркаша, вот возьми!
— Ты совсем рехнулся? — обиделся Аркадии Сергеевич.
Правую ногу Маши (сволочь Гамильтон начал с правого сапога) обмотали шарфом, в таком покалеченном виде довели её под руки до такси, усадили. Всю дорогу Зайкины подавленно молчали. А когда Аркадий Сергеевич стал рассчитываться с водителем, то обнаружил в кармане пальто незнакомые пятнадцать рублей. Друг Лева успел, значит, сунуть их туда незаметно. Аркадий Сергеевич расстроился:
— Тьфу ты! Вот же прохиндей! Еще бы додумался за сапоги сунуть.
— Мог бы и додуматься! — жестко сказала жена. С тех пор дружба между семействами пошла на убыль, дала, как говорится, трещину. Прекратились чуть ли не ежедневные телефонные перезванивания между супругами. Когда Киндеровы приглашали Зыкиных в гости — подышать свежим академгородковским воздухом, Маша отказывалась ехать, ссылаясь на головную боль. «Если хочешь, поезжай один», — говорила ледяным тоном. Аркадий Сергеевич один, естественно, не ехал: это было бы слишком уж явной демонстрацией Машиной непримиримости. Встречались они со Львом Ивановичем поэтому без жен, когда Аркадию Сергеевичу приходилось бывать в Академгородке по делам. Обычно он звонил из автомата и говорил: «Лева, я здесь». Лев Иванович цеплял на поводок Гамильтона, выводил погулять. Они усаживались где-нибудь на скамеечке, пес носился по газонам, друзья смотрели, как он резвится, и… молчали. Или перебрасывались незначащими фразами. Говорить о причине размолвки, выяснять отношения было тягостно, делать вид, что ничего не произошло, они не умели — разговор не клеился. Грустные, словом, были встречи.
Аркадий Сергеевич поглядывал на Гамильтона неприязненно. Он понимал, конечно: не в собаке зарыта «собака», но все же… с него, черта, началось. «Эх, — думал Аркадий Сергеевич, — носили бы туфлишки за двадцатку, как в молодости, не гонялись бы за дороговизной, не выпяливались бы… Аристократки, понимаешь! Эллочкн-Людоедки. С дочками миллионеров соревнуются…»
Однако он понимал и то, что возврата к стоптанным студенческим туфелькам не будет. Вот и друг сидит рядом — в кожаном пиджаке, модных брюках и умопомрачительных ботинках. А всего-то собачку вышел прогулять. Да и сам Зайкин не в телогрейку был наряжен.
Лев Иванович в такие минуты тоже не жаловал пса, напоминавшего ему, как видно, о душевной травме. Во всяком случае, когда Гамильтон весело облаивал прохожих или кидался за какой-нибудь собачонкой, доктор неинтеллигентно кричал:
— Фу! Сучья морда! (Хотя Гамильтон безусловно был кобелем).
Но мы поступились бы жизненной правдой, если бы написали, что замечательная эта дружба так и зачахла. Уж это было бы передержкой, шаржем, откровенной сатирой. Нет, дружба уцелела и даже расцвела с новой силой. И воскресили ее жены. Опять же они! Ах, братья-мужчины, как не поклониться нашим вздорным, капризным, злопамятным, чутким, мудрым, прелестным подругам! Иногда стоит, честное слово.
Ирина связала для Маши совершенно потрясающую кофточку из мохера и, незваная, явилась к ней на день рождения. Женщины обнялись, расплакались: «Дуры мы, дуры!.. Идиотки!» И мир был восстановлен. На другой день, уже у Киндеровых, они сами, без помощи мужчин, приколотили чуть ли не под самым потолком специальную полочку, покидали туда обувь, а этому высокородному балбесу Гамильтону со смехом сказали: «На-ко теперь, выкуси!»
Так что с этой стороны все опять в полном ажуре.
Но недавно произошло новое ЧП. Гамильтон съел ботинки шефа Льва Ивановича. Прекрасные португальские ботинки из натуральной замши. Шеф впервые посетил квартиру своего подчиненного; Лев Иванович заманил его посмотреть редкостную коллекцию минералов. Рассеянный Киндеров не успел предупредить начальника, тот — по укоренившейся нынче моде — разулся в коридоре, и пока они со Львом Ивано вичем любовались коллекцией, а Ирина готовила на кухне коктейли и кофе, Гамильтон пообедал заграничным товаром. Причем ои не просто изгрыз ботинки, он начисто сожрал их, оставив только подошвы, сработанные из какой-то вовсе уж несъедобной синтетики.
Оскорбленный шеф привязал подошвы к ногам ленточками (подходящего размера обуви для него не нашлось) и в таком виде ушлепал домой, полагаясь на то, что нравы в Академгородке демократические.
Аркадий Сергеевич где-то даже доволен. По его наблюдениям, друг Лева стал в последнее время заноситься, искать общения со значительными, полезными людьми — и этот прискорбный случай, надеется Зайкин, несколько отрезвит его. И он, смеясь (не при Леве, конечно), любит теперь повторять: «Нет, все-таки собака — друг человека».
РАССКАЗ О ТРЕХ ХУЛИГАНАХ
Хулиганство — явление, безусловно, неприятное. Мало сказать неприятное — отвратительное, гнусное, пещерное явление. И конечно же, никакого сочувствия к хулиганам быть не может, ни к малолетним, ни к великовозрастным. И хорошо, что общественность и закон о подобными личностями у нас активно борются.
Тем не менее автор в данном рассказе берет на себя смелость заступиться за трех знакомых ему хулиганов. То есть не заступиться — заступаться-то за них уже поздно, они свое получили сполна, а хотя бы реабилитировать их в глазах знакомых и сослуживцев, смыть с них обидное, порочащее пятно.
* * *
Первый хулиган, о котором пойдет речь, — мой ближайший сосед Степан Иннокентьевич Безуглов, человек предпенсионного возраста, по роду занятий банковский работник.
С ним так было. В субботу утром, прихватив прозрачную дырчатую сумку, Степан Иннокентьевич отпра вился на продзаготовки. Успел купить свежего молочка, диетических яиц десятка три, «Пепси-колы» для внучки пару бутылочек прихватил. Короче, загрузился. А на обратном пути угадал он мимо специализированного магазина «Охотник и рыбак». Степан Иннокентьевич охотой не увлекался, но рыбаком был страстным. И давно подыскивал себе раздвижное, телескопическое, как их называют, удилище. Поиски были тщетными, но Безуглов на всякий случай в такие магазины или спортивные отделы всегда заходил. И тут подумал: «Дай заскочу — а вдруг».
В крохотном, на один прилавок, магазине было пусто. По ту сторону прилавка стояла молодая, очень красивая продавщица, а по эту — какой-то, видать, ее знакомый или ухажер — плотный невысокий паренек с длинными, вьющимися волосами, одетый в модный блайзер и дефицитные вельветовые джинсы. Они, похоже, любезничали, хотя впоследствии Степан Иннокентьевич не смог с уверенностью этого утверждать — слишком мало времени ему было предоставлено на то, чтобы сориентироваться в обстановке. Ну и, следовательно, характер отношений молодого человека и продавщицы остался до конца невыясненным.
Паренек стоял к Безуглову спиной. Продавщица — лицом. И, конечно, сразу его увидела. И сразу заорала цепным голосом:
— Ну, куда прешься?! Прутся и прутся! Не видишь, что ли, объявления: магазин закрыт?!
Степан Иннокентьевич хотя и опешил, но успел рассмотреть за спиной продавщицы те самые раздвижные удилища — целый пучок. И все это вместе — неожиданный базарный крик продавщицы и то, что удилища, за которыми он год охотился, — вот они, только руку протяни, — вывело его из себя. Он тоже сорвался и несдержанно бросил:
— Только у меня и делов — читать ваши дурацкие объявления! — И даже, кажется, плюнул. Хотя нет, плюнул он несколько позже, на улице уже, когда обернулся и увидел, что на полуоткрытой двери магазина (сразу не рассмотришь, специально заглядывать надо) действительно пришпилено объявление — маленький, обкусанный клочок желтой оберточной бумаги с корявой надписью: «Магазин закрыт».
Ну, плюнул, значит, и пошел — чрезвычайно расстроенный.
Однако метров через двадцать его догнали. Догнал тот самый крепыш в блайзере. Крепко схватил за свободную от сумки руку, выше локтя:
— Ну-ка, повтори, козел, что ты сказал?
Степан Иннокентьевич растерянно оглянулся — людей поблизости не было. Вдали только маячили какие-то фигуры. Он попытался высвободить руку:
— Позвольте! Что это значит? В чем дело?
Но длинноволосый держал его железно, тренированный, видать, был парнишка. Степан Иннокентьевич испугался. Примитивно струсил — спина холодным потом облилась. Такой бычок сунет боксерским приемом в больную печень — изуродует ведь.
По парень, быстро оглянувшись на приближающихся людей, бить Степана Иннокентьевича не стал. А может, и вовсе не собирался. Произошло что-то ошеломительно гнусное. Не выпуская руки Безуглова, парень начал слегка вроде попинывать его полную сумку остроносым желтым ботинком. Теперь такие ботинки вошли в моду: носок у них забронирован для прочности металлической пластинкой. И вот этим бронированным носком парень тюкал по сумке, тараня яйца, уложенные в бумажный кулек, бутылки с молоком, «Пепси-колу». Спокойно разорял Степана Иннокентьевича, а главное — издевался, унижал, топтал его человеческое достоинство. При этом он хладнокровно, садистски улыбался и приговаривал сквозь зубы:
— Читай объявления, папаша, читай объявления…
Со стороны могло показаться, что беседуют два добрых знакомых, и один, поскольку руки заняты, показывает на покупки ногой: а это, мол, где достал?., а вот это?.. А это?..
Похрустывая, кололись яйца. Текло на тротуар молоко из разбитых бутылок…
Тут и случилось главное. Не помня себя, Степан Иннокентьевич рванулся, отступил на шаг и, размахнувшись, обрушил на голову парня истерзанную сумку.
Большой травмы он ему не нанес. Ну, маленько физиономию поцарапал осколками бутылок. Но великолепный наряд парня — и блайзер, и роскошные штаны в иностранных этикетках — сразу превратился в мокрую желто-белую тряпку.
Парень настолько опупел, что и не помыслил кинуться в драку. Стоял, беспомощно раскрылатившись, моргал. С него капало.
Немедленно окружили их свидетели. У нас ведь свидетелей на месте не оказывается, когда какие-нибудь мордовороты обоюдно хлещут друг друга кулаками, ногами с разбегу бьют, по земле катаются. Тогда прохожие, отворачивая лица, спешат мимо: дескать, черт с вами, паразитами, вовсе бы вы поубивались!
А вот когда пожилой дядька, в потертом костюмчишке, с мятой физиономией, так обработал молодого интеллигентного человека, а молодой человек стоит убитый горем и за грудки хулигана не хватает — свидетели тут как тут.
И немедленно же, как по заказу, вывернула из-за угла милицейская машина.
…Степану Иннокентьевичу отмерили полный срок — пятнадцать суток. Свидетелей у него не оказалось, положительная характеристика нашей домовой общественности не помогла, а продавщица и пострадавший, наоборот, выступили очень дружно. Продавщица, в частности, заявила следующее: она, дескать, как раз вежливо объясняла молодому человеку, что магазин временно закрыт, и хотела то же самое вежливо объяснить вошедшему гражданину с авоськой. И уже начала объяснять. Но гражданин сразу раскричался, обозвал ее хамкой, потаскухой и другими нецензурными словами. Молодой человек, в свою очередь подтвердив слова продавщицы, сообщил, что, возмущенный таким поведением гражданина, решил догнать его, а догнав, только и успел сказать: «Как вам не стыдно, папаша? Какой пример вы подаете молодежи? А еще в очках». За что немедленно получил сумкой по голове…
* * *
Дед Лопатин схулиганил сознательно. Хотя на суде и объяснял свои действия тем, что находился, дескать, в бессознательном состоянии. Но это он темнил.
Дед, как я понял, всегда был человеком несколько вздорным, задиристым, но до поры до времени это ему прощалось.
А случилось с ним вот что.
Дед Лопатин, будучи уже на пенсии, работы не оставлял — сторожил по ночам плодоовощную базу. И вот, всякий раз, когда он шел на дежурство и с дежурства, его облаивала одна никчемная собачонка. Она, между прочим, не только деда Лопатина, она всех прохожих облаивала, такая была шалава, безмозглая. Принадлежала эта Жучка некоему Жоре Хлобыстину, бывшему уголовнику, поселившемуся на улице 4-й Кирпичной после многолетней отсидки. Жору, из-за его туманного прошлого, побаивались, и поэтому претензий к оголтелой собаке никто не предъявлял. Кроме деда Лопатина. Дед принципиально звал Хлобыстнна не Жорой и Жоржем, как другие, а Гошкой. Собаку же его — сучкой. Что, впрочем, соответствовало естеству — собака была женского пола. И не раз дед Лопатин предупреждал Хлобыстина:
— Гошка, привяжи сучку. Не доводи до греха. Я ведь тебя, уркагана, не боюсь.
На что носатый Хлобыстни, скаля желтые лошадиные зубы, отвечал:
— А ты возьми да сам привяжи. Попробуй поймай, если смелый. Ты же у нас смельчак.
И нарочно зюкал собаку:
— Ззю, Фрау, ззю! — Сучку его, между прочим, звали Фрау. — Вот она тебе сейчас штаны спустит.
И бывал очень доволен, когда дед Лопатин, пятясь, отпихивался от стервенеющей шавки сапогом:
— Что, заиграло очко? Сдрейфил?
Кончилось тем, что дед, со своей принципиальностью, дозубатился. А ублюдок Жора, соответственно, доигрался.
Раз Лопатин шел мимо дома Хлобыстина с внучкой.
Бешеная Фрау вылетела на них из подворотни пулей. Да ладно бы — выскочи она с упреждением, навстречу. А то, подлая, дождалась, когда они миновали калитку, и ударила сзади.
И очень напугала внучку. Девчушка побелела, глаза у нес сделались безумными, она не закричала даже, а зашлась молча, до икоты.
Лопатин сгреб ее в охапку, прихрамывая добежал до своего дома, бросил внучку на руки старухе, а сам прямиком кинулся в угол, где у него, за тумбочкой, хранилась допотопная берданка. Единственный патрон лежал здесь же, в ящике тумбочки, завернутый в бумажку. Лет двенадцать уже, однако, лежал.
У старухи руки были заняты внучкой, и она не успела повиснуть на муже. Да это вряд ли и помогло бы: дед Лопатин в крайнем гневе бывал неукротим.
Дед ждал, что Фрау встретит его на улице. Это, кстати, послужило бы для него смягчающим обстоятельством. Хотя в тот момент он ни о каких смягчающих обстоятельствах не думал. Но собака что-то, видать, почуяла, звериная интуиция, возможно, подсказала ей, что она приговорена к высшей мере наказания.
Фрау не было на улице, ни во дворе — она давно уже сидела под крыльцом.
Дед Лопатин сильно потряс штакетник. Тесавший что-то возле сараюшки Хлобыстни обернулся.
— Гошка! — сказал дед, покачивая стволом берданки на уровне его живота. — Выпускай сучку. Я тебя, страмца, предупреждал.
Хлобыстни уронил топор и попятился.
— Стой! — звонко крикнул дед. — Сучку сперва выгони!
И тюремный лизоблюд Жорка, храбрый только с пацанами да калеками вроде деда Лопатина, перетрусил. И предал свою Фрау. Он вытащил ее за шкирку из-под крыльца и на пинках погнал к ограде.
— Теперь отскочь! — скомандовал дед. Он не промахнулся. Хотя Фрау и шарахнулась было в сторону. Стрелком дед был отменным.
От крупной отсидки деда Лопатина спасла седая его голова и прежние заслуги. Потому что ему много чего насчитали. Стрельбу в черте города — раз, угрозу оружием — два и чуть ли не разбойное нападение. Хорошо, что стрелял дед с улицы. А переступи он ограду — и было бы разбойное нападение. Правда, Фрау ему плюсовать не стали: собака была беспривязная и числилась как бы вне закона.
В общем, дали ему десять суток. При этом судья — а судила их в один день с моим соседом молодая, симпатичная женщина, Лопатину она в дочки годилась, — сказала:
— Ах, дедушка, дедушка! Век прожили, а ума не нажили. Ну, может, хоть теперь поумнеете.
Опять же из-за возраста и хромоты деда не стали гонять на обычные работы, как других указников, — использовали при милиции. Лопатин, пока тянул срок, отремонтировал работникам органов весь инвентарь — лопаты, кирки, метлы; застеклил кой-где побитые окна, покрасил урны-плевательницы и оштукатурил заново каталажку, в которую срам войти было из-за блатных и антиобщественных надписей.
Старшина, провожая его домой, очень жалковал. — Моя бы воля, — сказал, — я бы тебя век не выпустил. Золотой ты человек, папаша!
А вот надежды женщины-судьи не сбылись: дед Лопатин не поумнел. Он разгуливает таким же гоголем, настырничает и недавно в автобиографии, которую от него для чего-то затребовал собес, с гордостью написал: «Под судом и следствием был. За огнестрельное выступление против паразитов».
* * *
История третьего хулигана — отставного солиста 6алета Георгия Петровича Жмыхова — представляет собой классическую трагикомедию, если, конечно, не считать драматического (для Жмыхова) финала ее.
Жмыхов, самозабвенно проработав в театре четверть века, выплясал наконец-то божественными своими ногами давнишнюю мечту — автомашину «Ладу». Каковую и приобрел незадолго до описываемых событий. И — потерял покой. В городе Георгий Петрович спал еще более или менее нормально. «Лада» стояла хотя и далековато от дома, но в железном гараже, принадлежавшем свояку Жмыхова Сене, под четырьмя секретными замками. А вот на даче гаража у Георгия Петровича не было. Не было даже стоянки в ограде. Жена Ирина все никак не могла решить — чем пожертвовать ради машины: выкорчевать помидоры или же ликвидировать клубничные грядки. Приходилось оставлять машину на улице, притерев ее боком к штакетнику.
Располагайся дача Георгия Петровича в глубине кооператива, оснований для беспокойства было бы меньше. Не у него одного машина ночевала под открытым небом. Но Жмыхов в свое время, изрядно посражавшись с правленцами, выторговал себе престижный участок, в крайнем ряду, па берегу живописной речушки. Через несколько лет он горько пожалел об этом. Выпали подряд маловодные годы, речушка обмелела, воды в ней осталось по щиколотки, местами даже проступили островки — теперь ее можно было перебредать, не разуваясь. И вот, по субботам и воскресеньям, в дни массового выброса горожан на природу, а вернее — в ночи, с противоположного, поросшего кустарником и мелколесьем берега какие-то гнусные молодые люди стали совершать набеги на кооператив. Разорению подвергались как раз крайние дачи улицы Прибрежной.
Уже во второй заезд у необкатанной «Лады» Жмыхова вывинтили фару, а на багажнике написали широко известное восьмиугольное слово. Написали какой-то несмывающейся химической дрянью. Жмыхов, правда, смыл надпись, но, увы, вместе с замечательной темновишневой краской. Одноглазая «Лада» еще и оплешивела с тылу.
Георгий Петрович превратился в ночного сторожа. До утра, как сыч, просиживал он на открытой веранде, закутавшись в плед и положив у ног толстую, суковатую палку. Жена отбыла на гастроли, клубника зрела, помидоры выбросили завязь — поступить с грядками на свой страх и риск Жмыхов не отважился. Так и дремал ночами на воздухе, вздрагивал от каждого постороннего шороха или звука. Всякий раз, очнувшись, он говорил себе: «Вот приедет Ирина — поставлю вопрос ребром. Сколько можно…»
В ту роковую ночь сон навалился на Георгия Петровича с особенной силой. Он тряс головой, отгоняя его, тер глаза, подбадривал себя черным кофе из термоса — но через минуту снова начинал клевать носом. Перед рассветом, устав от этой изнурительной борьбы, Жмыхов решил размяться. Резко стряхнуть дрему. А заодно и пройтись дозором.
Он сунул ноги в резиновые сапоги, взял под мышку палку, вышел за калитку.
«Лада» стояла на месте, неприлично белея в темноте голым задом. Георгий Петрович прогулялся туда-сюда вдоль берега. Над речушкой, над низкорослым кустарником тек редкий, слоистый туман. Над кустарником он был плотнее, цеплялся там и густел. Сквозь этот туман чуть просвечивал костерок на противоположном берегу. Возле костра не спали — оттуда доносились приглушенные, неразборчивые голоса. Вдруг высокий девичий голос выкрикнул:
— Да не хо-чу я!.. Не хочу!
Георгий Петрович насторожился: «Чего это она там не хочет?.. Столь активно?..»
С желанием, точнее — нежеланием девицы, видать, не посчитались, потому что через минуту она буквально заголосила:
— Не лезьте!.. Пустите!.. Идиоты! Скоты! Мамочка!.. Аааа! Оооо!
Георгий Петрович содрогнулся от внезапной догадки; да ведь это же… девчушку бесчестят! В каких-то тридцати метрах от него…
— Эй, там! — крикнул он благородным, поставленным голосом. — Немедленно прекратите! Оставьте девушку! Как не стыдно пользоваться грубой мужской силой!
В ответ на эти высокопарные слова Жмыхова покрыли из кустов многоэтажным художественным матом, с подробным указанием направления, в котором ему следует двигаться. И после небольшой паузы возня, хруст веток, мычание и вопли возобновились.
В ближайших дачах попросыпались чуткие старушки. Слегка отодвинув оконные занавески, прильнув к стеклам призрачными лицами, они всматривались в предрассветный сумрак. Выйти из дому, однако, никто не отважился.
Жмыхов в отчаянье метался по берегу. Высокая моральность, в которой он был воспитан, звала его прийти на помощь жертве, но перед ним лежала водная преграда (про то, что она легко преодолима, Георгий Петрович от волнения забыл).
Тем временем злодейство свершилось. — Ну что, добились своего? — заговорила девица, всхлипывая. — Довольны?.. Свиньи! Гады вы ползучие!..
Этого Георгий Петрович вынести не смог.
— Грязные животные! — прогремел он и рванул через речку, отшибая ноги о мелкие камешки.
От костра навстречу ему взметнулись два молодца-допризывника.
Жертву Жмыхов засек лишь боковым зрением: не до того было.
Дубина его оказалась трухлявой: легко, беззвучно, переломилась на круглой башке ближнего насильника, не причинив тому даже малого вреда. Приободренные этой конфузией Жмыхова, молодцы попытались дружно контратаковать его, в свою очередь похватав палки. Но оставался еще порох в пороховницах у выдающегося некогда исполнителя партии Петра Великого в балете «Медный всадник». Схватка была короткой. Одному бандюге Георгий Петрович сломал ключицу. Второго так далеко забросил в кусты, что он лишь минут через пять сумел выкарабкаться оттуда — весь поцарапанный и утыканый иглами какого-то жалящего дикорастущего…
Истина открылась на суде.
Выяснилось, что Георгий Петрович сражался не с преступниками, а с мирными отдыхающими. Молодые люди были хорошо знакомы между собой и не раз уже совершали в таком составе вылазки на природу. Так вот: они культурно отдыхали, никто никого не обижал и уж тем более не насиловал — все у них шло согласно и полюбовно. Но под утро девушка (ее звали Нюра Чехломина) забастовала: сказала, что больше не будет нить вермут, не хочет. Настойчивые же кавалеры пригрозили вылить ей этот вермут за пазуху, конкретно — за купальник. Нюра не испугалась. Расстегнула кофточку, под которой нужная часть купальника вовсе отсутствовала, и сказала: «Лейте, только слаще будут». Тогда они, видя ее бесстрашие, придумали вылить вермут за другую часть купальника. А Нюра вдруг психанула, стала брыкаться и кричать. Ей почему-то не понравилось — за другую часть. Но они все-таки вылили: одни держал, а другой лил. В общем, развлеклись маленько. Подурили. В своей компании. И тут на них, как соловей-разбойник, налетел этот дядька с дрыном. О темпора, о морес!
Именно этим знаменитым восклицанием закончил свою речь на суде адвокат Георгия Петровича, едва не превзошедший красноречием легендарного Плеваку. Адвокат спас Жмыхова от тюрьмы. Но — не от суммы. Дорого обошлось Георгию Петровичу его донкихотство. Уже третий месяц он работает только на лекарство для молодого человека, которому сломал ключицу. Оплачивает ему больничный, процедуры, усиленное питание и так далее. Я сказал — «работает», но должен поправиться: Жмыхов не работает, поскольку он пенсионер, Жмыхов халтурит. Выступает на детских утренниках, на агитплощадках, в домах отдыха. Пластается, в общем. И лезет в долги. Лето еще не кончилось, а Георгий Петрович уже зафрахтовался в Деды Морозы на все зимние каникулы. Дело в том, что молодой человек ради полного выздоровления грозится поехать в санаторий, а это пахнет крупной суммой.
* * *
Ну, а теперь вернемся к началу нашего повествования — к тому, может быть, несколько запальчивому обещанию — заступиться за хулиганов, реабилитировать их. «Что же? — спросят читатели. — Автор, стало быть, оправдывает и одобряет подобные действия?»
Нет, конечно. Не оправдываю и не одобряю. Особенно трудно оправдать Георгия Петровича Жмыхова. При всем уважении его к былой славе. Ну что это такое, в самом деле! — выискался… Еруслан-богатырь. Жмыхову популярно объяснила его ошибку супруга, вернувшаяся с гастролей. «Ты что же, — сказала она, — подумал, будто там девочку с бантиком обижают? Ну, милый мой! Соображать надо, не маленький, слава богу… Это тебе не парк культуры — сюда с бантиками не ходят. Которая сюда идет, она уже знает зачем, для какой надобности».
Да, Жмыхов, безусловно, свалял дурака. Но и другие — тоже, знаете… Мало в этом хорошего, дорогие товарищи, если все мы, пусть даже в ответ на оскорбления, начнем буцкать друг дружку по голове или — того ужаснее — хвататься за огнестрельные приспособления. Страшно даже вообразить, до чего нас такая самодеятельность довести может.
Но, с другой стороны… стоит мне представить себя лично героем аналогичной ситуации (то есть когда меня — человека пожилого, далеко не тяжелоатлета, не самбиста и не каратэиста — травят собакой или угнетают посредством бронированного ботинка, а у меня при этом не то что захудалой берданки, даже продуктовой сумки в руках нет), — очень мне становится тоскливо и неуютно…
ПАДЕНИЕ САЛОПЫЧА
Фамилия его была Куров. Куров Геннадий Салопиевич.
Мы звали его сокращенно Салопыч и по демократической привычке хоккейных болельщиков обращались на «ты». Хотя чувствовалось, что дома, в городе Талды-Кургане, где Куров работал кем-то важным по снабженческой, кажется, части (кем именно — за давностью лет я забыл), все говорили ему только «вы» и величали полным именем.
Салопыч был старше всех в нашей каюте. Или, по крайней мере, выглядел старше. Был он умеренно лыс, носил велюровую шляпу с прямыми полями, длиннополый макинтош, имел утяжеленное кинзу, слегка обрюзгшее лицо и твердые взгляды на жизнь — в чем мы скоро убедились.
Буржуазный город Стокгольм Салопыч не одобрил. Он посмотрел на дворцы и каналы, на табуны рычащих автомобилей, на небоскребы и одетых в смокинги соба чек, на километровые витрины магазинов — и решительно заклеймил все это.
— Фасад загнивающего капитализма, — строго сказал Салопыч.
Он был уверен, что за сверкающим фасадом скрывается где-то неприглядная изнанка, — и не ошибся.
В одном месте, на ступеньках очередного дворца, Салопыч увидел кучку немытых хиппи в рваных джинсах.
— О! — злорадно воскликнул он, уставя на них палец. — Вот они — язвы!
Во время первой же автомобильной экскурсии по городу Салопыч круто оборвал старушку-гида, принявшуюся излагать нам историю королевской династии шведов.
— Расскажите-ка лучше, сколько у вас трудящиеся получают! — задиристо сказал Салопыч.
Капитализм нанес Салопычу коварный удар на четвертый день нашего пребывания в Стокгольме.
Мы вернулись с прогулки на свой теплоход и застали Салопыча одиноко сидящем в каюте. Салопыч даже головы не повернул в нашу сторону. Он сидел и загипнотизированно рассматривал маленькие шерстяные носочки, связанные вместе красивой ленточкой.
— С покупкой тебя, Салопыч! — поздравили мы его.
— Хе-е! — хрипло сказал Салопыч. — С покупкой… Даром получил!
— Как даром?!.
— А так, — пояснил довольный произведенным эффектом Салопыч. — Совсем без денег…
Тут мы увидели на столике две дамские кофточки с не оторванными еще этикетками — и нам все стало ясно. Салопыч, видимо, купил сразу две кофточки в одном магазине, и дальновидный хозяин поощрил его за это бесплатными носочками.
Носки были совсем крохотные, вряд ли они годились даже грудному ребенку, разве что на куклу, — но Салопыч не спускал с них любовного взгляда.
Мы переглянулись.
— Ой, Салопыч, берегись! — поддел Курова Славка. — Завлекающий маневр. Это они тебе наживку кинули.
Салопыч недружелюбно сопнул носом и, повернувшись к нам спиной, упрятал свою премию в чемодан.
С тех пор Салопыч начал отбиваться. Он больше не ходил, в свободное от матчей время, вместе с нами — глазеть на каналы, рекламу, умопомрачительные витрины. Исчезал один. Частенько возвращался он из города с аккуратными пакетами. Некоторые разворачивал и доставал оттуда разные мелкие покупки, а иные сразу убирал подальше. Потом ложился на койку и молча, сосредоточенно смотрел в потолок.
Мы догадывались, что у Салопыча складываются какие-то свои отношения с проклятыми капиталистами, в которые он нас посвящать не намерен.
И наконец наступил день, когда Славка встревоженно сообщил мне:
— Салопыч-то… совсем пропадает. Надо выручать. Это было возле ледового стадиона, перед решающим матчем СССР — Канада.
— Пошли! — сказал я.
Мы разыскали Салопыча за углом стадиона, против восточной трибуны. У него был вид совершенно потерянный: макинтош расстегнут, шляпа съехала набок, челюсть отвисла. В неподвижных глазах Салопыча отражалась тусклая стокгольмская весна.
— Себе — плащ и шарфик, — услышали мы его бормотание. — Жене — две кофточки, брату — штаны, своячнице — блузку, теще — плед, Леночке — колготки, Вовочке — свитерок…
Я понял, что Салопыч подсчитывает, какие шмутки уже купил и сколько еще может купить все на те же скромные рубли, которые нам поменяли на кроны. Салопыч обалдел от дешевки. Настолько, что больше не замечал контрастов. Того, например, что вместо кучи синтетического барахла на эти же деньги можно купить лишь две трети костюма из натуральной ткани. Его кормили на теплоходе, на удовольствия Салопыч кроны не тратил и потому не знал, что проел бы здесь весь обмен за четыре дня. А уж пропил бы и вовсе в два присеста.
Мы взяли его с двух сторон под руки — Салопыч вдруг обмяк.
— Как же так? — спросил он, невидяще блуждая глазами. — Как же?.. А говорили, что загнивают…
— Салопыч, — осторожно начал я, догадываясь, что случай трудный и начинать надо с азов. — Ну-ка, вспомни: царская Россия отставала от высокоразвитых стран на сто лет. На целых сто!..
— К тому же шведы четыреста лет не воевали! — подхватил Славка, сообразивший, куда я клоню.
— Вот именно, — сказал я. — Не воевали. И гнали эту мануфактуру…
— Из нефти, Салопыч! — тряхнул его Славка. — Это же все синтетика. Ты думаешь, что шерстяных кофточек набрал? Фигу! Ты нефти везешь два килограмма…
— Во всяком случае, лет через десять у нас этого барахла тоже навалом будет, — сказал я. — Заведешь себе десять штанов.
— Хотя не в штанах счастье, — ввернул Славка.
— Точно, — подтвердил я, — не в штанах. Ты посмотри на этих шведов — какие они все смурные. Штаны есть, а счастья нет.
— Вообще все это дерьмо! — распаляясь, заявил Славка. — Хочешь, я сейчас свой реглан под колеса брошу? Хочешь?! — Славка рванул купленный вчера болоньевый плащ так, что пуговицы полетели. — Плевал я на него!..
Так мы, в четыре руки, обрабатывали Салопыча, и он начал вроде бы помаленьку приходить в себя.
— Совсем ошизел мужик, — задышал мне в затылок Славка, когда мы пробирались на свои места. — Как думаешь: поможет — нет?
Я пожал плечами.
Вечером на теплоходе мы сидели у стойки бара и предавались «буржуазному разложению»: пили маленькими порциями виски с содовой.
Появился Салопыч. Он был в пижаме, надетой поверх майки-безрукавки.
Салопыч подошел к стойке — лысина его оказалась рядом с моим плечом.
— Налей сто пятьдесят, — буркнул он, отрывая от пачки бон полуторарублевый лоскуток. На теплоходе в ходу у нас были боны, за которые на берегу купить было ничего нельзя, разумеется.
Бармен налил ему в большой фужер сто пятьдесят водки.
— И запить чего-нибудь, — попросил Салопыч. — Минералки, что ли.
— Минеральной сегодня нет, возьмите кока-колу.
— Ну давай коку, — хмуро согласился Салопыч.
Он осушил фужер, выбулькал в него витую бутылочку кока-колы и запил. — Сколько с меня всего?.
— Рубль двадцать копеек и семьдесят пять ёре, — сказал бармен.
— Как… ере? — растерялся Салопыч. Вылощенный седовласый бармен Витя терпеливо пояснил:
— Напитки и сигареты соцстран — за боны, напитки и сигареты капстран — за валюту. Бутылка кока-колы стоит семьдесят пять ере.
— За этот… квас? — горестно прошептал Салопыч, и лысина его стремительно начала покрываться испариной.
Боже, какие страсти бушевали в его душе! Ведь он единым духом «проглотил» две шариковые авторучки… Или детские носочки… Или набор брючных пуговиц.
— Возьми рубль, — прохрипел он наконец.
— Извини — не могу, — отвернул глаза бармен.
— А я знать ничего не знаю! — безобразно закричал тогда Салопыч. — Предупреждать надо! Заранее!
Славка не вынес этой сцены и положил на прилавок крону.
— Иди, Салопыч, — сказал он ему, как больному. — Иди отдыхай. Не беспокойся.
Салопыч ушел, бормоча под нос: «За валюту, ишь ты, за валюту…»
А мы со Славкой заказали еще виски и, вздохнув, выпили за упокой души раба божьего Курова Геннадия Салопиевича.
Эту давнишнюю и в общем-то малозначительную историю, может быть, и не стоило ворошить… Да вот недавно один мой приятель привез из зарубежной командировки крышку-сиденье для унитаза. Ну, привез и привез, мало ли что. Искал оправу для очков, а подвернулась крышка. Он ее и сгреб — надо же было остатки валюты израсходовать.
Но пришли к нему в дом две дамы, сотрудницы жены, исследовали крышку, оценили изящные формы её и несравненную эластичность, спросили, во что она обошлась хозяину, тут же перевели стоимость в рубли и, потрясенные баснословной дешевизной приспособления, долго и сердито говорили о том, что нам до такого совершенства еще хлебать да хлебать.
И я вспомнил бедного Салопыча.
ПИДЖАК ЗА СВОЮ ЦЕНУ
Черт его душу знает, как я промахнулся с этим пиджаком! Вернее, не с пиджаком как таковым, а с рукавами. Когда в городе Варне, в магазине модной мужской одежды, мы его покупали, вроде все было нормально. Да я на рукава-то, в тесноте, в туристской сутолоке, внимания тогда не обратил. Крутнулся перед зеркалом, выпятив грудь, а ниже глаза опустить не догадался. А тут еще жена… Сам-то я вообще не стал бы его покупать: очень уж пижонский был пиджак — черный, бархатный, такие только конферансье да официанты носят, А жена загорелась: ах, ох, какая прелесть, к твоим сединам так пристанет (прямо по Александру Сергеевичу Пушкину начала сыпать), давай купим — когда ты в жизни такой носил?
Ну, короче, взяли.
Завернули нам его, ленточкой красивой перевязали, так мы его, перевязанный, и привезли.
А дома еще раз примерил — рукава короткие. И не надставишь, материал импортный, у нас такого днем с огнем не сыщешь. В общем, ухнули денежки. Семьдесят пять левов, в переводе на наши, считай, сотня.
Хотел сыну подарить, но тот акселерат, ему не то что рукава короткие, а даже полы энную часть не прикрывают.
И встала передо мною проблема: продать пиджак. А как продать, где, кому? Не на барахолку же нести. На этой самой барахолке я был однажды и зарекся туда ходить. Поехал шапку себе присмотреть — дело зимнее было. Ну, смешался с толпой, кругом чего-то продают-покупают, торгуются. А я закурить решил. Снял перчатки, закурил, а перчатки пока держу в левой руке. Секунды, может, три и держал-то. Налетел на меня какой-то заполошный, выхватил перчатки, сунул четвертную и растворился. Слинял, как говорится. Я и ахнуть не успел. Хорошие были перчатки, замшевые, внутри мех натуральный. В общем, пошел я домой с голыми руками. В двадцатиградусный мороз.
Так что насчет барахолки я ученый был. Решил продать пиджак на дому, предложить какому-нибудь хорошему приятелю. И о первом подумал о Мише Алмазове, артисте филармонии. То есть о Мише Пузикове, Алмазов — это его артистическая фамилия была, псевдоним. Я потому о Мише прежде всего подумал, что вспомнил: у него вроде руки короткие. Он как-то у нас в редакции на детской елке выступал Дедом Морозом, и когда пел с ребятишками, разводя руками: «Каравай, каравай, вот такой ширины», — то «каравай» у него получался не очень широкий.
Мише пиджак понравился. Мало сказать — понравился, у него так нежно глаза засияли, словно он любимую встретил после долгой разлуки.
— Мы, старик, как раз с гастролями по районам едем, — сказал он. — А я же разговорник: мне со своим номером выступать, да еще все концерты вести. Ты представляешь: выхожу я в этом клифте, в белой манишке, в «бабочке» — это же попадают все!
А руки у Миши действительно оказались коротковатыми. Он когда правую во внутренний карман своего пиджака запустил, так в локте её почти не согнул — не потребовалось. Я даже подумал, что ему рукава слегка укоротить придется.
— Сто пятьдесят, старик, я тебе сразу кидаю, — сказал Миша, — а еще сотню подождешь, а? Мне тут халтурна на телевидении подвернулась, но деньги только через месяц обещают. Потерпишь, старик, месяц?
— Двести пятьдесят! — изумился я. — Ты одурел?
I— Ну, старик, ну, я понимаю, — заерзал Миша. — Но, по-дружески, сбрось четвертную. Я же все-таки с доставкой на дом… то есть это… сам пришел. Я понимаю, у тебя его за двести семьдесят пять с руками, но ведь это же куда-то тащить надо…
На столике между нами лежали три Мишиных полусотенных. Я отделил одну и подвинул ему.
— Спрячь. Вот эти оставь, а эту спрячь обратно. Я и так с тебя несколько рублей перебираю. Он же мне в семьдесят пять левов обошелся. А это по курсу примерно девяносто шесть рэ. Плюс с тебя сто граммов.
Миша открыл рот. И долго так сидел, с открытым ртом, глядя сквозь меня остановившимися глазами.
— За сто не возьму, — глухо произнес он наконец. — Что я, собака?
— Ага! Ты не собака! — озлился я. — Не собака он! А я, значит, собака? Спекулянт?
— Да при чем здесь спекулянт? — заволновался Миша. — При чем, старик? Я же знаю цену. Ты с ним до любого кафе дойдешь, первому же официанту кусочек полы только покажешь — и он тебе не глядя двести семдесят пять выложит!.. Почему же я-то тебя грабить должен? Сколько лет дружим.
Я скомкал пиджак, кинул его на колени Мише: — Возьмешь ты его, скотина?!
Миша затряс головой.
— Слушай! — зарычал я. — Кто из нас сумасшедший?
— Ты, — ответил Миша.
Тогда я засунул ему в карман оставшиеся сто рублей и устало сказал
— Иди ты к чертовой матери.
Миша обиделся. Он долго наматывал в коридоре длинный вязаный шарф, вздыхал. Уже взявшись за ручку двери, попросил:
— Ну хоть за двести, а?
— Нет! — сказал я. — Лучше на портянки изрежу. Пуду ходить в бархатных портянках. Как золотоискатель.
Слух о том, что я продаю импортный пиджак, распространился стремительно, и на другой день мне нанес визит администратор филармонии Зиновий Примак. Высокому Примаку рукава тоже оказались коротки, но он, вытянув ИЗ-ПОД них, насколько мог, манжеты белой рубашки и вильнув лисьими глазами, сказал, что так оно теперь даже более модно.
Мода была здесь ни при чем. Знал я этого делягу Примака. Он спорет болгарскую этикетку, присобачит американскую и продаст пиджак за триста рублей. Как пить дать. И потому и жестко сказал:
— Три с половиной.
— Не сойдемся, маэстро, — оскалил мелкие зубки Примак.
…В субботу я зашел в ресторан Дома актера. За угловым столиком там сидели главный режиссер кукольного театра Кукольник (такая у него была фамилия) и валторнист оперного Глеб Васютинский. Кукольник пил кофе. Расстроенный чем-то Глебушка — «Агдам». Они мне помахали. Кукольник помахал. Глебушка сидел, уткнув нос в бокал.
Кукольник, оказывается, уже все знал: и про Мишу, и про Зиновия Примака. Он вообще всегда про все знал.
— Правильно ты Зинке пиджак не продал, — сказал Кукольник. — Это же типичная гиена. Он мне историю Геродота хотел за сто двадцать рублей толкнуть. А ей на черном рынке красная цена сороковка. Представляешь, какой арап?… А вот что Мишке ты его за свою цену навяливал — это уж, прости, дурь. Альтруист нашелся. Ты что, все четыре действия арифметики забыл? Он тебе во сколько обошелся? Ну-ка, посчитай: две путевки — раз, дорога до Москвы и обратно — сто двадцать. Это только на тебя. А еще на жену. Вы бы хоть дорогу оправдали…
Глебушка не слушал наш разговор. Глебушку дирижер обидел.
— Я гениальная вторая валторна! — пристукивал он ладонью по столу. — Гениальная я вторая валторна?
— Гениальная, гениальная, — успокаивал его Кукольник. — Ты даже гениальнее первой… Так вот, насчет пиджака. Покупателя я тебе найду. Я понимаю: Мишка — друг, тебе, может, неудобно было… — Сам Кукольник пиджаком не интересовался, у него всякие имелись! и замшевые, и велюровые, и джинсовые. — Найду покупателя. Хороший человек, для тебя посторонний. Но не будь идиотом: двести семьдесят пять — и ни копейки меньше. Ты его осчастливишь — не он тебя. Слушай, это же глупо, смешно, не престижно быть таким тюхой в наше время. На тебя же пальцами показывать станут. В общем, жди звонка.
Кукольник дохлебал кофе и умчался.
— Я гениальная вторая валторна, — с болью говорил стакану Глебушка, — а эта старая развалина, этот бездарь…
И тут меня осенила мысль.
— Глебуня, — сказал я, — хватит тебе «Агдамом» травиться. Его же пополам с яблочным мешают. И брось ты про этого маразматика думать. Не рви душу. Пойдем лучше ко мне. У нас сегодня манты. Пойдем — жена рада будет.
Дома я напялил на Глеба пиджак. Он покачался в нем перед зеркалом и судорожно вздохнул:
— Нет, все-таки я гениальная вторая валторна. В таком пиджаке… — И снова вздохнул: — Но — не по зубам мне. У меня же, сам знаешь, одна зарплата. Навару — ноль. А первой когда еще стану. Этот сукин сын…
Ничего не стоило обмануть непрактичного, навек ушибленного своей валторной Глебушку.
— Да, — сказал я. — Вещь стоит денег. Там, конечно, он мне где-то в четвертную обошелся, но ведь путевки, дорога… Короче, пойми меня правильно, меньше, чем за сотню, я его не уступлю.
Глебушка зарумянился»
— Ну, сотню-то я наскребу… Уж сотню-то как-нибудь… У нас получка завтра.
Так я сбыл этот проклятый пиджак. И остался деловым человеком. Нормальным сыном своего времени. Никто не тычет и меня пальцем. И не скалит зубы за спиной.
Одно плохо: друга Мишу Алмазова я потерял навек. Миша обо мне теперь так говорит всем знакомым, особенно когда подопьет:
— Нее! Сразу бы признался, что хочет получить четыре номинала. Что я, сто рублей пожалел бы? А то начал темнить: «За свою цену, за свою цену…» Благородным прикинулся. Повыпендриваться захотелось псу.
Васютинскому продал, надо же! А зачем Глебке этот клифт? У него фрак есть казенный. А я разговорник. Мне концерты вести. Каждый вечер на манеже. Ну и пёс же…
ШЕСТЬ БЕЛЫХ БЕРЕЗ
Когда создавали дачный кооператив «Просвещенец-2», Селивановым нарезали самый лучший участок. Ближайшим их соседям, например, досталось неудобье — корчажник, болотины (место было пойменное), — а Селивановым по жребию выделили солнечный бугорок, на котором росло девять березок. Девять белых березок на четырех сотках земли. Целая рощица. Как по заказу выращенная в таком гиблом месте.
Три березки, стоившие чуть на отшибе, в углу участка, Арнольд Тимофеевич Селиванов с разрешения правления кооператива выкорчевал — иначе негде было бы поставить домик. Выкорчевал, хотя и жалко было губить такую красоту. И сразу же принялся сооружать дачку, благо место попалось сухое, надежное. Арнольд Тимофеевич служил гипом в проектном институте, до этого много лет проработал на стройке — так что дело для него было привычное. Советчики и помощники — из прежних сослуживцев — нашлись, и с материалами проблемы не возникло. Арнольд Тимофеевич не хоромы ведь городил, а летний домик. Он знал, что зимой им здесь жить не придется. Жена Лидия, преподавательница литературы, могла проводить на даче только летние каникулы, поскольку зимой ей даже и воскресенья-то не все принадлежали. Собственно, ради жены и дочки Наташки Арнольд Тимофеевич и колотился, взяв отпуск в невыигрышное время. Хотел привезти их сюда по зеленой травке, уже ко всему готовому — удивить сразу, влюбить в этот райский уголок.
Дача росла быстро. Соседи из-за временных, в одну проволочку, ограждений смотрели на Арнольда Тимофеевича с завистью. Они еше не знали, что там — под их сугробами и наледями.
В первый день летних каникул Селиванов привез на дачу семью.
К этому времени «Просвсщспси-2» здорово изменился, ожил. Правда, готовым стоял пока только один домик — Арнольда Тимофеевича. Но зато соседи, сведя мелкий кустарник, порубив бурьян и осушив болотца, дружно унавоживали свои огороды. Высаживали под пленку помидорную рассаду, зеленел у них на грядках лучок, курчавились редиска и петрушка.
Арнольд Тимофеевич торжественно распахнул голубую калитку.
Дамы его онемели.
Секунды три длилась немая сцена, а потом Наташка, подпрыгнув сразу двумя ногами и по-птичьи вскинув тонкие руки, с восторженным воплем кинулась в рощу.
— Назад! — закричала вдруг Лидия Леонтьевна страшным голосом. — На-заад!!.. Там же клещи! — говорила она через минуту, прижимая к себе перепуганную Наташку. — Как вы не понимаете, клещи!
— Какие еще клещи? — изумился Арнольд Тимофеевич.
— Энцефалитные, вот какие!
— Да что ты, мать моя! — Арнольд Тимофеевич рассмеялся. — Если и была какая парочка, то давно убежали. Здесь же такой грохот стоял… Да и мы с ребятами не береглись, по всему участку ходили — однако же никто не укушен.
— Там клещи! — не унималась жена. — На березах всегда клещи.
— Нет там клещей! — Есть!
— Ах есть! — взвился Арнольд Тимофеевич. — Ну, пошли!
Он завел жену с дочкой на веранду, сказал: «Будьте здесь», — и решительно содрал с плеч рубаху. Потом и штаны снял, оставшись в розовых цветастых трусиках. В таком экзотическом виде Арнольд Тимофеевич отважно двинулся в рощицу. Он обстучал каждое дерево, неуклюже подпрыгивая, повисал на нижних ветках и, раскачиваясь, как орангутанг, кричал:
— Ну, где они? Где твои клещи?!
Роща была реабилитирована, Лидия Леонтьевна, оставив все-таки на веранде дочку, сама решилась вступить под сень дерев. Арнольд Тимофеевич наблюдал за ней с крыльца. Лидия Леонтьевна ступала меж берез осторожно (Арнольду Тимофеевичу казалось — грациозно: победители великодушны); в длинном белом платье с поперечными черными полосочками, с каштановой косой, старомодно уложенной вокруг головы, она сама выглядела нежной березкой. «Словно седьмая сестрица», — растроганно думал Селиванов.
Но не одни Арнольд Тимофеевич любовался супругой. За калиткой, навалившись животом на штакетник, давно млел строгий председатель кооператива товарищ Занзегуров. Острые концы штакетин больно кололи председателя, но он, не замечая этого, синхронно с Арнольдом Тимофеевичем думал: «Седьмая сестрица».
Товарищ Занзегуров как раз совершал традиционный обход кооператива, когда заметил сотрясение верхушек берез на участке Селиванова и услышал дикие крики, среди которых превалировало слово «клещи». «Эт-то что за цирк?» — сдвинув брови, товарищ Занзегуров убыстрил шаг. Он ревностно исполнял обязанности главы кооператива: надзирал за порядком, судил, рядил и карал. В обычной жизни он был школьным учителем по труду, балбесы-старшеклассники ни и грош его не ставили — и здесь товарищ Занзегуров брал реванш, царя над робкими дачниками. С наступлением теплых дней он даже изобрел себе унифому — ходил в одной майке-безрукавке Это, во-первых, как бы подчеркивало, чго товарищ Занзегуров везде дома — на любой улице и любой суверенной территории. А во-вторых, любая междоусобица мгновенно затихала, как только спорщики поднимали глаза на могучие плечи председателя, устрашающе поросшие жестким волосом. Лишь в крайних случаях товарищу Занзегурову приходилось вынимать из кармана рулетку и подбрасывать ее на ладони — жестом, как бы означающим: «А вот я вас сейчас перемеряю!»
Итак, товарищ Занзегуров, побрякивая в кармане рулеткой, устремился к мятежной даче с намерением решительно пресечь «цирк», как вдруг… «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты…» Товарищу Занзегурову показалось, что он шагнул прямо в девятнадцатый век, в тургеневскую усадьбу. Вломился в «дворянское гнездо»… полуодетый. Он хотел сразу же бежать, однако ноги его не послушались. Он лишь успел прикрыть волосатые плечи волосатыми же руками и обессиленно повалился животом на оградку. Оградка жалобно пискнула.
Хозяева, впрочем, не услышали этого звука: между ними как раз шел пылкий разговор на другую уже тему. Лидия Леонтьевна спрашивала мужа — где же в этом лесу разбивать огуречные, клубничные грядки, где высаживать малину или, допустим, крыжовник, на что Арнольд Тимофеевич легкомысленно отвечал: «А на фига?» — «То есть как это на фига? — возражала Лидия Леонтьевна. — Для чего же тогда приобретался участок?» — «А дыши, загорай, — беспечничал супруг. — Наслаждайся нетронутой природой». — «Да здесь и загорать негде — сплошная тень! — возмущалась Лидия Леонтьевна. — Опять тебя, недотепу, облапошили, подсунули какие-то уссурийские дебри!.. Нет, эти березы надо вырубить. Вырубить, вырубить — и думать нечего!»
Тут из-за калитки донесся шумный вздох, словно вздохнули две коровы, вместе связанные.
Селивановы оглянулись.
— А, это вы! — узнал Занзегурова Арнольд Тимофеевич. — Заходите. Помогите вот убедить, — он указал рукой на жену…
Товарищ Занзегуров, видя, что Арнольд Тимофеевич почти и вовсе раздет, охрабрел маленько, протиснулся сквозь калитку, отнял одну руку от плеча:
— Супруга, значит, ваша будут? Очень приятно. — И снова издал тяжкий коровий вздох. — Нельзя вырубать. Запрещено. Решением общего собрания. Вплоть до крупного штрафа и выселения из кооператива.
— Интересно! — стрельнула в него бойким глазом Лидия Леонтьевна. — А как же призыв правительства — развивать на садовых участках огородничество и садоводство? Как это совмещается?
Товарищ Занзегуров готов был лично вырубить ради воздушной этой женщины все окрестные леса, забайкальскую тайгу и Беловежскую пущу. Но!..
— Нельзя, — уныло повторил он. — Тут — кому как повезло. Достался пустырь — заводи огород. А лесопосадки достались — сохраняй.
Сохраняют! — ехидно откликнулась, раздвинув низкорослые заросли малины, соседка Селивановых, маленькая хромоногая пенсионерка, бывшая учительница ботаники Очень, доложу вам, сохраняют. Павел-то Кудрин срубил черемуху. А вы и знать не знаете. И эти вырубят. — Она метнула ненавидящий взгляд в красивую Лидию Леонтьевну.
Товарищ Занзегуров, на миг превратившись в прежнего главу кооператива, с грозной небрежностью обернулся к соседке.
— С Кудриным разберемся! — сказал он таким тоном, словно пенсионерка-доносчица и была тем самым злоумышленником Кудриным.
Перепуганная старушка юркнула в малинник.
Ног такая сложилась ситуация к тому времени, когда Лидия Леонтьевна Селиванова вступила во владение дачей.
Арнольд Тимофеевич вскоре укатил в длительную Командировку, в Азербайджан, где он вел крупный хоіяйственный объект.
Лидия Леонтьевна проводила дни на веранде, караулила непоседливую дочку (какой-нибудь клещ-одиночка мог все-таки затаиться среди ветвей) и злилась на мужа: ему там хорошо — солнце, море, свежие овощи, а ей здесь… шагу ступить негде, не говоря уж о том, чтобы грядку вскопать. Она, правда, попыталась расковырять кое-где между деревьями целину и посеяла там разную мелочь. По заматеревшая листва берез не пропускала солнечные лучи, глушила бледные росточки, обескровливала. Да и поздно было сеять — соседи уже хрумчали свежей редиской.
Приходил товарищ Занзегуров. Он жалел похудевшую, бледную Лидию Леонтьевну. Она казалась ему сказочной царевной, заточенной в замке злым волшебником. Освободить ее товарищ Занзегуров не мог, но хотя бы утешить… Отправляясь в гости, он надевал теперь рубашку с вечно крахмальным воротничком. Воротники рубашек не сходились на мощной шее товарища Занзегурова, однако он ухитрялся застегивать их на верхнюю пуговицу. Это было невыносимой пыткой. Товарищ Занзегуров багровел и терял голос. Сиплые беседы его не приносили утешения Лидии Леонтьевне, наоборот — они только бередили ее душу, потому что товарищ Занзегуров мог разговаривать только на садовоогородные темы.
И наступил роковой день — день падения товарища Занзегурова, день его служебного преступления. Он сложил к ногам прекрасной Лидии Леонтьевны свой общественный долг, как Антоний свой меч к ногам Клеопатры.
В тот день товарищ Занзегуров, желая порадовать затворницу, принес ей в подарок первый крохотный огурчик со своей грядки. Лидия Леонтьевна бережно приняла огурчик в ладони, как неоперившегося птенца, склонилась над ним и… беззвучно заплакала.
Этого товарищ Занзегуров вынести не смог. Он незаметно расстегнул верхнюю пуговицу и звонким вдруг шепотом произнес:
— Вот если бы… хулиганствующий родственник!
Лидия Леонтьевна подняла на него недоумевающие глаза.
Совершивший предательство товарищ Занзегуров заторопился. Бывают, знаете, такие случаи: родственники дачников, обиженные чем-то… претендующие, в общем… ну, там в пай их не взяли или в чем другом обошли — мстят, пакостят разно… И для наглядности привел свежий примерчик: у этого самого Пашки Кудрина, который собственную черемуху выкорчевал, какой-то дальний родственник, имеющий на Пашку зуб, порубал топором всю смородину. Кудрины в суд на него подавать не стали — как-никак родная кровь, — а правление, со своей стороны, умыло руки: разбирайтесь, мол, сами, дело семейное.
У Лидии Леонтьевны высохли глаза. Она смотрела на товарища Занзегурова, но как бы сквозь него. Уже кто-то другой или что-то другое виделось ей за спиной председателя.
Через день дачу Селивановых посетил племянник Лидии Леонтьевны Гога. Он приехал в собственных оранжевых «Жигулях», на переднем стекле которых было написано «Фиат», а на заднем прилеплена черная негритянская пятерня.
Пока Гога поедал клубнику со сливками (остатки очередного презента товарища Занзегурова), Лидия Леонтьевна жаловалась ему на жизнь, задавленную березами. Гога мельком глянул в окно и презрительно бросил: «Дрова, ма танте».
Лидия Леонтьевна исподволь заговорила о хулиганствующем родственнике. Слова «хулиганствующий» она, разумеется, не произносила. Будучи опытным словесником, Лидия Леонтьевна плела тонкие кружева на тему «униженные и оскорбленные». Гога слушал её, напряженно приоткрыв рот. Потом враз усек и сформулировал:
— Сирота! Годится, а?
И вовсе сделался серьезным.
— Вот что, ма танте, — сказал, — исчезните-ка отсюда на недельку. Простудите Наташку или слух пустите, что простудилась, — и в город. Только на недельку, не меньше Пусть участок без хозяев побудет. — Гога помолчал и закончил непонятно: — Детишкам на молочишко.
Лидия Леонтьевна съехала в воскресенье.
Гога заявился в четверг. Приехал он в этот раз на грузовом «ЗИЛе» с прицепом. Управлял «ЗИЛом» щуплый паренек в рваной тельняшке.
Сторож Пимен запросил с них пятерку. У Гоги не оказалось пятерки. Было у него шесть двадцать, но — в стеклянной упаковке. Пимен принял бутылку и заплакал:
— Ить это же я опять запью через вас, паразитов!
На участке Лидии Леонтьевны Гога достал из кузова бензопилу и разделся до пояса, обнаружив некогда мускулистый, а теперь подернутый ровным жирком торс. Белотелый и чернобородый, он походил на античного героя.
— Сироту обижать?! — пробормотал Гога, без улыбки подмигнул спутнику.
Щуплый его спутник мелкозубо оскалился.
Гога был современным молодым человеком, он знал всякое дело. Между прочим, свои оранжевые «Жигули» он заработал как раз пилой и топором на постройке колхозных коровников. Он валил березки аккуратно — вершника к вершинке, чтобы не повышибать стекла на веранде, не покалечить летнюю кухню или туалет. Приятель его, вооружившись топором, обрубал ветки и проворно вязал веники.
Светило солнце, ласковый ветерок обдувал влажную спину, застоявшийся организм «хулиганствующего родственника» Лидии Леонтьевны радовался работе, и Гога, время от времени задирая бороду, дурашливо пел-выкрикивал:
— Бэл-лая бэр-рёза! Я тэбя люблю!
Из зарослей малины за всем этим разбоем с ужасом наблюдала учительница-пенсионерка. Гога почувствовал ее взгляд, обернулся и, увидев свидетеля, на всякий случай, потрясая пилой, рявкнул;
— Сироту обижать!!
Пенсионерка в страхе бежала. Она подалась к сторожу, за помощью, но пока дохромала до его подворья, было уже поздно. Пимен сидя спал посреди пыльного двора, уронив на грудь квадратную голову и уткнув в землю руки-коряги. Рядом валялась опорожненная бутылка.
Гога с приятелем навязали двести веников. Хлысты они раскряжевали и побросали в кузов. Вся эта операция заняла у них часа полтора.
Веники в тот же день были распроданы возле центральной бани.
Куда Гога с приятелем сбыли березовые дрова, осталось неизвестным. Да и не в этом суть.
В субботу сбежавшиеся к даче Селивановых члены кооператива наблюдали жуткую картину разорения и скорби. Вернувшийся из командировки Арнольд Тимофеевич топал ногами и безобразно кричал. Лидия Леонтьевна рыдала. Безутешно плакала Наташка.
Товарищ Занзегуров наблюдал за всем этим издали. По долгу службы ему полагалось бы подойти, отобрать у пострадавших и соседей свидетельские показания, возможно, составить акт, но товарищ Занзегуров лучше, чем кто-либо, знал: судиться с «хулиганствующим родственником» Селивановы не будут. Не знал товарищ Занзегуров только одного: потрясенная Лидия Леонтьевна искренне оплакивала березки.
…А сейчас конец августа. На участке Селивановых так ничего и не выросло. Надо выкорчевывать пни, а некому. Охладевший к даче Арнольд Тимофеевич перестал туда ездить. Наташка выпросилась в пионерский лагерь, на третий сезон. Лидия Леонтьевна одиноко бродит среди пеньков. Как одинокая березка — следовало бы сказать. Но теперь это сравнение к ней не подходит. Во всяком случае, товарищу Занзегурову она не кажется больше березкой. Он видит, как на унылом пустыре мыкается сухопарая немолодая женщина, и вид ее почему-то вызывает у товарища Занзегурова раздражение. Он теперь снова облекся в свою униформу и возобновил ре гулярные обходы кооператива. Поравнявшись с калиткой Селивановых, товарищ Занзегуров всякий раз напоминает:
— Обихаживать надо землю, товарищи. Для чего государство вам ее нарезает?
— Но вы же знаете, — разводит руками Лидия Леонтьевна.
— Мы-то знаем… — неопределенно говорит товарищ Занзегуров и отходит, побрякивая в кармане рулеткой.
УРОК КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ворожеева согнул свирепый радикулит, ему прописали массаж, но массажистка накануне ушла в декретный отпуск, замены ей пока не подыскали, и Ворожееву пришлось обратиться к частной.
У этой частной, глубоко законспирированной массажистки клиентура была отборной (массажистка владела какими-то китайскими хитростями). Ворожеева отрекомендовал ей старый приятель, администратор цирка Голубь, не лично отрекомендовал даже, а свел через третье лицо путем долгих телефонных переговоров..
Массажистка поясницу Ворожееву выправила, но счистила с него сто рублей. За десять сеансов. По десятке то есть за сеанс. Ворожеева не столько общая сумма потрясла (он заранее приготовился к разорительному лечению), сколько слагаемые ее — эти самые десятки за сеанс. Ведь она же не полсмены над Ворожеевым трудилась. Сеанс с раздеванием, одеванием, расшаркиваниями и любезностями продолжался не более часа.
— А что же ты хотел? — спросил его приятель. — Чтобы она на твою древнегреческую задницу за так любовалась? Тогда иди в поликлинику. Там бесплатно. Там тебя погладят пятнадцать минут и — «пройдите следующий». А разогнешься ты или нет — не её забота. А здесь гарантия, фирма.
Да нет, я о другом, — заторопился Ворожеев, опасаясь, что приятель истолкует его слова как скрытый упрек: спасибо, мол, отрекомендовал живодерке. — Мне денег не жалко, пойми. Здоровье дороже… Я вот про что думаю: сколько бы она при такой квалификации там зарабатывала? — Он кивнул головой на запад. То есть кивнул он, не ориентируясь в чужой квартире, на северо-восток, но Голубь понял его правильно: там, на Западе.
— Ну… — пожал он плечами. — Она здесь, думаю, неплохо зарабатывает. Ты о ней не беспокойся.
— Да я не о ней, — принялся пояснять свою мысль Ворожеев. — Я вообще, в принципе. Ну, вот представь себе: массажистка, классная — так? Она же где-то должна работать… если у нас. В поликлинике той же. Ей же нельзя тунеядкой быть… И вот она там гладит, как ты говоришь. Отгладит за день человек пятнадцать. Хоть и конвейер, и давай-давай, а все равно ручки-то свои, не казенные. А сколько она выгладит в месяц? Рублей сто пятьдесят? Ну, хорошо, если молодая, одинокая пока, как вот эта наша, — еще сотню-другую на халтуре сшибет. То есть на действительной работе — тут ей с такими, как я, нельзя халтурить. А если у нее семья, дети? Когда ей частной практикой заниматься?.. А там? Повесили табличку или визитку заказали: мисс такая-то, массажистка, владеет секретами китайской медицины. Взяла двух-трех больных, больше не надо. Как день — так тридцатка. Работы — три часа. Остальное время семье, мужу…
— Тихо-тихо-тихо! — остановил его Голубь. — Не разгоняйся. Муж… Еще скажи — миллионер. Тогда за каким бесом ей вообще работать? Она сама четырех массажисток наймет. Слышал, как ученые мужи выражаются? — эксперимент должен быть чистым. Исключи мужа. Она одинокая. Мать-одиночка.
— Пусть, — согласился Ворожеев. — Значит, она одинокая и у нее ребенок. Дочь. Годится?
— Какая разница кто?
— Есть разница. Там пацаны с первого класса прирабатывать начинают. А с дочкой труднее. Тебе же надо, чтоб труднее?
Просчитали вариант на двух больных в день — минимальный. Отбросили шесть выходных, перемножили, получили в результате четыреста восемьдесят рублей.
— Ну? — бросил карандаш Ворожеев. — Можно жить? На два часа в день уперся — и четыреста восемьдесят колов в кармане. Чистыми. Тебе сколько за четыреста восемьдесят пахать надо? Месяца два? Два с половиной?
Голубь хмыкнул, поиграл косматой бровью.
— Значит, не сочинял.
— Кто? — не понял Ворожеев.
— Да у нас братья Коварные, акробаты, недавно с гастролей вернулись из Лос-Анджелеса. А у старшего, у Вальтера, сестра там, в Америке, живет — двоюродная. Старушка уже, но такая, знаешь, американизированная старушенция, бодренькая. Работает еще, частной сиделкой — кто наймет… Так вот, Вальтер рассказывал: гуляем, говорит, с ней но улице, она на каждом углу новую кофточку покупает. Уже вся свертками обвешана, коробками — и покупает. Я ее, говорит, спрашиваю: «Шеля, зачем тебе столько кофточек?» А она глазами хлоп-хлоп — не понимает его: «Но ведь их продают». Ты чувствуешь, раз продают, значит, надо брать. Во психология… А на какой-то день она его в гости пригласила. Всю дорогу извинялась — живет, мол, бедно. Приехали. Квартира у нее двухкомнатная, в одной комнате сама живет, а в другой — гардероб. Такой скромный шифоньерчик, метров пятнадцать квадратных. Битком набитый. Одних манто шесть штук. У ночной сиделки, а? Я думал: привирает Вальтер насчет манто…
— И купит! Запросто! — азартно заспорил Ворожеев. как будто американская старушка была его сестрой. — Ты погляди! — он хлопнул ладонью по листочку с подсчетами. — Четыреста восемьдесят рублей в месяц! Шутя-нарочно! А если она не двух больных возьмет, а пятерых. Что она, с приветом — от денег отказываться? А пять штук — это, — Ворожеев придвинул листочек, схватил карандаш, — это… субботу-воскресенье отбрасываем?., так — тыща двести рублей. Тыща двести! Хоть каждый месяц манто заводи!
— Ну, ты уж очень ее запряг, — пожалел массажистку Голубь. — Прямо Генри Форд. Пять сеансов в день — это ж потогонная система. Ты с поликлиникой-то не равняй, с конвейером, Какую-нибудь миледи в темпе не отшлепаешь — она к себе внимания потребует. А если не на дому прием, если допустить, что не они к ней, а она к ним ездит… пусть даже на собственной машине. Тогда клади не пять, а все восемь часов. Без обеденного перерыва. Нет, ты давай по-божески.
— Хорошо, давай по-божески, — великодушно согласился Ворожеев. Ему было теперь куда отступать, с высоты в тысячу двести рублей. — Давай оставим трех больных. Устраивает? — он привычно перемножил цифры. — Все равно семьсот двадцать. Мало? У нас академики чуть больше получают.
Голубь пошевелил бровями. Они у него интересно шевелились — порознь.
— Вычти налог, — сказал.
— Ну, знаешь! — обиделся Ворожеев. — Это нечестно. Налоги везде берут.
— У них — прогрессивный, нарастающий, — сказал Голубь — Чем больше заработок, тем выше налог. Не зря даже миллионеры свои доходы скрывают. Там дерут — будь здоров.
— И сколько же сдерешь? — недружелюбно поинтересовался Ворожеев.
Голубь не знал, какими налогами облагаются в Америке массажистки. Поторговавшись, они отняли у матери-одиночки сто двадцать рублей. Но и после этого у нее осталась кругленькая сумма: шестьсот целковых.
— Все? — спросил Ворожеев насмешливо. И карандашик бросил. Он теперь не смотрел на приятеля, презирал его.
Голубь опять включил брови. — Допустим… у нее зуб заболел. — Какой еще зуб?
— Коренной. Просверлили дырку, мышьяк положили — десятка. На другой день запломбировали — еще десятка. Раз она по десятке за сеанс берет — чем другие хуже?.. А если у неё не зуб, если хроническое что-нибудь? Тот же радикулит или профессиональная болезнь рук? Ей тогда курс лечения необходим, процедуры…
Ворожеев, захваченный врасполох, молчал, приоткрыв рот.
— Та-ак! — потер ладони Голубь. — Запишем: у нее — хроническое. У дочки — зуб…
— Да не болят у них зубы! — всполошился Ворожеев. — Не болят, понял?! Они их вырывают. И вставляют пластмассовые. Считают, так выгоднее.
— Ладно, не зуб… Глаз, ухо, пятка! Пятки у них тоже пластмассовые?
Снова пришлось взяться за карандаш. Теперь они подсчитали все: хроническое заболевание мамы и связанные с ним вынужденные простои: ухо-горло-нос дочки, профилактические летние поездки к морю, частный пансионат. Ворожеев запротестовал было против частного пансионата (обойдется, дескать, обычной школой, не облезет), но вошедший во вкус Голубь жестко пресек его: «Она у тебя как там живет? С кваса на хлеб перебивается? Тогда зачем ты ее в Америку ссылал? Когда вон у нас каждая продавщица старается своего короеда в школу с английским уклоном определить».
Словом, обобрали они бедную массажистку основательно, оставили ей каких-то двести рублей. Ворожеев потух:
— На двести рублей в месяц шибко не разживешься. Тут уж не до манто. Хотя для женщины и не плохо. Но ведь дочка. И мужа нет.
Голубь запоздало спохватился:
— У них же там квартиры дорогие!
— Ага! И негров угнетают! — озлился Ворожеев. — Давай тогда остальное у нее отнимем. По миру пустим. С протянутой рукой.
— В любом случае это не деньги, — сказал Голубь. — В условиях ихней действительности. Надо ведь на черный день что-то откладывать, на старость. Раз она частной практикой занимается — пенсия ей не светит.
— Ну, а как же бабушка-старушка, у которой полквартиры кофточек? — вспомнил Ворожеев. — Или заливал твой акробат?
— Бабушка?.. Да ей вроде покойный муж что-то оставил. Акции какие-то.
— Что ж ты мне мозги пудрил?! — вызверился на приятеля Ворожеев. — Ночная сиделка, ночная сиделка!
— Кто пудрил? — запротестовал Голубь. — Кто кому пудрил? Сам зациклился на этой десятке. А вдруг там не по десятке за сеанс платят? Ты откуда знаешь? Это здесь тебе твоя красотка назначила цену — ты и выложил сотню без звука. Тебе больше податься некуда. А у них конкуренция. Еще неизвестно: она цену назначает или ей назначают. Сунут пять долларов в зубы — и привет.
— Пять долларов?.. Так она что, с голоду помирает?
— Может, и помирает.
— Тьфу! — сказал Ворожеев. — Сцепились — два старых дурака. Делать нечего…
По дороге домой Ворожеев думал: «И чего действительно схватились? Я-то, главное, с чего завелся?»
Да, Ворожееву вроде не с чего было заводиться. Лично ему на фиг не нужна была чужая заграница с её рисковым, ненадежным бизнесом. Он и в своем отечестве существовал безбедно. Правда, оклад у Ворожеева был невелик — он работал экспедитором на винзаводе. И особенного навара служба ему не приносила. Если, конечно, не воровать. А Ворожеев не воровал. Боже упаси! Дорожил местом, вел себя аккуратно. Единственно, он брал иногда марочный крымский портвейн, в бутылках без этикеток, по цене самого дешевого яблочного вина. Но опять же, не торговал им. Потому что торговать — это уже уголовщина, а взять для себя считалось как бы дозволенным, хотя и не официальным, самопоощрением.
Ворожеева кормило его хобби. Он шил на продажу белые джинсы по американской технологии. Освоить технологию помогла его жена, костюмерша цирка. Сама она, при всем ее искусстве, не могла преодолеть сопротивление звенящего, как жесть, немнущегося, негнущегося и, похоже, в огне не горящего материала. А Ворожесв преодолел, увлекся этим делом, достиг в нем совершенства. Его джинсы ничем не отличались от фирменных и шли на барахолке по двести пятьдесят рублей. Ворожеев не жадничал, сооружал в месяц четверо штанов. К тому же сдерживали производство фирменные этикетки «чекухи». Поставлял их Ворожееву сын — студент университета: спарывал с изношенных в прах джинсов своих приятелей. Не задаром, конечно, спарывал — платил за каждую «чекуху» двадцать пять рублей. Еще сотню съедал материал, не считая безымянных ворожесвеких бутылочек. Здесь Ворожеев делал исключение: дефицитную белую ткань купить только за деньги было невозможно, даже по знакомству. Приходилось благодарить.
Чистый месячный доход от этого не облагаемого налогами промысла составлял восемьсот рублей. Зубы Ворожеев лечил бесплатно.
ПОВЕСТИ
Живешь, живешь на белом свете —
И все в долгу, и все в ответе:
Перед страной, перед женой,
Перед компартией родной,
Перед какой-то чудо-стройкой,
Перед текущей перестройкой…
Вожди! Товарищи! Родня!
А кто в ответе за меня?
ГДЕ-ТО В ГОРОДЕ, НА ОКРАИНЕ
Речка, которую я никогда не видел
Я долго бился над первой фразой своего повествования, но, так ничего и не придумав, решил начать традиционно: «Деревня наша Утянка стояла на крутом берегу речки Бурлы». Добрая половина книг о детстве открывается описанием деревенек, приютившихся на берегах речек, и, если начать по-иному, читатель, пожалуй, еще заподозрит что-нибудь неладное и почувствует к автору недоверие.
Сядем же в таратайку исповедальной прозы, взмахнем прутиком, причмокнем на лошадку памяти и отправимся в путь. Глядишь, и нам повезет. Глядишь, и на задке нашей таратайки, как знак, запрещающий обгон, Затрепещет со временем рецензия: «Несмотря на то, что в последние годы литература обогатилась рядом ярких произведений о детстве, писателю имярек удалось все же внести в эту тему свою неповторимую струю…»
Итак, деревня наша Утянка стояла на крутом берегу речки Бурлы.
Берег, впрочем, по свидетельству очевидцев, не на всем протяжении был крут, местами оказывался и пологим, но это, думаю, деталь второстепенная.
Дело в том, что сам я ни речки Бурлы, ни родной деревни Утянки никогда не видел. Родители мои, захваченные вихрем индустриализации, в один прекрасный день завернули меня, четырехмесячного малютку, в овчинный полушубок и увезли на строительство знаменитого Кузнецкого металлургического комбината.
Вихрь индустриализации, налетевший на Утянку в лице вербовщика с желтым портфелем, легко оторвал от земли моего, ставшего к тому времени безлошадным, папашу, двух родных дядек и нескольких двоюродных. Произведя подобные же опустошения в домах наших кумовьев, сватов и соседей, вербовщик насобирал людей, в общей сложности, на два телячьих вагона, и утянские мужики отправились обживать берега диковинной Абушки.
Времени на это дело мужикам было отпущено крайне мало. Когда-то дед мой вот так же приехал из России обживать берега Бурлы, но, во-первых, у него в запасе имелись годы, а, во-вторых, пахать сибирскую целину дед заявился готовым хлеборобом, хотя и безлошадным. Сыновьям же его и односельчанам надо было не только лепить свои засыпухи и унавоживать свои огороды, но, первым делом, строить комбинат, срочно перековываться в рабочих, вылезать из корявой крестьянской шкуры. А она отрывалась вместе с мясом, путалась в ногах. Торопливый и мучительный процесс этот довелось мне, как теперь понимаю, наблюдать с тыльной стороны, с изнанки.
Поэтому, наверное, первые воспоминания мои оказались наполненными деталями быта окраинной призаводской жизни.
Так вот, первой речкой, которую я увидел в жизни, была эта самая Абушка, вдоль крутого опять же берега которой лепилась улица Вторая Болотная. Вообще-то официально речка именовалась Аба. За, что ее прозвали ласкательно Абушка — совершенно непонятно. Это можно объяснить только редким великодушием новоселов. По Абушке текла не вода, а сплошные смола и мазут, сбрасываемые металлургическим комбинатом. Она не застывала в любые морозы, была черной и блестящей, как только что начищенный хромовый сапог. Однажды в ее струи, оступившись с мостка, упал наш кум и сосед Егор Дорофеев. Упал он удачно — головой на жирный, как холодец, приплесок и, будучи крепко выпивши, тут же заснул. Егор проспал в теплой Абушке до утра и так пропитался мазутом, что его года два ещё наверное, во всех компаниях сажали за стол только у открытого окна.
Если кто-то думает, что я преувеличиваю, пусть съездит в бывший город Сталинск, а ныне Новокузнецк. Конечно, улицы Второй Болотной он не найдет — на ее месте выросли многоэтажные белокаменные дома, давно нет и тех мостков, с которых когда-то рухнул кум Дорофеев, но Абушка и сейчас несет свои мазутные воды в Томь, рассекая славный город на две половины.
Однако я отвлекся, а речь идет о Бурле.
Никогда, повторяю, я не видел этой речки, но она, вот уже много лет, течет в моей судьбе, и не рассказать про нее я не могу.
Что я знаю о Бурле?
Была она кое-где воробью по колено, но зато растекалась в этих местах широко, давая в жаркий день приют ребятишкам и коровам, замученным паутами. На таких плесах хороню брал чебак, крупный и бесстрашный, которого не отпугивало даже барахтающееся в воде пацанье. За плесами река сужалась, образуя глубокие омута с крутящимися воронками и нависшими над водой кустами. Здесь, в тени кустов, паслись неисчислимые стада окуней — здоровенных, прожорливых и бесхитростных, прятались в камышах полутораметровые щуки, таились под корягами налимы. И, хотя все это население нещадно поедало друг дружку: окуни — чебаков, щуки — чебаков и окуней, — рыба в реке не переводилась.
Ах, как вкусно описывал мне отец свои рыбалки на Бурле!
Старший брат поднимал его чуть свет; торопясь, они накапывали между наземных грядок тугих ременных червей и почти рысью бежали к заветному омуту. Брат не признавал рыбалки вблизи деревни, добираться поэтому приходилось к дальней излучине, по пояс в седой от росы траве. На место приходили мокрыми насквозь, облепленными комарами и, не отжав портков, спешно разматывали удочки. У брата, жадного до рыбалки, тряслись от нетерпения руки.
Окунь брал сразу и наверняка. Обгладывать наживку, еле заметно теребить ее, вяло мусолить — этого за бурлинской рыбой не водилось.
Старший брат отца, предпочитавший рыбачить на две удочки, очень скоро запутывал их и, тихо матерясь сквозь зубы, чуть не плача от досады, принимался расцеплять. Справившись наконец с этой задачей, он с непонятным упрямством опять забрасывал обе. Клевать начинало враз на той и другой, брат снова захлестывал лески, после чего ему хватало распутывать их уже до конца рыбалки.
Отец же таскал одного полосатого горбача за другим, и обычно к тому времени, когда туман над рекой начинал розоветь, ведро бывало уже полным до краев.
Словом, это была честная сибирская речка, битком набитая рыбой.
Все соединяла в себе маленькая Бурла: песчаные отмели и красивые заводи, звонкие перекатики, островки величиной в ладошку, таинственные бездонные ямы, в которых жили заросшие мхом щуки.
Отца моего, как рыбака, щедрая Бурла избаловала и развратила на всю жизнь.
Помню, однажды я соблазнил его порыбачить на Теплом озере. Вода в этом озере натекла из ТЭЦ, и сначала отец долго не хотел верить, что в такой перекипяченной воде может водиться хоть какая-то рыба. Рыба, однако, в Теплом озере была — кто-то запустил туда сорожек, и они расплодились.
Отец сам смастерил себе удочку. Это была грубая, но прочная снасть: большой окуневый крючок, волосяная леска, способная выдержать пятикилограммовый груз, поплавок из пробки — величиной с детский кулак… Выбрав на берегу местечко, отец размотал удочку, нацепил на крючок целиком здоровенного салазана, поплевал на него и — господи благослови! — бултыхнул свой снаряд в воду. Затем он свернул самокрутку и принялся ждать.
Прошло минут двадцать — гигантский отцов поплавок лежал на воде недвижно, как бакен.
У меня тоже не клевало.
Я помараковал немножко, перестроил удочку на верховую рыбу, сменил наживу и начал изредка потаскивать красноперых сорожек.
Отец вроде даже и не смотрел в мою сторону. Только закаменевшая скула его выражала презрение. Играть с рыбой в догоняшки, караулить мельчайшую поклевку, подсекать — было, видать, ниже его достоинства. Он ждал верную рыбу. Ту надежную рыбу своего детства, которая подойдет и, не раздумывая, цапнет мертвой хваткой. Но рыба не подходила.
Отец крепился.
Я продолжал таскать сорожек. Так прошло еще с полчаса.
Вдруг отец вскочил, ругаясь во всех святителей и угодников, выдернул удочку, изломал удилище о колено и зашвырнул далеко в озеро.
— Не было рыбалки — и это не рыбалка! — заявил он.
Отец до самой смерти все мечтал съездить как-нибудь в родные места. Побродить с ружьишком по околкам, позоревать на Бурле.
Мечтал он, по своему обыкновению, азартно и шумно.
— А что, Миколай, а! — возбужденно говорил он. — Вот возьмем и подадимся!.. Я компенсацию брать не стану, ей-бо не стану — уйду в отпуск, и зальемся мы с юбой! — (Отец ни разу в жизни не ходил в отпуск, а брал компенсацию — отдыхать он не умел, да и денег нам вечно не хватало.) — Читал, что Григорий пишет?.. Рыбы в Бурле развелось — тьма! Сама, говорит, на берег скачет.
Я поддакивал отцу, хотя смутно чувствовал, что ехать туда нам нельзя. Наверное, в глубине души понимал это и отец. Он так и не съездил в Утянку.
Не поеду туда и я.
Не поеду, потому что боюсь разрушить легенду. Боюсь вместо чистейшей уютной сказочной Бурлы найти пересыхающую замарашку, в которой местные механизаторы купают своих железных коней.
По время от времени я вижу во сне какую-то речку. Вернее, уголок её, всегда один и тот же. Сон этот цветной и неподвижный. Прямо от ног моих полого сбегает к воде серебристый, словно бы прихваченный морозцем, песочек, редкий молочный туман стоит над темной водой, над двумя продолговатыми песчаными островками, проступающими на середине плеса; левее островков река сужается, берега становятся круче, и тихие, почему-то сиреневые ветлы нависают там над водой.
Картина эта так неправдоподобна красива, что сладкая боль всякий раз сжимает мне сердце.
— Ма, что-то мне все речка одна снится, — признался я однажды матери. — К чему бы это, как думаешь?
Мать — храбрая толковательница снов — на этот раз засмущалась.
— Дак что же, сынок, — с виноватой улыбкой сказала она. — Ведь ты на речке родился.
Я не сразу понял. «Ну да, разумеется, на речке, поскольку деревня наша Утянка стояла на крутом берегу»…
— Да нет сынок, на самой речке, — объяснила мать. — В лодке я тебя родила.
Так я узнал тайну своего рождения.
Оказывается, в тот день мать с одной из своих многочисленных золовок — а моей, значит, будущей тёткой — отправились на противоположным берег Бурлы за ягодой. Когда они, с полными корзинами, возвращались обратно, мне и приспичило родиться. И хотя до берега оставалось каких-нибудь три сажени, я не захотел ждать.
Пуповину мне перекусила тетка и завязала ниткой выдернутой из домотканой рубахи. Надо сказать, что тетка дело знала. Получился идеальный крестьянский пупок, сработанный руками, привыкшими все вязать на совесть, будь то снопы, мешки или пупки.
Здесь же в деревне Утянке меня через несколько месяцев окрестили. Окрестили неискренне и формально, скорее для того, чтобы откупиться от бога, интересы которого во всем семействе истово отстаивала одна бабка Акулина, отцова мать.
Церковь в то время уже не работала. В ней был клуб, где по вечерам бывший батюшка, здоровенный, рыжебородый, вечно нетрезвый мужчина вел показательные диспуты о боге с приезжими атеистами.
Батюшка лукавил, замаливал свой грех перед властями. Году в двадцатом он сбежал из деревни с колчаковцами, долго мотался по свету, потом вернулся и, как нашкодивший кот, играл теперь с атеистами в поддавки. Поспорив какое-то время, он позволял им принародно победить себя, хотя мог, конечно, уложить любого из этих горячих, но малограмотных ребят на обе лопатки.
Диспуты, однако, батюшку не кормили, и он, за натуральную плату, ходил по дворам и подпольно крестил деревенских младенцев. Впрочем, и этот промысел постепенно хирел: к бывшему попу из-за его двурушничества начали терять уважение даже крепко верующие.
Со мной у батюшки вышел непредвиденный конфуз. Когда он вынимал меня, залившегося в реве, из купели, я вдруг судорожно вцепился обеими руками ему в бороду.
Сначала такой оборот дела присутствующих не насторожил и даже вполне устроил, поскольку я тут же перестал плакать.
— Ну-ну, чадо, — добродушно усмехнулся поп. — Пусти батьку, пусти… Ишь ты, рукастый…
Подскочившая бабка Акулина хотела оттащить меня, но я тянулся только вместе с бородой.
— Пальцы… пальцы ему разлепи — занервничал батюшка. — Куда ж ты тянешь! Ты мне так власы повырываешь.
Но и пальцы отлепить не удалось.
Я болтался на бороде у попа, как сосиска.
Склоненное лицо батюшки багровело и покрывалось потом.
Поднялась суета. Батюшка уже не усмехался.
— Отцепляй пащенка! — хрипел он и ругался черным словом.
Вмешался дед, всегда недолюбливавший «долгогривых», и дело закончилось большим скандалом.
В результате батюшка ушел, не получив причитающийся ему по таксе десяток яиц и кусок свиного сала.
А в моих отношениях с богом образовалась трещинка, которой суждено было в дальнейшем расти и расширяться. И, честное слово, не по моей вине. Если уж на то пошло, я относился к богу вполне дружелюбно. В то время, как вокруг говорили, что его нет, что он легенда, миф и опиум, я все же надеялся, что бог существует, только спрятался где-то. Но однажды он появится — и тогда мы утрясем с ним наш маленький конфликт. Я даже выучил наизусть «Отче наш», чтобы по-хорошему приветствовать бога. Эти надежды подогрел один из моих веселых дядек. Спасаясь от бесконечных «почему» племянника, он сказал, что бог улетел в Америку. Однако, когда я выложил полученные сведения главной божьей заступнице бабке Акулине, рассчитывая утешить ее, бабка, погрозив мне черным кулаком, зловеще сказала: «Небось прилетит!»
Это казалось мне странным: по словам бабки, бог только о том и мечтал, как бы надрать мне уши, расшибить меня громом или отправить в ад, где я должен буду лизать языком раскаленную сковородку. Сковородку мне лизать не приходилось, но добела раскаленный на морозе топор я лизнул однажды из любопытства — так что представление о подобном удовольствии имел.
Бог не прилетел.
Но все же через несколько лет нашел способ поквитаться со мной.
В первый послевоенный, шибко голодный год ходили мы с матерью покупать корову — вместо сломавшей ногу и прирезаннной на мясо нашей Белянки. Шли мы в деревню Безруковку, к знакомой бабке Крылихе, и мать дорогой учила меня.
— Ты, сынка, как будешь за стол садиться, да из-за стола вставать — перекрестись. Бабка Крылиха набожная, черт её знает, что ей в голову встрянет — возьмет да и не продаст нам корову.
В избе у Крылихи густо, до головокружения, пахло мясными щами.
— Васкя! — сердито кричала она сыну, собирая на стол. — Ты, что ли, идол, мясо из котла повытаскал?!
— Ну я, — лениво сознавался толстомордый Васька. — Дак я же хлебное оставил, что лаешься.
Хлебным мясом Васька называл постные куски, расслаивающиеся на ниточки, которыми сам он пренебрегал.
За щами, помню, поданы были блины — белые и ноздреватые.
Пресытившийся Васька макал их в сметану, высоко поднимал над столом и наблюдал, как сметана, стекая, пятнает белыми кружками клеенку.
— Гля, маманя! — радовался он. — Ровно заяц пробег!
Крылиха, занятая разговором с матерью, отмахивалась.
Мать косила на «заячьи тропы» глазом и деликатно молчала.
Меня бы она за такое развлечение зашибла на месте. Даже и думать нечего.
Я старательно крестился — и до еды, и после. Но Крылиха не продала нам корову. Причину мне на обратном пути открыла мать.
— Ты как крестился-то, а? — сказала она. — Ведь ты слева — направо крест клал, друг ситцевый. Уж я тебе и мигала, а ты все по-своему машешь.
Такая мелочность бога, помню, неприятно поразила меня. Слева направо или справа налево — какая разница? Толстомордый Васька не крестился вовсе, но его почему-то бог помиловал.
Потом уж, спустя много лет, я узнал, что бог всегда был мелочным. Мелочным, жестоким и капризным.
За что, собственно, истребил он однажды на земле род человеческий? А вместе с ним — всех скотов, гадов и птиц небесных? Ангелы путались с дочерьми человеческими, а господь, вместо того, чтобы прицыкнуть на своих крылатых прохвостов, разгневался на род человеческий. Нашел его, видите ли, слишком развращенным. И потопил все живое. А спрашивается: род человеческий просил, чтобы его создавали?..
Ну, хорошо — потопил и ладно: отмучились бы раз и навсегда. Так ведь стоило Ною принести в жертву богу несколько зверушек, короче говоря — «дать на лапу», как он, обоняя «приятное благоухание», тут же пообещал никогда больше не проклинать землю за человека и не поражать всего живущего. И… не дав народу как следует расплодиться, испепелил Содом и Гоморру.
Если разобраться, старичок был основоположником всего грядущего самодурства: сначала от скуки сотворил этот мир, а потом вертел им, как игрушкой. Это надо подумать! — еще не родила Ревекка своих близнецов, а уж он определил, что от них пойдут два разных рода и больший станет служить меньшему. Каково?! Сам клятвопреступник, он благоволил клятвопреступникам, лизоблюдам и наушникам: провокатору Аврааму, который повсюду выдавал жену свою Сару за сестру, а потом, с божьей помощью, забирал ее назад у перепуганных владык — впридачу со скотом и златом; маменькину сынку, чистоплюю Иакову, купившему себе первородство у работяги Исава за чечевичную похлебку и обманом получившему благословение отца; юродивому сыну Иакова — Иосифу, кляузничавшему панаше на братьев своих.
Я думаю: как хорошо, что хотя бы с этим богом мне удалось расстаться без сожаления.
Сложнее оказалось избавиться от веры в других богов — земных. Про них, наоборот, все твердили, что они есть, они всемогущи, непогрешимы и, главное, добры. Что нее хорошее происходит благодаря им, а плохое, если и попадется кое-где, то лишь потому, что они пока об этом не слышали.
Многие годы ушли на то, чтобы понять, что если и существует на свете бог, то, наверное, это та речка, то поле, та деревенская изба — словом, тот клочок земли, где нам когда-то перекусили пуповину и завязали суровой ниткой.
Никакой другой бог не прилетит. А если и прилетит когда-нибудь, то лишь затем, чтобы надрать нам уши. Так что лучше уж разобраться в своих делах без его помощи.
Моя первая улица
Детство мое прошло на двух улицах — Болотной и Аульской.
Это были хорошие улицы. Ничем не хуже других своих современниц эпохи бурного образования «шанхаев» и «нахаловок». У меня, по крайней мере, они оставили самые приятные воспоминания. Теперь такие улицы доживают свои последние дни. Их срывают бульдозерами и на освободившейся территории строят девятиэтажки башенного типа; разбивают скверы и детские спортивные площадки. И, между прочим, некоторых нестандартно мыслящих людей столь решительное наступление на романтичные закоулки начинает тревожить. Недавно один известный поэт даже выступил в печати — рассказал про двор, в котором прошло его собственное счастливое детство. В этом дворе, вспоминает поэт, всегда стояли мусорные ящики, там был небольшой пустырь со свалкой, располагались уютные катакомбы, образованные фундаментом какого-то недостроенного здания. У детей, проводивших во дворе большую часть времени, такая обстановка развивала фантазию, инициативу и предприимчивость — вырабатывала, словом, те качества, которые унылая, однообразная геометрия теперешних хоккейных коробок и волейбольных площадок, видимо, выработать не в состоянии. В связи с этим поэт призывает архитекторов подумать: нельзя ли, планируя во дворе детский комбинат «сад-ясли», предусмотреть где-то поблизости место и для пустыря с живописно разбросанными по нему свалками, материалом для которых могли бы послужить отходы строительного производства, так и так пропадающие?
Что же, может быть, он и прав. Почему бы, действительно, не свалка? Несколько десятков ломаных железобетонных плит, пять-шесть канализационных труб, арматурные каркасы, немножко битума и карбида, кирпичный бой, стекловата… Большого вреда от всего этого не будет. В конце концов сам поэт, выросший в описанном им дворе, сделался же вполне приличным человеком. Даже университет сумел закончить.
Вот и автор этих строк под судом и следствием тоже не был. А уж мои-то улицы — по количеству пустырей, свалок, оврагов и канав — сумели бы заткнуть за пояс любые десять дворов, вместе взятых. И это — не считая соблазнительных чужих огородов, пустующих сараюшек и предбанников, где без опаски можно было выкурить «бычок» или научиться игре в очко.
Да что там — преинтереснейшие были улицы. Дай бог каждому.
Только с названиями им не повезло.
Вообще, родители мои всю жизнь ухитрялись как-то миновать улицы с достойными именами и поселяться на самых, в этом смысле, обидных.
Например, против нашей Болотной, вдоль низкого левого берега Абушки тянулась улица с красивым названием Береговая. Каждую весну Береговую топило. Жирная мазутная вода загоняла ее обитателей на чердаки, и от дома к дому они добирались на лодках или самодельных плотах. Потом, до самого августа, Береговая сохла. Но высохнуть окончательно так и не успевала: начинались осенние дожди — и она опять превращалась в топкое болото.
Но Болотной почему-то называлась наша улица.
Эта загадка с наименованием улиц мучит меня до сих пор. Я никак не могу понять, откуда берутся Приморские в глубине континентов, там, где нет не только моря, но даже захудалой речушки или озерка; почему улицы из рубленных в лапу пятистенок называются Кирпичными и Шлакоблочными, а шлакоблочные поселки, наоборот, — Листвянками.
Мне представляется, что где-то сидит такой старичок-насмешник, который, похихикивая и высунув от удовольствия язык, выскребает из своей картотеки все эти названия — одно нелепее другого.
Иногда шутки его бывают очень даже ехидны. Старичок-насмешник, выдернувший когда-то из картотеки название «Болотная» для нашей улицы, мог быть доволен — он своего добился. Пацаны с Береговой дразнили нас болотниками, лягушатниками и головастиками.
Это было изумительное нахальство. Нахальство, лишавшее дара речи.
Мы враждовали с береговыми. Правда, сам я, по малолетству, не участвовал еще в опасных рейдах, в форсированиях Абушки на бревнах и крышках от погребов, но горячо переживал все известия, поступавшие с театра военных действий.
Как-то раз, однако, попал и я в жаркое дело.
В тот день, слоняясь по улице, я набрел за сараем на приемного сына кума Егора Дорофеева Кешку — главнокомандующего всеми вооруженными силами улицы Болотной. Кешка сидел в полном одиночестве и потрошил окурки, намереваясь, как видно, свернуть себе папироску. Я почтительно остановился рядом. Между мной — пограничной собакой и Кешкой — главнокомандующим была огромная дистанция, не позволяющая мне даже сидеть в его присутствии. Кешка сам снизошел до беседы со мной. Он сказал, что прячется здесь от отца, что, наверное, долго еще будет прятаться, а может, и вообще домой не вернется. Потому что отец пообещал, — если поймает Кешку, — наступить ему на одну ногу и за другую разорвать.
Польщенный таким доверием, я сказал:
— А у нас тоже… когда полы моют, домой не пускают.
— Полы — это что, — вздохнул Кешка.
Мы еще маленько посидели за сараем, съели мой сухой паек — две печеных картофелины, покурили горькую Кешкину папироску. Потом он предложил:
— Айда с береговыми воевать.
Силы были неравны. На левом берегу Абушки бесновались наши многочисленные противники. Позицию на правом удерживали только мы двое.
Береговые перемазались для устрашения жирной мазутной тиной, они орали, кривлялись и обстреливали нас комками грязи.
Худой и длинный Кешка хватал, что под руку попадет, — а попадались обломки кирпича, галька — и вел ответный огонь, не густой, но прицельный.
Я, превысив полномочия пограничной собаки, тоже пытался «стрелять».
Но мои камешки падали, не долетев до середины речки, в то время как Кешкины голыши со свистом секли мелкий кустарник на том берегу.
Один из бросков достиг цели — камень попал в голову пацану с Береговой.
— Драпаем! — крикнул Кешка и, пригибаясь, кинулся в пустые осенние огороды.
— Кешка, попадет нам, а? — спрашивал я на бегу
— Посадят, — обернувшись, сказал Кешка. — Если найдут…
Сердце мое бултыхнулось и заскулило где-то в самом низу живота.
Не знаю, куда убежал Кешка. А я спрятался в полыни, росшей на меже нашего огорода и огорода соседки тёти Нюры.
Может, я просидел бы там до вечера, если бы не увидел вдруг из своего убежища, как прямо к нашему вроде бы дому шагает какой-то дядька — в гимнастерке и с полевой сумкой через плечо.
Случайного дядьку этого я принял за милиционера, выполз на четвереньках из ненадежной полыни, убежал — маленький и преступный — за крайние дома улицы и залег там и старом песчаном карьере.
Разыскала меня управившаяся с делами мать.
Путь обратно оказался еще более невеселым. Всю дорогу мать подгоняла меня прутом, ругала мучителем и чертом вислоухим.
Этот случай, к тому же, послужил причиной окончательного распада нашего некогда большого и разветвленного семейного клана.
Дома мать напустилась на бабку Акулину.
— Сидишь целый день, палец о палец не стукнешь, — с обидой говорила она. — За ребенком доглядеть тебе трудно… А если бы его там песком засыпало?
Бабка нюхала табак, трясла головой и отругивалась чудовищными словами:
— Я твоим щянкам не сторож. Таскяй их, как сучкя, за собой…
Мать возмущенно всплескивала руками, кричала:
— Да ты чей кусок-то ешь?! Тебя почему дочки-то твои, кобылицы гладкие, ни одна не взяла, а сноха — дурочка рязанская, голотёпа неумытая — приняла да кормит-поит?!
Пришел младший брат отца, бабкин любимец, дядя Паша. Кажется, мать и ему что-то сказала. Дядя Паша вдруг схватил мать за плечи и толкнул на кровать. Мать упала и «обмерла».
Дядя Паша испугался содеянного.
— Вот психоватая, — сказал он, растерянно улыбаясь. — Ну и психоватая…
Возможно, все еще и утряслось бы как-нибудь, но вмешалась бабка — максималистка в семейных ссорах. Она выскользнула в сенцы, вернулась с маленьким железным топориком и, протягивая его дяде Паше, закричала:
— Павло, руби ей голову!..
У дяди Паши не выдержали нервы. Он схватился руками за волосы и, чертыхаясь, убежал вон.
— Пришел с работы отец, хмуро выслушал бабку, поглядел на мать, все еще лежавшую на кровати, решил, видать, что без пол-литры здесь не разберешься, и отправился за таковой. Возвратился он довольно скоро — но с четвертинкой. По чуть отмякшему лицу его можно было понять, что первую четвертинку он приговорил самостоятельно, возле магазина.
Отец сидел, положив огромные коричневые кулаки на выскобленную добела столешницу. Между ними стояла непочатая четвертинка. На полу, возле ноги отца, — помойное ведро с переброшенной через край тряпкой. Мне трудно судить о намерениях отца. Можно, однако, предположить: он ждал дядю Пашу, чтобы по-братски, за рюмкой водки, разрешить с ним этот семейный конфликт. Иначе — зачем бы ему хранить вторую бутылочку?.
И дядя Паша пришел.
Наверное, он долго к этому готовился, обдумывал, что лучше сказать, собирался с духом, а может, выпил даже для храбрости, как отец. Во всяком случае, дядя Паша вошел гоголем. Он вошел, отставил ногу и, подрыгивая коленкой, гордо сказал:
— Ну что, оживела твоя психоватая? Отец взорвался.
Он схватил ведро и молча швырнул его в дядю Пашу.
Ведро, чиркнув по потолку и осыпав отца известкой, расплющилось о косяк.
Просчитавшийся дядя Паша бежал вторично — и навсегда.
Отец окинул бешеным взглядом комнату, сгреб ведерный бабкин самовар и выбросил его в окно.
Шарахнулись чьи-то куры, пригревшиеся в песочке под окном, и с кудахтаньем полетели вдоль улицы.
— Тррах! — в другое окно, вышибая раму, отправился кованый сундук с пожитками бабки и дяди Паши.
Только два окна и было в нашей засыпухе… У меня эта сцена отпечаталась в памяти какой-то замедленной.
Долго-долго, как рассыпавшаяся ракета, падают мелкие оконные стеклышки… Долго-долго летят куры, теряя перья… Долго-долго стоит на противоположной стороне улицы остолбеневший от изумления кум Егор Дорофеев.
Кума Дорофеева событие это, как выяснилось, потрясло не на шутку. Он как раз шел домой, находясь, по обыкновению, крепко под газом, и вдруг увидел, что из окна самохинской хаты вылетает хороший медный самовар. Не успел кум сморгнуть, как из другого окна вылетел еще один самовар. За второй самовар Дорофеев принял сундук, и с этим убеждением не расстался, по-моему, до конца дней своих. Во всяком случае, я сам не раз слышал, как подвыпивший кум допытывался у отца — почему тот однажды кидался самоварами?..
Болотная заняла немного места в моей жизни. Зато всё, что случилось там со мной, — случилось впервые. На Болотной я увидел первых красноармейцев. Они маршировали, кололи штыками чучела и рубили лозу на большой поляне за песочным карьером. Однажды красноармейцы «захватили» улицу, и человек пять из них расположились отдохнуть возле нашего дома.
— Эй, пацан! — позвал меня один. — У тебя отец курит?
— Курит.
— Сбегай — попроси у него табачку.
Отца не было дома, но я, опасаясь, что это будет принято за отговорку, решил для надежности соврать (тоже впервые).
— А у него нет, — буркнул я, потупясь. — Он сам стреляет.
Расплата за ложь последовала немедленно.
— Ай да папаша у тебя! — засмеялись красноармейцы. — Ну и орел!.. Стреляет, значит? Он что — всю жизнь стреляет? Небось, уже ворошиловский стрелок!..
На Болотной получил я первое прозвище «Мышь копченый» и первую в жизни должность — пограничной собаки. Впервые дрался, впервые испытал страх перед законом, искурил первый «бычок», съел первое яблоко.
Впрочем, первое яблоко я не съел. Как и второе. Получил я первое яблоко, когда мне исполнилось шесть лет.
С этим яблоком в руках я вышел на улицу.
А на улице как раз готовилось большое сражение, шло, и связи с этим, деление на «синих» и «красных» и раздавались командные чины. Должность Клима Ворошилова захватил Кешка Дорофеев. Разобраны были также Чапаев, Буденный, Щорс, Стенька Разин и Амангельды Иманов.
Увидев меня с яблоком, Кешка подошел и сказал:
— Дай сорок. А я за тебя заступаться буду. Я доверчиво протянул ему яблоко.
Бессовестный Кешка, пользуясь тем, что я не знаком с дробями, откусил не сорок, а шестьдесят процентов.
Затем «сорок» потребовали Чапаев, Буденный, Щорс и Стенька Разни. Чапаев при этом обещал взять меня к себе Петькой-пулеметчиком.
Прежде, чем дать «сорок» предводителю «синих» Стеньке Разину, я быстро откусил сам, а ему протянул огрызок.
— Подавись ты им, жмот! — обиделся Стенька и запустил огрызком мне в лоб.
В ту же секунду верный союзническим обещаниям Кешка-Ворошилов опрокинул атамана наземь.
«Синие» бросились на выручку своему предводителю. Завязалась схватка, из которой я, несмотря на свой нейтралитет, выбрался с разорванной штаниной, оцарапанным коленом и подбитым глазом.
Ровно через две недели мне снова исполнилось шесть лет, и мать дала мне еще одно яблоко.
Здесь требуется маленькое пояснение. Дело в том, что мать не помнила точно, по какому стилю она меня родила. То ли по новому, а в сельсовете записали по старому, то ли — по старому, а запись, наоборот, сделана была по новому. Словом, до шестнадцати лет мне, на всякий случай, отмечали день рождения дважды в году.
Итак, опять я появился на улице с яблоком.
Кешка Дорофеев поднялся с бревнышек и уверенно двинулся за данью. Он даже ничего не сказал мне, только повелительно разинул рот.
Но я показал Кешке фигу, а руку с яблоком спрятал за спину.
Кешка растерялся. Это был, пожалуй, первый случай неповиновения за всю историю его крутого единовластия на улице.
— Ах, ты такой стал? — спросил он. — Такой, да?.. Такой?..
Тем временем Амангельды Иманов предательски подкрался с тылу и вырвал у меня яблоко.
Амангельды, хотя и учился уже в первом классе, ростом был меньше меня, и догони я его — пришлось бы Амангельды тошно. Но мне во фланг разом ударили Чапаев и Котовский.
«Красные» и «синие» действовали на этот раз исключительно дружно, а вели себя как настоящие «зеленые». Легко выиграв этот неравный бой, они уселись на бревнышках, стали по очереди кусать мое яблоко и меня же обзывать разными обидными словами.
Дома я подвел невеселый итог. Проявленная щедрость принесла мне одну разорванную штанину, одну ссадину на колене, один синяк и шаткую надежду занять должность Петьки-пулеметчика. Жадность — три синяка, расквашенные губы, почти полностью утраченные штанины и — никаких надежд. Вдобавок Амангельды Иманов набил землей мою фуражку и зашвырнул её на крышу сарая…
Несколько слов про Аульскую. Несколько слов, потому что вся речь о ней впереди.
Аульская тянулась в один ряд вдоль длинного, изрезанного оврагами, косогора. Косогор сбегал в обширную согру, за которой тускло поблескивали добротные цинковые крыши куркульского форштадта. На форштадте жили коренные старокузнечане — люди обстоятельные и богатые. Рабочий класс существовал выше — в бараках и немногочисленных двух- и трехэтажных коммунальных домах.
На Аульской же ютился люд вербованный, перелетный: уборщицы, коновозчики, сторожа, сапожники.
Мы перебрались на Аульскую осенью сорок первого года. Улица строилась лихорадочно, с такой же поспешностью, с какой отрываются окопы и траншеи. Поджимала война, и было не до архитектурных излишеств. Кто успевал до повестки — возводил все четыре стены и сооружал над ними двускатную крышу. Но успевали немногие. Чаще просто выкапывали в косогоре яму, к образовавшейся земляной стенке пригораживали три других, закрывали односкатной крышей — и получалась сакля.
Строили по воскресеньям, стучали молотками до свету, и короткие обеденные перерывы и вечерами, после заката солнца. Случалось, кое-где работали и ночью — при свете костра. Это означало, что утром из дома, возле которого всю ночь полыхал костер, выйдет его хозяин — с тощим вещевым мешком за плечами. А рядом, неумело держась за локоть, будет семенить осунувшаяся, ставшая вдруг будто бы ниже ростом жена.
Иногда эти сигнальные костры загорались сразу в нескольких местах…
Вспыхнул такой костер однажды и возле нашего дома…
Семейное окружение
Отец мой был, как говорится, природный пахарь. Но пахал, сеял, косил и молотил он до моего рождения, а сразу после этого события завербовался в рабочие. Я, таким образом, родился на стыке двух разных социальных положений отца. Эта неопределенность долго еще потом смущала меня и озадачивала. Заполняя многочисленные анкеты, я всегда останавливался в растерянности перед графой «происхождение», не зная толком, что же туда вписывать. Иногда я писал «из крестьян», иногда — «из рабочих», а однажды в отчаянии поставил даже — «рабоче-крестьянское». Чувствовал я себя при этом не то скрывающимся поповичем, не то мелкопоместным дворянином. А поставить прочерк или, допустим, знак вопроса у меня не хватало духу. Да это было и небезопасно. С одним моим школьным товарищем произошел такой случай: впервые столкнувшись с анкетой, он вспомнил, что папа его в момент рождения сына отбывал очередное справедливое наказание в местах не столь отдаленных. А до появления сына, как, впрочем, частично и после него, папа промышлял квартирными кражами. И вот, чтобы не вести свое происхождение от домушника, товарищ написал в анкете: «От обезьяны». И хотя это не противоречило в целом нашему материалистическому мировоззрению, товарища долго потом воспитывали на заседаниях комсомольского бюро, на общих собраниях, приводили этот факт, как пример хулиганства и надругательства, в отчетных докладах.
Я не обижаюсь на родителя за неясность моего происхождения. Если он и виноват, то в другом. Вскоре же после моего рождения отцу представлялась возможность круто, и главное — легко, повернуть свою биографию. Я мог бы вырасти в семье и более обеспеченной, и более культурной.
Дело в том, что отец по тем временам считался человеком грамотным. Он окончил четыре класса церковноприходской школы, причем в последнем классе провел два года. Отец не поладил с батюшкой, преподававшим закон божий. То есть, сам закон он усвоил изрядно, но батюшка прознал стороной, что в церковь его ученик ходит не молиться, а байбачить. (Отец и его дружки тискали в темпом притворе девок, а когда церковный служка обходил верующих с подносом для приношений, норовили погромче брякнуть о поднос медным пятаком и схватить гривенник сдачи.).
Батюшка, справедливо решивший, что теория, не подкрепленная практикой, мертва, на экзаменах вывел отцу неуд и оставил на второй год.
Зато инженера товарища Клычкова, руководившего ускоренными курсами мастеров сталеварения, давний конфликт отца с русской православной церковью не смутил, Товарищ Кличков, сам молившийся только на индустриализацию, видел в отце, прежде всего, крепкого молодого мужчину, знакомого не только с четырьмя действиями арифметики, но даже с простыми дробями. И такой ценный человек, лениво посвистывая, разъезжал на лошадке, между тем как добрая половина учеников товарища Клычкова едва-едва умела читать и писать.
Инженер подкарауливал отца во время обеденного перерыва, хватал за полу железного дождевика и, посадив рядом, угощал кефиром.
Иди ко мне, Яков Григорьевич, — звал товарищ Кличков. — Я из тебя мирового мастера сделаю. Не век же тебе кобыле хвоста крутить.
Он заманивал отца в мартеновский цех и, льстиво заглядывая в глаза, рисовал перспективу.
— Сегодня ты мастер, — говорил он, — а завтра, глядишь, начальник участка… А там — начальник цеха… A там — половиной завода заворачивать начнешь!.. Какие твои годы…
Отец пятился от слепящего металла, царапал негнущимися пальцами ворот рубашки и бормотал:
— Ну его к такой матери… Жарко здесь… Айда на волю.
Он так и не дал себя уговорить — остался на всю жизнь коновозчиком. По трем великим стройкам прогромыхала его телега — по Кузнецкому металлургическому комбинату, Сталинскому алюминиевому заводу и знаменитому Запсибу.
Эта работа давала возможность только-только прокормиться, но зато оставляла отцу его свободу.
Тем не менее, как только отец обнаружил, что сын превзошел его в грамотности — а случилось это, когда я познал недоступные ему десятичные дроби, — для меня он стал мечтать о несвободе.
Обычно это происходило дважды в месяц, в дни получки и аванса, когда отец распивал традиционную бутылочку со своим дружком дядей Степой Куклиным. После четвертой рюмки они начинали хвастаться сыновьями. Дядя Степа, бывший в молодости неотразимым и безжалостным сердцеедом, видел в сыне повторение себя.
— Красивый растет, заррраза, — говорил он, со злобной одобрительностью скаля зубы. — Уже волосы начинают курчавиться. Вот здесь, над ушами. Как у меня. У-ух, девок будет шерстить, подлец!..
Отец, не имевший возможности похвалиться моей курчавостью, упирал на иные качества.
— А мой Миколай — голова! — кричал он, придвигаясь к дяде Стёпе. — Башка!.. Вот погоди маленько — он себя покажет. Придет к нам на конный двор — и Старкова побоку… (Старков был начальником конного двора). А что ты думаешь? Спихнет. Какая у Старкова грамотешка? Три класса, четвертый — коридор… А там — дальше-больше — в трест придет: Вайсмана побоку!.. А там — глядишь — в райком, заместо Косорукова… А там — в горком!
Почему-то, в представлении отца, ни одну из этих должностей я не мог занять мирным путем, а непременно должен был кого-нибудь спихивать, сковыривать, давать кому-то по боку и по загривку.
Может быть, опыт убеждал его в том, что начальники добровольно не уходят, а здоровое пролетарское чутье подсказывало, что менять их время от времени надо? Не знаю. Во всяком случае, по отношению ко мне это выглядело нечестно: сам-то папаша умыл руки раз и навсегда. Почему же мне надо было спихивать этих озабоченных людей и занимать их должности?
Нет, я не собирался ни в трест, ни в горком.
И вообще, если уж честно признаться, я больше всего мечтал стать Ходжой Насреддином.
Но мои личные планы никого не интересовали. Такова уж горькая детская доля.
Ребенок не успевает еще износить и пары собственных сапог, а уж долг его перед семьей и человечеством достигает невероятных, циклопических размеров.
Все от него чего-то ждут.
Отец хочет видеть его министром или, по меньшей мере, директором завода.
Дядька рассчитывает, что он станет звездой футбола, будет ездить по заграницам и привозить родственникам — в том числе и ему, дядьке, — дорогие подарки, хотя сам он вот уже полгода не может подарить племяннику клятвенно обещанные цветные карандаши.
Дедушка, грея возле печки ногу, простреленную во время первой мировой войны, твердит: генералом, генералом…
В детстве я прочел где-то слова «семейное окружение» и понял их так: многочисленные родственники, вооружившись, кто чем попало, окружают маленького испуганного пацана, требуя немедленной капитуляции. Кольцо сжимается, несчастную жертву вот-вот схватят и примутся нарасхват отрывать уши.
Оказалось, я был недалек от истины. Такое окружение, действительно, существует, только вооружены окружающие не обязательно одними ремнями и скрученными полотенцами. У них в руках положительные примеры, нравоучения, воспоминания о собственном непорочном младенчестве, запреты и требования.
Из семейного окружения, точно так же, как из любого другого, вырваться очень трудно. Оно же с готовностью расступается и пропускает извне кого угодно — любою знатока детской души с его догмами, в которые никто из окружающих давно не верит, но все считают, что в них необходимо заставить поверить ребенка.
При этом, — если ребенок вырастает достойным человеком, — семенное окружение все заслуги приписывает только себе. Если же, несмотря на соединенные, а вернее — разъединенные и противоречивые усилия, из него получается-таки негодяй, виноватыми остаются школа, улица, милиция, государство, врожденные пороки воспитуемого — по не семейное окружение. «Ах, мы учили его только хорошему!» — в один голос твердят дядьки, тетки, дедушки и бабушки, искренне не понимая того, что от постоянных «пирожных» даже ангела может потянуть на "пиво и селедку".
Словом, окруженный должен, в первую очередь, полагаться на собственные силы. Ребенок, если он не совершенный кретин и не подлиза, может более или менее сносно просуществовать внутри ревнивого кольца родственников. Он сумеет даже, решительно действуя на стыках, вырываться иногда за пределы его и, официально числясь окруженным, совершать самовоспитательные рейды за спиной противника.
Мне в этом смысле, можно сказать, повезло. Мечта отца не была очень навязчивой. Как правило, пропустив еще по рюмке, они с дядей Степой меняли тему. Дядя Степа, уронив на руку голову в редких кольцах русых волос, надрывно запевал:
Пишут мне, что ты сломала ногу! А пач-чему ты не сломала две-э?!Отец невыразительно и бесцветно, думая уже о чем-то другом, еще несколько раз повторял: «А там — горком… хм, горком…» — и забывал о моем будущем до следующей получки. Вообще, эти короткие приступы родительского честолюбия были того же сорта, что и, например, мечта отца переселиться в таинственный город Талды-Курган, которой он загорался время от времени.
— Вот бросим всё и уедем! — говорил он, возбужденно блестя глазами. — Завтра же заколочу окна, в такую голову!.. А чего тут высиживать? Там люди по яблокам ходят.
В обычные же дни, в промежутках между своими загораниями, отец был молчаливым, хмуро-отрешенным человеком. Он ходил на работу, копал огород, чистил глызы в пригоне, подшивал нам, ребятишкам, валенки — делал, словом, все то же, что и другие, но жизнь, казалось, обтекала его.
Чем бы отец ни занимался, глаза его оставались сосредоточенно-пустыми, словно повернутыми вовнутрь, а губы были сложены трубочкой, как будто он беззвучно насвистывал. Что он там рассматривал, в глубине своей души? Какие мелодии неслышно слетали с его губ?
Отрешенность отца была просто анекдотичной.
Помню, однажды майским днем я бежал из школы. Отец догнал меня на парс своих «монголок».
— Прыгай, Миколай, подвезу! — крикнул он, натягивая вожжи. — Из школы?
— Ага, — кивнул я и похвастался: — Кончили занятия. С завтрашнего дня — каникулы. Уже и табеля выдали.
— Перевели, значит? Молодцом! — похвалил отец. — Это в какой же ты класс нонче перешел?..
Теперь, когда я вспоминаю тот давний случаи, меня даже охватывает своеобразная гордость. Вряд ли, думаю, на свете отыщется еще десяток людей, которые могут похвастаться столь редкостными папашами.
Такой же беспредельной была непрактичность отца, или, вернее, — равнодушие к выгоде для себя.
Наверное, даже угроза потопа, землетрясения или другой какой катастрофы не смогла бы заставить отца искать, где лучше.
Осенью сорок второго года его взяли на фронт. Это уже было время, когда новобранцев не бросали в бой прямо из теплушек, а сначала мало-мальски учили военному делу.
На первых же стрельбах у отца выявился талант — он положил все три пули точно в десятку. Вечером в землянку пришел незнакомый лейтенант, выкликнул отца и спросил — не хочет ли он пойти в школу снайперов?
— Никак нет, не хочу! — ответил отец, не утруждая себя и секундным раздумьем.
Тогда лейтенант велел отцу садиться, сам присел на краешек пар и стал его уговаривать. Отец слушал, рассеянно глядя перед собой, слова лейтенанта влетали ему в одно ухо и легко выпархивали из другого.
Лейтенант перебрал все доводы, начал приводить уже вроде бы неположенные: дескать, чего упираешься, чудило? Там ведь, на фронте, между прочим, убивают. А в школе перекантуешься какое-то время — все отсрочка. Да и потом шансов больше уцелеть: все же снайперов так не косят, как рядовую пехтуру… Наконец, видя, что уговоры отца не прошибают, лейтенант вспылил:
— Да куда ты спешишь-то, дурья башка?! Боишься — без тебя Берлин возьмут?
— Так точно, — ухватился за эту мысль отец. — Опасаюсь — вдруг без меня.
— Долго опасаться придется! — сказал лейтенант и вышел, хлопнув дверью.
Через несколько месяцев под одной деревенькой осколками мины отцу раздробило кисть левой руки.
Тот лейтенант был прав — пехоту на войне выкашивало быстро.
Изуродованная рука была последним шансом отца преуспеть в жизни. В условиях послевоенного дефицита на мужчин, возвратившиеся фронтовики уверенно занимали средние начальственные высоты, вышибая окопавшихся на них белобилетиков и тыловых жучков. Отцу были предложены на выбор три должности: бригадира, завскладом и начальника ВОХР объединенного к тому времени гужтранспортного хозяйства.
Отец отказался от всего.
Он выучился запрягать лошадь одной рукой и поехал по жизни в прежнем качестве.
В общем, на том отрезке окружения, который надлежало удерживать отцу, я мог маневрировать сколько угодно. Что я и делал. Закончив семилетку, я собрался в мореходное училище и объявил дома о своем решении. Но потом передумал и поступил в металлургический техникум.
Отец долго удивлялся: почему я не ношу морскую форму? То, что от города Сталинска до ближайшего моря — четыре тысячи километров, его ничуть не настораживало.
Я бросил техникум и снова пошел в школу, получил аттестат зрелости, уехал в другой город и однажды заявился домой на каникулы в форме студента водного института.
Отец, решивший, что видит перед собой флотского офицера, одобрительно сказал:
— Все же добился своего?.. Молодцом!
Дядьки мои были людьми веселыми и беспечными. Дядя Паша (они после того самоварного погрома скоро помирились с отцом, хотя вместе жить больше не стали) поднимал меня высоко над головой и, указывая на пролетающий аэроплан, спрашивал:
— Будешь летчиком, Колька?
— Нет, — отвечал я, — боюсь. — А чего ты боишься?
— Полечу над Абушкой — упаду и утопну. Дядя Паша хохотал:
— Ну, утопнуть не утопнешь, а перемажешься — это точно! — И отступался от меня.
Я и сам знал к тому времени, что в Абушке утонуть невозможно, но такой отпет был лучшим способом отвязаться от осоаивахимовца дяди Паши.
Совсем молодой дядя Ваня — брат матери — был так занят ухаживанием за своей тоненькой пухлогубой невестой, что вовсе меня не замечал.
Гости, приходившие в наш дом, твердили в один голос:
— Ну, этот артистом будет!
В то время, перед войной, к нам часто приходили гости. Они снимали пиджаки, рассаживались — нарядные и оживленные — вокруг стола, шумно спорили о чем-то и пели песни:
По военной дороге Шел в борьбе и тревоге Боевой восемнадцатый год…Находилось дело и для меня. Я взбирался на табуретку и читал стихи про генерала Топтыгина.
— Артист, артист! — одобрительно говорили гости и бросали в мою глиняную кошку-копилку серебряные монетки.
По однажды к нам пришел третий дядька — дядя Кузя. Они о чем-то пошептались с матерью, а потом посадили меня напротив, и мать сказала:
— Вот дядя Кузя просит у тебя денег взаймы. Ты как — выручишь его?
Я тебе их верну, — заторопился дядя Кузя. — С добавкой верну.
Кошечку ударили молотком — и горка серебра рассыпалась по столу.
Дядя Кузя уважительно присвистнул:
— Ай да Никола! Какие деньжищи скопил!.. Быть тебе наркомом финансов.
Предсказание его, конечно, не сбылось. Сам же дядя Кузя этому способствовал. Целый год он рассчитывался со мной конфетками и мороженым и так развратил меня, что я до сих пор предпочитаю конфетку во рту гривеннику на сберкнижке.
Естественно, что при таком странном, не от мира сего, папаше и таких ненастойчивых родственниках семейное окружение осуществляла у нас преимущественно мать. Ей приходилось удерживать весь огромный фронт, протяженностью от наших попыток утонуть в речке до намерений бросить школу, не доучившись до пятого класса. Конечно, в такой напряженной обстановке матери некогда было прогнозировать наше будущее. Все её надежды и упования сведены были поэтому к минимальной программе: лишь бы по тюрьмам не пошли.
В основном мать вела ближний бон, используя для этого подручные средства: ремень, мокрую тряпку, бельевую верёвку, веник-голик, резиновую калошу, сковородник и валенок. Ежедневно, в среднем, две с половиной лупцовки приходились на старшую сестру, полторы — на меня и одна четвертная — на младшего брата. Столь неравномерное распределение объяснялось тем, что зa провинности младшего брата чаще попадало нам, как недоглядевшим.
Казалось бы, эти непрекращающиеся бои местного значения должны были отнять у мамаши все силы. Тем не менее, когда она сталкивалась не с рядовым нашим озорством, когда ей мерещилась опасность нравственного падения, она умела превратиться в незаурядного стратега, Я до сих пор дивлюсь тому стихийному таланту воспитателя, который мать — почти безграмотная, никогда не читавшая книг женщина — обнаруживала в иные моменты.
Однажды мы с товарищем принесли домой маленький аккуратный топорик.
— Где взяли? — насторожилась мать.
— Нашли! — похвастались мы и взахлеб принялись рассказывать: — Мы идем, да… глядим, да… он лежит!
— Ну-ка, ну-ка, где же это он лежал? Мы объяснили — где.
У всех на нашей улице огороды спускались к согре. Здесь, на границе с согрой, многие выкапывали ямки-колодцы для полива. Вот возле такой замерзшей уже и продолбленной ямки и лежал полузасыпанный снегом топор.
— Ах, вражьи дети! — всплеснула руками мать. — Вы же его украли!
Мы позволили себе не согласиться. Даже обиделись: как это так? Ямка — вон где, а топорик вовсе сбоку лежал, шагах в пяти.
Тогда мать стала задавать нам вопросы: приходилось ли нам видеть, чтобы топоры росли на деревьях? падали с неба? вылуплялись из яичек?.. Не видели. Та-ак… Значит, это чужой топорик. Кто-то смастерил его. Или купил в магазине. А мы украли. И выходит — мы воры. Самые настоящие.
— А теперь, сынки мои милые, — сказала мать жестким голосом (это она умела — говорить ласковые слова жестким голосом), — теперь, голуби ясные, ступайте обратно и положите его на место. Да глядите у меня, если встретите там, возле ямки, дяденьку или тетеньку, скажите им: дяденька, мол, или тетенька, мы топор ваш украли — возьмите назад. Укра-ли! Не нашли, а украли. Слышите? А я потом схожу — проверю: так ли вы сказали.
Что красть нельзя, мы знали. Вернее так: мы знали, что красть опасно.
Мне приходилось даже видеть, как бьют воров.
Первый раз это был голодный ремеслушник. Его поймали рано утром в огородах возле заводских бараков. Поймали ремесленника женщины и, наверное, давно уже били, потому что, когда я поравнялся с толпой (я бежал в магазин за хлебом), они как раз перестали махать руками и стояли вокруг него, разгоряченно дыша. Было очень тихо.
Из-за крыш бараков настороженно выглядывало маленькое и неяркое, затушеванное туманом солнце.
Четыре вывороченных куста картошки увядали на краю огорода.
У ремеслушника были остановившиеся неживые глаза, штаны с него сползли, открыв синий живот и тощие ягодицы, из носа на подбородок текло красное. Он медленно покачивался.
В этот момент в круг протиснулся подоспевший к шапошному разбору единственный мужичонка — маленький, щуплый, востроносый. Видать, он слышал где-то о том, как расправляются с ворами настоящие сильные мужчины: поднимают над землей и с маху сажают на копчик. И ему захотелось показать перед бабами свою силу, а ее не было. Мужичонка брал ремеслушника под коленки, поднатужившись, чуть-чуть отрывал от земли и ронял… Отрывал и ронял… Отрывал и ронял…
На лице его дрожала гадостная виноватенькая улыбка: погодите, дескать, маленько, сейчас еще разок спробуем, может, получится…
В другой раз били Кольку Хвостова с нашей улицы.
Колька был уже не мальчишка, а парень, но слабоумный малость: нигде не работал, не учился, пакостил соседям, и мать с отцом плакали от него слезами.
Он стянул что-то из сеней у многодетной солдатки тёти Поли и был схвачен.
Его тоже поймали женщины. Они вели Кольку, растянув за руки, вдоль улицы, а навстречу, из-под горки, бежал от своего дома сосед тети Поли Алексей Гвоздырин, оказавшийся в этот день не на работе. Гвоздырин набежал на Кольку и стал хлестать его справа и слева своими черными кулачищами.
Он так усердствовал, что даже сама обворованная тетя Поля закричала:
— Алексей, будет!.. Алексей, не надо!.. Господи, да что же это!
Видеть такое было страшно. Страшно до подсекания ног, до тошноты. Однако не воровство при этом казалось отвратительным. Наоборот, воры вызывали жалость и сочувствие.
Но, господи! — до чего стыдно было нести обратно топорик, после того как мать убедила нас в преступности содеянного!
По улице идти вообще не решились: казалось, что из каждого полузамерзшего окошка на нас смотрят чьи-то глаза. Мы спустились вниз и, утопая в снегу, пошли целиной вдоль огородов. Рядом, между прочим, вилась тропка, но и она теперь была не для нас. Полчаса назад от колодца, гордо помахивая находкой, шагали честные люди. Теперь крались назад воры.
Мы горбились, втягивали головы в плечи, поминутно озирались, хотя вокруг не было пи души.
Последнюю стометровку вовсе ползли, зарывшись в снег по самые ноздри.
Подползти к яме мы так и не осмелились. Когда до нее осталось метров десять, кинули топорик швырком и, вскочив на ноги, во весь дух припустили от проклятого места…
Вот итоги семейного окружения.
Матери я обязан тем, что не пошел по тюрьмам. Это было главной ее заботой, о чинах и богатствах для нас она не мечтала, и до сих пор основным достоинством детей считает то, что они, по крайней мере, едят некраденый хлеб.
Отец не следил за своим участком фронта. Траншеи его осыпались, заросли лебедой и полынью. Как ни странно, я теперь благодарен ему именно за это. Я так и не научился спихивать, сковыривать и давать по боку. Отец сам не носил в солдатской котомке маршальский жезл, и ему нечего оказалось переложить в мой ранец.
В этом смысле ноша моя легка.
Войны и междоусобицы
Воевать я начал рано.
Взрослые еще жили воспоминаниями о прежних схватках. Еще отец мой на гулянках, зажмуриваясь и мотая головой, самозабвенно выводил:
Па-а-гиб на Мартовской заста-а-а-ве Чекист Павле-е-нко Михаил!А я уже сражался с «фашистами» и «самураями»… В качестве пограничной собаки, как сообщалось выше.
Не надо смеяться. Если мне за что-нибудь и следует поставить хотя бы малюсенький памятник, то, конечно же, за мою службу пограничной собакой. Потому что ни одну работу в жизни я не исполнял потом с таким рвением и с такой отдачей, как эту.
Войны мы вели всамделишные и многодневные. Заранее в разных концах улицы (это было еще на Болотной) возводилпсь снежные крепости в три пацанячьих роста — с башнями, бойницами, тайными лазами. Крепости обливались водой и дозревали потом на морозе.
По ночам, вооружившись лопатами, железными прутьями, стамесками, приползали вражеские диверсанты — ковырять стены недостроенных твердынь. Если охрана обнаруживала диверсантов, то первым на них бросался я — пограничная собака. Причем, по условиям игры, я не имел права подниматься с четверенек.
Диверсантов хватали. Заломив руки за спины, вели в неусыпно функционировавший штаб, там допрашивали, а затем расстреливали под стеною крепости заледенелыми снежками.
После такого расстрела многие диверсанты уходили домой, шмыгая разбитыми в кровь носами.
Слоном, на войне было как на войне. Настоящие строгость и дисциплина, настоящие герои и настоящие предатели, которых не приведи бог как валтузили свои и презирали чужие.
Были даже морально разложившиеся элементы, терроризировавшие мирное население.
У нас таким элементом числился Юрка Бреев, приемный сын дяди Паши. Юрка запихивал в карманы несколько перегоревших электролампочек, в самый разгар сражения сворачивал к своему немилому дому и бомбардировал его настывшие стены.
Лампочки лопались с ружейным звуком. На двор с кочережкой в руках выбегала разъяренная бабка Акулина, и под ее натиском рассыпались ряды атакующих. Кочережка подслеповатой бабки Акулины была неразборчива — доставалось и правым, и виноватым.
Юрку не отправляли в «трибунал» только потому, что он терроризировал свой, а не чей-нибудь дом. И еще потому, что конфликт его с бабкой Акулиной на улице уважали.
По-настоящему мы отмечали и свои победы.
Кешка Дорофеев выстраивал поцарапанное, задохнувшееся воинство в шеренгу, раскуривал папироску и, выкликая бойцов по одному, награждал генеральской затяжкой из своих рук.
— Михрюта! — командовал он. — Два шага вперед!
— Кыня!..
— Филипон!..
— Репа!..
— Шарыча!..
— Козел!..
— После сопливого не буду, — дерзко говорил Козел. (Мы уважали своего командира, но в принципиальных случаях держались независимо — каждый знал себе цену).
Кешка грозно ломал белесую бровь:
— Шарыча! Сопли ликвидировать!.. В двадцать четыре часа!
Он сам отрывал измусоленный кончик мундштука и вновь протягивал папиросу Козлу. Последним Кешка награждал меня.
— Копченый! — выкликал он, сокращая мое длинное прозвище, и я впервые за всю кампанию шел к нему на двух ногах.
Говорят, игра не доводит до добра. Мы так неистово играли в войну, в одну только войну, не признавая никаких других забав, что настоящая война, видимо, просто не могла не начаться.
Конечно, на самом деле это не так. Все наоборот: мы потому и играли в войну, что она давно уже грохотала в мире, неотвратимо катилась к нашему порогу. И все же, когда я теперь вспоминаю тогдашнюю нашу воинственность, она кажется мне страшным пророчеством, и я с невольным суеверием присматриваюсь: во что играют нынешние мальчишки?.. И, когда они всего-навсего гоняют шайбу или, забираясь по очереди в раздобытую где-то кразовскую покрышку, катают друг друга по двору, тренируясь на космонавтов, мне верится почему-то, что завтра опять наступит мирное утро.
Начало настоящей войны ознаменовалось тем, что вдруг исчезли веселые люди… До этого, точно помню, их было очень много: молодых, светлолицых, добрых людей моего довоенного детства. Они носили белые рубашки с подсученными рукавами и гимнастерки, смеялись, пели, ездили, стоя в кузовах трехтонок и полуторок, а над ними кружились маленькие аэропланы, рассыпая листовки.
Наверное, потому, что я был еще очень мал, мне трудно разделить их по лицам, голосам, росту. Они запомнились мне, как один человек, вернее — как одна майская демонстрация. Так, какое-нибудь далёкое-предалёкое лето остается в памяти одним солнечным утром, одним радостным ливнем или одной таинственной канавой с лопухами.
И вдруг их не стало. Исчезновение редких гостинцев — яблок, конфет, мороженого, обязательных пельменей по праздничным дням я обнаруживал чуть позже. А сначала пропали веселые люди.
И тогда заметнее стали люди плохие. На улице Аульской, куда мы переселились в начале войны, скоро все узнали имена уклонившихся от фронта «грыжевиков».
Самым ненавистным из них был Алексей Гвоздырин, живший от нас через один двор, тот самый, который однажды бил воришку. Непонятно, когда Гвоздь успел отстроиться на зачинающейся Аульской. Остальные еще спешно лепили свои хибары, а его изба уже стояла готовой. Лучшая на улице изба — крепкая, основательно врытая в землю, похожая на дот. В этом своем доте Гвоздь и пересиживал войну. Семейство его не бедствовало. У Гвоздырина был самый большой на улице огород, самая породистая корова — остророгая симменталка Красуля, самая пышнотелая жена — дурашливая и бессовестная тетка. Это она оповестила соседок про обнаруженный вдруг у мужа дефект.
— Ой, бабоньки-и-и! — пела она, радостно выпучивая светлые глаза. — А у мово-то Лексея грыжа!.. Кака-така грыжа — хоть бы посмотреть? Покажи, говорю, идол, а он не кажст… Ой-н, не знаю, чё теперь делать? Придется, однако, полюбовника заводить. Видать, теперь у Мареи отобью Аксеныча-то её, глуху тетерю. Марея, твой-то хоть как, без грыжи?
Казалось, Гвоздыриха нахально смеется в лицо хмурым соседкам, проводившим на фронт своих мужей и сыновей.
Сам Гвоздь был мужик очень крепкий. Сутуловатый, узкоголовый, он ходил наклонясь вперед — будто тянул за собой невидимый воз, — и напоминал чем-то упорного и злого коня.
Впрочем, и остальные грыжевики выглядели не слабее Гвоздырина. Круглолицый, черноглазый хохол по фамилии Брухо был невысок, но так прочно сколочен и такая у него была упругая кирпичная рожа, что, казалось, им можно забивать сваи.
Наш правый сосед дядя Петя Ухватов одной рукой ставил на телегу куль с картошкой так же легко, как хозяйка ставит на плиту чайник. Таких здоровых людей мне не приходилось встречать ни до, ни после. Как, наверное, все силачи, дядя Петя был смирен, добр и не предприимчив. Грыжу ему раздобыла его проворная жена тётя Дуся.
Все белобилетники работали на конном дворе и, если учесть, что бригадир их Балалайкин, длинный мужчина с маленькой кудрявой головой, тяготился такой же болезнью, — грыжевиков набиралось в аккурат бригада.
Кроме грыжевиков осталось на Аульской еще несколько мужчин, к фронту непригодных.
Инвалид финской войны, безногий Семен Ишутин. Семен был тихий человек, ездил на низенькой тележке с колесами из шарикоподшипников и торговал папиросами «Северная Пальмира». Тихим он, впрочем, пребывал до тех пор, пока не наторговывал себе на водку. Тогда Семен напивался, делался буйным, слезал с тележки и, упираясь одними руками, с таким проворством начинал гоняться за своей женой и дочками, что они в страхе разбегались по соседям.
Максим Аксенович Крикалин — старый, костлявый, глухой, как валенок. Его мы любили: за геройских сыновей (у Максима Аксеновича два сына были на фронте), за рыжие казацкие усы, за бравую выправку и за веселое враньё. Враль Максим Аксенович был несусветный. Видать, потому, что других он слышать не мог, сам поговорить любил, а все правдивые истории пересказал, когда еще был помоложе.
Анисима Ямщикова не взяли на войну за многодетность, глупость и врожденную зубную боль. Зубы у Анисима болели постоянно, он вечно ходил завязанный белым грязным платком, боль свою переносил стойко. Временами, однако, боль донимала Анисима, про что соседям тут же становилось известно благодаря жене его — здоровой, рыхлой, громогласной женщине.
— Ну, чё корежишься, чё ты корежишься! — разносился вдруг на всю улицу ее могучий голос. — Болят, что ли?.. Дак пополошшы водой! Вон на летней плите вода стоит тепла, возьми да пополошши!
На ямщиковском дворе воцарялась короткая тишина — Анисим, следуя совету жены, полоскал зубы. Но скоро голос Ямщичихи снова начинал содрогать плетни и оконные стекла:
— Ну чё опять косоротишься, чё косоротишься! Водой-то полошшишь? Не помогат?.. Да ты чё же, горе луково, глоташь воду-то? Ты пополошшы да выплюни! А ты глоташь — вот они и болят!..
Долгое время я считал, что из всех грыжевиков по-настоящему болен один дядя Петя Ухватов. Голова дяди Пети постоянно клонилась к правому плечу, в то время как огромный кривой нос был повернут в сторону левого. Из-за этого маленькие, серые, часто мигающие глазки дяди Пети смотрели жалобно, и дядя Петя казался очень несчастным. Между тем, нос его смотрел в сторону с рождения, а шею дяде Пети неопасно повредили в одной давней свалке. Дядя Петя как-то, на спор, вызвался бороться сразу с четырьмя мужиками и всех поборол. Только шею они ему маленько своротили.
Я про это тогда не знал.
А что дядя Петя здоров, как слон, выяснилось из другого.
Подошло время продлять Ухватову грыжу, и жена его, Дуся, прибежала к моей матери посоветоваться. Она отвернула край полушалка, показала отрез какой-то очень дорогой материн и спросила, что лучше: отдать кому-то там этот отрез или поросенка?
Мать сказала, что не знает, почем нонче грыжи.
— Ох, да кабы грыжа! — вздохнула тетя Дуся. — Моему-то погрозили вырезать. Вырежем, говорят, и — на фронт. А кого ему вырезать-то — подумай? — тетя Дуся хихикнула. — Нет, теперь, видно, насчет чахотки надо справку.
Не очень таились и остальные грыжевики. Брухо первое время ходил прихрамывая и плаксиво морщил лицо.
Но плаксивое выражение, во-первых, не личило Брухе — все казалось, что он дразнится. Во-вторых, ему великих трудов стоило наморщить свою физиономию — настолько туго была она обтянута лоснящейся кожей. Брухо уставал. Так что, поколотившись недели две, он снял маскировку.
Нахальнее всех держал себя бригадир Балалайкин. Его, как самого молодого и бездетного, женщины корили в глаза. Балалайкин только похохатывал, запрокинув голову и выставив кадык.
— Броня крепка, бабоньки, — говорил он. — Броня крепка, и танки наши быстры…
Чудовищный этот Балалайкин не стеснялся по праздникам ходить на гулянки. С гулянок у нас не принято было выгонять даже неприятных людей. Наоборот, подобревшие от бражки женщины даже потчевали Балалайкина, как единственного мужика, — следили, чтоб стакан его не простаивал порожним.
Балалайкин захмелев, пел песий:
Кони сытые бьют копытами — Разобьем под Сталинском врага!Город Сталинск находился рядом, за рекою Томью — и значит, Балалайкин собирался допустить врага аж сюда.
Инвалид финской войны Ишутин хотел однажды побить ему за это морду, но не дотянулся до верзилы Балалайкина со своей тележки…
Игра в войну кончилась. Больше не надо было изобретать врага: делиться на «самураев» и «наших» или хотя бы — когда не находилось желающих идти в «самураи» — всем вместе рубить полынь. Враг — живой, а не понарошку назначенный — оказался рядом, полынь же не стоило вырубать потому, что она стала теперь нашим партизанским лесом.
Первую операцию мы провели против Балалайкина и провели блестяще. Мы не объявляли ему войны. Балалайкин был хуже фашиста. Он не способен был щадить ни детей, ни женщин, и объяви мы ему войну открыто — Балалайкин просто переломал бы нам ноги.
Акция поэтому совершалась тайно.
Каждый вечер Балалайкин возвращался домой пьяным. Бригадирская должность позволяла ему угоститься на дурничку, и жадюга Балалайкин наливался водкой до остекленения. Шел он потом вслепую, тяжело давя землю сапогами сорок пятого размера, его бросало из стороны в сторону, гнуло пополам, но все же Балалайкин не падал, пока не спотыкался о собственный порог. Этой своей способностью Балалайкин очень гордился, выставлял её перед рядовыми коновозчиками как примерное качество, людей, которые ночуют по канавам, не уважал и хвастался, что сам может дойти вдребезину пьяный хоть из Китая.
Разработанная нами диверсия была проста до гениальности. Мы приблизили Балалайкину порог. В узком проулке между огородом инвалида Ишутина и забором строящегося Алюминиевого завода мы натягивали по-над землей тонкую стальную проволоку и, схоронившись в ишутинской картошке, ждали появления противника.
Балалайкин спотыкался о проволоку, падал и тут же засыпал.
Тогда из картошки выползали добровольцы — мочиться на сволочь Балалайкина. Дело это считалось не обязательным, к нему никого не принуждали, но охотники всегда находились. Ради этой сладостной минуты они с полудня экономили боеприпас. Между ними почиталось даже за особую доблесть накопить такого боеприпаса как можно больше, дотерпеть и обстрелять затем поверженного Балалайкина, не выказывая торопливости. И когда однажды младший из братьев Ямщиковых Юзя, не добежав до места, пустил очередь в штаны, командир наш, Васька Вагин, презрительно обозвал его самострелом.
Скоро у Балалайкина выработался условный рефлекс. Он стал падать в проулке, если даже проволока не была натянута. Мы сняли осаду, сохранив только небольшой отряд добровольцев, и сосредоточили свои силы на других участках фронта. Балалайкин теперь катился по наклонной без нашей помощи.
Коновозчики, видя, что он сравнялся по стойкости к выпивке со всеми остальными, перестали его угощать. Балалайкин закусил удила и, в надежде вернуть былую славу, продолжал пить на свои. Но даже его железный организм не смог пересилить науку. Условный рефлекс аккуратно валил Балалайкина под забор — каждый раз в одном и том же месте.
Только полтора месяца терпела такую жизнь молодая жена Балалайкина Зина. А потом собрала в узелок юбки и уехала назад к матери, в деревню Кузедеево.
Брошенный Балалайкин запаршивел вконец. Некому стало среди ночи затаскивать его в дом, обмывать, опохмелять рассолом, отпаивать горячим чаем. Грязный, загаженный, Балалайкин просыпался под забором в шесть утра, а к половине седьмого ему надо было уже появляться на разнарядку. Он почернел, одичал, кудри его свалялись. Коновозчики, сами навечно пропахшие конским потом, ременной сбруей, назьмом, брезгливо воротили от вонючего Балалайкина носы.
Кончилось тем, что Балалайкин исчез с конного двора.
А однажды утром и дом его обнаружен был заколоченным.
Победа наша была полной и окончательной.
Алексей Гвоздырин, в отличие от Балалайкина, знал, что против него открыт второй фронт. С Гвоздыриным мы вели затяжную позиционную войну.
Временами он даже переходил в наступление и добивался успеха на отдельных участках.
Гвоздырин, например, выкашивал в согре наши заветные полянки, а заодно разрушал шалаши — места тайных сходок.
Мы в ответ, не дав траве просохнуть, сгребали её в кучу, поджигали и бесновались возле костра до тех пор, пока Гвоздь не выскакивал из дома с кнутом в руках.
Мы рассыпались по кустам, мяукая и лая, заманивали ополоумевшего от злости Гвоздырина в глубь согры, а тем временем специальная ударная группа совершала глубокий рейд, выходила в тыл неприятелю и забрасывала его колодец бутылками с карбидом.
Гвоздырин, приведенный в отчаяние нашей неуловимостью, заводил собак, специально покупал их парами, чтоб могли они действовать дружнее и бесстрашнее.
Мы отправлялись на форштадт, к королю собачников кривому Пине и говорили, что знаменитый его волкодав Злодей нипочем не одолеет гвоздыринских псов.
Оскорбленный Пиня брал Злодея на поводок и вел стравливать с кобелями Гвоздырина.
Схватка обычно продолжалась недолго. Скоро Гвоздырин выбегал из дома с дрыном — отбивать своих полузадушенных собак.
Тогда Пиня, рванув на груди рубашку, кричал: «Не по правилам!» — и тоже выламывал из плетня кол. Превыше всего Пиня уважал справедливость, он готов был живот положить на алтарь ее…
Алексей Гвоздырин мог бы прожить тихо и неприметно, удовольствовавшись тем, что избежал фронта. Как жили, например, Брухо и дядя Петя Ухватов. Но кулацкая натура его не знала удержу. Гвоздырин неприлично богател.
Тучнела его жена, разрастался и благоухал его унавоженный огород, множилась скотина.
Никто не любил Гвоздырина, а он не замечал этого и своим хапаньем все больше и больше вызывал огонь на себя. Чужие телята, выйдя нз согры, наваливались грудью на плетень гвоздыринского огорода и старались дотянуться до капусты. Могучий плетень этот будил даже куриное воображение. Наш петух Гоша, как только мать выпускала его из курятника, немедленно скликал свое семейство и вел его прямиком в огород Гвоздыриных, минуя тощие грядки Максима Аксеновича Крикалина. Он шел, настырно вытянув худую шею; в круглом глазу его горела решимость ликвидировать кулачество как класс. Навстречу Гоше выступал сытый голенастый петух Гвоздырина — какой-то невиданной породы, с толстым бородавчатым гребнем. Начиналась ежедневная битва.
Грызлись наши собаки.
Бодались коровы.
Враждовали между собой наши квартиранты.
Гвоздырин подбирал себе жильцов бессловесных, затюканных — таких, словом, которые могли бы пахать на него.
Нам же доставался всё больше народ независимый и горластый. Гвоздыринских батраков наши постояльцы не уважали, при любом случае старались их подковырнуть и унизить.
Особенно отличался этим живший у нас одно время корявый гармонист Иван.
Иван выносил из дому табуретку, разворачивал на коленях гармонь и пел припевки, слова в которых специально переставлены были так, чтобы уколоть гвоздыринских квартирантов, а заодно и хозяина их — мироеда.
Противник недолго выдерживал беглый огонь частушек. Скоро во дворе появлялась жена Гвоздырина тетя Наташа и вступала в перепалку с Иваном — тоже иносказательно. У Гвоздыриных был рябой бычок, вечно пропадавший в согре. Тетя Наташа начинала вроде бы кликать бычка.
— Рябый, рябый, рябый! — звала она и, выдержав небольшую паузу, злобно взвизгивала: — Чёрт коря-я-я-вый!..
Тогда корявый Иван оставлял гармошку и произносил длинную обличительную речь. Он, во-первых, объяснял тете Наташе, какая она стерва; во-вторых, растолковывал, почему она такая гладкая; и в-третьих, сообщал, чего именно и сколько раз в сутки ей требуется, чтобы маленько растрясти жир.
— Ликсей! — голосила тетя Наташа. — Не слышишь, как твою жену суконят?
Алексей Гвоздырин выбегал из дома, на ходу подсучивая рукав.
Только этого момента и ждал корявый Иван. Он снова брал в руки гармошку и, негромко наигрывая, говорил приближавшемуся Гвоздырину:
— Ну, бежи, бежи!.. Бежи шибче, кулацкая морда. Щас я из тебя мартышку сделаю!..
Обычно Гвоздырин, покружив у нашей калитки, отступал. Он был храбрым только с пацанами, когда они бежали от него врассыпную. Маленький же Иван ждал его спокойно и насмешливо — и Гвоздь трусил.
У нас, мальчишек, Гвоздырин был объявлен вне закона. В любом праве мы отказывали ему, даже в праве защищать обиженных. И когда, например, Гвоздырин избил Кольку Хвостова за воровство у тети Поли, мы все равно отомстили ему: однажды ночью до последнего зелепутка выпластали огурцы.
Операция эта стоит того, чтобы поделиться ее опытом с грядущими мстителями.
Нам могли помешать здоровенные кобели Гвоздырина Полкан и Бровка. Это были нахальные большеротые твари, не дававшие проходу ни конному, ни пешему. Но мы знали их слабость и воспользовались ею. За несколько минут до начала операции Витька Кулипанов забрался на единственный тополек, росший на горке за домом Гвоздырина. За пазухой у Витьки сидел кот Донат. Умостившись на дереве, Витька достал кота и защемил ему кончик хвоста бельевой прищепкой с усиленной пружиной. Добыв таким образом из кота звук, Витька стал ждать Полкана и Бровку, И они не замедлили примчаться.
Вгорячах псы с ходу попытались заскочить на дерево, но только побили себе морды. Тогда они сели на хвосты и решили караулить момент, когда Донат попытается спрыгнуть на землю. Кот орал дурным голосом, однако, удерживаемый Витькой, на землю спуститься не мог. Полкан и Бровка, вывалив языки, подергивая от нетерпения лопатками, ждали.
Тем временем основные силы, просочившись в огород со стороны согры, чистили знаменитые огуречные грядки Гвоздырина. Мы хватали огурцы горстями, выдергивали их вместе с плетьми, а потом, для верности, проходи ли обработанные участки еще методом катка. То есть Колька Хвостов, как самый тяжелый, катился по грядке боком, временами замирая на месте и шепча:
— Во!.. Тута… под животом… Здо-оровый гад!
…Возможно, мы не проиграли бы ни одного сражения, завоевали всю Аульскую и провозгласили бы свою Республику — оплот Добра, Искренности и Справедливости… Если бы армию нашу не раздирали междоусобицы.
Неправота ходила по улице рядом с Правотой и, показывая ей тяжелый грязный кулак, заставляла себя признавать правой.
Силой, капризно дарующей нам достоинства и отнимающей их обратно, были семейные кланы.
У нас самым обеспеченным в этом смысле числился мой ровесник — сопливый Ванька Ямщиков. За Ванькой стояли три старших брата. Это были уже взрослые парни, длинноголовые, как на подбор, яростные и дурковатые — угадавшие характером не в тихого и болезненного отца, а в мать — тетку Ямщичиху, прозванную на улице Жеребцом.
Ванька, торгуя благосклонностью братьев, легко покупал себе первенство среди ребят. У него, правда, хватало ума не рваться в главнокомандующие. Главнокомандующий должен был обладать стратегическим талантом, и Ванька, наверное, догадывался, что на этой должности не потянет. Зато он нахально требовал, чтобы его считали отважным рубакой и неуловимым разведчиком. На самом деле Ванька был едва ли не главный паникер. И очень даже уловимый. По крайней мерс, его единственного дважды брал в плен Алексей Гвоздырин, после чего Ванька заявлялся в расположение части с полуоторванными ушами.
Я не хотел признавать Ваньку героем, и он вызывал меня на поединки. Так, наверное, средневековые рыцари вызывали на ристалище тех, кто не соглашался признать их даму самой прекрасной на свете. Только Ванька сам себе был прекрасной дамой.
Мы дрались. Один на один — по всем правилам уличного кодекса чести. Но драки эти были все равно неправедными. Ванька выходил на меня беспроигрышно. Он, как Грушницкий на дуэли с Печориным, знал заранее, что в пистолет мой вложен холостой заряд. Я не мог поставить ему синяк под глаз или расквасить нос. За любое такое членовредительство меня на другой же день отлупили бы его братья. Ваньку можно было только повалить на землю и держать до тех пор, пока он не запросит пощады. По и это еще не считалось победой, Ванька сохранял за собой еще одно право — на коварство. Он с готовностью просил пощады, вставал на ноги и, звонко поддернув сопли, требовал:
— Давай сначала.
Я оглядывался на судей.
Судьи молчали, трусливо опустив глаза на побитые цыпками ноги.
Тоскливые это были драки. Не драки, а сказка про белого бычка. «На колу мочало — начинай сначала». Получалось, что Ванька непобедим, как Кощей Бессмертный.
Конечно, будь у меня тоже старший брат, Ванька бы так не зарывался. С другими он все же побаивался шибко нахальничать. У других было кое-что припасено против ямщиковской орды. Например, крепенькие, как грибочки, братья-близнецы Петя и Митя Брухи даже драться один на один выходили вдвоем. С этим никто не спорил: Брухи считались у нас за одного человека и откликались на общее имя — Петямитя. Наконец, если Петюмитю колотили, на защиту их вставал сам Брухо-старший, связываться с которым — все знали — было пустым: только отшибешь кулаки.
Васька Багин распускал про себя слух, что он блатяк и запросто может «пописать» обидчика — то есть полоснуть ему по носу бритвочкой. Ваське верили. Может быть, потому, что собственный его нос был разрезан в какой-то давней схватке. В опасные моменты Васька, засунув руки в карман и дерзко выставив свой «руль», украшенный бугристым белым шрамом, блатной скороговоркой спрашивал:
— Хочешь, падло, тебе такой же сделаю? Поодиночке перед ним отступали даже старшие братья Ваньки Ямщикова.
Я не носил в кармане бритвочку. Отец мой был на фронте.
А мать вела свою войну — куда тяжелее и серьезнее моей.
У матери была особая платформа: она сражалась за Советскую власть без бюрократов. Про Советскую власть она не могла слышать худого слова. Если какая-нибудь соседка неосторожно вспоминала при ней, как хорошо да сытно жилось раньше, у матери леденели глаза, она вся напрягалась и резко говорила:
— Ты, видать, кулачка была, что ранешнюю-то жизнь хвалишь?!
— Что ты, что ты, Васильевна! — испуганно отмахивалась соседка. — Какая там кулачка!
— Кулачка, а кто ж ты больше! — наступала мать. — Небось, лавочку спою держала, а другие на тебя чертомелили… Нет, как я девяти лет пошла по людям работать, жилы тянуть, — так я ее не похвалю. Видала я эти жирные-то куски… в чужом рте. А ты, поди, сама их трескала в три горла — вот тебе Советская власть в носу и щекочет!
Кончалось тем, что соседка бежала от матери, как от чумы, на ходу крестясь и отплевываясь.
Бюрократов мать готова была придушить собственными руками, а факт их существования считала чьим-то большим недосмотром. То есть определенно чьим.
Не раз я слышал, как она ругалась:
— Когда же только им, паразитам, хвосты поприщемляют?!
Однако указ о прищемлении хвостов бюрократам задерживался, и мать вынуждена была действовать в одиночку — своими, партизанскими методами.
Однажды она пришла на конный двор и, как солдатка, попросила у заведующего лошадей — привезти сена короне.
— Вас тут до такого хрена ходит — и всем дай! — раздраженно ответил заведующий.
Мать схватила со стола чернильный прибор и шарахнула им в заведующего. Но прамахнулась. Тогда она сгребла табуретку и гоняла заведующего по конторе до тех пор, пока ее не утихомирили подоспевшие на шум коновозчики.
Мать ничего и никого не боялась: ни бога, ни черта, ни лихого человека, ни начальства, ни тюрьмы, ни сумы. К своим тридцати пяти годам она прошла через все испытания: были в ее жизни тифозные бараки и солдатские теплушки, тонула она и горела, отбивалась от волков, раскулачивала и ее раскулачивали дураки-перегибщики. И побираться мать ходила с грудными детьми, и басмачи ее конями топтали, и бандиты — знаменитая «Черная кошка» — приставляли нож к горлу.
Так что страх в ее душе выгорел весь, до донышка.
Но в мои мальчишеские конфликты мать не вмешивалась. Наоборот, я и вякнуть при ней не смел, что обижен кем-то.
Изредка мне на помощь приходила старшая сестра Тонька. Правда, меня это вовсе не радовало. Тонька действовала по-девчоночьи, не соблюдая правил. Захватив нас за выяснением отношений, она яростно кидалась в атаку, не различая, где враги мои, где болельщики, а где судьи. Случалось, вместе со всеми удирал от нее и я — из солидарности.
Ребята старались близко Тоньку не подпускать. Они швыряли в нее комками и дразнились, приплясывая:
Антонида — бела гнида, Сера вошь — куда ползешь?Тонька не кланялась «пулям». Она только проворачивалась на пятках — тонкая, как веретено, — и комки свистели рядом, не задевая ее. Не дай бог было оказаться в цепких Тонькиных руках.
Она не столько била, сколько конфузила: хватала за волосы и возила мордой по земле.
Увы, Тонькино заступничество лишь покрывало меня позором и множило число моих врагов.
Но зато как интересно жилось без охранных кулаков старших братьев! Улица была не только местом игр и прогулок. Всякий раз, выходя за калитку, я ступал на тропу войны. За каждым поворотом и плетнем караулила меня опасность. Слева, в узком проулке, мог неожиданно возникнуть угрюмый Гвоздь, с ременным кнутом за голенищем, Справа, в мелкой ложбинке, меня могли перевстреть длинноголовые братья Ваньки Ямщикова. Эту ложбинку я всегда пролетал стремглав. Дальше, на взгорке, жил Васька Багин, и никогда не было известно, чью руку держит он сегодня.
Выходы с Аульской стерег грозный кузнецкий хулиган Мишка-Буржуй со своей шайкой.
Замирало сердце от ежеминутного предчувствия схватки.
Горели от страха пятки.
Напрягались мускулы под дырявой рубашкой.
Стригли коварную тишину уши.
Не было мира, и не было покоя. Был восторг непрекращающегося сражения.
Школа
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
У меня сохранилась старая фотография — наш выпуск четвертого класса. На этой фотографии я, может быть, не самый красивый, но самый умный — без сомнения. Такой я из себя лобастый, взгляд у меня строгий, губы поджаты, левая бровь слегка приподнята. Мне даже кажется, что я немного похож на великого математика Лобачевского.
Только я почему-то лысый. В смысле — остриженный под машинку.
Вон в среднем ряду, пониже меня, Витька Протореев. У него коротенький, косо подрезанный чубчик. И у Сережи Белоусова чубчик, и у Лени Фейерштейна. А я лысый. Я и еще несколько ребят: Генка Колосов, Толька Максимов, Эдька Яким, Исай, Катыш…
В чем дело? За что мы так оболванены и почему они с чубчиками?
Долго сидел я над фотографией: вспоминал, размышлял…
Ну, Исая у нас стригли за вшивость — это всем было известно. Эдька Яким, помню, один раз, уже в техникуме, побрил голову на спор. Но меня-то мать содержала чисто, и сам я волосами никогда не тяготился.
Но об этом после. Сначала надо рассказать о том, как я впервые познакомился со школой.
Между прочим, никуда я так страстно не хотел попасть, как в школу. Я прямо сгорал от нетерпения, считал оставшиеся до нее месяцы, надоедал всем вопросами о школе. До сих пор не могу понять причину этой страсти. Ведь вроде бы нечем ей было питаться: никто не вел со мной разговоров об ученье, не было у меня перед глазами и завлекательных примеров. Скорее, наоборот. Старшая сестра в то время начинала уже поговаривать, что пора бы ей заканчивать свое образование. Каждый день, возвратясь с уроков, она швыряла в угол портфель и, разразившись злыми слезами, грозила никогда больше в школу не возвращаться: математик ненавидит её — нарочно ставит двойки, химия высушила ей все мозги, географичка — дура, наконец, все подруги давно уже работают, и только одна она сидит за партой как последняя идиотка.
Еще раньше я не раз слышал от отца про его титаническую борьбу с ученьем. Отец по дороге в школу прятался за какой-нибудь плетень, зубами отдирал от валенок подметки, только что поставленные моим дедушкой, закидывал их подальше в чужой огород и возвращался домой, мужественно ступая по снегу голыми пятками, Дедушка, поколотив отца его же валенками, ставил новые подметки. Отец на другой день отрывал и эти. И так продолжалось, пока отчаявшийся дедушка не заводил отцу совсем новые валенки, от которых уже ничего нельзя было отодрать.
Все это, однако, меня не насторожило. Я продолжал мечтать о школе, упрямо веря: уж мои-то отношения с ней сложатся нежно и безоблачно.
Судьба, впрочем, была ко мне благосклонна и подарила лишний год свободы, что я в то время, конечно же, не оценил. Когда наступила пора идти в школу, оказалось, что мне не в чем туда отправиться: незадолго до этого мы «съели» мои единственные ботинки, обменяв их на четыре ведра картошки. Два дня я безутешно рыдал. На третий, убедившись, что «Москва слезам не верит» и новые ботинки все равно не пришлет, сцепил зубы и решил не даваться судьбе. И не дался.
Месяца за два я выучился читать. Тайком. Скрывать свое умение мне требовалось для того, чтобы сестра не прятала от меня книги, которые время от времени давали ей подружки. За длинную зиму я прочел их все. Так что пока мои сверстники, прибавив к двум спичкам еще три, ломали голову над тем, сколько же получилось в результате, я скакал по прериям, проигрывал в карты миллионные состояния, влюблялся в герцогинь и соблазнял служанок. То были случайные книги военного времени — растрепанные, пожелтевшие, чаще всего без конца и без начала. Потом уже я установил названия некоторых из них по содержанию, навечно врезавшемуся в память. Оказалось, что читал я рассказы Мопассана, «Атлантиду» Бенуа, «Гулящую» Панаса Мирного и другие не менее полезные произведения.
В школу я пришел через год.
Из-за скромного роста я не выглядел старше своих одноклассников, но желание немедленно выказать свою образованность распирало меня, я нетерпеливо ерзал на парте и добился, что учитель на меня первого обратил внимание.
— Ты! — сказал учитель. — Вот ты, черненький. Побереги штаны… Не думаю, чтобы гардероб твой был слишком богат.
Я перестал ерзать, но торжествующе оглянулся. Как же! Ведь мы с учителем говорили на одном языке: я знал, что такое гардероб. Это совсем не раздевалка и не шкаф, в который вешают пиджаки.
Прежде всего учитель сделал перекличку. К нашему удивлению, он уже всех знал по имени и фамилии и теперь интересовался родителями. Выкликаемый должен был подняться и для чего-то сообщить, где и кем работает его отец. Тут обнаружилось, что отцы у многих не какие-нибудь там простые люди, а разные начальники. Я и не подозревал до этого, что на свете столько начальников.
— Начальник цеха, — говорили выкликаемые. — Директор магазина… Начальник мастерской… Начальник ОРСа… Главный инженер…
У нас, на Аульской, самым главным начальником считался бригадир Балалайкин, да и тот был пьяница.
Когда подошла моя очередь называть отца, я, сам не знаю почему, выпалил:
— Генерал!
— Хм! — сказал учитель и с интересом уставился на меня через очки. Видать, моя стриженая уголовная башка не внушала ему доверия. — А кем, интересуюсь, твой папа работал до фронта? — спросил он.
— Коновозчиком, — ответил я.
— Так, — сказал учитель, непонятно чему радуясь. — Запишем: рядовой боец. Не обидно будет?..
Потом учитель велел поднять руки тем, кто знает какие-нибудь буквы.
Я понял, что наступает час моего триумфа, торопливо поднял две руки и застучал задом о скамейку.
— Ну вот, — тоскливо сказал учитель. — Уже и хулигана бог послал.
Он приказал мне опустить руки и не поднимать их впредь до особого разрешения. А к доске вызвал белобрысого ушастого мальчика с челкой, и тот, высунув язык, долго рисовал ему раскоряченную букву М. По странному совпадению мальчиком этим оказался Сережа Фельцман, единственный в классе дебил, который потом за целый год так ничего и не смог прибавить к этим своим познаниям…
Прозвенел звонок — и мы высыпали в коридор.
В коридоре большие ребята, четвероклассники, выполняли трудовую повинность — заклеивали на зиму ок на. Они бросили работу, окружили нас и стали рассматривать, отпуская разные насмешливые замечания. Один из четвероклассников почему-то заинтересовался мною.
— Ты цыган? — спросил ои.
— Не, — мотнул головой я.
— Врешь, цыганская морда! — сказал четвероклассник и, заложив средний палец правой руки между большим и указательным, присадил мне оглушительный деревянный щелчок.
Из глаз моих сами собой брызнули слезы. Тогда другой четвероклассник, ужасно большеротый и носатый, сказал:
— Не плачь оголец, я тебе фокус покажу. Гляди. Он раскрыл свою необъятную пасть, занес в нее, как в пещеру, кисть руки, густо вымазанную клейстером, и вынул обратно, не царапнув ни об один из редких зубов. Все потрясенно загудели.
— Я еще и не такое умею, — похвалился носатый. — У тебя хлеб есть?
— Есть, — кивнул я.
— Ну, волоки сюда.
Я пулей слетал в класс и вынес ломтик черного хлеба, политого постным маслом. Носатый подбросил ломоть вверх, хамкнул на лету, как собака, глаза его на мгновение округлились и по горлу пробежала судорога, значение которой я не сразу понял. Я ждал, что он извлечет обратно мой ломтик, — целый, как до этого руку.
— Ну! — заторопил я его. — Открывай рот!
— Бе-е! — сказал носатый, раззявив пустую пасть, и толкнул меня в грудь. Толкнул он меня вроде слегка, но, оказывается, за моей спиной уже стоял на четвереньках один его сообщник — так что я будь здоров как полетел… прямо под ноги выходившему из класса учителю.
— А, это ты, хулиган! — забормотал учитель, одной рукой ловя заскользившие с носа очки, а другой целясь схватить меня за шиворот. — Ну-ка, марш к директору!..
Столь жесткая встреча поубавила мой восторг перед школой, и я решил на время воздержаться от посещения её — хотя бы до тех пор, пока примерные мальчики подучат алфавит. А там видно будет. Две возможности не пойти на уроки открывал мне опыт собственный и отцовский.
Можно было расковырять гвоздиком новенькие желтые ботинки из пупырчатой свиной кожи.
Или симулировать болезнь живота.
На ботинки, после целого года босячества, у меня не поднялась рука. Я остановился на втором, не раз проверенном способе.
У матери против этой болезни имелось одно, тоже проверенное, средство: стакан крепкого чая с подгорелым сухариком. К нему она и прибегала.
Промаявшись до обеда от безделья и голода, я сказал матери, что живот у меня вполне прошел, и, чувствуя смутные угрызения совести, даже изъявил желание заняться каким-нибудь полезным делом, например, сходить к железнодорожному переезду поторговать семечками. Приятно удивленная мать тут же насыпала мне в старую наволочку с полведра жареных подсолнечных семечек.
— Гляди-ка ты, что школа-то с вами делает, с чертями безмозглыми! — одобрительно сказала она. — Может, хоть матери научитесь помогать.
У меня же на этот счет были свои соображения. Я думал: вот продам семечки, принесу домой деньги, мать еще больше обрадуется — и тогда завтра можно будет попытаться убедить ее, что, пока все подсолнухи не распроданы (а мы наколотили их несколько мешков), в школу мне ходить не стоит.
Возле железнодорожного переезда был не базар, а гак себе — базарчик на несколько точек. Одна бабушка продавала самосад, крутились иногда пацаны из шайки Мишки-Буржуя с папиросами «Пушки» или старый бабай сидел на корточках возле мешочка с урюком. Семечками здесь монопольно торговал сухорукий инвалид по прозвищу Хайлай. Хайлай стоял у переезда каждый день, в любую погоду, высокий, прямой, как палка, с опущенной вдоль туловища левой рукой, а прозвище свое получил за то, что через равные промежутки как заверенный, открывая рот, набитый железными зубами, и хайлал:
— А вот жар-р-р-рен-н-н-ные, кален-н-ные, с Ашхабада привезен-н-ные!
Я устроился с наволочкой возле Хайлая и, подражая ему, завопил про жареные и каленые. Инвалид покосился на меня, но смолчал пока.
Мое преимущество обнаружилось очень скоро. Я захватил из дому в качестве мерки большой граненый стакан. У Хайлая стаканчик был маленький, алюминиевый, с толстым бронебойным дном — сделанный, наверное, по заказу. В него входила маленькая горстка семечек, тогда как от моей порции у покупателей заметно толстели карманы.
Хайлай выждал момент затишья в торговле, освободил свою посудину и стал медленно пересыпать в нее семечки из моего стакана. Рюмочка его уже наполнилась с верхом, а семечки все еще текли обратно в наволочку. Хайлай задумчиво посидел возле меня на корточках, пожевал губами, потом придвинул свой мешок и сказал:
— Сыпь сюда.
Мы намерили тридцать стаканов — и он рассчитался со мной за все.
— Отобрали? — ахнула мать, когда я ворвался домой, размахивая пустой наволочкой.
Я выгреб из-за пазухи скомканные рубли.
— Ай да молодец! — всплеснула руками мать. — Уже отторговался? Вот это ловко!.. Дак ты, может, еще маленько отнесешь? Сейчас тэцовские девчата со смены пойдут — как раз подгадаешь.
— У тебя поменьше-то нет стакана? — солидно буркнул я, закидывая за плечо наволочку. — Даешь чёрт-те какой здоровый.
— Да ладно, сходи с этим, — отмахнулась мать. — Или мы спекулянты — стопками продавать?
Такого коварства Хайлай от меня явно не ждал. У него даже брови полезли на лоб, потянув за собой нос и верхнюю губу, — отчего железные зубы оскалились, будто в смехе. Но ему было не до смеха. Пошли со смены бойкие тэцовские девчата и начали издеваться над Хайлаем:
— Ты, дядька, где такой наперсток взял? У жены стибрил?
— Да это не наперсток, это коронка его с коренного зуба!
А одна рыжая девчонка, с круглыми отважными глазами, подступила к нему не на шутку:
— Ну-ка, змей сухорукий, сбавляй цену, а то щас мотню оторвем!
— На-ко, выкуси, — остервенился замордованный Хайлай.
И тут он допустил большой промах: показал ей фигу не правой рукой, а левой — бездействующей.
— Девки! — возмущенно закричала рыжая. — Да он здоровый!
И всё. Через минуту мой конкурент был растоптан.
Рыжая схватила за углы его мешок, выхлестнула на землю «привезенные с Ашхабада» семечки и пошла по ним яростной чечеткой, подбоченясь и выкрикивая:
Эх, топну ногой И притопну другой!..Семечки застучали по бурым штанам разоренного Хайлая.
Так неожиданно я завоевал рынок.
Однако монополией своей я наслаждался от силы минут десять. Знать бы тогда про волчьи законы частного предпринимательства, — я бы, наверное, подхватил наволочку и удрал куда подальше. Но я продолжал лихо сыпать семечки и подставляемые карманы, пока не почувствовал, как кто-то крепко берет меня за ухо. Я скосил глаза вверх и увидел над собой пожилого, усатого милиционера. Рядом с ним возвышался запыхавшийся красномордый Хайлай.
— Ну, пойдем, жареный, — мирно сказал милиционер.
Родители в детстве никогда не запугивали меня милиционером. О том, что в милицию лучше не попадать, я узнал сам много позднее. Как-то, уже старшеклассником, я попытался запрыгнуть в трогающийся трамвай и был на лету схвачен известным на весь город своей беспощадностью и вездесущностью автоинспектором Копытовым. Видать, у Копытова в этот день не было крупных происшествии, а деятельная натура его не терпела простоев.
— Та-ак, — сказал Копытов. — Скочим, значит?.. Ну, плати три рубля, скакунец.
Три рубля у меня были. Свернутые в шестнадцать раз, они хранились в маленьком кармашке брюк, прикрытом сверху ремнем. По отдавать их Копытому показалось мне обидным, и я ответил, что денег нет.
— Тогда ходим до отделения, — решил он.
Я шел в отделение и усмехался. Что могли предъявить мне за такой пустяк? В трамвай, ползающий по-черепашьи, у нас запрыгивали на ходу вдоль всего маршрута, ездили на подножке, на «колбасе», на крыше — и преступлением это не считалось. Между тем, именно в ерундовости моего поступка и таилась опасность. Копытов задержал меня вгорячах или, может, припугнуть хотел — и теперь, когда мы уже переступали порог милиции, он должен был отрекомендовать задержанного примерным злодеем. Иначе пошатнулся бы его авторитет.
В отделении Копытов, вытянувшись доложил:
— Вот этот, товарищ начальник, прыгнул на ходу в трамваи и… спихнул на ходу старуху! С ребенком, — помолчав, прибавил он для верности.
Не хвати Копытов так беспардонно через край, дело могло бы обернуться для меня плохо. По он перебрал — и я возмутился так бурно и так искренне, что начальник не успел меня остановить!
Ну и закатил же я им речь! Низкого человека Копытова, пошатнувшего святую веру в мою милицию, которая меня бережет, я уничтожил, разжаловал, произвел в прислужника магнатов капитала, в унтера Пришибеева! Меня трясло, глаза мои полыхали неподдельным гражданским гневом — я чувствовал, как они наполняются горячен влагой.
Ошарашенный начальник бледнел, медленно поднимался из-за стола, рот его самопроизвольно раскрывался. Кончилось тем, что он плюхнулся обратно в кресло, рванул ворот гимнастерки и задушенно прохрипел:
— Копытов!.. Гони его отсюда… к свиньям собачьим! Думаю, что он принял меня за сумасшедшего.
Но это, повторяю, случилось много лет спустя.
А пока я первый раз в жизни шагал в милицию.
Встречные женщины скорбно смотрели на меня, на волочившуюся по земле наволочку, в глазах их было написано: «Господи, господи! Что же это деется-то? Такие маленькие, а уже воруют! Светопреставление в только!»
В отделении сидела за столом и что-то писала тоненькая черноглазая девчонка.
— Шить доложить, тырщ лейтенант! — обратился к ней усатый. — Вот жареного-каленого привел.
Девчонка бросила карандаш и спросила:
— Ну… чего натворил-то? Я молчал.
Девчонка вздохнула. — Отец есть?
— Есть… на фронте.
Девчонка снова вздохнула, на этот раз громко: «Охо-хо!»
— Охо-хо! — сказала она. — Я тебя, Бусыгин, сколько раз просила: не таскай ко мне эту шпану — веди их домой или в школу. Просила я тебя, Бусыгин?..
…На улице Бусыгин стал думать:
— Куда же тебя вести-то: домой или в школу?.. Да-кось подсол нушков… В школу, однако, ближе будет — как считаешь?
И мы пошли в сторону школы.
Медленно постигал я весь ужас своего положения: вчера учитель выставил меня хулиганом — сегодня утром я не явился в школу — вечером меня приведет к директору милиционер. Мама родная! Получалось, что мне от «хулигана» теперь сроду не отмыться.
— Дяденька! — захныкал я. — Не ведите меня в школу… Я больше никогда не буду… Честное слово…
Бусыгин остановился. Дощелкал семечки с корявой ладони.
— Обещаисси, значит? — сплюнул он шелуху. — Да-кось ещё подсолнушков-то… Ну, если твердо обещаисси, тогда ладно — не поведу. Тогда бежи домой…
Так бесславно закончилась моя попытка основать коммерческое предприятие.
Нa другой день я снова отправился в школу — и этот-то день по-настоящему надо считать первым моим школьным днем.
Очкастого учителя в классе я уже не застал. Не знаю, куда подевался этот человек, имени которого я даже не успел запомнить. Скорее всего его взяли на фронт. Учитель, правда, был подслеповат, но в военное время это не играло большой роли. Когда забирали на фронт отцова дружка дядю Степу Куклнна, врач спросил его:
— На что жалуетесь?
— На зрение! — не моргнув соколиным глазом, соврал дядя Степа.
— На зрение, — хмыкнул врач. И неожиданно вскинул два пальца:
— Сколько?!
— Два, — сказал застигнутый врасплох дядя Степа.
— Годен, — объявил врач.
Вот так, может быть, и учителю нашему кто-то показал два пальца.
Во всяком случае, вместо него в класс вошла учительница — моя Первая Учительница. Та самая, классическая, добрая и внимательная, терпеливая, с седыми прядками и мягкими карими глазами. И даже с именем Марья Ивановна.
Я думаю, что первые учительницы — это совершенно особая категория людей, некая каста, союз или добровольное общество — как йоги, например, «моржи» или нумизматы. Это жрицы, давшие обет человеколюбия.
В огромной армии работников просвещения — это части специального назначения, перед которыми стоит задача навести переправы в детские души, захватить плацдарм и не только удержать до подхода основных сил, но постараться взрастить на нем такую любовь к школе, чтобы подоспевшим затем танковым колоннам Формул, воздушному десанту Химических Реакций, полкам Сложноподчиненных Предложений и офицерским батальонам Образов, сформированным из «Представителей мелкопоместного дворянства» и «Продуктов эпохи», не удалось вытоптать её до самого выпускного бала.
Недаром же первых учительниц помнят и любят все: солдаты-первогодки и генералы, президенты Академии наук, доярки-рекордистки, народные артисты и полярники. А космонавты, возвратясь на родную Землю, даже разыскивают своих первых учительниц в маленьких провинциальных городках и фотографируются рядом с ними для газеты «Известия».
Что-то никому не приходит в голову сфотографироваться рядом с математичкой или военруком, хотя космонавтам, допустим, как людям преимущественно военным, мужественный облик военрука должен бы, казалось, врезаться в благодарную память с особой силой.
Именно к такому отряду благородных подвижников принадлежала и моя первая учительница. Ее метод воспитания был прост: учительница любила меня. Любила, страдала вместе со мной, как страдает писатель вместе с героями, созданными его воображением, радовалась моим скромным успехам больше, чем я сам. Когда я мучился над трудной задачкой, Марья Ивановна морщила лоб, глаза ее делались напряженными, на переносице выступали бисеринки пота — так ей хотелось подсобить мне.
Она помогала мне глотать знания, как молодая мамаша помогала своему первенцу есть манную кашку с ложечки: сама того не замечая, плямкает вместе с ним губами и сглатывает слюну.
Возможно, она была даже гениальной — моя первая учительница. Никогда не забуду ее необыкновенные родительские собрания. Она не скликала наших мам вместе, а всегда вызывала по одной. Не знаю, о чем там она говорила с другими родителями, а встречи с моей матерью происходили так: Марья Ивановна усаживала ее напротив своего стола и принималась за тетрадки. Она словно забывала о нашем присутствии, и мы полчаса… час наблюдали за ее священнодействием. Всё отражалось на живом лице Марьи Ивановны. Мы видели, какой трудный мальчик Петя Иванов, как Марья Ивановна жалеет его, как искренне хочет добиться от него толку и как опасается, что толку из Пети может не получиться.
Затем мы узнавали, что Маша Петрова девочка старательная, умница, дела её идут на поправку, и если она ещё чуть-чуть подтянется, Марья Ивановна будет ею совсем довольна.
Наконец учительница раскрывала мою тетрадь. Сдвинув брови, деловито поджав губы, она рассматривала решенный мною четырехстрочный примерчик как нечто чрезвычайно серьезное, как работу взрослого самостоятельного человека, не нуждающегося в снисхождении.
Закончив проверку, Марья Ивановна вскидывала на меня все еще строгие глаза.
Я — хотя знал, что ничего страшного не должно случиться, — подтягивал от волнения живот.
Брови Марьи Ивановны медленно расходились, глаза теплели, она говорила:
— Ну, что же, Коля… как всегда — отлично.
Тетрадь Марья Ивановна вручала обязательно матери, в её дрожащие руки — и с тем, не прибавив больше ни слова, отпускала нас.
Нетрудно представить, как я ликовал, как парил над землей, не чувствуя под собой ног!
А мать, из которой и палкой невозможно было вышибить слезу, несколько раз за дорогу принималась всхлипывать. До самого дома она не отдавала мне тетрадь, несла её сама, прижимая к груди, словно великую ценность.
Вот какой была моя первая учительница.
И если бы я стал очень знаменитым, таким знаменитым, что мир захотел бы увидеть мой портрет, — я тоже разыскал бы Марью Ивановну и сфотографировался рядом с ней.
ЧУБЧИКИ И НУЛЕВКИ.
В первый же день Марья Ивановна выстроила нас по росту и рассадила за партой В таком порядке, чтобы самые маленькие оказались впереди, а самые большие — сзади. Потом она осмотрела наши ручки, перья и велела назавтра всем принести одинаковые. Марья Ивановна сама раздобыла где-то штук восемь желтых бумажных мешков из-под глинозема, разрезала их на большие листы и сказала: пусть мамы выкроят вам одинаковые тетради — вот такие, как у меня. Она также наказала нам выстрогать по десять палочек для счета, и никто не получил поблажки: дескать, ты, Петя, принеси все десять, а тебе, Ваня, можно явиться только с тремя.
Словом, наконец-то мы сделались равными. После уличного произвола это просто был рай справедливости. Тем более, что учителей не волновало, сколько у кого из нас имеется старших братьев с железными кулаками.
Когда сосед мой Ванька Ямщиков вывел из терпения своим озорством даже добрейшую Марью Ивановну, в класс заявился рассерженный завуч, отнял у Ваньки сумку, нахлобучил ему на глаза шапку и вышиб за дверь хорошим подзатыльником.
Правда, в этот же день меня повстречал один из Ванькиных братьев — Колька.
— Кончились уроки? — спросил он, глядя вниз и ковыряя ботинком чудовищных размеров вмерзший в снег камешек.
— Ага.
— А сумка Ванькина где?
— В учительской, наверное, — простодушно ответил я.
— А ты почему ее не украл, сука?! — вскинул на меня желтые кошачьи глаза Колька.
Он сбил меня с ног и как следует напинал под бока своими могучими американскими ботинками.
Понятно, я не подозревал тогда о существовании закона единства и борьбы противоположностей.
Этот случай открыл мне глаза лишь на одну половину его: школа и улица находились в состоянии борьбы, на острие которой я случайно и оказался.
Но заблуждался не только я. Заблуждалась и Марья Ивановна. Она, видать, не догадывалась, насаждая равноправие, что подлая война уже разделила нас.
Скоро Марья Ивановна, я думаю, догадалась.
— Дети, — сказала она через несколько дней. — Кто знает какую-нибудь песенку?
— Я знаю! — подняла руку Нинка Фомина, черноглазая бесстрашная девчонка.
— Ну, спой нам, что ты знаешь.
Нинка вышла к доске, подбоченилась и запела:
Двенадцать часов пробило, Чеснок идет домой, А качински ребята Кричат: "Чеснок, постой!." Дна Парня подскочили И сбили его с ног, Два острые кинжала Вонзились в левый бок…— Хватит, хватит! — замахала руками Марья Ивановна. — Это нехорошая песня, Инна… Может, ты другую знаешь?
Оказалось, что Нинка знает и другую.
— Тогда спой другую, — сказала Марья Ивановна.
Перебиты, поломаны крылья! —взвыла Нинка, томно заводя глаза.
Марья Ивановна решила, наверное, что эта песня про наших героических летчиков-истребителей, и одобрительно кивнула головой.
Пока она кивала, Нинка проскочила вторую строчку и ударила с надрывом:
А-э кокаином — серебряной пылью — А-э все дороги мне в жизнь замело!..А вскоре удивительная история произошла с мальчиком Петей Свиньиным, или попросту — Свином, как его сразу же прозвали в классе.
Хотя многие из нас были переростками военного времени, Свин казался нам слишком взрослым. Он только ростом не вышел, был из тех «собачек», которые до старости остаются «щенками».
С неделю Свин мирно сидел в классе, поглядывая вокруг цепкими мужичьими глазками. Он, казалось, чего-то ждал. Может быть, решительных перемен в судьбе. И не дождался.
Тогда Свин поднялся прямо среди урока и вышел.
Дома, на пустом осеннем огороде, он построил шалаш из подсолнечных будыльев и картофельной ботвы, вернулся на другой день в школу, схватил за руку одну из девчонок — тоже переростка, толстуху, на голову выше себя ростом — и повел в свою хижину, чтобы зажить там самостоятельной трудовой жизнью.
Они уходили на глазах онемевшего от изумления класса — очень солидно и семейно. Впереди, ссутулившись, заложив руки за спину шагал Свин. За ним, покорно опустив голову, брела его избранница.
— Свин повел Тайку жениться! — запоздало разнеслось по школе — и вспыхнула паника.
Срочно был отменен последний урок в старших классах. Отряд добровольцев численностью в двадцать пять штыков обложил огород мятежного Свина. Предводительствовал старшеклассниками единственный в школе мужчина, завуч Леопольд Кондратьевич.
Старшеклассники, не дыша, лежали за плетнями (имелись сведения, что Свин вооружен: накануне у него видели поджигу и четыре стреляных гильзы от противотанкового ружья). Леопольд Кондратьевич, перенеся длинную ногу через плетень, вел переговоры.
— Петя и Тая, выходите — вам ничего не будет! — лицемерно обещал завуч.
Возле дома, заслонясь рукой от низкого предзакатного солнышка, страдала мать Свина. Безногий калека-отец наблюдал за ходом операции с крыльца. Он сидел, подавшись корпусом вперед, забыв о цигарке, прилипшей к нижней губе, и время от времени возбужденно повторял:
— Эт-тот может!..
После получасовой осады Свин «выбросил белый флаг».
Набежавшие старшеклассники скрутили ему руки за спину и, взяв в каре, повели к родительскому крыльцу.
Отец, только что восхищавшийся Свином, деловито упрыгал в сени за солдатским ремнем.
Ремень ему, впрочем, употребить не пришлось. Преступление Свина было слишком велико, чтобы разрешить дело показательной поркой. Тут же, у крыльца, скорый полевой суд приговорил его к отлучению от школы.
Глупую Тайку с позором пригнали в учительскую, где она была подвергнута строжайшему допросу. Члены педсовета хотели знать: успели они со Свином пожениться или не успели?
Тайка плакала и все отрицала.
Отступились от нее после того, как сообразили: Тайка под словом «жениться» понимает такое положение, когда отец ходит на работу, а мать готовит ему обед.
Сготовить же обед Свину Тайка не успела.
В общем равноправие мало-помалу начало давать трещины. Мы заметили это, когда некоторые мальчики вдруг поотращивали себе чубчики. Тогда же начал ломаться первоначальным порядок размещения в классе.
Чистенькие мальчики с челочками, хорошо, не по военному времени, одетые, стали потихоньку теснить с передних парт своих мелкорослых, по стриженных наголо одноклассников — теснить ближе к середине класса и даже к позорной «Камчатке». Они сами охотно занимали первые ряды, да и учителям, казалось, приятнее было видеть рядом их чубчики и проборы, чем наши голые лбы.
— Сережа Фельцман! — говорила, к примеру, учительница, когда ей требовалось публично поконфузить какою-нибудь неряху. — Встань-ка, Сережа.
Сережа поднимался с передней парты, являя классу белобрысый затылок и розовые уши.
— Вот, дети, посмотрите на Сережу, — призывала нас учительница. — Какой опрятный мальчик! И рубашка на нем всегда выглаженная, и ногти подстрижены, и пуговицы пришиты. Надо всем брать пример с Сережи… А теперь, дети, посмотрите на Гену. Гена, встань… Ну, что за вид у тебя! — страдала учительница. — Пугало огородное — и только!
Конечно, Сережу не следовало бы возводить в эталон. Кроме того, что одет он всегда был аккуратно, никаких других достоинств за ним не числилось. Но что попишешь: в то несытое время — когда каждую мелочь сверх скудных военных норм, начиная с окопных шпингалетов и кончая бумажными мешками из-под глинозёма, которые шли на тетради, раздобыть можно было лишь с помощью чьих-то руководящих папаш, — учителя наши не всегда были вольны в своем выборе. Иногда им только приходилось делать вид, что они пленили очередного неслуха, а на самом деле пленниками оказывались они.
Как-то я принес в школу маленький перочинный ножичек с надломленным лезвием, выменяв его у Васьки Багина на дальнобойную рогатку из противогазной резины и четыре рыболовных крючка. Конечно, мне захотелось опробовать ножичек, и я за две переменки вырезал на тыльной стороне крышки парты свое имя. Оставалось добавить первую букву фамилии — и труд мой на этом был бы завершен. Но тут меня выдала сидевшая сзади девчонка.
— А ну-ка, иди сюда! — позвала учительница.
В то время учила нас уже не Марья Ивановна, а Варвара Петровна, въедливая подозрительная женщина, с белыми тонкими губами и лицом, изрытым оспой. Эта Варвара Петровна за половину четверти сумела разложить класс: она заставляла нас шпионить друг за другом и гласно, торжественно, перед лицом притихших товарищей объявляла благодарности доносчикам.
Пока я стоял у доски под ее колючим взглядом, двое добровольцев из актива Варвары Петровны обшаривали мою парту и сумку. Ножика они не нашли — я успел спрягать его под поясок штанов.
Тогда учительница велела мне вывернуть карманы, — каковых оказалось один, — сама выдернула из брюк и потрясла за подол мою рубашку (ножичек при этом чудом удержался за пояском). Я шевелил животом — быстро втягивал его, напрягал и снова втягивал — моля бога, чтобы проклятый ножик провалился в штанину, а оттуда — в валенок. То ли Варвара Петровна заметила мои манипуляции, то ли просто опыт у нее был настолько богатый, но она сказала:
— Разувайся.
Я сел на иол, стащил валенки и, сгорая от стыда, начал разматывать свои рваные портянки, выкроенные из старого материнского платья в белый горошек…
Между тем оружие — и более грозное — не так уж редко появлялось в школе, и за ношение его преследовали не каждого.
Помню случай, когда Колька Ямщиков необдуманно бросил вызов школе. Он явился однажды к концу занятий, чтобы проучить нескольких четвероклассников, обидевших чем-то его нахального Ванечку.
Кольку погнали.
Гнали его по огромному пустырю, простиравшемуся перед школой. Длинный, почти двухметровый Колька уходил редкими саженными скачками, а за ним катилась толпа кровожадно орущих пацанов. Впереди всех молча бежал Пашка Савельев, размахивая большим облупленным револьвером, добытым на свалке.
Перепуганные учителя следили за погоней с крыльца школы. Бледная директор держалась за сердце и скороговоркой повторяла:
— Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой!.. Отнять револьвер у Савельева никто из них не осмелился.
Пашкин отец управлял могущественным трестом «Кузнецкстрой», которым все здесь было возведено: и бараки вокруг школы, и сама школа, и угольный склад, и магазин, и четырехквартирные домики, в одном из которых жила, кстати, директор.
Каким начальником был отец Вити Протореева, никто не знал. Но, видать, очень важным. Может быть, поважнее, чем отец Пашки Савельева. Мне намекнул на это один случай.
Витька ІІротореев как-то натравил на меня собаку. Собака у пего была особенная, не похожая на наших драных, всклокоченных дворняг, и взаимоотношения у них с Витькой тоже были особенные, невиданные у нас. Мы своих псов не баловали: держали их на цепи, спуская только на ночь — сторожить и промышлять по тощим помойкам. Витькина собака жила в комнате, в одном из четырехквартирных домиков, где Протореевы занимали весь первый этаж, соединив вместе две квартиры.
Спала она на собственном матраце, трескала остатки мясного борща и ливерную колбасу. Несколько раз в день Протореев выводил её гулять, держа за тонкую серебристую цепочку.
В одну из таких прогулок мне случилось бежать мимо дома Протореевых. Витька, смеха ради, стал назюкивать на меня собаку.
— Ззю! — хохотал он. — Ззю! — А сам старался в последний момент натянуть цепочку, чтобы собака меня всё-таки не достала.
— Проторей! — сказал я. — А по морде не хочешь?
Угроза на Витьку не подействовала. В данный момент между его мордой и моими кулаками находился здоровенный пятнистый кобель. Пришлось мне отступать. Я пятился и пятился к штакетнику, пока не уперся лопатками в острые пики его. Тут цепочка не выдержала, лопнула — собака кусанула меня за ногу выше колена и, поскольку сама не питала ко мне злых чувств, сразу же отскочила в сторону и завиляла хвостом. Ногу она мне всё же вгорячах успела прохватить и, что самое обидное, единственные штаны разодрала.
В то время мы уже состояли в пионерах, и я, поразмыслив, решил поступить сознательно: морду Витьке не бить, а отправиться с жалобой на него по начальству.
На другой день я подмаршировал к старшей пионервожатой, салютнул и по всей форме доложил о случившемся.
Глаза пионервожатой вдруг одеревенели — стали плоскими и белыми, как выструганная доска. Не сказав в ответ ни слова, она обогнула меня и пошла прочь — с прямой спиной и напряженным затылком, словно несла на голове кувшин, который боялась расплескать.
Получилось, короче, что некоторые мальчики с чубчиками в школе так же неприкосновенны, как Ванька Ямщиков на улице. С разницей лишь, что у Ваньки были старшие братья, которых боялись мы и совсем не боялись взрослые, а у «чубчиков» имелись отцы — ничуть не опасные для нас, но зато повергавшие в трепет взрослых. Нам причина этого страха в то время была не очень понятна: ведь мы совершенно точно знали, что, допустим, пана Вити Протореева не станет подкарауливать за углом нашего завуча, чтобы начистить ему сопатку или дать хорошего пинкаря. Наоборот, родители всегда держали сторону учителей — многие убеждались в этом на собственном опыте. У нас в классе, например, Митька Катышев, обиженный как-то Варварой Петровной, дерзко пригрозил ей:
— Погодите, вот скажу отцу!
— Скажи, скажи, — поддержала его намерения Варвара Петровна. — Обязательно скажи.
Катыш, не уловивший в тоне учительницы насмешки, действительно пожаловался на неё отцу. Отец снял ремень и, не вдаваясь в суть разногласий Катыша с Варварой Петровной, выпорол челобитчика.
Однажды и я чуть было не попал в число избранных. Началось это так. Варвара Петровна вошла в класс и первым делом сказала:
— Коля Самохин, тебя вызывают к директору. К директору у нас вызывали в крайних случаях и только самых отпетых хулиганов. Ходили туда обычно «с вещами». На портфель провинившегося в учительской накладывался арест, а его самого выпроваживали налегке за родителями.
Я не знал за собой большой вины, но, на всякий случай, потянул из парты сумку.
Варвара Петровна, однако, сказала, что сумку брать не надо. Она даже попыталась придать своему лицу ласковое выражение, а когда я, съежившись, выходил из класса, не то судорожно погладила, не то подтолкнула меня в затылок своей шершавой ладонью.
В кабинете директора царила торжественная обста новка. Слева от стола, преданно сияя очками, стоял завуч. Справа нетерпеливо подрагивала коленкой розовая взволнованная пионервожатая. Похоже было, что меня собрались либо короновать, либо объявить вне закона.
— Коля Самохин? — спросила директор и, не дождавшись моего ответа, строго повела бровью поочередно в стороны членов почетного караула. — Это очень хороший мальчик. Оч-чень, оч-чень хороший.
При ЭТОМ завуч, сняв очки и слегка наклонив голову набок, согласно кивнул носом, а пионервожатая, наоборот, как бы вздернула нос и тряхнула кудрями: дескать, а как же иначе — из наших ведь орлов!
— Это тебе, Коля, — сказала директор, подвигая на край стола высокую стопку учебников. — Бери.
Пионервожатая сорвалась с места, будто только и ждала этого момента, подхватила книги и стала совать их в мои руки.
— Бери, бери! — шептала она. — Что же ты?
Я неловко прижал к животу скособочившуюся стопку.
Пионервожатая отступила, и теперь они вместе с завучем одобрительно закивали мне и заулыбались. Наверное, я очень красивым и положительным выглядел вот так — с книгами в руках. В общем, они на меня любовались, а я, как дурак, торчал посреди кабинета, не зная, что же мне теперь делать.
Директор — поскольку процедура награждения закончилась — тоже, видать, не знала, что делать дальше, и вроде бы уже начала поглядывать на меня с досадой: долго ли, мол, он еще будет здесь переминаться? Наконец, взгляд ее остановился на моей стриженой голове.
— У тебя есть вошки? — спросила она.
— Нет, — потупился я.
— Ты можешь отпустить чубчик, — вздохнув, сказала директор.
Класс был потрясен моим неожиданным возвышением. Настолько, что никто из ребят не отважился и спросить, за какие такие подвиги я награжден. Полного комплекта учебников не имели у нас даже круглые отличники. Обычно одну «Арифметику» мусолили мы по очереди втроем или вчетвером. Получить же учебники на одного можно было только за особые заслуги перед школой, если не перед Отечеством. Все поэтому решили, наверное, что я какой-нибудь неизвестный, а теперь вдруг обнаруженный «Черемыш — брат героя», или сын полка, или, может, я задержал диверсанта, отвинчивающего рельсу на трамвайном маршруте Кузнецк — Болотная.
Отношение ко мне сразу изменилось. Староста класса Сережа Белоусов подошел на перемене в, как с равным, завел со мной светский разговор о коллекционировании марок. Он развернул свой альбомчик и показал разные необыкновенные марки, в том числе такие, которыми не прочь был поменяться. Марки были прекрасны, но, к сожалению, я ничего не мог предложить ему за них, кроме рогатки и того самого ножичка с обломанным лезвием, который так ловко утаил от Варвары Петровны.
А одна девочка даже прислала мне записку.
Была у нас в классе такая девочка — Инна Самусь — очень красивая, интеллигентная и, наверное, страшно умная, так как училась она исключительно на отлично. Эта Инна не то чтобы воображала или зазнавалась, — она нас вообще, кажется, не замечала. Когда к ней обращались, смотрела своими большими и холодными глазами поверх головы, никогда ни с кем не разговаривала и только время от времени посылала записочки — тому, кого почему-то выделяла.
Вот и я вдруг получил записку: «Коля! Приходите в субботу ко мне на день рождения. Будут Сережа, Леня, Марик и Додик».
Короче говоря, к концу дня я уже и сам начал верить, что, может быть, нечаянно как-то совершил что-нибудь героическое. Я перебрал все свои последние подвиги и решительно остановился на одном, который мог иметь неожиданное продолжение. Как раз незадолго до этого, пробравшись в склад Алюминиевого завода, я срезал на грузила большой кусок свинца с электрического кабеля. Кабель этот вполне могли украсть потом диверсанты, чтобы при помощи его подорвать наш родной завод, алюминий с которого шел на строительство военных самолетов. А ток по заранее испорченному кабелю, конечно, не пошел — и завод уцелел. Те, кому положено, дознались, что это я помешал вредителям, и сообщили в школу. Но так как дело секретное, не велели никому говорить, за что награждается ученик такой-то.
…Вечером отец, стащив с одной ноги сапог, задумчиво пошевелил пальцами и вдруг спросил:
— Слухай… Толстомясая такая учительница, с крашеными губами, есть у вас?
— Полная, — поправил я.
— Ну да, полная, — согласился отец. — Такая, брат, полная — аж страшно.
— Это не учительница, это — директор, — сказал я.
— Ышь ты! — удивился отец и принялся за второй сапог.
Закончив разуваться, отец сказал:
— Дак, может, надо было слупить с неё деньги, раз директор? Я думал — учительница.
— Какие деньги?
— Угля я ей вчера привозил, — объяснил отец.
Ока іывается, накануне отец подрядился после работы отвезти два воза угля какой-то толстомясой женщине (он все же сказал — «толстомясая»). Женщина оказалась ничего — веселая. Отец ей сказал: «Вы уж на воз не садитесь, идите рядом, а то коням тяжело». А она рассмеялась: «Да, меня не на лошадях, меня на тракторе только возить!» — «Это смотря какой трактор», — сказал отец. В общем, пока они два рейса делали, пока то да сё, да тары-бары — отец понял из разговора, что толстомясая вроде как учительница. И когда она стала отдавать ему законные две тридцатки — не взял. «Считайте, — сказал отец, — что я вам так отвез, из уважения». Тогда эта женщина спросила отца, как его фамилия и не учится ли у него кто из детей в школе. Отец сказал, что учится сын — не то в третьем, не то в четвертом классе. Женщина опять рассмеялась: «Так всё-таки в каком же?» — «В четвертом вроде, — сказал отец. — А может, в третьем». — «Ну, ладно, я сама проверю. — пообещала женщина. — А папаша вы, я гляжу, неважный». — «Так точно — неважнецкий», — согласился отец… На том они и расстались.
Уже на средине отцовского рассказа я догадался, что в сумке у меня лежит его калым. И "оч-чень хорошим мальчиком" я признан за те же два воза угля. Я даже не полез в склад — проверять, на месте ли катушка с кабелем. Конечно, она была там. Диверсанты, небось, тоже не дураки — они могли, если надо, выбрать и целую катушку.
«Нажито махом — пролетит прахом», — говорила моя мать… Учебниками я попользовался всего два дня.
Пригласительную записку прекрасной Инны Самусь я возвратил авторше. Она приняла это как должное. Не удивилась, не дрогнула даже бровью. Устремив неподвижный взгляд мимо моей головы, взяла записку и небрежно сунула в карман фартучка.
Другого случая попасть в ряды примерных учеников мне не представилось, и в чубатые я вышел по возрасту, а не по привилегии.
ЛЮБОВЬ: ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ И ТАК ДАЛЕЕ…
В этой главе я хочу рассказать о некоторых своих первых влюбленностях, по если какие-то другие события ненадолго увлекут меня в сторону от главной темы, я не стану хватать себя за руку.
В раннем детстве цыганка предсказала мне увлекательное и победоносное будущее. Дело происходило в переулке, между водокачкой и хлебным магазином. Там молодая красивая цыганка ворожила женщинам на мужей, ушедших на войну, а заодно погадала и мне, поскольку я оказался рядом. Так как взять с меня по малолетству было нечего, цыганка обошлась без обязательного вступления: «Позолоти ручку, красивый, — всю правду скажу: как тебя звать, как невесту, что будет девятнадцатого числа». Она погадала мне бесплатно и коротко. Просто схватила грязной рукой за подбородок и, полоснув сатанинским взглядом, сказала:
— Ай, черноглазый! Вырастешь большой — девушек обманывать будешь! Помни мои слова.
Я застенчиво шмыгнул носом, а женщины вокруг рассмеялись.
Предсказание это запало мне в голову. Я, конечно, догадался, что речь идет не о том обмане, которым мы уже тогда занимались каждый день: подойдя к знакомой девчонке, говорили: «Глянь, у тебя пуговица оторвалась», — и когда обманутая наклоняла голову, хватали ее за нос и тянули изо всех сил книзу. Нет, цыганка, скорее всего, имела в виду то, о чем у нас на улице женщины говорили, насмешливо поджимая губы: «Мотькин-то ухажер, а… Поматросил и бросил». Причем насмешка их, похоже было, адресовалась не бессовестному Мотькиному ухажеру, а самой простофиле Мотьке, не сумевшей удержать кавалера.
Значит, сообразил я, это я буду когда-нибудь — чернобровый и высокий, в хромовых сапогах гармошкой, с папироской в углу рта — поматросив, бросать девушек, а они, безнадежно влюбленные в меня, — чахнуть, увядать и, возможно, даже травиться уксусной эссенцией.
Предсказанию этому, однако, не суждено было исполниться. Цыганка ошиблась самым роковым образом. Не я девушек, а девушки стали обманывать меня, как только мои отношения с ними переросли стадию взаимного таскания за носы.
Первый раз я влюбился, когда мне было восемь лет.
Ей было девятнадцать лет. А может быть, двадцать.
Я до сих пор уверен, что другой такой девушки не существовало на нашей улице, в городе Старокузнецке, вообще — в окружающем меня мире. Да и не могло существовать, потому что Женя была из другого мира — веселого, нарядного, праздничного. Назывался её мир — Ленинград. В том мире жили красивые и сильные молодые парни. Они носили белые майки с воротничками, играли в футбол, наперебой дарили Жене цветы, катали её на лодках и угощали мороженым. Женя много раз рассказывала об этом моей матери.
Все в ее мире было необыкновенным и ярким, как в кино. И сама Женя походила на артистку Ладынину из фильма «Трактористы». У нее были такие же короткие волосы, такие же большие смешливые глаза, полные губы и ямочки на щеках.
Я тайно радовался, что Женя приехала к нам одна, без своих красивых кавалеров. Я любил Женю и собирался, как только маленько подрасту, жениться на ней, а эти парии могли бы здорово помешать моим намерениям. Здесь же, па улице Аульской, мешать мне было некому. На четыре двора туда и на четыре обратно не существовало у меня соперников.
Дядька Дронов, у которого Женя стояла на квартире, был грубый мужчина, ходивший зимой и летом в ватных штанах. Кроме того, у Дронова уже имелась жена тетя Параша и две дочки — Тамарка и Нинка. Женатыми были также старый и глухой, как пень, Максим Аксёнович Крикалин, дядя Петя Ухватов, дед Зяпин и сосед его Анисим Ямщиков.
Мог, конечно, посвататься к Жене второй квартирант Дроновых Иннокентий, потому что он сватался ко всем подряд, даже к моей ровеснице Тамарке Дроновой. «Та-та-та-ммара, — сказал он ей однажды. — И-ди-ди зза меня вззамуж, а я те-бе-бе гре-бя-бя-бя-бяшенку сде-де-лаю». (Иннокентий воровал на Алюминиевом заводе металл и, соорудив в дроновском огороде формы из глины, отливал на продажу чашки, ложки и гребенки). Но, во-первых, Иннокентий был жуткий заика, во-вторых, жулик и, в-третьих, как все считали, слабоумный.
Оставался еще наш квартирант — Алексей Петрович Мошкин. Только уж Алексей Петрович вовсе на жениха не походил. Он был низенький, щуплый, все у него было крохотным: крохотный носик, ротик, крохотные серые глазки, крохотные ушки на лысой голове. Даже полувоенная форма — диагоналевая гимнастерка и синие галифе — не придавали ему внушительности. К тому же Алексей Петрович был, по моим понятиям, мужчина в летах, хотя, вполне возможно, такому представлению о нем способствовала форма, лысина и важная должность Алексея Петровича (он работал каким-то начальником в ОРСе). Как орсовский работник, Алексей Петрович мог поселиться в общежитии, по у него были основания жить не на виду. Рядом с узкой коечкой Алексея Петровича стояла тумбочка, всегда набитая шпиком, сухарями, повидлом и американским колбасным фаршем в плоских баночках. По вечерам Алексей Петрович, повернувшись к нам спиной, поедал свои запасы, и острые уши его мелко вздрагивали.
Иногда Алексей Петрович возвращался домой выпивши. Тогда он не ужинал, а сразу ложился на кровать и произносил песни. Не пел — голоса у Алексея Петровича не было, — а именно произносил нараспев. Песен он знал всего две:
Старушка старая-престарая Ходила с батожком… Полюбила лет семнадцати — Забегала бегом.Эта песня считалась у него веселой. Алексей Петрович выговаривал ее дребезжащим насмешливым голоском.
Но скоро веселость оставляла его, он протяжно вздыхал и начинал повторять другую, печальную песню.
Ах, какой же я дурак, —тоскливо жаловался Алексей Петрович, —
Купил ворованный пиджак… А что, что, что… Купил ворованный пиджак.Алексею Петровичу нравилось, когда к нам забегала Женя. Он тогда оживлялся, начинал суетиться и повторять:
— А кто же это к нам пришел?! Это Женечка к нам пришла…
Он распахивал свою священную тумбочку и угощал Женю американским фаршем и пастилой.
— Выходите за меня замуж, Женечка, — говорил Алексей Петрович, подперев щеку крохотным кулачком.
Женя, смеясь, съедала пластик фарша, обнимала меня за плечи, прижималась горячим лицом к моей щеке и говорила:
— Нет, вот кто мой женишок ненаглядный! Вот мой верный рыцарь, мой д'Артаньян!
Потом она убегала на кухню, к матери, и там, рассыпая смех, опять и опять говорила про Ленинград, про красивых и умных своих кавалеров, про Фонтанку и Летний сад.
А я сидел, боясь пошевелиться, боясь тронуть рукой лицо, и долго-долго моя щека хранила тепло и запах ее щеки.
Женя обманула меня. Оказалось, я не был её рыцарем и её д'Артаньяном.
Женя вышла замуж за Алексея Петровича.
Американский колбасный фарш и ревность тети Параши Дроновой, выгнавшей Женю с квартиры, сделали свое черное дело.
Я не сразу понял, что происходит. Как-то вечером, прибежав с улицы, я увидел, что кровать Алексея Петровича отгорожена занавеской из байкового одеяла, а перед занавеской стоит мать и говорит кому-то:
— Вот что, голуби ясные… Я, конечно, не Дрониха — гнать вас на улицу не буду. Поживите, пока с комнатой не утрясется. Но и долго тоже держать не смогу. Уж вы извините. Как-никак, дети у меня.
А утром из-за байковой занавески вышла Женя. Глянула поверх моей головы пустым светлым взглядом и проскользнула на кухню.
Так Женя поселилась у нас. Она стянула свои короткие пышные волосы платочком, больше не смеялась, и теперь из кухни чаще доносился не её голос, а матери.
— Ах, Женечка, — негромко говорила мать, — ну кто же льет в рассольник рассол?.. В рассольник надо покрошить соленых огурчиков.
— Ой! — пугалась Женя. — Что же я, дуреха, наделала! Сейчас Алексей Петрович обедать придет.
Алексей Петрович вскоре приходил, усаживался возле тумбочки и ждал, когда ему принесут миску с рассольником.
— Соль поставь, — скрипуче говорил он в женину спину. — Соль и хлеб наперед всего должны быть на столе. Сколько можно повторять?
Они прожили у нас недели две, пока Алексею Петровичу не вырешили комнату в Шлакоблочном поселке.
Странно, что я не очень переживал. А первые дни я был ошарашен, изумлен — Женя и Алексей Петрович никак не соединялись в моем сознании. А когда изумление стало проходить, я заметил, что уже не так сильно люблю Женю. Эту новую Женю, суетящуюся, озабоченную, с испуганными круглыми глазами, я не мог любить по-прежнему…
«Любовь — это разновидность пьянства, — говорил Нушич. — Только после того, как человек выпьет первые два стакана, у него появляется аппетит и жажда, и он начинает опрокидывать стакан за стаканом».
Наверное, я был предрасположен к пьянству — жажда появилась у меня уже после первого стакана. Пьяница, как известно, неразборчив — он похмеляется тем, что под руку подвернется. Так и я, недолго думая, решил влюбиться в Тамарку Дронову.
Тамарка, впрочем, была вовсе неплохой девчонкой, по крайней мере, красивой — уж это точно. У нее была круглая мордашка, большие серые глаза, аккуратный носик и две взрослые косы. И, главное, мы с ней ладили. Тамарка охотно и даже как-то почтительно принимала мои ухаживания.
Но меня смущали ее родители.
У дядьки Дронова была одна нездоровая страсть: он любил играть в карты, в «очко». Обычно, когда я к ним заходил, он лежал после ужина на кровати, задрав босые ноги на спинку её, и скучал. При виде меня Дронов оживлялся, доставал из сундучка захватанные карты — и начиналась битва. Так как деньги у меня не водились, играли мы с ним на щелчки. Дронову не везло — он всякий раз проигрывал.
— Дядя Дронов, может, не надо? — говорил я, видя его огорчение. — Может, отыграетесь потом?
— Щелкай, щелкай, — упрямо сбычивался он. — Щелкай — я за всю жизнь в долгах не был…
— Придешь завтрева? — спрашивал Дронов. И, не сдержавшись, выдавал свою мечту: — Эх, мне б тебя, Колька, хоть разок подкараулить! Уж я тебя щелкану. Я тебя так щелкану, что в штаны наваляешь!..
Я смотрел на черные суковатые руки Дронова, и меня заранее мутило от страха. Ведь должно же было ему когда-нибудь повезти…
Толстая белотелая тетя Параша Дронова была охальницей.
Когда мы, ребятишки, устраивали на Новый год елку в чьем-нибудь доме, тетя Параша мазала лицо сажей, являлась к нам на утренник и устраивала «художественную самодеятельность».
— Мнне мамынька купила К пасхе новые пажи!..пела она, тяжело, по-слоновьи, приплясывая и тряся юбками:
А ребята привязались: Покажи да покажи!Летом было у нее другое развлечение. Вдруг она, истомившись дома от безделья, с визгом выскакивала на полянку, где мы играли, и кричала:
— Девки, девки!.. Доржите меня — я стойку буду делать!
И с разбегу опрокидывалась на руки. А «девки» — Тамарка и Нинка должны были успеть схватить ее за взметнувшиеся ноги.
Юбки с тети Параши падали, обнажая ее мясистые прелести.
Словом, я решил спасти тихую Тамарку, да и себя тоже, от нехороших ее родителей. Не теперь, конечно, а в будущем.
Такое условие я ей поставил: как только подрастем — сбежим от отца с матерью.
Тамарка поплакала и согласилась.
А я, столкнувшийся уже с женским коварством, тут же назначил ей пробное испытание: завтра весь день пасти со мной корову.
Я пас корову на пустыре, за растворобетонным узлом. Вот туда-то и должна была прибежать ко мне Тамарка, удрав из дому.
— Мамка наказывала морковку прополоть, — попыталась было отговориться она.
Но я был неумолим.
Тамарка не пришла на пустырь. Ни утром, на в обед, ни после обеда.
Я напрасно прождал её целый день и вечером отправился к Дроновым — узнать, что случилось.
Дронов вскочил с кровати и зашлепал босыми ногами к сундучку.
По тетя Параша сказала:
— Ты бы подождал с картями, отец. Жених ведь пришел.
— Какой такой жених? — спросил Дронов.
— Да как же, — хихикнула тетя Параша. — К Тамарке он нашей посватался.
Дронов прозрел. Он сообразил, что все это время подставлял лоб не благородному партнеру, а низкому притворщику, пораженному совсем иной страстью.
— А вот я ему женилку-то отрежу! — пригрозил Дронов.
Я понял, что Тамарка предала меня, — и любовь наша на этом кончилась. Оборвалась легко, как ниточка, и, честно говоря, я даже почувствовал облегчение. Больше не надо было думать о том, как украсть Тамарку у родителей и где жить с ней после этого. Правда, я подыскал в согре укромную сухую полянку и даже начал строить там шалаш. Крутом было полно красной смородины, росли съедобные пучки, попадались птичьи гнезда. В конце концов, можно было настрелять из рогатки куликов — и как-нибудь прокормиться.
Но все это годилось только летом. А как жить в шалаше зимой — я совершенно не представлял.
Про третью, четвертую, пятую любовь не стоит говорить подробно. Войдя во вкус этого дела, я влюблялся легко, но непрочно, часто менял свои привязанности — так что избранницы мои, бывало, не успевали и догадаться, что они обожаемы.
Иногда любовь, как инфекционное заболевание, поражала сразу весь класс. Помню один такой случай. У нас была девочка — очень красивенькая, с длинными пепельными косами. Однажды какой-то сорванец обмакнул кончик ее косы в чернильницу. Гордая красавица, даже не взглянув в его сторону, взяла бритвочку, с большим лишком отрезала испачканный хвостик и выбросила в окно.
Этот жест настолько потряс всех нас, что мы тут же дружно в нее влюбились.
Ох, и натерпелась же она от нашей любви!.. Стараясь привлечь к себе внимание, ее беспрерывно дергали за косы, наступали на пятки, загораживали двери в класс и минутами торчали перед глазами, в надежде, что она рассмотрит, наконец, и выделит кого-нибудь из обожателей, наводили на нее во время переменок сразу по пятнадцать солнечных зайчиков.
Так вот и продолжалось это до тех пор, пока меня не подстерегла
Снова первая любовь
До этого я сам распоряжался, в кого мне влюбиться, когда и насколько. Я мог даже устраивать себе временные передышки. Так, уходя на летние каникулы, я отпускал на каникулы и любовь — лето и без того было прекрасно.
А тут… Вдруг появилась на нашей улице новенькая девочка.
Соседка Валька Крикалина нас познакомила.
День был осенний, золотой, и волосы у девчонки были золотые, и глаза золотые, и улыбнулась она так, что я чуть не закукарекал от восторга.
Словом, это была классическая любовь с первого взгляда — как в романе.
Правда, сам я не сразу оценил ни всей драгоценности подарка судьбы, ни всей тяжести обрушившегося на меня несчастья.
Целую зиму я писал прутиком на свежих сугробах: «Коля + Оля = Любовь», наивно полагая, что любовь укладывается в это несложное арифметическое действие. То, что она — даже идеальная и взаимная — соединяет в себе сложение с вычитанием, мне предстояло узнать ещё не скоро.
Наступило лето, и я решил отправить любовь на каникулы. Тем более, что брат отца дядя Паша взял меня на покос — копновозом. Я спал в шалаше на свежем сене, рыбачил, ел печеную картошку, вечером мог сколько угодно сидеть у костра и слушать разговоры взрослых. А главное — у меня была своя, персональная лошадь, под настоящим седлом!.. О чем, казалось бы, еще мечтать?
Но тут-то и началось.
Я отпустил любовь на каникулы, но она не отпустила меня.
По ночам мне стала являться моя краля. Она приходила и стояла передо иной, кокетливо наклонив головку. Она смеялась зелеными своими глазами, уронив на одну бровь соломенную прядку.
Для чего она делала это, спросить следовало бы у неё или у того, кто решает за нас, — в кого нам следует влюбляться, а кем пренебречь. Во всяком случае, сама-то она спала вполне безмятежно, — поскольку не испытывала ко мне встречных чувств, — а образ её в это время блуждал в тридцати километрах от города и отравлял мне каникулы.
Вообще, не повезло мне крепко: я ухитрился влюбиться в самую красивую девочку в школе. В этом вопросе, как известно, порядка не существует. Природа сначала создаст переизбыток всевозможных девчонок: конопатых, длинноногих, курносых, редкозубых, большеротых — а потом возьмет да и подарит всю любовь двум-трём эфирным созданиям: глазки-коляски, локоны, губки бантиком и прочее. Мне бы, например, по идее надо было полюбить Вальку Крикалину — внучку глухого Максима Аксеновича. Кроме того, что Валька тоже была вполне симпатичной девчонкой, ее преданность мне не знала границ. Помню, однажды я вышел из дома, держа в одной руке рогатку, заряженную свинцовым шариком, а в другой — начатую морковку. Валька как раз поднималась от колодца, несла на коромысле два ведра воды. Меня она не видела. Я решил привлечь к себе внимание оригинальным способом: быстренько догрызть морковку и «попкой» ее выстрелить в Вальку. Правда, огрызок мог оказаться легковатым, но огороды паши расположены были рядом — и если посильнее натянуть рогатку…
Короче, я так и сделал.
Валька уронила ведра, зажала руками бок и с диким воплем понеслась домой.
Я не сразу сообразил, что произошло. Только когда увидел валявшийся возле ног морковный огрызок, понял, холодея от страха: ведь я же выстрелил по Вальке свинчаткой!.. А огрызок этот проклятый машинально бросил на землю.
Валька никому не пожаловалась — иначе за такой разбой с меня бы спустили три шкуры. Бабки её дома не было, а Максим Аксенович не услышал Валькиного визга, так что ей легко удалось скрыть мое преступление. Через несколько дней мне же, единственному, Валь ка показала затянувшуюся ранку, виновато приподняв майку.
Да, никто не любил меня так, как Валька!..
А я, между тем, выполнял предначертания природы, которая, вдобавок, оказалась ко мне почему-то безжалостнее, чем к моим приятелям. Другие эфирные создания, подрастая, превращались либо в дылд, либо в толстух, и тогда их поклонники получали возможность передохнуть — до следующего увлечения. Моя же избранница из самой красивой девочки превратилась в самую красивую и поэтичную девушку, не поглупела, не потолстела, и когда мы, уже старшеклассники, оказывались вместе на пляже или в спортзале, — я всякий раз убеждался, что сложена она не просто хорошо, но идеально, возвышенно, аристократично.
Однако, я забегаю вперед.
В седьмом классе началась у нас эпидемия ухажерства. Девчонок разбирали нарасхват. Не случалось дня, чтобы какая-то из них не получала записку: Зойка или Светка, давай дружить.
Я поколебался маленько, но все же решил не посылать Оле записочку. Во-первых, мы с ней к тому времени незаметно сдружились и были почти неразлучны. Вместе ходили в школу, вместе — из школы. Ждали друг друга после разных заседаний, сборов и активов. Случалось даже, что она устраивала мне маленькие «семейные» сцены — обижалась на что-нибудь и капризничала. А что может быть лучшим подтверждением прав кавалера, как не капризы его дамы.
Во-вторых, к седьмому классу я вполне сформировался в критически мыслящую личность, в ушастого философа. Я мог, например, прочесть «Войну и мир» и за два вечера распропагандировать среди своих друзей особый взгляд Льва Толстого на роль личности в истории. А на другой день мне попадалась в руки строгая брошюра, не оставлявшая камня на камне от гнилой теории автора. Я бросался к друзьям и в течение нескольких часов перековывал их из сторонников Толстого в его противников. Вот каким я был аналитиком и трибуном.
В-третьих, я был напичкан мудростями. Я прочно знал, что «жалость унижает человека», «первая любовь молчалива» и что «дружбу не предлагают». Я презирал оболтусов, потеющих над любовными записочками, и втайне гордился тем, что наша с Олей дружба не оскорб лена примитивным сговором. Правда, «незахваченная» девчонка представляла собой зыбкий капитал, тем более, что в классе имелись ребята и симпатичнее, и храбрее меня. Но никто из них не осмеливался посягнуть на даму сердца человека, способного в два дня утвердить и ниспровергнуть авторитет гения. Не слишком начитанные ребята наши уважали интеллект.
Беда пришла с неожиданной стороны.
Весной к нам перевели одного парня. Перевели не из параллельного класса, а из старшего, восьмого, в котором он сидел уже второй год. У него была настолько дремучая рожа закоренелого двоечника, что я не сразу разглядел в нем мученика, выстрадавшего эту нашу встречу во времени и пространстве. А между тем, оказывается, судьба давно копала мне яму. Пока я разбирал сложноподчиненные предложения, доказывал теорему Пифагора, читал «Записки охотника» — короче, стремился вперед, — он с таким же упрямством железно стоял на месте. А иногда, как в ту роковую весну, ему удавалось даже продвинуться назад. И когда его оставляли после уроков долбить зады, и когда выводили за четверть сплошные двойки, и когда отец порол его ремнём — всё это была лишь расплата авансом за будущий триумф.
И вот мы встретились…
То есть, что значит встретились? Меня он, собственно, не заметил. Он был новичком, героем дня, диковинкой. К его рыжей физиономии были прикованы все взгляды, в то время как ему наши лица ещё предстояло научиться различать где-то через месяц.
Зато он увидел Олю. Да и как можно было её не увидеть!..
Так вот, рыжий обратил внимание на Олю и — конечно же! — не для того он, поротая задница, терпел лишения, не для того сопротивлялся, дубина, проникновению в голову знаний, а в душу поэзии, чтобы его охватил трепет, нерешительность или сомнения. К тому же, рыжий не знал, что дружбу не предлагают, — и в этом было его преимущество. На первой же перемене он подошел к ней и сказал: «Давай дружить».
И Оля легко ответила: «Давай», — разом перечеркнув все мои завоевания.
В этот день ее портфель из школы понес он. А я, по инерции, плелся рядом, пока не опомнился и не сообразил, что выгляжу глупо. Тогда я свернул в какой-то пе реулок, и Оля — вот ирония судьбы! — удивилась и, похоже, обиделась: почему это я сворачиваю, когда нам по пути?
Потом, впрочем, она перестала удивляться. Рыжий сыграл свою роль — и только. Он снял с Оли табу, расколдовал царевну, но сам оказался далеко не королевичем Елисеем и скоро вынужден был отступить перед длинноногими спортсменами и причесанными на косой пробор звездами школьной самодеятельности…
Здесь можно бы поставить точку. Собственно, на этом именно месте её и поставил когда-то в своем дневнике один разочарованный юноша. Но он не знал еще, что жизнь долго казнит умных мальчиков, затвердивших разные высокие изречения.
Первая любовь не проходит так легко. Долго еще оставался я для Оли преданным другом детства, подставлял плечо в трудные минуты, врачевал её сердечные раны, забыв про свои. Мне суждено было дождаться самого обидного дня в своей жизни, когда не девчонка уже, а девушка, чужая невеста, связанная, как я догадывался, кое-чем покрепче клятв и обещаний, ошеломила меня неожиданным признанием: «Эх, Колян, Колян, — сказала она. — Почему ты не написал мне тогда «давай дружить»? Ведь ты нравился мне больше всех других мальчишек»…
Глупую мою голову, набитую идиотскими истинами, спасло в тот момент лишь отсутствие рядом подходящей стены.
Как я презирал себя!
Какими называл словами!
Каким несчастным себе казался!..
И, конечно, не мог предположить тогда, что когда-нибудь скажу по-другому: как хорошо, что мне посчастливилось все это пережить! Что не захочу потом возвратить и перекрасить ни единое мгновенье, что — благодарный судьбе за все случившееся со мной — буду повторять вновь и вновь:
Нет, первая любовь, не сбывайся никогда! Останься болью, электрическим ударом в сердце — когда вдруг мелькнет в толпе похожий профиль, золотым летним дождем, сладким воспоминанием о трепете от первых прикосновений. Останься девочкой-недотрогой, пролейся не любовным потом, а слезами и стихами.
Книги
Поскольку человека, как установлено специалистами, формируют семья, улица и школа, а мы трем названным институтам, по мере сил, воздали должное и даже про любовь — сверх того — поговорили, эту последнюю главу можно было бы, наверное, не писать. Однако некоторые ранние воспоминания, а также недавние встречи не дают мне покоя и подталкивают если не на спор с авторитетами, то, по крайней мере, на кое-какие поправки и дополнения.
Прежде всего, мне хочется рассказать про один интересный случай с учеником нашего класса Валькой Исаевым.
Семья и школа старательно формировали трудного человека Вальку. Особенно усердно работал в этом направлении его отец (то есть, на самом деле отчим), который воздействовал на внутренний мир Исая посредством формирования его внешнего облика.
— Вот я тебе, черту, бока пообтешу! — говорил обычно отчим. После чего он хватал что под руку подвернется: ремень, хворостину или одно из орудий своего кустарного производства — сапожную колодку — и начинал в буквальном смысле обтесывать провинившемуся пасынку бока.
Казалось, от этого неустанного формирования тропка к Валькиной душе давно заросла лебедой, крапивой и прочим чертополохом.
Но так лишь казалось.
Однажды учительница прочла нам за два урока трогательную книжку «Нелло и Патраш». Валька на этот раз не мяукал, не кукарекал, не стрелял алюминиевыми пульками по затылкам отличников. Он слушал не шелохнувшись. А потом подошел к учительнице и отрывисто сказал:
— Дай книгу!
— Ты что это, Исаев, совсем ошалел?! — возмутилась Варвара Петровна. — Научись сначала разговаривать!
— Дай! — повторил Валька. — Ну, дай!
— Иди, Исаев!.. Иди — не хулигань здесь, а то я тебя живо к директору отправлю! — пригрозила Варвара Петровна.
Валька отступился.
Но на другой день он пришел за книгой вместе с матерью.
Мы впервые увидели мать Исая — худую, распатланную, похожую на цыганку.
— Родненькая, красавица! — рыдающим голосом запричитала мать Исая, увидев Варвару Петровну. — Дай ты нам эту книжку — ведь там про папку нашего написано.
— Про какого еще папку? — изумилась Варвара Петровна и строго взглянула на Вальку. — Исаев!.. Что ты там опять наболтал?
Бледный Валька молчал, не поднимая глаз.
— Да милушка, да заступница! — умоляла мать. — Да отдай ты ему книжку, христа ради! Ведь извелся парень-то, погляди!.. Да не порвем мы ее, золотая ты моя, — в бумажке будет лежать завернутая, хоть за божницей!..
— Господи, это чушь какая-то! Дикость! — пятилась Варвара Петровна. — Да поймите вы, мамаша, — книга библиотечная. Ну, что же это получится, если сегодня мы одному книжку отдадим, завтра другой себе потребует, послезавтра — третий?
Это был фальшивый довод — никто, кроме Исая, не собирался требовать себе книг. Но Валькину мать он обезоружил.
— Ох, твоя, видать, правда, голубушка, — сказала она. — На всех-то на них книжек где же напасешься. Да только парень у меня — веришь? — заболел прямо: про папку, говорит, там написано — и все.
— Это он недопонял, — смягчилась Варвара Петровна. — Ты, Валя, подойди ко мне после уроков, я тебе еще почитаю. Там совсем не про твоего папку.
Так Варвара Петровна сберегла библиотечный фонд от разбазаривания, попутно одержав еще одну победу над непокорным Валькой Исаевым… Только, черт его знает, может, надо было отдать тогда этому психу Вальке книгу? Пойти к библиотекарше, сговориться с ней по-хорошему. Или сказать, что книга, мол, потеряна. Ведь не съела бы библиотекарша Варвару Петровну.
Мы стали с тех пор гораздо богаче. У нас теперь много книг. Даже очень много. Но по-прежнему ощущается нехватка в людях, способных обливаться слезами над вымыслом.
Несколько лет назад на одном светском рауте я оказался в компании идеально сформированного человека. Кроме школы, улицы, семьи, его пять лет формировал институт, затем — аспирантура, профессура и несколько международных симпозиумов. Так что с этой стороны все у него было в порядке.
Не помню уж, в связи с чем я процитировал две известные строчки Маяковского.
Собеседник мой наморщил лоб, уловив что-то смутно знакомое.
— Это, простите, не из того ли стихотворения, где «онанисты, кричите ура»? — спросил он и сочно хохотнул.
Мне стало грустно. Я понял, что «земля» его прочно покоится на трех «китах», по четвертый «кит» — белый «кит» прекрасного — когда-то давно проплыл мимо, выбросив прощальный фонтан, из которого на поверхность этой скудной земли упала одна-единственная соленая капля.
Скажи мне, какие книги ты читаешь, — и я скажу кто ты.
С книгами, как с людьми: можно попасть в хорошую компанию, можно в дурную, а можно и вообще остаться без друзей — одному-одинёшенькому.
Наверное, у этого ученого дяди в детстве были плохие «друзья» или их совсем не было, а теперь, когда он вынужден читать одни авторефераты кандидатских диссертацией, трудно увлажнить давно закаменевшую почву.
Это я хорошо знаю по собственному опыту.
Вот что должен прочесть я в ближайшее время:
Роман одного графомана «Колеса скрипят», объемом в тысячу двести страниц, написанный по железному принципу: «Чтобы словам было тесно, а мыслям просторно». Словам в этом произведении так тесно, что тесемки на папке не сошлись, и автор принес её мне перевязанной крест-накрест бельевой веревкой. Этой плитой бумаги можно свалить с ног быка. «Скрипят» не только «колеса». Прогибаясь, поскрипывает под тяжестью папки столешница. Нескольким же крохотным мыслям, разбросанным по страницам романа, просторно, как охотнику в якутской тайге.
Две общих тетради стихов пенсионера X. — тетрадь лирическую и тетрадь гражданскую. В каждую из них автор вложил по хвалебному отзыву о своем творчестве. Написаны отзывы двумя знакомыми мне поэтами, людьми весьма и весьма достойными. Не знаю, чем запугал неутомимый пенсионер уважаемых мастеров слова, но дело, кажется, нечисто. Ибо первая тетрадь (я успел заглянуть в нее) начинается стихами:
О, почему я не берёзка? Не дуб, не клен, Не ихний тёзка?!Вначале же второй стихотворец сообщает, что:
На дне океана Уж бурятся вышки — Из недров земли Добывают излишки.Наконец, меня ждет только что вышедшая книга моего приятеля — повесть о мужественных первопроходцах суровых земель. Приятель мой, как говорится, далеко не Лев Толстой, но он удачно поместил свой скромный капитал в святую тему освоения Севера — и покладистые землепроходцы много лет везут его от книжки к книжке.
Через несколько дней приятель ко мне заедет. В глазах его будет немой вопрос.
— А знаешь, старик. — словно бы приятно изумляясь, скажу я. — Оч-чень неплохо!
Лукавые люди, мы давно избрали эту удобную форму. Мы не говорим друг другу решительное «хорошо» или убийственное «плохо». Мы придумали странное словосочетание, нечто вроде Тяни-Толкая: «очень неплохо». Стоит убрать довесочек «очень», как от оставшегося слова повеет холодом. Тяни-Толкай сразу попятится в сторону «плохо». По стоит схватить его под уздцы ещё одним «очень» — как он загарцует уже в сторону «гениально». Важно лишь не оговориться. Один мой знакомый как-то сказал своему приятелю вместо «очень неплохо» — «очень неважно», и, хотя суть оценки вроде бы мало изменилась, знакомый нажил себе кровного врага.
Конечно, я не оговорюсь — мой приятель останется доволен. Даже пенсионера X. я не успокою, заверив его, что он вполне дуб, или уж, по крайней мере, тезка — и напрасно себя недооценивает. Вместо этого я посоветую ему учиться у классиков — совершенствовать форму и содержание.
Но, боже! — как не зачерстветь душе в такой компании, как не испортиться характеру!
Спасибо детству. В детстве подобной литературы я не читал.
Первая книжка, не помню как доставшаяся мне насовсем, была без титульной страницы, но зато начина лась она словами, от которых у меня сразу перехватило дыхание:
По синим волнам океана, Лишь звёзды блеснут в небесах, Корабль одинокий несётся, Несётся на всех парусах…Дальше оказалось еще тревожнее и загадочнее:
Не гнутся высокие мачты, На них флюгера не шумят, И молча в открытые люки Чугунные пушки глядят.Когда я дошел до того места, где сказано про императора, что «зарыт он без почестей бранных врагами в сыпучий песок», меня прямо мороз продрал по спине. А следующие грозные строки:
Лежит на нем камень тяжёлый. Чтоб встать он из гроба не мог, —прозвучали как залп из тех самых угрюмых пушек, которые молча смотрят в открытые люки.
Это был тоненький томик Лермонтова — десятка полтора стихотворений. Я вызубрил их наизусть и только тогда понес свое сокровище в библиотеку. В то время, чтобы записаться в библиотеку, надо было сдать какую-нибудь книжку.
Другой, похуже, у меня не было, и я, поколебавшись, решил расстаться с этой.
— Что у тебя, мальчик? — спросила библиотекарша. — Лермонтов. Мэ, Ю… Нет, мальчик, ничего не выйдет: здесь не хватает страничек, а мы плохих книг не берем.
Если бы эта тетенька умела читать в глазах пацанов, прижимавших к груди свои первые книжки, она немедленно записала бы меня в свою библиотеку не рядовым, а почетным читателем. Но она не умела. А может, и умела, да кричащие письмена эти не трогали её душу.
…«По синим волнам океана, — шептал я, глотая слезы. — Лишь звезды блеснут в небесах»… Плохая книга? Эта книга плохая?! Ну, нет! Даже с половиной страничек, даже порванная, склеенная, замусоленная, она осталась бы самой прекрасной книгой на свете… «По синим волнам океана»…
В библиотеку я смог записаться только в четвертом классе. И сразу же попросил дать мне «Конька-Горбунка». Библиотекарша глянула на меня с недоумением. Стоявшие рядом мальчишки рассмеялись, и один из них поддел меня, негромко сказав: «Мама, дай титю». Сами они караулили, кажется, рассказы о Шерлоке Холмсе.
Плевать мне было на их насмешки. Читал я уже про Шерлока Холмса. И про Шерлока Холмса, и «Униженные и оскорбленные» читал, и даже кое-что ещ. А «Конька-Горбунка» — нет. Сестра таких книг в дом не приносила.
Я засунул книгу почему-то не в сумку, а за пазуху, под рубашку, и пока бежал домой, сердце мое радостно тукало в её твёрденькую обложку.
Дома я бросил сумку с тетрадками, схватил кусок хлеба, забрался с ногами на лежанку, стоявшую за печкой, и…
За лесами, за горами, За широкими морями, Не на небе, на земле Жил старик в одном селе…С чем сравнить такие мгновения?! Не знаю… Возраст — с одной стороны, и обязанность читать жаждущие сравниться с дубами и кленами — с другой, сильно остудили воображение.
Но я точно помню: книги формировали нас легче и лучше, чем институты, официально уполномоченные формировать. Они учили честности, прямоте, бескорыстию, справедливости, — не повторяя надоедливо: не ври, не завистничай, не жадничай.
Они призывали к действию.
Когда мы с дружком моим Эдькой прочли «Черную стрелу» Стивенсона, то сделали себе по луку, нарезали черемуховых стрел, оснастили их жестяными наконечниками и, для начала, испробовали свое оружие на тыквах. За четыре измочаленных тыквы была нам устроена грандиозная трепка, но зато потом мы целый месяц держали и суеверном страхе всех грыжевиков улицы Аульской, Kaждый вечер то одному, то другому из них вонзалась в ставню черная стрела. Выскочивший на улицу в одном исподнем, хозяин с матерками выдергивал ее, а выдернув, обнаруживал намотанную возле наконечника бумажку, с которой скалился жуткий череп.
А после «Тимура и его команды» разве не мы распилили на дрова инвалиду финской войны Ишутину все брёвна… заготовленные им, как выяснилось впоследствии, для строительства новой бани «по-белому» — вместо старой, которая топилась «по-черному».
Не могу теперь припомнить всех наших книжных игр. Скажу только, что для меня лично одна из них оказалась пророческой.
Однажды я опаздывал к началу игры в «синие» и «красные», и, когда появился на улице, все должности были уже разобраны.
— Ты кем будешь? — спросили меня.
Я только что прочел удивительную книгу «Возмутитель спокойствия», был свежо влюблен в ее героя, побеждавшего свирепых воинов и могучих правителей одной веселой мудростью, и поэтому заявил:
— Я буду Ходжа Насреддин.
Ну, ладно. Ходжа так Ходжа. Ребята с нашей улицы не очень-то читали книги — им негде было взять их. Раз человек желает быть каким-то Ходжой — значит, существовал такой полководец.
Но оказалось, что это еще не все.
— А как зовут твоего коня? — спросили они. — Вот у него, — кивок в сторону напыжившего грудь «Буденного», — коня зовут «Казбек».
— А у меня не конь, — тихо сказал я. — У меня ишак.
…Разве я мог знать тогда, что делаю выбор на всю жизнь.
Послесловие
Несчастны, несчастны сочинители, которым обязательно нужен слушатель. Едва допечатав страничку, такой литератор вынимает ее из машинки и несёт на кухню — жене.
— Вот послушай-ка, что получилось, — говорит он. Жена обреченно вытирает руки о фартук и присаживается на краешек стула.
— Ну, — вздрагивает она через минуту, прослушав ничего не говорящий ей отрывок, — а что дальше?
— Дальше, дальше! — обижается сочинитель. — Разве в этом дело… Ты стиль оцени. Язык почувствуй.
В праздничной компании, дождавшись, когда гости сомлеют от пельменей и водки и утратят способность сопротивляться, сочинитель, прижимая руки к груди, просит:
— Позвольте, друзья, прочесть вам рассказ. Горяченький. С колёс. Только что дописал. Буквально сегодня.
Он знает, что делать этого нельзя, что слова, не одетые в броню типографского шрифта, беспомощны, как только что вылупившиеся и не успевшие обсохнуть цыплята, но — не может остановиться.
Увы, покорный наш слуга относится именно к такому типу сочинителей.
Не дав этим заметкам отлежаться, не выправив как следует орфографические ошибки, я поспешил размножить рукопись и понёс её друзьям-приятелям — на суд их и приговор.
Друзья, давно смирившиеся с неотвратимостью подобных моментов, изобразили на лицах интерес, а иные старательные даже нетерпение: дескать, иу-ка, ну-ка, — что ты там снова отчубучил?
Подождав неделю, я, как охотник, заблаговременно расставивший снасти, отправился собирать добычу. «Что там в моих силках и ловушках? — волновался я. — Какие соболя-горностаи?» Конечно, отдавая рукопись, я всякий раз бормотал обязательное, что жду, мол, только правду, одну правду и ничего, кроме правды. Но кто же не знает, что это всего лишь заклинание, вроде «ни пуха ни пера» или «ни рыбы ни чешуи». На самом-то деле, боясь сознаться даже самим себе, мы всегда ждем единственного зверя. У этого зверя васильковые глаза, нежная искрящаяся шерсть и мягкие лапы, лишенные когтей. Имя ему — Восторженное Впечатление.
На этот раз, однако, в ловушках моих оказались какие-то мелкошерстные, коротконогие ублюдки.
Первый друг признался, что впечатление у него возникло сложное: пока читал — было легко, а как дочитал — то стало вроде бы не очень-то весело.
Второй мои друг — человек жизнерадостный и полнокровный, искренне даванув мне руку, сообщил:
— Местами ржал! Местами, старик, прямо укатывался… Но местами… понимаешь? — он ткнул пальцем куда-то под широкий лацкан модного блайзера, и выражение лица у него сделалось беспомощно-просительным. — Полегче бы, старик, а? Не нажимал бы ты так.
— Да где же я нажимаю-то? Конкретно?
Друг поднял глаза вверх, повспоминал и ответил, что конкретно так вот сразу указать не может. Но впечатление осталось.
Третий друг (друг — редактор) мне посочувствовал.
— Я тебя понимаю, — сказал он. — Я-то тебя понимаю. — (Редактор родился в сорок третьем году и краешком прихватил лихолетье). — По мой тебе совет: просветли маленько.
Тут редактор увлек меня разговором о том, что детство все-таки было детством, таким, какое досталось, единственным и неповторимым, и мы с ним, действительно, припомнили много неповторимых моментов.
Редактор сказал, что никогда уж больше не носился, замирая от восторга, босиком по не оттаявшей ещё земле.
Я заметил, что никогда больше мне не приходилось ночевать в избе вместе с коровой (это чудо — как старательно втягивала она бока, чтобы протиснуться в узкую дверь, как вздыхала потом в темноте и уютно хрумкала жвачкой).
Редактор, мечтательно закатывая глаза, вспомнил суп из молодой крапивы и пожалел, что теперь его дома не варят.
Я подкинул ему на второе драники из тертой картошки и тошнотики из мороженой.
Редактор, посмеиваясь, рассказал, с каким удовольствием грызли они, бывало, соевый жмых.
Я похвастался подсолнечным, о котором он, оказывается, понятия не имел и который несравненно вкуснее соевого.
Мы вместе поиронизировали над авторами многочисленных повестей о детстве деревенском и пригородном, детдомовском и блокадном, оросившими сиротскими слезами и этот самый жмых, и драники с тошнотиками. Можно, разумеется, проклясть жмых, допустили мы, особенно, если учесть, что именно от разносолов тех полуголодных дней тянется цепочка к твоей больной печени. Но ведь печень болит теперь. А жмых был тогда.
А тогда — мы точно помнили — нас огорчало не столько то, что в доме голодно и ботинки дырявы, сколько то, что меня, например, моя мать, осердившись, называла «чертом вислоухим» и грозилась навсегда отдать рябой соседке тёте Нюре, а редактору не шили длинные штаны на пуговице, а заставляли донашивать короткие — на лямке.
— Вот тебе и вся глубина наших огорчений! — подвел итог редактор. — Зато светлого и радостного там осталось очень много. Или — нет?
— Много, — согласился я.
— Так в чем дело? — редактор пристукнул ладонью по рукописи.
— Наверное, в том… — ответил я, — что там еще остался и Ванька.
— Какой Ванька? — не понял редактор. Этого я ему объяснить не смог.
…Это случилось со мной, когда я заканчивал десятый класс.
Однажды, воскресным днем, я шел на стадион, где должны были состояться соревнования по легкой атлетике. На мне был спортивный костюм, с белыми полосочками у шеи и на рукавах, под мышкой я держал шиповки. Словом, по окраинным кварталам Старокузнецка пружинисто шагал подтянутый спортсмен с косо подрезанной челочкой, школьный активист и почти отличник — достаточно, в общем, примерный юноша, чьи положительные качества утраивались, к тому же, в глазах окружающих — поскольку вырос юноша в простой малограмотной семье, на трущобной улице.
Я чувствовал свою неуместность здесь — среди развалюх и бараков — и невольно прибавлял ходу, зная, что скоро, на недавно построенном стадионе, в окружении своих мускулистых товарищей, в окружении праздничных флагов и пестрых трибун, сделаюсь своим и привычным.
Именно в этот момент из-за угла барака вымахнул в безлюдный переулок парень в майке-безрукавке, кирзовых сапогах и кепке, повернутой козырьком назад. Парень рвал так отчаянно, словно каждое мгновение готов был упасть грудью на ленточку. Земля гудела под его кирзачами. Белые глаза вылезали из орбит.
Две… три секунды длилось это видение. Слепым, бешеным взглядом парень толкнул меня к забору и промчался мимо, обдав жаром раскаленного тела.
«Нет водки на Луне», — успел прочесть я на его литом плече — и запоздало узнал в парне Ваньку Ямщикова, моего одногодка и бывшего соседа по Аульской.
Пока я переваривал эту новую для меня информацию (насчет отсутствия на Луне водки), пока соображал: куда бы мог так спешить Ванька? — из-за того же угла выбежали двое малорослых милиционеров. Милиционеры шли ровно, ноздря в ноздрю, хорошо, поставленно, махали руками и негромко переговаривались на бегу.
На их лицах не было азарта, была лишь привычная озабоченность людей, выполняющих свою каждодневную работу.
Не могу понять почему, но меня вдруг укололо чувство вины. Мне представилось на минуту, будто все это — стадион, что шумит там, наверху, за крайними домиками, его разлинованные мелом дорожки, музыка, флаги, возбужденные лица моих соклассниц, которые придут сегодня болеть за меня, — досталось мне не по праву, случайно.
Я прислонился к редкому заборчику из горбылей, за которым набирала цвет чья-то картошка, и долго стоял так, пока нелепое это чувство не отпустило меня.
…Где-то милиционеры гнали Ваньку, не сумевшего прорваться сквозь наше детство.
РАССКАЗЫ О ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ
Вместо предисловия
Мой отец был великолепным рассказчиком. Не то чтобы он здорово владел словом. Нет. Речь его скорее была бедна. Но отец так умел помочь себе руками, ногами, глазами, что истории его оживали, становились зримыми и запоминались навсегда. Он буквально рисовал их. Допустим, рассказывает он о каком-нибудь фронтовом случае и, по ходу сюжета, надо ему упомянуть, что в такой-то момент он полз по-пластунски. Так он, бывало, не просто скажет: «И тут я, значит, пополз», — а непременно ляжет на пол и, буровя половики, проползет. А если при этом в правой руке у него тогда находился автомат, то угребаться он, будьте уверены, и теперь станет только левой.
Особенно любил отец вспоминать о прежней деревенской жизни. Жизнь эта в его описании получалась необыкновенно ядреной и сочной. Туманы там падали белые, как молоко, град хлестал исключительно с куриное яйцо, телята родились величиною с годовалого бычка, а мужики, играючи, кидали на бричку пятипудовые мешки. Отец не признавал полутонов.
Долгое время я был уверен, что отец либо сочиняет все свои истории, либо основательно привирает. Один случай резко поколебал эту мою уверенность.
Не помню уж, по какому поводу происходила у нас дома крупная гулянка, и я ушел в этот вечер ночевать к товарищу. Вернулся только утром, вместе с приятелем, и никого из гостей уже не застал. За разгромленным столом сидел только младший брат отца дядя Паша и, положив голову на руки, спал. Так обычно кончались все дяди Пашины праздники. Быстренько напившись, он какое-то время свирепо кричал песни, забивая напрочь других желающих, а потом прямо за столом засыпал. Вообще, по приговору всех родственников, дядя Наша был нехороший человек: хвастун, пьяница и задира. Пил он, правда, не шибко часто, но уж до такой степени, пока — как говорила моя мать — «под собой не побачит». А задраться мог по любому поводу — лишь бы только поспорить.
Вот и теперь, проснувшись, дядя Паша сразу нашел, к чему прицениться.
— Ты что же, спортсмен? — насмешливо спросил он моего товарища, заметив на нем тренировочный костюм.
— Да ну, — засмущался тот. — Я — что. Вон Колька — это да!
— Колька? — дядя Паша не поверил. — Куда ему — он слабак.
— Ничего себе — слабак! — обиделся за меня товарищ. — В пятерке лучших бегунов района. Слабак!
— Хм! — повернулся ко мне дядя Паша. — А я тебя, Миколай, оббягу.
Мне тогда только что исполнилось восемнадцать лет. Под загорелой кожей моей перекатывались нетерпеливые мускулы, тренированные легкие работали, как мехи. И я, действительно, был одним из лучших бегунов в районе. Поэтому я даже не удостоил дядю Пашу ответом, а только усмехнулся.
— Ты не скалься! — завелся дядя Паша. — Давай сымай штаны. Небось, ты в трусиках привык соревноваться.
— Может, в другой раз, — сказал я. — Вы сегодня тяжелый.
— А я тебя и тяжелый оббягу. Спорим на поллитра.
Товарищ незаметно толкнул меня в бок. Водку мы не пили, но выспорить у дяди Паши бутылку представлялось забавным.
— А куда побежим? — спросил я. Дядя Паша прищурился.
— Ну хоть до свата Ивана — и обратно.
— Далеко это? — поинтересовался мой товарищ.
— Километров пять, — ответил я.
Товарищ присвистнул. Из кухни выглянула мать и заругалась на меня:
— Вот я тебе посвищу в избе, черт голенастый!
— Анна, — остановил ее дядя Паша, — налей-кось там мне…
Мать с недовольным видом принесла дяде Паше водки в граненом стакане. Он выпил, понюхал засохший селедочный хвостик, скрутил толстенную цигарку и задымил.
— Сымай, сымай штаны-то, — издевался дядя Паша между приступами кашля. — Да руками помаши. А то задвохнешься, не дай бог.
Бежать все же решили одетыми: дядя Паша — потому, что под штанами у него были кальсоны, а я — из солидарности.
Вышли за калитку, и товарищ, взявшийся посудить, провел поперек улицы стартовую черту.
— Погодь маленько, — сказал дядя Паша. — Курнуть надо.
Он привалился спиной к воротному столбу и скрутил еще одну великанскую папиросу. Курил на этот раз дядя Паша неторопливо, обстоятельно, впрок. Только когда крохотный окурок стал жечь губы, дядя Паша затоптал его. «Давай!» — махнул он рукой.
Я принял высокую стойку, как при старте на длинные дистанции. Дядя Паша выставил вперед левое плечо, а правую руку, сжатую в кулак, отвел за спину — будто драться собрался. Товарищ скомандовал: «Марш!» — и мы побежали.
Улица наша Аульская (с одной стороны, по косогору, — низкие засыпухи, с другой — длинный забор Алюминиевого завода) тянулась мелкими ложбинками — бежать по ней было трудно. Только не мне, разумеется, привыкшему к кроссам по пересеченной местности. Я действовал по науке. Перед спусками «выключал сцепление» и шел вниз широким, маховым шагом. Подъемы же брал коротким ударным, до отказа работая руками. Как бежал дядя Паша, мне было не видно, но сапоги его настойчиво бухали в двух метрах за спиной. Один раз он даже приналег, поравнялся со мной и сделал замечание:
— Ты… бежи ровней… не суетися. И снова приотстал.
Мы пробежали метров пятьсот… восемьсот… километр.
Дядя Паша все не отставал.
А в моей голове росло недоумение. Как же так?! Ведь ему сорок восемь лет. До полуночи он гулял, а потом, опьянев, спал, сидя за столом. Выхлестал натощак чуть не стакан водки, искурил горсть самосаду. Елки-палки!.. А в сорок третьем году дядя Паша вернулся с фронта на костылях. Он был сапером и подорвался на собственной мине. Ноги его были сплошь в длинных черных струпьях. Он тогда охотно показывал их всем желающим — засучивал штанины и разрешал пересчитать раны: девятнадцать шрамов, не считая отсеченного мизинца на левой ноге!.. Года полтора дядя Паша ходил в инвалидах, торговал на базаре папиросами «Северная Пальмира» поштучно, пьянствовал, куражился и бил костылями тыловых крыс.
И нот теперь, на этих самых ногах, похмельный, накурившийся, дядя Паша гнался за мной, второразрядником — и не отставал.
Я пожалел его и чуть сбавил темп.
Дядя Паша немедленно захрипел возле самого уха.
Пришлось снова прибавить.
Улица закончилась крутым и длинным спуском к согре. Затем потянулись извилистые деревянные мостки, проложенные через топь, на противоположном краю которой виднелся уже дом Ивана Захаровича — свата Ивана.
Моим резиновым тапочкам осклизлые мостки были не страшны. А дяди-Пашнны кирзачи разъехались, он оступился и увяз в болоте.
— Стоп! — закричал он. — Стоп!.. Твоя взяла, Миколай!
Я оглянулся. Дядя Паша стоял на одной ноге, держа другую — в грязной белой портянке — на весу.
Мы вытащили из болота его сапог и пошли обратно. Я громко хвалил дяди-Пашин талант. Дядя Паша — все же он очень устал — опять курил, отхаркивался и загадочно хмыкал.
Вечером я рассказал про это событие отцу.
— А ты как думал? — ничуть не удивился отец. — Да ты с кем схватился — соображаешь?.. С Павлом! — он начал привычно возбуждаться, — Да Павло знаешь как, еще когда в парнях ходил!.. Бывало отчертомелит на пашне день, а потом сапоги веревочкой свяжет, кинет через плечо — и подался в деревню, на вечерки. Бегом! А двенадцать верст, слава богу! За ночь нагуляется там, напляшется, а чуть свет — обратно… Сосед наш по заимке, Кузьма Митрохин, рассказывал: трогаю, говорит, один раз от землянки и вижу, будто кто-то из ваших побег на большак. По ухватке — вроде как Пашка. Ну, я кнут из-под себя выдернул — и по лошадям. Догоню, думаю, парня — подвезу. Пока на большак выскочил — его, черта, уже не видать. Дак, веришь? — до самой деревни понужал, кнута из рук не выпускал — так и не догнал! На паре коней! А лошади какие! — совсем уже восторженно закончил отец. — Львы!..
Вот тогда я и подумал впервые, что, может быть, истории отца не столь уж неправдоподобны.
С тех пор прошло много лет. Давно нет отца, а дядя Паша стал вовсе старым — сгорбился, поседел и высох. Теперь, когда я вспоминаю иногда тот его подвиг, дядя Паша искренне удивляется, крутит головой и хлопает себя по тощим коленям. Он плохо слышит и поэтому, наверное, никак не может попять, что я рассказываю ему случай, героем которого был он сам. Дядя Паша не верит.
— Здоров ты брехать, Миколай! — говорит он.
А я с грустью думаю, что вот уходят один за другим старики, а вместе с ними и память о той, прежней жизни, так не похожей на нашу. О жизни, в которой чудно переплеталось разумное с нелепым, героическое с низким, смешное с трагическим. И всё чаще у меня возникает желание поделиться своим небогатым наследством — пересказать некоторые истории отца. Пересказать в том виде, в котором сохранила их непрочная человеческая память, зная наперед, что правда в них основательно перемешалась с вымыслом.[1] И все же не пытаясь ради стройности будущего повествования придумывать отсутствующие события, штопать и надставлять чьи-нибудь биографии, искать скрытый смысл в делах и поступках необъяснимых.
Три рыжих коня
Никто толком не знает (и до сих пор, между прочим), почему в девятьсот четвертом году деда Дементия угнали на японскую войну. По всем законам не должны были его трогать. Дед (а тогда еще не дед, а просто Дементий Гришкин) числился единственным кормильцем, на его шее висело четверо детей — самому старшему, Григорию, было всего тринадцать лет. Пятым бабка Пелагея ходила беременная.
И все же факт остается фактом: взяли именно деда Дементия, а не кого-нибудь, допустим, из взрослых и неженатых сыновей Анплея Степановича.
Братья Гришкины, Дементий и Мосей, были мужиками крайне невезучими. Начать с того, что черт дернул их перенять от папаши своего ненужное ремесло: братья были кожемяками. Могли выделывать юфть и хром, овчину — под дуб и черно, сыромятину и спиртовые подошвы для сапог — в палец толщиной и твердые, как железо. Но в родной их деревне на Тамбовщине сапог никто не носил, полушубков — тоже, а ходили все исключительно в лаптях и армяках. Даже ременная конская сбруя была у одного мельника. У остальных прочих сбруя была веревочная. Вообще, тамошние мужики кожу в руках держали только по несчастному случаю — когда у кого-нибудь падала корова. Но такой хозяин, по бедности, мастеров Гришкиных все равно не звал, а с горем пополам выделывал шкуру сам, после чего она начинала греметь, как жестяной лист, и долго потом без пользы мокла на прясле.
От такой жизни братья Гришкины вконец отощали, засохли и решили податься в Сибирь — на вольные земли. Но и тут у них все вышло не как у людей. Добрые люди сначала посылали ходоков, потом долго собирались, копили деньги и ехали в Сибирь по чугунке или же на своих лошадях. Везли, понятное дело, весь скарб: чугуны, сковородки, гвозди, ухваты, сохи, шины железные для колес, колосники и противни. Гришкины-мужики собрались в момент. Сколотили тележку на двух колесах, посадили в нее малых ребят Дементия, впряглись и покатили. Жена Дементия Пелагея, языкастая и нравная баба, подталкивала тележку сзади и срамила мужиков на чем свет стоит.
К осени добрались они до Урала и там зазимовали. Здесь искусство Гришкиных хорошо им подсобило. Всю зиму они выделывали кожи и получали за это пятак в день или половину скотской головы — на выбор. Дементий с Мосеем брали раз пятак, раз скотскую голову, накопили к весне на лошадь с телегой и тронулись дальше. На телеге теперь, кроме ребятишек, сидела Пелагея, успевшая в дороге родить и снова беременная.
И опять они ехали все лето и осень, вплоть до холодов, пока в один день не родила Пелагея и не сдохла лошадь. Случайное место это, где их настигла беда, называлось деревней Землянкой. Лежала деревня между речкой и озером. Налево, за речкой Бурлой, через сутки езды, начиналась глухая тайга; прямо тянулась степь с частыми Колками; направо, за топким озером, — степь с редкими колками; а за этой степью — совсем уже голая, и жили там не русские люди, а казахи, которых по-местиому все называли киргизами. Л вольной земли вокруг было столько, что хоть ртом ешь. Вот только никто эту землю для Гришкипых-мужиков не испахал, не засеял, и пришлось им ввиду наступающей голодной зимы опять пойти в работники.
Дед Дементий (все же нам удобнее так его называть) нанялся с женой к страшно богатому сибиряку Анплею Степановичу по прозвищу «Кыргиз». Прозвали его так потому, что Анплей Степанович, хотя был и русский человек, землю не пахал, вовсе в здешних местах окиргизился, гонял табуны лошадей, общим числом до тысячи голов, сам из седла почти не вылезал, даже до ветру, как говорили, ездил верхом и с оружием.
Лошадей ему пасли киргизы, а Дементня Гришкина он взял для работы по дому и выделки кож. Дед Дементий оговорил условие: помимо другой платы — к весне коня. Дементий в Сибирь приехал не батрачить, а хозяйствовать, и у него при виде здешней целины руки зуделись.
— Коня, паря, лови хоть сычас, — сказал Анплей Степанович. — Посля отработаешь.
Дед Дементий, однако, сейчас же ловить коня не стал, понимая, что зимой его не прокормишь, а ближе к весне напомнил хозяину про его обещание. Целый день он кружил возле косяка — высматривал. Жену так не выбирал, как лошадь. Но зато и выбрал. Пастух-киргиз заарканил ему могучую рыжую кобылу, с такой широкой спиной, что на пси можно было спать двоим, валетом.
Анплей Степанович, глянув на кобылу, только и сказал:
— У тебя, паря, губа не дура. А больше ничего не сказал.
Примерно в это же время произошло одно вроде бы малозначительное событие. Пелагея, жена деда Дементия, пряла в доме у Анплея Степановича.
Пряла, проворно крутила веретено и еще проворнее трещала языком.
— Вот, матушка ты моя, — говорила она сытой ленивой хозяйке. — живешь ты за своим мужиком, как за господом богом! — говорила будто бы в одобрение, а по голосу ехидно, с подковыркой. — Гляжу я на тебя — такая ты гладкая да справная. И добра у тебя — черт на печь не затащит. Охо-хо-хо-хо, а мы-то голые да разутые! Дементий мой — мешком ударенный: ни украсть, ни заработать…
Хозяйка слушала, слушала, а потом зацепила полную ложку горчицы и сказала:
— Съешь, Пелагеюшка, горчицу — я тебе платье дам.
Хозяйка была насмешница из насмешниц. Сам Анплей Степанович тоже любил пошутить. И сыновья у него были большие шутники. Как-то был случай: Анплей Степанович велел им отвезти в аул пастухам-киргизам два куля муки. Сыновья отвезли. С неделю, однако, киргизы ели эту муку — черпали пиалами из мешков и пекли лепешки. А как дочерпали второй мешок до дна — увидели там дохлого трехмесячного поросенка. Чушку, по-ихнему. После такого дела весь кишлак переблевался, вывернуло их, бедных, наизнанку. Киргизы, от мала до велика, валялись зеленые и на дух ничего не принимали.
Старшина ихний, когда маленько отдышался, сел на белого копя и поехал к Анплею Степановичу жаловаться. Но до места не доехал. Возле озера столкнулся он с сыновьями Анплея Степановича. Те как раз лазали по брюхо в воде — ставили мордушки. Тут у старшины душа, видать, не стерпела — он погнал лошадь прямо в озеро и начал хлестать этих бугаев плеткой, хрипя и ругаясь по-своему. Сыновья Анплея Степановича сначала прикрывали уши руками, ныряли, а потом рассмотрели, что это всего-навсего сухонький старикашка, стащили его с коня и принялись курять. Они топили его с головой и держали там, зажав ногами, пока он, нахлебавшись воды, не затихал. Тогда братья поднимали старика, давали ему глотнуть воздуха и опять куряли. В общем, накупали они его до посинения, кинули поперек седла и турнули коня в обратную сторону.
Вот такие, значит, они были шутники. Но это — к слову. А в тот раз пошутила ихняя мамаша. Съешь, дескать. Пелагея, ложку горчицы — я тебе платье дам.
— А какое платье дашь? — спросила Пелагея вроде бы с интересом.
— Ну, хоть ситцевое, в горошек.
— А праздничное не дашь?
— За праздничное, девка, две ложки.
— Черпай, — согласилась Пелагея. Хозяйка, смеясь, зачерпнула вторую ложку.
— Теперь, — сказала Пелагея, нехорошо ощерясь, — намажь себе задницу! Как раз на всюю хватит…
На другой день сгинула рыжая кобыла. Дед Дементий двое суток мотался но степи с уздечкой — искал. И не нашел. Пелагея извелась вся, плакала потихоньку. Про себя грешила Пелагея на хозяйку: она, мол, толстомясая, подучила пастухов, киргизню свою отчаянную. Дементию же про свои догадки и про то, как хозяйку за горчицу обрезала, не говорила — боялась.
К концу вторых суток Анплей Степанович вышел после ужина во двор, глянул на уставшего работника и, ковыряя в зубах прутиком, сказал:
— Зря, Дементий, ноги бьешь. Поди, ее давно уж кыргизы на махан пустили. Или волки задрали. — При этом разбойничьи его цыганские глаза лениво смеялись.
«У тебя, туды твою в мышь, целая тыща их, а чтой-то ни одна на махан не попала. И волки не дерут», — подумал Дементий, но смолчал.
— Ты, паря, — опять заговорил хозяин, — имай другую, вот что. Отработаешь — куда тебя девать.
Дед Дементий поймал другую лошадь, опять кобылу и опять рыжую, только в белых чулках — для приметности.
Вторая кобыла пошла на махан через неделю. Расстроенный Дементий заявился к хозяину и сказал:
— Попытать разве еще?
— Попытай, паря, попытай, — разрешил Анплей Степанович.
— Я, Анплей Степанович, — сказал Дементий, — к табуну больше подпускать тогда не буду. Хочешь обижайся, хочешь нет, а только сомнение меня берет. Так что буду в пригоне держать.
— А держи, паря, держи. Места не жалко.
— Дурак-башка, Демка! — сердито сказал пастух-киргиз, выловив из косяка мосластого рыжего жеребца (дед Дементий пристрастный был к этой масти). — Дурак-башка! Тьфу!.. Не ты коня арканишь, тебя Анплей арканит, собака!
— Чего мелешь! — буркнул Дементий. Хотя про себя подумал, что, скорей всего, так оно и есть: свил ему Анплей аркан. Но, с другой стороны, и без коня ему здесь на ноги не подняться.
…Рыжий жеребец ушел из пригона через несколько дней. И не вернулся: ни на двор, ни к табуну.
Тогда Дементий сел и, напрягая голову, стал считать. Получалось, что кругом ему петля. Избы нет — живет с ребятишками у Анплея в дырявом сарае. Земли нет — сибиряки за приписку просят по тридцать рублей с души, а это такие деньги, что у Дементия аж в животе жарко становится, как он про них подумает. Коня нет, да еще за трех отрабатывать надо. Клади, значит, два года. Если не больше.
«Ах, туды твою в мышь! — схватился за бороду Дементий. — Оплел чертов Кыргиз!.. На вольные земли ехал, а попал хуже, чем в тюрьму!.. Разве поджечь его в такую голову, завязать глаза да бежать?.. Подожгу живодера — один теперь конец!»
Но не пришлось Дементню завязывать глаза и бежать от нужды. Как-то однажды заголосила вдруг хозяйка. Она выла и причитала полдня, и так страшно, что Пелагея, которая после горчичной размолвки в хозяйский дом не заглядывала, решила про себя: «Это Анплей помер. Ей-богу. Ишь ведь кричит, как будто ее железом жгут».
Однако живой и целый Анплей Степанович вечером зашел в сарай к Гришкиным. Зашел первый раз за все время.
Он потоптался у порога, зыркнул туда-сюда глазами и сказал, глядя поверх Дементия:
— Айда, паря, в дом. Хозяйка, слышь, пельменей настряпала.
Дементий ушел с Анплеем Степановичем, а Пелагея осталась сидеть с разинутым ртом. То, что Анплей позвал работника на пельмени, само по себе было невиданным делом. Но еще больше Пелагею поразило другое: когда хозяйка успела пельменей настряпать, если она с самого обеда ревела дурнинушкой?..
А вскоре деда Дементия забрили на японскую войну. Сыновья и работники Анплея Степановича раскатали по бревнышку сарай, в котором жили Гришкины, и за три дня поставили на облюбованном дедом Дементием месте сруб. Работали, понятно, день и ночь. Крыши, правда, над домом не было, не было пока окон и печки, но зато рядом, в загородке из жердей, стояли два коня и корова с теленком.
…Дед Дементий провоевал три года. То есть воевал он полгода, два года сидел в японском плену и еще полгода выбирался обратно.
Деревню Землянку Дементий не узнал. Вместо одной безымянной улицы, тянувшейся вдоль речки Бурлы, увидел он громадное село с улицами Полтавской, Курской, Орловской, Воронежской, Псковской и Тульской. Видать, понаехавшие мужики не задаром здесь строились и селились — у Анплея Степановича топтало степь уже полторы тысячи коней.
Бабка Пелагея тоже не сплоховала — приумножила хозяйство. Теперь у него было три коня, четыре коровы, двенадцать штук овец, а кроме того — свиньи, куры и гуси. Старшего сына Гришку Пелагея оженила неполных шестнадцати лет, невесту выбрала ему тихую, безотказную и так впрягла молодых в работу, что от них только пар шел.
Словом, довоенный подарок Анплея Степановича попал в цепкие руки, хотя и в бабьи. В деревне бабку Пелагею за жадность, злость и двужильность прозвали «Яга». Еще говорили про нее: «Пелагея щи из топора варит и сама цыплят высиживает».
Про деда Дементия и его семейство
Дед Дементий во многих отношениях был человеком странным и необыкновенным. Взять хотя бы его ремесло. Ну ладно, дома, на Тамбовщине, от него было одно расстройство. Но здесь-то, в Сибири, дед мог не колотиться из-за земли и скотины, а начать вместе с братом Мосеем свое дело. Наверняка, тогда они очень скоро взяли бы всех односельчан за хрип и жили потом, как сыр в масле. Дед, однако, свое ремесло ничуть не ценил. Он тянулся ко всякой животине, а больше всего обожал коней и собак. Коней дед Дементий любил преимущественно рыжих, а в собаках его восхищали рост и сила. «Ты, Дементий, — говорили ему мужики, — кобелей выбираешь ровно как в оглобли». На своем пристрастии к рослым собакам дед однажды крепко погорел, но про это речь будет дальше.
Имел дед Дементий еще один талант — был прирожденным стрелком. И опять же никак не пользовался своим умением. Другие мужики в овцу с десяти шагов попасть не могли, а все же промышляли. Вокруг Землянки столько водилось зверя и птицы — с зажмуренными глазами стреляй, не промахнешься. Дед Дементий охотиться не любил. Имелась у него, правда, расхлестанная берданка, но чтобы из нее стрельнуть, надо было крепко примотать затвор веревочкой — иначе он мог выскочить и покалечить стрелка.
Вообще, деду Дементню его великое искусство приносило одни огорчения. Единственный раз за всю жизнь он поохотился. Случайно. Шел как-то с берданкой вдоль озера и увидел вдруг, что на прогалинку выплыла семья уток. Впереди кряква, а за ней — по двое, плотно друг к дружке весь выводок — восемь штук. Ну, прямо солдатский строй! Дед приложился, выстрелил — и все девять уток перевернулись кверху лапками… Веревочки у Дементия не нашлось — связать уток. Пришлось ему снять подштанники, перетянуть их возле щиколоток травой и попихать туда свою неожиданную добычу. В таком виде, с неприличным мешком через плечо, он и примаршировал домой. В деревне деда Дементия подняли на смех. Во-первых, за подштанники, а во-вторых, за рассказанную небылицу. Вот это, дескать, отлил пулю — с одного выстрела девять уток! И как дед ни объяснял, что утки, мол, кучкой плыли, а дробь, наоборот, видать, широко рассыпалась — никто в такую байку не поверил, и долго потом над ним измывались на разный лад.
Еще более обидный случай произошел с ним на японской войне. Точнее не на самой войне, а перед ней — ещё на учениях.
Дело было на стрельбище. Каждому солдатику раздали по три патрона, стрелять надо было с колена, в мишень. Дед Дементий отстрелялся раньше всех и, не поднимаясь с колена, задумался. Задумался и, может, даже придремал. И тут бухнул по первому разу долго маявшийся рядом сосед. Дед Дементий от неожиданности вскинулся. В этот момент проходивший сзади поручик смазал его по уху. Так влепил, что голова у деда чуть не отлетела прочь.
— Ворона, мать твою! — сказал поручик. — Сосед стреляет, а ты вздрагиваешь! Где ж тебе самому попасть, скотина! Мишень со страху не разглядишь!
Тогда сидевший поодаль писарь осмелился вмешаться.
— Гришкин, ваше благородие, — заметил он, — обыкновенно пулю в пулю кладет.
Поручик крякнул и отошел.
А у деда Дементня два дня сочилась из уха кровь и звенело в голове.
Был дед Дементий также страшно отчаянным мужиком. Не боялся ни зверя, ни человека, ни господа бога — никого.
Причем смелость его, при незлобливости характера была не натужной, а легкой, бездумной какой-то. Дед Дементий просто не знал страха — и все.
Когда братья Краюхины, Лука и Абрам, дрались при разделе, когда они, накатавшись по двору, выскочили в лохмотьях и крови на улицу и стали с разбегу биться кольями, — никто не рискнул их разнять. А Дементий рискнул. Он, хоть сам невысокий ростом был и дробный, легко раскидал братьев в разные стороны. А когда Лука с Абрамом, опамятовавшись, двинулись с кольями на разнимщика, дед Дементий не побежал. Стоял, задрав бороду, и дожидался. А потом быстро нагнулся, зачерпнул в обе руки песочку и разом кинул братовьям в глаза. Тогда же и другие мужики набежали, связали ослепших Луку и Абрама.
А еще раньше, когда дед Дементий только с японской войны воротился, начал было прижимать его Анплей Степанович. У Кыргиза такой был порядок: если кто-то из расейских мужиков за приписку платить отказывался, а дом ставил, Анплей ему ничего не говорил, а как бы невзначай прогонял через его усадьбу табун коней голов в триста. После этого мужик понимал, что ему в Землянке все равно не жизнь, и сам подавался куда глаза глядят.
После войны цены на приписку выросли и Анплея стала заедать жадность. Он, видать, не мог стерпеть, что Гришкин обжился в Землянке вроде как бесплатно. И однажды, на зорьке, прогнал табун. Кони истолкли в труху плетень, разворотили пригон, закопытили насмерть трех овец и все в ограде смешали с грязью.
Дед Дементий шум поднимать не стал. Он сделал новый плетень и принялся, потюкивая топором, чинить пригон.
Но не дочинил. Анплей Степанович через сколько-то дней опять велел прогнать табун.
И нашла коса на камень. Дементий еще старую обиду вспомнил, когда Анплей хотел его, расейского голодранца, навек в батраках присушить. Он снова заплел плетень, а ночью нарыл вдоль его волчьих ям. Рано утром загудела земля от копыт (дед Дементий на двор не стал выходить, в избе прислушивался), закричали, забились кони, а потом испуганный табун шарахнулся, видать, в сторону — только стукоток пошел по степи.
Когда совсем рассветало, прискакал к усадьбе Гришкиных сам Анплей Степанович. А с ним — пять его головорезов-пастухов. Все с ружьями. Дед Дементий уже дожидался их. Стоял возле нетронутого плетня, держа под мышкой свою бердану.
— Дементий! — сказал почерневший Анплей (конь под ним плясал). — Дементий!.. Предупреждаю! — и показал пальцы, сложенные крестом.
— А ну, вертай назад! — тонко закричал дед Дементий. — Вертай, туды твою в мышь, а то я тебя щас с коня ссажу!
Работник Анплея Степановича, собака его Пашка Талалаев, полу киргиз-полурусский, сдернул с плеча ружье. Но только и успел, что сдернуть. Дед Дементий выстрелил раньше — и ружье Пашки Талалаева с расщепленным ложем кувыркнулось в синем небе…
Через час приехали уже только одни работники. И не верхами, а на двух пароконных бричках. Приехали, чтобы прирезать и забрать поломавших хребты лошадей. Не пропадать же скотине.
Вот каким бесстрашным человеком был дед Дементий.
Но, с другой стороны, дед был невозможный трус. Он боялся всяческого начальства, особенно же полиции, а впоследствии милиции. Милиции он боялся до тошноты, до расстройства живота. Бабку Пелагею, например, — когда дед принимался «учить» ее за тяжелый нрав, — только и можно было отбить напоминанием про милицию. Бывало, дед войдет в азарт: в избе пыль до потолка, крик, топот, и уж, кажется, ни крестом, ни молитвой Дементия не унять. Тогда кто-нибудь из детей выглянет в окно и нарочно испуганно скажет:
— Ой, тятя, кажись, к соседям милиционер приехал! Вроде его лошадь стоит.
Дед бледнел, глаза его суеверно округлялись, и весь он становился слабый и послушный, как после тяжелой болезни. Обыкновенно он лез в такие моменты на печь и с головой закрывался тулупом.
И еще одно дело — временами на деда Дементия находило. Это уж с ним началось ближе к старости. Допустим, ночью на заимке выйдет он до ветру, присядет в полынях и задумается. А тут потянет легкий ветерок, полыни зашумят — и покажется деду, что попал он в дремучий лес. Вскочит он, штаны в горсть зажмет — и бегом к землянке. А навстречу ему, из тумана, — вдруг конный с палкой в руках. Бывало, дед, всклокоченный, очертеневший, так и проблукает всю ночь кругом землянки, проаукает. И только на свету разберет, что никакого леса рядом нет, одни полыни, и конного нет, а просто стоит телега с задранной вверх и подпертой дугой оглоблей. Сам же он вчера для чего-то ее и подпер, старый дурак.
Про жену деда Дементия, бабку Пелагею, рассказ будет короче. Такая эта была отрава, что много говорить О ней язык не поворачивается. Даже снаружи на бабку смотреть не хотелось, хотелось скорей зажмуриться. Была Пелагея костлявая, крючконосая, по-цыгански черная и злюшая. как цепная собака.
— Ведьма! — не раз говорил дед. — Не сдохнешь ты, ведьма, не дашь мне спокойно с детями пожить!
И еще другое говорил дед с обидою:
— Ведь я на тебе, туды твою в мышь, не женился. Шапка моя на тебе женилась.
Когда-то, на самом деле, так и было. Дементий не хотел брать Пелагею. Ни боем, ни уговорами его не могли заставить ехать к ней. Тогда сваты поехали одни, а вместо жениха взяли шапку его. За шапку и сосватали.
Все же — забегая далеко вперед, скажем — дед с бабкой прожили рядом почти всю жизнь, народили и вырастили восьмерых детей, не считая еще двоих, умерших в младенчестве. Сыновей у них было трое.
Первенец, Григорий, в детстве шибко болел оспой-ветрянкой. Валялся он много дней в беспамятстве, весь обметанный, и глаз не мог расцепить. Пелагея выла над ним, боялась, что умрет.
— Деточка ты моя родная! — причитала она. — Закрылись твои глазыньки! Ой, да не видишь ты свету белого! — А потом взяла, темная баба, и разлепила ему пальцами левый глаз — пусть, мол, хоть одним проглянет.
С тех пор Григорий окривел. И то ли из-за этого изъяна, то ли уж такой характер удался, но вырос Григорий парнем угрюмым и лютым. А потом, когда мужиком стал, к лютости этой прибавилась у него волчья хозяйская хватка. Григорий скоро сообразил, что грести надо к себе, а не от себя, отделился от отца и, зажив своим домом, за несколько лет превратился в настоящего кулака. Правда, надорвался сам, заморил и затюкал ребятишек, а жену, Ольгу, согнул в колесо, старуху из нее сделал. С родней Григорий не якшался, в праздники не гулял, ходил зиму и лето в одном и том же рваном картузе и задубевшей черной косоворотке.
Между прочим, в гражданскую войну Григорий крутился какое-то время в партизанах, и, может быть, в дальнейшем мы еще расскажем про этот случай специально.
Второй сын, Прохор, был тихоня и добряк. Из таких мужиков, на которых все, кому не лень, верхом ездят. На Прохоре и ездили. Сам он этого, впрочем, как бы не чувствовал. Не замечал, верхом ли на него садятся или в оглобли закладывают. Не замечал, что бабка Пелагея за столом подсовывает ему, главному в доме работнику, худший кусок; что кобылы-сестры в грош его не ставят и считают за простодырого ваньку; что к праздникам — всем в доме обновки, а ему — те же рваные портки. Да много чего не замечал Прохор. Он мог, например, целый день, уткнув глаза в землю, проходить за плугом и спохватывался лишь тогда, когда видел, что заехал уже на полосу соседа и тому отмахал с полдесятины. А мог и по-другому. Бывало, остановится посреди полосы, сдвинет на затылок картуз и часа полтора слушает, как заливается жаворонок, — хоть поджигай все кругом. Бабка Пелагея, привыкшая к тому, что Прохор безответно мантулнт на семью, как вол, в подобные моменты начинала аж из себя выходить.
— Во! — кричала она. — Глядите на него — встал!.. Распустил слюни-то — черт, мерин, дармоед!
Прохор и этого не замечал.
Редко-редко, когда Прохора уж особенно сильно допекали, он вспыхивал враз, как солома, и тогда становился похожим на деда Дементия — мог все сокрурушить, пожечь и переломать и короткое время. Или, наоборот, сбычивался, каменел — и никакой силой нельзя было сдвинуть его с места.
Так случилось с женитьбой Прохора. Ему собрались сватать красивую и богатую невесту Настю Окишину.
— Женись сама, — сказал Прохор матери. — Я к ней не поеду.
Бабка Пелагея, вспомнив свое замужество, не растерялась — выдала сватам шапку Прохора. К тому времени поп Гапкин уже сбежал из деревни с колчаковцами, по-новому жениться в Землянке еще не умели — и Настю вместе с сундуками просто перевезли к Гришкиным.
Прохор молодуху не признал. Два дня Настя томилась в горнице и, обиженно ворочая большими коровьими глазами, ела печатные пряники. На третий день разыскала Прохора и боязливо сказала:
— Прош, а Прош… Праздник завтри… К тятьке с мамкой съездить бы…
— Езжай, — равнодушно ответил Прохор.
Дед Дементий, молчком сочувствующий сыну, запряг лошадь и повез Настю к родителям. Прохор открыл и придержал ворота. Когда сани поравнялись с ним, буркнул Насте:
— Назад можешь не вертаться.
А через несколько дней он сказал отцу с матерью:
— Посылайте сватов.
— К комуй-то? — спросила бабка Пелагея.
— К тетки Комарихи дочке, Кургузовой работнице. У тетки Комарихи — Евдокии Комар — после того, как муж ее погиб в гражданскую, осталось на руках четверо детей. Евдокия сама пошла по людям работать и старшую дочь Татьяну (ей тогда всего двенадцать лет было) в няньки отдала. Вот про эту Татьяну, которая теперь батрачила у кулака Игната Кургузого, и говорил Прохор.
Бабка Пелагея каталась по полу, царапала лицо, кричала:
— Не хочу работницу! Не хочу голодранку. По ничто не помогло.
Тогда Пелагея заперла в сундук шапку Прохора. Ехать свататься без шапки считалось большим позором.
Прохор оседлал коня и поехал сам. Он ехал сватать Татьяну Комар, чернобровую работницу Игната Кургузого. Ехал на виду всей деревни один, в легоньком лет нем картузе, и уши его на морозе упрямо горели, как два фонаря…
Младший сын, Серега, был, как в сказке, дурак. По не такой дурак, на которых воду возят. Бабка Пелагея в последыше Сереге не чаяла души. Он это рано усек и вырос нахальным лентяем. Серега — невиданное в деревне дело — спал до обеда, был горлохват и хвастун, тиранил сестер и мать.
Чуть только Серега вытянулся, чуть сопли у него подветрели, как он потребовал у отца гармошку и хромовые сапоги. Начистив сапоги до блеска, насадив сверху калоши, выпустив чуб из-под фуражки, Серега белым днем выходил с гармошкой на улицу и шел козырем, оглядываясь на собственную тень. Играть, кроме «тына-тына у Мартына», он ничего так и не научился, и в деревне про Серегу говорили: «Вон Гришкина корова пошла-замычала».
Если к этому добавить, что дед Дементий вырастил еще пять дочерей и что были среди них и скромницы, и лапушки-красавицы, и горластые завистливые дуры, — то можно подумать, будто дед Дементий в малой капле, в лукошке, всю Россию норовил произвести на свет — с красотой ее и умом, с юродством и ленью, с удалью и темнотой. Да маленько промахнулся. Кое в чём недобрал, а кое в чём переборщил.
В деревне и то, глядя на Гришкиных ребят, смеялись: Дементий с Пелагеей, — говорили, — похоже, поврозь стараются — каждый для себя и другому поперек.
Один день из жизни села Землянки
Начался этот чудной день обыкновенно: выпорхнул, как воробей из-под застрехи, перышки почистил и зачирикал про свои мелкие дела. Дед Дементий Гришкин, к примеру, собрался резать кабана и позвал на помощь свата своего Егора Ноздрева, большого мастака по этой части. Сват Егор пришел, не медля, достал из-за голенища непомерной длины нож и начал опасно махаться — показывать разные бойцовские приемы: как надо хватать кабана за переднюю ногу, как переворачивать и с маху колоть под лопатку.
— В сердце надо! — подступал к деду Дементию с ножом сват Егор. — В самую, значит, середку! Не дай бог промахнуться — и-и-и-и!.. Он как пойдет стегать по двору — все сокрушит!
— Может, из берданки его вдарить? — спросил дед Дементий, заслоняясь рукой от разгорячившегося Егора?
Сват Егор обиделся, завернул свой страшный кинжал в тряпицу и спрятал обратно за голенище.
В этот момент влетел с улицы малый Тришкиных — Серега.
— Сидите тут! — закричал он с порога. — И ничего не знаете! А там поп Гапкин сбесился! — Серега торопливо дернул носом и, видать, повторяя чьи-то чужие слова, выпалил: — Как бы деревню не сжег, кобель долгогривый.
Дед Дементий, сам не шибко набожный, но ребятам своим в этом не потакавший, тут же смазал Серегу по затылку.
— Ты что это говоришь, басурман! — застрожился дед. — Да разве можно этак про батюшку — кобель?! Ну, сбесился и сбесился — и мать его так!
Приструнив Серёгу, дед Дементий накинул полушубок и выбежал на улицу — посмотреть на сбесившегося батюшку. Забывший про обиду сват Егор Ноздрев устремился следом.
На дворе было солнечно. Нападавший за ночь молодой снег слепил глаза. А вдоль улицы стояли люди и, прикрываясь рукавицами, смотрели в конец ее, туда, где она начинала скатываться к реке. Вскоре из-под горы вымахнула тройка вороных коней, заложенных в кошевку, и бешено понеслась прямо на глазеющий народ. Люди прянули к плетням и воротам.
На облучке, скрючившись и уцепившись побелевшими руками за вожжи, сидел городской племянник попа Гапкина Николай Вякин, человек злой и темный, называвший себя каким-то эсером и слывший в деревне за разбойника. Сам же поп Гапкин, раскорячив ноги, стоял в кошеве и понужал на гармошке. Пьяная кровь кинулась батюшке в лицо и сравняла его по цвету с развевающейся рыжей гривой. На полыхавшем лице попа Гапкина жутко леденели белые сумасшедшие глаза. Кренясь из стороны в сторону, батюшка играл «Подгорную».
Тройка пропылила снегом и скрылась. Мужики, дружно выпустив дух, полезли за кисетами. Бабы крестились и плакали.
Не успели мужики запалить цигарки, как тройка во роных снова показалась из-за попорота. Теперь она неслась под уклон. На раскатах кошеву бросало в стороны, батюшка сгибался пополам или сильно откидывался назад, гармошка по-звериному рявкала, и обезумившие кони рвались из постромок.
В одном месте поп Гапкин все же не удержался. Он вылетел из кошевы и с такой силой саданулся головой в запертые ворота Мосея Гришкина, что вышиб щеколду. Гармошку, однако, батюшка из рук не выпустил. Какое-то время он лежал темной кучей, потом поднялся, встал в проеме ворот, весь залепленный снегом, широко распахнул волосатый рот и крикнул:
— Бога нет!!!
Народ испуганно отшатнулся.
Поп Гапкин помолчал секунду, словно к чему-то прислушиваясь, и опять крикнул нараспев:
— Бога не-е-ет!
— Соопчал уже, — подсказал ему дед Дементий, стоявший в переднем ряду.
Батюшка не услышал Дементия. Он растянул до предела застонавшую гармонь и, ухватив с третьего раза верный тон, оглушительно запел:
Бога нет, царя не надо! Волга-матушка река!..Потом поп Гапкин спел известную всем песню: «Гришка Распутин сидит за столом, а царь Николашка побег за вином…»
Потом он кидал в мужиков снегом и опять кричал:
— Нет бога!.. И царя нет!.. У-у-у, хари! Потом сидел на земле, плакал и говорил:
— Я есть татарин! Я — магометянин! Вяжите меня, православные!
И мужики, сняв шапки, вязали батюшку и несли его, на плечах, как бревно, до дому.
Управившись с батюшкой, дед Дементий и сват Егор воротились домой — кабана все же надо было колоть.
— Крепко он племяша встренул, — говорил дорогой Дементий про попа Гапкнна. — Ну, ничего — к завтрему, глядишь, очухается.
…На кабана вышли втроем — взяли с собой сына деда Дементия Гришку. Кабан был матерый, с заплывшими глазами и двойным подгрудком. Желтая щетина на его загривке стояла частоколом. Он не глядел на людей — не мог поднять налитую жиром голову — и ходил, чуть не бороздя пятаком по земле.
Дед Дементий и Гришка враз повалили его, схватив за ноги, как учил сват, а Егор упал на кабана сверху и пырнул ножом.
— Куда же ты, черт?! — заругался дед Дементий. — Рази справа у него сердце-то!
— Молчи! — прохрипел Егор. — Не первого колю!
Тут кабан рванулся, расшвырял мужиков и, в точности, как предсказывал Егор, стеганул по двору. Он носился с ужасной скоростью, буровил мордой снег, круто разворачивался и вдруг кидался на растопыривших руки ловцов.
— Бойся! — кричал сват Егор, прыгая задом на плетень и поджимая ноги.
Кое-как мужики остановили кабана. Дед Дементий метнул ему на голову хомут и точно попал, а Григорий упал, рассадив щеку, и схватил кабана за заднюю ногу.
— Быстрей, туды твою в мышь! — торопил дед Дементий крадущегося с ножом свата Егора.
Но не все, видать, чудеса этого дня закончились.
Не успел Егор приблизиться к месту схватки, как по двор к деду Дементию прибежал задохнувшийся брат Мосей.
— Ребяты! — сказал он, вытирая шапкой пот. — Демка! Егор!.. Бросайте все!.. Кыргиз лошадей мужикам раздает. Даром…
— Гришка!! — закричал барахтавшийся в обнимку с кабаном дед Дементий. — Воротись, сукин сын!.. Прокляну.
Но было поздно. Григорий с Моссем и Егором уже лупили на край села, обгоняя других мужиков, бежавших в ту же сторону с недоуздками, путами и веревками в руках.
…За околицей творилось невиданное. Как упавшая туча, чернел на снегу громадный табун коней. Скакали вокруг пастухи на мокрых, с провалившимися боками лошадях — сбивали табун в кучу. Уставшие псы вяло отпрыгивали от шарахавшихся в сторону коней и потрепетав красными языками, снова кидались на них с хриплым лаем.
В стороне от всех, на взгорке, держа в поводу мохнатого киргизского мерина, стоял сам Анплей Степанович, кланялся на три стороны и двуперстно, по-кержацки, крестился.
Анплея уже никто не замечал. Набежавшие землянские мужики отпихивали друг дружку, теряя шапки, сипя и задыхаясь, расхватывали коней.
Братья Краюхины, Лука и Абрам, бородатые и приземистые, бешено дрались из-за поглянувшегося обоим солового жеребца. Абрам ударил Луку ногой под вздох, выхватил повод и сел было уже верхом на жеребца. Воспрянувший Лука успел, однако, запрыгнуть коню на круп, сшиб с Абрама треух и, высоко замахиваясь, начал гвоздить его по непокрытой башке чугунным своим кулаком. Испуганный жеребец крутился на месте. Лука бил и бил, подпрыгивая и хэкая, как дровосек. У Абрама глаза сделались стеклянные, но с коня он почему-то не падал.
Коля Лущенков ухитрился обратать одной веревкой четырех коней. Лошади перегрызлись и понесли. Коля с ободранными в кровь коленями волочился следом и, высунув от натуги язык, стоном кричал:
— Не удоржу-у-у-у!
Мужики потрезвее прибежали семьями и теперь набирали коней по числу душ.
Опоздавший кулак Игнат Кургузый как встал, растопырив руки, — так и закаменел. Казалось, Кургуз собрался обнять весь табун целиком. Но табун целиком не умещался в беремя — и по черному лицу Кургуза бежали немые слезы.
…Григорий Гришкин вернулся домой, когда начало смеркаться. Привел в поводу двух анплеевских лошадей. Дед Дементий появление сына не заметил. Он сидел в углу двора, за перевернутой телегой и, матерясь, рвал зубами веревочку на берданке. А перед телегой, зарывшись головой в снег, стоял обессилевший кабан с простреленным ухом.
Среди ночи заговоренные анплеевские кони стали уходить из деревни. Они вышибали двери притонов, ломали загородки, прясла и с диким всхрапыванием уносились обратно в степь.
Разбуженные непривычным шумом и топотом, мужики вскакивали с постелей, поминали нечистым словом святых угодников и трясущимися руками зажигали лампы.
Малой горсткой огоньков замерцала Землянка в необозримой темной степи, и случись в эту ночь пролетать над ней какому-нибудь ангелу — он, наверное, подивился бы, услышав, как она ржет, воет и брешет на разные голоса.
Но ангел не пролетел над Землянкой. Не стало на белом свете ангелов, как не было больше ни бога, ни царя, о чем, видать, и заявлял сбесившийся поп Гапкин.
Землянские мужики, впрочем, про этот факт пока не догадывались.
История про черного кобеля
Упадок семейства Дементия Гришкина начался с черного кобеля. Именно после истории с черным кобелем потребовал раздела Григорий и откусил от большого хозяйства порядочный ломоть.
Может, конечно, Григорий еще раньше делиться надумал, и черный кобель был здесь вовсе ни при чем. Но как-то уж больно подозрительно все одно с одним слепилось: и раздел этот, и наводнение перед ним, и прочие разные неполадки, так что и сам дед Дементий, и жена его бабка Пелагея, и родственники, и соседи — все дружно грешили на черного кобеля. В нем видели главную причину.
А история эта — совершенно, между прочим, случайная, нелепая и отчасти даже сверхъестественная.
…Деда Дементия сгубило пустое любопытство. Он возвращался из города и версты, может, за четыре от своей деревни встретил на дороге маленького цыганенка. Цыганенок стоял у обочины совершенно один, ни табора поблизости не было, ни даже повозки. Деду бы проехать, зная повадки этих жуликоватых людей, а он остановился.
— Тпру! — натянул вожжи дед. — Ты чего это здесь один делаешь? Иде тятька-мамка?
Цыганенок важно заложил руки за спину, прищурился на дедова коня и, пропустив мимо ушей вопрос насчет тятьки-мамки, сказал:
— Ну что, отец, — сменяем?
— Ах, туды твою в мышь! — изумился дед Дементий. — Чем же ты со мной меняться хочешь? На тебе вон порток даже нет!
Цыганенок вставил в рот два пальца и свистнул.
Из кустов широкой рысью выбежал черный кобель. Был он таких неправдоподобных размеров, что деду, глядевшему против солнца, показалось сперва, будто бежит теленок.
Лошадь испуганно всхрапнула и попятилась.
Бесстрашные дедовы собаки — Ласка и Вьюнок — скуля, попрыгали на телегу.
— Это что же… — сказал потрясенный дед Дементий. — Это ведь… на нем, на черте, возы возить можно… Он ведь медведя загрызет — пустое дело…
Завязался торг. Нахальный цыганенок просил за кобеля лошадь. Дед серчал, плевался, несколько раз подбирал вожжи, делая вид, что собирается уехать.
В конце концов цыганенок уступил — согласился взять обеих дедовых собак и кисет табака — в придачу.
Обессилевших со страху Ласку и Вьюнка дед переловил и связал одной веревкой. Кобель же — удивительное дело! — сам с готовностью побежал за телегой и ни разу даже не оглянулся на своего бывшего хозяина.
Дед Дементий ехал домой и радовался сделке. Одно только его чуть-чуть смущало. Кличка у черного кобеля была какая-то нерусская. Звали его на цыганский манер — Герка.
Так оно все случилось и произошло. В общем-то, довольно обыкновенно. Только в первый день черный кобель произвел в деревне некоторую панику: перепугал до смерти старух и ребятишек, которые в этот момент на улице оказались. Отцы ребятишек, между прочим, повыбегали, хотели намять деду Демке бока за такие штуки, но при виде Герки стушевались и отступили.
А дальше все потекло ровно. К Герке мало-помалу привыкли. И он себя ничем особенным не проявлял до поры. Ну собака и собака. Только что ростом раза в три больше самой крупной. И жрет, конечно, в три глотки. А больше — ничего.
И вдруг черный кобель резко вмешался в ход жизни…
Деда Дементия сыновья — Прохор и Григорий — доживали последние дни на пашне. Собрались уже домой, но тут пропала у них рыжая кобыла. Рыжуха плутала где-то больше суток и только вечером на другой день пришла к заимке. К хвосту у нее был привязан ременным недоуздком заостренный с одного конца кол. И с таким расчетом он был привязан, чтобы при каждом шаге тыкать лошадь в задние ноги. Ляжки у Рыжухи оказались сплошь исклеванными и сочились кровью.
Братья Гришкины недоуздок, конечно, сразу же опознали. Никому другому не мог он принадлежать, кроме их соседа но заимке Игната Кургузого. А узнав недоуздок, представили себе в картину — как оно все было: забрела, видать, Рыжуха на полосу Игната, объела там копну какую-нибудь; Игнат ее поймал, сутки проморил голодом (все думал, волчья душа, как зло выместить — и вот придумал).
У Прохора при виде такого паскудства глаза закипели. Схватил он вилы, приставленные к землянке, и вгорячах заявил:
— Пойду заколю его!
— Не трожь! — сказал Григорий. — Сам приедет. Кургуз нитки своей чужому не оставит — не то что уздечку. Приедет — наплюй мне в глаза.
И все же, когда Кургуз подъехал верхом к заимке, братья на момент оторопели. И ждали будто, что заявится, но в душе не могли как-то поверить в подобное нахальство.
— Тут, слышь-ка, недоуздок мой должон где-то быть, — буркнул Игнат.
Прохор только головой молча повел: возьми, дескать.
Кургуз слез на землю и подобрал недоуздок. И обратно вскарабкался на коня. И поехал.
А Прохор с Григорием все еще стояли, распахнув рты.
Вот тогда черный кобель прыгнул. Он прыгнул мимо присевшего от неожиданности Прохора, ухватил Кургузову лошадь за хвост, под самую репицу, уперся всеми четырьмя лапами и остановил ее.
Дальше все происходило молча и как бы само собой Игнат кувыркнулся с коня. Прохор — словно кто толкнул его в спину — сделал три падающих шага и лег животом на голову Игната. Григорий подбежал и выдернул у него из рук недоуздок.
Счастье Кургуза, что порол его Григорий поверх неснятых штанов. Иначе пришлось бы ему задницу по лоскуткам собирать. Потому, что Григорий остервенился и бил его до тех пор, пока у самого глаз не замутился, пока сослепу не начал промахиваться и хлестать по Прохору.
Только после этого братья отпустили Кургуза.
Отпустили, продышались маленько и враз, будто их кольнуло что-то, отыскали глазами черного кобеля. Черный кобель, облитый лунным светом, неподвижно, как идол, стоял на крыше землянки и, свесив голову, смотрел вниз на людское копошение. И показалось вдруг братьям Гришкиным, что черный кобель насмешливо скалится. Прохор и Григорий, не сговариваясь, кинулись запрягать измордованную кобылу.
Потом всю дорогу они молчали; рассыпая табак, крутили дрожащими руками цигарки и опасливо косились на бежавшего за телегой загадочного зверюгу.
Подозрения их насчет черного кобеля не рассеялись ни на другой день, ни после. По деревне скоро побежал слух про то, что братья Гришкины отвозили Игната Кургуза. Причем непонятно было, кто этот слух пустил. Сами братья побереглись хвастаться этим делом. Кургуз тем более помалкивал, а в Землянке знали, оказывается, всю подноготную. Называли даже место возле речки Бурлы, где будто бы спешившийся Игнат тайно замывал штаны.
Уважение к Кургузу в деревне сильно пошатнулось. Бабы, при встрече, отворачивались и хихикали. Мужики делали вид, что норовят заглянуть сзади, и сочувственно чмокали губами.
Осмелела даже соседка Кургуза, вдова Манефа Огольцова, до этого случая боявшаяся крутого Игната, как огни.
На Покрова Игнат заколол здорового кабана. Тетка Манефа, никогда своей скотины не державшая, взяла холщовый мешок и отправилась к соседям.
Семейство Кургузов сидело за столом — вокруг сковороды с дымящейся свежениной.
— Хлеб-соль, — поздоровалась Манефа.
— Едим, да свой, — ответил Кургуз, не переставая жевать.
— Вот пришла, — сообщила Манефа.
— Вижу, что не конная приехала, — скривился Игнат.
— Свининкой-то поделишься? — тряхнула мешком Манефа.
— Купить, что ли, надумала?
— Зачем купить? Небось, ты и так отрубишь. Слыхал, поди, какие дела: теперь ведь у нас твоё-моё, всё наше.
— Твоё-моё?! — затрясся Игнат. — Я, значит, выкормил, а ты рот разеваешь?!. На! — Он вскочил со скамьи и распахнул на груди рубаху. — Ешь! Рви меня зубами!
Манефу Огольцову как ветром сдуло. Но испугалась она не шибко, не как раньше, бывало. Она, прямо с мешком, заявилась в сельсовет и там сказала:
— Сосед мой, Кургуз Игнат Прокопыч, кабана заколол.
В сельсовете тогда сидел фронтовик Мудреных Ефим, вернувшийся с германской войны на деревяшке.
— Ну? — спросил Ефим хриплым от самосада голосом.
— А я без мяса сижу.
Ефим притолок коричневым пальцем табак в трубке и опять спросил:
— Ну?
— Да ведь у нас теперь твоё-моё, — пояснила Манефа. — Пиши бумажку, раз ты совецка власть, — пущай он мне мяса отрубит.
— Ты, Огольцова, — сказал Ефим невпопад, — когда самогоном торговать бросишь? Смотри, приравняем к злостному классовому элементу — только ногами сбрякаешь!
Так тётка Манефа дармового мяса и не получила.
Что же касается семейства Гришкиных, то им происшествие на заимке сначала вроде бы пошло на пользу. К предпоследней дочери деда Дементия Нюрке посватался неожиданно Лёнька Меновщиков. Дед Дементий, правда, засомневался. Жене и девкам он сразу сказал:
— Не будет с этого добра. Не будет добра, говорю — что вы, кобылы, завзбрыкивали!
Дело в том, что Ленька Меновщиков в прошлом году для смеху погулял маленько с некрасивой Нюркой, а потом испортил ее и бросил. Григорий грозился после этого зарезать его, но здоровенный Ленька только похохатывал и бесстрашно ходил по деревне, заломив шапку. Деду же Дементию вышли большие хлопоты. Раза четыре, наверное, Гришкиным мазали ворота дегтем, и дед по утрам, на глазах у всей улицы, отскабливал его японским тесаком.
А теперь Ленька сватался. Говорили, будто мать его, узнав, что Гришкины ребята чуть не до беспамятства засекли Игната Кургуза, на коленях стояла перед дураком Ленькой — уговаривала взять Нюрку замуж.
Потому дел Дементий и сомневался.
Но в доме поднялся страшный бой, Нюрка засобиралась топиться — дед плюнул и согласился.
И тут опять впутался в события черный кобель.
Меновщиковы готовились к свадьбе — лепили пельмени. Лепили всем семейством: и мужики, и бабы, и ребятишки — пельменей требовалось много. Не лепил только дед Леньки, глава семейства, Матвей Куприянович Меновщиков. Его, из уважения, освободили от мелкой работы. Дед поэтому носил противни с готовыми уже пельменями в сарай — выбрасывал их, как говорится, на мороз, чтобы они маленько схватились.
Матвей Куприянович унес семнадцать противней по двести штук на каждом, а с восемнадцатым спросил себе лучину — побоялся в потемках передавить отнесенные раньше пельмени. В дверях сарая дед зажег лучину и поднял ее над головой. Изумленному взгляду его представился ряд очищенных под метелку противней. А в дальнем углу сарая, вывалив язык, сидел обожравшийся Герка. Раздувшееся от пельменей пузо его лежало на земле.
Матвей Куприянович заплакал.
Герка же тяжело разбежался по грохочущим противням, ткнул деда Матвея головой выше колен, опрокинул и скрылся.
Свадьба расстроилась. Меновщиковы мужики — Иван Матвеевич, свояк его, шурин и два старших сына — похватав что под руку попало, прибежали к сватовьям — убивать черного кобеля. Дед Дементий сидел на печи, свесив босые ноги, и Меновщиковых мужиков ничуть не испугался.
— Ну, иди, — сказал он Матвею. — Иди — имай его… Эх ты… Твой кобель, туды твою в мышь, девку у меня испортил — не то что пельмени. А я за ним со стежком не гонялся.
Все же воротившегося чуть свет Герку Дементий отхлестал чересседельником. Не то чтобы ему жалко стало меновщиковских пельменей. Нет. Просто он сам не одобрял пакостивших собак. К тому же деда Дементия допекли бабы. Всю ночь в его доме стоял такой рёв, что дед не выдержал, плюнул, сгреб тулуп и пошел досыпать в пригон, к лошадям. Тут ему и подвернулся Герка.
Потом дед Дементий казнил себя за несдержанность, локти кусал, да уж поздно было.
Дело в том, что на другой день ударила в Землянке и окрестностях невиданная оттепель.
Снег, какой был, растаял, побежали ручьи, речка Бурла, не успевшая встать, разбухла и выплеснулась из берегов.
Распутица отрезала в Землянке заезжего кооператора. Кооператор был молодой, но уже нервный. Он ругался и требовал сейчас занарядить ему подводу. Ефим Мудреных, костыляя на деревяшке, обошел с десяток дворов, но никого из мужиков уговорить не смог. Тогда он явился к деду Дементию и за Христа ради стал просить его увезти начальство. Дед Дементий согласился. Запряг Рыжуху, принял кооператора и поехал.
До летнего брода через Бурлу они доехали спокойно, а возле речки кооператор заволновался.
— Ты куда же правишь? — стал говорить он деду. — Давай заворачивай в объезд, через мост! Тут мы не проедем!
Дед и сам видел, что, пожалуй, не проехать. Очень уж рано уходил под воду размытый след. По травке уходил, а не по песочку, как день назад. Но какая-то непонятная лихость овладела дедом.
— Попытаем, гражданин-товарищ, — беспечно сказал он. — Гляди-ка, кобель мой уж на том берегу отряхается.
— Какой кобель?! — испуганно зашарил глазами кооператор. — Какой еще, к черту, кобель?! Чего ты мелешь?
— Да Герка вон, — показал кнутовищем дед. — Ишь ты, сукин кот! Проворный какой сделался. Почаще тебя, туды твою в мышь, чересседельником учить надо… Не бойсь, — обернулся он к седоку. — Раз кобель перебег — глядишь, и мы не утопнем.
Не доехали они и до середины реки, как вода начала заливать телегу. Кооператор вскочил в рост и двумя руками поднял к подбородку портфель с бумагами. В следующий момент вода пошла поверх телеги, и кооператор с ужасом почувствовал, как ноги его в латаных сапогах захолодели.
— Куда же ты, змей! — плаксиво закричал он и подореволюционному ткнул деда взашей. — Утопить хочешь?!
Дед Дементий молчал, вытаращив глаза и тщетно пытался удержаться за вожжи. Его сносило — сапоги скользили по телеге. Рыжуха уже плыла в оглоблях, по-собачьи вытянув шею, фыркая и захлебываясь.
…На берег дед выбрался один — без лошади, телеги и седока. Огляделся. Сизая вздувшаяся река была пустынна. Только на противоположном берегу — у деда даже сердце ёкнуло — как ни в чем не бывало сидел черный кобель Герка.
Кооператора вынесло течением на Ерофееву отмель, слава богу, живого. Кобыла же с телегой безвозвратно ушла на дно.
Сам дед Дементий заявился домой мокрый до нитки, аж с бороды у него текло. И такие дикие у него были глаза, что домашние, от греха подальше, не стали деда пока ни о чем расспрашивать.
Герка прибежал только ночью. Прибежал и завыл.
Дед Дементий лежал на печи под тулупом, слушал мот жуткий вой, и брала деда оторопь.
Потом он все же поднялся, обул для бесшумности пимы, снял с гвоздя берданку и крадучись вышел.
Серая ночь стояла на дворе. Серой была подветрившая земля, серым казалось небо. На сером заборе покошачьи сидел страшный кобель Герка и, задрав морду, выл.
«Господи, благослови — туды твою в мышь!» — мысленно сказал дед Дементий, быстро приложился и спустил курок. Верная берданка первый раз за все время дала осечку. Дед замер. Теперь, чтобы открыть затвор и перезарядить ружье, надо было долго разматывать веревочку.
Черный кобель, услышав щелчок, перестал выть.
И тут на деда Дементия стало находить. Он вдруг увидел, как Герка поворотил морду и сплюнул. Цвыркнул сквозь зубы, как плюют мужики, накурившись самосаду. А потом лениво пробежал несколько шагов по забору и спрыгнул на улицу.
Дед Дементий после этого случая захворал. Прямо не слезал с печи. Лежал там, свернувшись калачиком, и поглядывал из-под тулупа нездорово блестящими глазами. Иногда только он подманивал слабым пальцем кого-нибудь из сыновей и шепотом говорил:
— Герка-то, а?
— Что, тятя? — участливо спрашивали сыновья.
— Нечистая сила! — мигал дед.
Этими днями и забрел к Гришкиным прохожий человек. Странник. Был он какой-то ненастоящий, слепленный будто: одежда простая мужицкая, а руки тонкие. Странник пил чай и сахар не прикусывал, а бросал в стакан и размешивал черенком ложки. Лицо вроде русское, а когда разговаривал, язык ломал на цыганский манер.
— От чаек дак чаек! — нахваливал он. — Кирпичный, батенька, чаек — сразу видно. Кирпичный я люблю. Вот малиновый мне на дух не надо.
Бабка Пелагея не утерпела и сказала:
— Да ведь ты малиновый пьешь.
— Ну?! — удивился странник. — А скажи ты — ну как кирпичный!
Потом странник вышел на двор покурить и соблазнился Геркой.
— На что тебе такая собака, отец? — пристал он к деду. — Жрет, небось, побольше лошади?
— Жрет, — сознался дед Дементий. — Не токмо свое, чужое жрет.
— Рискуешь ты с ним, отец, — пугал деда странник. — Ох, рискуешь! Вот спросят тебя товарищи: зачем такого тигра держишь, а? Кого им травить собираешься?
— Рыскую, — согласился дед. — А то как же.
— А ты продай его мне. Я хорошие деньги заплачу.
— Поймаешь — бери за так, — ответил дед.
— Зачем его ловить, — сказал прохожий. — Ловить мы его не будем. — И с этими словами он смело пошел на черного кобеля.
И тут случилось удивительное: Герка заюлил хвостом, лег на пузо и сам пополз к ногам странника.
Так они и ушли со двора: впереди этот чертов цыган, а за ним — стелющийся по земле черный кобель.
В деревне после решили: черный кобель был нечистый. Это, мол, он часа своего ждал — когда за ним оттуда пришлют. Вот и прислали. Еще потому так твердо решили, что странник, пока шел улицей, все словно бы приплясывал и бормотал чего-то себе под нос — видать, заговор.
…Что бормотал странник, знали только ребятишки, бежавшие рядом.
— А, батенька мой! — повторял он, совсем уж дурашливо ломая язык. — Это сколько же мохнашек получится! Мохнашек-то сколько, батенька мой…
Как Гришка ходил на войну и что из этого вышло
Сбивать землянских мужиков в партизаны приехал учитель из Бугров — неулыбчивый головастый человек, с большой лысиной и в очках, закадычный приятель поповского племяша Вякина.
Землянские на агитацию приезжего поддались легко. Кой-чего они про это дело знали. Слух прошел, что мужики из соседней деревни Тиуновки «партизанили» уже в городе. Прожили там три недели и катались будто бы как сыр в масле: лошадей кормили, как на убой, сами не просыхали с утра до вечера, брали в лапках любой товар задаром, бархат на портянки рвали да ещё домой разного добра понавезли.
Первым прислал к учителю своих сыновей — двух крепких звероватых мужиков — Анплей Степанович. Сыновья были снаряжены с кержацкой основательностью. Под ними играли сытые кони в седлах, на самих была крепкая одежда, а за спинами — по новенькому карабину.
По первым двум добровольцам стали равнять и остальных. Кого попало в отряд не брали. Записывали тех, кто на коне, мало-мальски прикрыт и с оружием: с ружьем ли, с шашкой или пикой. Войско должно было глядеться по-боевому, а не рванью и голью.
Учитель, видя, что дело ладится, повеселел. И хотя он по-прежнему не улыбался, но время от времени с довольным видом поглаживал свою необъятную лысину — сразу двумя руками. Правда, маленько досаждал ему плотник Василий Комар. Несколько раз он подкарауливал учителя, хватал за рукав и начинал запальчиво критиковать его программу. Василий в деревне числился большевиком. Приехал он сюда совсем недавно и ехал не один — вез откуда-то из-под Тулы готовую коммуну. Но в пути переселенцев покосил тиф, доехало только пять поредевших семейств, ютились они пока по землянкам и баням у добрых людей, все поголовно батрачили и трудно, с натугой строились.
Худой бритый Василий крутил руками, наскакивал на учителя, кашлял, тонко кричал. Учитель слушал, наклонив голову, а потом терпеливо объяснял:
— Вы местных условий не знаете. Здесь мы должны опираться на крепкого мужика.
Тогда Василий, плюнув в сердцах, бежал к Ефиму Мудреных — требовать, чтобы тот вмешался в ход событий.
Мудреных, однако, тоже его не поддерживал.
— Ты, Василий, грамотный шибко, — говорил Ефим. — И тебе грамота глаза застит. Этого головастого нам не переучить. Может, его Колчак переучит, да и то вряд ли. Так что не крутись ты возле него — не трать характер. Лучше за туляками своими гляди — чтоб им какая моча в голову не стукнула.
Надумал податься в отряд к учителю и старший сын деда Дементия Григорий. Он пришел к отцу и, уставив в угол единственный свой волчий глаз, сказал:
— Дай коня.
— Ты кого, туды твою в мышь, спрашиваешь? — ощерился дед Дементий. — Меня или, может, вон печку?
Дело в том, что Григорий никогда никого не звал по-людски: ни отца, ни мать, ни жену, ни соседей. Вместо имен он обходился такими словами, как «эй», «гляди», «слухай», «держи», «цыц», «подай». С детьми родными он вовсе не разговаривал. А если какой-нибудь из них, замешкавшись, попадался отцу на дороге, Григорий молча перепоясывал его кнутовищем и брезгливо плевал в сторону. Дед Дементий никак не мог привыкнуть к этой собачьей манере сына и всякий раз обижался.
— Тебя, кого еще, — покривился Григорий.
— Своих полон двор, — напомнил дед.
Своих коней у Григория было действительно побольше, чем у отца. Но выбирал он их не по стати, не по красоте и росту, а по какой-то одному ему видимой нутряной жиле — чтобы пусть неказисты были, но тянули бы и хрипели, как хозяин, — до упаду. И в этом смысле деда Дементия, при среднем достатке державшего лучшего в деревне жеребца, Григорий не одобрял. Зачем, дескать, мужику такой конь? Разве только — заложить его в санки да поехать для форсу под окнами Анплея Степановича или страстного лошадника кона Гапкина.
Теперь же Григорий просил у отца коня, чтобы не ударить в грязь лицом перед сынами Анплея Степаныча и другими богатыми мужиками. И даже соглашался оставить в залог двух чалых кобыл, которые славились тем, что, как верблюды, могли по трое суток обходиться без корма и выдергивали любой воз из какой хочешь грязи.
Отторговав жеребца, Гришка потребовал также и берданку.
— Не дам, — твердо сказал дед Дементий. — Ну тебя к черту. Отстрелишь последний глаз — а мне грех на душу. Ты, небось, туды твою в мышь, не знаешь, с какого конца она заряжается.
Вместо берданки дед Дементий выдал Григорию старый японский тесак, настолько тупой, что им, пожалуй, даже курицу зарубить было невозможно. Тем не менее дед сильно переживал, долго в ту ночь не мог заснуть, всё ворочался и думал: «Заколется, сукин сын! Пустит детей по миру».
К концу четвертого дня отряд сформировали. Мужики по этому случаю напились самогонки, дотемна скакали по деревне, размахивали шашками и палили из ружей.
Григорию палить было не из чего, но всеобщая стрельба так его накалила, что он слез с копя и остервенело принялся рубить тесаком чей-то плетень. И рубил до тех пор, пока тут же, у плетня, не повалился и не заснул.
В этот вечер отряд понес и первую потерю. Здоровенный хохол Охрим Задняулица залез на качели, не убранные с пасхи, и со страшной силой раскачался.
— Упаду! — дурашливо кричал он. — Упаду!
А потом, и правда, упал, ударился грудью о стылую землю и убился насмерть.
Утром отрядники кое-как собрались, пошумели, порядили и выработали решение: всем ехать в город, чтобы там, на месте, перевстреть Колчака. План у них был такой: они, значит, внезапно захватывают станцию; отвинчивают рельсу и ждут; и как только поезд с Колчаком останавливается или — еще лучше — слетает с катушек — тут же атакуют его всеми наличными силами.
Историю этой боевой операции в Землянке помнят до сих пор.
Отряд учителя из Бугров был разбит наголову в первой же схватке. В чем-то командир допустил промашку. Возможно, зря он не послушал Василия Комара, критиковавшего его программу опоры на крепкого мужика. Возможно… Но безусловно, что главную стратегическую ошибку учитель совершил днем, когда отряд останавливался в Буграх. А именно: учитель не позволил мужикам опохмелиться. Он, как сам непьющий, не мог, конечно, знать, что если человека, который, допустим, с перепоя, вовремя не подремонтировать, то он к вечеру начнет каждого пенька бояться. Это его и подкосило.
Словом, когда глубокой ночью отряд скрытным порядком подступил к станции, у многих штаны уже промокли от холодного пота. Правда, маленько их ободрили разведчики, которых учитель высылал вперед. Разведчики вернулись и доложили, что рельсы, дескать, лежат свободно, никем не охраняются и отвинтить любую из них — пустое дело. Только, если, мол, оттаскивать в сторону — надо навалиться всем гуртом. Рельса, по всему видать, тяжелая — вдвоем или даже вчетвером её не спихнешь.
Тогда они двинулись вперед уже смелее. Передние успели даже пососкакивать с лошадей, стали шарить по земле — искать что-нибудь подходящее, чем можно подковырнуть рельсу.
В этот момент раздался выстрел…
Потом уцелевшие доказывали, что по ним ударили из орудия. Однако хорошо известно, что в описываемое время крупных воинских частей в городе не было. Тем более, не было артиллерии. Скорее всего это стрельнул с перепугу станционный сторож.
Задние, решив, что угодили в засаду, поворотили коней.
Передние увидели, что их бросают, и тоже кинулись в седла.
Дальше произошло уж совсем обидное недоразумение. Передние (бывшие задние) обнаружили вдруг за спиной погоню. Гнавшиеся за ними конники кричали: «Стой!.. Куда!.. Назад!..» — и матерно ругались.
Началась невиданная скачка.
Всего пробежали они этой ночью на взмыленных конях восемнадцать верст. И, наверное, скакали бы дальше, да под утро на пути им попалось озеро Тополье. Вот в это озеро, задернутое первым ледком и припорошенное снегом, они с разгону и залетели. И стали в нем тонуть. Многие потонули сами, а многие утопили коней. В том числе утопил отцовского жеребца и Григорий.
Бугровский учитель, как более выдержанный и скакавший все восемнадцать верст последним, наблюдал гибель своего войска с берега. Бил он себя кулаком по лысой голове и горько каялся.
А через неделю в Землянку заявился карательный отряд. Привел его моложавый, тонкий, как девка, голубоглазый офицерик. Офицер велел согнать ему на площадь стариков и стал требовать выдачи зачинщиков. Сам он, на рысьих ногах, расхаживал внутри образовавшегося круга и, для устрашения, видать, вертел сабелькой. И чем больше вертел, тем больше глаза его светлели, заволакивались белесым дымком.
— Ну! — резко кричал офицер. — Называй зачинщиков!.. Ну!
Старики, потупив бороды, молчали.
Случайно в круг забежала чья-то шалавая собака. Офицер, почти не глядя, махнул саблей и рассек ее пополам. Удар был такой скорый, что собака еще сажени полторы протрусила целая и только потом распалась на две части.
Но даже этот наглядный пример стариков не поколебал. Зачинщиков они не назвали.
Выдал зачинщиков поп Гапкин. Переписал их всех по именам и отнес бумагу карателям.
Странный, однако, это был список. Не значились в нем ни сыновья Анплея Степаныча, ни другие добровольцы, ни Григорий Гришкин, ни даже так и так убившийся, а значит, и безответный Охрим Задняулица. Учитель из Бугров, правда, был. Но сразу за ним шел Комар Василий, потом — четверо его деревенских, которые тиф пережили, дальше Мудреных Ефим, братья Дрыкины — Игната Кургузого работники, глухонемой пастух Силантий Зикунов, а также сосед Гапкина сапожник Иван Абрамыч — горький пьяница и матерщинник.
Василий Комар достилал пол в повой избе, когда за ним пришли. Кроме верстачка и горы свежих стружек, в избе пока ничего не было.
Мог Василий, наверное, вышибить окно и побежать, по то ли он не догадался второпях, то ли, наоборот, сообразил, что подстрелят его как зайца: дом стоял на голом месте, ни огорода пока что, ни кустика вокруг. Да и увидели они с женой колчаковцев очень поздно.
Так что Василий спрятался на русскую печь, а жена завалила его стружками.
Успела кинуть туда же рубанок и топор — будто и не было мужика в доме.
Пустую избу колчаковцы обыскивать не стали. Кого тут искать — все от стены до стены видно. Один из них только заинтересовался стружками и стал ширять в них штыком.
— Проширяемся тут до ночи, в бога душу! — сказал другой и чиркнул спичкой.
Сухие, как порох, стружки вспыхнули сразу. Василий рванулся с печи, но солдаты наставили штыки и удержали его.
Страшными нечеловеческими глазами смотрел Василий из огня. Не кричал — крик запекся у него в горле. Только медленно обвисал на штыках и чернел. Мудреных Ефим успел из деревни скрыться. Ушли с ним также братья Дрыкины и однополчанин Ефима Андрей Филимонов.
…Остальных зачинщиков, по списку попа Гапкина, били на площади шомполами. Принародно. На все это землянские смотрели уже как сквозь туман. Не моли лись и не плакали. Смерть Василия Комара ужаснула их до немоты.
Много чего видела Землянка. Выходили здешние мужики по праздникам стенка на стенку, улица на улицу. Ломали в свалке ребра и скулы. Озверев от самогонки, хватались за стежки и оглобли. Не раз случалось, что забивали в Землянке кого-нибудь и до смерти. Но вот такого — когда безвинного человека живьем жгут — в деревне не знали.
После этих событии и потянулись землянские мужики в партизаны.
Но не сразу. Сперва объявился в деревне Мудреных Ефим с небольшим отрядом. Мудреных объявился, а поп Гапкин пропал. Сбежали куда-то сыновья Анплея Степановича. Самого Анплея допрашивали на том месте, где офицер-каратель пытал землянских стариков про зачинщиков.
Мудреных сидел в ходке, выставив, как пулемет, прямую свою деревяшку, и спрашивал:
— Где твои кони, Анплей?
— Побойся бога, паря! — крестился Анплей Степанович. — Когда еще миру роздал. Мужички, скажите!
Но мужики, запомнившие, как надурил их Анплей своим подарком, только сдвигали на глаза шапки.
— Где кони, Анплей? — опять спрашивал Мудреных.
— Колчаку он их угнал — вот где! — оскаливаясь, кричал Пашка Талалаев, бывший анплеевский лизоблюд. Теперь Пашка неотступно, как пёс, крутился возле Ефима Мудреных. — Колчаку — я знаю!.. Ефим Митревич, дай я ему кишки выпущу!..
Из степи, от киргизов пригнали остатки анилеевских коней, и Ефим стал формировать новый отряд. Вот тогда землянские и потянулись. И хоть собирались недружно, но если надумывали, то шли деловито и строго.
Дед Дементий и тот не удержался — пострелял маленько вокруг села из своей берданки. И так хорошо пострелял, что, когда отряд двинулся от родных мест, Мудреных Ефим и другие командиры стали сманивать деда с собой — будешь, мол, учить у нас новобранцев. Дед вгорячах согласился. Но скоро обнаружилось, что учитель он никудышный — нервный и бестолковый. На первых же стрельбах дед Демка побил хворостиной многодетного партизана Кузьму Прилукова, за что был осужден и уволен.
Остается еще сказать, что первой военные действия против колчаковцев открыла в Землянке вдова Василия Комара Евдокия. Через несколько дней после смерти мужа (каратели еще из деревни не ушли) несла она с реки выполосканное белье в тазу. И тут за ней решил приударить один из колчаковцев. Стал за круглые локти трогать, по плечам гладить.
— Ну-ка, кавалер, подержи таз, — мирно сказала Евдокия.
Колчаковец, выпятив грудь колесом, принял таз. Евдокия взяла лежащий поверх белья тяжелый валек и сплеча тяпнула ухажера в левый висок. И так она расчетливо это проделала, что еще успела подхватить из рук повалившегося колчаковца таз — чтобы белье в пыли не вывалялось.
Были этому делу свидетели. Как раз через лужок шли два солдата от Манефы Огольцовой, несли четверть первача. Тот, который держал самогонку, увидев, как Евдокия приласкала их товарища, выронил бутыль. Самогонка из лопнувшей бутыли вытекла, но не разбежалась мелкой лужей, а, к счастью, вся собралась в ямку. И там стояла. Выпавший ночью снежок растаял, земля, видать, досыта напилась влаги — не хотела больше принимать.
— Уйдёт! — сменившись с лица, крикнул первый и пал на четвереньки.
Второй срочно к нему присоединился.
В общем, дули они эту самогонку из луночки, стукаясь лбами, пока им трава в рот не полезла.
Первый солдат, как более проворный, вылакал больше и в результате сгорел. Выходить его ничем не смогли. Второй выжил, но временно повредился мозгами и никак не мог припомнить: сколько же их из лунки хлебало — двое или трое.
Так что крестника Евдокии начальству тоже пришлось списать на самогонку.
Смерть деда Дементия (Рассказ грустный, а поэтому короткий)
В этот день Татьяна недосмотрела — и рябенький цыпленок утонул в бельевом корыте. Собственно говоря, Татьяна не то чтобы недосмотрела — она тяжелая была, ходила последние дни, и когда этот паскудный цыпленок скаканул в корыто, у нее недостало проворства выхватить его обратно. И он утонул.
— Ах ты раззява! — закричала на сноху бабка Пелагея. — Ах ты телка рязанская, голодранка! Ах ты курва приблудная! Ты цыплаков мне топить?! Наживать добро — тебя, кособокой, нету!.. — С этими словами бабка Пелагея схватила скалку и хлестанула ею Татьяну по плечу. Правая рука у Татьяны повисла плетью.
— Ведьма! — горько сказал отдыхавший на печи дед Дементий. — Ведьма, туды твою в мышь! — и выдернул из-под головы валенок. — Вот я тебе, ведьме, бока-то обровняю!
Дед Дементий учил жену не вожжами, как другие мужики, а исключительно валенком. Бил он ее, по мягкости характера, голяшкой, отчего ущербу бабке Пелагее не было почти никакого, а пыли и крику получалось много. На этот раз, правда, сильно осерчавший за беременную сноху, дед Дементий побил бабку головкой валенка. Пыли получилось меньше, а крику больше.
Однако распалившемуся деду и этого показалось мало. Он выскочил на двор, запряг в пароконную бричку двух чалых кобылок, положил в задок бочонок с дегтем и выехал за порота.
— Поживи тут без меня! — сказал он жене. — Помотай сопли на кулак!
Бабка Пелагея, привалясь к воротному столбу, для порядка голосила.
За бричкой — хвост трубой — весело бежал жеребенок.
Сын деда Дементия Прохор наблюдал за всем этим с угрюмым любопытством. Стоял, руки в брюки, словно бы посторонний, — ни отца не уговаривал вернуться, ни мать не утешал.
— Прошка! — жалостливо крикнул дед Дементий. — Жеребенка-то прибери! Он те пригодится, туды твою в мышь!
Обыкновенно дед, после очередного скандала с бабкой, уезжал аж за самую околицу. Там он треножил кобылок, часа два-три курил на травке, отходя душой, и к ночи возвращался. На этот же раз дед далеко не уехал. Только он поравнялся с лавкой, как в тележный скрип вплелся посторонний звук — резкий и захлебистый. Звук явно доносился с дедовой усадьбы. Дед переменился с лица и стал круто заворачивать, матерясь и охаживая кнутом утонувших по самые уши в хомутах кобыл.
Дед Дементий не ошибся. Голос принадлежал его только что народившемуся внуку Якову.
…Сразу же события круто изменились. Изменились и лучшую сторону. Дед Дементий помирился с бабкой. Бабка Пелагея так расчувствовалась, что зарубила еще двух цыплят — специально, чтобы варить из них Татьяне похлебку. Этот небывалый факт в доме Гришкиных, где бабам даже по престольным праздникам давали одно яйцо на двоих, Татьяну настолько потряс, что она туг же простила бабку Пелагею.
По случаю рождения внука дед Дементий созвал гостей и выставил угощение: две четверти самогону и ведро квашеной капусты. Гости пили, ели, плясали и вместе с хозяином забыли, что утром надо везти сдавать хлеб. Да так забыли, что прогуляли еще полный день. Прохор, правда, не забыл. Он сам был назначенный от сельсовета отвечать за десять подвод, а поэтому, цепляясь за плетни, кое-как обошел свои дворы, всем стукнул в окошко и напомнил. Забыл Прохор только одно: хозяева как раз пили у него в доме самогонку. Но это бы все еще ничего, не случись в избе у деда Дементия анархии. Сват его, Егор Ноздрев, который все время мучил гармошку и глухо бормотал одну и ту же припевку:
Ширянай, купырянай, ковырянай, рябой, Хватить, довольно, погуляли мы с тобой!.. —этот сват под конец второго дня одичал вдруг и, растянув мехи, рявкнул:
Как Мунехин да Ерохнн Плетуть лапти яэыком! Не було б такого счастья — Не ходили босяком!Дед Дементий, хотя тоже и пьяный был, сообразил, однако, что добром это не кончится.
Так оно и вышло. Утром товарищи Мунехин и Ерохин прогнали по улицам подводу. Особенно непримиримо выглядел моложавый товарищ Мунехин. На подъемах он забегал сбоку и молча хлестал лошадь кнутом, и глаза у него были белые. Возле ворот нетчиков они останавливались и приколачивали тяжелые, полсажени на полсажени, доски. Выбор досок был небогатый:
ЗЛОСНАЙ КУЛАК МИРОЕТ ЗЛОСНАЙ ПАТКУЛАЧНИКДеду Демке они повесили злостного подкулачника.
Дед воспринял доску болезненно. Накричал даже на Прохора, чтобы тот оторвал ее в такое дышло. Никак он не мог поверить, что Советская власть в подкулачники его зачислила.
— Мунехин это зачислил, сукин кот! — шумел он. — У него ведь всякий кулак, кто картошку чищеную ест! А где он был, когда мы с Ефимом Мудреных за эту Советскую власть жизни клали?!
В словах деда Дементня, хотя и вгорячах сказанных, кое-какой резон все же имелся. Жизнь за Советскую власть они с Ефимом не сложили. Мудреных, правда, еще два раза ранен был, а сам дед целый вышел, даже царапины не получил. По что касается товарища Мунехина, он, верно, по малолетству воевать не мог, хотя сознательным уже тогда был. Мунехин с родным отцом не ужился, пацаном ещё пошел работать по чужим людям, и как нанимался к какому мужику, так сразу объявлял, что будет считать его кровососом. Из-за этой своей занозистости он подолгу нигде не держался и уходил назад в чем пришел. Теперь товарищ Мунехин шерстил землянских мужиков, которые покрепче, безо всякой пощады.
Товарищ Ерохин сам был в трудном положении. Он, как человек в деревне новым и местных условий не знавший, при народе с Мунехиным не схватывался — полагал это дело неполитичным. С глазу же на глаз, по слабости характера, не умел его переупрямить. А не переупрямив, считал себя обязанным ходить заслед и тоже строжиться, чтобы какую-то линию все же соблюсти.
Ефим же Мудреных то и дело мотался по разным важным делам, больше в городе жил, чем дома, и теперь тоже отсутствовал — учился где-то на курсах.
Доску дед Дементий все же не оторвал — поопасался идти на открытый бунт. Но терпел он ее только днем, а на ночь снимал. Выходил потемну с выдергой и, хоронясь от соседей, вырывал гвозди. А чуть свет приколачивал обратно. На четвертые сутки, вешая доску, дед нечаянно проглотил два гвоздика, которые держал в зубах. Он поскучнел, прислонил доску к плетню, зашел в избу, влез на печь, положил под голову валенок и стал умирать.
Умереть дед не умер, но холоду на семейство нагнал. А за снятую доску заработал себе отсидку. Приехал из районного села Бугры милиционер Ванька Синельников, посадил деда в свой ходок и увез в каталажку.
Каталажка в Буграх была самодельная, занимала четвертинку рубленого дома, в котором помещалась милиция. Изнутри, со стороны милицейской конторы. Ванька Синельников прорезал в нее окно, чтобы передавать мужикам харчи. Еще имелись в каталажке двухъярусные нары. На нижней полке валетом спали два залетных городских ворюги. Верхнюю они по очереди сдавали мужикам — за сало. У кого сала не оказывалось, тому ворюги большой деревянной ложкой отвешивали двадцать пять горячих по мягкому месту.
Если попадался норовистый арестант, который, допустим, не хотел отдавать сало, а спать соглашался на полу — такого ворюги хватали сонного, сало отымали, горячих всыпали пятьдесят и на полку уже не пускали, как несознательного.
Дед Демка, познакомившись с этой программой, сразу же отдал сало — за трое суток вперед. Варнаков этих он не испугался. Боялся дед Ваньку Синельникова: дескать, поднимешь шумиху — а он возьмет да срок и прибавит.
Вернулся дед только через неделю. На воротах его висела обидная доска: «Злоснай паткулачник».
Во дворе Прошка грузил на телегу мешки. Бабка Пелагея стояла на крыльце и надрывно кричала:
— Вези, дурак толченый! Все вези! И голодранку свою забирай, и сураза! Нечем мне его кормить!
Мира в доме деда Дементия как не бывало. Дед с безучастным видом прошел в избу и прямиком вскарабкался на печь. В доме притихли.
— Дочка, — крикнул дед Татьяну. — Положи мне подушку!
Бабка Пелагея, охнув, села на лавку — дед просил подушку первый раз в жизни.
— Может, поешь чего, тятя? — спросила Татьяна. Дед смолчал.
Так, молча, он пролежал на печи три дня, уставив в потолок острую бороду. А на четвертый день преставился.
Еще один день из жизни села Землянки
В доме Гришкиных все шло своим обычным порядком. Татьяна пекла на завтрак пироги (по случаю дня рождения Якова), одновременно стирала в корыте пеленки и в промежутках катала рубелем постиранные вчера мужнины исподники. Бабка Пелагея со стуком, грохотом и проклятьями моталась туда-сюда по избе, ничего ладом не делая, но во все встревала и везде мешала. «— Куда ты их такие лепишь, лапти расейские! — кричала она на Татьяну. — Ить они в рот не полезут!.. Что ты зад отклячила, телка немытая, — пройтить нельзя!..» Две бабкины дочери, вековухи Нюрка и Глашка, все еще томились в горнице под пуховыми одеялами. Младший сын, бабкин любимец Серега, раньше всех налопавшийся горячих пирогов, сидел за столом и ленивыми глазами наблюдал повседневную суету, не надеясь уже, видать, что она выльется сегодня в какое-нибудь развлечение.
Однако развлечение как раз и случилось.
Годовалый Яков, молча копошившийся в углу, вдруг оттолкнулся двумя руками от сундука, переломил реденькую черную бровь, нацелился на лохань и — пошел.
— Господи, прости и помилуй! — ахнула бабка Пелагея. — Пута рубите! — и схватила тяжелый кухонный нож.
Не успела Татьяна распрямиться от корыта, как бабка тяпнула между ног внука ножом и, конечно, отсекла ему половину большого пальца на левой ноге.
Ребенок закатился в беззвучном плаче.
Кое-как Яшку утрясли, палец завязали чистой тряпкой, его самого напоили смородинным отваром и бухнули в люльку.
Может, на этом все и закончилось бы, да бабка Пелагея решила, на всякий случай, вылить у Яшки испуг. Выливала испуг бабка на воске. Способ это был верный — половина деревенских молодух перетаскали к ней своих ребятишек. Пока бабка творила молитву, расплавленный воск застывал в ковшике с холодной водой, образуя малопонятные узоры. По этим кренделям надо было определить зверя, напугавшего малютку.
Бабка Пелагея никогда не ошибалась.
— Похоже, петух, — говорила она, к примеру. — Вон и хвост у него видать, и гребешок. — И, подняв на заробевшую молодуху строгие глаза, спрашивала: — Гонял твово сына петух?
Побледневшая бабенка секунду-другую припоминала, ошалело тараща глаза, и сознавалась:
— Гонял, Митревна! Гонял, окаянный!
Вот против такого врачеванья и взбунтовалась неожиданно Татьяна, молчаливо сносившая до сих пор все издевки, помыкания, а другой раз и трепку.
— А ну-ка! — грубо сказала она и вырвала сына. — Ворожея нашлась! Вы мне темнотой своей дитё изувечите!
— Ты больно ученая стала! — обиделась бабка.
— Да уж какая ни на есть, а только на електричество не дую. — подковырнула ее Татьяна.
И верно, был такой грех за бабкой Пелагеей. Гостила она в городе у замужней дочери и дула там на электрическую лампочку. Дула аж до синевы и удивлялась: «Да что же это у вас за трехлинейка такая — не гаснет и все!»
Этот случай и напомнила ей теперь осмелевшая вдруг Татьяна.
Бабка Пелагея недолго пребывала в растерянности.
— Ре-е-е-жуть! — в голос закричала она и схватила скалку.
— Ззю, маманя, ззю! — обрадовался спектаклю Серега.
Татьяна, однако, успела перехватить скалку и, выставив ее впереди себя, сказала:
— Хватит, поизмывалась! Перестарок своих толстомясых учи! А меня не трожь!
Вековухи Нюрка и Глашка, простоволосые, в одних рубахах, выскочили из горницы, затопали ногами, завизжали:
— Маманя, бейте ее, паскуду!
— Ззю, сучки, ззю! — хлопая себя по ляжкам, веселился Серёга.
И начался в доме Гришкиных скандал.
В результате бабка Пелагея, Нюрка и Глашка объединенными усилиями вытолкали Татьяну на улицу. Впрочем, Татьяна не шибко и упиралась. Она подобрала узел с пеленками сына да мужниными подштанниками (единственное добро, которое вырешила ей свекровь) и подалась через дорогу, к младшему брату покойного деда Дементия Мосею.
— От, змея! — сказал дед Мосей, выслушав Татьяну. — Как смолоду была змеей, так ей и осталась… Да ты не убивайся, красавица. Занимай вон мою землянку летнюю, живи пока. А уж Прохор приедет с пашни — он им хвосты расчешет.
— Прохор расчешет — жди, — возразила Татьяна. — То ли вы Прохора не знаете. Как маманя с золовками грызть меня начинают — он шапку в охапку и долой из дому. Сроду так.
— Ну, не боись, — сказал дед Мосей, — не бойсь… Дальше события начали разворачиваться совсем уж круто. К бабке Пелагее прискакал верхом на прутике белоголовый парнишка и, свистя выбитым зубом, глотая слова, с ненужными подробностями рассказал, как наехал он за овином на дядьку Егора Ноздрёва, как дядька Егор наказал ему рысью гнать сюда и передать, чтобы спешно прятали скотину.
Какие чувства и какие соображения руководили бабкой Пелагеей, осталось тайной, но после разговора с посыльным она вывела из стайки ведерницу Дуську и бегом перегнала её вслед снохе, к деду Мосею. При этом Пелагея ничего не сказала и даже ни на кого не взглянула. Только секунду-другую постояла у раскрытых ворот, сердито шмыгнула носом и исчезла.
— Сычас гром ударит, — сказал ошеломленный дед Мосей. — Сгореть мне на этом месте.
Но гром не ударил.
А спустя малое время скрипнула калитка, и во двор проник озирающийся сват Егор Ноздрёв.
— Дуська-то у вас, что ли? — спросил сват Егор. — Беда, девка! К Пелагее, слышь, комиссия заявилась — излишки крупного рогатого скота описывают. Как бы они сюда не повернули. Мунехин-то уже ногами стучит — пропажу обнаружил. Вы, говорит, укрыватели, так вашу! Я вас в тюрьме сгною!..
Сразу после разговора со сватом Егором Татьяна накинула на рога Дуське веревку и, прячась по-за огородами, скорым ходом погнала бедную корову к броду через речку. Уже на том берегу Татьяна маленько отдышалась и решила, что раз выпал такой случай, то Дуську она из рук не выпустит, а лучше уведет её за четыре версты в соседнюю Тиуновку и там продаст кому попадётся, хоть за полцены.
Возвратилась назад Татьяна после обеда. У околицы поджидал её несмирившийся товарищ Мунехин. Поверх застиранной холщовой рубахи он был перекрещен портупеей, которую надевал в особо важных случаях. Рядом с ним, сдвинув на глаза картуз, дымил махоркой товарищ Ерохин.
— Ну, — сказал Мунехин. — Иде корова?
— Продала, — храбро ответила Татьяна.
— А деньги куда девала?
— А деньги пропила.
— Ты, Гришкина, дурочкой не прикидывайся, — сказал товарищ Мунехин и положил руку на кобуру. — Сейчас сдавай деньги под расписку!
— Бегу, — усмехнулась Татьяна. — Не видишь — в мыле вся.
— Так, — сказал товарищ Мунехин. — Сопротивление. Будем производить обыск.
— Здеся раздеваться? — спросила Татьяна и потянула с себя кофту.
— Не озоруй! — прикрикнул товарищ Ерохин. — Пошли в контору.
— Меня свекровь из дому выгнала — гнутой ложки не дала, — говорила по дороге в сельсовет Татьяна. — Должна я чем-то дитё кормить?
— Отвод глаз, — убежденно отвечал товарищ Мунехин. — Дурней себя ищите.
— Эх, Мунехин, — говорила Татьяна, — забыл, видать, как мы вместе к Кургузу ходили в батраки наниматься.
— К Кургузу — вместе, а от Кургуза — врозь, — замечал непреклонный товарищ Мунехин.
— Командуешь теперь, — говорила Татьяна. — Да ты еще в соплях путался, когда моего отца колчаки сожгли.
— Шагай, шагай, перерожденка! — подгонял ее товарищ Мунехин. — Нечего отцом прикрываться!
Как товарищи Мунехин и Ерохин обыскивали Татьяну Гришкину, чем стращали — этого никто не видел и не знает. Зато многие видели в тот день другое. Вдруг распахнулись двери сельсовета и наружу выскочили красные, как кумач, Мунехин и Ерохин. Следом за ними, в одной нижней рубахе, с распущенными волосами, вымахнула Татьяна.
— Стой! — весело кричала она, — Мужики! Куда ж вы! Еще не всю обыскали! Дайте я рубаху сыму!
— Сдурела! — обеими руками замахал товарищ Ерохин. — Уйди в помещению! Не срамись!
Мунехин ничего не говорил. Только все ширял наганом мимо кобуры и дергал худою щекой. Денег они так и не нашли…
Вечером приехал с заимки Прохор. Соседи его перевстрели и рассказали про весь сыр-бор.
— Коня матери не отдавай, — советовали многие. — Отдашь — дурак будешь. Заворачивай прямо к деду Мосею — и шабашь. Зря вы, что ли, с Татьяной на их, чертей, столько горбили.
Прохор, однако, сделал по-другому. Он бросил невыпряженного коня у ворот, даже во двор не завел, минуя деда Мосея, прошел к тётке Манефе Огольцовой, купил у неё большую бутылку самогонки и тут же возле избы выпил из горлышка.
Вокруг стояли любопытствующие — ждали, что будет дальше.
Прохор посидел на бревнышках, подождал, когда самогон ударит в голову, потом поднялся и, напрягши шею, страшным голосом крикнул:
— Запалю!
Помолчал чуток, мотнул по-лошадиному головой и закричал еще страшнее:
— Серёгу убью!! А вековух перевешаю! Сбычившийся, затяжелевший от самогона, Прохор шел вдоль деревни, и улица была ему узкой. Со всех сторон, сигая через плетни и канавы, бежали люди — смотреть, как Прохор Гришкин будет палить родную мать. Старухи прижимали к губам платки, суеверными взглядами провожали его пьяную спину. Впереди Прохора, поддергивая портки, шпарили мальчишки. Лаяли собаки. Красная в предзакатных лучах пыль вставала за спиной Прохора как зарево пожара.
— Запалю! — шумел Прохор, и казалось, что этот крик кидает его от прясла к пряслу.
Бабку Пелагею добровольные курьеры упредили. Она выбежала за ворота, упала на колени и заголосила:
— Убивают!.. Люди добрые!
В избе ревели дурниной обнявшиеся Нюрка и Глашка.
Отчаюга и драчун Сергей, почему-то боявшийся обычно смиренного старшего брата, выскочил из дому, пропетлял, как заяц, по коноплям, кинулся с берега в речку и уплыл на другую сторону.
Всю эту жуткую панику прекратил подоспевший товарищ Мунехин. Товарищ Мунехин прибежал распоясанный, без нагана, и когда заступил он — низкорослый и щуплый — дорогу крепкому Прохору, всем показалось сперва, что это малый чей-то балует. Но столько было отчаянности в распаленных добела глазах товарища Мунехина, что очумевший Прохор затоптался на месте.
— Стой, контра! — крикнул товарищ Мунехин и, видя, что Прохор и без того уже стоит, сам опустился вдруг на пыльную траву. Дернул себя за ворот рубахи и, мотая головой в редких кудрях, с невыразимой болью сказал:
— Нет, Гришкин, не твое это теперь добро, а народное! И ты у меня, Гришкин, былинку тут не подожгёшь — учти! Я тебе, гаду, пока живой буду, даже штаны собственные спалить не дам! Сначала сымай их, а потом поджигайся к такой матери!
Туда, где тепло и сытно
В два с небольшим года Яков Гришкин заговорил. Он говорил, правда, и раньше, но только отдельные слова: «мама», «папа» и «бу-бу», что переводилось, глядя по тону и выражению, — как «бабушка» или «мизгирь». А тут он заговорил сразу и бойко, словно было ему не два с гаком, а лет, допустим, пять-шесть.
Случилось это в поезде, который медленно тащился по белесой солончаковой степи. Солнце — весь день тоже белое и маленькое, как булавочная головка, — разбухло к вечеру, покраснело и быстро покатилось за край земли. От редких кустиков травы упали длинные тени, и на загустевшем небе проклюнулись звезды.
Яков, стоявший у окна, вдруг отчетливо сказал:
— А вон верблюд идет.
Прохор, дремавший в углу на скамейке, встрепенулся и ошарашенно переспросил:
— Чего-о?
— А вон верблюд идет, — повторил Яков. — У него две горбы.
— Горба, — машинально поправил Прохор. Он поискал глазами, на чем бы еще испытать прорезавшиеся способности Якова, — и увидел возле другой стены вагона соседа, усатого плотника, с которым сдружился за длинную дорогу.
— А это кто — знаешь?
— Знаю, — ответил Яков. — Дядя Граня-плотник — мировой работник!
— Так, — сказал отец и в растерянности поскреб затылок. — Верно… Ну иди стрельни у него табачку на закрутку.
Яков пошел и стрельнул.
— Сам курить будешь? — устрашающим голосом спросил дядя Граня.
— Нет, я маленький, — сказал Яков.
— За это хвалю! — крикнул дядя Граня, по-строевому выкатывая глаза.
Табак Яков, однако, не донес. В проходе он споткнулся о чей-то узел и просыпал всю щепоть на пол.
— Эх, пень косорукий! — сказал Прохор, разом зачеркивая все заслуги Якова — А ну, марш спать. Не толкись под ногами.
Ах, лучше бы Яков молчал еще два года! Пока сидел он с мокрым носом возле мамки, его вроде не замечали. А тут сразу все заметили. Особенно поглянулся Яков одному товарищу, в галифе и толстовке, ехавшему на верхней полке.
— Ну-ка, орел, лезь ко мне, — позвал ок. — Ух ты, какой кавалерист! Ты чего еще умеешь?
— Песни играть, — признался Яков.
— Тогда заводи, — сказал товарищ. — А я тебе конфетку дам.
Яков, старательно разевая редкозубый рот, заиграл песни. Он пропел от начала до конца «Возьму в ручки по две штучки — расстрелю я белу грудь», «Скакал казак через долину», «Посеяла огирочки» и «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла».
Товарищ пришел в умиление.
— Ах ты, косопырь! — говорил он, тиская Яшку за плечи. — Ах ты, жулик! — Он взял лежавший в головах портфель, раскрыл его, вынул бумажный кулек, порылся в нем толстыми пальцами и протянул Якову три липучих конфетки.
Яков слопал конфеты и подбодренный заявил:
— Я еще и припевки знаю.
— Да ну! — изумился товарищ.
— Ага, — сказал Яков. — Я много знаю. — И не дожидаясь приглашения, запел частушки.
Мама Татьяна побелела, как снег. У папы Прохора ослаб низ живота и противно задрожали ноги.
Яков жарил частушки деревенского дурачка Алешки Козюлина.
Алешка Козюлин, по прозвищу Сено-Солома, был мучжиной лет сорока, слабоумным от рождения. Худой и длинный, как жердь, с неправдоподобно маленькой головой на плечах, он ходил по деревне, привязав к одной ноге пучок сена, к другой — соломы, и сам себе командовал: «Сено! Солома!» Еще Алешка славился тем, что помнил множество частушек. Черт его душу знает, где он им обучался, но такие это были вредные частушки, что когда Сено-Солома приплясывал, напевая их под окнами сельсовета, то даже не робкого десятка мужики надвигали шапки на глаза и скорее сворачивали куда-нибудь в проулок.
Товарищ в галифе ужасно расстроился. Он слез с полки и начал обуваться, сердито и решительно наматывая портянки. На Татьяну с Прохором товарищ не глядел — в упор их не видел.
Татьяна, трясшая у груди трехмесячную Маруську, высвободила одну руку, поймала Якова за голую пятку и скомандовала:
— А ну, слазь, черт вислоухий. Ты где, паскудник, такое слышал? Мать тебя обучила? Говори — мать? — тут мама Татьяна даже заплакала. — Да мать всю жизнь на чужого дядю батрачила! Одного дня сытой не была! У-у, идолово племя!
Товарищ натянул второй сапог и, по-прежнему не глядя на Татьяну, сказал:
— Ты, гражданка, своим бедняцким происхождением не козыряй! Не перед кем тут… И мальцу ногу зря не выкручивай. Ему этими ногами, может, до полного коммунизма шагать. Тем надо было ноги крутить, кто вокруг твоего ребенка на волчьих лапах ходил и вражьи слова нашептывал.
Сказав так, товарищ в галифе ушел в тамбур — курить махорку и нервничать.
Возможно, этот случай не имел бы последствий, но запаниковал Прохор, унаследовавший от деда Дементия страх перед всяческим начальством.
— Посадят, — упавшим голосом сказал он, когда за товарищем бухнула дверь. — Ить это он за конвоем пошел. Истинный бог. Пропали, мать!
— И так пропали — и так пропали, — ответила Татьяна. — Один конец. Которые сутки едем, а куда — неизвестно.
— Надо слезать… Слезать надо, — бормотал Прохор, слепо хватаясь за узлы. — Собирай ребят, мать.
Татьяна, знавшая, что в такие моменты спорить с мужем бесполезно, заплакала второй раз за этот день и принялась собирать ребятишек.
Пиджак у Прохора сторговал молодой нерусский парень. Они долго рядились: нахальный парень этот чуть не задаром норовил купить пиджак. Прохор не уступал и сердился.
— Ты подумай, что даешь, черт печеный. Креста на тебе нет.
— Крест надо? Будет крест! — парень исчезал в галдящей толпе и тут же выныривал обратно, держа в горсти десяток медных нательных крестиков. — Сколько возьмешь?
— Да на кой они мне, — отпихивался Прохор. — Мне деньги нужны — дальше ехать.
В конце концов парень поимел совесть — накинул маленько, и пиджак перешел к нему. Денег оказалось чуть больше, чем на два билета. Прохор купил круглую булку белого хлеба и, посомневавшись, — огромный полосатый арбуз. Арбуз не обхватывался свободной рукой — Прохор снял рубаху и кое-как запеленал его.
При выходе с базара Прохора сильно толкнули в спину.
Роняя покупки, он упал лицом в пыль, а когда, поднявшись, проморгался — ни хлеба, ни арбуза рядом не нашел. Пропали из кармана и билетные деньги.
Тогда Татьяна продала последнее, что было, — обручальное кольцо, доставшееся ей от бабки. Вырученных денег хватило только на один билет. По этому билету усадили в вагон Татьяну с детьми, а Прохора взял к себе машинист. Можно сказать, что Гришкиным повезло. В Коканде санитары сняли с паровоза опившегося холодной водой кочегара: вот на его место и напросился Прохор — пошуровать за так несколько прогонов.
…С братом Серёгой они столкнулись прямо на станции, хотя уговору о встрече не было. Первой увидела его Татьяна. Серёга стоял почерневший, как головешка, худой и дряблый. И одет был хуже всякого босяка: тюбетейка на голове, дырявая майка без рукавов, выгоревшие куцые штаны и кореженные сандалии на босу ногу. В руках он держал грязный узелок.
— Здравствуй, Сергуня, — сказала Татьяна. — Где же яблочки твои? Дай и нам по ним пройтися.
Серега молча отворотил лицо.
От паровоза спешил Прохор. По голому животу его катился черный пот.
— Зря ты приехал, брат, — сказал Серёга, не пода вая руки. — Мы тут с голоду пухнем… Вот хочу в табак-совхоз податься. — Он тряхнул узелком. Прохор встал, как громом ударенный.
— Ты зачем же звал, пёс?!
Тут Серёга оскалился, став на момент прежним Серёгой, нахальным и дурковатым, и сказал страшные слова:
— А так вас, дураков, и учат.
— Ну, спасибо, брательинчек! — поклонилась Татьяна. — За детей моих спасибо тебе!
— Мать! — Прохор заскреб ногтями локоть, подсучивая несуществующие рукава. — Убить его, выродка, мать?!
— Не трожь, Проша, — сказала Татьяна. — Не связывайся. Ума из него все равно не выколотишь… Что ж теперь делать. Раз приехали — надо жить…
* * *
Лежала вокруг горячая, как сковородка, чужая земля.
В тени, под навесом, дремали на корточках три старых узбека.
У коновязи кричал, заглушая паровоз, тощий ишак.
Они казались себе стариками, прожившими длинную жизнь, из которой на этот новый берег не привезли даже малого обломка.
А им было сорок пять лет на двоих.
И это была только первая их дорога.
…ТОМУ НАЗАД (внезапная повесть)
Такое, нарочитое внешне, определение жанра — «внезапная повесть» — автор позаимствовал у В. М. Шукшина. Лет двадцать с лишним назад (вряд ли кто из читателей и помнит) в журнале «Сибирские огни» Василий Макарович опубликовал подборку рассказов под общим названием — «внезапные». И я, когда решился на этот труд, ничего более точного придумать не смог. Дело в том, что на повесть я сначала не замахивался, а хотел написать полемическую статью.
Зуделись у меня руки схватиться кое с кем из моих коллег, а более всего — с Пуськиным Иннокентием Васильевичем, человеком еще далеко не старым, но уже крепко бородатым: как в буквальном, так и мировоззренческом смысле. Я даже подготовительную работу начал: обложился произведениями литераторов прошлого века, очевидцев, так сказать, людей, наблюдавших иные «нравы нашей старины» собственными глазами и с близкого расстояния; выписки кое-какие сделал, то, сё… Как вдруг одни случай — вот именно внезапный, даже дикий и неправдоподобный, с точки зрения любого человека, стоящего на твердых материалистических позициях — переменил мои намерения.
И тогда родилась повесть.
Вот она:
ЗДЕСЬ
Пуськин Иннокентий Васильевич подрался с водителем такси. То есть не подрался взаимно — это, пожалуй, сильно сказано: «подрался». Как Щедринский градоначальник Микаладзе, Иннокентий Васильевич «не столько сражался, сколько был сражаем». Короче, отбуцкал его таксист — односторонне. И тоже — мягко сказано. Этот петнкантроп просто-напросто избил Иннокентия Васильевича — жестоко, зверски. Свалил с ног боксерским приемом и напинал под бока ботинками сорок шестого размера. Здоровый очень был, черт!.. Так что, в результате, у Пуськина оказалось сломанным девятое ребро.
Но не бывает худа без добра. По случаю травмы Пуськин выхлопотал себе больничный лист и засел дома за отложенный исторический роман. Он, вообще-то, в издательстве служил — и на личное творчество времени у него оставалось мало. А тут открылась возможность — хотя бы и в результате прискорбного события.
Значит, Иннокентий Васильевич обрядился в рубашку-косоворотку, домотканые штаны (подарок знакомого артиста из ансамбля старинной песни), онучи намотал, в лапти влез и волосики белесые расчесал на прямой пробор…
Прошу прощения, я здесь отступление должен сделать: объяснить, для чего он так замаскировался. А то иной читатель подумает еще, что автор какой-нибудь шарж сочиняет, грубо говоря — дуру гонит. Дело в том, что многие сочинители к подобным, так сказать, перевоплощениям прибегают — для пущего погружения в атмосферу изображаемого времени. Особо недоверчивых товарищей могу к свидетельским показаниям отослать, конкретно — к известной книге Яна Парандовского «Алхимия слова». В частности, он сообщает, что Анатоль Франс, к примеру, когда писал свою «Жанну д'Арк», столько натащил в комнату средневековых железяк, что по окончании работы буквально умолял знакомых: сдайте, мол, ребята, в металлолом, что ли, весь этот хлам — жизни от него нет! Метерлинк, сочиняя «Жизнь пчел», держал на столе тарелку с медом — для приманки. А Виктор Гюго, тот, вообще, оборудовал себе рабочий кабинет в виде застекленного фонаря над океаном. Стоял там за пюпитром, вдыхая соленый ветер, и создавал «Тружеников моря».
Ну а Пуськин работал над романом из прежней крестьянской жизни («пейзанской» — как выражался один его друг, о котором речь пойдет ниже) и ему в таком экзотическом наряде легче было погружаться в свой воображаемый мир, где царили святая простота, патриархальный лад и богобоязненное целомудрие. У него и кабинет был отделан под курную избу (друзья-художники постарались): стены обожженными паяльной лампой плахами обиты, вдоль них — лавки крепкие, братины разные стояли, ендовы, в переднем углу — божница.
Так вот, значит, сидел он работал, когда к нему друг заявился, товарищ — со школьных еще лет.
И они, как обычно, заспорили. Вернее, не заспорили — разговаривал-то один Пуськин. Товарищ был человек на редкость молчаливый, углубленный в себя, кандидат каких-то наук, — то ли физик, то ли химик, — и вечный изобретатель, это в нем с детства сидело. Но к Пуськину любил ходить. Придет, устроится где-нибудь в уголке и помалкивает — с глазами вовнутрь повернутыми. Идеальный слушатель.
А Пуськин оседлал своего любимого конька: стал ругать современные нравы. Не ругать даже, как обычно, — поносить на сей раз. И понятно: сам недавно жертвой оказался нравов-то этих нынешних. Особенно молодежи от него доставалось, которая, по мнению Иннокентия Васильевича, испохабилась вконец, до крайности, до!.. до пещерности прямо-таки дошла.
— Меня тут, на литературном вечере, дамочка одна спрашивает, — говорил он, вздрагивая ноздрями, — скажите, Иннокентий Васильевич (Пуськин изобразил эту шибко интеллектуальную дамочку: как она плечиками-то манерно поводит и бровки приподнимает), скажите: вам не кажется, что человечество все-таки улучшилось за последние, допустим, сто лет?.. А?! Это как тебе? А ей, значит, кажется!.. Милая, говорю!.. Да не говорю, — он махнул рукой. — Таким говорить-то — что об стену горох. Ми-ла-я! — думаю себе. — Где же это оно улучшилось-то? В чем? С каких таких шишек? Да ты посмотри вокруг! Ведь он же, курвец, у него молоко на губах не обсохло, а ему человека, пожилого, почтенного, оскорбить, обхамить, да что там — изуродовать! — как два пальца, извиняюсь… А если уж сама ни черта не видишь, совсем уж занавесилась, то хоть других, умных людей, послушай. Почитай, наконец… Помнишь, как у Астафьева? — Это он уже непосредственно к другу обратился. — Как сыночек один, с-сукин кот, привез мать в город и на вокзале бросил. Записочку еще в карман сунул; не шибко, мол, прожорливая. Матерь! Родную, а!.. Нет, прав Виктор Петрович, прав: сечь таких надо! До поросячьего визга…
— Недавно в археологическом музее был, — сказал вдруг товарищ ни к селу, ни к городу.
Пуськин оттого, что тот неожиданно заговорил, уставился на него вопросительно.
— Гостя одного сопровождал иностранного, венгра, — пояснил друг. — Любителем оказался этих… древностей. Ну, дошли до скифского зала. Экскурсоводша, молоденькая девочка, поясняет что к чему. Предметы разные показывает, оружие. В том числе чекан — вооружение скифского всадника. Такая, знаешь, маленькая злая кайла. Одноклювая. На деревянной рукоятке. Удобная штучка — на скаку сшибать: сабель-то у них, возможно, не было еще… А вот, говорит, рядом, обратите внимание, — череп воина, сраженного, надо полагать, в бою — этим самым чеканом. — Друг помолчал. — Я гляжу — а на нем четыре дырки. Рядышком.
— Ну? — спросил Пуськин.
— Что ну? Убивал его кто-то. Зверски. Не один поди Брут поработал, а и Кассий какой-нибудь. В бою-то много ли надо? Махнул разок, сшиб и дальше поскакал, А тут… долбали — будь здоров!
Пуськин, увлеченный своими проблемами, не просек — к чему это друг про череп-то.
— Вот точно! — сказал. — Зверье!.. Эх, была бы какая-нибудь машина времени, сел бы — и!.. подальше куда.
— К пейзанам своим? — усмехнулся друг.
— А хоть бы и к ним! — Иннокентий Васильевич обиделся за «пейзан». — Не хуже нас с тобой были люди. Если не лучше. Не видеть бы хоть этого крайнего посрамления разумныя твари!.. Радищева давно перечитывал? Или одно только запомнил — со школы: «О, помещик жестокосердный!» А он, между прочим, и вот такое еще говорил. — Пуськин процитировал по памяти: — «Счастливыми назваться мы можем, ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумныя твари. Ближние наши потомки счастливее нас ещё быть могут. Но пары, в грязи омерзения почившие, уже воздымаются!..» Вот и воздыми… поднялись то есть: дожили — благодарим покорно! — до крайнего посрамления…
Друг опять, казалось, не слушал — ушел в себя.
— Машину времени, говоришь? — Он тяжело, странно как-то глядел мимо приятеля.
Достал из кармана маленький, блестящий предмет, вроде японской зажигалки на пьезокристаллах, задумчиво повертел в руке и — щелкнул!
Пламя не выскочило, а ударил в нос Пуськину незнакомый запах.
…Иннокентий Васильевич пересекал улицу на зеленый свет.
Метра полтора оставалось ему до противоположной стороны.
Вдруг взвизгнули тормоза — мягкий толчок в бедро выбросил Пуськина на тротуар.
Он не упал: обнял с размаху фонарный столб, вертанулся вокруг него, увидел вставшую боком «Волгу» с шашечками на тупом носу и — тьфу ты, идиот! — плюнул.
И попал точно на ветровое стекло.
Таксист, губастый, длинноногий акселерат, вымахнул из машины. Сгреб Иннокентия Васильевича за шиворот — сверху как-то. Аж голову пригнул:
— А ну, сотри! Коззлина! Харкаться он ещё будет!
— Сам сотрешь! — сказал Иннокентий Васильевич.
И зажмурился: потому что знал, в жутких подробностях видел, что сейчас последует.
…Друг, подавшись вперед, смотрел на Пуськина — бледный, испуганный.
— Ч-черт! — Иннокентий Васильевич потер лоб. — Словно провалился на мгновение!.. Нет, все-таки было, наверное, сотрясение. Ни фига эти эскулапы не понимают.
Друг облегченно выдохнул, откинулся на спинку стула:
— Никакого сотрясения у тебя нет. Просто ты… там побывал. — Он улыбнулся через силу. Покачал головой. — Я этого шоферюгу-то другим представлял — по твоему рассказу. Зверовидным этаким мужиком. А он… шпаненок, оказывается. Долговязый только.
Пуськин смотрел на приятеля — идиот идиотом.
— Постой… Ты что это?.. Где там?.. А ты где?
— И я — там. — Он сам вроде бы недоумевал. — Хорошо — на кнопку возврата успел нажать. А то бы он тебе еще пару ребер отремонтировал… Или бы мы вдвоем этого сопляка уделали.
У Пуськина в голове опять замутнело.
— Ты что? — он суеверно глядел на «зажигалку» (она теперь на столике письменном лежала). — Чего буровишь-то?.. Неужели — то самое?
— То, — сказал друг. Грустно почему-то сказал. — Собирались другое, а вышло то.
— Но это же фантастика! Чушь какая-то!.. Фу ты, господи!.. Прям шарики за ролики заходят. А куда собирались-то? В будущее, что-ли?
— Да нет. Насчет будущего — это уж, действительно, фантастика. Туфта. Писатели понавыдумывали. Туда, где вообще ничего не было, не существовало — нельзя. Ну, сам подумай — куда? В небытие?
— А это бытие? Прошлое-то?.. Его ведь нет уже. Кончилось.
— Ну-у, тут сложнее. На пальцах не объяснишь… Хотя, впрочем. Вот звезда, например, умершая. Ее нет уже, а свет мы видим. Он до нас доходит. Существует, стало быть. Для нас. А то как бы мы его увидели. Это примитивно, конечно…
— И… далеко? — Пуськин опять покосился на «зажигалку».
— Не очень пока. Это же модель. Пробный экземпляр. — Друг засмеялся наконец. — К скифам не долетишь. И к инквизиторам тоже. Лет на сто, ну, на сто двадцать, примерно, стреляет.
— Обалдеть! — сказал Пуськин — Никогда бы не поверил.
Ушел приятель неожиданно. Вдруг телефон зазвонил.
— Это меня, наверное, — встрепенулся друг. — Извини: я твой номер дал.
Дальше разговор шел непонятный, отрывистый:
— Ну, я, я! — крикнул друг. — И что там?.. А напряжение?.. Вы офонарели?! Щас буду! Не трогайте ничего! И ушел. Выскочил — не попрощавшись. А «зажигалочку» на столике оставил. Забыл — впопыхах. Дальше…
Вот дальше-то все и случилось. Потому что схватка Иннокентия Васильевича с таксистом еще не сам случай. Ну, подрался и подрался — с кем не бывает.
Пуськин загипнотизированно смотрел на зажигалку. Думал. О чем именно думал, какими словами — кто его знает. Ну, возможно, такими: «А не мотануть ли?.. Раз такой случай». Нет, к скифам он не хотел. И к инквизиторам тоже. Ну их к лешему… Джордано Бруно сожгли. И вообще — фанатики. А вот туда, в золотой век, точнее — в отрезок его, где остались, по глубокому убеждению Иннокентия Васильевича, дефицитные ныне лад и нравственность, где существовали мудрые, седобородые старцы, уютные, ласковые старушки — сплошь Арины Родионовны, застенчивные молодухи в кокошниках, почтительные отроки… Вот туда бы! Хоть на денек.
Он взял эту блестящую штучку — осторожно, двумя пальцами, лег для чего-то на лавку, ноги вытянул и руки на груди скрестил — ровно помирать собрался.
Потом встал. Решил, что в такой-то дальний путь поосновательней надо собраться. Хотел сначала дипломатку прихватить, но сообразил, что с дипломаткой, да ещё и лаптях, там он себя сразу разоблачит. Сходил в спальню, разыскал в гардеробе старый материнский платок — в мелкий горошек. Кинул в него круг колбасы коопторговской, хлеба полбуханки. Подумал — и добавил плоскую фляжку водки, сувенирную, в экспортном исполнении: мало ли — вдруг угостить кого-нибудь придётся. Увязал все тщательно, снова лег на лавку (узелок на животе пристроил) и — нажал кнопку.
ТАМ
С утра до полудня.
…Пуськин лежал на земле, на травке, под каким-то плетнем, вернее — тыном. И прямо в лицо ему смотрел гусь. Тянул шею. То ли обнюхать хотел, то ли ущипнуть собирался.
— Кыш! — негромко сказал Пуськин. — Пошел вон!
— Кистинтин! А, Кистинтин! — позвал его кто-то шепотом.
Пуськин скосил глаза.
Сквозь колья редкого тына, присев на корточки, смотрела на него старуха — седая, сморщенная, какал-то вся миниатюрная: носик маленький, глазки — тоже маленькие, выцветшие.
— А я гляжу — лежить, — сказала старуха. — Чаво, думаю, лежить-то, касатик? Или это покровские его вчерась ухайдакали?.. И — простоволосый. Застудится, думаю, неровен час… Ой, эти покровские-то!.. Как пришли — улицу всю перегородили… Песняка кричат: «Нас побить-побить хотели, побить собиралиси! А мы сами, басурмане, того дожидалиси!» А сами-то — вот пра слово, басурмане! — кто с кольями, кто со шкворнями железными… Басурмане и есть… Ну, да ведь и наши тоже, на Троицу, на престольный праздник, тоже погоняли ихних, покровских-то. Да там мало сказать погоняли: чисто Мамай прошел. Батюшка-то ихний, отец Конон, тоже встрял, жеребец стоялый — прости меня, господи, грешную! Ну дак и лежить теперь в городу, в больнице. Самоя-то, мать Пелагея, попадья, сказывала: в голове, мол, у него чавой-то сотряслось, порушилось. Так-то вот, касатик.
Пуськин распрямился — сел. Старуха испуганно отпрянула от тына.
— Ой! Да ты ить не Кистинтин поди! А мне, старой дуре, поблазнилось. Сослепу. Кистинтин-то у нас корявый… А ты не свойственник ему какой? Не из Ильинки ты будешь?
— Из Ильинки, бабуся, — сказал Пуськин, понимая, что в чем-то надо сознаваться.
— То-то я гляжу, — закивала старуха. — Не Спиридона Бусыгина племяш?
— Его, — сознался Пуськин и, чтобы предотвратить дальнейшие вопросы, сам поинтересовался:
— А вы-то чего здесь сидите?
— Да ведь тоже хоронюсь, — призналась старуха. — Вон от энтих вон ухорезов. — Она указала подбородком куда-то за спину Пуськину. — И как тебя, сердешного, к ним на двор закинуло?
Пуськин развернулся — глянуть, куда указывала старуха, но ему мешал высокий полный куст.
— Ты, батюшко, не высовывайся! — зашептала старуха. — Неровен час заметят! Это ведь такие злодеи… Что им в голову-то встрянет — поди узнай.
Пуськин осторожно раздвинул стебли полыни и увидел — рядом, рукой подать! — на крылечке соседней избы двух мужиков. Один был коренаст, чернобород и совершенно лыс. Чернобородость шибко молодила его, хотя, похоже, он был старшим, возможно, отцом. Другой — повыше (хотя в сидячем положении трудно было определить его рост), пожиже, во всяком случае, ломкий какой-то, похожий чем-то на того губошлепа-таксиста. Его уже покачивало слегка — кругами. Старший же сидел прочно.
Между ними стояла початая четверть самогонки, глиняная миска с огурцами и единственный, мутный стакан. Из которого они и угощались по очереди.
— Ышь! Трескають! — снова зашептала старуха. — С утра пораньше. В такой-то день божий — и жруть!.. Они ведь что удумали, озорники: матерь-то свою, Аграфену, — она сестра мне сродная, — взяли да затворили в курятнике. Зарестовали! Посиди, мол, там, одумайся… А я вот здесь прячусь… А что сделаешь-то с имя, с дураками.
— За что арестовали-то? — так же шепотом спросил Пуськин.
— А пить не давала… в святой день! Вот и зарестовали.
— Родион!.. Родя! — жалобно донеслось из курятника. — Да выпусти ты меня за христа ради, черт лысый!
— Цыть! — вяло сказал чернобородый. — Умолкни. А то вот запалю к такой матери — и спекёшься. Будешь вякать-то…
— Тьфу! — плюнула невидимая Аграфена. Помолчала и — изжалобив голос — воззвала с другому мужику: к сыну, как видно: — Вася!.. Васынька! Что же ты со мной творишь? С родной-то матерью, а? Ведь я же тебя, вражий сын, девять месяцев под своим сердцем носила!
— Г-гы! — качнулся губастый Васька. И куражливо тряхнул башкой. — Девять месяцев!.. Садись ко мне в штаны, старая ведьма, я тебя год цельный протаскаю.
Чернобородый папаша залился мелким смехом и — дабы поощрить сына за находчивость — набулькал ему в стакан.
— Во, как понужнул! — прокомментировала Васькин лихой глоток старуха. — И не захлебнулся!.. Ох, злые мужики! Ох, злые! Они, правда, и на работу злые — ничего не скажешь, ну а уж как винище примутся хлестать — никакого спасу нет… Ты бы их, батюшко, урезонил, а? — И стала учить Пуськина — как урезонить: — Ты скажи так: вот, мол, пожалуюсь пойду Спиридону — он вам лесу-то не продаст. Им лес нужон, они строиться собрались — Васька-то отделяться надумал.
— Да ведь продаст он, поди-ка, лес, — высказал Пуськин предположение о своем «дяде».
— И то правда, — согласилась старуха. — Такой продаст. Удавится за копейку. — То, что хулила она походя «сродственника» Иннокентия Васильевича, её не смущало. — Сам-то купил у барина Овчииниковскую рощу считай ни за что, за тьфу, а теперь гонить её делянками мужикам. По три шкуры дерёть, кровопивец! Скоро уж по грибы некуда будет сбегать…
— С Аграфеной-то как нам быть? — забеспокоилась она снова. — Уморят ведь они её, сердешную… Нешто к церкви пойтить? Там сёдни народ сберётся. Поклониться мужикам: свяжите, мол, их, безобразников. Или батюшку самого упросить — чтоб постращал.
Бабка порасшатывала слабыми, сухими ручками колья тына.
— Ты лезь-ка сюды, касатик. Не поднимайся в рост. А то ещё увидють. Ну их в болото.
— А что за праздник-то у вас, бабуся? — спросил Пуськин, просунувшись через тын.
— Дак колокола нонче поднимать будуть. Церкву новую отстроили — старая-то сгорела прошлым летом. Теперь вот новую отстроили, каменную. Божий храм… А сёдни колокола поднимать будуть. Святое дело. Как же не праздник.
Она чего-то вдруг задумалась, забормотала:
— Все равно мимо лавки иттить придется… — и уперлась задумавшимся взглядом в Пуськина. — Ну, вылитый ты Кистинтин. Вот гляну: Кистинтин и Кистинтин. Только что не корявенький… Ты мне, батюшко, не подсобишь, а? Шерсти у меня козьей тючок, полпуда. Донесть бы? Лавошник-то, Пантелей Кузьмич, обещалси два рубли дать. Оно, конечно, в городу-то и семь бы целковых положили, да ить до него, до города — ох-хо-хо! Туда-обратно — клади неделя. А проешь сколько!..
Село дугою тянулось вдоль высокого, крутого берега реки. И до того знакомой, родной прямо-таки казалась Иннокентию Васильевичу эта река. Не хватало ей только мостов, теплоходов, бетонной набережной, красивого здания речного вокзала с высотной гостиницей.
Лавка — а попросту обыкновенный деревенский дом, чуть побогаче разве других, с широким окном в нижнем этаже, опускающийся ставень которого заменял собой прилавок — оказалась где-то на середине их пути. Лавочник уже поднимал ставень, собираясь, как видно, пошабашить на сегодня.
— Пантелей Кузьмич! — засеменила бабка. — Батюшко! Погодь маненько! Мы тут шерсть!.. Шерсть вот!..
— А ищо попозжее не могла? — недовольно спросил лавочник. — Значит, всем людям праздник, а Пантелей Кузьмич тут с вами, с объедками, чертомель?
— Прости, христа ради. Припозднились. Черти эти бешеные, Родион-то с Васькой, опеть…
— Ладно, давай! — перебил ее лавочник.
Лицо у него было странное. Неестественное какое-то. Круглое, бело-розовое, точь-в-точь — коровье вымя. Только что бородой рыжей обросшее.
Он принял тючок от Пуськина, даже не взглянув на него (всяких, поди, тут насмотрелся), подцепил на безмен, взвесил.
— Да полпуда, Пантелей Кузьмич, полпуда! — заволновалась бабка. — Мы без обману.
— Без обману только господь бог, — строго сказал лавочник. — Да вон ищо курица моя: как день — так яичко. Хошь вешай, хошь не вешай — одно к одному… Ну, что ж?.. Рупь я тебе, стало быть, за ето положу.
— Как… рупь? — опешила старуха. — Ты же два сулился дать.
— Насчет дать — про это разговор особый. А насчет сулился… Это когда я кому чего сулил?! — громко вопросил он, словно к несметной толпе обращался. — А! Кому? Когда?.. Это вы мне все только сулите: «Пантелей Кузьмич, возверну! Пантелей Кузьмич, отсрочь! Пантелей Кузьмич, потерпи, отец родной, за ради живота нашего!..» Да я от ваших посул по миру скоро пойду… Рупь! — повторил, как отрезал. — А не хошь — забирай назад.
— Что ты! — испугалась бабка. — Что ты — назад! Праздник ить. Хоть монпасеек внучатам купить.
— Монпасеек? — издевательски переспросил лавочник. Он неторопливо, сладострастно сложил из толстых, корявых пальцев дулю и сунул под нос старухе. — Вот тебе монпасейки! — И, не убирая дули от лица бабки, другой рукой стал отбрасывать костяшки на счетах: — Под рождество три рубля брала? Брала. Да к святой два с полтиной! Таперича отымаем твой рупь — и что выходит? А выходит, что за тобой еще должок — четыре и полтина.
— Дак ить… Пантелей Кузьмич! Да побойся бога! Ить энти-то деньжата под новый умолот брали. Вот отмолотимся — и до копеечки…
— Отмолотимся! — передразнил её лавочник. — Кто отмолотится-то? Кирьян твой косорукий. Он уж одним глазом в гроб смотрит. А ежели помрет — мне с кого взымать опосля? С ваньки ветрова?
И все не отводил дулю-то, все держал ее перед носом бабки, а та, бедолага, даже лица не смела отворить. Пуськин не вынес этой сцены.
— Послушайте! — сказал вибрирующим голосом. — Зачем же так издеваться? Над пожилым человеком? Ведь это, простите, хамство!
— Хто хам?! — выкатил глаза лавочник (оказалось, на этом вымени еще и глаза есть — раньше Пуськин только щелки различал). — Я — хам?! Ах, ты!., лапотник! А ежели я тебя сычас безменом промежду глаз?! — И в самом деле сграбастав безмен, он ринулся пузом на прилавок.
Пуськин и бабка в страхе кинулись прочь.
— Я т-тебе! — пригрозил им вслед лавочник и с грохотом захлопнул ставню. Слышно было, как упали изнутри в петли тяжелые железные крючки.
— Ирод! — сказала бабка, вытирая кулачком слезы. Они стояли на противоположной стороне улицы — аж туда убежали. — Ну, не ирод ли? Вот тебе и праздник! Вот и монпасейки!
Мимо них тянулся к церкви принаряженный народ: бабы — в разноцветных ситцевых платках, мужики — в поярковых шляпах, в сапогах, обильно сдобренных дегтем.
Появился из своих ворот, наконец, и Пантелей Кузьмич, тоже принарядившийся. На нем был зипун тонкого сукна, подпоясанный шелковым кушаком. Шляпу он держал в руке, а голову успел смазать лампадным маслом.
Выйдя, он троекратно перекрестился, вежливо поклонился бабке:
— С праздником тебя, Патрикевна!
— Спаси бог, кормилец, — благодарно ответствовала старуха.
Пантелей Кузьмич поклонился также Пуськину:
— С праздником, добрый человек, не знаю, как звать-величать!
Пуськин машинально кивнул.
Пантелей Кузьмич, заложив руку за спину, важно двинулся вслед за народом.
— Обходительный человек! — вздохнула бабка. — Одно слово: благодетель.
В полдень
Возле церкви Иннокентий Васильевич потерял свою спутницу. Вернее, бросил ее. Ненамеренно.
Толпа здесь была огромная, пробиться сквозь неё поближе казалось бессмысленным — вот Пуськин и пристроился за спиной одного человека, интеллигентного с виду, в очках и «господской» шляпе. То ли учитель он был, то ли, может, конторщик. Но перед ним расступались — и Пуськин прилепился сзади. Мало-помалу, со взаимными поклонами (кланялись этому… «учителю», он же чуть кивал в ответ), они протиснулись в первый ряд толпы.
Задрав обнаженные головы, все здесь смотрели на колокольню, с пустыми пока ещё проемами, похожими на распахнутые в крике рты. В один из проемов высунуты были три толстые балки с блоками на них. Веревки, перекинутые через блоки, спускались вниз и привязаны были к ушам стопудового колокола, покоящегося на слегах. Вокруг колокола расхаживал густо заросший волосьями поп, кропил его святой водой.
На колокольне тоже обнаружилось движение. Какой-то человек там мелькал, показываясь то в одном, то в другом проеме.
Сосед Пуськина, козырьком приставив ладонь ко лбу (шляпу он, как все, снял), всмотрелся.
— Егор Пузырев верховодит, — пробормотал. И, не найдя, с кем поделиться, кивнул через плечо Пуськину: — Ну, будет спектакль!
— Какой спектакль? — поинтересовался Пуськин.
— Егоршу Пузырева не знаете? — обернулся «учитель» к Иннокентию Васильевичу. — Не здешний? — И тут лишь разглядел, кто рядом. Смерил Пуськина прищуренным взглядом сверху вниз. И — обратно. И оценил, видать, его опереточный наряд. — Да вы, сударь, не из мужиковствующих ли будете? — спросил насмешливо. — Ну, в таком разе не стану предвосхищать, удовольствие вам портить. Впрочем, какой именно спектакль, и сам не знаю. Но без спектакля не обойдется — уж поверьте.
Егор Пузырев вырос, наконец, в том проеме, из которого торчали балки, ступил на них одной ногой, поднял руку с шапкой.
Толпа стихла.
— Православные! — зычно крикнул Егор. — Приступай!
Из толпы выделились три группы дюжих мужиков, подняли с земли веревки, нанизались на них в очередь, как при игре в перетягивание каната.
— Па-шел! — махнул шапкой Егор.
Мужики враз уперлись ногами в землю, откинулись назад.
Веревки дружно напряглись, колокол дрогнул и мягко, чуть покачиваясь, поплыл вверх.
Мужики, клонясь все сильнее, отпячивались на три стороны, местами тесня толпу зрителей.
На высоте примерно двух третей колокольни колокол вдруг встал.
— Доржи-и-и! — истошно завопили в толпе.
— Не отпущай!
— Навались, родимые!
А мужики и так почти лежали на земле. Колокол стоял, будто впаянный в небесную лазурь.
— Ба-тюшки-и-и! — стонала толпа.
— Ти-ха! — рявкнул сверху Егор. И, дождавшись тишины, неторопливо почесал затылок.
— Не в ефтом дело, однако, — раздумчиво сказал он и поскреб теперь в бороде — словно гадал: «А в чем же дело?» И догадался: — Вот што, православные! Колокол дальше не пойдеть. Видать, грешников многовато тута, промеж вас. За грехи, стало быть, за ваши — наказание.
— Чего буровишь-то?! — крикнули ему. — Ты скомандуй — пущай ишо приналягуть!
— Скомандуй! — усмехнулся Егор — Сам скомандуй, Командёр… Ты поглядь — они уж и так пластами лежат. Вот-вот пупки поразвяжутся… А хоть бы и ослабили… Говорю, не в ефтом дело. — И он скомандовал: — А ну, мужики, ослабь!
— Ку-ды?! — шарахнулась толпа. — Сдурел!
— Ти-ха! — опять рявкнул Егор. — Не бойсь, мужики! Ослабляй!
Мужики боязливо оторвали задницы от земли.
Веревки провисли.
И — о чудо! — колокол не упал.
Это был какой-то неизъяснимый фокус.
Толпа обессиленно сомлела.
— Ягорушка! — жалобно пискнула из гущи ее какая-то старушка. — Чаво ж теперь-то?!
— А вот чаво! — Егор грозно распрямился. — А вот Чаво! — И он торжественно, напевно-раздельно как-то выкрикнул:
— Пап-рашу господ снохачей вый-тить из народу!
По толпе прокатился ропот сложной гаммы. Она колыхнулась, как тронутая внезапным ветром трава, зашелестела приглушенно и разноголосо.
Никто, однако, не покинул ее.
— Ишо раз говорю: господа снохачи, уйдитя отселя добром! Колокол дальше не пойдеть! Вот вам крест! — Егор широко, размашисто перекрестился.
И — потянулись… Бородачи. Кряжи. Отцы семейств. В самом мужицком соку здоровяки… Гуськом. Один за другим. Надвинув шапки на глаза. Конфузливо сутулясь… Четырнадцать штук.
Толпа взорвалась.
Парни гоготали. Улюлюкали им в спину.
Старухи злобно плевались: «Кобели!.. Срамцы!»
Молодайки хихикали, прикрывая рты платками.
Егор переждал сумятицу. Еще потянул паузу. И спросил ровным, будничным голосом, удивленно даже как бы:
— Черепузов? Пантелеймон Кузьмич?.. А тебя рази не касаемо?
— Тьфу! — яростно плюнул лавочник, стоявший в переднем ряду. И шапкой оземь ударил. И так, не подняв её, пошагал вой.
— Бес! — болезненно крикнул, приостановившись. — Истинно, бес! Чума!.. Сам гореть будешь! Сковородки блудливым своим языком лизать!
Егор Пузырев спокойно перенес его ругань. Даже головой не ворохнул. Чуть склонился вниз и отдал распоряжение:
— Ну, робята, с богом! Нава-лись! Мужики-тянульщики опять дружно откинулись назад — и колокол послушно двинулся вверх.
— Ну, вот и все, — сказал Пуськину его просветитель. — Кончилось представление. Сейчас подвесят — и гулянье пойдет. Ежели любопытствуете — оставайтесь, сударь. Только, мой вам совет: поостерегитесь. Народ у нас тут крутой бывает. Бесконвойный. Да-с… А я, с вашего позволения, откланяюсь.
После полудня
После полудня Иннокентий Васильевич оказался возле барской усадьбы.
— Барина бы проздравить надо! — пришло кому-то в голову — и небольшая толпа мужиков во главе со старостой двинулась по обсаженной молодыми кленами аллее к усадьбе.
Пошел и Пуськин.
Когда мужики приблизились к воротцам, то обнаружили, что опоздали с поздравлениями-то, и нерешительно затоптались. Там, во дворе, уже стояли двое «поздравителей» — утрешние знакомцы (или как их назвать) Иннокентия Васильевича: Родион с Васькой. Барин — важный и сытый, с разделенной надвое русой бородой, в пенсне — выслушивал их поздравления с крыльца террасы.
У мужиков в руках было для чего-то по хорошему осиновому колу. Родион опирался на свой животом — и потому стоял неколебимо, твердо, тверже однако даже, чем сидел утром па своем крылечке. Васькин кол лежал у него на плече, а сам он монотонно раскачивался — кругами.
— Барин. Ваше высокобродие! — кричал Родион высоким, не личащим ему голосом. — Защити от сына! Разоряет, подлец! Отдела требует! А рази ж это отдел? Грабеж, истинный грабеж… Рассуди, барин. Спаси от ирода!
Тут он, подпрыгнув, хрястнул Ваську колом по лохматой башке.
Васька боднул воздух, на момент прекратил вращение и сплеча огрел папашу. Да так крепко, что палка даже отскочила от лысины Родиона, как от тугого надутого футбольного мяча.
Эта деталь — отскочившая от лысины палка — смутно напомнила Пуськину что-то знакомое. Вроде он когда-то видел уже подобную сцену. Где? В кино? Или, может быть, читал?.. Вот так же стояли мужики, лупили друг дружку палками… Что-то еще там было… кто-то был… Ах, да! — барское семейство. Чай пили на террасе.
Здесь же барин был один. Но тоже, как видно, внезапно оторванный от чаепития. Или — от обеда. Во всяком случае, в руке у него была белоснежная накрахмаленная салфетка, и он этой салфеткой еще промокал усы.
— Братцы! — говорил он увещевательно. — Прежде всего я прошу… и раньше просил — припомните — не называть меня барином. Я вам не барин. То есть, вообще, не барин. В принципе. Ну да, я приобрел здешнюю усадьбу. Но это ровным счетом… из этого, словом, вовсе не следует… Мой дед пахал землю, крестьянствовал, как и вы. Отец, будучи отпущенным на волю, занимался мелкой торговлей. Сам я долго и упорно учился — на медные гроши, стал агрономом. Затем много работал, служил. Да и сейчас тружусь от зари до зари — вам ли не знать?..
Мужики в течение его речи еще по разочку оглоушили друг друга.
— Во-вторых, я вам не судья, — сказал барин, с тоской глядя поверх их голов. — Вам бы следовало к земскому начальнику обратиться. Или же к господину приставу. К мировому судье, наконец.
Мужики не слушали его. У них дело пошло, что называется, потоком — как на молотьбе. Движениями, отработанными до автоматизма, они буцкали и буцкали друг друга по головам. Верно бабка-то утром говорила: злые были работники. Старательные.
Выглянула барыня, истеричного вида особа. Прижала ладони к худым щекам, взвизгнула:
— Николя! Прекрати же как-нибудь это безобразие! О, господи!
— Действительно, господа! — обратился барин к народу, наблюдавшему побоище из-за оградки. — Уняли бы вы их! Ведь это же… Ведь они, того гляди, поубивают друг друга.
— Ништо, барин, — почтительно откашлявшись в кулак, молвил староста. — Оне привышные.
У Васьки от усердия переломилась палка. Родион неожиданно проявил великодушие к безоружному.
— Вот Васька! — плаксиво закричал он. — Ну, не ирод ли ты, а? Ить я бы тебя сычас измордовать мог! Мог бы — нет? Чего молчишь-то?.. А я тебя, дурака, жалею.
Барин, видя, что безобразие пресеклось само собой, обреченно махнул салфеткой и ушел в дом. Подался со двора и Родион.
Васька постоял, все так же монотонно раскачиваясь, затем развернулся и, низко пригнув голову, почти переломившись пополам, погнался за отцом. Боднуть он его хотел? или, может, наподдать ногой пониже поясницы? Но — промахнулся. Его шибко кинуло в сторону — и он, наконец-то, упал, саданувшись лбом в ствол клена…
Поздним вечером
Странно — Иннокентию Васильевичу есть не хотелось. Хотя уже вечер наступил. Ночь, считай. Луна взошла. Такая круглая, ясная, словно умытая, пятна на ней даже не просматривались. Иннокентий Васильевич несерьезно так подумал: «А может, их и не было, пятен? Раньше-то. То есть, сейчас… Может, они позже появились. Надымили с Земли отравой разной — вот они и образовались».
Он сидел на бревнышках, у крайнего дома деревни, недостроенного еще. Но плетнем уже огороженного. Собственно, он в этом доме и намеревался переночевать. Думал так: «Все равно там пусто. А утречком пораньше уйду». На постой проситься не хотелось. Да и к кому? К бабке разве той, утрешней? Дак ведь заговорит, старая перешница. Он положил на колени узелок свой походный, думал: «Развернуть? Колбасы кусочек отломить, что ли?»
И подошел к нему человек. Интересный субъект. В суконном костюме, в сапогах хромовых, остроносый, в очках (что-то много очкастых здесь попадалось). В руках человек держал ведро. Из ведра торчали длинные палки (кудель, намотанную на них, Пуськин еще не видел), что-то погромыхивало в нем — стеклянно, похоже бутыль.
— Мил человек, — сказал подошедший, — у тебя часом серянок нетути ли?
Пуськин не сразу ответил. Он вспомнил про «зажигалку», лежащую в кармане, но вспомнил также, что она не зажигает.
— Нету. Увы, — ответил он.
— Вот и я говорю — увы! — вздохнул человек и присел рядом с Пуськиным. — Все вроде захватил: и палку с куделью промасленной, и карасина бутыль… А серянки забыл. И как его теперь палить — ума не приложу.
Смотрел он при этом куда-то в сторону ближнего леса.
— Лес… палить? — спросил Пуськин. — А для чего?
— Што ты! Лес! — удивился человек, оскорбился даже. — Скажешь тоже… лес! Как можно! Што ты… Уж это последний рази злодей удумает… Лес!..
От великого расстройства он полез в карман за кисетом, но вспомнил, что серянок нет — и еще больше расстроился:
— Вот ведь пропасть! И закурить-то нечем!
Он помолчал, головой качнул, покривился болезнено — и сознался:
— Барина иду палить. От какая задача… А серянки забыл, раззява. Все припас, а про серянки в голову не стукнуло.
Он опять вздохнул.
— Э-хе-хе! Вот они — грехи наши тяжкие… Просил мужиков, только что на коленях не стоял: пошлите, мол. Штыря, Доньку-кривого. Все равно он каторжный, душегуб — ему одна дорога… Нет, говорят, Штыря никак невозможно. Потому, ежели Штыря послать, это чистый будет разбой. Да от него потом, от собаки кривой, не откуписси. А ты запалишь — это вроде как божья кара. Ты мужик степенный, грамоте обучен, опять же — из хорошей семьи: тебя обчество уважает… Вот, стало быть, иду. А серянки забыл, дурак старый! — он сокрушенно хлопнул себя по голенищу. И обрадовался вдруг: — Вот же они! Серянки-то! Я их, значит, за голенище спустил. Ну, совсем из ума выжил!
По такому случаю свернул он цигарку — здоровенную: не очень, видать, торопился — на святое-то дело.
Угостил и Пуськина. Иннокентий Васильевич, хотя в принципе некурящий был, цигарки вертеть умел. А иногда и покуривал, дымил просто так, не в затяжку. Во время работы. Всё с той же, понятно, целью — для создания атмосферы. Так что он с этим делом справился. И задал мужику вопрос. Осторожный — поскольку обжегся уже нынче на заступничестве.
— Так что же, строгий, значит, барин-то? — спросил. — Лютует?
— То ись, как это лютует? — прямо-таки вознегодовал собеседник, — Слава богу, отлютовали. Раньше-то, конечно, было. Покуражились — над родителями нашими, царство им небесное! А теперь мы не барские, вольные. Тут, братец мой, такие есть мужики, так разжились, что он, туз козырный, самого барина купит-перекупит. Ну-ка, покуражься над ним. Э-ге!.. Не-ет, барин он хороший. Можно сказать, золотой барин… Скажем, как праздник храмовый — нам, обчеству, два ведра водки. А то и три. Бабам — по платку цветастому. Ребятишкам — пряники печатные. Это уж сама барыня. Она у него из благородных. Некрасивая только больно. И худая, как щепка. Я думаю, он за ней большую деньгу взял. Так-то с чего бы? Сам он мужчина видный.
Мужик затоптал цигарку и принялся вертеть другую.
— Опять же, деньгами ссужает, — продолжал он о барине. — И процент не берет. Не то что Пантелей, кровосос-то этот. Ты вон пойди пересчитай — у нас уже полдеревни под железными крышами… Или такая ещё картина: сад у него богатейший. И яблоки сортовые, белый налив. На всю деревню славятся. К нему из города перекупщики едут. Доходное, конечно, дело. А собирать кому? Вот он и скликает народ. Условия кладет такие: гривенник в день — и еще льгота: в какую посудину сбираешь, ту к вечеру, полнехоньку, неси домой. Дак бабенки наши к нему — чуть не в драку. Да что бабы — ребятишки малые, там ему от горшка два вершка, и те бегут. И корзину норовят ухватить какую побольше. Назад-то потом ее, полную, волоком тянут. Смех и грех… Одно неладно: навоз заставляет на поля возить. Прям неволит. За горло берет. Который хозяин, значит, не возит — тот в праздник к водке не подходи. Ни боже мой! Бабе платка не будет, ребятишкам — гостинцев. Про ссуду я уж молчу. За ссудой такой даже и не стучись, не кланяйся — не даст!
— На его поля неволит возить? — поинтересовался Пуськин.
— На евонные само собой. Но тут какая неволя? Он нас же, мужиков, нанимает. И за платой не стоит. На свои собственные велит возить — вот какая штука!
— На свои собственные какая же неволя? — не понял Иннокентий Васильевич.
— А такая… Возить-то зимой надо. Соображаешь… Сам сопли морозишь, лошаденку моришь. И всё за так, за здорово живешь.
— Почему же за так, — солидно завозражал Пуськин. — Ведь это для урожая полезно.
— Господам, может, и полезно. А мужик — он как понимает: даст бог — будешь с хлебушком, а не даст, осерчает за грехи наши — по миру пойдешь. И хоть ты тут занавозься.
— И часто он дает, бог-то?
— Дак ведь тут как… У которого хозяина землицы побольше, да пожирнее она, кормилица, — тому и даст почаще. А у которого пустоши да неудобья — такому хоть задавайся.
— Прав, выходит, барин-то! — воскликнул прозревший Пуськин. — Не злодей он вам, значит?
— Какой же злодей! — удивился собеседник. — Такого барина поискать. Богу на него молимся… Вон соседские-то, из Ильинки, нищета нищетой — избушки кольями подпирают. Вот там — злодей. Зверь, можно сказать. А у нас — что ты! Ты пройди по деревне, посмотри на дома… — он опять начал было про железные крыши, но Пуськин уже дрыгал от нетерпения коленкой — чувствовал: наступил момент.
— Так зачем же палить? Раз хороший, — чуть ли не закричал.
Собеседник не сразу ответил. Скрутил еще одну цигарку. С треском затянулся.
— Надо палить, — сказал твердо. — Барин!.. Вот потому и надо. Беспременно.
— Не вижу логики, — пробормотал Пуськин. И, опасаясь, что собеседник не поймет его, пояснил: — Резона не вижу.
— Есть резон! — убежденно ответил мужик. — Избалуется народ. Уже, считай, избаловался. Раньше он, бывало, идет навстречу — дак за полверсты шапку ломает: мое почтение, Игнат Прокопович!.. А теперь? Теперь он идет — не дышит, и бздит — не слышит. Нарочно морду воротит. Как же — ровня! Теперь у него свой дом под железом, хлеба — полные закрома, баба гладкая, ребятишки в школу бегают бесплатно… Она ведь, барыня, сама их учит. Забесплатно. Всех.
Пуськин смутно начал догадываться, что разговаривает он с типичным деревенским кулаком, и что политграмота его здесь не проходит, вовсе не воспринимается — биологически.
Тут, откуда-то из темного переулка, налетел на них странный человек — весь какой-то вертящийся: руки у него возбужденно вертелись, ноги пританцовывали, шапка, казалось, сама по голове елозила.
— Игнат?! — вскричал человек тонко. — От это раз! От это семечки! — он хотел всплеснуть руками, но промахнулся. — Мы сидим все, лампы прикрутили, извыглядывались — вот-вот, думаем, займется!.. А он тут цигарки покуривает!.. Это что жа? Это как тебя понимать?!
Игнат чего-то вдруг обозлился. Может, на заполошного этого мужика, на то, что степенную беседу тот испортил.
— Извыглядывались! — передразнил. — Ишь, ерои! Выглядывают они сидят… Вот шли бы сами и палили!
— Дак ведь!.. — растерялся мужик. — Тебе вить обчество приговорило. Значит, сполняй.
— Приговорило! — снова передразнил его Игнат. — Приговорщики! — И решил, видать, подразнить мужика: — А вот сидит человек. Ненашенский. Сторонний. И не глупой, видать, не тебе, свистодую, чета… Вот у него тоже приговор имеется: не надо барина жечь-то. Вовсе. Это как тебе покажется?
— Где человек?! — встрепенулся вихлястый. — Какой такой человек? — И близко наклонился к лицу Иннокентия Васильевича. — Да это жа!.. Это жа шпиён барский!.. Ах ты, оборотень! — и сгреб Пуськина за грудки.
Пуськин рванулся, кувыркнувшись через бревнышки. Посыпались пуговицы с косоворотки.
— Стой! — закричал мужик. — Врешь — не уйдешь!.. Игнат, забегай ему слева!
Игнат, гремя ведром, забегал слева.
Вихлястый, хрипло свистя горлом, топал за спиной.
Да куда там! Они кого догонять-то вздумали? Бывшего чемпиона межвузовской олимпиады по бегу на двести метров с барьерами. Мастера спорта. Кандидата в Олимпийскую сборную.
Иннокентий Васильевич лупил так, что, извиняемся, лапти в задницу влипали.
Бежал он в сторону леса. Вернее, подлеска, что обнаружилось при первом соприкосновении. Чтобы уберечься от лунного света, Пуськин низко пригнулся и пошел закладывать заячьи петли.
Мужики потеряли его сразу на опушке.
И сами, видать, порастерялись.
Они долго еще аукались, перемежая ауканья матерками, потом — слышно было — сошлись и, переругиваясь па ходу, поворотили назад, к деревне.
Переругивания их разноголосые доносились все глуше и глуше.
Снова раннее утро
Проснулся Иннокентий Васильевич, когда солнышко припекло ему затылок.
Как? Когда он упал? Где его сон сморил? Пуськин не помнил: отшибло. То ли, может, головой ударился, то ли нервное потрясение его свалило.
Он перевернулся на спину. И обнаружил, что лежит среди вырубок. Массивные сосновые пни окружали его. «Спиридонова, видать, работа, — подумал Иннокентий Васильевич, вспомнив вчерашний рассказ бабки о своем «сродственнике», перекупившем у барина Овчинниковскую рощу. — Чисто, однако, бреет, живоглот — подряд, не выборочно».
Вырубки были, впрочем, не свежие. Вокруг иных пеньков поднялись уже молоденькие, полуметровые сосенки. Азартно перла вверх разная прочная растительная сволочь. Пуськин стихи вспомнил одного своего знакомого поэта: «…Стебли проворные, сорные солнцу рванулись навстречь». Он плохо разбирался в породах деревьев и сортов трав. Стыдился этого: как приверженцу деревенской тематики, ему бы полагалось поименно знать каждую былинку — да вот не мог запомнить, не умел.
Пели проснувшиеся птицы, щебетали, чирикали.
Пуськин и птиц не различал по голосам.
Но все равно было хорошо лежать вот так, наслаждаться их щебетом.
Пуськин аж глаза от наслаждения зажмурил.
За соседним кустом вдруг приглушенно заговорили.
Иннокентий Васильевич напрягся — подумав: не вчерашние ли это его преследователи? Но потом вслушался: нет, не они — другими были голоса. Содержание разговора его, однако, не утешило:
— Филь, а Филь! — скрипуче зудел первый голос, похоже старческий. — Ты глянь, лапоточки на ем какие барские. Прям загляденье. Празднишные, а?.. Давай сымем.
— На что они мне? — лениво ответил молодой бас. Не бас даже, а какой-то нутряной земной гул. — На нос рази?
— От ты какой, Филя! — сварливо обиделся первый голос. — Всё о себе, да о себе!.. Тебе не нужны, а мине в самый раз.
— Ну, вот и сымай, — зевнул невидимый Филя.
— Сымай! Рази ж я один с ним совладаю. Гляди — какой боров гладкий.
— Тады ходи босиком. Ты жа у нас привышный. У тебя вон на подошвах-то наросло — ровно у коня на копытах, — Филя, похоже, не лишен был юмора. — По стерне идешь — дак стерня ломается.
Собеседник обиженно плюнул и умолк. Но — ненадолго. Нетерпение его, видать, распирало.
— Филь, а Филь! — снова начал он. — Ты глянь, какая рубашка на ем нарядна!..
— На што она мне? — стандартно отвечал Филя.
— Вот послал бог сотоварища! — озлился собеседник. — На што, на што! Тебе бы только девкам подолы на голове завязывать — тут ты мастер… В кабак отнесем — вот на што!
— Ну, ежели в кабак, — Филя тяжело ворохнулся за кустом. — Ежели в кабак — тады…
«Грабить будут», — пронеслось в мозгу у Пуськина.
Он вскочил было — но что-то обезьяноподобное стремительно бросилось ему под ноги. Пуськин упал. И тут же двухпудовый Филин кулак опустился ему на голову.
Лапти и рубашку грабители стащили с него, надо полагать, с бесчувственного. Потому что, когда Пуськин очнулся, на нем были одни лишь портки. Лежал он опять лицом кверху: наверное, грабители вертели его, переворачивали — для своих удобств.
Мужики сидели чуть поодаль, в ногах у Пуськина, развернув его узелок, неторопливо закусывали.
Иннокентий Васильевич, не смея ворохнуться, рассматривал их сквозь прищуренные ресницы.
Лицом к нему, по-татарски сложив ноги, сидел человек неопределенного возраста, с внешностью классического злодея. «Клейменный!» — по книжному обозвал его Пуськин. Хотя клейма, как такового, у человека на лице не было. Но была жидкая, в несколько волосенок, бороденка скопца, безобразный горб, пригибавший его к земле, в которую и вперял он единственный варначий глаз. Второй глаз то ли вытек, то ли закрыт был бельмом. Тшедушен был человек до неправдоподобности, но в самой его тщедушности ощущалась какая-то страшная, бесчеловечная сила.
"Штырь! — догадался Иннокентий Васильевич. — Донька Кривой… Душегуб!"
Совсем юный, слоноподобный Филя сидел к нему боком. Был он настолько огромен, всё у него было таким крупным, что, когда, например, он принимал от Штыря пуськинскую фляжку для очередного глотка, она полностью скрывалась в его руке.
— Господская колбаса, — чавкая, определил Филя. — В жизни такой не едал.
Штырь, между тем, приблизив единственный глаз к бутылке, силился прочесть надпись на этикетке.
— Н-да, — сказал он — И водка казенная. Убей бог, казенная. Вон и буковки на ней ненашенские. — Он вскинул пронзительный взгляд на товарища. — Кого же мы с тобой ухайдакали, Филя, а?.. Видать, важную птицу… Ну-ка, послухай, живой он — нет?
Филя перекатился поближе к Пуськину и, обдав его тяжелым чесночным духом, припал щекой к груди. Иннокентий Васильевич запер дыхание. Но сердце-то, сердце остановить он не мог!
— Двохшет ишо, — сообщил Филя.
— Те-те-те! — сказал Штырь, и глаз его заходил кругом. — Плохи наши дела, милок! Ить он донесёть на нас, как оклемается-то. Донесёть — нет?
— Донесёть, должно, — равнодушно согласился Филя. — И потянулся за фляжкой.
— Погодь! — отдернул руку Штырь. — Успеешь!.. Ты, гляжу, ровно как жеребец выхолощенный. Токмо по девкам и мастак… Донесё-ё-ёть! — передразнил он Филю. — А донесёть — значит, каторга нам!.. Ты бывал там, на каторге-то? То-то!.. А я бывал. Там, брат, медом не намазано. И кабаков нетути. — Он замолчал. И молчал долго. И лицо его становилось жутко нехорошим. — Вот что, Филя, — молвил он, наконец, — резать нам его надо, сироту. Больше делать нечего.
— Ну дак режь, раз надо! — сказал Филя и, воспользовавшись паузой, вырвал у него фляжку. — Ножик-то при тебе.
— Ножик-то, он при мне, — пробормотал Штырь, сунул руку за пазуху. И вынул ее оттуда — пустую. С растопыренными почему-то пальцами.
— Обронил, должно, — сказал, холодея лицом. — Когда этому-то под ноги кидался — и обронил.
Невозмутимый доселе Филя возмутился, взмахнул даже бревнообразными своими руками.
— Обронил он! А! А дерьма ты в штаны не обронил со страху? Кто талдычил-то: давай сымем, давай сымем?! А ишо убивец! Гнида горбатая… Ищи теперь! Чего сидишь-то, трясёсси!
Штырь проворно заползал по траве. Филя, не обращая на него внимания, допил водку и кинул в рот остаток колбасы.
— Нетути нийде, — убито сообщил Штырь, подползая обратно к Филе. — Должно, я раньше его гдей-то обронил.
Филя тяжело молчал. Сопел зловеще.
— Ну, и чего ж теперь делать. Думай! Ты же у нас головастый. Это я — жеребец холощеный.
Штырь заглянул ему в глаза снизу — взглядом и виноватым, и жалобным, и каким-то паскудно-иезуитским.
— А ты его удави, Филюшка! — прошептал он зловеще. Как змей-искуситель.
Филя сморщился, передернул могутными плечами:
— Да гребливо как-то!.. Елки!.. Сроду я их не давливал.
— А ничего, голубь! Помолись — да удави. Бог простит. Я бы сам, да куды мне — немощен, видишь.
Филя колебался.
— Когда бы он отмахивался, — раздумывал он вслух. — Дралси бы. А то лежит вон… ровно шкилет.
— Деваться-то некуда, милок. Ведь сам знаешь — каторга!
— Фу ты, господи! — выдохнул Филя. — И не хочешь, да согрешишь с тобой! — Он осенил себя крестным знамением зажмурился и, перебирая грязными лапищами по животу Пуськина, стал, на ощупь, отыскивать его горло…
…Теряя сознание, на грани обморока, Иннокентий Васильевич успел нажать в кармане кнопку возврата.
ЗДЕСЬ
…Иннокентий Васильевич лежал на лавке в горячем поту — словно внезапно очнувшийся от кошмарного, горячечного сна.
Сердце бухало.
Выпрыгивало прямо из груди.
Маленько успокоившись, он боязливо оглядел себя: рубашки и лаптей па нем не было. Не висели лапти и па гвоздочке, вбитом в плаху, — обычном месте.
Значит, не сном все это было. Не спал Иннокентий Васильевич Пуськин — вот в чем дело!
«Варнаки! — остервенился он вдруг. — Каторжное отродье!.. Убивцы!.. И за что? За лапти лыковые! За рубашку, которая доброго слова не стоит! Ей там красная цепа-то — полштофа… Хоть бы и в кабаке!..»
И только еще чуть-чуть успокоившись, обнаружил, что ругается какими-то допотопными, литературными словами. И не без удовольствия перешел на современный язык:
«Нет, ну какая шпана, а? Мордовороты! Алкаши! Рвань подзаборная! Ублюдки!»
…А уж окончательно придя в себя, он так подумал:
«Ч-черт! А может, действительно, не стоит нам, выворачивая шейные позвонки, назад-то все оглядываться, отыскивать там лишь и лад, и склад, и нравственность, и благолепие?». Может, лучше повернуться лицом к современности, к её, увы, мерзостям, которые и в нос шибают, и в морду бьют, и в душу, и под дых. И всё же, всё же… Не прощая ей и не спуская, поискать что-то святое и доброе, нравственное и милосердное, чему можно было бы поучить, что передать можно бы (должно бы) нашим детям, которым с этим веком, с остатком его и при будущем жизнь коротать?..
И так еще он подумал:
«Ничто ведь не из чего не происходит. И человеки, увы, не меняются! И вся высочайшая нравственность, и добро, и милосердие; и вся ужасающая безнравственность, и чудовищное зло, и тупая жестокость — всё оттуда, от народа…»
Впрочем, за эти мысли героя автор поручиться не может. Возможно, они не пришли ему сразу, в тот экстремальный момент. Возможно, не пришли и много времени спустя (что было бы очень и очень грустно).
А в тот момент его мысли (или — пока лишь эмоции) прервал звонок в дверь. К нему даже не звонили — панически трезвонили.
Иннокентий Васильевич поспешил открыть.
На пороге стоял бледный, взволнованный друг.
— Кеша, я у тебя тут свою хреновину не забыл?.. Уже в такси обнаружил — нету! Вот вернулся — там счетчик стучит.
— Пройди возьми, — вяло сказал Пуськин.
— А ты чего это растелешенный? — спрашивал друг, шагая за ним в комнату. — Спал, что ли? Среди бела дня?
— Спал, — неохотно ответил Пуськин. Зажигалки на столике не оказалось.
Друг опять было побледенел. Но Пуськин, запустив руку в карман дареных домотканых порток, достал её оттуда:
— Держи.
Друг, хотя счетчик у подъезда и отстукивал копейки, повертел зажигалку в руках, странно глянул на Пуськина:
— Слушай… Ты ее тут включать не пытался? Что-то вид у тебя… нездешний.
— Да не трогал я твою кибернетику! — раздраженно сказал Пуськин. — Говорю тебе — спал! Вздремнул!
Вместо предисловия
Автор считает нужным привести здесь (на всякий случай) некоторые произведения литераторов, проживавших в прошлом веке, очевидцев, как было сказано, показаний, которыми он собирался воспользоваться, когда задумывал всего-навсего написать полемическую статью, от каковой работы освободило его внезапное и чудесное путешествие Иннокентия Васильевича Пуськина.
Вот они: Г. И. Успенский — «Власть Земли», Н. Г. Гарин-Михайловский — «Несколько лет в деревне», А. П. Чехов — «Новая дача» и др. рассказы, А. М. Горький — «Жизнь Клима Самгина», M. Е. Салтыков-Щедрин — «Губернские очерки», Н. И. Наумов — «Деревенский торгаш» и прочие произведения.
Хотелось мне также не пренебречь воспоминаниями моей покойной матушки Анны Васильевны, крестьянки и батрачки, которая, царство ей небесное, не имела обыкновения ни хулить зряшно прежнее житье, ни превозносить его незаслуженно.
Примечания
1
По этой причине я изменю в дальнейшем имена и фамилии некоторых персонажен. Ведь в конце концов все, что происходило с ними, могло случиться с кем угодно другим, в каком угодно другом месте.
(обратно)

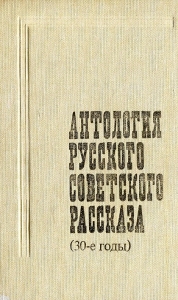
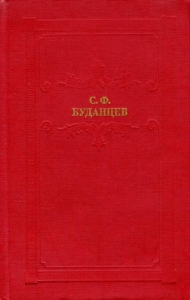
Комментарии к книге «Рассказы о прежней жизни», Николай Яковлевич Самохин
Всего 0 комментариев