Юрий Герман О Мейерхольде
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой.
ГётеЕго давно физически нет. И тем не менее он есть. Его беспредельно смелые искания, его гнев, его ирония, его сила и его страстность присутствуют во всем лучшем, что есть в нашем искусстве. Я не знаю, смог ли бы народиться на свет «Броненосец Потемкин» без Мейерхольда. Потому что Мейерхольд и никто иной — именно он, вечно ищущий и никогда не останавливающийся, грандиозный даже в своих ошибках, — был одним из первых режиссеров-коммунистов, был глашатаем и провозвестником партийного искусства, искусства, принадлежащего народу и ведущего народ за собой властно и неудержимо.
В тот момент, когда многие еще колебались в выборе своего пути, Мейерхольд, разрывая со многими старыми друзьями, откровенно и точно признал для себя единственным и подлинным путем создание политического театра.
Как все гениальные люди, Всеволод Эмильевич был сложен.
Как все первооткрыватели и пролагатели новых путей, он был настойчив, изобретателен и смел.
Как истинный талант, он был несравненно и беспредельно щедр: сундук с его сокровищами никогда не запирался. Из него брали не стесняясь и берут по сей день. Небезынтересно, что берут именно те, кто поносными словами топтал его имя, берут, конечно в смысле крадут, и уворованное выдают за свое, а ЕГО, истинного созидателя этих никогда не меркнущих ценностей, и по день нынешний, когда восторжествовала правда, именно эти «унесшие сокровища» облыжно и низко бранят, поминая, допустим, «Даму с камелиями», которая была не наилучшим свершением гениального художника, но которая делалась травимым и мучимым режиссером. А давным-давно известно, что, когда художника мучают, поносят и пинают, он творит неизмеримо хуже, чем тогда, когда он спокоен. Зачем же знающим, КАК обстояло дело, винить Мейерхольда в том, в чем он не был повинен. Шаровая молния, как известно, бьет по движущемуся предмету. Чтобы не быть убитым, человек, увидев шаровую молнию, застывает неподвижно. Чего же мы хотим от Мейерхольда того периода, когда его травили под свист и улюлюканье? Он видел шаровую молнию, устремившуюся в его сторону, и стоял неподвижно. Эта была пора, когда ему запретили смысл его жизни художника — битву, сражение, атаку. Ему запретили вести сокрушительный огонь по контрреволюционному мещанству, по обывательщине, по приспособленчеству, заявив, что он клеветник. Это и была шаровая молния.
Об этом нужно написать. Написать с той силой правды, с которой написано нынче о Серго Орджоникидзе, об Эйдемане, о Якире, о Тухачевском, как написано о сотнях и тысячах шедших впереди и ведших на смертный бой. Всеволод Мейерхольд шел впереди и вел «на бой кровавый, святой и правый», — вел работников искусства, вел искусство, вел театр, и нет без Мейерхольда не только истории советского театра, но нет и театра живого, такого театра, как театр имени Мейерхольда, где в спектакле «Последний решительный» в едином, высоком, грандиозном порыве вставал весь зрительный зал — не для того, чтобы рукоплескать нюансам и полутонам, не для того, чтобы «образованность свою показывать», а только лишь затем, чтобы защищать свою родину от вторгшегося в ее пределы врага. Кто видел этот спектакль, тот не может не согласиться со мной, а кто не согласен, тому, как говорится, земля пухом. Каждому свое.
Какова же мораль этого введения?
Мораль проста: Всеволод Мейерхольд в прощении не нуждается. Мы же все нуждаемся в правдивой и страстной, честной и чистой книге о сложном и замечательном коммунисте — создателе и строителе Советского Партийного Театра. И книга эта должна быть написана чистыми руками. Стерильными.
К работе этой нельзя подпускать никого из тех, кто по каким-либо причинам «недопонимал» значение деятельности Мейерхольда. Нельзя допускать предававших, тех, кто кричали: «И я, и я!» Тут не может быть прощения даже старухе, подложившей свою вязанку в костер, на котором сжигали Яна Гуса. Слишком много горя нанесли нашему искусству даже эдакие старухи. Вспомним самоубийство Владимира Маяковского. Мемория о том, что он был лучшим поэтом революции, не возвратила Владимиру Владимировичу его единственную жизнь. Он ничего более не написал, а старухи пишут и похвалы себе слышат, старухи с вязанками. Не надо этих старух идеализировать, не такие уж они божьи коровки.
Из двадцати одного года, которые мне в ту пору миновали, девятнадцать я прожил в провинции.
И вот я в Москве, в душном коридорчике театра имени Мейерхольда, перед «самим».
Помню, мне было жарко, жутко и совестно, и испытывал я такое чувство, что произошла ошибка, что театр вызвал не того человека, что сейчас все, слава богу, выяснится, меня выгонят в толчки, и это самое лучшее.
— Ваше «Вступление» — великолепный роман, — слушал я, словно шум водопада. — Великолепный! Да! Почти шедевр!
Почти! Сейчас меня выгонят. Что может быть хуже «почти шедевра»?
— И Горький, — хитро взглянув на меня, спросил Мейерхольд, — Горький печатно похвалил вас, не так ли?
— Печатно — да, — с тоской ответил я, — но меня он ругал.
— Несправедливо?
— Почему же несправедливо? Правильно ругал.
— Во всяком случае, все, что касается Лондона, у вас превосходно.
— Нет у меня Лондона, — угрюмо пробормотал я. — У меня описан Китай, а потом Германия — Берлин…
Мейерхольд кивнул:
— Да, да, Берлин. Я спутал… Действительно, Берлин и этот толстяк инженер. Послушайте, напишите-ка нам пьесу про вашего инженера. Это может быть очень интересно. Китай — Берлин — СССР. Сядьте и напишите.
Написать пьесу для того театра, спектакли которого я смотрел по десяти раз кряду? Пьесу для Мейерхольда? Для Ильинского, Гарина, Мартинсона, Зайчикова?
Написать пьесу для того театра, куда совсем недавно я не мог пробраться даже на галерку…
Так думать, разумеется, нехорошо. Но именно так я думал.
И мальчишки честолюбивы!
Однако порядочность взяла свое. И с отчаянием погибающего я решительно произнес:
— Не умею, Всеволод Эмильевич. Я никогда не писал пьес, я не смогу.
— Многие не могут, однако пишут, а мы ставим.
Глаза Мейерхольда холодно и строго смотрели на меня. Только много позже я разгадал это особое выражение его взгляда — извиняюще-презрительное: все бездарное, вялое, неэнергичное он презирал и не скрывал этого. Так же, как презирал робость, лень, неверие в свои силы, наигранную скромность. «Одаренным» нахалам умел искренно и весело удивляться. Про одного такого даже сказал не без восхищения:
— Ах он такой-сякой! Как изображает! Я чуть-чуть не поверил ему.
Разговор о пьесе продолжался в кабинете Мейерхольда. И по сей день я не помню, какая там стояла мебель, наверное потому, что все здесь всегда было заполнено личностью Мейерхольда. Он заслонял собою всех, он захватывал всегда мое внимание полностью, у меня не хватало сил оторваться от него ни на секунду.
Иногда впоследствии он меня спрашивал:
— Чего уставился?
Я не отвечал: не мог же я сказать, что смотрю, как он держит в своей необыкновенно красивой руке сигару, как дирижирует стаканом горячего молока.
В кабинете он сказал:
— Все просто: по вашему роману вам напишут сценарий, по сценарию вы напишите пьесу.
— А разве так бывает? — осведомился я.
Мейерхольд и сам не знал. Позвали знающего. Тот сказал, что если Всеволод Эмильевич хочет, то можно и так. Этот знающий ко всему привык за свою прикомандированную к этому театру жизнь.
Принесли договор, душистый юрист поставил то, что называется визой. У меня было ощущение страшного сна.
Я погибал и понимал это, а для сопротивления не было сил. Разве мог я сопротивляться самому Мейерхольду?
Сценарий был написан бодро, быстро и на редкость плохо. Но мог ли я возражать? Мне «придали» режиссера и художника — милых и покладистых людей, — и мы втроем уехали под Кинешму в Дом отдыха Малого театра, расположенный в бывшем имении великого драматурга А. Н. Островского.
Мейерхольд отбыл за границу, в Париж.
По горькой иронии судьбы, писал я свою пьесу в кабинете самого Островского, за тем письменным столом, за которым писались «Гроза», «Лес».
За закрытой намертво дверью стрекотали и хохотали артистки, человек двадцать, — там была спальня. По дорожкам под окнами чинно прогуливались, разговаривали густыми голосами знаменитые артисты в кашне, шляпах и с тросточками. Жизнь шла своим чередом. Всем вокруг было хорошо, а мне страшно.
Все было страшно: и халтурный сценарий, превративший мой чрезвычайно несовершенный роман в совсем бог знает что, и то, что аморфное, невнятное и реальное «название условное» было уже запланировано театром как реально существующая пьеса, и то, что талантливый мой режиссер из-за моей спины заглядывал на страницы моих творений, и то, что постоянно чудилось мне вечерами и что помню я до сих пор, как реальный кошмар. Вот он. Я сижу и пишу. Широко распахивается дверь, и входит Александр Николаевич Островский, такой, как на портрете в собрании сочинений: меховые отвороты, рыжеватая бородка, неприязненный взгляд. И слышен мне его тенорок:
— Ты что тут делаешь, стрикулист? Ты как смеешь? Вон! Свистун!
А сроки приближались, ужасающая развязка близилась.
В сочинении моем оказалось более трехсот страниц убористого текста, то есть, примерно «товара» на четыре нормальные пьесы.
Режиссура бойко смарала полтораста, и все оставшееся превратила в спектакль, который Всеволод Эмильевич, вернувшись из-за границы, в грозном молчании смотрел до рассвета. Помню, как резюмировал Эраст Гарин свои впечатления одним словом:
— Пшено.
Мейерхольд все им увиденное запретил и отправился домой. Меня, драматурга, он как бы даже и не приметил во всю ту кошмарную ночь. Было совсем светло, когда в гостинице «Националь» я повалился на кровать. Вот она развязка! Ну что ж, я ведь предупреждал, что не умею писать пьесы.
Зазвонил телефон.
— Ну? — осведомился Мейерхольд. — Худо тебе?
— Плоховато, — сознался я.
— Гвардейские офицеры в старой армии в твоем положении застреливались, — с сатанинским смешком произнес Мейерхольд. — Ты читал об этом?
Тут я разорался. Мне было не до шуток. И он не давил сейчас меня своим присутствием — этот человек. Я не видел его и не боялся. Наваждение и чертовщина кончились. Я заявил, что сценарий — дрянь, что вся затея — халтура, что нынешний просмотр — логическое завершение нелепого замысла. Потом я выдохся и замолчал. Пусть Мейерхольд швырнет трубку, а я с первым же поездом уеду в свой Ленинград. Точка. С меня лил пот.
— А еще что? — спросил Мейерхольд.
— Ничего, — буркнул я, — посплю и уеду.
И тут Мейерхольд сыграл спектакль. Но, боже, как это было грандиозно, этот удивительный театр для троих в восьмом часу утра. Третьей была Зинаида Николаевна Райх. Держа телефонную трубку так, чтобы я все слышал, он сказал с непередаваемой интонацией отчаяния:
— Понимаешь, ему, оказывается, не понравился сценарий, но он промолчал…
Наступила пауза.
И вновь я услышал голос Мейерхольда:
— Произошло трагическое насилие над его творческой индивидуальностью. Ты только вникни в эту бездну заячьей трусости, Зиночка, оцени это отсутствие собственного мнения, этот испуг, это…
— Но так! — заорал я, но он не слышал, он говорил:
— А теперь мы пропали. Мы не получим пьесу о том, что так нас с тобой радовало в его книге, зритель не увидит спектакль о рабстве, не увидит этих немецких безработных инженеров, не увидит смерть Нунбаха, не увидит…
К финалу монолога Мейерхольда я почувствовал себя действительно во всем виноватым. И почувствовал еще то, что необходимо понимать литератору во время работы для блага работы: дело его — нужное дело. И в этом действительно заинтересованы.
Напоминаю, я был мальчиком тогда. Никем. Почти что ничем. Но Мейерхольда интересовала не фамилия, не то, что называется «именем», а сочинение. Ему было нужно не сочетание имен на афише, а только то, что он хотел выразить. Он желал смертельно схватиться с капитализмом своим искусством, и не нужны ему были для этого никакие самые главные драматургические фамилии того времени. Да и вообще с удивительной, даже неправдоподобной наивностью он никогда не понимал, кто «главный». Даже у меня спрашивал впоследствии и всегда очень удивлялся:
— Да что ты? Вот бы не подумал! Ах, отстал, отстал. Слышишь, Зиночка, он говорит, что имярек теперь самый и есть Шекспир? Издавали бы, право, какие-нибудь списочки коротенькие, чтобы быть в курсе дела.
И смеялся подолгу, довольный своей идеей.
Сейчас, кажется, такие списочки издаются.
В то невеселое утро он сказал мне по телефону:
— Выспись покрепче. Завтра начнем все с самого начала. В этом спектакле мы с тобой покажем унижение человека рабским трудом, покажем смысл труда, если труд служит обществу. Это будет партийный спектакль, а не малиновый сиропчик. Это будет грандиозно! Положись на меня.
Сердце мое билось. «Мы с тобой, положись на меня!» Еще бы мне не положиться на Мейерхольда! Вот только как он на меня положится?
— Это будет спектакль о труде как о смысле человеческой жизни, — ревел в трубке голос. — Сильный и неработающий обречен на смерть! Ты понимаешь? Я знаю Европу и знаю, о чем тебе толкую. Мы их отхлещем по мордам, эту сволочь, не желающую понимать значение осмысленного человеческого труда…
И совсем неожиданное заключение:
— Обедать с завтрашнего дня станешь у меня. Не принесешь кусочек пьесы — не будет тебе никакого обеда. Не работающий да не ест.
— Хорошо, — сказал я тихо. — Спасибо!
Повелось так: перед обедом я читал написанное. Во время обеда, сунув угол салфетки за воротничок, Мейерхольд рассказывал Райх то, что я написал. Ее спокойные прекрасные глаза мерцали. Удивительно, как умела слушать эта необыкновенная женщина. Я давился едой! Ничего подобного тому, что рассказывал Мейерхольд, в моем сочинении и в помине не было. То, что писал я, было, разумеется, исполнено благих намерений, но неумело, беспомощно, пресно и дурно. А то, что рассказывал и порой показывал Мейерхольд бесконечно любимой им женщине, было всегда талантливо. Конечно, это были еще лохмотья, клочки, кусочки, иногда скороговорка и невнятица, но не восхищаться этим было невозможно.
Зинаида Николаевна восхищалась, и гладила меня по голове большой белой рукой:
— Скажите какой он у нас!
А Мейерхольд мне подмигивал и шептал украдкой:
— Теперь пойдет по театру, что у нас все великолепно. Уж она распишет. Она это умеет.
После обеда, аппетитно прихлебывая кофе, Мейерхольд спрашивал со значением в голосе:
— Все понял?
Я догадывался, что означал этот вопрос: напиши, пожалуйста, так же, как я рассказывал, и все получится. Но именно так, а не иначе. Ведь я же тебе так все разжевал, так растолковал, это невозможно не понять. И ты сказал, что понял. Так напиши же, черт возьми!
Ночами я по нескольку раз просыпался: понял? Конечно, ничего не понял, дубина! Ну, а если и понял, что из этого?
Прекрасные, сильные, мощные образы выплывали ко мне из небытия, он мне так зримо показал их, что я их, разумеется, видел, но сил моих не хватало для того, чтобы перенести эту могучую фантазию в слова, в поступки, в действие. Я видел руку, воздетую величественно и грозно, кисть, медленно сжимающуюся в кулак, но это был жест Мейерхольда, он не умещался в мои юношеские представления о жизни, в мою абсолютную профессиональную неопытность, в мое полное незнание основ драматургии…
Он приказал мне вечерами непременно ходить в театр.
Естественно, что в эту пору я признавал только его театр.
Увидев меня в шестой раз на «Великодушном рогоносце», Мейерхольд сказал:
— Ты мне что-то тут примелькался. Приелся.
И хитро, шепотом посоветовал:
— Сходи в МХАТ.
— Куда? — с испугом спросил я.
— В Художественный, где чайка на занавесе. Только никому не говори, что я тебя послал.
— А что там посмотреть?
— Все, — со своим характерным смешком добренького сатаны сказал Мейерхольд. — А начни с Чехова.
Утром на репетиции он ругался:
— Развели мхатовщину, смотреть невозможно. Кто вас научил этим отвратительным паузам? Оправдываете, да? Системочку изучаете?
В тот же день молодому и хитрому артисту, который объяснил свою беспомощность на сцене тем, что не желает подчиняться «мхатовским канонам», Мейерхольд с ужасающей жесткостью крикнул:
— Вы бездарность! Не смейте о МХАТе говорить! Вон отсюда!
Жить в эту пору мне было необыкновенно интересно: я писал, переделывал, переписывал, вновь писал, подолгу видался с Мейерхольдом, читал то, что он приказывал читать, смотрел в театре то, что он считал для меня необходимым. Иногда он показывал мне оттиски гравюр, неожиданно и смешно сердился:
— Долдон! Ничего не понимаешь! Учить тебя и учить!
Однажды я достал бутылку дефицитного, как тогда говорилось, мозельвейна. Мейерхольд, пофыркивая, медведем вылез из ванной комнаты, распаренный сел в кресло, велел мне самому отыскать в горке соответствующие вину фужеры. Открыв бутылку, я «красиво» налил немножко себе, потом ему, потом себе до краев. Мейерхольд, как мне показалось, с восторгом смотрел на мое священнодействие. Погодя шепотом, очень заинтересованно осведомился:
— Кто тебя этому научил?
— Официант в «Национале», — с чувством собственного достоинства ответил я. — Там такой есть старичок — Егор Фомич.
— Никогда ничему у официантов не учись, — сказал мне тем же таинственным шепотом Мейерхольд. — Не заметишь, как вдруг лакейству и обучишься. А это не надо. Это никому не надо.
Галстуков я в ту пору принципиально не носил, расхаживал в коричневых сапогах, в галифе, в косоворотке и пиджаке. В мейерхольдовском театре на это никто, не обращал внимания, но как-то Мейерхольды повезли меня на прием в турецкое посольство, и тут случился конфуз: швейцар оттер меня от Зинаиды Николаевны и Мейерхольда, и я оказался в низкой комнате, где шоферы дипломатов, аккредитованных в Москве, играли в домино и пили кофе из маленьких чашек. Было накурено, весело и шумно. Минут через сорок пришел Мейерхольд, жалостно посмотрел на меня и произнес:
— Зинаида Николаевна сказала, что это из-за твоих красных боярских сапог тебя не пустили. Ты не огорчайся только. В следующий раз Зина тебя в нашем театральном гардеробе приоденет, у нее там есть знакомство…
Шоферы дипломатических представительств с грохотом забивали «козла». Какое-то чудище в багровом фраке, в жабо, в аксельбантах жадно глодало в углу баранью кость. Иногда забегали лакеи выпить чашечку кофе. Забежал и мажордом.
— Этого я всегда путаю с одним послом, — сказал Всеволод Эмильевич. — И всегда с ним здороваюсь за руку. Он уже знает и говорит: «Я не он. Он там в баре пьет коньяк».
Мейерхольд подтянул к себе поднос, снял с него чашечку кофе, пригубил и, внимательно оглядевшись, сказал:
— Здесь, знаешь ли, куда занятнее, чем наверху. В следующий раз надену твои розовые сапоги боярского покроя, и пусть меня наверх не пустят. Кофе такое же, — а люди интереснее. Ох, этот народец порассказать может, а?
Долго, жадно вглядывался во все и во всех, словно вбирая и запоминая живописные группы людей, и неожиданно со сладким кряхтением произнес:
— Как интересно! Ах, как интересно! Ай-ай-ай!
Эту прекрасную жадность художника я не раз замечал в нем: нужно было видеть, как он вдруг останавливался возле дома в Брюсовском, или на Гоголевском бульваре, или в Охотном и, вглядываясь в нечто, только ему видимое, только им замеченное и отмеченное, восхищался, вбирая в себя и никому не показывая эту свою внезапно приобретенную личную собственность.
Что это было?
Улица?
Дерево?
Освещение?
Человек?
Красота или уродство?
— Как интересно! Ах, как интересно! Ай-ай-ай!
И сейчас мне слышится эта интонация.
В этом смысле Мейерхольд был стяжателем и собственником. Во всех иных, по-моему, он был просто гол как сокол и беден как церковная мышь. Будучи завсегдатаем мейерхольдовского дома в ту пору, я никогда не слышал столь популярных в иных кругах собеседований о комиссионных магазинах, о различных мануфактурах, стульях чепендель, вообще о той дряни быта и искажении смысла жизни, которые, бывает, делаются самим смыслом, когда человек лишь желает подольститься к эпохе, подладиться к ней, с тем чтобы жирно есть и мягко спать, слывя ведущим и безгрешным.
Хорошие отношения Всеволод Эмильевич тоже не умел заводить. Даже с самонужнейшими и ответственнейшими. Помню, как сказал он одному из своих недругов, когда тот пришел к Мейерхольду «замиряться»:
— Был к котлетам зеленый горошек, его нарком Бубнов съел, вам не осталось, так это не злонамеренно. Вот Бубнов утверждает, что вы теперь про меня напишете «за горошек», будто я сюрреалист и дадаист. Напишете?
Критик обиделся, и примирения не получилось. Был у Мейерхольда автомобиль. Всеволод Эмильевич каждый раз, садясь в машину, ужасно удивлялся:
— Подумай, еще ездит. И осенью ездит, и зимой ездит. Поразительно!
И спрашивал у шофера:
— И весной будем ездить?
Средненькое, серенькое, скучненькое, пошленькое, как бы оно ни было разукрашено и отлакировано, вызывало в нем вспышки яростной скуки. Помню я, как в одном из ленинградских модных тогда театров смотрел Мейерхольд очередной красивенький спектакль. Полтора акта он почти непрерывно, нисколько этого не стесняясь, даже как-то демонстративно сердито, с воем зевал, тряс головой, охал, а потом, схватив Райх за руку, не дождавшись антракта и не оглянувшись ни разу на бегущего за ним постановщика спектакля, ушел, не попрощавшись. А на следующий день жаловался:
— Бога нет только потому, что существуют такие театры. Если бы был бог, он бы с этим расправился. Гирляндочки, бонбоньерочки, голубое и розовое, а тоже станки, а тоже прожектора… А тоже, изволите ли видеть, новатор. Убивать таких, безжалостно. Или нет: не надо убивать, зачем убивать, у него хороший вкус для кафе. Он должен сделать маленькое кафе под названием «Артистическое». Нет, и в кафе его нельзя, будет приторно. Ты понимаешь?
Насколько мне известно, он не вел режиссерских записных книжек с пронумерованными или алфавитными наблюдениями. Его память была безмерно богата воспоминаниями, целыми кусками жизни, выразительными пейзажами, светом, цветом. Уже когда репетировалось мое «Вступление», он на ходу придумывал десятки решений в том или ином эпизоде, ставил их, полный народа театральный зал устраивал овацию, но Мейерхольд вдруг раздражался и командовал:
— Все убрать! Цирк, а не театр! Номерам хлопают, а не спектаклю. Мы не ученые лошади, мы не дивертисмент, ужели непонятно?
Одному режиссеру, выразившему свое недоумение этими «строгостями», Мейерхольд при мне сказал:
— Хотите, подарю вам все нынешние выдумки? Серьезно! На бумажке перечислю и оформлю дарственную у нотариуса. Вам, поди, пригодятся, вы, я слышал, собираетесь стать режиссером-новатором.
И глумливо, в растяжку произнес:
— Но-ва-ции!
Слова «новатор», «формалист», «футурист» он ненавидел так же страстно и бешено, как любую назойливую, прилипчивую пошлость. Когда при нем произносилось что-либо из этого словесного арсенала (к сожалению, сопровождавшего его всю жизнь), он как-то горестно съеживался и кряхтел, словно от зубной боли.
Мейерхольд любил и умел, разумеется, показывать артистам. Он показывал женщин, старух, юношей, показывал чопорного немца и пьяного, загулявшего немца, показывал, как сидит американец, показывал негру, как негр поет, и негр-артист с восторгом смотрел на мейерхольдовское показывание, потому что Мейерхольд увидел то в национальной культуре негритянского пения, что сам негр уже успел растерять в угоду эстрадам всего мира.
Но если Мейерхольда слепо копировали, он огорчался.
Он требовал, чтобы тот артистический индивидуум, которому он показывал основу его образа, создал некий новый сплав— из своего «я» и того точного рисунка, который преподал ему Мейерхольд.
Всеволод Эмильевич не просто показывал — он видел в том, которому показывал, возможность появления некоего нового чуда.
К сожалению, эти чудеса далеко не всегда удавались.
Однажды Мейерхольд скорбно сказал:
— Старею, а сколько сил уходит даром.
И правда даром: мне одному весь вечер он рассказывал, как поставит в новом своем театре «Бориса Годунова». Рассказывал он, разумеется, не лично мне, просто я, как говорится, под руку попался, и вечер выдался пустой, одинокий. Я, разумеется, ничего потом не записал. И вообще, кажется, Мейерхольда мало записывали. Есть драгоценности — записки, скажем, Гладкова, но нужно обязать всех, кто знал Мейерхольда в работе, восстановить его жизнь, это долг совести и чести каждого, кому судьба подарила трудное счастье общения с этим человеком. И в первую очередь это обязаны сделать верные ученики и последователи Мейерхольда. А я знаю и таких. Я имею честь знать В. Н. Плучека, который никогда не убирал со своего стола бюст Вс. Эм. Мейерхольда, тем самым веря в конечное торжество справедливости и утверждая, что так не может быть. В нашем великолепном театре Северного флота, которым командовал Плучек, всегда, и в шторм и в вёдро, звенела эта удивительная струна — страстности, наступательности, партийности, того, что и есть сама жизнь мейерхольдовцев, ни один из которых никогда не унизился до искательности и приспособленчества.
Обворовывали, надо сказать, Мейерхольда ужасно.
Помню, показал он мне как-то афишу, которую прислали ему то ли из Курска, то ли из Орла, то ли из Воронежа. Афиша была огромная, наглая и бесстыжая. И напечатаны на пой были следующие слова: «Постановка осуществлена по московскому театру имени Вс. Мейерхольда».
— Видишь, какой хороший мальчик, — сказал Мейерхольд, тыкая в фамилию режиссера, и с неожиданной горячностью добавил: — Этот что! Этот пусть себе. На здоровье. Огорчает меня другое: другие берут и, понимаешь ли, ругают. Украдут и обругают… И когда уж больно резво меня ругают, я все пытаюсь вспомнить: а что же ты, воришечка, у меня украл, что так пылко ругаешься?…
В этот вечер он рассказал о том, как Ленин смотрел в МХАТе «Сверчок на печи», как ему, Ленину, спектакль не понравился, и как он, Владимир Ильич, запретил запрещать «Сверчка на печи». Рассказывал об этом Мейерхольд словно бы даже с какой-то завистью.
Мою пьесу Мейерхольд выдумал сам. Мне не стыдно в этом сознаться. И ему я не раз говорил о том, что пьеса эта, в сущности, его. Он посмеивался, а однажды спросил не без раздражения:
— Ты что хочешь? Чтобы на афише было написано: «Мейерхольд и Герман»? Или: «Герман и Мейерхольд»? Ты меня, старика, материально поддержать хочешь?
И крикнул:
— Зиночка, выгони его из дому!
Выдумывал Мейерхольд так.
Я робко прочитал картину, в которой один за другим выходили десять или даже больше, сейчас не помню, инженеров-немцев. Все это происходило в ресторане в Берлине. Не зная, как выписать нужный мне эпизод, промучившись с ним бесконечно долго, я на все махнул рукой, и бедные мои инженеры пошли чередой, уныло представляясь каждый порознь. Дочитывая, я действительно думал, что сейчас меня выгонят помелом.
— Гениально! — воскликнул Мейерхольд. — Это лучшее, что ты написал. Ты что? Серьезно не понимаешь, как это великолепно?
Втянув голову в плечи, я неподвижно сидел на диване.
— Дурак! — сказал Мейерхольд. — Пойми, они пьяные! Они пьют третий день! Они так перепились, что затеяли эту ужасную, пугающую, идиотскую, просто неправдоподобную игру! Победа зеленого змия над интеллектом, над человеком, над силой духа! И вот, пьяные, они рекомендуются друг другу, несмотря на то что отлично знают один другого. Впиши фразочку, чтобы стало понятно, и завтра мы репетируем!
Назавтра завертелась дверь-вертушка. Из дождя и уличного тумана входили в ресторан мертвецы.
Гремели в зале несмолкаемые аплодисменты — весь ужас и мрак ненавистной коммунисту Мейерхольду тупости филистерского благополучия, все ублюдочное веселье этой умершей жизни, мучительная тревога за будущее немецкого народа были в этой сцене.
Недаром на премьере именно в эти минуты из зала, стуча башмаками, ушли все деятели гитлеровского посольства в Москве во главе с послом.
Ушли бледные, с перекошенными мордами. Зрители начали посвистывать им вслед. Гитлеровцы зашипели. На лице Мейерхольда появилось непередаваемое выражение счастья. Такое выражение я видел на лице у командующего авиацией Северного флота на командном пункте, когда он, командующий, понял, что разгром фашистской авиации на ее норвежских базах начался и процесс этот необратим.
Это не нюансики и подтекстики. Это именно то, что любил напевать Мейерхольд:
«И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!»
Вслед фашистским послам Мейерхольд сказал зло и громко:
— Проняло.
Максим Максимович Литвинов покосился на Мейерхольда.
— Завтра мне придется принимать их «представление», — сказал он. — Будет невесело.
А Мейерхольд зашептал:
— Я уже придумал, что мы сделаем завтра. Будет не Берлин, чтобы эти мерзавцы не вязались, а «вольный город» Штеттин.
— Умница, — почти растроганно сказал Литвинов.
Но мерзавцы все-таки привязались. Литвинов и Мейерхольд виделись всякий день. И наконец, Всеволод Эмильевич придумал трюк. Он сказал:
— Это театр мой. На вывеске написано — Всеволода Мейерхольда. Что имени, они не поймут, они капиталисты. Вы им, Максим Максимыч, душа моя, и объясните. Не слушается, мол. Уперся на своем, и все.
Фашистюги приходили, разглядывали вывеску, разговаривали, как гуси.
И — отвязались.
В эпизоде похорон сына старого рабочего Ганцке, которого прекрасно играл Боголюбов, старика долго и торжественно одевают на церемонию: манжеты, крахмальная манишка, черный галстук, цилиндр.
Но Мейерхольд придумал свое знаменитое зеркало.
В руке раздавленного горем старика Ганцке большое зеркало: он оглядывает себя. Зеркало дрожит. Меловое лицо, прорезанное морщинами, в дрожащем высветленном прожекторами зеркале вызывало буквально стон в зале. Горе из плоскости быта, из привычных изображении всех степеней этого чувства мгновенно пронизывало нестерпимой болью сердца всех людей в зале и превращало их из зрителей в участников предстоящей трагической церемонии. Стон сменялся гулом возмущения. Зритель не желал больше ни секунды терпеть то, что делает с рабочими мир капиталистического чистогана.
Не есть ли умение найти и воплотить эту выразительность, выжечь этот гнев, эту страстность зрителей — высочайшая задача искусства?
Спившийся, давно безработный талантливый, умный и циничный инженер Нунбах, образ которого воплотил в жизнь еще совсем молодой тогда Лев Наумович Свердлин, проходит в романе длинный и мучительный путь, прежде чем покончить с собой.
Ничего у меня не выходило с эпизодом под названием «горький миндаль». В этом эпизоде Нунбах в кабинете-лаборатории главного моего героя Кельберга принимал цианистый калий, который, как известно, пахнет горьким миндалем.
Была глубокая ночь, когда все окончательно поняли, что эпизод не вышел. Свердлину нечего было играть.
Мейерхольд пил свое молоко, курил, потом поднялся и ушел на сцену.
Там он постоял, обдумывая, видимо, как быть и что делать. Лицо у него было спокойное, сосредоточенное и даже суровое.
Потом рабочие выкатили рояль.
Погодя Всеволод Эмильевич поставил на полированную черную крышку рояля узкую, очень высокую хрустальную вазу и опять надолго исчез. Рабочие в это время принесли большое облезлое кресло и кусок серебряной парчи.
В зале все затихли.
Вернулся Мейерхольд, вставил в вазу странный большой кактус, только что слепленный им самим из станиоля. И в подсвечники рояля он вставил две свечи. Третья была на маленьком столике возле кресла. Попыхивая сигарой, Мейерхольд долго закрывал кресло серебряной парчой. Наконец все было готово.
Он медленно и требовательно оглядывал то, что создал тут своими руками.
В зале сделалось так тихо, словно все ушли.
Три свечи горели на столе. Огоньки их отражались в черном лаке рояля. Парча, хрусталь создали простую, лаконичную и чудовищно безжалостную формулу смерти.
— Вы можете тут умереть, Лева? — спросил Мейерхольд со сцены в темноту зала.
— Да! — сдавленным голосом крикнул Свердлин. — Да, спасибо, Всеволод Эмильевич!
— Начали, — приказал Мейерхольд.
Кельберг-Мичурин сел за рояль. Звуки «Лунной сонаты» поплыли со сцены. Лев Наумович Свердлин медленно пошел к сверкающему парчой креслу.
— Это гроб, Лева, — предостерегающе крикнул Мейерхольд.
Сидевший со мной рядом великолепный артист Зайчиков закрыл глаза ладонью, и я услышал, как он бормочет:
— Это невыносимо! Это невозможно выдержать!..
А мне вдруг подумалось, что именно в такие мгновения два самых крупных человека в истории русской режиссуры — Станиславский и Мейерхольд могут взять да и пожать друг другу руки. И что тогда станут делать те критические шавки, которые своими намеками, междустрочьем, «беспокойною ласковостью взгляда», воем и наушничаньем в интерпретации поисков Мейерхольда приблизили его трагический конец? Ведь это они дали оружие в руки тех, мерзавцев, которые вели так называемое «дело Мейерхольда». Это цитатами из некоторых критических работ о нем был мучим Мейерхольд, старый и славный коммунист, создатель единственного в мире театра, потеря которого невозвратима. Ибо театр Мейерхольда был не театром прошедшего, а был театром будущего, театром наших нынешних дней.
Однажды, когда я поздней ночью провожал Мейерхольда домой, он угрюмо сказал:
— Вот, набравшись духу, позвоню Константину Сергеевичу и предложу: давайте, знаете, закроем наши курятники, убежим на чердак и станем все с самого начала придумывать. Ведь зашли в тупик и он и я. Искать надо…
Помолчал и добавил:
— Впрочем, насчет тупика пишут только про меня. А когда Станиславский ругается, это считают милыми чудачествами гения. Вовсе он не чудит, он ищет и мучается. А ему не велят. Ему объясняют, что он уже все совсем навсегда нашел.
Потом, неуверенно бодрясь, Мейерхольд пригрозился:
— Ничего, рано меня хоронить. Еще поглядим!
Спектакль «Вступление» состоялся.
Мою пьесу очень ругали, Мейерхольда — справедливо — хвалили. Мне было горько, но не слишком…
Во время гастролей театра в Ленинграде я пришел к Мейерхольду в «Европейскую гостиницу». Шеф-повар сам принес ему пломбир после обеда — странное сооружение из кубов, пирамид, треугольников, овалов…
— Опять? — брезгливо спросил Мейерхольд.
— Специально для вас стараемся, — сказал шеф. — Пломбир «футуристический»…
Вежливо поблагодарив шефа, Всеволод Эмильевич отошел к окну. Он был очень бледен. И произнес едва слышно:
— Заметьте, этот «футуристический» пломбир мне приносят не в первый раз! Что делать, как отучить их от этой мерзости?
Я никогда не видел Мейерхольда в таком состоянии.
А потом Мейерхольд меня забыл.
Я больше не был ему нужен, он умел близко, по-настоящему общаться с людьми, только делая с ними совместную работу.
Мне очень хотелось посмотреть «Даму с камелиями» — билетов не было, и я позвонил самому Всеволоду Эмильевичу. Он долго притворялся, что чрезвычайно рад моему звонку, но пустил меня только в яму оркестра. Я обиделся ужасно, как обижаются в молодости, и ушел.
Больше я его никогда не видел.
И никогда не увижу.
Но когда я смотрю настоящий, подлинный, берущий за сердце спектакль или кинофильм, который заставляет меня волноваться, радоваться и плакать, я непременно вспоминаю те удивительные месяцы моей молодости. Лаконизм и страстность, сила разоблачения и сила утверждения, патетическая простота, энергия развития образов, великолепная целеустремленность — вот то мейерхольдовское, что волей пли неволей вошло в плоть и кровь всего подлинно прогрессивного в нашем искусстве.
И когда я пишу сценарий, или повесть, или роман, те же удивительные месяцы моей молодости опять-таки непременно оживают передо мной. И не как воспоминания, а как школа, как техникум, как… впрочем, слово «университет» в нашем деле следует употреблять с осторожностью.
За эти месяцы близости с Мейерхольдом я, как мне кажется, очень многое понял. И если в работе моей что-то удается, я знаю: не без тех давно миновавших дней. Если же нет, значит, дней этих было слишком мало или я был в ту пору моложе допустимой нормы.
Таким он остался навечно в моей памяти, этот удивительный человек.
И мне горько, что мы до сих пор с какой-то странной опаской произносим имя Мейерхольда. А некоторые среди нас не возвышаются над шефом-поваром из «Европейской» с его «футуристическим» пломбиром. Может быть, на основании слухов им Мейерхольд представляется каким-то «ничевоком», или «эгофутодадаистом»? Или, не к ночи будь сказано, абстракционистом?
Сталин никогда не был в театре Мейерхольда.
И если говорить всерьез о борьбе с последствиями культа личности Сталина, то эта недоверчивость к имени Мейерхольда есть реальное последствие, с которым надо бороться.
Все, кто знал Мейерхольда, обязаны рассказать о самом главном в нем, о его преданности партии, о его ненависти к обывательщине и мещанству, о наступательном духе его искусства. А ошибки? Что ж! Академик Павлов любил говорить:
— Кто с коня не падал, кто бабушке не внук, под кем санки не подламывались? — И сам отвечал: — Неродившиеся души!
Мейерхольд был. Мейерхольд есть. Мейерхольд будет.


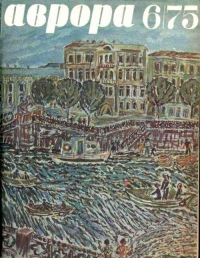
Комментарии к книге «О Мейерхольде», Юрий Павлович Герман
Всего 0 комментариев