Вера Федоровна Панова Собрание сочинений в пяти томах Том 3 *ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ*
ЯСНЫЙ БЕРЕГ (Повесть)
Глава первая КОРОСТЕЛЕВ
По дороге в райком Коростелев забежал, как он выражался, «накрутить хвост» шоферу Тосе Алмазовой.
Алмазова пятый день не выходила на работу. Коростелев посылал за нею, вывесил грозный приказ — ничего не помогало: у Алмазовой шло большое гулянье. Гуляла вся родня, гуляла вся улица в честь благополучного возвращения Тосиного супруга с полей Отечественной войны.
В маленькую кухню светило веселое апрельское солнце. Час был уже поздний, а хозяева только собирались завтракать: накануне легли спать с третьими петухами… Алмазов сидел у стола небритый, неподпоясанный, с туманом вчерашнего хмеля в глазах, но сапоги его были зеркально начищены и к вороту гимнастерки пришит чистый подворотничок. «Антонина старается, наряжает мужа», — подумал Коростелев, с лету заметив все подробности. Две девочки сидели по другую сторону стола, тоже нарядные, старшая в красном галстучке: и детишки дома, в школу не пошли… Тося ухватом передвигала в печи горшки, лицо ее пылало от печного жара. Блаженствуют, черти. В рабочие дни сплошной выходной устроили, законы не для них писаны…
— Доброго здоровья! — сказал Коростелев, с разгону шагнув в кухню и остановившись. — Я по твою душу, Тося. Корми семейство скорым темпом, и айда.
— Стул подай-ка, — сказала Тося старшей дочери. — Радость у меня, не сердитесь, Дмитрий Корнеевич.
Она поставила ухват и стояла перед Коростелевым, глядя ему в лицо виноватыми и сияющими глазами. А глаза у нее были серо-зеленые, обведенные темной каемочкой. И такие же глаза были у двух беленьких детишек, сидевших против отца. Невозможно под взглядом этих глаз заорать: «Да ты что, на самом деле! Вот отдам под суд…» Оставалось сесть на стул, который девочка выставила на самую середину кухни, и бить на психологию.
— Очень рад за тебя и поздравляю, конечно, — начал Коростелев, — но работа есть работа, Тося, так?
— Мне отгул полагается, — сказала Тося. — У Лукьяныча записано, сколько выходных я отработала. Послезавтра выйду.
— Еще бы сказала — через неделю. Ты просто, я тебе скажу, пользуешься своим положением.
Она закинула голову и засмеялась.
— Пешочком ходите? — спросила сквозь смех.
— На самолете летаем.
— Ничего, — сказала Тося, — немножечко пешочком полезно для моциона.
Ока все смеялась счастливым смехом, горло ее вздулось, как у голубя, глаза блестели. «Ай да Тоська! — удивился Коростелев. — Вон она как умеет смеяться!» В первый раз он увидел, что она статная, здоровенная, красивая; а раньше всегда была сутулая, бледная, словно невыспавшаяся…
Вслух он сказал:
— Смеяться не приходится. Вообще, ты стараешься подчеркнуть, что ты незаменимая. И на этом основании позволяешь себе много лишнего. Вот ответь на такой вопрос: кто тебе крышу покрыл, чтобы твоих детей в дождь не заливало?
— Ну? — спросила Тося.
— Кто тебя поддерживал? Где бы ты еще нашла такую должность, что тебе то дров подбросят, то молока, то мяса?
— Молока, мяса, то, се, — сказала Тося голосом бухгалтера Лукьяныча и опять засмеялась.
— Не дразнись: должна ты, в свою очередь, идти навстречу производству?
— Это верно, — сказала Тося, обращаясь к мужу. — Поддерживали они меня, верно.
— А ты в рабочий сезон устраиваешь себе отгулы. Надо же иметь элементарную сознательность. Вот в данный момент сменные доярки на том берегу режут кочки. Доярки! Ихнее дело, скажешь? Трактористы по восемнадцать часов не слазят с трактора. Родилка переполнена. И я должен поспеть ко всем людям и во все места — пешочком!
— Дмитрий Корнеевич, — сказала Тося тихо, — я его четыре года не видела.
Алмазов встал и сделал несколько шагов по тесной кухне. Левая рука его была опущена в карман галифе, в правой дымила папироска… Медленно, как бы просыпаясь и вспоминая, оглядел он низкий беленый потолок, на котором между голубоватыми мазками мела проглядывала кое-где прошлогодняя копоть. Тося следила за мужем немигающим, завороженным взглядом.
— Починено как следует? — негромко спросил Алмазов. — Нигде не течет?
— По-хозяйски починили, ничего, — ответила Тося. — Олифу хорошую дали.
— Побелено неважно, — сказал Алмазов.
— Перебелю, — сказала Тося. — На скорую руку белила, все некогда, некогда, за баранкой днюешь и ночуешь.
— Что ж вы ее так?.. — сказал Алмазов, обращаясь к Коростелеву. — Она женщина, ей и дома когда-нибудь надо побыть.
— Вот идите к нам за второго шофера, — сказал Коростелев, — тогда сделайте одолжение: сутки отъездила, а на вторые сиди дома, никто не держит.
— При чем же тут я? — сказал Алмазов. — Это не моя специальность.
— А какая ваша специальность?
Алмазов не ответил, перешагнул через длинные ноги Коростелева, ушел в комнату за кухней. Ответила Тося:
— Столяр он. Столяр и плотник.
— Так в чем дело? Милости просим.
— Там видно будет. Пусть отдохнет. Больше года пролежал в госпиталях, шутка?
— А теперь как — в порядке?
— В порядке-то в порядке, да пусть еще погуляет.
— Бережешь его очень.
— А по-вашему, не беречь? — спросила Тося. — Да вы скидайте шинель, садитесь с нами покушать, сейчас пирог выну.
— Некогда мне с вами кушать, — сказал Коростелев, вставая. — И так засиделся. Ну, всего. Завтра чтоб была на работе, слышишь?
— Послезавтра.
— Завтра, завтра! — уже с порога сказал Коростелев начальственным голосом. — А то, имей в виду, нехорошо будет. Завтра с утра!
«Не выдержал, дал-таки ей поблажку, — думал он, быстро шагая по улице. — Начал как надо — „корми семью, и айда“, а кончил — „приходи завтра“. И что за характер дурацкий! Этак все из меня веревки вить будут… А ведь она и завтра не явится, хоть пари держать — не явится. Любит его… Если бы меня так полюбил кто-нибудь, я бы по гроб жизни был благодарен и дорожил…» На секунду ему стало грустно, что его никто не любит. Вот — и молодой, и наружность не хуже, чем у других, а не любит никто. Встречи эти фронтовые… Где та, с золотым до удивления хохолком, с которой он познакомился в Белостоке? Даже на письмо не ответила… Где черноглазая, которая говорила: «Ух, какой вы высокий, а муж еще выше!» — и все показывала карточки мужа… Ерунда это все, грусть одна, а не любовь.
Долго задерживаться на этих мыслях не приходилось: сейчас бюро райкома будет слушать его отчет.
Неделю назад Горельченко, секретарь райкома, приезжал в совхоз. Обошел все фермы, говорил с людьми. Коростелев и Бекишев, секретарь партбюро, ходили с ним и все ему рассказывали. Он слушал внимательно, глядя тяжелым, без улыбки, взглядом, потом сказал:
— Ну что ж, доложите на бюро.
И не сказал, что он думает о делах совхоза. Коростелев, который еще не разобрал, симпатичен ему Горельченко или не симпатичен, немного разочаровался: коллегиальность — коллегиальностью, но разве не может секретарь райкома в частном разговоре высказать свое личное мнение? Кажется, есть за что нас похвалить…
Приехал Горельченко в совхоз в семь утра и пробыл до обеда. Ему предложили пообедать (поварихи специально готовили, хотели угостить повкуснее), он сказал:
— Спасибо, я у чкаловцев пообедаю.
И уехал в колхоз имени Чкалова.
Теперь у Коростелева посасывало под ложечкой: что-то будет на бюро? Хоть бы похвалили, чтобы выйти после заседания с независимым лицом, как вышла прошлый раз заведующая районо, которой записали «признать работу удовлетворительной». Почему Горельченко с ним неласков? Неспроста он тогда отказался от обеда и поехал к чкаловцам. Все районные работники едут к чкаловцам, в совхоз редко кто заглянет. Даже Данилов, директор треста, был всего один раз: он считает, что «Ясный берег» в лучшем положении, чем другие совхозы треста. А по сути дела, тоже положение не из блестящих, где там!
Первое знакомство Коростелева с Горельченко произошло вскоре после демобилизации.
Осенью 1945 года Коростелев двигался с запада на восток в громадном потоке демобилизованных. Четыре года он прослужил в Красной Армии и с честью возвращался домой.
Не сразу оборвались связи с родной дивизией: на первых станциях встречалось много знакомых, завязывались свойские разговоры, в разговорах общие вставали воспоминания, упоминались имена общих командиров… Чем дальше от дивизии, тем меньше знакомых лиц. Далеко от дивизии — ни одного знакомого лица, и тебя никто не знает, а людей все больше и больше лавина людей, сила людей!
Поезда шли по расписанию и сверх расписания, но все одинаково перегруженные. На станциях толчея, у касс длинные очереди. Железные дороги были заполонены людьми в шинелях, с солдатским багажом на плече: мешок, сундучок, в сундучке барахлишко, в мешке хлеб.
На одной узловой станции Коростелеву пришлось долго дожидаться пересадки.
Бесконечно тянется ночь, когда лечь негде — сидишь в неудобной позе на чемодане.
Одна только лампочка, слабо накаленная, горела на потолке, да косо падал через окна бледный свет с перрона. Густым и горьким махорочным дымом был наполнен вокзал — сегодняшним дымом, вчерашним, позавчерашним… Лампочка светила сквозь махорочные облака. Кругом на мешках и сундучках спали люди в сапогах и шинелях — не пройти… Плакал ребенок, женский голос сонно успокаивал его:
— Шш… Шш… Баиньки… баиньки…
Коростелев то задремывал, то просыпался, смотрел на часы, ставил затекшие ноги в другую позицию. Ребенок разбудил его, он очнулся, растер ладонями лицо, закурил.
Невдалеке поднялся человек. Свернул папироску, стал чиркать зажигалкой. Чиркал, чиркал — огня нет. Коростелев достал свою, дал. Человек закурил — осветилось большое лицо с большими черными бровями, у виска узловатый шрам.
— А интересно, — сказал человек, возвращая зажигалку.
— Что интересно? — спросил Коростелев.
— Вот это все интересно. — Человек повел кругом рукой. — По домам, значит. Сделали дело, и по домам. Из одной армии в другую: землепашцев, строителей. Страница истории дописана — начинаем новую… А ведь некоторые прежнюю профессию забыли, заново пойдут жить… Вы какую имели специальность?
— Веттехник.
— Обратно в ветеринары?
— Вряд ли.
— Разонравилось?
— Отвык.
— То-то.
Потревоженный разговором, заворочался еще один спящий. «Поезд-то пришел, пришел поезд?» — спросил он неразборчиво, коротко вздохнул и опять уронил голову на мешок.
— Спи, сержант, спи! — сказал человек с черными бровями. — Придет твой поезд. Сапоги убери, а то сосед обидится… Сколько этими сапогами за войну пройдено? Сколько всеми нашими сапогами пройдено? Подсчитать бы общий километраж. Помните, как все двинулось на фронты? Вот — обратный хлынул поток… Вы женаты?
— Нет, не женат.
— Неженатому легче уходить.
— А женатому, должно быть, веселей возвращаться, — сказал Коростелев.
— А общий километраж подсчитать можно, — сказал, помолчав, собеседник, — если толково взяться. Длинная получится цифра, а? Астрономическая.
— Не в цифре дело, — сказал Коростелев.
— Все-таки интересно.
Они говорили тихо. Вокзал спал. Дышали люди, стонали, всхрапывали. «Баиньки… баиньки…» — сонно и нежно приговаривала невидимая женщина, укачивая ребенка. Вспыхивали в махорочном мраке две папироски, два крошечных красных огонька.
— Баиньки, — повторил человек с черными бровями. — Высыпайся, ребята, на привале. Скоро большая побудка.
— Восстанавливать придется много, — сказал Коростелев.
— Много.
Если бы Коростелев знал, что творилось в душе у его собеседника во время этого обрывочного ночного разговора, — наверно, наверно нашел бы Коростелев слова, чтобы разговорить собеседника, развлечь, деликатным способом выразить свое внимание и сочувствие. А Коростелев зевал и отвечал сквозь зевоту.
Откуда же ему было знать, что обоих сыновей потерял Горельченко в войну, — старший пал, защищая Сталинград, младший под Берлином. Уходили воевать втроем, отец и два сына, а возвращался Горельченко один. И переживал ли он вдохновенно-гордое чувство победы, радовался ли наступившему миру и человеческой радости, обдумывал ли, какие великие работы предстоят народу и какова его, Горельченко, доля участия в этих работах, — а все стоял перед глазами образ неутешной матери, верной его подруги. Как-то встретятся они, как друг на друга взглянут?.. У него, отца, горе иссекло лицо морщинами, выбелило виски, — а мать?..
Неоткуда Коростелеву было знать все это, невдомек было ему.
Он достал кисет и угостил собеседника табаком. Оба углубились в милые сердцу процедуры: надо было оторвать от газеты полоску нужной величины и сложить желобком; насыпать табаку и равномерно распределить вдоль желобочка; скрутить папироску; край бумажки смочить языком и заклеить; высечь огонь в зажигалке и, сделав затяжку, окутаться адским дымом, обжигающим гортань и глаза.
— Табачок у тебя серьезный, — сказал собеседник, перейдя на «ты». Для любителей сильных ощущений. Пьешь здорово?
— Не то чтобы здорово, но могу выпить.
— А в ветеринары, значит, не хочешь. А чего хочешь? Командных постов?
— Ничего не имею против, — сказал Коростелев, обидясь немножко.
— А как не дадут командных? Пойдешь в чернорабочие?
— А хоть в чернорабочие, — сказал Коростелев. — Лишь бы действовать в полную силу.
— Стосковался по работе?
— Тосковать было некогда. А сейчас — очень хочется работать, конечно.
— На, выпей.
И перед Коростелевым очутилась рука, держащая крышку от фляги.
— Пей, это спирт типа твоего табака. За работу. Командную, черную всякую!
И сам глотнул из фляги. Коростелев выпил — спирт был и впрямь под стать его табаку.
— Последняя заправка, — сказал собеседник. — Сейчас мой поезд придет. Через четыре часа еще пересадка, а там — айда.
— Далеко?
— На работу.
— Уже есть работа?
— Нашлась.
Далеко-далеко слабо и призывно закричал паровоз; ему откликнулся мощным гудком паровоз на станции. Собеседник встал и принялся приводить в порядок свой багаж.
Радио возвестило о приближении поезда номер такой-то. Кругом вскочили, задвигались. Захлопала дверь. Человек с черными бровями взвалил чемодан на плечо, сказал «всего» и ушел в толпе серых шинелей.
Подождав, пока кончится давка в дверях, Коростелев вышел на перрон. На дворе уже чуть светало, розовел восточный край неба, морозец обсушил землю. На дальнем пути стоял поезд, шла посадка, у вагонов толпились серые шинели. Их было так много, что казалось — поезд не может их вместить, но вошли все до последнего человека. Перрон опустел. Крикнул паровоз, и поезд пошел на восток, на зарю, в будущее.
Через два дня после этой встречи Коростелев приехал в родной городок, к матери и бабке. Мать, Настасья Петровна, пятнадцать лет работала в совхозе «Ясный берег», бабка хозяйничала дома. По приезде начался для Коростелева новый, неожиданный этап жизни: его назначили директором совхоза. Вызвали сначала в областной центр, в трест, потом в Москву и там инструктировали. А когда он вернулся из Москвы, в райкоме партии был новый секретарь, Иван Никитич Горельченко. В этом громадном большелицем человеке с черными бровями и с узелком шрама у виска Коростелев с первого взгляда узнал своего ночного вокзального собеседника. Коростелев не признался ему: зачем? Горельченко его не узнавал — ну и ладно. Не та была встреча, чтобы напоминать о ней…
Под началом у Коростелева оказалось большое хозяйство. Оно было порядком запущено в годы войны, когда в совхозе размещались, помимо своих коров, стада, эвакуированные из Ленинградской области. Корма ухудшились; на скотных дворах было тесно; животные болели, удои снизились.
Мужчины ушли на фронт. Мужчин — трактористов, скотников, полевых рабочих — заменили женщины и подростки. Им пришлось положить много труда, чтобы в тяжелых военных условиях сохранить драгоценное, любовно подобранное и взлелеянное стадо совхоза.
Совхоз создавался в первой пятилетке, в 1930 году. Постройки ставились временные — деревянные, с расчетом на то, чтобы заменить их через десять, двенадцать лет. Для этой замены за год до войны начали свозить в совхоз строительный материал. Старый маленький кирпичный завод на территории совхоза расширили, построили новые сушильные печи. Война отложила строительные работы. К концу войны старые постройки обветшали, пришли в негодность: для капитального ремонта не было рук.
Чтобы совхоз укреплялся и рос, нужно было прежде всего создать добрый запас хороших кормов и новые помещения для скота. Без этого нельзя поднять удои, нельзя победить болезни, нельзя растить здоровый молодняк.
Когда Коростелев принимал бразды правления, главный бухгалтер Лукьяныч сказал ему:
— Не затруднит ли вас, Дмитрий Корнеевич, съездить со мной тут неподалеку в одно местечко? Не пожалеете.
Лукьяныч знал Коростелева давно, мальчишкой, Митькой, но теперь держался с ним очень корректно.
Коростелев поехал. Тося Алмазова с трудом вела машину по нерасчищенной дороге. Мелкой сеткой летел снег на безлюдные поля.
— Куда мы? — спросил Коростелев.
— Имейте терпение.
Миновали вторую ферму, оставили в стороне и третью. Завиднелись в летящей белой мгле большие строения, плоские, без окон и дверей, крытые соломой и снегом.
— Стоп. Вылезли, Дмитрий Корнеевич.
Оставив машину на дороге, пошли через поле пешком. Строений было восемь, с боков они были обставлены фанерными щитами и ржавыми листами старого железа, подпертыми кольями. Лукьяныч выдернул пару кольев громыхнули, падая, железные листы; Коростелев увидел аккуратным штабелем сложенный лес — материал для стройки, отборный материал, чистое сокровище.
— Откуда это?
Жмурясь от снега и удовольствия, Лукьяныч заложил отверстие железом, подпер кольями.
— Как откуда? Наше, совхоза «Ясный берег». В сороковом и сорок первом завезено для нужд капитального строительства. Пошли дальше.
И в других строениях был лес, заботливо сложенный.
— Боюсь, что сгнила половина.
— Не может быть. Для того и укрывали, чтобы не гнило. Как законсервировались наши планы — ну, думаю, лес надо сберечь! Тут у нас когда-то пастбища были, остались навесы, мы их использовали. Пришлось попотеть: материал-то был разбросан по всем фермам, с людьми плохо, с лошадьми плохо, — по ночам возили, Дмитрий Корнеевич! Двойкой был расчет: сберечь для будущего строительства — раз; в случае, не дай бог, прорвался бы к нам Гитлер — мы бы это в момент подожгли, чтоб ему не досталось, два.
— И ничего не растащили?
— Охрану держал. Трудно было. Стояла охрана по всей форме. Сам дежурил с винтовкой. В совхозе «Долинка» — там за войну все стройматериалы разбазарили на дрова. А мы сберегли. Принимайте.
— Это вы большое дело сделали, Лукьяныч.
— А вы думали.
Они возвращались к машине.
— В тресте знают?
— Большой был соблазн, Дмитрий Корнеевич, не сообщать. Списать — и все! — как списали в «Долинке». Кто взыщет? А с другой стороны, как же я при инвентаризации утаю такое количество материалов — это получается государственное преступление, а я не люблю, когда пахнет преступлением. Я люблю провести законно.
— Пожалуй, трест будет резать нам сметы на стройматериалы, зная, что у нас есть запас.
— Обязательно будет. Уже прирезал. Я заявил Данилову, что протестую.
— А Данилов что?
— Данилов говорит: я «Долинке» увеличил, а вам срезал, потому что у них нет, а вам на пять лет хватит.
— Не хватит на пять лет.
— И я сказал, что не хватит. А Данилов говорит: война только недавно кончилась, будет вам и белка, будет и свисток, а пока фонды небольшие, управляйтесь в пределах плана. Железный мужик, его не переговоришь.
— Железный, — подтвердил Коростелев. Он успел рассмотреть Данилова, директора треста, пока тот его инструктировал.
На обратном пути, в машине, Коростелев и Лукьяныч обсуждали предстоящие строительные работы. Телятники — в первую очередь телятники и родильные отделения. Затем скотные дворы, конюшни, склады для зерна.
— Гараж, — обернувшись, сказала Тося. — Хоть какой, хоть плохенький. А то курам на смех — становлю машину в конюшне между лошадьми.
— Мечты-мечты, где ваша сладость! — сказал Лукьяныч. — Всё спланировали, и даже гараж, а работники?
В строительной бригаде совхоза были главным образом подростки пятнадцати, шестнадцати лет. Они делали ремонт — починяли полы да рамы, заменяли сгнившие доски новыми, красили крыши. Строителей со стажем было мало, а человека, который мог бы руководить строительством, и вовсе не было.
— Придут работники, — сказал Коростелев. — Не разводите пессимизм. Когда есть стоящая работа, найдутся и работники, не могут не найтись.
Первая мирная весна после четырех военных весен. Первая весна новой пятилетки. Ее встречали радостно и дружно.
Много людей собралось в кабинете Горельченко. Отчитываться о подготовке к севу пришли председатели колхозов, заведующий опытной станцией и Коростелев. Возле Коростелева сидел Бекишев, секретарь партбюро совхоза, спокойный, немногословный человек, к которому Коростелев с первого дня почувствовал расположение.
И раньше Коростелева иногда вызывали на заседания бюро райкома, но ему казалось там неинтересно. Он неохотно отрывался от своих занятий и шел заседать. Сидел, думал о своем и не понимал, зачем его вызвали.
— Желаете высказаться? — спрашивал Горельченко.
Коростелев отвечал:
— Да нет, я не особенно в курсе…
Горельченко кивал, как будто соглашался, что Коростелев не в курсе.
Сейчас Коростелеву было интересно, потому что ему самому предстояло докладывать.
— Товарищи, — начал он, разложив на красной скатерти листки с цифрами. — Совхоз начинает сеять через два дня, и вот с чем мы приходим к севу.
Он рассказал, что весь инвентарь подготовлен еще с зимы — от тракторов до силосорезок. Семена очищены и протравлены. Рассказал, как шаг за шагом шли навстречу весне — раскидывали снежные наметы, чтобы поля равномерно пропитались водой, удаляли ледяную корку с озимых, подкармливали озимые минеральными удобрениями, лущили и пахали поля, не вспаханные осенью.
— Вопрос о кормах, товарищи, это вопрос жизни совхоза. Без концентратов невозможны те высокие удои, которыми блистал совхоз до войны. В этом году мы вернулись к научному севообороту, мы используем все наши земли и стараемся взять от земли все, что она может дать. Вот как мы готовили поля под турнепс: осенью вспахали их под зябь на глубину двадцать пять сантиметров, весной пробороновали зябь, перепахали и снова пробороновали; и на каждый гектар внесли сорок тонн навоза. Вико-овес и горохо-овес будем сеять в четыре срока, чтобы все лето подкармливать скот молодой травой, богатой белком.
Во всем этом, товарищи, нет отдельной заслуги отдельного человека, ни агронома, хотя агроном у нас очень хороший, ни тем более моей, потому что я в совхозе без году неделя… Общее желание к работе и общая заслуга. Доярка ли, конторщица ли, — брала лопату и шла раскидывать снег, с охотой и старанием, во всякую погоду. И как раз в этот момент, когда я здесь отчитываюсь перед вами, наши люди работают на субботнике — расчищают луга. Выкорчевывают кустарники, срезают кочки, в заболоченных низинах роют канавы, чтобы отвести воду. Теперь до самой речки пройдет сенокосилка, сено будет убрано вовремя и быстро. Подробнее о работе с людьми скажет товарищ Бекишев.
У Бекишева на скуластом, обветренном лице проступают розовые пятна, когда он начинает говорить. Только по этим пятнам можно догадаться, что Бекишев волнуется, других признаков нет: говорит он ровным голосом, без коростелевского красноречия. Он убежден, что слова его правильны и дельны, но стесняется говорить пространно, не считает возможным отнимать много времени у этих занятых людей, которым еще столько докладов предстоит выслушать сегодня. Ему недостает горячей и простодушной веры Коростелева в то, что все происходящее в совхозе, до последних мелочей, должно быть интересно всем на свете так же, как ему самому.
О себе никогда Бекишев не говорит. Сколько бы труда он ни вложил в какое-либо дело, со стороны кажется, что это дело сделалось само или усилиями других людей, — до того незаметно, в тени держится Бекишев.
И сейчас он рассказывает о соревновании доярок так, словно не он организовал это соревнование, а кто-то другой. Рассказывает о том, что Настасья Петровна Коростелева, знатная телятница совхоза, взялась учить молодых девушек своей профессии, — словно не он поставил на партбюро вопрос о прикреплении молодежи к опытным специалистам. Он говорит, что с подготовкой кадров дело поставлено плохо: две комсомолки посланы на курсы ветеринарных фельдшеров, трое подростков обучаются каменщицкому делу, это всё, говорит Бекишев, а это капля в море. И нужна вся опытность собравшихся здесь людей, чтобы сквозь эти скупые слова разглядеть, как много сделал за короткое время молодой партработник Бекишев.
— Вопросы есть? — спросил Горельченко.
Вопросов не было. Подождав, Горельченко сказал:
— Доложите коротенько, товарищ Коростелев, об общем состоянии совхоза и, в частности, о ваших строительных планах.
Коростелев достал из нагрудного кармана новые листочки и стал докладывать. Обнаружил отличное знание постановления ЦК о животноводстве, приводил цифры, на память называл лучших коров — Брильянтовая, Нега, Мушка, Печальница… Он знал каждую: сколько молока она дает, и какое принесла потомство, и какое соцобязательство принято дояркой, обслуживающей эту корову… Люди улыбались доброжелательно, и это доброжелательство — Коростелев чувствовал — относилось не только к совхозу, но и к нему, молодому руководителю.
Нужно ставить новые постройки для скота. Лесоматериал есть, теперь задача — пустить полным ходом кирпичный завод, выработать столько-то штук кирпича и употребить его на такие-то первоочередные строения.
— У меня вопрос, — нервно сказала заведующая районо. — Учел ли товарищ Коростелев то количество кирпича, которое требуется для школы, строящейся на территории совхоза?
(Школу заложили до войны; этим летом, по плану, ее надлежало достроить.)
Нет, Коростелев не учел этого количества.
— Как же так? — сказала заведующая районо.
— Вопрос, — сказал председатель райисполкома. — Учли ли вы, что ваш завод наиболее мощный в районе и что до войны мы всегда были вашими заказчиками?
Нет, Коростелев и этого не учел.
— До войны, — сказал он, — совхозу не требовалось столько кирпича, поэтому он мог принимать посторонние заказы.
— До войны и нам не требовалось столько кирпича…
Председатель колхоза имени Чкалова надел очки и стал что-то писать в блокноте.
— На заводе людей не хватает, — сказал Коростелев, — мы еще думаем, где людей взять; как мы можем принимать заказы?
— Вы говорили о том времени, когда люди будут. И тогда мы придем с заказами. Учтите.
— Позвольте мне, — сказал председатель колхоза имени Чкалова.
Он встал. На заседаниях он всегда говорил стоя, хотя ему это нелегко, — вместо левой ноги у него протез. Коренастый, крепкий как дуб, уже немолодой человек, о котором председатели других колхозов говорят, что «чкаловский на своей деревяшке всех обскачет».
— Кирпич, товарищи, — сказал он, — всем нужен, он и нам нужен, колхозу имени Чкалова. У нас, конечно, свой завод предусмотрен планом, но мы еще только пробуем почвы и ищем место, а кирпич нам то есть вот как нужен. Я имею к товарищу Коростелеву деловое предложение. Ваше, товарищ Коростелев, оборудование, наша рабочая сила — вам кирпичик и нам кирпичик, и району кирпичик, и так на текущий год мы выйдем из положения, а то ведь, товарищи, действительно, что кирпич каждому нужен.
— А на хозяйстве не отразится, — спросил Горельченко, — если в разгар сезона вы оторвете людей от земли и пошлете на завод?
— Нет, Иван Никитич, у нас так не делается, чтобы отразилось. Я вам потом подробно изложу расстановку сил… И к тому же наши люди, подучившись на ихнем заводе, будут впоследствии на своем собственном заводе как основные кадры, — тут тоже расчет.
— Что ж, — сказал Коростелев, — меня это устраивает.
— Золотые слова, — сказал чкаловский председатель. — Совместно преодолеем трудность.
Председатели других колхозов сидели в задумчивости. «Опять обскакал!» — было написано на их грустных лицах.
— Несколько слов, — сказал Горельченко.
Он начал медленно; пальцы его водили по столу спичечную коробочку, и взгляд был устремлен на коробочку.
— Цыплят считают по осени; много еще предстоит сделать товарищам из «Ясного берега». Во всяком случае — начали хорошо. Мы все с удовлетворением слушали хороший доклад о хорошей работе… Но то, что здесь произошло сейчас попутно, — очень, товарищи, поучительно. Товарищ Коростелев — молодой член партии, вступил в партию в годы войны. В армии проявил себя как хороший организатор. Партия доверила ему ответственный участок народного хозяйства…
«Куда он ведет?» — подумал Коростелев.
— Мы не первый раз видим товарища Коростелева на бюро. Но до сегодняшнего дня он присутствовал тут как гость.
Тяжелые горячие глаза поднялись и смотрели в глаза Коростелева зрачки в зрачки.
— Разве не так?
Коростелев почувствовал, что краснеет. Он попробовал вывернуться:
— Не понимаю, Иван Никитич…
— Нет, понимаете. Прекрасно понимаете! Именно как гость сидели, скучая и не слушая, пока мы занимались делами района. Я, бывало, смотрю и думаю: зачем он пришел? Неудобно не прийти, когда райком приглашает?
— Я новый человек в совхозе «Ясный берег», — сказал Коростелев, краснея еще гуще, — не успел освоиться…
— Бросьте. Если вы потрудитесь посмотреть кругом, то увидите, что тут добрая половина людей — новые работники. Война так распорядилась. Вы, кроме вашего совхоза, ничего не хотите знать. Заказы района для вас посторонние заказы. Заботы района для вас — посторонние заботы. Отсюда один шаг к тому, чтобы и заботы государства стали для вас посторонними заботы Советского государства.
Очень тихо стало в комнате, никто не шевелился, не закуривал; слушали Горельченко и смотрели на Коростелева.
— Только сегодня вы здесь заговорили. С увлечением, со страстью! И мы слушали внимательно. И поддержку вы здесь получили. И урок вам дали: не только о себе думать. Очень хорошо, что вы патриот своего предприятия. Но раз вы член партии — потрудитесь жить жизнью вашей партийной организации! Иначе, вот именно так появляются самодовольные деляги с раздутыми портфелями… Пойдете по этой дорожке — в обывательщину скатитесь, в узкий практицизм, разменяете на копейки великие наши идеи, проспите громадные процессы, которые происходят в стране!
Горельченко встал и прошелся в узком промежутке между печью и столом.
— Мы, коммунисты, передовой отряд. Отвечаем перед Сталиным, перед народом за все, что делается в районе. Не выбивайтесь из рядов. Нельзя нам разобщаться, нельзя терять из виду единую цель. Подумайте об этом, товарищ Коростелев. Подумайте о своем месте среди нас, и о нашем месте в вашей жизни, и о нашей общей роли в жизни государства… Слово для доклада имеет председатель колхоза имени Чкалова.
Заседание продолжалось. Коростелев рассеянно слушал и рассеянно следил за рукой секретарши, писавшей протокол. Мысли его были заняты тем, что сказал Горельченко. «Неужели я действительно плохой член партии? Неужели деляга? Это он сгоряча. Он умный, насквозь меня видит, но тут он не прав. Мне в партию сердце идти приказало…»
Доклад за докладом. Весь район держит экзамен перед посевной. «Вот от партучебы я отбился, надо наверстать; попрошу Бекишева, пусть подберет литературу. Большие требования Горельченко предъявляет к людям, очень большие…»
После заседания председатель колхоза имени Чкалова вышел с Коростелевым и Бекишевым.
— Когда заедете к нам, — спросил он, — чтобы договориться?
— Уж это вы к нам заезжайте, — сказал Коростелев. — Оборудование-то наше.
— А рабочая сила чья? — съехидничал было чкаловский председатель. Но, вспомнив грустно-задумчивые лица других председателей, спохватился и сказал миролюбиво:
— Да что спорить. Зайдемте в сквер, посидим на лавочке, обсудим в общих контурах, — кирпич-то нужен и нам, и вам!
— Нужен, — согласился Коростелев.
И они зашагали к скверу.
Еще светло было на улице, а в конторе горели настольные лампы. Старший зоотехник Иконников сидел у своего стола и медленно писал в большой книге.
— Добрый вечер, — сказал Коростелев.
— Добрый вечер, — ответил Иконников.
— Что нового? — спросил Коростелев.
— Семнадцать отелов, — ответил Иконников. — Это по первой и по второй ферме, с третьей еще не поступили сведения. Хлопотливый был день.
«А тебе что за хлопоты? — невольно подумал Коростелев. — Не ты принимал телят. Принимал только сводки — без отрыва от кабинета».
— И кто же сегодня разрешился? — спросил он. Ему хотелось установить с Иконниковым товарищеские отношения: должен бы Иконников быть ему ближайшим помощником, опорой во всех делах.
— Вот, прошу, — ответил Иконников и придвинул к Коростелеву книгу. Коростелев просмотрел записи: клички маток, вес телят, точное время рождения… Красиво поставлен у Иконникова учет, самый дотошный инспектор не придерется.
— Здорово! — сказал Коростелев. — Еще, значит, на семнадцать голов вырос наш шлейф!
«Неужели он не спросит, что было на бюро? Неужели ему это не интересно? И ведь старый работник…» Лезвием от безопасной бритвы Иконников осторожно чинил карандаш, заботясь, чтобы стружки падали на специально подложенный листок бумаги, а не разлетались по сторонам. «До чего не идет ему это занятие. Такому мужчине в расцвете сил, с такими плечами, горы ворочать, а не карандаши чинить…»
«А может, стесняется спросить, ждет, чтобы я сам рассказал?»
— Ну, были мы сегодня на бюро, — сказал Коростелев.
— Да? — спросил Иконников. — И какие результаты?
— Неплохие результаты. Кирпич будет, новые телятники для новых телят будут у нас с вами, Иннокентий Владимирович!
Иконников взял бумажку кончиками пальцев, бережно сдунул в корзину стружку и графитную пыль и, открыв ящик стола, достал пакетик.
— Отрадные вести. Закусить не желаете?
— Спасибо. Пообедал.
— Я, с вашего разрешения, закушу, — сказал Иконников. — Что-то сегодня обед был неважный.
Иконников — рослый блондин с крупными правильными чертами лица, причесан на пробор, чисто побрит. У него очень белые ресницы: белые, длинные и мохнатые, что-то раздражающее в них, — и руки белые, мертвецкие. Выражение у него строгое, неподкупное. Он ест сардельку, держа ее торчком и глядя перед собой холодными глазами.
— Приятного аппетита, — удрученно говорит Коростелев и идет в бухгалтерию к Лукьянычу. С Лукьянычем хоть и приходится ругаться, но зато это человек страстный, ему до всего есть дело.
Главных страстей у Лукьяныча две: годовой отчет и челн.
Во время составления годового отчета он просиживает в конторе ночи напролет, худеет, чернеет, лицо его выражает азарт, восторг и муку.
Летом он все свободное время плавает по речке на собственном челне, сделанном собственными руками.
— Это мой санаторий, — говорит он, — моя физкультура и отдохновение для нервной системы.
Работает он в совхозе пятнадцать лет; прошлой осенью справляли юбилей.
Сейчас в бухгалтерии заканчивают квартальный отчет. Яростно, вперебой щелкают счеты. Трещит арифмометр. Бороденка Лукьяныча и седые его волосы сбились на сторону, словно их относит ветром.
— Ну, Лукьяныч, все хорошо! — говорит Коростелев.
Лукьяныч мельком взглядывает на него и продолжает щелкать костяшками.
— Одну минутку, — говорит он. — Нет, не уходите! Присядьте на минутку, тут аварийный момент. Все хорошо? Ну, ну. Расскажите. Марья Васильевна, что там у вас слышно?
— Не могу найти, Павел Лукьяныч, — плачущим голосом отвечает помбухгалтера.
— Так! — с удовольствием говорит Лукьяныч, не отрываясь от своего занятия. — Все хорошо, говорите? — Он то перебрасывает костяшки (как-то особенно лихо и щеголевато, средним и безымянным пальцами правой руки), то записывает итог, то откидывается на спинку стула и задумчиво смотрит на часы. Вдруг бросается на них и снова принимается щелкать, нащелкал сотни тысяч, перебрался за полмиллиона — костяшки так и летают по проволочкам, вскидывает руку над счетами, как пианист над клавишами, и восклицает:
— Прошу убедиться! Вот они где, три копейки!
— Где, Павел Лукьяныч? — взволнованно спрашивает помбухгалтера и, бросив свой арифмометр, подбегает к Лукьянычу.
— Вот! — Лукьяныч вынимает из-за уха карандаш и указывает какую-то цифру в табличке.
— Вы подумайте! — говорит помбухгалтера и набожно уносит табличку к себе на стол.
— Только прошу вас, — говорит Лукьяныч Коростелеву, — рассказывайте по порядку, чтоб была полная ясность картины.
— В общем, Лукьяныч, — раскошеливайтесь.
И Коростелев рассказывает подробно, умалчивает только о нагоняе, полученном от Горельченко.
— Понимаете — подавай им кирпич, и только! Меня оторопь взяла: ну, думаю!.. И вдруг является союзник — колхоз Чкалова — с конкретной помощью.
— И вы сразу согласились! — говорит Лукьяныч.
— Почему же не согласиться?
— Я вас когда-нибудь научу жить? — спрашивает Лукьяныч.
— Нет, — говорит Коростелев. — Не научите.
— Напрасно, Дмитрий Корнеевич. Если бы я вас под неприятность подводил, а ведь это все легально и лояльно и в самых скромных размерах. Я сам не одобряю, если человек разжигает в себе большой аппетит: не при капитализме, слава богу, живем, ихние нравы нам не по климату — мы понемножку, в пределах законности!
— Вот честное слово, — говорит Коростелев, беря пресс-папье, — сейчас запущу.
— Ну что вы наделали, Дмитрий Корнеевич? Зачем согласились на предложение чкаловцев? Поручили бы мне… Их бы поманежить хорошенько, а потом предъявить меморандум: рабочая сила — силой, а кроме того, будьте любезны для наших служащих свининки, меда, то, се… У них меду — залейся, они же богачи, Дмитрий Корнеевич, миллионеры, а вы с ними церемонитесь!
— Слушайте, Лукьяныч, — говорит Коростелев, — если я узнаю, что вы что-нибудь вымогаете…
Он умолкает, не договорив: девушка-счетовод за соседним столом навострила ушки, помбухгалтера перестала крутить ручку арифмометра, прислушиваются к разговору… Не надо конфузить старика. При всех пережитках капитализма в сознании, Лукьяныч — великий специалист.
Поздно вечером Коростелев вернулся домой. Еще издали увидел — все три окошка ярко освещены. Обыкновенно в это время мать и бабка уже спали, умаявшись за день.
Коростелев мог бы жить в совхозе, но по холостяцкому своему положению предпочитал пока оставаться у матери на обжитом месте, где все подано-принято, не нужно думать о стирке, топке, стакане чая и прочей такой ерунде…
Бабка встретила Коростелева в сенях.
— В честь чего это у нас такая иллюминация? — спросил Коростелев.
— Гость тебя дожидается. Часа три уже сидит, байки рассказывает.
— Какой гость?
— Приезжий. Фамилию не разобрала.
Гость, услышав разговор, вышел в сени со словами:
— Дмитрий Корнеевич? Очень рад, будем знакомы: Гречка Иван Николаевич.
— Очень рад, — сказал и Коростелев, впотьмах пожимая гостю руку.
Вошли в горницу, на свет, и Коростелев был поражен великолепием гостя: на груди его сияли и переливались десятка два орденов и медалей. Левая щека была прорезана наискось глубоким шрамом, у левого уха не было мочки. Лет гостю было на вид не более двадцати пяти.
— Садитесь, будьте любезны, — сказал Коростелев.
На столе была постлана чистая скатерть, стояла еда.
— Я их просила кушать, — сказала бабка, — они отказались, ждали тебя.
— Покушать, бабуся, мы успеем, — сказал Иван Николаевич Гречка. Самое главное, бабуся, не угощение, а взаимопонимание и товарищеская поддержка между передовыми людьми. Вы согласны? — обратился он к Коростелеву.
— Да, поддержка — хорошая вещь, — ответил Коростелев, вспомнив сегодняшнее бюро.
— Я вам расскажу один случай, — сказал Гречка.
И рассказал, как часть, в которой он служил, вовремя пришла на помощь партизанскому отряду, теснимому фашистами, и как от этого худо было фашистам и хорошо нам. Лицо у Гречки было веселое, круглое, простодушное, шрам не портил его. Все, что Гречка говорил и делал, получалось складно, приятно — как надо. «Хорош парень, — подумал Коростелев. — Каким ветром его к нам занесло?»
— Издалека приехали? — спросил он.
— Из Белоруссии, — ответил гость. — Из замечательной страны Белоруссии. Председатель колхоза имени Сталина. Уходил на войну бригадиром молодежной бригады, только и всего; вернулся — избрали председателем. Такие в нашей судьбе на каждом шагу бывают чудеса… А порушили проклятые — всё как есть! Оставили голую местность и колодцы с трупами. Каждый дом, каждое строение ставь с самого начала. Сейчас ничего, туда-сюда, отдышались, самым главным обзавелись, государство сильную дает поддержку! А было такое — выйдешь, понимаешь, на пахоту, а пахать нечем! И сотни глаз смотрят на тебя — вдовьи глаза, сиротские глаза: указывай, мол, что делать, подавай выход из положения… Эх! Дмитрий Корнеевич, я вам расскажу один случай…
И Гречка рассказал десять случаев из жизни колхоза, где половина людей полегла в борьбе с оккупантами, а другая половина после победы вернулась на пепелище и стала восстанавливать родное хозяйство.
— Дмитрий Корнеевич, ты человек не бездушный. Я думал, откровенно говоря, что ты бездушный человек, а у тебя вон слезы на глазах!
И у самого Гречки были слезы на глазах.
— На каком же ты основании думал, что я бездушный человек? — спросил Коростелев.
— Я тебе писал, и ты не ответил.
— Ты мне писал?
— Брось! Не говори, что не получал. Почта работает — будь спокоен. Ты получил письмо и не ответил. Я тебя очень ругал, вот откровенно говорю. Даже на собрании ругал, и люди высказывались не в твою пользу. Откровенно говорю! Ну, ответил бы, что не можешь. А ты мое письмо, от сердца написанное, — в корзинку, да?
В совхоз иногда приходили письма от колхозов. Колхозы писали все об одном и том же — нельзя ли, минуя формальности, приобрести у «Ясного берега», из прославленного его скота, племенного бычка. Коростелев вначале прочитал пару таких писем, потом велел переправлять колхозную корреспонденцию Иконникову — и забыл о ней. Очевидно, среди этой корреспонденции, которой он даже не видел, было и письмо Гречки.
Гречка говорил, похлопывая Коростелева по плечу:
— Бюрократ, думаю, собачий… И хотел с тобой поговорить очень крупно! Когда смотрю — а у тебя дом хуже, чем у моих колхозников, и хорошие книги на полочке, и бабуся про тебя немножко проинформировала… Тут я понял, что ты мне друг и между нами чистое недоразумение.
— Из всего этого делаю вывод, — сказал Коростелев, — что приехал ты с крупным мероприятием.
— У нашего колхоза мелких мероприятий не бывает, — сказал Гречка. — У нас те масштабы!
— Догадываюсь, — сказал Коростелев. — Видать, не прогадал колхоз, что выбрал тебя председателем.
Гречка чистосердечно рассмеялся:
— Обижаться не могу: приду к человеку лично, поговорю по-хорошему отказа нет ни в чем. Уважают люди Гречку…
— И ко мне, значит, пришел лично.
— И к тебе лично. Выкроил недельку — мы в основном отсеялись — дай, думаю, съезжу, поругаюсь, объясню положение. Опять не получилась ругань, а получился приятный разговор… Эта твоя бабуся очень развитая. Мы тут без тебя даже об астрономии беседовали.
— Да, она у нас сильная по части наук.
— Вот-вот. Приятно у тебя. Одно плохо — молодой хозяйки нету. Без молодой хозяйки дом не дом, и радость не радость. Извини за такой нескромный вопрос: сердечная неувязка, или же просто не выкроил время жениться?
— Не выкроил время. Почти четыре года был на передовых.
— Я все же выкроил.
— И удачно?
— Грех обижаться.
— И потомство уже есть?
— Ожидаем через три месяца.
— Молодец, честное слово, — сказал Коростелев с невольной завистью. Мысленно представил себе, какая жена у Гречки: должно быть, высокая, полная, с походкой павы; почему-то вообразилась она ему в одежде с пышными рукавами, расшитыми богатым цветным шитьем, и с белым платочком в отставленной руке.
— Алена Васильевна звать мою супругу, — сказал Гречка. — И знаешь, друг, я тебе рекомендую немедленно привести в порядок любовные дела и построить семейный очаг как таковой. Со всех точек зрения — в высшей степени отрадно для души.
Коростелев не сказал ему, что любовных дел у него нет и нечего приводить в порядок. Время от времени он влюблялся: вдруг приглянется какое-то молодое лицо, померещится, будто сердце не на месте… Ходит тогда Коростелев задумчивый, напевает что-нибудь подходящее к случаю, вроде: «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить», и мечтается ему — вот это, должно быть, то самое и есть: вот сейчас от встречи к встрече, с сладостной постепенностью, шаг за шагом будет приближаться к нему существо, которое станет всех ближе и пройдет с ним рука об руку жизненный путь… Но пролетит в повседневных делах неделя, другая, и тускнеет в воображении Коростелева приглянувшееся лицо, и любовные мысли вытесняются другими мыслями, и недоумевает Коростелев: что это взбрело ему в голову? Ну, милая девушка — кругом милые девушки — с чего вообразил он, что именно она — та одна-единственная?.. Молчит сердце. И девушки как-то не придавали значения его взглядам и намекам — должно быть, чувствовали, что это не всерьез, что сердце его еще никого не облюбовало. Может быть, потому и не ответила ему на письмо та золотистая из Белостока… Не сказал Коростелев этого Гречке: что тут говорить, чем хвалиться?
— Да, живуч человек, — после молчания задумчиво сказал Гречка. Давно ли гроза над головой прошла — всем грозам гроза! — и уже хлеб посеян, хаты отстроены, на окнах занавесочки — умиление и гордость смотреть! И уже, понимаешь, песни поют, свадьбы справляют, загадывают о будущем… Вот недавно совещались наши животноводы, вынесли постановление создать чистопородное колхозное стадо, как тебе покажется?
— Хорошее постановление.
— Понимаешь, такое стадо, чтоб сердце радовалось… Думаем взять курс на холмогорок.
— У нас холмогорок тоже чтут.
— Стоящая коровка.
— Еще бы. И удои, и жирность.
— Очень нам подходящая коровка. За этим я к тебе и прибыл, Дмитрий Корнеевич.
— Вот уж тут не знаю, как тебе помочь.
— Да что ты! Директор совхоза! Кто же знает, если не ты! Брось!.. С кредитами у меня в порядке, документы — пожалуйста, имею все основания… Только давай договоримся, чтоб самый высший сорт. Не второй, и не первый, и даже не элита, а элита-рекорд.
— Сдавали мы и второй, и первый, и элиту, — сказал Коростелев. — И все сдали.
— Из сверхпланового поголовья.
— Из сверхпланового тоже отпустили. Дополнительный наряд был. Для Украины.
— Давай в счет плана сорок шестого года.
— Не могу.
— Почему не можешь?
— Как будто порядка не знаешь, Иван Николаевич. Тебе полагается действовать через свою племконтору. Как люди делают? Едут на свой пункт, получают по разверстке, что им занаряжено. А ты вон куда заехал!
— Друг, — сказал Гречка, положив Коростелеву руку на колено, — я уважаю порядок. Я свою деятельность после Великой Отечественной войны посвятил тому, чтоб восстановить в моем колхозе образцовый социалистический порядок. Мы тут с тобой полностью солидарны — и кончили с этим вопросом. Есть моменты, когда нельзя подходить формально. Мы, фронтовики, это понимаем. И в данном случае нельзя подходить формально. Колхоз-боец. Колхоз-герой. Нахлебались люди горя — выше головы! Вот я тебе еще расскажу случай. — Гречка рассказал случай. — Что они, по-твоему, не заработали элиту-рекорд?
— Да это ясно, что заработали, — сказал Коростелев, колеблясь. «Надо трест запросить», — подумал он. Но вспомнил холодное лицо Данилова, его маленький высокомерный рот с поблескивающим золотым зубом, чопорную выправку — «не разрешит Данилов».
— Скажешь, власти у тебя мало? Ты же единоначальник. И о чем разговор, я не понимаю. Две телочки. — Гречка показал два пальца.
— Телок вообще не сдаем, только бычков.
— Бычками обеспечен. Нет, уж уважь, телочек дай.
— Две — никак.
— Никак?
— Две — это совершенно даже не деловой разговор.
— Двух не заработали, значит. — Гречка горько покачал головой.
— Я тебе дам дочку Брильянтовой, — сказал Коростелев, — и больше ты не проси. Лучше этой телки у нас нет.
Он встал, пораженный собственной щедростью, и прошелся по комнате.
— Это, знаешь, я замахнулся по-царски.
— Вижу на твоем лице мучительное сомнение, — сказал Гречка. — У тебя нет в характере такой черты — идти на попятный?
— Нет, — гордо сказал Коростелев. — Нет у меня такой черты.
«Данилова поставлю перед фактом, найдет способ оформить как-нибудь задним числом. В конце концов, я действительно единоначальник, а это дело политическое; так и скажу Данилову, что политическое. Колхоз-боец, председатель — весь в орденах… и что за парень к тому же!»
Серел в окнах рассвет. Бабка давно ушла спать, постелив гостю на сундуке. В кухне на полатях шевелилась и позевывала Настасья Петровна, мать Коростелева, — ей скоро время подниматься и идти на работу.
— Отдыхай, — предложил Коростелев. — Тебе постель приготовлена.
— Не хочется, — сказал Гречка. — На фронте казалось — за всю жизнь не отосплюсь, а теперь что-то не тянет спать. А накурили мы с тобой!..
Они пошли пройтись. Еле-еле разгорался над улицами рассвет, он был студеный, весенний, а Коростелев и Гречка шли в одних гимнастерках, без фуражек. Никто не повстречался им в этот час, звонко стучали по деревянным мосткам их подкованные каблуки. На чистом холодном воздухе дышалось легко, вольно.
— Когда можно забирать? — спросил Гречка.
— А когда хочешь, — сказал Коростелев. — Хоть завтра, то есть сегодня, — завтра уже наступило.
— Да, желательно сегодня, — сказал Гречка. — Я с дневным поездом думаю ехать.
— Домой?
— Да нет, еще не домой, еще в Вологду по делу съездить нужно.
«Знаю, по какому делу тебе нужно в Вологду, — подумал Коростелев, взглянув в простодушное, весело усмехающееся лицо Гречки. — Приедешь в другой совхоз, и так же будешь рассказывать истории и плакаться на бедность, и выплачешь самых лучших телок для своего породного стада. Да, лихой председатель! Орел, а не председатель! Держу пари, что ты уже наладил дела в своем колхозе: сам проговорился, что у твоих колхозников дома лучше моего… А не дать ли тебе вместо дочки Брильянтовой просто хорошую холмогорку?»
Но тут же ему стало стыдно, что он собирается обмануть заслуженного человека, с которым только что познакомился. Так и быть, пусть дочка Брильянтовой едет в Белоруссию, в партизанский колхоз.
— У вас тоже ничего местность, — сказал Гречка, — только плохо, что мелколесная.
— Что ж, что мелколесная, — сказал Коростелев. — Вот я тебе речку покажу. Таких видов нигде нет, я, по крайней мере, не встречал. А роща у нас!.. Наш город на всю область славится красотой.
Рассвет разгорался над длинной улицей, из всех труб навстречу ему поднимались прямые веселые дымки. Рассвет был сначала пепельным, потом розовым, потом малиновым — и вот брызнуло солнце на речку, на рощу, на город, славящийся красотой.
Глава вторая РЕЧКА, РОЩА И ГОРОД
Речка не широкая, не знаменитая, но веселая, светлая речка. В ней водятся и щука, и лещ, и окунь, и плотичка. Старики и мальчишки азартно занимаются рыболовством.
Речка течет не прямо, извивается, местами ивы растут на берегу, вода под ивами бутылочно-черная, в ней всплывают скользкие, холодные коряги. Прибрежный песок чистый, желтый, словно вдоль речки провели полосу охры.
В речке купаются, в речке стирают, у речки объясняются в любви. Речка — радость, забава и поилица: она дает воду в город, в совхоз, на поля сельскохозяйственной опытной станции.
Левый берег низкий, его широко заливает в половодье. На заливных лугах косят богатую траву и складывают сено в стога. Пестрые коровы пасутся там и подходят к речке напиться. Золотой пар стоит над левым берегом.
На правом, высоком берегу лежит город. С восточной стороны его полукрылом обнимает роща.
Весной ходят девушки в рощу по ландыши, летом — по ягоды, осенью — за грибами, подосиновиками и подберезовиками, и за осенними красными, бронзовыми, золотыми листьями, из которых такой красоты составляются букеты.
Нет для наших девушек забавы милее, как собирать ландыши. Идешь по сплошным ландышевым листьям, крупным, светло-зеленым и прохладным. А цветов мало: словно только что кто-то прошел здесь и все сорвал. Но опустишься на колени, нагнешь голову пониже, глянешь снизу и сбоку, и увидишь: тут, и там, и там, — ах, у самых колен твоих, у самой руки! везде, везде, спрятанные под листьями, светятся жемчужные шарики ландышевого цвета! Вся поляна в жемчугах, протягивай руку, набирай полную корзинку!
Медовыми кистями покрывается черемуха. Зацветает розовый шиповник. Кукушка сулит тысячу лет жизни. Город справляет новую весну.
Жителей в городе немного, но территорию он занимает большую. Посреди города — мостовые, электрические фонари и каменные дома, некоторые в два этажа, а один даже в три. В трехэтажном доме помещаются самые главные учреждения. Перед домом площадь со сквером. Незадолго до войны школьники посадили здесь деревца, эти деревца еще молодые, сквозные, от них идет прозрачный шелест, легкая сетка теней и солнца движется по дорожкам. Посреди сквера стоит памятник Герою Советского Союза Александру Локтеву, погибшему в Отечественную войну. Этот Александр Локтев — Шура, Шурка Локтев — был один из школьников, сажавших деревца. Небольшой медальон с его портретом вставлен в обелиск, и молодое лицо смотрит на людей, приближающихся к обелиску.
Вокруг сквера расположены: Дом культуры, редакция газеты, ветеринарный техникум, поликлиника и почта. На почте есть кабина для междугородных разговоров по телефону.
Это посреди города. А кругом расходятся длинные, длинные, широкие улицы, немощеные, с деревянными тротуарами, с просторными дворами, садами и огородами. Одни домики смотрят на улицу, другие прячутся в садах. В каждом домике жило много поколений, о каждом можно рассказывать долгие истории…
Каких только названий не носят улицы: Коммунистическая, Социалистическая, Октябрьская, Первомайская. Есть Большая Московская и Малая Московская, хотя по величине они совершенно одинаковы; есть улица Пушкина и улица Лермонтова. Город выбирает самые высокие и звучные наименования. Проспект Физкультуры, площадь Коллективизации, улица Первой Пятилетки, улица Второй Пятилетки… Не забыта и наука: улица, на которой находится электростанция, носит имя Яблочкова, а группа домиков возле опытной станции именуется Тимирязевской слободкой.
По городу ходят автобусы, моложаво выкрашенные в голубую краску; они же привозят приезжих со станции. Учреждения владеют автомобилями: райком и исполком, например, имеют по «газику», совхоз располагает грузовыми машинами и одной «эмкой». Экипажи на улицах можно увидеть всякие, не то что в больших городах: докторша ездит к больным в высокой бричке, редакция перевозит бумагу на низенькой линейке… А у начальника милиции есть мотоцикл. Со страшным треском, кренясь и дрожа, пролетает он в вихре пыли, куда более громкий, чем спокойные, деловитые «газики». Пролетает, и пыльный вихрь успокаивается, оседая тонким слоем на прорытые вдоль улиц канавки, поросшие ромашками.
Все в городе начинается со слова «рай»: рай-исполком, рай-собес, рай-финотдел. Самый город называют: райцентр. И весной, когда улицы заносит белыми лепестками и пухом и воробьиным чириканьем заглушено щелканье счетов в райзаготконторе, — кажется, что это действительно рай.
Глава третья НЕЛЕГКО БЫТЬ ДИРЕКТОРОМ
Дежурная телятница, по приказанию директора, вывела из стойла Аспазию, дочь Брильянтовой. Здесь же, в служебном помещении, огороженном дощатой стеной, Гречка и Коростелев составили акт о передаче Аспазии колхозу имени Сталина. Обменялись расписками. Фырча, подошел к телятнику грузовик. Аспазия резво выбежала во двор, ее погрузили, Гречка обнял Коростелева, сказал: «Друг, никогда не забуду твоей услуги. Пиши!», ловко вскочил в кузов, стукнул шоферу — и грузовик укатил.
Коростелев посмотрел ему вслед. «Это я правильно сделал, — подумал он, — только надо скорее оформить, чтоб была, как говорит Лукьяныч, полная ясность картины».
Во дворе Степан Степаныч, скотник, обучал молодых скотников из колхоза имени Чкалова, как обращаться с норовистым быком Фотографом. Две недели назад скотники привели Фотографа к Степану Степанычу и попросили: возьмите на время, дайте ему направление, не желает ходить в упряжке! Теперь скотники пришли снова, и Степан Степаныч наставлял их:
— Никогда сразу не становьте буйного быка в упряжку, а раньше приучите его к мысли, что он куда-то такое в обязательном порядке должен ходить. Я что сделал? Я его прямо вот так, за кольцо, стал водить на водопой за триста метров от двора. Он походил три дня по три раза и привык. Потом стал его приучать к запряжке. А как именно? Смотри: вставляю в кольцо водило, на водило надеваю подпругу, так? Теперь скрозь эти боковые кольца пропускаю вожжи и прикрепляю к носовому кольцу. И ваших нет. Можем запрягать. Держи концы вожжей, а ты — конец водила. Теперь вводите его, сатану, в оглобли. Запрягайте, запрягайте, не бойтесь! Давай одевать хомут! Теперь седелку! Затягивай, не обращай на него внимания! Так. Видишь, сам пошел: что значит привычка. Привык, что уж коли запрягли, то идти надо. Я на нем уже возил. Только по первому разу тяжело не грузите: помаленьку. Я приучал, начиная с трех центнеров. Сейчас берет полтонны. Потом можете довесть до восьми центнеров смело. Ну, забирайте, пользуйтесь на здоровье!
Быка повели со двора. Степан Степаныч подошел к Коростелеву и поздоровался.
— Хорошее дело делаете, — сказал Коростелев.
— Молоденькие, — сказал Степан Степаныч, — опасаются взяться за быка… Куда это телку повезли?
— На станцию, — небрежно ответил Коростелев и пошел в контору, к Иконникову.
— Иннокентий Владимирович, — тем же нарочито небрежным тоном сказал он, — надо будет документы телки Аспазии перевести вот по этому адресу.
Иконников взял протянутую бумажку и прочитал.
— Что это? — спросил он.
— Адрес, по которому надо послать документы.
— Зачем?
— Мы им продали Аспазию.
Иконников недоумевающе поднял белые ресницы.
— Разве было распоряжение треста?
— Это мое распоряжение, — сказал Коростелев и вышел. «Объясняться буду с Даниловым…»
Ему навстречу шел Бекишев, секретарь партбюро. По глазам его Коростелев понял, что он уже знает об Аспазии. «И Бекишеву доложили. Экое событие — из трехсот телок продали одну». Закуривая папиросу, Коростелев с вызовом остановился, поджидая Бекишева.
«Если он сделает мне замечание, я ему напомню, кто здесь директор».
— Вы свободны? — спросил Бекишев.
— Нет, — ответил Коростелев, — не свободен. Еду на вторую ферму с агрономом. А вас попрошу передать в бухгалтерию этот акт. — Меньше всего ему сейчас хотелось встречаться с Лукьянычем.
— Этот акт… — начал было Бекишев.
— Виноват, — сказал Коростелев. — Некогда, вы передайте, главный бухгалтер разберется. — (Приближалась Муза Саввишна, агроном, милая женщина, которая знала только свое дело и ни во что не путалась.) — Муза Саввишна, жду вас, поехали!
Во дворе, поодаль от конторы, кучкой стояли работницы, разговаривали. Обернулись и смотрели на Коростелева, пока он с Музой Саввишной шел к бричке. Понятно — говорили об Аспазии.
Шестой месяц Коростелев руководил совхозом.
Сказать по правде, ему приходилось нелегко. Направление работы ясно. Но настанет день, и перед директором множество разнообразных забот, больших и малых. По новизне не сразу и разберешься, которая большая, которая малая. Скажешь: «Ну, это мелочь!», а тебе в ответ: «Нет, Дмитрий Корнеевич, не мелочь» — и докажут, что не мелочь; получается, что мелочей-то вовсе нет, все важное, и ты не знаешь, за что взяться сейчас, а за что после обеда, куда послать подводы в первую очередь, а с чем можно повременить.
Постепенно до Коростелева дошло, что в один день — будь ты семи пядей во лбу — всего не переделаешь и что нельзя разбрасываться, — получается не лучше для хозяйства, а хуже. Из множества практических задач, которые стоят перед тобой сегодня, надо выбирать главную и на ее решение мобилизовать главные силы. Но в то же время держать в поле зрения все хозяйство, чтобы не проморгать эту главную сегодняшнюю задачу.
Как же сделать, чтобы не проморгать? Коростелев думал, думал — и придумал как.
В первую декаду каждого месяца он обходил все участки первой фермы, во второй декаде обследовал вторую ферму, в третьей декаде выезжал на третью. И так каждый месяц. Он боялся, что на фермах скоро разгадают эту нехитрую схему и будут специально готовиться — каждая ферма к своему сроку, — чтобы он не застал их врасплох. Но никто не догадывался, его ревизии всегда казались неожиданными. Посмеиваясь, он хранил свой маленький секрет.
Обходы давали Коростелеву полное представление о том, что делается в совхозе. Он брал с собой то Музу Саввишну, агронома, то Бекишева, то Лукьяныча. После обхода собирал работников фермы и устраивал совещание. На совещаниях бывало то, что Бекишев называл «довести до сознания людей», а Коростелев называл «накрутить хвосты» и «дать жизни».
Теперь он иначе прочитывал ежедневные рапорты с ферм. Читал и говорил: «А навоз-то вчера опять не возили, я ж им велел!..» и посылал кого-нибудь немедленно наладить вывозку навоза на поля.
Многому научился Коростелев за пять месяцев.
Первое время он со всеми людьми обращался так, словно был командиром батальона, а кругом его солдаты и младшие офицеры. Потом понял, что с разными людьми надо обращаться по-разному, если хочешь, чтобы каждый работал в полную меру своих способностей. Одному достаточно сказать по-деловому: «Действуй так-то и так-то», и он действует. Другого позови к себе в кабинет, усади, похвали за работу, спроси, как детки, — он для тебя все сделает. Третий любит, чтобы ты зашел к нему на квартиру и откушал его хлеба-соли. Четвертого надо передать Бекишеву, чтобы тот прочитал ему небольшую лекцию о текущем моменте. Пятый — попадаются еще такие — хороших слов не признает, ему подавай обязательно слова, которые не для детского чтения; ты ему пяток таких слов, он тебе в ответ десяток — удовлетворил душу, получил свою зарядку бодрости и пошел работать так, что смотреть любо.
Самый трудный человек — Лукьяныч. В детстве Коростелев считал его добрым стариком и не подозревал, что у него такой тяжелый характер.
— Лукьяныч, — говорит Коростелев, — дайте тысячу рублей.
— Куда вам? — спрашивает Лукьяныч.
— Тес подворачивается по случаю, нужно купить.
— Будьте любезны, пусть они выпишут счет, оплатим через банк.
— Они хотят только наличными.
— Мало ли чего они хотят! — говорит Лукьяныч. И хоть кулаками стучи, хоть на колени стань — не даст ни копейки.
— Лукьяныч, — говорит Коростелев, — дайте пятьсот рублей.
— Куда? — спрашивает Лукьяныч.
— Пошить попонки для телят. В профилакторий.
— У вас же там одеяла есть.
— Износились. Телятница считает — чем покупать новые байковые, лучше стеганые пошить. Небольшие: вот. — Коростелев подсаживается к столу Лукьяныча и руками показывает, какой величины попонки.
— Так. Ну-с, и почему именно эта сумма? Из какого расчета?
— Считайте. Десять попонок. Берем дешевый материал — ситец.
— Берем ситец. — Лукьяныч прикидывает на счетах.
— Теперь подкладку.
— Подкладку.
— И вату. И пошить.
Лукьяныч перебрасывает костяшки — получается действительно пятьсот рублей.
— А матрасиков стеганых не будем делать телятам? — спрашивает он, глядя на счеты.
Коростелев начинает закипать.
— Если понадобится, сделаем и матрасики.
— Сделать все можно. Только кто утвердит мне расход. Нет такой статьи по смете.
— По другой статье проведем.
— А вот это — я вам уже сто раз говорил — финансовой дисциплиной запрещено категорически.
— Когда вам нужно у кого-нибудь вытянуть для себя… — говорит Коростелев недобрым голосом.
— Прибавьте: и для наших служащих, — хладнокровно вставляет Лукьяныч.
— …тогда вы не думаете, по какой статье это проведут, скажем, в колхозе Чкалова.
— А с какой стати я буду за них думать? Это пусть у них голова болит. Я отвечаю за себя. Вы, с вашей неопытностью и с характером вашим, завтра, может быть, по случаю цельную домну пожелаете купить, а мне райфо голову оторвет.
— Вы мне руки связали, — говорит Коростелев. — Я с вами не могу работать!
— Дмитрий Корнеевич. Я — мать, вы — дитя. Я вас обязан, где опасное место, взять за ручку и отвести. Вы знаете, что такое совхозный бухгалтер?
— Если директор не имеет права приобрести паршивые попоны для телят, — говорит Коростелев, все повышая голос, — тогда ну вас к черту, хозяйничайте сами!
— Постойте. Скажите, что такое, по вашему мнению, совхозный бухгалтер. Знаете, что обо мне сказал один член правительства?
Как ни взбешен Коростелев, ему все-таки интересно узнать, что сказал о Лукьяныче член правительства. Он начинает слушать.
— Член правительства выразился так: главный бухгалтер, который много лет проработал в совхозе, годится в качестве главного бухгалтера на лю-бо-е промышленное предприятие. Вот как мы котируемся. И, собственно, если посмотреть — наше хозяйство действительно самое сложное…
— Я думал — он лично о вас сказал.
— Нет. До такой известности я не дожил и не доживу. Матушка ваша достигла известности, вы, возможно, достигнете, от души вам желаю… а меня даже в Книгу почета никогда не запишут.
— Почему?
— Потому что для этого надо, чтобы не только я, но каждый человек в совхозе, от директора до тракториста включительно, проникся чувством финансовой ответственности; чтобы он умел учитывать свою работу не только количественно, но и с точки зрения — во что эта работа обошлась государству. А при социализме такой постановки дела мы еще, к сожалению, не добились. Разве что при коммунизме, Дмитрий Корнеевич, при самом полном и развернутом коммунизме будет так, что трактористка тут тебе и пашет, тут тебе и калькулирует…
— Ладно, — говорит Коростелев, — ближе к делу. Либо пускай телята гибнут, либо давайте пятьсот рублей.
— И телята не погибнут, и пятьсот рублей не дам, — говорит Лукьяныч. — А одеяла вы к вечеру получите, хоть байковые опять же, но зато бесплатно, так и матушке передайте вместе с моим почтением.
После работы Лукьяныч идет в детский сад и вместе с заведующей и кастеляншей производит выбраковку одеял. Десяток одеял, какие похуже, он списывает по акту и велит кастелянше снести Настасье Петровне Коростелевой — «вместе с моим почтением». Заведующей детсадом он говорит:
— Зайдете, я вам выпишу денег на новые одеяла, есть такая возможность по смете.
И уходит с победоносным выражением, по пути ущипнув за щечку какого-то малыша и сказав: «Это чей же такой?.. Ну, играй, играй!»
Его ценят в тресте, потому что он раньше других бухгалтеров сдает годовой отчет. Рабочие его любят, потому что он не задерживает зарплаты: что б там ни было, Лукьяныч ляжет костьми, но выдаст зарплату точка в точку пятнадцатого числа.
Вечером того дня, когда Гречка увез Аспазию, в контору к Лукьянычу зашла Настасья Петровна, телятница.
— Директор не приехал? — спросила она. Коростелев был ее сын, дома она звала его Митей, а при посторонних — директором.
— Не видать пока, — ответил Лукьяныч и, встав, придвинул ей стул. Что ж это вы, Настасья Петровна, опытный работник, и не уберегли сына от неприятностей.
— Спала на печке, — сказала Настасья Петровна, — спала и сны видела, и не приснилось мне, о чем они там сговариваются. Что Марьяша пишет?
— Скоро будет Марьяша. В середине мая начинаются выпускные экзамены в начале июля дожидаем домой. Теперь, считайте, все наши детки на ногах. Однако удивил нас нынче Дмитрий Корнеевич. Мы с вами тут с первого дня, и не бывало такого случая.
— Меркулов бы его простил, — сказала Настасья Петровна. (Меркулов был заместитель Данилова, возглавлявший трест в дни войны, пока Данилов был в армии.) — Данилов не простит. Страшно не любит, чтоб нарушали порядок.
— Да посудите: если мы телок, предназначенных для ремонта стада, начнем раздавать направо и налево…
— Молодой, — сказала Настасья Петровна. — Не видел, как оно все трудно созидалось и как трудно было в войну уберечь. Он в первый класс пошел, когда начиналась первая пятилетка. Они с детства привыкли, что там новый завод пущен, там канал построили, там сто новых МТС; им кажется, что всегда так было и никакой тут трудности нет.
— Предлагаешь ему иной раз проявить самую невинную инициативу, сказал Лукьяныч с досадой, — в целях повышения материально-бытового уровня, так он слышать не хочет. А тут на — такую отмочил штуку, что вплоть до министерства…
Отворилась дверь, и вошел Коростелев. Он услышал последние слова Лукьяныча, нахмурился и, не останавливаясь, прошел в свой кабинет.
— Зайдете к нему? — спросил Лукьяныч.
— Дома поговорю. Расстроенный пришел…
— Ну, а я зайду! — сказал Лукьяныч воинственно.
Он приоткрыл дверь кабинета.
— Можно?
— Да? — спросил Коростелев. Он стоял в шинели и фуражке, собираясь уходить, и читал рапорты, которые в его отсутствие были положены ему на стол.
— Дмитрий Корнеевич, — сказал Лукьяныч, — я по поводу этой телки.
— Деньги за телку поступили на наш счет? — спросил Коростелев.
— Поступили, но это не имеет значения…
— Только это имеет для вас значение, — сказал Коростелев. — За политическую сторону отвечаю я. Если вам мои действия кажутся незаконными — обращайтесь в прокуратуру.
Энергично запахнув шинель, он вышел. Но едва захлопнулась за ним громкая, на тугой пружине, дверь конторы, едва сделал десяток шагов прочь, как его окликнули:
— Товарищ Коростелев!
Его догонял Бекишев.
Бекишев приехал в совхоз в начале года. Небольшого роста человек, с лицом умным и спокойным, с большим открытым лбом, прямые русые волосы гладко зачесаны назад, и улыбка тихая, серьезная.
Они долго разговаривали в коростелевском кабинете. Коростелев с маху стал было говорить Бекишеву «ты», но тот упорно держался на «вы» пришлось перейти на «вы» и Коростелеву. Несмотря на это, с Бекишевым было легко, просто.
Бекишев рассказал о себе: был на фронте политработником, до войны учился в университете, окончил два курса биологического факультета.
— Решил учебу не продолжать?
— Буду учиться на заочном.
— Трудновато придется.
— Партия велела идти работать.
— Как тебя по имени-отчеству? — спросил Коростелев.
— Бекишев зовите, не выйдет по имени-отчеству, — улыбнулся Бекишев. И объяснил, что ему трудно запоминать имена-отчества и потому он всех будет звать по фамилии и его просит звать по фамилии. Так было, сказал он, и в университете, и в армии.
— Ладно, давай так, — сказал Коростелев и поправился. — Давайте так, товарищ Бекишев.
— У меня просьба, — сказал Бекишев. — Дайте мне практически работать в совхозе.
— Найдешь время?
— Найду.
— Это ты правильно, — сказал Коростелев. — Заочный плюс практика через три года будешь специалист. На первой ферме вакантная должность зоотехника, раньше чем к осени все равно никого не дадут — приступайте.
— Хорошо, — сказал Бекишев.
И начал работать, обращаясь за советами к Иконникову и к рабочим. Ему было трудно, выражение серьезной озабоченности редко сходило с его лица. Только когда улыбался — исчезало это выражение, и лицо вдруг озарялось добрым молодым светом.
По рекомендации райкома его выбрали секретарем партбюро. Коростелев присматривался: работает человек без звона, а работа видна. Возобновилась партучеба, совсем было заглохшая. В общественной жизни оживление, даже Иконников — и тот включился, читает в красном уголке лекции.
К Бекишеву приехала жена. Она смуглая, красивая, смешливая, с проседью в пышных темных волосах. От паспортистки стало известно, что она на восемь лет старше Бекишева. По этому поводу возникли разговоры и споры. Одни находили, что нехорошо, когда жена старше мужа. Другие считали, что для любви паспортные данные безразличны. Некоторые девушки высказались в том смысле, что только молоденьких можно любить и только молоденькие должны выходить замуж, а пожилая женщина должна знать свое место. Пожилые возражали: еще что!.. Те же девушки, когда стало известно, что жена Бекишева была на фронте медсестрой, сочинили трогательную историю: эта женщина спасла Бекишеву жизнь, он на ней женился из благодарности. Так им этот брак казался понятнее, и они примирились с ним.
Было замечено, что Бекишев с женой живут дружно, всегда вместе бывают в кино, и когда идут вдвоем по улице, то она что-то ему рассказывает, смеясь и на ходу заправляя под меховую шапочку свои пышные волосы, а он слушает с улыбкой, и глаза у него блестят по-особенному. Она поступила в городскую поликлинику и через день ходила на дежурства, а в свободные дни стирала белье, мыла пол в своей квартире, шила и стряпала — работала не покладая рук. Это расположило к ней поселковых женщин, они стали проведывать ее и заводить с нею сердечные женские беседы. Но когда приходил Бекишев, то гости уходили, потому что он садился заниматься: на столе у него стопками лежали тетради и книги, и все знали, что он заочный студент.
«Он средних способностей человек, — думал о нем Коростелев, — звезд с неба не хватает, все ему трудом дается, как и мне. Вон как живет: в шесть утра уже на ферме, а уходит позже всех. И еще зачеты сдает. Работяга, и честный, и толковый, очень нам подходящ в нашем деле». Себя Коростелев тоже считал заурядным человеком, но это его не огорчало: он был уверен, что при большом желании, напрягши силы, человек самых средних способностей может добиться чего угодно.
— Вы домой? — спросил Бекишев.
— Да.
— Я вас немного провожу.
Он пошел рядом. Коростелев посмотрел на него искоса, сверху вниз, Бекишев был ростом ниже.
— Ну, вот что, — сказал Коростелев, — если у вас есть что сказать по данному поводу, то я вас слушаю.
Бекишев взглянул серьезно.
— Я не понимаю вашей иронии.
— Я без иронии. И заранее знаю, что вы скажете.
— Я не собирался говорить вообще. Я думал — вы мне скажете.
— Что скажу?
— За сегодняшний день не меньше двух десятков человек подошли ко мне и спросили — куда увезли телку.
— Контроль?
— Да, если хотите — да. Коллективный контроль.
— Где же тогда начинается единоначалие?
— Единоначалие в том, что коллектив выполняет ваши распоряжения, направленные к укреплению предприятия и к выполнению общенародной задачи.
— Я делаю то, что подсказывает мне моя партийная совесть.
— Не думаю, что ваша совесть сейчас вполне чиста.
Бекишев говорил очень спокойно, Коростелев — горячась и сдерживая гнев.
— Что же вы предлагаете? Конкретно. Затребовать телку обратно?
— Нет. Я думаю, это была бы вторая ошибка. Я бы выступил перед рабочими и честно сознался в ошибке, Чтобы они поняли, что ошибка произошла от… порыва, что ли, от желания помочь. Это признание повысило бы симпатии к вам и укрепило веру в вас.
— Если директор полностью несет ответственность за предприятие, может он управлять так, чтобы нигде, ни в чем не проявилась его личная воля?
— Этого я не знаю. Никогда не был директором. Думаю, что для коммуниста на первом месте долг, а уже на втором — его личная воля. Без этого ничего не было бы. И партии не было бы.
— Партия — это добровольное объединение многих воль во имя единой цели.
— И добровольное подчинение этих многих воль единому партийному долгу.
Бекишев говорил убежденно. Глаза его заблестели, лицо стало почти вдохновенным. «Ого! — подумал Коростелев. — В тебе, оказывается, вон какой огонь!»
— Большой у нас с вами разговор получился, — сказал Коростелев, — да повод для него больно мелкий. Не будем поднимать эту телку на принципиальную высоту.
Бекишев улыбнулся.
— Сама по себе телка как телка, конечно, не стоит того, чтобы поднимать ее на принципиальную высоту. Почему волнуются люди? Потому что речь идет о ценностях, доверенных нашему коллективу.
Коростелев остановился и взял Бекишева за плечи.
— Умный человек, — проще, проще. Речь идет именно о телке. О представительнице зоологического мира, понимаете? Четыре ноги и один хвост. Мы получили за нее ровно столько рублей, сколько она стоит. Вчера в совхозе родилось семнадцать телят, сегодня восемь. Всё. Вопрос исчерпан. Честное слово, я спешу. Я эту ночь глаз не сомкнул.
Он решительно попрощался с Бекишевым и направился домой.
Тося Алмазова не вышла-таки сегодня на работу. Если и завтра не выйдет — он отдаст ее под суд. Скоро все сядут ему на голову. Время показать, что такое директор. В ежовые рукавицы… А что касается телки, то о ней поговорят и забудут. Подумаешь — злоба дня…
В кухне ждала его мать. Она только что пришла и сидела на лавке в платке и ватнике, сложивши руки, как в гостях. Он молча повесил шинель на гвоздь. Сейчас и мать выскажется.
— Так и будем теперь хозяйствовать? — спросила она. — Что имеем, по людям раздадим, совхоз развалим? Может, и Бральянтовую присватал кому, желающие найдутся…
— Мама, спать хочу! — сказал Коростелев. — Самокритику выдавайте на собрании. — И заперся в своей комнате.
— Иннокентий Владимирович, — спросил он на другой день, — вы отправили документы в Белоруссию?
— Нет, — ответил Иконников, — не отправил.
— Долго тянете. Надо отправить.
Иконников придвинул листок бумаги.
— Будьте добры, напишите распоряжение.
— Вам устного недостаточно?
— Слишком ответственно, Дмитрий Корнеевич. Без письменного распоряжения не могу.
Коростелев взял перо и написал размашисто: «Тоз. Иконникову. Срочно. Перешлите документы телки Аспазии в колхоз имени Сталина, БССР, как новому владельцу. Адресовать на имя председателя тов. Гречки. Коростелев».
— Укажите, пожалуйста, точно: область, район.
— Я же вам дал адрес.
— Здесь, здесь укажите.
Иконников проводил директора озабоченным взглядом.
Кто его знает, этого Гречку, может, он от министра имеет разрешение. Уж наверно имеет какое-нибудь разрешение, если отпустили ему телку, не обращаясь к тресту. Не послать бумаги — могут выйти неприятности…
А если все-таки разрешения нет? Если директор распорядился самовластно?
Ответственность, ответственность, всюду ответственность. Никуда не уйти от нее. Сколько раз ему грозила опасность быть назначенным на директорское место. Директорское! Это же такая ответственность! Во время войны, казалось, уже не отговориться, не вывернуться; уже и броню ему исхлопотал трест, намереваясь посадить директором в «Ясный берег». Выручила военная конъюнктура: пригнали коров, вывезенных из Ленинградской области; приехал директор эвакуированного совхоза, властный старичок, который ни за что не хотел расстаться со своей ответственной должностью. К взаимному удовольствию, старичка оставили директором, а Иконникова старшим зоотехником. Директор сначала относился к нему настороженно, а потом убедился, что Иконников не зарится на его место, и стал относиться вполне благосклонно…
Война кончилась, старичок уехал в Ленинградскую область, довоенного директора «Ясного берега», после демобилизации, забрали работать в министерство. Новый директор, Коростелев, человек кипучий, ни на кого не сваливает ответственности. За таким директором можно жить как за каменной стеной… Но вот нынешний случай: пойди разберись, как поступить.
Будем рассуждать так: есть письменное распоряжение, и я, человек подчиненный, обязан его выполнить.
А на всякий случай — нелишне одновременно поставить в известность Данилова, директора треста.
«Уважаемый Иван Егорович! — пишет Иконников. — Сегодня Д. К. Коростелев вручил мне следующую записку…»
Он тщательно переписывает записку.
«Будучи вынужден исполнить это распоряжение, считаю, однако, долгом довести его до Вашего сведения. И. Иконников».
Вот так. Теперь, что бы ни было, с него не спросится. Он чист и перед совхозным начальством, и перед трестовским.
Досадно, когда такого рода беспокойства нарушают привычное течение дня.
Самую нелюбимую работу, составление рационов (нелюбимую потому, что она наиболее ответственная), Иконников всегда делает с утра. Легко было составлять рационы до войны, когда кормов было в изобилии, склады ломились от зерна, коровам задавались смеси концентратов, состоявшие из семи-восьми различных компонентов… Теперь, уж который год, концентраты выписываются только лучшим коровам, и то в ничтожных сравнительно количествах. Основные корма — сено, солома, корнеплоды, силос. Особенно трудно весной: корнеплоды съедены, солома осталась только пшеничная, непитательная. Вот тут и комбинируй.
С рационами покончено. Посветлев лицом, Иконников открывает свои любимые графленые книги.
Это книги учета. Медленно, смакуя, он записывает в них цифры удоев и жирности, номера и клички животных, промеры, сведения о породе и генерации и тому подобные вещи.
Приезжают представители из треста, из министерства. Им нравится старший зоотехник, они привыкли видеть его на этом месте, у него учет на высоте, немногие хозяйства могут похвастать таким учетом. Он открывает книги и, многозначительно подняв брови, сообщает последние данные о поголовье, удое и племенной работе.
И из уст в уста передается легенда о прекрасном работнике, совхозном летописце, которым следует дорожить.
Ну, а когда и с записями кончено, можно развлечься человеку развлечься, так сказать, в рамках своей служебной деятельности: придумать еще несколько кличек для животных. В прошлом году Иконников подбирал клички на букву «а», в этом году подбирает на «р».
Перед Иконниковым раскрыт словарь. Длинным белым пальцем левой руки, прямым и сплющенным, как линейка, Иконников ведет по столбцам сверху вниз, выбирая слова, которые ему нравятся. В правой руке у него карандаш.
— Речитатив, — шепчет он, шевеля правильно вырезанными губами. Ривьера. Рокамболь. (Ха-ха, это недурно — назвать бычка Рокамболем.) Ромашка. Рона.
Родится телочка, родится завтра, послезавтра или через месяц, а ей уж и кличка приготовлена.
— Где Рона?.. Рона. Ромашка. Телка Ромашка. Ромашка, дочь Рокамболя и Роны. Ха-ха!.. Рулетка. Русалка…
И никакой ответственности, и никто не спросит, почему Рулетка, почему Русалка; и мирно горит казенная лампа под зеленым абажуром.
Как и предвидел Коростелев, историю с Аспазией скоро забыли. Правда, на производственном совещании здорово покрыли директора, но его на этом совещании не было — уехал на третью ферму смотреть парники. А потом внимание людей отвлекли другие события. По всем бригадам начался сев, продолжался массовый расплод коров, овец, свиней, разбивали скот на гурты перед выводом на пастбища, пришла новая электропередвижка для кирпичного завода, Брильянтовая разрешилась двойней… Начисто забыта была Аспазия.
Однажды приехал Коростелев с поля — ему сказали, что звонил Данилов, хотел говорить с ним лично, будет звонить еще. Коростелев подождал, звонка в этот день не было, а назавтра, когда Данилов позвонил, Коростелева в конторе опять не оказалось. Дня через два пришла телеграмма: «Каком основании продана телка Аспазия представьте объяснения Данилов». Коростелев заперся в кабинете и четыре часа в поте лица сочинял докладную записку. Отправил заказной почтой, еще часа два понервничал, а потом все забыл, увлеченный потоком горячих весенних дней.
Отсеялись в сроки, по календарю, но с парами провозились до июня. Тем временем обозначились зеленые рядки на свекловичных и турнепсовых полях, взошел подсолнух — иди, ухаживай, прореживай, рыхли землю!
После Первомайских праздников пришли люди из колхоза имени Чкалова, и полным ходом начал работать кирпичный завод: кирпичик вам, кирпичик нам, кирпичик району… На третьей ферме стригли овец, в садах дымили костры горели гусеничные гнезда, снятые с деревьев, на речке стучали топорами плотники — чинили мост, торопясь чинили мост, скоро по этому мосту совхозное стадо пойдет на луга.
Вышел скот на луга, а в оставленных на лето скотных дворах Бекишев и веттехник Толя затеяли генеральную дезинфекцию: полы и кормушки выносились на солнце, очищались, обмывались раствором хлорной извести. Скотник Степан Степаныч взял плужок и перепахал площадки между дворами. Давно прошли холода и заморозки, все зеленело, пело, цвело, от соленого пота взмокала рубаха.
Грянула жара. Где ж дожди? Нет дождей. Сначала глухо, потом громче и громче пошли разговоры о засухе. Кто-то получил письмо из Одесщины: там все погорело, и поля, и огороды. У кого-то сродники в Молдавии: хоть бы дождинка, пишут, упала с неба!
— А у нас подсолнух — видела? — два листочка раскрыл, а больше не может.
— Давеча копнул я землю — она вот на такую толщу сухая…
Коростелев всегда спал крепко, а тут — и на войне этого не было стал вдруг просыпаться среди ночи, лоб в поту.
На каждое облачко глядел с надеждой. Но проплывало облачко, и опять сияющая, безжалостная синь от края до края. Только заливным лугам на том берегу нипочем: по пояс поднялись травы. На зеленых пастбищах беспечно пасутся коровы, радуясь вкусному обильному корму, теплу, летней воле. Корова — что понимает…
Ночью Коростелев проснулся — по крыше постукивает реденько: тук… тук… тук… Дождик?? Прыжком с постели — к окну, высунул руку: дождик!! Лег и лежал с открытыми глазами, с нетерпеливо бьющимся сердцем — да не постукивай ты через час по капле, как больной, возьмись по-хорошему!.. Незаметно заснул. Проснулся утром — барабанит вовсю! За окошком серо, мокро, двор в лужах — то, что надо!
Счастливый, бежал под проливным дождем к поселку. И в поселке радость, веселые лица, возбужденно звенят голоса. Женщины подставляют под желоба ведра, ребятишки босиком бегают по лужам.
— Ну! — говорят люди. — Конец засухе. С нас началось, от нас во все стороны пойдут дожди. Да, а что вы думаете? Уже один раз было так в старое время, вот только не припомнить, в котором году. Так же от нас во все края пошло дождить, и не было засухи.
Ах, как хочется верить, что не пропали наши труды, не поруганы наши надежды, что богатый соберем урожай, что доверху и через верх будут наполнены хлебом все житницы на советской земле!
Дождь прошел, и его проводили благодарным словом. Опять засияло солнышко и настали погожие дни.
Пора сенокоса.
Сенокосилки идут по лугам, и травы ложатся волнами, благоухая. Доброе сено будет в этом году. Добрая машина сенокосилка, без нее как бы мы управились со своими покосами? Сколько это косарей понадобилось бы совхозу «Ясный берег», сколько времени ушло бы на косьбу? Перестояли бы травы, осыпался бы их медовый цвет, ушли бы из них соки и ароматы — что пользы в таком сене? Добрая, добрая машина сенокосилка.
Но не все измеряется пользой, есть на свете художество, художество труда. Работу, которую любишь до страсти, неохотно уступаешь машине. Два человека загодя готовились к косьбе, точили ручные косы — личные, собственные косы, такой косой ни с кем не делятся, ни товарищу, ни жене ее не доверяют. А в день косьбы эти два человека побрились и постриглись, начистили сапоги, надели белые рубахи — сегодня их праздник, праздник художества, благородного состязания и великой душевной утехи.
Скотник Степан Степаныч и управляющий первой фермой Макар Иваныч идут рядом. Диво дивное: шаг их нетороплив, словно на прогулочку вышли; свободны и легки движения их рук, и никакого напряжения в плечах непонятно, почему так быстро проходят они прокос, и почему прокос так широк, и почему ручейками бежит знойный пот по их щегольски выбритым щекам. И еще одно непонятно: Степан Степаныч низок ростом, плотен и коротконог и в обыкновенной жизни ходит мелким, тяжелым шагом, сгибая колени; а Макар Иванович длинен, сух и в обыкновенной жизни ходит шагом широким, медленным, важным, как подобает администрации. На косьбе же идут до того в ногу, что кажется — не двое шагают, а один. Вжик! вжик! вжик! одновременный раздается звук, словно не две косы взмахнули, а одна. Это как же? Ведь не репетировали. Ясно, не репетировали. Такие мастера не унижаются до репетиций. Так как же?.. А так. Художество.
Опять пропал смех с лица Тоси Алмазовой. За баранкой сидела понурая, убитая; уча Коростелева управлять машиной — он пожелал учиться, раздражалась из-за каждого пустяка и начинала несправедливо кричать на Коростелева, а он обижался и тоже кричал на нее — не ученье, а чистое горе…
— Да ты что такая? — спросил он наконец напрямик. — Что у тебя происходит, Тося?
Большой рот ее дрогнул, на глазах показались слезы. Ответила стыдливо, шепотом:
— С мужем неприятность.
— Изменяет, что ли?
— Ой, что вы! — даже вскрикнула она. — Он у меня не такой. Выпивает шибко.
— Ты бы его больше приучала к выпивке, — сказал Коростелев. — Его бы, как приехал, сразу наладить на работу, а ты стала водкой накачивать.
— Так ведь обычай, Дмитрий Корнеевич…
— Дурацкий обычай — на радостях обязательно спаивать человека.
Тося помолчала.
— Секрет какой-то на душе, через него и пьет.
— А ты спроси.
— Не говорит.
— А я думаю, — сказал Коростелев, — что просто ты его разбаловала. Денег не спрашиваешь, ответственности за семью никакой на него не возлагаешь, он и повадился гулять — и весь тут секрет.
— Хоть бы дома выпивал, — сказала Тося, — все-таки постеснялся бы лишнее при детях… А он теперь к знакомому ходит в колхоз Чкалова, там демобилизованный приехал, его знакомый, он к нему ходит… Вчера без шапки пришел. Спрашиваю — где шапка, хоть укажи, как ты шел, я детей пошлю поискать. А он на меня смотрит, как будто не понимает, что я спрашиваю…
Длинная слеза пробежала по ее щеке.
— Трудный он мне достался — молчит. Я откровенная, сразу все чисто расскажу, что у меня в мыслях. А у него не доищешься.
Они ехали из Кострова в совхоз. Справа завиднелись постройки колхоза имени Чкалова. Тося затормозила.
— Дмитрий Корнеевич, золотко, — сказала она, — заедем, а? Может, он вашего авторитета послушается. И сразу бы его на машине домой.
— А тут он? — спросил Коростелев.
— Тут. Дома не стал кушать, сюда пошел.
Тосины зеленоватые глаза, обведенные темной каемочкой, с мольбой смотрели на Коростелева.
— Ну давай заедем, — сказал Коростелев.
Они свернули на проселочную дорогу и через десять минут остановились около какой-то избы. Не стучась, Тося вошла, Коростелев за нею. Хозяин сидел у стола и собирался обедать, хозяйка подавала ему щи. Алмазов лежал на лавке, и по лицу его было видно, что на него сейчас невозможно воздействовать ничьим авторитетом.
— Вот что вы делаете с людьми! — сказала Тося хозяйке.
— Мы ему силком в рот не лили, — сказала хозяйка. — Выпил, сколько пожелал.
— Он у тебя слабый, — сказал хозяин. — Его со второй рюмки валит. Сердце, что ли, больное. Вот я втрое против него выпил — и кроме аппетита ничего не чувствую.
— Вставай! — сказала Тося и потрясла мужа за руку.
— Не встанет, — сказала хозяйка. — Чего трясти зря? Подушку ему подложи, и пускай спит.
— Я за ним машиной приехала, — сказала Тося. — У него дома свои подушки есть. — Она подхватила Алмазова под мышки и силилась поднять.
— Постой, подвинься, — сказал Коростелев.
Он поднял маленького Алмазова и понес в машину.
— Ты с ним назад, — сказал он. — Я вас повезу.
Вдвоем они всунули Алмазова в машину и кое-как усадили. Тося села рядом, поддерживая мужа. Коростелев взялся за баранку. Поехали.
Тося ехала-ехала молча и вдруг сказала:
— Главное дело: подушку ему подложи, а сама иди. Видали?
На станцию Кострово поезд пришел под вечер. От Кострова до райцентра — тридцать километров автобусом.
Оказалось, что сегодня автобуса не будет, потому что он в ремонте. Оказии никакой не было. Марьяна подняла чемодан на плечо и пошла пешком.
Чемодан был тяжелый, набитый главным образом книгами: учебниками, методиками — приданое, полученное Марьяной от педучилища. Нарядов в чемодане было немного: две блузки да платье из искусственного шелка, синего с белыми горошками, которое Марьяна очень берегла.
Она шла ровным шагом, иногда останавливаясь, чтобы переставить чемодан на другое плечо. Пройдя километров шесть, она увидела машину, которая, виляя на ухабах, выезжала по проселочной дороге на шоссе. Марьяна остановилась.
И машина остановилась. Открылась дверца.
— Давайте сюда, девушка, — сказал мужской голос.
Высоченный человек, согнувшись, вышел из машины и взял у Марьяны чемодан.
— Митя! — воскликнула она, узнав его. И сейчас же поправилась: Дмитрий… не помню отчества.
— Корнеевич, — сказал Коростелев. — Влезай, Марьяша.
Она слегка нахмурилась: если она выразила желание называть его по имени-отчеству, то он не должен говорить ей «ты» и «Марьяша». За последние годы она возмужала и развилась, она уже не девочка, как до войны, она учительница, носит строгую прическу с прямым пробором, ее сыну скоро пять лет.
У нее была привычка разговаривать мысленно с разными людьми: знакомыми и незнакомыми, присутствующими и отсутствующими. И сейчас она мысленно обратилась к Коростелеву с речью: «Я ничего не знаю о вас, сказала она ему, — и вы ничего не знаете обо мне. Что из того, что мы встречались в детстве? Особенной дружбы у нас не было, так что нет никаких оснований для фамильярности. Вам бы не мешало приобрести более культурные манеры, гражданин!» Вслух она ничего не сказала, только сделала гордое лицо.
Они сидели рядом, а позади — какие-то мужчина и женщина, причем женщина крепко обнимала мужчину. Марьяна на них не оглядывалась, смотрела прямо перед собой.
Над постройками колхоза имени Чкалова всходила луна. Машина углубилась в поля. Через открытое окошечко веяло прохладой родимых просторов.
— Кончила ученье? — спросил Коростелев.
Марьяна коротко ответила.
— А теперь что?
— А теперь еду в распоряжение районо.
Он слушал невнимательно, был поглощен управлением машиной.
— Как говоришь? — переспросил он. — Ага — в распоряжение районо…
Низкие постройки слева — кирпичный завод. Когда Марьяна была маленькая, этих построек не было, торчало над землей несколько черепичных крыш, а сейчас вон сколько настроили!.. Бугры и впадины в отдалении — это глиняные карьеры, там копают глину. Длинные тени ложатся от бугров похоже на лунный ландшафт, как его изображают на картинках… а может быть, и не похоже, Марьяна подумала так для красоты.
Луна поднимается выше, на лунном фоне возникает роща. Милая роща! Сейчас проедем мимо нее. Но машина останавливается.
— Сломались? — пугается Марьяна.
— Соловей поет, — говорит Коростелев. — Слушай.
В роще пел соловей. Это был певец с очень сильным голосом, его пение разносилось далеко. Пел он так: фью, фью, фью — насвистывал он нежно, казалось, при этом он склоняет головку набок и закрывает глаза; щелк, щелк, щелк — делал он затем быстро и отчетливо, словно разгрызал орешки; тр-тр-тр-тр-тррррррр… — разливалась напоследок длинная трель, — и опять после маленькой паузы: фью, фью, фью…
Марьяна слушает и думает: еще три, даже два года назад я не могла это слушать, у меня разрывалось сердце. А сейчас мне только грустно. Ведь это не преступление, нет? Была рана, болела, теперь зажила — не может быть, что это преступление…
— Что ж не дала телеграмму? — спрашивает Коростелев, трогая. — Мы бы организовали машину.
— Ну, вот… — говорит она. — Скажите, вы не знаете. Сережа здоров?
— Не скажу. Да, наверно, здоров. Был бы болен — Лукьяныч сказал бы. Я его видал — давненько, правда; такой мальчишка… по фамилии меня зовет: Коростелев.
Она улыбается, лицо ее светлеет. Сережа, сын — это все, что осталось ей от ее недолгого счастья.
В эту ночь она долго сидит около Сережиной кроватки: ждет — может быть, он проснется. Он уже спал, когда она приехала. Шум приезда и встречи не разбудил его. В соседней комнате пили чай, пришла Настасья Петровна, пришли две девушки, школьные подруги — звон посуды, разговоры — не проснулся Сережа.
Раскинулся, сжатый кулачок заброшен за голову. Кулачок, кулачок, много ли сегодня дрался? Нога согнута, как при беге, бедная моя нога, несчастная моя нога, такая еще маленькая, такая еще шелковая, а уже в ссадинах и шишках. Мальчик, мальчик мой, больше я от тебя никуда не уеду, всегда будем вместе… Сережа пошевелился, прерывисто вздохнул… Проснись, милый, ну на минуточку проснись: увидишь, что я тут, около тебя, улыбнешься мне сквозь сон, назовешь меня: мама, — и опять уснешь…
И Тося Алмазова не спит в эту ночь, не спит и плачет.
— Ждала, ждала, — говорит она, — работала, надеялась, и вот дождалась…
Алмазов лежит на спине, у него болит голова, он слышит Тосин голос как через стенку… Понемножку сознание проясняется.
— Ну, что ты плачешь? — говорит он. — Большое дело — выпил мужик.
— Счастья нет, — сморкаясь, говорит Тося.
— Что тебе надо для счастья? Чтоб не пил?
— Чтоб не пил.
— Еще чего?
— Чтоб на работу шел, как все люди. Дмитрий Корнеевич сколько раз говорил…
— И все? Немного тебе надо для счастья.
Алмазов закрывает глаза и будто дремлет. Потом говорит:
— Слушай, Тося, а Тося. Завтра пойду договариваться насчет работы. Раз. Водки — больше не будет, даю слово. Два. Рада? Получай свое счастье.
Вот кто спит за всех неспящих, с упоением спит, не хуже Сережи — это Коростелев. Наездился, набегался, наволновался, сто дел переделал, сто тысяч слов произнес, чиста его совесть, здоровье — дай бог каждому, не о ком ему печалиться, не о чем вздыхать — что делать такому человеку ночью, как не спать богатырским сном?
Глава четвертая УЛИЦА ДАЛЬНЯЯ
Дом Марьяны находится на Дальней улице. Улица в самом деле дальняя, окраинная; за дальностью ее не успели переименовать.
Строили дом дедушка и бабушка Субботины. Они умерли давно; их портреты висят в столовой друг против друга, в одинаковых черных овальных рамах. Дедушка с мужицким лицом, с бородкой; бабушка в прическе гнездом, со взглядом серьезным и мечтательным, в белой кофточке с высоким воротом, на груди медальон. Говорили, что Марьяна похожа на бабушку. «Ну, куда мне! — думала Марьяна, глядя на портрет. — Разве у меня такой носик? У меня скорей всего дедушкин нос».
Дедушка был доктор. Настасья Петровна Коростелева, служившая у них когда-то в прислугах, рассказывала — хороший, справедливый был доктор, всех лечил одинаково, не смотрел, сколько ему платят. И даже так: нищий Кирюшка у него вылечился, а богач Кулдымов помер, а болезнь была одинаковая что у Кирюшки, что у Кулдымова… И бабушка всех лечила и учила, хотя не была ни докторшей, ни учительницей, а только окончила институт для сирот благородного происхождения; и ее, Настасью Петровну, научила грамоте и приказывала читать книжки…
Детство и юность Марьяны прошли в этом домике с крохотными светлыми комнатками, с террасой, обращенной во двор, с кирпичной дорожкой от террасы к калитке. Большой клен рос около террасы, ставни открывались прямо в сиреневые кусты.
Жила Марьяна с отцом, Федором Николаевичем Субботиным. Мать умерла, когда Марьяне было три года, отец больше не женился. Он был учитель, он был — Марьяна поняла значение этих слов позже — рабкор, общественник. Когда началась сплошная коллективизация, он вступил в партию.
Его убили костровские кулаки.
…Марьяна проснулась среди ночи от чужих голосов. Голоса были рядом, в столовой. Говорили отрывисто и негромко, не разобрать что. Странно, мелко шаркало по полу много ног.
— И никаких родственников, вы подумайте, — сказал женский голос.
Стукнуло что-то. Кто-то сказал:
— Осторожно.
Вдруг крикливо и резко, на высоких нотах, заголосила нянька.
— Папа! — крикнула Марьяна.
Ей не ответили. Она перелезла через боковую сетку кровати и выбежала в столовую. Там стояло много людей, и на кушетке лежал вытянувшись кто-то, с головой покрытый простыней. Он был такой длинный, что не поместился на кушетке, — в ногах у него была подставлена скамеечка. И потому это не мог быть папа: папа умещался на кушетке. Но вот кто-то подошел и положил на стул знакомый серенький пиджак.
— Папа? — сказала Марьяна.
А нянька все голосила.
…Нянька вела Марьяну за руку по дорожке между высокими колосьями ржи и рассказывала кому-то, что ей за последний месяц не плачено жалованье и неизвестно, с кого теперь и требовать.
— Ни на кого смотреть не буду, — сказала нянька, — не заплатят возьму покойниково одеяло стеганое и скатерть с мережкой, и квиты.
Марьяна слушала и не понимала.
Впереди несли гроб и знамена.
Сзади тоже разговаривали — Марьяна поняла, что разговор о ней.
— Многие согласны усыновить. Петр Иваныч согласен, я согласна…
— Нет, — сказал густой властный голос. — Вы все люди занятые, деловые. Девочка маленькая, за нею нужен уход. Настасья Петровна Коростелева — это будет самое правильное.
И другие голоса подтвердили, что это самое правильное.
Настасья Петровна шла тут же — высокая, худенькая, прямая — и молчала.
Она была многим обязана старикам Субботиным, родителям Федора Николаевича. В городе это знали, и теперь заговорили, что Настасья Петровна обязана заплатить субботинскому дому добром за добро и воспитать Марьяну, как она воспитывает своего сына Митю. И удивлялись, и негодовали, что Настя еще что-то там обдумывает и не дает своего согласия.
Не поняли люди, что Насте в то время было не до отдачи мелких долгов.
Смолоду ее жизнь сложилась трудно. Незаконная дочь бездомной батрачки, сама с восьмилетнего возраста пошла батрачить по богатым мужикам. Говорят старые люди, будто в старину тоже было много хорошего и все дешево до удивления, — что ж, верно, было все: хорошие платья, книжки с картинками, пряники по копейке штука, — только не для Насти.
Девчонкой пятнадцати лет она поступила к Субботиным. Там ее приласкали, заботились о ней, научили читать-писать. В благодарность она из кожи вон лезла, чтобы услужить… Перед самой революцией к ней посватался шорник Коростелев, без ноги пришедший с германского фронта. Он сказал: «Довольно тебе под чужими крышами жить, у меня собственный дом, будешь сама хозяйкой; мамашу возьмешь и будешь покоить». Она пошла посмотреть, какой дом у него (тот самый, где она живет по сию пору: комната, кухня, сени, чулан). Сперва посмеялась: «Уж и дом!» Потом постояла в горнице, заваленной обрезками кожи, постояла в дворике, поросшем мелкой травкой… и так захотелось ей иметь угол, где она была бы хозяйкой, что взяла да и вышла за шорника Коростелева. Была в ту пору уже грамотной, читала книги. Во всех книгах описывалась любовь — таково-то красиво… Только на Настину долю любовь не выпала.
Ничего, жила и без любви. Даже считала себя счастливой: муж был работящий, непьющий, не обижал. Но и это бедное счастье оказалось не для Насти: в двадцать первом году муж ее умер от сыпного тифа. Опять пошла Настя на поденку, чтобы прокормить сына и мать.
В тридцатом году начал строиться совхоз «Ясный берет». Настасья Петровна поступила на строительство. Из разных мест съезжались люди, наскоро ставили себе жилища при фермах, жилищ не хватало. Настасья Петровна осталась жить в городе, в крохотном своем домишке. Ей нипочем было ходить на работу и с работы за два, за три километра: она привыкла ходить, не больно доводилось в жизни рассиживаться… В первый раз она поняла, что можно работать не ради куска хлеба и не из благодарности.
Трудились разные люди из разных мест — и появились на пустом месте жилые дома, постройки для скота, силосные башни, склады, водопровод, электричество, мельница — большое хозяйство, социалистическое хозяйство. Мы и работники, мы же и хозяева.
И раньше Настасья Петровна часто слышала слово «социализм», сулившее жизнь неслыханно широкую, светлую, богатую счастьем, — но, по правде сказать, сомневалась: «Будет-то оно будет, к тому ведет советская власть, да когда будет? Внуки наши, может, увидят, а мне уж где!..» А люди, с которыми она строила совхоз, говорили: «Мы строим социализм, вот здесь он будет, и не для внуков, а для нас самих». Скинула Настасья Петровна все гири с ног — скорби, усталость, заботы о сыне: «Ладно, не пропадет, большой уж, пионер, школа из него сделает человека, а дома бабушка присмотрит…» И никакая благодарность, ни к кому на свете, не могла бы вернуть ее к корыту, к домашней заботе, к четырем своим стенам.
Председатель райисполкома вызвал Настасью Петровну и стал уговаривать взять на себя обязанности Марьяниного опекуна.
— С удовольствием, — сказала Настасья Петровна, — только воспитывать не могу. Она из хорошей семьи барышня, это надо всю душу положить, чтоб ходить за ней как полагается. Не могу. Давайте буду опекуном, а насчет воспитания вот я что предложу.
И рассказала, что есть на строительстве очень хорошие люди, бухгалтер и его жена, немолодые, бездетные. Бухгалтер не только не пьет, но даже не курит; а жена у него простая рабочая женщина, которая и постирает на ребенка, и пошьет, и голову ему вычешет, и никакой обиды ребенок от нее не увидит — за это она, Настасья Петровна, ручается. Люди они приезжие, живут в поселке в одной комнатке и во сне видят снять просторную квартиру, не важно, хоть и в городе. Так что еще и плату с них можно взять, как с квартирантов, будет ребенку добавка к пенсии.
— Что ж, — сказал председатель, подумав, — если вы за них ручаетесь попробуем.
Так появились в субботинском доме Лукьяныч и тетя Паша, его жена.
— Дорогая моя, — сказал Лукьяныч настороженно следившей за ним Марьяне, — первое, что мы с тобой сделаем, это мы уволим зажиревшую мадам, твою няньку. Пашенька сама управится превосходным образом, а лодырей нам не надо.
Няньку уволили.
— И второе — мы с тобой заведем курей.
И Лукьяныч принес в решете два десятка инкубаторных цыплят — нежных, теплых, шевелящихся и попискивающих пушков.
— Будут белые леггорны, самые яйценоские курочки.
У соседей тоже были такие цыплята. Чтобы не спутать, Лукьяныч переметил своих цыплят: у каждого на спинке нарисовал черной тушью косой крест. Соседи удивлялись: надо же додуматься! Сколько стоит город никогда в нем не метили кур… Цыплята росли, и нарисованные кресты, противно законам природы, тоже росли. Соседи удивлялись еще больше.
У Лукьяныча был челн. Он смастерил его себе вскоре после того, как приехал на строительство. Челн стоял на берегу на песке, привязанный к колышку цепью, на цепи висел большой ржавый замок. Замок висел зря — никто не покушался на челн, плавать на нем было рискованно, один Лукьяныч умел им управлять. Этому делу он научился еще в молодости, когда служил в плотовщиках.
— Завтра я выходной, — говорил он Марьяне, — готовься.
— Поедем? — спрашивала Марьяна, доверчиво и восторженно глядя ему в глаза.
Они отвязывали челн, спускали его на воду и плыли.
— Вот я тебе покажу одно местечко, — говорил Лукьяныч.
И показывал заводь, над которой ивы склонялись так низко, что концы ветвей касались воды; вода была там как черное зеркало, и на ней, на распростертых листьях, неподвижно лежали белые водяные лилии.
— Покажу тебе еще одно местечко.
И показывал за излучиной открытую отмель, где песок как солнышко светлый, говорил он, а на светлом песке сотнями разбросаны продолговатые плоские ракушки… Марьяна жила здесь всегда и ничего этого не знала, а Лукьяныч недавно приехал и знает все!..
Тетя Паша не участвовала в этих прогулках. Первый раз в жизни у нее была такая хорошая квартира, она с восторгом занималась квартирой убирала ее, мыла, украшала. К тому же тетя Паша ревновала Лукьяныча к челну — ей хотелось, чтобы муж в выходные дни сидел дома, с нею, и любовался хорошей квартирой, а не шлялся по реке без всякого дела.
С первого дня тетя Паша отнеслась к Марьяне заботливо, хоть и без нежностей. Марьянины платьица были чисто выстираны и выглажены, никогда так вкусно Марьяна не ела. Сначала тетя Паша делала это для того, чтобы Настасья Петровна, опекунша, не придралась и не отказала от квартиры, не дай бог. Потом тетя Паша просто привязалась к Марьяне. И Лукьяныч привязался и говорил озабоченно:
— Надо бы, Пашенька, купить Марьяше чулки.
В те времена Лукьяныч еще не владел культурной речью, которой достиг к старости, и некоторые слова произносил неправильно. Сначала Марьяна стеснялась поправлять его, потом стала поправлять. Он выслушивал ее застенчивые замечания с интересом и говорил:
— Учтем.
Смолоду он был портовым грузчиком, сплавщиком, весовщиком в таможне, в империалистическую войну — рядовым солдатом, после войны служил дворником. И вдруг сказал жене:
— Будем, Пашенька, пробиваться в интеллигенцию, есть к тому возможности.
— А как же, — спросила тетя Паша, — мы пробьемся в интеллигенцию?
— Через высшее образование, — ответил Лукьяныч. — Иначе никак не получится.
Он поступил в школу для взрослых, потом на курсы счетоводства. Окончив курсы, три года прослужил счетоводом, пошел учиться на бухгалтера. На строительство он явился уже как бухгалтер, солидная и ответственная личность с хорошим окладом.
Как растут миллионы девочек, имеющих пап и мам, так под крылом тети Паши и Лукьяныча выросла Марьяна, круглая сирота.
Ходила в школу, учила уроки (иногда не учила), стояла, держа салют, на пионерской линейке, волновалась, впервые прикалывая на грудь комсомольский значок. Читала книги, обижаясь на писателя, если герои были недостаточно возвышенными, плакала над грустными концами и опять обижалась. Обрезала косы, отрастила их снова. Дружила, ссорилась, мирилась. Писала дневник, забросила. Списывала в тетрадку стихи, которые нравились. Любила праздники, ненавидела алгебру, собирала ландыши, воображала людей, которые встретятся ей в жизни, и мысленно вела с ними долгие разговоры.
В свой час переболела корью, в свой час надела туфли на высоких каблуках, в свой час познала любовь.
Это была та молодая любовь, когда люди не спрашивают себя, почему они любят, за что, украсит ли любовь их существование или усложнит, и нет ли смысла, взяв себя в руки и подавив свои желания, отказаться от этой любви и подождать какой-то другой, какой — неизвестно, но которая, может быть, будет лучше… Рассудок здесь не участвовал. Мне хорошо, когда ты рядом, мне пусто, когда тебя нет. За что люблю? А какое мне дело? Люблю и люблю. Настоящее ли это, навеки ли? Смешные вопросы. Разумеется, настоящее, разумеется, навеки. Почему ты так думаешь? Я ничего не думаю, я знаю.
Ничего они не думали, молоденькая девочка, не успевшая окончить школу, и молодой учитель Сергей Лавров, прямо со студенческой скамьи приехавший в городок преподавать русскую литературу таким вот девочкам с косами и с мечтами о возвышенном. До такой степени ни о чем не думали, что она бросила учебу и стала его женой, домашней хозяйкой, иждивенкой, и он ликовал. Два года ликовал и опомнился только в тот день, когда по радио на всю страну загремело слово: война.
Каким виноватым чувствовал он себя перед нею в час прощанья. Ее лицо за несколько дней стало взрослым. У нее был высокий живот и страдальческие, запавшие глаза. Через месяц она ждала ребенка.
— Прости меня! — сказал он.
Она не спросила, в чем он виноват, что надо прощать; посмотрела на него взрослыми, понимающими глазами и сказала:
— Я тебя люблю.
«…Ты не виноват ни в чем, родной мой, — писала она ему туда, по воинскому адресу, — я виновата, что жила так беззаботно, ни к чему не готовясь. Жила, как душеньке было угодно, а ты разрешал, потому что любишь. Как только наш мальчик позволит мне оставить его, я буду учиться».
Мальчика еще не было; письмо было написано за день до его рождения. Сергея Лаврова оно не застало в живых.
Они мечтали о том дне, когда он придет в больницу, чтобы забрать ее с ребенком домой.
— Я принесу тебе вот такой букет.
— Глупости, вот глупости. Кто будет его нести? Надо нести мальчика.
— Мальчика понесу я, а ты будешь нести букет.
— Я буду нести вещи.
— Какие вещи?
— Пеленки. Распашонки. Разные его тряпочки. Нет, слушай, правда. Никаких букетов! Ужасно глупо — по улице с ребенком и с букетом. Слушай, я в больнице умру от тоски. Буду смотреть на часы все время. Почему не позволяют рожать дома! Я не дождусь, когда меня выпишут и ты придешь за нами.
И все было не так.
Она не смотрела на часы.
Все равно он за нею не придет. Он далеко. На фронте.
Ее выписали. В приемной ждала тетя Паша. Поцеловались, заплакали. Тетя Паша взяла мальчика и понесла домой. Марьяна шла рядом, несла сверток с тряпочками.
Писем оттуда не было. Осенью пришла похоронная.
Через два года, оставив Сережу на попечении тети Паши и Лукьяныча, Марьяна уехала в областной центр и поступила в педагогическое училище. Домой приезжала на каникулы. Теперь приехала совсем.
Было в доме существо, для которого не имели смысла слова: смерть, разлука, печаль. Оно жило другой, своей жизнью.
Это был Сережа.
У тети Паши на полке стояла большая медная ступка с тяжелым медным пестиком. Сереже страшно нравилась ступка, он приставал к тете Паше: «Давайте что-нибудь потолчем». Тетя Паша снимала ступку с полки, заглядывала в нее, коротким жестким ногтем выколупывала со дна приставшие крошки и давала Сереже сухарь или кусочек сахара, чтобы он истолок. Сережа садился на пол, ставил ступку между ногами и толок, пока не выбивался из сил. Из крепкого, как камушек, сахара получался порошок! А какая музыка шла из ступки, какие разносились по дому стуки, громы, звоны!..
Вокруг террасы росла повитель. (Тетя Паша называла это растение «граммофончики».) Внизу густо стлались темно-зеленые сердцевидные листья, вверх по веревочкам вились длинные тонкие побеги. И вверху, и внизу во все стороны торчали большие продолговатые бутоны, заостренные на концах. За ночь бутоны раскрывались — цветы и вправду были похожи на граммофонную трубу, большие, темно-сине-лиловые, бархатистые, какие-то необыкновенно милые и веселые: казалось — смотрят прямо на тебя и видят; в глубине каждого граммофончика пряталось несколько крохотных белых бусинок тычинки… Но поднималось солнце, и граммофончики съеживались, края их жалко скручивались, цветок становился похож на грязную тряпочку. Тогда можно было сорвать его и надувать, как пузырь, потом хлопнуть; горьковатый вкус оставался во рту — а на следующее утро кругом террасы все опять было покрыто новыми, широко раскрытыми, бархатно-сине-лиловыми граммофончиками.
Много прекрасных вещей находил Сережа в мире. Не говоря уже о саночках, о дощечке на колесах, на которой можно было кататься, отталкиваясь одной ногой, о челне Лукьяныча, на который Сережу не пускали, сколько он ни плакал, — существовали разноцветные камушки, конфетные бумажки, пустые спичечные коробки, зеркало (для пусканья солнечных зайчиков), гвозди (для забиванья в стены и стулья), мыло, приобретавшее смысл, когда речь шла о мыльных пузырях.
Но самое интересное было — муравьи, птицы, лягушки, собака Букет и кот Зайка.
Муравьи жили под двором и вылезали наружу через дырки и трещины в земле. Они были очень заняты, всегда спешили куда-то — никогда Сережа не видел, чтобы какой-нибудь муравей сидел и отдыхал. Мама сказала, что там, под землей, находятся их дети, и они носят детям продукты. После обеда Сережа собирал со стола крошки и огрызки хлеба и рассыпал вокруг муравьиных дыр. Муравей бежал и натыкался на крошку, некоторое время шевелил усами — должно быть, раздумывал, что бы это такое могло быть, съедобное ли, потом ухватывал крошку и тащил ко входу в муравейник. Часто крошка была в пять-шесть раз больше муравья, но он не боялся надорваться, волок. А если ему не удавалось сдвинуть крошку с места, то подбегали другие муравьи, хотя он не звал их, и помогали. Сережа сидел на корточках и смотрел на муравьев.
В соседском саду росла старая липа. В липе было дупло. В дупле жили удоды. Они кричали отрывисто и глухо: «У-ду-ду! У-ду-ду!» Если подкрасться тихо, то иногда можно было увидеть удоденка, выглядывавшего из дупла: маленькая головка с черным глазом, с продолговатым клювом, с коричневым хохолком. Ожидая родителей, удоденок дышал воздухом. При малейшем шорохе он мгновенно, как в люк, проваливался в дупло.
Однажды соседский мальчик Васька принес показать гнездо, которое он нашел в роще: шерстяная рукавичка, сделанная по всей форме, только в пальце отверстие. Рукавичка теплая-теплая, соткана из пуха, кое-где в пуху застряло сено и щепочки. Мама приложила рукавичку к руке и сказала: «Ну подумайте, какая удивительная прелесть!»
— А вот сюда они яйца кладут, — басом сказал Васька, гордый своей находкой.
— А где яйца? — спросил Сережа.
— А я из них яичницу сжарил и съел, — сказал Васька с зверским выражением лица. Этот Васька был скверный человек, он причинял Сереже много горя. Он ловил жуков и привязывал на нитку, по двадцать жуков на одну нитку. Жуки летали и гудели, словно стонали, а оторваться не могли. Сережа плакал и уговаривал Ваську отвязать их. Васька сперва не соглашался, потом говорил:
— Ладно. Плати по копейке за жука, я их отдам тебе, и делай с ними что хочешь.
— У меня нет столько копеек, — отвечал Сережа.
— А ты у матери спроси, она даст, — говорил скверный Васька.
Они считали жуков, считали Сережины деньги, и Сережа мчался к матери и говорил взволнованно:
— Мамочка, дай, если можешь, четырнадцать копеек, мне не хватает на жуков!
Лягушек больше всего водилось у речки, особенно в сырых местах под ивами. Лягушка сидела, пришлепнув к земле большое серое брюхо, и смотрела на Сережу выпученными глазами. Сережа пытался ее схватить, лягушка прыгала в воду, задние ноги у нее были такие длинные, что Сережа хохотал!
Кота Зайку взяли еще перед войной, потому что в доме развелись мыши. При Зайке они поутихли, но до конца не вывелись: Зайка был лентяй. Зимой он спал по целым дням, мыши наглели и гуляли по комнатам. Тетя Паша расталкивала Зайку, шлепала, приговаривая: «Иди, иди, лодырь, иди, пугалище!» — и, взяв за шиворот, кидала в чулан и запирала. Через полчаса она выпускала его; он выходил скучный, с мышью в зубах, неторопливо проходил по дому, как бы показывая всем: «Видите, я же не отказываюсь от своей службы!» — и наконец лениво съедал мышь в темном уголке. Потом долго и с отвращением умывался и опять укладывался.
Летом Зайка немного оживал. Он подкарауливал на террасе, когда забежит во двор собака Букет, и, выскочив внезапно, давал Букету лапой по морде. Букет убегал с визгом. Это был молодой, легкомысленный, улыбающийся пес, ему не приходило в голову, что он может оттрепать Зайку.
Сережа обожал кота, целовал его и тискал, отдавал ему свою еду. Все восхищало его в Зайке: как Зайка чихает, как умывается, какой у Зайки хвост. Ложась спать, он укладывал Зайку с собой и старался удержать его ласками и уговорами; но Зайка неподкупен, не хочет спать с Сережей, сидит надутый, бьет хвостом и в конце концов удирает.
А Сереже скучно засыпать одному, он просит мать: «Посиди». Марьяна присаживается к окну, выходящему на улицу. (Комната угловая, другое окно выходит во двор.) Окно открыто. Иногда кто-нибудь из знакомых подходит к нему и разговаривает с Марьяной. Иногда это бывает Иконников.
— Добрый вечер, — говорит он.
— Добрый вечер, — отвечает Марьяна.
Минут пять они говорят о разных пустяках. Потом он уходит. А Серело тем временем заснул, мать ему больше не нужна. Марьяна опускает занавеску и идет по своим хозяйственным делам.
Тетя Паша послала Марьяну полоть огород. Огородный участок Лукьяныча находился неподалеку от кирпичного завода.
Выйдя за город, Марьяна сняла туфли и пошла босиком: и ногам легче, и обувь целее. Ей нравилось полоть. Никого не было на обширном пространстве, покрытом правильными рядами картофельных кустов, переплетающимися огуречными побегами, кудрявой зеленью моркови; только на другом краю огородного массива пололи в ряд две женщины, да вдали, по дороге, то проедет подвода, то машина, а то пройдет человек. Марьяна чувствовала себя сильной, легкой, приятно было ступать босыми ногами по свежей, взрыхленной тяпкой земле, Марьяна полола и пела. В полдень она села на землю и поела хлеба и крутых яиц, которые дала ей с собой тетя Паша. Часам к трем все закончила и пошла домой. Мимоходом искупалась в речке. Окунувшись, она посмотрела на свои плечи, выступавшие над водой, и вдруг ей стало обидно и грустно: кому нужна ее молодость?..
Всегда ее называли, по старой памяти, Марьяной Субботиной. Но вот недавно она шла по улице, стояли женщины, и одна сказала о ней:
— Лавровская вдова пошла.
«Я — вдова», — подумала Марьяна и остро ощутила печаль и холод этого слова. Ощутила женское свое одиночество. Ей захотелось, чтобы кто-то ждал ее дома, встретил у двери, обнял…
Никто ее не ждет, кроме тети Паши. Сережа бегает где-то с мальчишками. В доме окна занавешены марлей — от мух, вымыты полы — для прохлады, по чистым половикам тихо ходит белолицая степенная тетя Паша, не прозвучит милый горячий голос, не раздадутся громкие мужские шаги… Как мало было счастья, как трудно быть молодой — и без любви…
Вздохнув, Марьяна оделась и пошла домой. Конечно, Сережи нет, во дворе пусто, только куры лениво копаются под сиреневыми кустами… Тетя Паша вышла во двор бросить курам горсть зерна. Марьяна обняла ее и положила лицо ей на плечо, приговаривая, как в детстве:
— Ой гудут мои косточки, ой наработалась, ой дайте мне супу!
— Иди обедай, — сказала тетя Паша. — Иди, детка.
И поставила тарелку на кухонный стол, накрытый чистой клеенкой. В глиняном кувшине стоял на столе большой букет васильков. Кот Зайка дремал на лавке около кадушки с водой, один глаз у него зажмурен плотно, другой чуть-чуть подсматривает: Зайка бы тоже пообедал, да вставать и мяукать лень — спать хочется… Все здесь давным-давно знакомо и мило: каждая вещь, и место каждой вещи, и смысл каждой вещи. Никогда не будет у Марьяны угла более теплого, какого же еще пристанища нужно ее сердцу?..
— Что ж не ешь? — спросила тетя Паша.
— Скучно одной, — сказала Марьяна, положила ложку и вышла во двор, потом за калитку, на улицу.
— Сережа! — крикнула она. «Может, он тут где-нибудь в садах играет…» Застучали шаги по мосткам, Марьяна взглянула — по Дальней улице шел Коростелев. «К нам или не к нам?» — подумала Марьяна. Он кивнул и сказал:
— Здорово, Марьяша.
И прошел мимо, не остановившись, может быть, даже не заметил, ответила она ему или нет. Озабоченный, занятой. Когда-то приходил в дом со своей матерью Настасьей Петровной — высокий, худой голубоглазый мальчик, играл с Марьяной в подкидного дурака; по праздникам, бывало, они приходили, а теперь и не заглянет Митя, Дмитрий Корнеевич. Солидным человеком стал, заботы у него. Вон, пошагал куда-то по своим делам…
Она смотрела ему вслед. Он дошел до угла и на секунду оглянулся. Свернул за угол…
И зачем бы он остановился около нее? Время игр прошло. Что у них общего? У нее тоже заботы. Она шагает своей дорогой, по своим делам.
Глава пятая ЛЕТО
Что за лето! Где засушливое, где дождливое не в меру — недоброе лето! Теперь уже и загадывать нечего, и обольщаться надеждами, ясно — не соберет народ столько хлеба, сколько рассчитывал собрать; забота — сохранить что возможно, извернуться в беде.
Эх! Не впервой затягивать пояс потуже. Извернемся, то ли бывало. Советское государство не даст народу пропасть. Наша с вами, товарищи, задача — невзирая ни на что, поднимать совхоз на высоту. Силоса, силоса побольше заготовить для скота. Подрастет новая трава, даст бутоны, скосим на силос. Уберем капусту на силос. Подсолнух — он в наших местах вырастает выше человеческого роста, головки — во! — только что не вызревает подсолнух на силос. Осоку туда ж. Свекольную ботву. Солома будет, мякина будет. Сеном не обижены. Отруби… По одежке протягивай ножки.
Опять беда: башни наши рассчитаны каждая на триста тонн силоса, а практически придется закладывать по двести. Старые башни, верхи рассохлись, а с ремонтом в этом году не поспеть… Скотники, доярки, поварихи, конторщицы, кто там свободен из механиков, администрация, уборщицы, заведующая библиотекой, няни из детского сада, комсомольцы из райцентра — все на закладку силоса!
Сообщает бюро прогнозов: предвидится полоса проливных дождей. Звонок из треста: убирайте сено, зальет… Что ты скажешь! Поварихи, конторщицы, скотники, кто там свободен из механиков, администрация, рабочкомовцы, няни, комсомольцы города — все на субботник по уборке сена! Грабли конные и ручные, стогометы, волокуши — все в ход!
Председатель рабочкома, зажав грабли под мышкой, подходит с претензией: почему нет кипяченой воды. Ах ты, затмение произошло, все учел — кипяченую воду забыл. Товарищ Гирина, друг, кидай волокушу, поезжай за баками, и чтоб обязательно в столовой вскипятили воду, а то рабочком мне даст жизни.
Едва успели сложить сено в стога и укрыть соломой, как на целую неделю без просвета, без передышки грянул дождь. У людей ни дождинки, а к нам зачастил. Не насмешка? Хлеба полегли…
Бабка изучает астрономию, сказала давеча, что явления в природе происходят от пятен на солнце. Будь они прокляты, эти пятна, если от них такие явления.
Фундаменты для новых телятников были заложены еще прошлым летом, теперь возводили стены. На строительной площадке хорошо пахло чистой влажной стружкой. Заведовал постройкой Алмазов. Его запой прошел. Как дал тогда Тосе слово, что больше не прикоснется к водке, так и не пил с того дня. Он был хмур — не пошутит, не улыбнется. «Что-то ему не нравится, думал Коростелев, наблюдая за ним. — Хозяйство ли наше не нравится, или дома нелады, а может, работа не по душе?» Нет, дело не в работе: Алмазов строитель настоящий, хорошо учит молодежь, под его началом дело пошло спорее и лучше.
Он попросил, чтобы его ознакомили с общим планом строительства. Коростелев принес ему сметы и чертежи.
— В сметах не разбираюсь, — сказал Алмазов. — Интересуюсь объектами, числом и размером. У вас телятники запроектированы на этот год, а дворы для взрослой скотины на сорок седьмой и сорок восьмой — чем руководствовались?
— Молодняку надо в первую очередь.
— Дворы тоже в плохом состоянии. Ремонт будет тяжелый. Возьмет много материала и рук. Невыгодно.
— Не ремонтировать нельзя.
— Я понимаю. И вы хотите иметь телятники к осени?
— Обязательно. Профилакторий и родилку — не позже как к первому сентября.
— А если на полтора месяца позже, а зато план сорок седьмого и сорок восьмого уложим в будущий сезон?
— Как это?
— Я считаю так. Надо теперь же становить все объекты, что для телят, что для коров. Использовать строительный сезон.
— Ну что вы.
— Можно успеть. Возвесть стены, покрыть крышу.
— А внутреннее оборудование? Вы себе представляете, какая это морока? Стойла, стоки, клетки, кормушки…
— Внутренние работы будем делать под крышей, когда холода придут. Внутренние работы всю зиму будем делать. И рамы вставлять, и штукатурить можно зимой. И летом сорок седьмого года закончим. Такое мое предложение.
— Тут что-то есть, — сказал Коростелев. — Я подумаю.
Алмазов внушал доверие сжатой, дельной речью, хозяйственным подходом к делу, а главное — чистотой своей работы. Но предложение все-таки рискованное. Нагородим стен, не успеем даже оконные рамы вставить, и опять телята в старом профилактории, и коровам телиться в старой, негодной родилке.
Иконников был решительно против алмазовского проекта. Безусловно, ничего не успеем закончить толком и что скажем тресту? Как можно брать на себя такую ответственность? Нет уж, давайте достраивать что начали, чтобы в сентябре записать в отчет: закончен профилакторий. Не сделаем лишнего с нас не взыщут, а невыполнение плана чревато огромными неприятностями… Но на сторону Алмазова встал Бекишев: разумный проект, хозяйский проект, на целый год сокращает сроки строительства, экономит большие суммы. Сезонников надо придать Алмазову, вот, к примеру, ребята из веттехникума выражают согласие на каникулах поработать, надо их оформить…
Когда Коростелев сказал Алмазову, что его предложение принято и через пару дней к нему придут новые помощники, Алмазов выслушал сообщение равнодушно. Было похоже, что его гложет болезнь: он исхудал, щеки его запали.
— Товарищ Алмазов, у вас, часом, легкие в порядке? — спросил Коростелев. — Сходили бы на рентген.
Алмазов стоял перед ним в старой гимнастерке без пояса, зажав папиросу в узких губах, глаз его, сощуренный от папиросного дыма, тускло смотрел на Коростелева.
— Нет, я здоров, — сказал Алмазов и взялся за рубанок. Железные жилы налились на его маленьких руках.
«Может, по водке скучает», — подумал Коростелев и сказал:
— Вот закончим постройку — отметим, выпьем.
— Не пью, спасибо, — отрывисто сказал Алмазов. — Кончил с этим делом.
Люди, работавшие с ним, были свидетелями, как иногда он вдруг бросает работу и уходит в поле, идет-идет — и остановится, не за нуждой, а просто так: стоит, заложив руки в карманы, закинув голову, долго стоит и словно слушает что-то, потом опустит голову и понуро возвращается на свое место.
— Контуженый, — говорили между собой люди. — Они, контуженые, чего не вздумают.
Всю жизнь Алмазов плотничал, столярничал — строил.
Он любил свою профессию. Ему нравилось, что от его усилий есть государству наглядная польза. Нравилось делать вещи, которые будут служить долго. Сделает, бывало, что-нибудь, взглянет быстрым взглядом на свою работу, ничего не скажет, только в углах узких губ мелькнет довольная усмешка — и пошел работать дальше.
Когда его призвали, он думал: не привыкну я к военной жизни; солдат, надо полагать, буду не хуже других, а привыкнуть не привыкну.
Но он привык скоро. Человек здоровый, с простыми обычаями и смелым сердцем, он легко принимал тяготы войны: зной, холод, усталость, бездомность. Служил так же исполнительно, как в мирное время работал. И даже по вкусу ему пришлась военная жизнь, потому что он чувствовал, что делает дело, что он нужный в армии человек, что от него тоже зависит победа его родной страны и спасение мира от фашизма.
Первые ранения у него были пустяковые: дальше санбата он с ними не попадал. И служил, как служили другие. Получал из дому письма и изредка отвечал на них (он не любитель был писать). Читал на привале газетку, оберегал табак, чтобы не отсырел, любил, чтобы кто-нибудь сыграл на гармони или на гитаре.
Все больше переставал он быть строителем и становился солдатом. Все дальше отодвигалась прежняя жизнь — дом, семья, работа. И страна родная осталась позади: на австрийской земле воевал Алмазов.
В Вене он был тяжко ранен в голову и в ноги. Месяц ничего не видел, и не слышал, и не соображал, только чувствовал боль. Потом стал видеть и слышать, и его повезли: перекладывая с носилок на койку и с койки на носилки, многими поездами, через многие госпитали, через муку и боль, везли и везли и привезли на Урал.
В Н-ском госпитале он лежал долго.
Раны в голове зажили, но очень болели ноги. Доктора говорили, что он вообще сохранил их чудом и что они заживают. Алмазов не верил: как же заживают, когда он истекает гноем? Он был брезглив и не мог привыкнуть к этому запаху, который мучил его больше, чем боль.
…Уж кончилась война, уж по домам поехали люди, а ты лежи на койке и играй до одури в шашки. Сидит посреди палаты сестра и читает тебе вслух книжку, как маленькому. Таскают тебя то на перевязки, то в ванну, то под какую-то лампу, и до того перестаешь чувствовать себя человеком, что даже не стыдишься перед женщинами своей наготы. И невольно лезет в голову, что кончена твоя жизнь, что ни для чего и ни для кого ты не нужен, что возятся с тобой из жалости, что, наверно, сестрицам противно разматывать твои бинты… Он даже сердился на сестриц — зачем скрывают, что им противно, зачем настолько жалеют!
Но вот настал час, когда он поднялся и на костылях, неумело, неуверенно, пошел по палате, потом по коридору. А потом ему позволили выходить в сад. Раненым скучно было гулять в саду, они проделали в заборе отверстие и через отверстие выходили на улицу. Вышел и Алмазов.
Госпиталь находился на окраине города. До войны это был Дом культуры. Он высился среди маленьких домов, похожих на деревенские избы. Кругом домов были садики. На окнах висели кружевные занавески и стояли цветы. В один такой дом зашли Алмазов и еще двое раненых и попросили напиться. Им не хотелось пить, а просто хотелось взглянуть, как кто-то живет забытой ими жизнью… Женщина с русой косой, высоко положенной кругом головы, встретила их. Она подала воды и поспрашивала — кто, откуда. Алмазову понравился ее разговор. Когда шли обратно и товарищи по-мужски откровенно стали разбирать наружность этой женщины, Алмазов рассердился…
Спустя сколько-то дней он один к ней зашел. Зачем — не знал: сами потащились костыли к ее воротам… Она его встретила как знакомого. Посидели, рассказали друг другу о себе: он — про Тосю и детей, она — что у нее тоже муж в госпитале, далеко, в Москве. Она работала на заводе, на сборке моторов. Алмазов стал заходить к ней все чаще и чаще, и когда его наконец выписали из госпиталя — тоже пришел и остался у нее.
В эту ночь он заснул на мягкой, широкой кровати. Теплая женская рука лежала на его груди. Была в этой руке тишина и защита, и материнская нежность, и обещание жизни: награда, покой, земля родная — д о м!.. Теплынь стояла в избе, пахло печеным хлебом, сверчал сверчок за печкой…
Никогда он не таскался с бабами и всегда считал, что они с Тосей проживут вместе до конца дней в том спокойном содружестве, которое с годами пришло на смену их прежней пылкой любви.
Но разве он знал, что можно так полюбить? Разве знал, что может женщина стать тебе ближе всех людей на свете? Любимую и мать, и друга-товарища, и ненаглядное дитя сочетаешь в ней. Она засмеется — и тебе весело и легко; ей грустно — тебе еще грустнее…
И зачем это бывает с человеком, который уже женат и имеет детей, на котором уже лежит большой справедливый долг? Может, в ранней молодости этого не бывает? Может, надо пройти все суровые мужские пути, чтобы созрело сердце для такой любви?
Утром после той первой ночи он проснулся — она еще спала, оделся, надел ее ватник — свою шинель не захотелось надевать — и вышел во двор.
Закурил, стоя на крыльце. Румяно поднималось над снежными крышами морозное солнце… Вдруг он увидел в открытой двери сарая топор, валявшийся возле дров. Топор, первейший плотницкий инструмент, первейшая вещь — для жизни вещь! Алмазов спустился с крыльца, взял топор и усмехнулся: насадка никудышная; сразу видать — женские руки насаживали… Он исправил насадку. С удовольствием потряхивая топором, шел по двору и искал, что бы сделать. Увидел — желоб плохо держится: укрепил. Увидел кол в частоколе покривился: забил. Потом пошел в сарай рубить дрова. Она проснулась от стука, вышла на крыльцо, румяная, веселая, как заря:
— А я проснулась, слышу — кто-то хозяйничает во дворе. Со сна не сразу догадалась…
…Три месяца прожил Алмазов с нею, в ее доме — солдат и солдатка, счастливее которых никого не было на свете! День ото дня она становилась ему дороже (куда бы еще дороже, кажется!), и он радостно чувствовал, что и ей он ближе и роднее с каждым днем…
И пришло письмо от ее мужа. Он писал, что руку ему все-таки пришлось отрезать — примет ли она его, безрукого? Или ехать ему в другую какую местность, в одиночку ладить свою судьбу?
Они расставались.
Она стояла на коленях и укладывала его вещи в деревянный сундучок; все она перестирала, перегладила, починила своими руками. Складывала бережно, будто невесть какие дорогие то были вещи, и слезы светлыми ручьями бежали по ее лицу и капали в сундучок.
Алмазов сидел, смотрел на нее и говорил:
— Ну, и как я должен жить? Скажи — как?
И она сказала дрожащим шепотом:
— Как надо, так и будем жить. А что у нас любовь не получилась никого не касается, кроме тебя и меня…
— Нас-то больно касается, вот в чем дело, — сказал он устало.
Она покрыла белье сверху чистой тряпочкой и сказала все так же шепотом, словно у нее совсем пропал голос:
— Вот как снарядила тебя на разлуку.
У него не стало силы смотреть на нее, он вышел из избы. Было начало апреля, еле обозначились на деревьях почки, легкое, светлое голубело небо… Алмазов обошел избу кругом, посмотрел на свой желоб, под которым на белых вымытых камушках стояла кадушка, на свой топор, стоявший в сарайчике, простился со всем… И вдруг потемнело в глазах: с какой же стати все-таки? Кто приказал? Нет приказа, нет закона, чтобы люди так терзали себя! С этими мыслями он вошел и обнял ее, повторяя:
— С какой стати!..
Но она взяла его за плечи и оторвала от себя, и усадила, и заговорила шепотом те слова, что говорила уже раньше:
— Нельзя, нельзя, душа… Детки ждут, пятый год ждут… И мой без руки придет, куда ж я его дену, куда совесть свою дену?.. Людьми надо быть, людьми, последняя радость моя…
Шепот слабел, глаза закрывались от горя. Стиснув зубы, Алмазов прижал ее к себе, в последний раз спрятал лицо на мягком, теплом, родном плече…
Как уходил потом, не оглядываясь, и у поворота ослаб, оглянулся и увидел, что она стоит у калитки, — как завернул за угол и счастье оставил за углом, — как потом уносил его поезд все дальше, дальше, — нельзя вспоминать: просто не надо, чтобы такое случалось в жизни. Спасибо Тосе, что едва приехал — залила на радостях водкой память, а то неизвестно, что бы сделал тогда. Может, сел бы в поезд и уехал. Может, пешком ушел бы… Как уйти, шальная голова? От детских глаз, которые смотрят на тебя с такой верой: «Папа приехал!» От Тоси, которая тебя ждала четыре года?.. И куда уйти? Место занято: сидит там безрукий, ни в чем перед тобой не виноватый, то же самое солдат, как и ты…
Коростелеву принесли почту: обычная трестовская корреспонденция инструкции, формы отчетности. Выписка из приказа, отмечающая высокие темпы сеноуборки в совхозе «Ясный берег».
О телке Аспазии, с тех пор как Коростелев отправил докладную записку, не было ни звука. Видимо, Данилов удовлетворился той запиской.
Это от кого письмо? А, от Ивана Николаевича Гречки!
«Незабвенный друг! — писал Гречка. — Как живешь-можешь? Что поделываешь? Давно хочу тебе написать, но все не мог собраться за отсутствием времени. Пришлось пережить этим летом громадную тревогу, видя, как засуха шаг за шагом подкрадывается к нашим полям. Не балуют стихии дорогую Родину, на другой же год по окончании войны поразили нас недородом! Но в нашей местности, хоть и пришлось покланяться матушке-земле за каждую горсть зерна, скажу прямо — знаменитые леса, которые в свое время укрывали партизан от извергов-фашистов, спасли и посевы наши от лютой беды, и мы собрали урожай вполне нормальный, так что и государству дадим хлебушка, и себе останется для безбедного существования. А теперь расскажу тебе следующее. Не так давно вызвал меня секретарь обкома и лично вправлял мне мозги по поводу, как он выразился, моих партизанских действий в деле приобретения телок для колхозного стада. Возвращаясь из обкома, мне пришла мысль, что, может быть, и тебя постигли из-за меня неприятности, чем я очень был бы огорчен и даже опечален, потому что чувствую к тебе громадную дружбу и скучаю по твоей приятной и культурной беседе. Пиши же! Привет многоуважаемой бабусе. Что касается телки Аспазии, то она живет и здравствует и нормально прибавляет в весе, и надеемся, что с будущего года начнет служить воспроизведению отечественной породы. Кланяется тебе моя супруга Алена Васильевна и детки Петрусь и Галя. Уважающий тебя И. Гречка».
«Ах, молодцы Иван Николаевич и Алена Васильевна! — весело подумал Коростелев. — Сразу тебе — и Петрусь, и Галя… А мозги-таки вправили, голубчик, невзирая на все твои ордена…»
Он взял перо и начал писать ответ:
«Дорогой Иван Николаевич! Прежде всего, поздравляю тебя. Хотел бы повидать всю твою семью…»
И задумался: врет Гречка насчет дружеских чувств или не врет? Разве от одной встречи может зародиться дружба?
Но ведь вот ему действительно хочется повидать Гречку и поговорить с ним, и будь время, он бы охотно съездил в Белоруссию и посмотрел, как там живет и действует Гречка. Должно быть, так и начинается дружба — и почему бы Гречке не питать к нему, Коростелеву, такого же интереса и симпатии?..
Подали телеграмму, приказ Данилова: немедленно явиться в трест.
— Нашли время вызывать, — сказал Коростелев. — Тут уборка началась…
«Неужели будет разговор о той проклятой телке? Не может быть: после трехмесячного молчания, после похвалы в приказе… Совещание какое-нибудь».
Вызвал Иконникова и Лукьяныча, велел в оперативном порядке составить отчет на сегодняшнее число. Стал записывать — какие кому оставить распоряжения на время своего отсутствия.
Письмо к Гречке осталось незаконченным.
Здание, в котором помещался трест, было заново выкрашено серо-сиреневой краской, у двери висела новая стеклянная доска с золотыми буквами, стекла протерты, лестница чисто выметена. На всем лежал отпечаток даниловской опрятности. «Уже навел порядок, — мимолетно подумал Коростелев, идя к директорской двери, обитой черной клеенкой. Аккуратист».
Данилов встал ему навстречу. На нем был офицерский китель без погон, такой чистый и свежий, словно только вчера выдали Данилову новое обмундирование. Лицо и голова у Данилова атласно выбриты.
— Садитесь. Как доехали?
Коростелев сел в прохладное клеенчатое кресло.
— Как дела?
— Убираем зерновые. Кирпича заканчиваем восьмую сотню тысяч. Вот, захватил полный отчет.
— Отчет — вещь полезная, — сказал Данилов, перелистав бумаги, поданные Коростелевым, — но недостаточно подробная. Как люди, настроение людей?
— Настроение было тревожное, боялись, что дожди помешают уборке.
— А сейчас?
— Взбодрились. Коллектив у нас крепкий.
— Это хорошо, — сказал Данилов, — что вы своевременно управились с сеном. Не управься вы своевременно, большая беда была бы для совхоза. Трест отметил вас в приказе, вы получили выписку?
— Да. Выписок получаем много.
— Бумажное руководство?
— А что, Иван Егорыч? За полгода к нам из треста хотя бы одна душа заглянула.
— Плохо, конечно. Но учтите, что аппарат треста до сих пор не укомплектован как следует. Министерство обещает, но пока что никого не видать. А у нас есть совхозы, где приходится сидеть невылазно, чуть ли не самому за грабли браться, чтобы навести хоть какой порядок. В «Долинке» вовсе завалили сеноуборку… Ваш совхоз, сравнительно с другими, в блестящем состоянии.
«Нет, — подумал Коростелев, — не будет разговора об Аспазии».
— Но все же никакой ценой, товарищ Коростелев, не покупается право на преступление.
Коростелев дернулся всем телом, сжал подлокотники кресла:
— Вон какая формулировка?
— А как иначе велите формулировать, если директор по своему усмотрению раздает доверенное ему государственное имущество?
— Как это — раздает? — повысил голос Коростелев. — Один случай был, и то при чрезвычайных обстоятельствах.
— Знаю обстоятельства. Три раза прочел вашу докладную записку вдоль и поперек. Хотел вычитать что-либо, что оправдало бы ваш поступок перед законом.
— И ничего не вычитали?
— Ничего.
Данилов сидел в кресле как статуя, широченные его плечи были развернуты, как в строю.
— Так-таки решительно ничего не вычитали?
— Вычитал, что сердце у вас доброе и что человек вы широкий. Для хозяйственника этого недостаточно.
От раздражения у Коростелева сперло дыхание.
— Потому что вы не фронтовик, — сказал он. — Вы, говорят, всю войну замполитом проездили в санитарном поезде. А фронт надо глазами повидать, чтобы понять, почем фунт лиха и что такое тот партизанский колхоз.
Данилов принял упрек — не дрогнули чугунные плечи, только покраснел слегка.
— И вы считаете, что без вашей щедрости партизанский колхоз не выйдет из затруднений? Никто не печется о колхозе, один товарищ Коростелев, дай ему бог здоровья…
И Коростелев покраснел — даже лоб у него стал темно-красным.
— Гречка говорит…
— А мне безразлично, что там говорит Гречка. Он и в другие наши совхозы заезжал, да не вышло дело — отказали… Вы знаете, какую помощь оказывает государство освобожденным районам? Я вам цифры покажу: сколько туда завезено скота, инвентаря, стройматериалов. Гигантские масштабы восстановления иначе как плановым порядком немыслимо осуществить. А ваша благотворительность липовая. Никому не нужна и ничего не решает. Не говоря уже о том, что здесь преступление, за которое следовало бы исключить из партии. И вас, и Гречку.
У Коростелева в глазах помутилось, пот большими каплями выступил на висках. Исключить из партии! Нет, он, кажется, сказал «следовало бы». Бы. Да-да, он сказал — «бы»…
— Вы знали о том, что распределение скота идет централизованно, через Племзаготскот? Знали, что за народное имущество, вам доверенное, вы головой отвечаете? Знали, что у нас социалистическое хозяйство, а не частная лавочка?
Данилов спрашивал тихим голосом, жестко двигая тонкими губами маленького рта. Поблескивал золотой зуб…
— В воинских рекомендациях отмечается ваша дисциплинированность. Решили, что если война кончена, то дисциплину побоку?.. Должен вам сказать, что вы на волоске висели, товарищ Коростелев, с того самого дня. Сильно чесались у меня руки — снять вас, что называется с треском, чтобы другим неповадно было. Потом подумал: дай погляжу, как он выдержит летний сезон. Обеспечит совхоз кормами, заложит фундамент для дальнейшего развития — прощу за Аспазию, не буду ставить вопрос о снятии…
Коростелев вынул платок и вытер лицо.
— Но разговор в партийных инстанциях должен все же состояться. Я не допущу, чтобы в моем тресте разбазаривали племенной скот.
Коростелев слушал, машинально водя платком по щекам и по шее…
Данилов глянул внимательно, лицо его смягчилось.
— Соображать надо, — помолчав, сказал он другим тоном, с досадливым сожалением. — Не взыскать с вас — другие тоже начнут раздавать направо и налево. Чувствительных-то сердец много. Ведь уже по всем совхозам звон пошел. Шуточки — дочь Брильянтовой. Брильянтовая записана во всесоюзную книгу высокопродуктивных животных. Целая литература о ней существует, и о потомках ее, и о предках. Не читали небось? Возьмите, поинтересуйтесь, в тресте есть… И вот что мне скажите: допустим, Гречка не вас разжалобил бы, а кого-нибудь из ваших подчиненных, хотя бы Иконникова, и Иконников ему вот этак, из рук в руки, отдал бы дочку Брильянтовой, — взыскали бы вы с Иконникова? Нет, уж будьте добры, ответьте на вопрос: взыскали бы или нет?
— Взыскал, — мрачно ответил Коростелев, отвернувшись.
— Вот то-то. Дело это принципиальное. Речь не просто о телке. Речь о всем нашем высшем порядке, надо понимать. — Данилов снова взял отчет, стал перелистывать. — Кирпича восьмую сотню заканчиваете? Хорошо. И куда предназначили?.. — Они заговорили о строительстве, и об Аспазии больше не было сказано ни слова.
Данилов приехал в августе.
Три дня он провел в совхозе, все осмотрел: тока, и зерно на токах, и постройки, и завод. Обещал, что к будущему сезону совхоз получит станок для выделки черепицы, есть договоренность с ленинградским заводом. Обещал подбросить стройматериалов… Был на пастбище, смотрел стадо, ночевал с пастухами на левом берегу. Данилова знали в совхозе давно, с довоенных времен, и любили, хоть был строг. Как-то вечером застал его Коростелев на квартире у скотника Степана Степаныча, в компании старых рабочих. Степан Степаныч играл на гармони, а гости, и Данилов в том числе, пели: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». У директора треста оказался высокий тенор, он часто фальшивил, но пел истово и серьезно, отбивая в воздухе такт большой рукой, сложенной лопаточкой… «Кажется, я один с ним держусь натянуто, — думал Коростелев, видя, как все кругом запросто обращаются к Данилову, — а для других он добрый мужик, свой брат».
На четвертый день Коростелева вызвали на бюро райкома.
Когда вошел в знакомую комнату и увидел, что в углу на диване сидит Данилов, — понял: сейчас будет поставлена точка над делом об Аспазии. В первый момент обрадовался: пусть точка, пусть положат ему взыскание, какое сочтут справедливым, — и конец. Больше это не повторится. Но вдруг подумал: а ну, как исключат? Горельченко — человек крутой, неожиданный… Бледнея и забыв поздороваться, Коростелев тихо сел на стул у двери.
Начали с больших вопросов: о ходе обмолота в районе, о работе элеватора. Данилов сидел прямо, слушал, вычерчивал в блокноте, положенном на колено, какой-то сложный чертеж. Ему что, он может сидеть так спокойно и чертить чертежи… Кругом знакомые лица, сколько раз видел их здесь Коростелев. Несколько месяцев назад, весной, он чувствовал себя среди этих людей уверенно, говорил с ними как равноправный, гордясь своими хозяйственными замыслами. И вот сейчас он сидит бледный и понурый. Эти люди, покончив с более важными делами, обратят свое внимание на Коростелева и обсудят его… что? Ошибку, промах, преступление? Как они это назовут? Как назовет это Горельченко?..
Отворилась дверь, вошел Бекишев, сел рядом с Коростелевым. Ох как долго говорит инженер, заведующий элеватором. Скорей бы кончал. Скорей бы решалась судьба.
«Исключат — жить не буду», — подумал Коростелев.
Но вот кончает говорить инженер, кончают говорить все, кому было что сказать об элеваторе, — век это длилось.
— Информация о совхозе «Ясный берег». Слово имеет товарищ Данилов.
Данилов говорит тихим голосом, что сделано в совхозе с начала года. Отмечает недостатки. Кратко излагает первоочередные задачи. Коростелев слушает, слушает, вникая не столько в слова, сколько в даниловские интонации…
— Но вот, товарищи, мы столкнулись в «Ясном береге» с фактом вопиющего нарушения всего нашего порядка, с фактом разбазаривания номенклатурного скота. Этот факт я должен довести до вашего сведения. Речь идет о незаконной, в обход всех правил, продаже телки Аспазии одному белорусскому колхозу. Проще сказать, телку вывели из стойла, подняли на грузовик и увезли, к недоумению коллектива.
— Ловко! — замечает председатель колхоза имени Чкалова, барабаня пальцами по столу. — Вот это ловко!
Данилов читает докладную записку Коростелева.
— Теперь вам ясны побуждения товарища Коростелева. Личной заинтересованности не было. Тем не менее факт беспримерный, и без выводов обойтись невозможно.
— Вопросы есть? — спрашивает Горельченко.
Вопросов нет — все понятно из слов Данилова и из докладной записки. Только чкаловский председатель спрашивает:
— Так-таки вывели и увезли, а?
— Кто желает высказаться?
Бекишев желает высказаться. Не о телке: он говорит о единоначалии, долге, воле. Коростелев смотрит на Горельченко и не может понять выражения, с которым Горельченко переводит свои черные глаза с Бекишева на него, Коростелева.
— Товарищ Коростелев?
Коростелев молчит.
— Желаете что-нибудь сказать?
Коростелев встает, он очень бледен.
— Что ж… — перевел дыхание. — Нарушил закон, причинил производству ущерб…
— Признаете, значит, что партия должна с вас взыскать?
— Да, — говорит Коростелев. Сейчас, когда сломлено его упрямство, он понимает, что с самого начала признавал себя виноватым: с той минуты, как смотрел вслед грузовику с уезжающим Гречкой…
Среди слов, которые говорятся кругом, отчетливо раздается слово: выговор. Потом строгий выговор.
— Кто за, кто против, кто воздержался?.. Постановили — записать товарищу Коростелеву строгий выговор…
…Коростелев выходит в коридор. За закрытой дверью, в одиночестве, он, стыдясь, утирает скупую слезу — слезу и горя, и облегчения…
После заседания Горельченко повел Данилова к себе ночевать.
Пересекли сквер, где вокруг памятника Александра Локтева гуляла молодежь, и пошли по Большой Московской. Из-за заборов и плетней свешивалась густая пыльная зелень черемухи. Темнело.
— Сильно переживает парень, — сказал Горельченко.
— Это полезно, — сказал Данилов. — Теперь двадцать раз подумает, прежде чем превысить власть.
— Горяч. Все от горячего сердца.
— Вот, — сказал Данилов. — Такого если не держать твердой рукой, он делов наделает.
— А парень ничего. Жить будет.
— Будет. Потому с ним и обошлись по-хорошему. Если б человек безнадежный — ему бы после такой истории на директорском посту не быть. Тут бы его хозяйственная деятельность и кончилась.
— Пришел на готовое, — сказал Горельченко. — Не видел, как строилось плановое хозяйство, сколько стоило борьбы, пота, жертв, чего хочешь.
— Да, было всего, — сказал Данилов.
И замолчали, вспомнив каждый что-то свое. Есть что повспоминать человеку, коммунисту, на пятом десятке лет.
Опять, невзирая на ночной час, освещены окошки, в доме не спят неужели Гречка приехал?
С него станется.
Вот уж не вовремя…
Коростелев даже приостановился: входить ли в дом, или удрать в совхоз, переночевать в кабинете? Никого не хотелось видеть.
Рассердился на себя: человекобоязнь? Это еще что? Постарался принять беззаботное выражение, вошел.
Никого нет, только мать.
Она сидит, подперев голову рукой, лицо усталое. Давно пора ей отдыхать, а она сидит, ждет. Редко это случается.
Значит, уже знает.
Молоко на столе и чистый стакан, опрокинутый донышком вверх.
Она повернула голову и посмотрела на сына своими голубыми, ясными, в легких морщинках глазами. Он подошел и сел рядом. Помолчали.
— Пей молоко-то. Ведь не обедал?
— Не успел.
— Хочешь, каши разогрею.
— Нет. Я молока…
— Ну, пей.
— Вот какие, мама, дела, — сказал он вдруг.
В их отношениях никогда не было чувствительности. На первый взгляд казалось, что и родственной близости нет, что каждый живет своей жизнью. Уходили на работу и возвращались в разное время, так что дома почти не виделись. Встречаясь на работе, говорили о деле, и она его называла: директор.
Когда он был совсем маленький, она голубила его и ласкала. Потом ушла в большую жизнь, переложив попечение о нем на бабку. Он считал, что это правильно. Бабка латала ему штаны и сказывала сказки. Бабка больше ни на что не годилась, а мать годилась. Матери дали орден. Коростелев гордился матерью.
Он любил ее без нежности: она сильная, не слабей его, на что ей нежность? С другими людьми ему было интереснее. Иногда он даже забывал о ней. И не испытывал угрызений совести, потому что знал, что и она порой забывает о нем и что ей с другими людьми интересней, чем с ним. И считал, что это тоже правильно.
Но в очень важные минуты жизни их мысли обращались друг к другу. Когда Коростелев уходил на фронт, его мучило, что не удалось проститься с матерью. Всю войну — нет-нет, и засосет в сердце: «С матерью не простился…» Демобилизовавшись, поехал прямо к ней; и только когда встретил и обнял — спала эта тяжесть с души…
И сейчас потянуло сесть рядом.
— Обидно все-таки, — сказал он.
Она ответила мягко:
— Что зарабатываем, сынок, то нам и дают.
— Могли более чутко подойти. С сеноуборкой-то мы как справились. Если бы я в свой карман положил…
— Об этом и не говори, — сказала она. — Это совсем другой разговор. В свой карман — тогда иначе бы с тобой на бюро разговаривали, и я бы иначе разговаривала.
Ему стало стыдно, он поправился:
— Или частному лицу бы продал.
— Да как бы ты осмелился. Что ты говоришь, Митя. Дочку Бральянтовой частному лицу! Этого быть не могло бы, не тому тебя с детства учили. Что и толковать о том, чего быть не может.
Она говорила спокойным, немного усталым голосом.
— Совсем не о том думаешь. Не знай что перебираешь в голове, а дело ясное: должен постараться перед партией заслужить, чтоб сняли выговор, вот твоя линия. А обижаться, да считаться, да фантазии всякие выдумывать не партийная линия… Я вот думаю: ведь ты хозяйственник неплохой, откуда у тебя это, что вдруг возьмешь и размахнешься делу в ущерб, безо всякого соображения? И я думаю, что это у тебя от войны.
— Как это?
— Очень много в войну гибло всякого хозяйства. Считать было некогда и жалеть тоже. По собственным городам приходилось палить, чтоб врага выбить. Последние годы воевали богато: сто снарядов истратите — вам тыщу новых рабочие шлют; на место одного сбитого самолета — нате, получайте десять новых… А пока ты так роскошно воевал, мы здесь над каждым теленком тряслись, своими юбками его укрывали, своей мукой, из пайка, ту же Бральянтовую, случалось, подкармливали, берегли для вас, для армии, каждый грамм зерна и каждую каплю молока… Правильно дали строгий выговор. Справедливость. Учись счет вести нашему добру… и пей молоко, голодный ведь.
— Насчет войны — уж очень это вы глубоко в корень смотрите, — сказал Коростелев, хмурясь. — Попросту — свалял дурака с этой Аспазией. Как будто я не признаю, что свалял дурака. Я только говорю, что для первого раза можно бы и помягче.
— Нельзя тебя, Митя, помягче. У тебя такой характер — тебя надо бить побольней. Иначе ты почешешься и сразу забудешь. Тебя всю жизнь будут очень больно бить, уж я вижу.
— Спасибо за доброе предсказание, — сказал он уныло.
И мать родная против него. И мать родная говорит: «Тебя надо побольней». Утихни, Коростелев, пей молоко.
Утром чуть свет он верхом уехал на третью ферму, велев Тосе быть наготове: как только Данилов соберется — везти его на станцию.
На третьей ферме веяли семенную пшеницу. Работали две веялки и триер. Веялки стояли на чистом, добела выметенном току, а триер — в закрытом помещении. Из-под триера семена относились в закрома.
Женщины, работавшие на веялках, особо старательно и любовно собирали зерно и насыпали его в мешки.
Коростелев заглянул в закрома и залюбовался чистым, крупным, светлым зерном.
Да, подумалось ему, вот опять посеем, и опять заколосятся хлеба на полях — новый круг, вечный круг жизни… Он пересыпал в пальцах тяжелые семена и не слышал, как кто-то вошел в зернохранилище. Оглянулся, когда мужская рука тронула его плечо.
Бекишев.
— Любуетесь?
Коростелев поздоровался сдержанно.
— Не знаете, — спросил он, — уехал Данилов?
— Уехал. Вас спрашивал.
— Что ему надо?
— Так, хотел проститься. Привет передавал.
Коростелев только шмыгнул носом. Сначала выговор, потом привет. Тактика…
Ему было неприятно, что Бекишев приехал вслед за ним. «Должен бы понять, что у меня за настроение. Может, мне одному хочется побыть».
Он отвечал Бекишеву коротко, разговаривал с другими людьми, не обращая на него внимания. Но Бекишев как бы не замечал этого, держался просто, спокойно и дружелюбно, и постепенно Коростелев смягчился. А к середине дня с удовольствием думал, что вот Бекишев не оставил его в тяжелом настроении и тактично показывает ему свою дружбу.
«Хороший парень Бекишев», — думал Коростелев, когда, объехав поля, где уже пахали под зябь, они верхами возвращались с фермы.
Ехали по жнивью, напрямик, и выехали к речке. В лицо им пахнуло сладостной влажной прохладой.
— Не искупаемся? — спросил Бекишев.
— Можно…
Привязали лошадей и разделись в тени под ивами. На речке в этот час было нелюдно, только метров на сто повыше прыгала и плескалась в воде стайка голых коричневых мальчишек.
Коростелев сбежал с берега, нырнул, вынырнул и поплыл красивым кролем. Бекишев плыл рядом на спине, блаженно зажмурив глаза.
— Ах… хорошо! — сказал он.
Выходя на берег, чувствовали во всем теле свежесть, бодрость, могучий бег крови. Коростелев лег ничком на песок.
— Хорошо! — повторил Бекишев.
— Каждый бы день раза два так окунуться, — сказал Коростелев, прижавшись щекой к песку, — никакого курорта не надо.
— Я каждый день купаюсь.
— Не понимаю, — сказал Коростелев.
— Чего не понимаете?
— Как это вы ухитряетесь каждый день. Я с утра как закручусь — только тогда и опомнюсь, когда все люди спать полегли. Иной раз подумаешь: эх, сбегать бы на речку! — и ни черта времени не выкроишь.
— Вот — выкроили же, — улыбнулся Бекишев, одеваясь.
В белой рубашке с засученными выше локтей рукавами, коренастый, сильный, он сидел рядом с Коростелевым, выбирал, не глядя, из песка маленькие круглые ракушки и бросал их в воду, в какую-то ему одному видимую мишень.
— Не знаю, — сказал Коростелев нехотя, — живу я как будто правильно…
— Это вам кажется, — сказал Бекишев и, нацелившись, бросил ракушку.
— По-вашему — неправильно живу?
— Абсолютно неправильно.
— Это почему же?
— Даже искупаться времени не хватает. Что же тут правильного? Ну, купанье — полбеды, мелочь; а вот то, что вы не учитесь, это уже совсем неправильно и даже преступно.
Эта мысль не раз приходила Коростелеву в голову, она была тревожная, он гнал ее. «Когда мне! — думал он. — Вот наладятся дела, тогда буду учиться».
И сейчас он сказал:
— Пока не приведем совхоз в цветущее состояние, мне учиться некогда. Данилов говорил, зимой курсы какие-то будут в области для директоров совхозов — значит, съезжу, поучусь. А что касается купанья и прочего, то я сколько раз, еще даже когда пионером был, составлял режим дня, и моментально этот режим летел кувырком, не знаю почему.
— Вы уверены, — спросил Бекишев, внимательно дослушав до конца, — что вам удастся привести совхоз в цветущее состояние, не учась систематически и всерьез? Жизнь идет вперед — не боитесь отстать?
— А наша практика? — возразил Коростелев, поднимаясь с живостью. Практику вы ни во что не считаете?
— Не верю в теорию без практики, — сказал Бекишев. — Не верю в практику без теории. Через пять лет вы не сможете руководить совхозом. Даже раньше: через два-три года. — После каждой фразы он быстрым и резким движением бросал ракушку. — Через десять лет почувствуете себя балластом. Те самые люди, которыми вы сейчас руководите, опередят вас. И ничто вам тогда не поможет — ни боевые заслуги, ни практические знания, ни то, что вас любят, — да, вас любят, полюбили… очень хорошо относятся… но, все равно, отставания не простят.
— А время-то, время! — закричал Коростелев. — Где я его возьму, ведь сутки-то мне никто не удлинит!
И тут Бекишев рассердился — в первый раз. Словно туча нашла на его лицо, и взгляд стал жестким.
— Не хочу уговаривать, будто вы маленький, — сказал он холодно, не глядя на Коростелева. — Ребяческая увертка. Вы ее придумали, чтобы перед самим собой оправдаться. А тут просто лень, обыкновенная мальчишеская лень, вот как школьнику не хочется учить уроки… Поехали.
«Он прав, и нечем крыть, — думал Коростелев, одеваясь. — Надо, надо учиться! — думал он, едучи вдоль берега рядом с Бекишевым. — В этом году, кажется, уже поздно подавать заявление, но в будущем подам… обязательно! А то — в самом деле отстанешь, безнадежно отстанешь, пропадешь!..»
Летом жизнь становится уже совершенно лучезарной.
Летом человек купается в речке, потом вылезает на берег и обваливается в горячем песке, как котлета в сухарях, и тут же из песка строит крепости и города, потом опять лезет в воду, и вслед за ним ныряют с берега длинноногие лягушки, а на кончике ветки сидит, задремав, вся в солнце золотая стрекоза и чуть-чуть покачивается вместе с веткой.
Летом роща, которая зимой так далеко, оказывается расположенной совсем близко от дома; Сережа ходит туда каждый день. Это первое лето, что мама разрешила ему ходить в рощу с мальчиками, без взрослых. А как без взрослых хорошо, если бы они знали!
Летом не надо зашнуровывать и расшнуровывать ботинки (никчемное занятие, придуманное на страданье людям) и вообще тратить время на одеванье и раздеванье: бегаешь в трусиках, и только вечером мама кричит с крыльца:
— Сережа, где ты, иди надень рубашку, уже свежо!
И каждый день щедро дарит нежданные открытия и радости.
Самая большая Сережина радость этим летом — галка.
Галку принес Васька. Она была желторотая, летать не умела, ходила с трудом, припадая к полу и волоча хвост.
— Где ты ее нашел? — спросил Сережа.
— У нас в саду, на земле, — ответил Васька. — Из гнезда выпала.
— А почему ты не положил ее обратно в гнездо?
— На ней не написано, из которого она гнезда. Там галочьих гнезд до черта. Не в то гнездо положишь, они ее до смерти забьют.
Галка открыла клюв и крикнула: «Кар!»
— Есть хочет, — сказал Васька.
Сережа ножиком раскопал землю под сиреневым кустом, нашел несколько дождевых червей и дал галке. Она проглотила их, давясь от жадности, и заорала еще громче: «Кар! кар!»
— Подари мне ее, — сказал Сережа.
— А что за нее дашь? — спросил Васька.
— Я не знаю, — грустно сказал Сережа, чувствуя, что сейчас Васька его ограбит.
— Ладно, сговоримся, — сказал Васька, не придумав сразу, какую бы цену положить за галку. — Ты ее, главное дело, корми хорошенько, а то издохнет. Они, воронье, ненасытные.
Он ушел, а черная, взъерошенная, орущая и вертящая головой птица осталась у Сережи.
Кот Зайка, разбуженный ее криком, вышел, потягиваясь, на террасу и осторожно принюхался.
— Не смей! — закричал на него Сережа. — Не смей ее трогать! Я тебе дам!
— Ох, Сережа, — сказала Марьяна, — и нажил же ты себе хлопот…
Теперь Сережа с утра до вечера был занят работой: копал землю и добывал червей для галки. Галка жила в его комнате, в коробке от кубиков, выложенной внутри мягкими тряпочками и ватой. Целый день ее требовательные крики разносились по дому. Время от времени нужно было ее поить: она задирала голову и разевала клюв, и Сережа лил ей в рот воду из чайной ложки. Дверь и окно приходилось охранять, чтобы Зайка не забрался в комнату.
— Отвратительная птица! — сказал Иконников. — Удивляюсь, Марьяна Федоровна, как вы позволяете.
А как не позволить, если Сережа привязался к этой птице?
— Галя-Галя! — кричал он со двора, неся ей червей в игрушечном ведерке, и галка отзывалась из комнаты неистовым «кар!».
Он кормил ее и приговаривал:
— Бедная! Голодная! Ну, ешь, ешь, Галя-Галя-Галя!
Так он приучил ее к кличке.
Прошло недели две, и галка отказалась сидеть в коробке. Она потребовала, чтобы ее выпустили на воздух. Сережа отворил дверь. Вертя головой, поблескивая бусинками глаз, галка перебралась через порог, перешла столовую и вышла на террасу. Там под стулом, развалясь, спал Зайка. Он открыл глаз и посмотрел на галку… Галка, выпятив грудь, подошла к нему, каркнула и ударила его клювом в глаз — Зайка едва успел зажмуриться… Он сел и некоторое время наблюдал за галкой; потом, видимо, решив, что лучше не связываться, угрюмо и обиженно удалился в комнаты.
Галка росла. Деловитой походкой, переваливаясь и подскакивая, она ходила по дому и по двору. Сама копалась под кустами сирени — искала червей. За обедом взлетала на стол и выхватывала из тарелок макароны и капусту. И Зайка, и собака Букет боялись ее: она взлетала им на голову и больно клевала в темя. У кур поднимался переполох, когда галка приближалась к ним.
Она воровала блестящие вещи: исчезали чайные ложки, пропали маленькие Марьянины ножницы. Не сразу догадались, что искать их надо в галкиной коробке (спала она по-прежнему у Сережи, в коробке от кубиков). Тетя Паша боялась снять очки: только положит их на стол или на подоконник — глядь, галка уже подбирается к ним, бочком, вприпрыжку, нацелившись вороватым глазом.
— Ее нужно посадить в клетку! — сказал Иконников.
Но никто с ним не согласился: в этом доме никогда не держали птиц в клетках.
Мальчики Дальней улицы были от галки без ума.
— Галя-Галя! — по целым дням раздавались крики на улице.
— Кар! — отвечала галка, но на чужой голос не шла, чем особенно гордился Сережа.
Она ходила с ним на прогулки. Он шел, окруженный мальчиками, а она сидела у него на плече.
Однажды она исчезла из дому. Сережа бегал по всему городу и звал: «Галя-Галя!» Она не отзывалась. Сережа плакал и опять звал. Вечером Марьяна силой увела его домой и уложила в постель. Он посмотрел на пустую коробку, стоявшую на комоде, и залился слезами. Вдруг кусты за окном зашумели, и галка влетела в комнату — и прямо к Сереже!
— Галя-Галя! — закричал он, вскочив.
На ноге у нее был обрывок тряпки.
— Подумай, Сереженька, — сказала Марьяна, — ее привязали, а она оборвала привязь и прилетела к тебе!
Но потом галка все-таки покинула Сережу. К ней стала прилетать другая галка, они подолгу гуляли вместе по двору и о чем-то совещались.
— Они улетят, — сказала Марьяна. — Они задумали вить гнездо. С этим ничего не поделаешь, Сереженька. Птица должна вить гнездо.
И галка улетела. Это было очень грустно, но ничего не поделаешь Сережа понимал, что ничего не поделаешь.
Два раза галка прилетала в гости. Ходила по террасе, пугала Зайку, выхватывала макароны из супа, а другая галка сидела на ветке и смотрела, как ее подруга безобразничает в гостях.
Потом они перестали прилетать. Должно быть, они были очень заняты постройкой гнезда, и у них не было времени ходить в гости.
Глава шестая ОСЕНЬ
Вот школа. Ее только что построили. Со светлых кирпичей, из которых она сложена, еще не облетела розовая пыльца.
У школы две трубы. Из обеих труб идет дым: топят печи, хотя до холодов далеко — дни стоят золотые, погожие; топят, чтобы скорее просохло здание.
Много разных красок пошло на школу: крыша зеленая, пол коричневый, классы — светло-желтые с белым, коридор — голубой. Все краски пахнут одинаково: новизной, праздником, ожиданием.
Привезли оборудование: парты, стулья, столы, шкафы, большие классные доски, два круглых синих глобуса и баки для воды: откроешь кран — вода в рот фонтанчиком.
Тащили шкаф в четвертый класс, шкаф упирался, оцарапал косяк, на свежеокрашенном полу оставил след своей грубой деревянной ноги. Пришел маляр, закрасил след, велел, чтобы два дня никто не входил в четвертый класс.
Пустырь вокруг школы очистили от стружек, щепы, обломков кирпича. На расчищенной земле лопатой, колышками, бечевкой наметили линии будущих аллей, контуры будущих клумб, ягодников, опытных грядок.
В школу шли комиссии, одна за другой: строители, врачи, учителя. Сам председатель райисполкома пришел и сам секретарь райкома партии Иван Никитич Горельченко. Они неловко присаживались на маленькие парты, на которых еще никто не сидел, против больших черных досок, на которых еще ничего не было написано, и лица у них становились смущенными, потому что все они в этот миг вспоминали свои школьные годы, и все чувствовали умиление, и все старались это умиление скрыть.
Один Иконников был недоступен подобным слабостям.
— Ну, как? — спросил его Коростелев. — Хороша школочка?
— Очень пахнет краской, — сказал Иконников и поскорей пошел на свежий воздух, обмахиваясь чистым платком… Но черт с ним. Сегодня, когда все новизна, праздник, ожидание, — не будем говорить об Иконникове. О нем в другой раз, когда испортится погода и будет плохое настроение.
Последние дни августа. В школу приходят отцы и матери, приводят детей, приносят метрики и справки об оспопрививании.
Две матери зашли в канцелярию. Двое детей, мальчик и девочка, ждут их в коридоре.
— Мне уже давно семь лет, — говорит девочка. — Мое день-рождение было в марте. А твое когда?
У нее рыжие косички, завязанные крендельками на ушах, и черные живые глаза. Мальчик смотрит на нее озадаченно.
— Я могу нарисовать пароход, — говорит он.
— Фу, пароход! — говорит девочка. — Пароход каждый дурак умеет. А ты умеешь нарисовать лошадь?
Проходит Марьяна со стопкой книг.
— Если она захочет поставить меня на колени, — говорит мальчик, — я все равно не стану.
— Она не будет ставить на колени, — говорит девочка. — Она нас будет выгонять из класса.
И они провожают Марьяну долгим взглядом.
…Первое сентября, первый день нового учебного года. Нежарко светит утреннее сентябрьское солнце. Треугольником пролетает в небе журавлиная стая. И дети идут по полям, размахивая сумками.
Когда прозвучал звонок, возвещавший конец урока, Марьяна построила детей в пары, вывела во двор и сдала матерям, пришедшим встретить своих малышей. Под материнской охраной первый класс организованно направился в поселки, по домам. «Почти такие же маленькие, как мой Сережка, — подумала Марьяна, глядя им вслед. — В классе они не кажутся такими маленькими…»
Она вернулась в класс, села на парту и посидела, поддерживая голову рукой, отдыхая от впечатлений, нахлынувших на нее в этот первый день ее самостоятельной работы.
Невозможно сразу запомнить, как кого зовут. Запомнились имена тех, кто шалил, вообще как-то проявлял себя. Девочку с рыжими косичками, завязанными на ушах крендельками, зовут Серафима, Фима. Она все время шепчется с соседями, поссорилась с девочкой, сидящей за нею. Ссора была шепотом, но все перестали слушать Марьяну и смотрели на ссорящихся. Пришлось прервать урок:
— Что у вас там делается, ребята?
— Она взяла мою резинку и не отдает! — сказала Фима, сверкая черными глазами.
— Встань! — сказала Марьяна. — Когда к тебе обращается преподаватель, надо встать.
Фима встала.
— Теперь отвечай мне.
— Она взяла мою резинку и не отдает, — уже спокойно доложила Фима.
— Положите резинки, вообще все ваши вещи в парты, — сказала Марьяна. — Чтобы на партах ничего не было. Положите руки назад, вот так. Смотрите на меня и слушайте внимательно, потому что то, что я сейчас говорю, очень важно.
Все зашевелились — им нравилось выполнять приказания учительницы, да и рады были подвигаться — и стали убирать учебные принадлежности в парты. Они притащили в школу резинки, краски, цветные карандаши и показывали друг другу. К мальчику, у которого был очень толстый карандаш, писавший синим, красным и зеленым, на перемене ходили даже из других классов — посмотреть на интересный карандаш.
Они верили учительнице, что то, что она говорит, очень важно, но не могли слушать долго. Вон чей-то маленький рот разинулся, как буква «о», и протяжно зевнул, сейчас же зазевали другие. С задних парт поднялся шепот, головы задвигались, глаза ребят ушли от Марьяны в сторону, вверх, вниз. Глаза голубые и серые, черные и карие — все ушли…
На втором уроке вдруг оказалось, что нет девочки, сидевшей на передней парте справа. Марьяна пошла искать девочку и нашла у двери учительской.
— Что ты тут стоишь? — спросила Марьяна. — Почему не идешь в класс?
— Я забыла, куда идти, — сказала девочка. — Я заблудилась.
Они возвращались в класс. Из класса им навстречу вышла другая девочка, схватилась за Марьянину юбку и пошла рядом.
— Тетя, — сказала она, — я пить хочу.
После второго урока Марьяна повела ребятишек в поле и поиграла с ними. Мальчик Вадик все время отбегал и бросал в девочек землей. Потом она села с ними на травку и почитала вслух. Чтение слушали охотно, только Вадик к концу заснул.
— Вадик спит! Вадик спит! — сейчас же сообщили десятки голосов.
— Не будите его, — сказала Марьяна. — Пусть отдохнет.
Он больше всех тратил силы — бегал, шалил, кричал. Во сне лицо у него было невинное, кроткое, тень от ресниц лежала до середины щек.
«Из всех из них получатся люди, — думала Марьяна. — Но как не скоро это будет, а сейчас некоторые даже не знают, что после понедельника идет вторник…»
Потекли один за другим рабочие дни, называемые учебными днями, разделенные на учебные часы.
Учебный час на пятнадцать минут короче обычного часа. Марьяне он казался то громадным, то слишком коротким: только овладеешь вниманием ребят, только почувствуешь, что тебя слушают и понимают, — а тут звонок, головы поворачиваются к двери, кто-то срывается с парты, и уроку конец.
Кое-чему она уже научила ребят. Теперь они дружно вставали, когда она входила, и здоровались. От усердия их приветствие было похоже на громкое неслаженное «ура».
— Тише, ребята, тише надо здороваться.
Она знала всех по имени и фамилии, знала, на кого можно положиться, а за кем надо следить неотступно. После уроков она заходила домой то к одному ученику, то к другому; смотрела, как живет ученик, есть ли у него уголок для занятий, что за люди в семье. Почти всегда сказывалось, что нужно достать ордер на пальто или на дрова или устроить в детский сад младшего братишку, чтобы избавить старшего от обязанностей няньки…
У каждого из ребят свои особенности.
Саша — художник, фантаст. Пишет палочки, и вдруг ему становится скучно, и он начинает рисовать: из палочек делает трубы с дымом, а снизу пририсовывает пароход.
Рыженькая Фима произносит «арихметика». И ничего с этим нельзя поделать.
— Арифметика! — говорит Марьяна. — Вот послушай: арифффметика! — она изо всей силы нажимает на букву «ф».
— Ариххххххметика! — усердно повторяет Фима, изо всей силы нажимая на букву «х».
Вадику необходимо время от времени дать возможность подвигаться: послать за чем-нибудь или приказать открыть форточку. Иначе он либо уснет, либо выкинет какую-нибудь штуку во время урока.
Писали «а». Марьяна начертила на доске три горизонтальные линии и несколько косых.
— Вот, ребята, буква «а». Это письменное «а», письменное маленькое «а». Сейчас мы будем писать эту букву. Следите внимательно за моей рукой. Начнем отсюда, со средней линейки. Ведем вверх, к верхней линейке. Потом влево, вниз, до нижней линейки, потом вправо и вверх. Теперь рядом сверху вниз проведем палочку, с нажимом, хвостик палочки загибаем, вы такие палочки умеете писать. Получилась буква «а». Пишем еще раз: вверх, влево, вниз, вверх… и приставляем палочку. Понятно?
— Понятно! — пронесся крик, похожий на нестройное «ура».
— Всем понятно?
— Всееееем!
— Пишите, — сказала Марьяна.
Перья заскрипели.
Марьяна написала на доске еще несколько крупных красивых «а», положила мел, пошла между партами, взглянула в тетради и ужаснулась.
Почти все сразу забыли, откуда начинать. Кто начал сверху, кто снизу. Когда вели пером вверх, перо скрипело, цеплялось за бумагу и разбрызгивало чернила по странице. У Вадика даже на лице были мелкие чернильные брызги… Буквы кренились во все стороны, линии их у большинства получались волнистыми, хвосты были лихо задраны. «Что же это, — думала Марьяна с досадой, — неужели это так трудно…»
Семилетки трудились ретиво. Марьяна видела склоненные детские головы, нахмуренные детские лбы и чудовищные знаки, которые возникали в тетрадях в результате этих стараний, и вдруг поняла: да, это очень трудно — в первый раз написать букву «а».
Она подсела к Вадику, взяла его маленькую, в царапинах и чернилах руку и водила ею до тех пор, пока рука не начала писать правильно. Потом она так же подсела к Кате, потом к Саше… Это заняло несколько уроков; до того надоела Марьяне буква «а» — даже во сне снилась.
Скрипят по дорогам тяжелые, высоко нагруженные возы. Катят к станции трехтонки и пятитонки: из колхозов течет в города хлеб нового урожая.
Облетает роща, птицы покинули ее, темная ржавчина съела осеннее золото. В предчувствии зимы прозрачен и хрупок воздух, далеко и чисто разносятся в нем и стук топора, и крик паровоза. Огороды, где такие были краски и изобилие, лежат перекопанные, в безобразных клубках почерневшей ботвы. Только озимые поля зеленеют юно и нежно.
В первом классе новой школы, у учительницы Марьяны Федоровны, ученики выучили уже десять букв. Водя пальцем по букварю, они читают странные маленькие рассказы: «Рома мал. Он малыш. У мамы мыло. Мама мыла Рому». Эта букварная мама все время кого-нибудь моет. На двадцатой странице она мыла Шуру и Лушу. Когда на двадцать третьей странице прочли: «У мамы мыло. На, Саша, мыло. Саша сам мыл нос» — все зашептались: «Сам мыл! Сам!»
Утомленные маминой чистоплотностью, ребята приучались хитрить. Они мгновенно запоминали наизусть несложные тексты букваря и отлично помнили, какие тексты на какой странице. Картинки служили им точными распознавательными знаками. Было известно, что на странице, где сверху нарисованы три осы, написано: «осы, росы, сыр, сор, сом» и дальше: «Сыр у Ромы, а сом у мамы». Не утруждая себя аналитико-синтетическим чтением, ученик крыл наизусть: «Сыр у Ромы, а сом у мамы. Мама, Саша, сало, мыло, сон, сын». Светлана не посмотрела на картинку и прочла «сон, сын» там, где было нарисовано мыло (неизбежное мыло) и где следовало читать: «У Шуры лом». На этом и поймала ее Марьяна.
— Что ты читаешь? — спросила она. — Где ты читаешь?
— Здесь, — шепотом сказала Светлана, покорно вздыхая. — Здесь надо «у Шуры лом».
— Но ведь ты видишь, что написано «у Шуры лом»?
— Я думала, — сказала Светлана, — что написано «сыр у Ромы».
— Как — думала? Надо не думать, а читать по буквам. Ты всегда так читаешь?
— Всегда, — с глубоким вздохом отвечала Светлана.
— Зачем же ты тогда водишь пальцем по строчкам, если не смотришь, что написано?
— Потому что вы велите водить пальцем, — отвечала Светлана.
Что же получается? Значит, они не учатся сознательно читать, а упражняют память. А память у них и без того великолепная. Стихи и песни заучивают с лету. И никогда им не надоедают стихи и песни. Чтение готовы слушать часами. Иной как будто и не слушает: смотрит в сторону, вертится на месте, глаза рассеянные; а прерви чтение, спроси: «На чем я остановилась?» — ответит без запинки…
Уже маячил в недалеком будущем конец первой четверти. Марьяна думала с гордостью: «Что ж, мой первый итог будет не хуже, чем у настоящих, опытных учителей. Вон как бойко все читают».
Оказывается: не читают, а шпарят наизусть.
Чувство громадной ответственности поразило Марьяну. Народная учительница. Народ доверил ей тридцать две детские души, тридцать две судьбы… Она попыталась представить себе народ, но это получилось только очень много людей, как на демонстрации в большом городе, мелькали знакомые лица — преподавателей, которые ее учили, юношей и девушек, принимавших ее когда-то в комсомол, женщин, с которыми она работала на сеноуборке в колхозе Чкалова, лица возникали и проплывали… Но вот всплыло одно лицо, знакомое до мельчайших черт, хотя она видела его только на портретах, и с ним она заговорила в мыслях:
«Товарищ Сталин! — сказала она. — Я понимаю, как это трудно. Но я отдам сердце…»
Профилакторий на первой ферме закончен, гора с плеч. Настасья Петровна перевела туда своих питомцев. Светлым теплым коридором профилакторий соединен с новой родилкой: удобно, красиво. Здание кирпичное, с большими окнами, похоже на больничный корпус.
Еще два телятника и один двор для взрослого скота — деревянные построены, покрыты, крыши покрашены, но нет ни окон, ни дверей, ни полов, все предстоит делать. Другие два двора, как предсказал Иконников, остались недостроенными: опять зарядили дожди, работать под открытым небом невозможно. Дороги раскисли — ни пройти ни проехать; поля набухли, как губка. Телятницы ходят в высоких сапогах, подобрав юбки, чтобы не занести грязи к телятам. Мокнут брошенные постройки, глядеть на них скучно.
— Я так и знал! — говорит Коростелев Алмазову.
— Не веки ему идти, — отвечает Алмазов, хмуро глядя на серое небо. Перестанет.
— Холода начнутся.
— По холоду закончим.
В старом опустевшем профилактории Алмазов оборудовал мастерскую: поставил комбинированный станок с мотором, механическую пилу и работал. Одна бригада заготовляла рамы, двери, загородки для новых построек, другая занималась ремонтом и разными поделками: починила полы и крылечки в поселке, сделала новый кузов для трехтонки, а теперь сбивала сани для перевозки сена: зима не за горами…
В обеденный перерыв Алмазов оставался в мастерской. Его дом был недалеко, в поселке, столовая — рукой подать. Но Алмазов рад был побыть часок в одиночестве. Доставал еду из клеенчатой сумки, в которой носил инструменты, садился перед печкой, сложенной из кирпичей, и закусывал.
В печке весело и ярко, чистым светом, горела щепа и стружки. Когда огонь утихал, Алмазов нагибался, не вставая брал с пола горсть стружек и кидал в печку. И смотрел, как с новым весельем взвивается чистый огонь.
Тося пришла проведать мужа. Вошла как виноватая — она стала побаиваться его упорного молчания и сумрачных глаз. «Может, он после контузии немножко ненормальный?» — думалось ей иногда. Она принесла молоко и свежую, еще теплую ватрушку с творогом.
— Ну, уж это напрасно, — сказал Алмазов, когда она положила ватрушку ему на колени. — Что я, маленький, чтобы мне сладкое? Детям оставь.
— Она не сладкая, — сказала Тося. — Только яичком помазана, потому и зарумянилась.
Она села и смотрела на него. Надо бы поразговаривать с нею… Алмазов ел и молчал.
— Я думаю… — начала она. — Я, знаешь, надумала — ни к чему сейчас Наде новые сапоги, скоро уж на валенки перейдет. А за зиму у нее все равно ножка вырастет.
— Ладно, — сказал Алмазов.
— А вот тебе надо новые. Смотри, как истрепал.
— Починю.
— Эти починим и новые пошьем.
— Э, брось! — сказал Алмазов. — Для каких-таких гулянок!
Его сердила ее навязчивая заботливость. Готова все отобрать у детей, лишь бы получше накормить и одеть его. Подумаешь, кому нужны его сапоги. Ходит в латаных и будет ходить.
— За детьми смотри получше, — сказал он, не сдержавшись. — У людей, посмотришь, — все лучшее детям. А ты вроде мачехи.
— Я — вроде мачехи?..
Обвинение было так несправедливо и жестоко, что Тося даже не сразу оскорбилась; в растерянности она ждала объяснений.
Огонь в печке догорел. Алмазов щепкой разворошил угольки и подбросил стружек, опять запылало. Потом он завернул остатки еды в газету и положил в сумку. Потом закурил. Как видно, он не собирался давать объяснения.
Тося возмутилась.
— Говорить тебе нечего, — сказала она. — Просто кидаешься со зла. Дай бог, чтобы у других так болело сердце за детей, как у меня болит. Может, если бы не дети…
Она не договорила, задумалась…
— Ну? — спросил Алмазов. — Если бы не дети, то что?
— Может, и не стала бы жить с тобой, — сказала она. — Зачем мне?.. За всю работу мою, за терпение, за то, что только о тебе думаю…
— Вот именно, поменьше обо мне думай, — сказал Алмазов. — Ты думай о детях. Я и без твоей думы проживу.
Шаги за дверью. Он замолчал.
— Во всяком случае, тут для разговора не место, — сказал он погодя. Сейчас ребята придут с обеда. И каждую минуту кто угодно может наскочить.
Тося встала и молча направилась к двери. Ему стало жаль ее. Захотелось сказать вслед что-нибудь ласковое, например: «Спасибо, что молока принесла». Но он не сказал. Ничего тут не исправишь никакими словами…
То ли устал Коростелев, то ли плохая погода действовала на нервы малейшая неувязка стала вызывать у него чувство горечи и обиды.
«Хлопотливое дело — хозяйственное руководство», — стал подумывать он все чаще.
Как нарочно, повалили валом не неувязки, а крупные неприятности. Первой неприятностью были дожди. Вторую нанес председатель колхоза имени Чкалова.
В один прекрасный день чкаловские колхозники не вышли на завод работать. В чем дело? Оказывается, чкаловцам больше не нужно кирпича на этот сезон, а с весны у них свой завод пойдет.
Коростелев не поленился — поехал в колхоз.
— Так не поступают. Я поставлю вопрос в райкоме.
Чкаловский председатель (черт!) прижмурил глаз:
— А вы, товарищ Коростелев, знаете, что вам запрещено вербовать рабочую силу в колхозах? Подумайте сами, где взять рабочих, вы — директор.
«Насколько спокойнее было бы работать веттехником. Вот наш Толя, милая душа, райская у него жизнь — и на танцы в Дом культуры ходит, и пьесы для самодеятельности пишет, на все есть время. Я тут почти все уже вспомнил и вполне мог бы веттехником… И тоже мог бы пьесу написать. А директорское место пусть займет более опытный и хладнокровный товарищ».
Пятнадцатого октября выкинула рекордистка Мушка.
Она должна была телиться пятый раз. Первые отелы проходили благополучно. Веттехник Толя, милая душа, пришел бледный и сказал, что беда произошла, по-видимому, оттого, что Мушке давали большие порции силоса.
— Кто разрешил ей силос? — спросил Коростелев, прерывая Толю.
— Рацион подписан Бекишевым, — сказал бледный Толя.
— А ну позови его.
Бекишев замещал Иконникова, уехавшего в командировку.
— Бекишев, Бекишев! — сказал Коростелев. — Как же это? Элементарная вещь: за две недели до отела корове воздерживаются давать силос.
— Моя вина, — сказал Бекишев. Скулы его нервно двигались.
— Ээх-ма! — вздохнул Коростелев.
Бекишева нельзя винить, он не по халатности — по неопытности. Первый раз составлял человек рацион на такое большое стадо — запутался…
И что бы ни сказать сейчас Бекишеву, как ни обругать его, какое ни наложить взыскание — ничто не будет сильнее того, что чувствует сейчас Бекишев, что он говорит себе сам… Вон — ходит взад-вперед, упер подбородок в грудь, лицо как после болезни… Да, дорогой товарищ, все это так, а теленок-то погиб, что называется, ни за понюх табаку…
Нет, в ветеринарах спокойнее!
Придя домой и стаскивая сапоги, Коростелев от душевного расстройства так кряхтел и стонал, что Настасья Петровна сказала ему:
— О, да перестань. Сколько тебе лет?
Стук в окошко. С почты пришли: идите на переговорную, вам будут звонить из области. Опять натянул мокрые сапоги, проклял все, пошел.
Голос Данилова:
— Товарищ Коростелев, почему не рапортуете об окончании зяблевой пахоты?
— Потому что я ее не кончил, — ответил Коростелев.
— Почему не кончили?
— Потому что дожди не давали пахать.
— Зашились, значит?
— Да, зашился!
Ну, и выговор, и настойчивый вопрос: «Когда же кончите?..»
«В ветеринары, в ветеринары!» — думал Коростелев, возвращаясь домой.
Город крепко спал в эту темную, ветреную ночь. Редко где светилось окошко. Нужно было знать эти улицы так, как знал Коростелев, чтобы пройти по ним в такую темень и грязь. Но Коростелев шел быстро, не думая, куда поставить ногу, — ему наизусть были известны все мостки и выбоины.
Он обогнал рослого человека, медленно шедшего с палкой по узким мосткам. Присмотревшись, узнал Горельченко. Поздоровались.
— Ты откуда? — спросил Горельченко.
Коростелев сказал.
— Очень он тебе бока намял?
— Куда больше.
— Ну, расскажи подробно, как он тебе мял бока.
Коростелев рассказал подробно.
— Он абсолютно прав, — сказал Горельченко. — Бабье лето было первый сорт, мог управиться до дождей. Пока не научишься руководить как следует, много тебе предстоит таких переживаний.
— Хватит переживаний! — сказал Коростелев. — По горло сыт переживаниями, сдам годовой отчет, и отпускайте в ветеринары. Не хочу руководить.
Горельченко повернул к нему большое, смутно белеющее в темноте лицо.
— Ах, руководить не хочешь? А чего хочешь? Поллитра хочешь? Стихи сочинять? Птичка божия не знает ни заботы, ни труда? Скажи пожалуйста!
Какое-то время шли молча темной улицей мимо домиков с глухо закрытыми ставнями. Дошли до угла. В свете фонаря перед ними заблестело разливанное море грязи. Горельченко остановился, палкой выбирая дорогу, и сказал другим, веселым голосом:
— Ты зайчик.
— Не хочу продолжать разговор в таком духе, — сказал Коростелев. — На бюро будем говорить.
— А давай здесь. Какой диктатор — все будь по твоему желанию. Руководить — «не хочу», разговаривать — «не хочу». Запрещаешь мне говорить?
— Я заработал, чтобы с моими желаниями считались, — в запальчивости сказал Коростелев.
— Чем же ты заработал?
Они так и стояли на углу. Переходить улицу в грязь — занятие долгое, требующее внимания, их внимание было поглощено друг другом.
— Конкретно скажи, что ты такого наработал?
— Воевал четыре года.
— Миллионы воевали, — сказал Горельченко жестко. — Дальше что?
— Дальше — хочу работы по душе.
— Постой, давай кончим про войну. У тебя что же, к войне как к таковой душа лежала?
— Демагогия, Иван Никитич.
— Психология. Интересуюсь психологически разобраться в твоем настроении. Воевали, потому что надо было воевать, потому что — не пойди ты, да я, да он, да они — крах бы нам был! Советскому государству крах, строительству нашему крах, всем упованиям нашим! Вот почему ты воевал! А теперь навесил орденов на грудь, понимаешь, и явился: вот он я — герой, извольте со мной считаться, того хочу, этого не хочу… А партия!! — с силой сказал Горельченко, сдерживая голос — Партия, которая в такой накаленной мировой атмосфере, в такой международной обстановочке коммунизм строит! Ты о ней думаешь? С ней считаешься? Ты для чего в партию вступил?
Ветер качнул фонарь, полоса света промчалась вдоль улицы — туда и обратно…
— Все силы собраны! — сказал Горельченко, глядя мимо лица Коростелева. — Поэты врут, что это легко. Сплошной, дескать, праздник с танцами до утра. Брехня: трудно. Но такой подъем, такая сила веры, такая целеустремленность в народе! А ты, зайчик, чуть попробовал — и запросился к маме на ручки…
— Не хочу отвечать за то, что дождь идет, — сказал Коростелев. Осточертело.
— А мне вот это осточертело! — Горельченко стукнул в землю палкой полетели брызги… — Вот, понимаешь, и в плане утверждено, и средства отпущены — замостить, а рук нет! Тебя, что ли, снять из директоров да поставить мостить улицы? Тоже скажешь — не хочу… — Он повернулся спиной к Коростелеву и осторожно пошел через улицу, глядя под ноги. Коростелев за ним.
— Хочешь, — сказал Горельченко, дойдя до противоположного угла и опять остановившись, — я скажу, что ты сейчас думаешь? Ты вот что думаешь: эх, дескать, явился я с войны, насовершав ратных подвигов, и нет ко мне, молодому члену партии, надлежащего внимания и участия, и даже руководитель моей организации не поинтересуется, каковы же мои устремления в данный момент… Так думаешь.
— Приблизительно.
— Слушай, я тебе эту самую претензию предъявляю: а что ты знаешь обо мне? Только должность и фамилию. А я, может, тоже хочу, чтобы товарищи интересовались, чем я дышу и куда устремляюсь. Ты ко мне приходишь по службе, приходишь и сразу вытаскиваешь из карманов какие-то шпаргалки, а я тебя лицезрю через письменный стол. Посидеть бы нам вольно да поговорить по душам.
— Мы с тобой один раз так сидели, — сказал Коростелев. — Ты мой табак курил, а я пил твой спирт, на вокзале это было в Н***. За работу пили.
— Это ты был? — спросил Горельченко. — А ты мне тогда не понравился. Мне поразговаривать нужно было, у меня было на душе — ах, нехорошо! А ты отвечал скучно.
— У меня ноги болели, — сказал Коростелев, — и спать хотелось.
— Ты страшно нежный, директор совхоза, — сказал Горельченко. — Такое хрупкое создание. Дай закурить.
Коростелев достал папиросы.
— А где твой дальнобойный табак?
— Никак не смешаю: некогда.
— На фронте было время?
— На фронте — было.
Издалека, переданный уличным радиорепродуктором, донесся бой Кремлевских курантов. Коростелев приблизил к глазам руку, сверил часы. Куранты то били явственно, то звук пропадал — ветер уносил его.
— Москва! — сказал Горельченко.
Коростелев зажег спичку и, прикрыв ладонями, дал закурить. Длинные искры понеслись по ветру. Ветер вольно летал над полями и улицами, вздувал огоньки папирос, развевал по бескрайнему небу торжественные звуки гимна.
— С этими часами, — сказал Горельченко, — нам сверять свои часы до конца наших дней и под эту музыку нам шагать до конца наших дней… Мне прямо, а тебе?
— Мне сюда, на Октябрьскую.
— Ну, прощай. Слушай: приходи ко мне завтра вечером. Я тебе докажу, что ты сотворен именно для той работы, на которую поставлен, и работа эта сотворена для тебя. Как дважды два четыре докажу. Домой приходи.
Коростелев бежал по скользким мосткам, размахивая руками. «Почаще бы так говорить, — думал он, — а то действительно все о делах…» Он остановился и свернул на Дальнюю улицу.
Зачем ему это понадобилось? Как-то летом он шел по Дальней и увидел Марьяну, она стояла у калитки. Он поздоровался и прошел, а когда прошел, ему захотелось оглянуться. У нее были грустные глаза, и весь образ ее был окружен чистым светом… Но это было днем, неужели ты думаешь, что сейчас, поздней холодной ночью, она стоит у калитки? Или ты намерен постучаться, зайти?
Ничего он не думал и никаких не имел намерений — просто прошел мимо ее окон. В окнах было темно, а ставни не закрыты. На секунду он остановился: вдруг зажгут свет в комнатах? Вдруг откроется форточка, покажется лицо?.. Свет не зажегся, форточка не открылась, дом спал мирным глубоким сном.
И Коростелев пошел дальше — к себе на Октябрьскую.
Глава седьмая НАСТАСЬЯ ПЕТРОВНА
Бабка повышала свое образование. Пока варился обед, она стояла у печки в очках и читала книгу. Читать ее научила сначала дочка, Настасья Петровна, взяв ее к себе на покой, потом бабка посещала ликбез.
Романов она не любила, ее занимали науки. Библиотекарша Дома культуры знала, что в среду обязательно придет маленькая старушка, сухая и чванная, и спросит что-нибудь научно-популярное; и библиотекарша заранее припасала к среде какую-нибудь брошюру — о переработке нефти, о жизни пчел или о работах Мичурина.
Больше всего бабка любила читать о болезнях. У нее была идея, что если бы ей дали образование смолоду, как нынче всем дают, то она была бы знаменитым врачом. Прочитав описание какой-либо болезни, она немедленно обнаруживала эту болезнь у себя и с интересом наблюдала за ее развитием. Длительное время она таким образом болела воспалением печени, но потом, прочитав о гипертонии, нашла, что больна именно гипертонией и ничем другим, и целиком переключилась на гипертонию, как говорил Коростелев. Потом изменила и гипертонии, занявшись сердечными болезнями. Врачам она не показывалась, да в этом и не было нужды, потому что бабка, несмотря на преклонный возраст и тяжкую жизнь в прошлом, обладала железным здоровьем.
Сейчас она увлекалась астрономией. Ей нравились красивые и непонятные слова: галактика, космос, спектральный анализ. Это было еще величественнее, чем названия болезней: сепсис, инфаркт, психастения. В мире высоких слов и грандиозных представлений бабка чувствовала себя счастливой.
На хозяйстве научные занятия отражались положительно. При доме бабка разводила огород. Она огородничала по научным методам и гордилась тем, что овощи у нее крупнее и красивее, чем у соседей. Огурцы она тоже солила научно. И разные секреты знала: как перебрать и перемыть пух, чтобы подушки были высокие и мягкие; чем склеить чашку, чтобы трещина не была заметна; как варить варенье, чтобы оно не прокисало и не засахаривалось.
В бога бабка не верила, так и говорила: «Религия — предрассудок, я в бога не верю и в богородицу не верю, и в царствие небесное не верю» — и в то же время пугалась и крестилась, если ночью слышала вой собаки или если разбивалось зеркало. Увидев, что хлеб лежит нижней коркой вверх, она говорила с сердцем: «Так, конечно, в доме никогда не будет достатка!» — и перекладывала хлеб как следует.
— Какие вы, мама, суеверные при вашем уме, — говорила Настасья Петровна. Бабка отвечала с важностью:
— Это не суеверие, а народные приметы.
Кое-каким ее приметам и впрямь можно было верить. Каждый вечер она выходила посмотреть на закат солнца и потом сообщала:
— Солнышко-то в тучу село, ждите дождя.
Или:
— Уж красно-красно было на небе при заходе, быть завтра ветрищу.
И что предскажет, то и будет.
В семье над бабкой посмеивались, но любовно. Ее уважали и радовались, что могут покоить ее на старости. А по сути дела, бабка всему дому голова: без нее бы некому ни обед сварить, ни корову подоить, ни зашить, ни прибрать. И еще науками успевает заниматься. Огонь, а не бабка.
— Плохо, Настя, что ты мало читаешь, — говорила она дочери.
— Что мне надо, мама, — я читаю.
Настасья Петровна читала речи Сталина. Они направляли ее в жизни. Когда она прочитывала сталинскую речь, ей казалось, что это самое и она давно уже думала, только не умела так хорошо выразить.
А вообще у нее мало было времени для чтения, зато она любила лекции и политинформации, которые проводились в красном уголке: умный человек прочтет за тебя газеты и книги, какие надо, и все тебе расскажет, милое дело. Сидишь в компании, не надо утруждать глаза, если что непонятно спросишь сразу.
Когда-то она уходила в книги от своей убогой жизни, теперешняя жизнь интересовала ее больше, чем книги.
Начало войны застигло Настасью Петровну Коростелеву в Москве, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Четыре коровы были представлены в тот год на выставку от совхоза «Ясный берег», среди них — молодая, но уже знаменитая Брильянтовая. С ними приехала в Москву делегация: две доярки и Настасья Петровна, и главой делегации — старший зоотехник Иконников.
Настасья Петровна была в Москве первый раз в жизни.
Она и раньше знала, что Советский Союз очень большой, но как-то не могла себе это представить. А тут — как высадилась на громадном шумном вокзале, да вышла на громадную площадь, вокзалами окруженную со всех сторон, да понеслись по площади автомобили, да хлынули людские потоки поняла: вот оно что!..
Приехала на выставку; мимо длинных гряд, усаженных цветами, вошла в парк. Играла музыка, дивной красоты дворцы высились тут и там, дворцы назывались — павильоны. Людей — сила, с севера и с юга, белокожих и смуглых, как темная медь, разные говоры, разная одежа. Там, глядишь, среди светлоглазых рослых рязанцев стоит какой-то в стеганом цветном халате (и не жарко ему), в золотой тюбетейке, что-то рассказывает, видать по-русски, потому что рязанцы слушают и отвечают; там женщина прошла в широких браслетах на шоколадно-загорелых руках, прошла, просверкав на солнце одеждами, царевна не царевна — знатный хлопковод из Казахстана. У Настасьи Петровны закружилась голова.
Она шла в павильон, где на движущейся ленте непрерывным потоком плыли разные меха, где из белых лисиц была сложена гора, а на горе стоял охотник в полный рост, с ружьем.
Или шла в павильон, где, как в снегу, стояли кусты хлопчатника, покрытые нежными белыми круглыми пушками. Или в павильон, где за стеклом были расставлены сапожки и туфельки голубой и алой кожи, расшитые шелком и серебром, — и какие мастера это делают, и на чьи это ножки такая обувка?
Подходила к армянскому павильону, трогала тонкое золотое кружево на его двери. Заходила в чайхану и ела незнакомую еду — плов и запивала незнакомым чаем — зеленым, душистым, без сахара, освежающим, как ключевая вода. С подавальщицами в чайхане заговаривала по-русски, и они по-русски разъясняли, как делается плов и почему чай зеленого цвета.
Уморившись, отдыхала на лавочке при дорожке, смотрела на прохожих людей и слушала музыку и людскую речь.
А иногда садилась в автобус и ехала в город. Побывала в Музее революции, повидала Кремль и Красную площадь, поклонилась Ильичу. Два раза ее с другими делегатами водили в театр. Еще больше, чем театр, ей нравилось метро. Нравилось, что возят быстро, что никого ни о чем не надо спрашивать — по надписям понятно, что чисто, красиво, богато. «На века строим! — думала она, с гордостью глядя на могучие мраморные колонны подземных станций. — На многие века!»
Поговаривали, что в двадцатых числах делегаты выставки поедут на прием в Кремль, все волновались — Сталин будет на приеме или не будет?.. Настасья Петровна для этого дня берегла лучшее сатиновое платье (новое, ненадеванное, в цветочек) и платок ненадеванный, в мелкую синюю крапушку… И все перевернул черный день, окаянный день, не забыть его 22 июня.
…Жара стояла непереносимая, когда делегаты «Ясного берега» выехали из Москвы. Зной трепетал на необкошенных откосах, горячая пыль жгла глаза и горло. Мгновенно стали черными и белые платки женщин, и вышитая украинская рубашечка Иконникова, которую он приобрел в столице. В мерцающем мареве проплывали железнодорожные желтые домики, деревца, поникшие на безветрии, опаленные лица с глазами, прикрытыми от солнца рукой… Настасья Петровна смотрела на это все, и ей казалось, что никогда не было такой жары, что жара — от войны, а Митю небось уже призвали, и как, поди, трудно Мите в полной амуниции по такому пеклу…
Тащились медленно: что ни разъезд — остановка, и то встречь, то обгоняя проносился длинный поезд с людьми, едущими на фронт. Двери теплушек открыты, в дверях — кто стоя, кто сидя, как на групповой карточке, — солдаты, солдаты! Рубахи на всех одинаковые, защитные, а лица разные, одни белокожие, другие смуглые, как темная медь… «И Митя так проедет, я и не укараулю», — думала Настасья Петровна. (Митя, Коростелев, перед войной работал веттехником в дальнем совхозе, под Архангельском.)
На станциях приходилось дожидаться многими часами. Тогда доярки и Настасья Петровна шли искать по окрестностям и приносили коровам свежего сенца. Присматривать за коровами оставляли Иконникова. Он слонялся у вагона разомлевший, безучастный. Когда его сменяли, шел на станцию и давал телеграмму в совхоз.
Коровы мучались от жары, часто ложились, дышали тяжело, молока давали мало, Брильянтовая худела на глазах.
Одна доярка заболела, пришлось оставить ее в Ярославле, в больнице. Другая тоже выбыла из строя: с первого дня войны все плакала, что муж без нее уйдет на фронт, она его не проводит, а как увидела, что не скоро доберется до дому, стала плакать еще пуще, худые сны ей снились. Настасья Петровна сказала:
— Чем так — расстарайся проехать вперед нас, я как-нибудь сама.
Доярка заплакала от благодарности и хотела поклониться Настасье Петровне в ноги. Та сказала:
— Еще у начальства спроси, отпустит ли.
— Ах, делайте, что хотите! — махнул рукой Иконников. — Как будто сейчас не все равно!..
(За несколько дней он потерял всю свою величавость, перестал интересоваться делами — сильно нервничал человек.)
Доярка пересела в пассажирский поезд и уехала. Остались Настасья Петровна и Иконников.
— М-да, — сказал Иконников, — может получиться тяжелая история: мне придет повестка, а я тут задерживаюсь.
— А мы докажем, — сказала Настасья Петровна, — что вы задержались по службе.
— Где это вы докажете? — повел на нее белыми ресницами Иконников. Скажут: недостаточно энергично продвигался, задерживался злостно. И в расход, как дезертира.
— Ну что ж, — сказала Настасья Петровна, подумав, — поезжайте и вы вперед, когда такое дело.
— Я бы не бросил вас, — сказал Иконников, — если бы меня не вынуждало чувство ответственности. Вы же по сводкам видите, что делается. Сейчас на учете каждый человек, способный носить оружие.
На другой день он тоже пересел на пассажирский поезд и отправился — в областной центр, в трест, закинуть удочку насчет брони.
Настасья Петровна осталась одна.
Она стояла на лужку в стороне от станции. Рядом паслись ее коровы. Беспощадно накалено было небо, а еще тяжелее накалена земля — станция, скопившиеся на ней железо, уголь, пыльные и потные тела… Поезд, увезший Иконникова, был уже далеко — пятнышко дыма на горизонте. Приближался другой — грохот, пар, огненное дыханье, орудия, укрытые брезентом…
Вагончик Настасьи Петровны стоял в тупике с другими несчастливыми вагонами, которые пойдут неизвестно когда. Диспетчер давеча сказал:
— Завтра поедете. А может, послезавтра. — Он посмотрел на Настасью Петровну мутными от бессонницы глазами. — А может, через неделю, почем я знаю. Идите, мне не до коров.
Коровы медленно переставляли связанные ноги и вздыхали, выщипывая траву. У них был недовольный, утомленный вид.
— Бральянтовая! — тихонько окликнула Настасья Петровна.
Брильянтовая повернула голову, посмотрела через плечо угрюмым взглядом и враждебно фыркнула. Настасья Петровна даже засмеялась.
— Дорогая ты моя, — сказала она, — чем же я перед тобой виноватая…
«А пойду-ка я с ними пешком, — подумала она, — пойду и пойду по воздушку. Сколько дней стоим и ждем, за это время уже вон где были бы… Около путей буду держаться и дойду до Кострова. В случае чего — дорога вот она рядом, и документы при мне».
Она пошла на станцию и спросила у девушки в форменной фуражке:
— До Кострова от вас сколько километров?
Девушка не знала, где Кострово. Настасья Петровна объяснила. Вдвоем подсчитали: километров двести будет.
«Дойду, — подумала Настасья Петровна. — Не так уж далеко».
Она зашла в свой вагончик, увязала в узелок хлеба и соли, узелок привязала к ручке подойника, захватила скребницу и щетку, остальное сдала в багаж — сперва не хотели принимать, потом приняли, спасибо им. Хотела зайти к начальнику станции, но к нему была большая очередь. Настасья Петровна не стала ждать, а сказала все той же девушке в форменной фуражке:
— Там вагончик, он теперь порожний, пользуйтесь, а мы пошли.
— Ну, счастливо вам, — сказала девушка.
— Спасибо, — сказала Настасья Петровна. — И тебе счастливо.
Она развязала коров и тихонько погнала их вдоль полотна.
Она шла день, и другой, и третий, много дней. Коровы повеселели, бодро щипали траву, стояли смирно, когда Настасья Петровна останавливала их, чтобы подоить. Попадалась по дороге вода — они пили, и Настасья Петровна пила.
Завидев жилье, она сворачивала к нему, и люди давали ей хлеб и ночлег. А если жилья близко не было — ночевала на земле, под небом.
Палило дневное солнце, свежи были ночи, днем и ночью по железной дороге шли и шли поезда — в открытых дверях теплушек солдаты. Война! Как далекий сон, осталась позади Москва — выставка, метро, музыка, праздник… И уже не думалось о выставке, и о Мите, ни о прошлом, ни о будущем, а только о сегодняшнем: идти вперед, дойти до водопоя, вовремя подоить, сберечь, довести… Знойны были дни, свежи ночи, ехали солдаты.
Днем она повязывала голову платком, а после захода солнца снимала платок и шла простоволосая. И ветерок, налетавший после захода солнца, поглаживал ее седеющие волосы.
День за днем шла она и пришла в совхоз «Ясный берег» и привела коров.
Отгремела война, идет к концу первый послевоенный год — тысяча девятьсот сорок шестой.
Молоденькая доярка Нюша прибежала к Настасье Петровне и сказала, что Грация, кажется, уже беспокоится.
Последние дни Нюша то и дело забегала в родилку: она боялась, что с Грацией случится то же, что было с Мушкой. Отел Грации был для Нюши началом осуществления ее надежд.
— Беспокоится, — сказала Нюша. — То встанет, то ляжет, то обратно встанет. А они все ушли на партийно-комсомольский актив, и Дмитрий Корнеевич, и Анатолий Иваныч, и Бекишев… Один Иннокентий Владимирович дома. Я сбегаю?
— Постой, — сказала Настасья Петровна. — Тебе скажут, когда бежать. Пойдем.
Настасья Петровна работала в профилактории. На ее попечении находились новорожденные телята до десятидневного возраста. Это самый нежный возраст, когда труднее всего сохранить теленка. Настасья Петровна сохраняла сто процентов. Даже в трудные военные годы сохраняла сто процентов, и телята давали привес выше нормы. В этом была ее слава и гордость.
Работа ее чистая. Пол в профилактории сухой, посыпанный опилками; пахнет свежим сеном и свежим молоком. Работает Настасья Петровна в белом халате и белой косынке.
Она сняла халат, накинула тулуп и по освещенному коридору-переходу пошла с Нюшей к Грации. В это время года коров в родилке стояло не много, людей не было, кроме дежурной скотницы. Засучив рукава, дежурная обмывала Грацию креолином.
— Вот, и вас привела! — сказала она с досадой. — Как будто я сама не управлюсь.
— А я помогу, очень просто, — сказала Настасья Петровна. — Все у вас готово-то?
— Все, — ответила Нюша, трепеща от торжественности момента. — Я позову Иннокентия Владимировича.
— Наследного прынца принимаем, не иначе, — сказала дежурная.
— Где мешковина? — спросила Настасья Петровна. — Чем Иннокентия Владимировича — мешковину подай.
— Иннокентий твой Владимирович и не придет, — сказала дежурная. — Он у нас аккуратненькой, брезгливенькой. Случится подойти к скотине — два часа потом руки моет и одеколоном душит.
— Настасья Петровна, — сказала Нюша бледными губами, — если и с Грацией чего-нибудь случится, я не переживу.
— Держи креолин! — приказала Настасья Петровна.
Грация была здорова, телилась третий раз, случай был легкий. Теленок шел передними ножками, на ножках лежала его головка. Настасья Петровна приняла его, протерла шерстку сеном и мешковиной… Вот еще один. Две с половиной тысячи этих маленьких, шелковых, с живыми глазами, смотрящими сразу после рождения, прошло через ее руки за пятнадцать лет.
— Красивенький! — срывающимся голосом сказала Нюша. — Мордочка беленькая…
— Прибирай, Фрося, Грацию, — сказала Настасья Петровна. — А ты, Нюша, сходи заяви Иннокентию Владимировичу, чтоб шли прививки делать. Да смотри — молозиво принесешь вовремя, не задержишь.
Она завернула теленка в свой тулуп и понесла в профилакторий.
Уже был приготовлен для новорожденного обмытый креолином ящик, на высокой подставке, чтобы не дуло с пола. В ящике чистое сено, поверх сена байковое одеяльце. Другим одеяльцем Настасья Петровна укрыла теленка. Еще в трех клетках спали телята, она прислушалась к их дыханию — оно было ровное, детское…
…Легкое постукиванье сапожков по посыпанному опилками полу: Нюша принесла молозиво.
— Мы уже в книге отмечены, — сказала она. — Завтра имечко нам объявят. Как придет Анатолий Иваныч, Иннокентий Владимирович сказал, сразу его пришлет прививки делать, хоть будь два часа ночи. Вот мы какие важные.
Настасья Петровна налила молозива в соску и дала теленку. В первое мгновение он не понял, чего от него хотят, потом шевельнул ноздрями, повел глазами задумчиво и начал сосать так, словно его этому учили.
— Образованный какой, — шептала Нюша, стоя у двери (к телятам Настасья Петровна не позволяла подходить). — Мордочка беленькая, назвать бы Беляночка, или Снежная, или Снежинка… А назовут на букву «р».
Нюша — дочь скотника Степана Степаныча. Она поступила в совхоз во время войны. Сначала была на черной работе, потом ее подучили и поставили дояркой.
Она была самой младшей и самой неопытной. Если ей случалось вмешаться в разговор старших доярок, ее не обрывали, но делали вид, что не слышат: девочка — что с нею говорить. Ее только учили — все, кому не лень.
«А не довольно ли учить? — думала Нюша. — Я уже, кажется, полный ваш курс прошла. Погодите, будет времечко, поступлю в вуз, вернусь к вам старшим зоотехником. Иннокентия Владимировича в трест переведут, а меня на его место. И я вам дам жизни не так, как он дает…»
Однажды она набралась храбрости: пошла к директору и попросила, чтобы ей дали хороших коров. Директор был новый, Коростелев Дмитрий Корнеевич. Ей понравилось, что он слушал ее с полным вниманием.
— У нас на первой ферме весь скот хороший, — сказал он.
— Хороший-то хороший, — сказала Нюша, — так элиту-рекорд всю чисто другие забрали. И даже просто элиту.
— Ладно, — сказал Коростелев, — посмотрим, дадим тебе что-нибудь.
Он забыл об этом разговоре, занятый севом. Но как-то, зайдя в четвертую бригаду, он поймал злой и страдальческий взгляд Нюши, ему стало стыдно, что он о ней забыл.
— Помню, помню! — сказал он на ходу. — У тебя как насчет комплекта?
— Неполный! — торопливо ответила Нюша. — Трех недостает мне до комплекта.
— Подумаем, — сказал Коростелев.
В конце лета было разбито одно из стад третьей бригады. Нюше дали из этого стада трех коров класса «элита»: Мушку, Грацию и Стрелку.
И тут ей не повезло.
Главный ее расчет был на Мушку, которая должна была отелиться раньше всех. Но Мушка выкинула.
«Уж такая я несчастливая! — с горечью думала Нюша. — Другим везет, а мне нет. Но я это невезенье перешибу! Я ему не поддамся!»
Она не верила, что выкидыш у Мушки получился от силоса. Мушка корова славная, простая, без фокусов, ничего бы ей от силоса не сделалось. Другая тут какая-нибудь причина. На собрании, когда критиковали Бекишева за этот злосчастный силос, Нюша попросила слова и высказала свое мнение. Но на нее закричали доярки: что она понимает! Если бы понимала, не дала бы корове силос за десять дней до отела, исправила бы ошибку Бекишева. Нюша перепугалась — вот сейчас отберут у нее Мушку, а заодно и Грацию со Стрелкой. Но директор Дмитрий Корнеевич сказал: она этот урок учтет, она, товарищи, работник старательный… Золотой человек директор Дмитрий Корнеевич.
Сейчас Нюша очень возбуждена.
— Я у вас немножко посижу, — говорит она Настасье Петровне, — можно?
Две ночи она караулила Грацию. И вот все спокойно, можно идти домой. Но дома уже спят, да и днем там разговаривать не с кем, все заняты своим делом. А Нюше хочется разговаривать — Настасья Петровна знает о чем.
— Садись, посиди.
Она приносит Нюше скамеечку. Нюша садится у двери, охватывает руками худенькие колени и начинает издалека: да, интересно, как назовут теленочка, на букву «р» называли весь год, уже и не придумать ничего. Вот недавно назвали — Разводящий, Рея и Рогнеда, а еще как можно?.. Лампочка, затененная жестяным колпаком, освещает поднятое вверх некрасивое личико Нюши, свет отражается в ее запавших от бессонницы глазах… Настасья Петровна отвечает: «Ну, мало ли, придумают…», а про себя улыбается: все, все написано на запрокинутом лице Нюши, в ее вдохновенных глазах. Поговорим о кличках, а там перейдем на другое.
Вот Нюша рассказывает про комсорга Таню, что та определенно влюблена в Бекишева, все заметили.
— Сплетни, может, — говорит Настасья Петровна.
— Ну как же! — горячо говорит Нюша. — Если все заметили.
Они разговаривают полушепотом — телята спят, громко нельзя.
— Плохо ее дело, — говорит Настасья Петровна. — Он с женой хорошо живет. Ничего у Тани не выйдет, кроме слез.
— А вот интересно, — говорит Нюша, — я полюблю кого-нибудь или же нет?
Дошли до самого главного разговора.
— Неужели обязательно все любят? — спрашивает Нюша, глядя в потолок и покачиваясь. — Я не верю.
Настасья Петровна встает и идет посмотреть на новорожденного. Он спит спокойно, она поправляет на нем одеяльце и возвращается.
— Спит? — спрашивает Нюша.
— Спит, посмотрел глазочками и опять заснул.
— Вот я говорю, — продолжает Нюша, — наверно, не все любят. Есть чересчур гордые или чересчур занятые — они не любят.
Еще что-то говорит Нюша. Настасье Петровне лень вслушиваться, она смотрит на Нюшу и думает: вон как тебя скрутило, девушка; сказать, может, Мите? Не очень-то красивая, немножко шалая — ну, что за горе? Может, с этой некрасивой и шалой он всю жизнь счастлив будет. Как будто в красоте дело…
Нет, незачем Мите говорить: пусть сам ищет и находит, что ему надо…
— Насчет себя лично я чувствую, что никогда не буду любить, — говорит Нюша, вставая. — Я чересчур гордая.
Она накидывает платок так, что остаются открытыми волосы над лбом и маленькое ухо с малиновой ягодкой сережки, стоит, крепко прижав к груди руки, в которых держит концы платка, глаза сияют, как алмазы… «Ох, как еще любить будешь, — думает Настасья Петровна, — любовь в тебе — через край…»
Нюша уходит наконец. Настасья Петровна, поджидая веттехника, прохаживается по профилакторию, потом выходит во двор.
Вызвездило. Земля белеет, словно присыпанная солью: подморозило, зима идет. Почему-то девичьи речи Нюши растревожили Настасью Петровну — с чего бы, зачем? «Вот этого у меня никогда не было, — думает она, — не было, не было… И не будет. Я уже старая».
Старая? А что такое старость?
«Но ведь я старости не чувствую, — думает Настасья Петровна. — Мне и работа в охоту, и хожу легко, и посмеяться рада.
Что же такое старость? Где она? Что поясница иной раз болит? А у молодых разве никогда ничего не болит? Вот мои руки — разве они хуже, чем были раньше? Молодые ко мне идут, и я их учу работать…
Вот разум мой — он сильнее, чем был.
А сердце мое — разве потухло оно? Горит, и болит, и радуется больше прежнего!..»
Кто-то бежал к профилакторию со всех ног. Разбежавшись, чуть не налетел на Настасью Петровну. Нюша.
— Ой, это вы, Настасья Петровна!
— Вернулась? Не договорила чего?
— Клипсу потеряла, не у вас ли?
— Какую клипсу?
— Ну, серьги мои, с зажимами, клипсы называются. Спать ложиться смотрю, одной нет. Вся надежда, что у вас.
— Иди ищи.
Нюша вскочила в профилакторий, повертелась там и выскочила обратно.
— Тут, слава богу. Под табуреткой лежала. Фу, слава богу. Я так испугалась. Мне Таня из Москвы привезла…
— Ладно, беги.
Она постояла еще с минуту, слушая, как удаляются проворные Нюшины каблуки. Холодным блеском переливались звезды. Белел двор, словно посыпанный солью. Шла зима.
Глава восьмая ЗИМА
Громадные четырехугольные шапки сена движутся по дороге. Сено возят трактором с лугов в совхоз «Ясный берег».
Замечтался тракторист и не видит встречного «газика». «Газик» останавливается и сигналит. Тракторист встрепенулся, сворачивает в сторонку, к обочине. «Газик» осторожно проезжает, клочок сена остается на ручке дверцы…
Сороки-белобоки нахально переходят дорогу, не пугаясь ни машин, ни лошадей. Серое небо над равниной тоже словно замечталось, задумалось: начать сыпать снегом или погодить? Ровно бы пора: вот уже подул холодный ветер, предвестник зимы, передумал — перестал дуть, и опять бездельно дремлет-мечтает серое небо.
По горизонту окаймлено оно широкой темной полосой: не поймешь — лес или туча. На фоне этой темной полосы силосные башни, обшитые серой дранкой, отсвечивают свинцовым светом. Издали они похожи на башни крепости…
Все фермы совхоза на первый взгляд одинаковы: много построек, деревянных и кирпичных; крыши — те крытые дранкой, а те железом. На каждой ферме жилые дома, скотные дворы, телятники, конюшни, склады, ледники, овощехранилища, сады, — но у каждой свои особые приметы и свой вес в хозяйстве. Например, контора, мельница и главные зерновые склады находятся на первой ферме. Подсобное хозяйство — овцы, свиньи, куры, гуси — на второй. А на третьей выращиваются племенные бычки, которые потом передаются племзаготконторе.
Фермы отстоят друг от друга далеко: с одной другую видно еле-еле, и то лишь в ясную погоду. Между первой и второй фермами стоит в чистом поле новенькое кирпичное здание школы под ярко-зеленой крышей.
Ежедневно, в будни и в праздник, из совхоза ранним утром выходят грузовики с большими бидонами молока. Они едут в Кострово, на сливной пункт. Из Кострова молоко с утренним поездом отправляется на завод молочных консервов. В центре молочного края стоит завод, все окрестные колхозы и совхозы — его поставщики…
Земли совхоза «Ясный берег» расположены по обе стороны речки, они соединяются нешироким деревянным мостом. На левом берегу — заливные луга, летние выпасы, клеверные посевы.
Тот человек, которому пришло в голову дать совхозу название «Ясный берег», — наверное, глядел тот человек с правого берега на левый в весенний день, когда половодье еще не спало и под весенним солнцем в золотом пару стояли молоденькие вербы по колено в воде, или глядел он на левый берег летом, когда на лугах пестрым-пестро от цветов и не трава стоит — лес густой… Но даже сейчас, в день сумрачный и холодный, в канун зимы, хорош наш берег! Серой дымкой подернут он, в дымке вербы и высокие стога, а за вербами, за стогами — бескрайняя, туда-туда уходящая, до боли ненаглядная русская даль…
Перед маленьким зеркалом стоит веттехник Толя, он же Анатолий Иваныч.
Анатолием Иванычем он стал недавно, когда, окончив техникум, поступил в совхоз на работу. Сейчас он уже привык к новому имени и, чтобы его оправдать, пошел на некоторые жертвы: держится солидно, покуривает. Толя чувствует к табаку отвращение, Анатолию Иванычу как-то неудобно говорить «спасибо, не курю», когда предлагают папиросу. (Могут подумать, что Анатолий Иваныч очень молодой, чуть ли не мальчик.)
Он любит свою специальность, любит также писать пьесы и играть в них смешные роли. Любит свою маму, которая живет в Саратове и которой он из каждой получки посылает деньжат. Любит танцевать и танцует хорошо. У него добрые темные глаза с пушистыми ресницами и мягкие детские губы.
Сейчас он собирается в город, в Дом культуры, на вечер, посвященный XXIX годовщине Октября. Будет торжественная часть, потом концерт и танцы. На концерте выступят артисты, приехавшие из областного центра. На танцах, может быть, будет Марьяна Федоровна. На последнем вечере Толя танцевал с нею и спросил:
— Вы будете здесь шестого ноября?
Она слегка нахмурилась и сказала: «Может быть». Подумав немного, добавила: «Не знаю». Но все-таки «может быть» сказано. Это сильно поднимает Толино настроение.
Другой, с его наружностью, заставил бы любую красавицу сказать не «может быть», а «да». Другой наговорил бы красавице комплиментов, заставил бы ее смеяться и кокетничать. Толя этого не умел. Чего не умел, того не умел. Он умел танцевать и старательно работал ногами.
Сегодня утром он попросил у соседки, жены управляющего фермой, паровой утюг и разгладил свой выходной костюм. Гладил он не хуже заправского портного. Любо было посмотреть, как выглядели брюки и борты пиджака, когда Толя обрабатывал их через мокрую тряпку.
Хорошо, что дорога замерзла и не надо надевать высокие сапоги и засучивать брюки: когда их потом опускаешь, они не имеют никакого вида.
Толя завязывает галстук. Галстук новый, запонки новые (в виде маленьких шахматных досок). Часы на руку. Чистый платок в карман. Еще раз пройтись гребешком по волосам, одновременно заглаживая их свободной рукой назад… Невозможно, чтобы Марьяна Федоровна не обратила внимания на все это праздничное великолепие.
В новом зимнем пальто с воротником из того меха, который называют «электрический кролик» или «кролик под котик», Толя выходит из комнаты и сталкивается с человеком, который говорит:
— Там вас требуют в третью бригаду. Велели, чтоб сразу.
— А что такое? — спрашивает Толя.
— Да вроде Печальница при смерти, — говорит посланец.
Толя забывает о Марьяне Федоровне, хватает инструменты и во всем своем параде устремляется на скотный двор.
Печальница лежит на боку, забросив голову назад, и дышит тяжело, с мучительными хрипами. Доярка Гирина стоит над нею и плачет.
— Давно?.. — спрашивает Толя.
— Вот только сейчас, — отвечает Гирина. — Кушала и жевала, а я подошла доить — она вот так упади и захрипи, и с чего — кто ее знает…
Толя снимает пальто и пиджак, надевает халат и, поддернув на коленях брюки, садится на корточки. Корова задыхается, громадный бок ее растет и опадает перед Толиным лицом, как холм, глаза выходят из орбит.
— Неужели прирезать будем? — спрашивает другая доярка. Они столпились тут всей бригадой и со страхом смотрят, как кончается Печальница.
— Асфиксия явная, — бормочет Толя. — Но причина? Шок?.. Она ничего не испугалась?
— Дорогая моя! — уже в голос начинает рыдать Гирина. — Чего ж она на своем дворе испугается!..
— Тише, пожалуйста, — говорит Толя. — Я же слушаю сердце.
Рукава халата мешают ему, он засучивает их до локтей, а заодно и рукава своей шелковой рубашки. Исследует глотку коровы и обнаруживает отек. И в этот момент является Коростелев, весь изрезанный после бритья: тоже собирался на вечер.
— Отек гортани, — говорит ему Толя. — Придется проводить трахеотубус.
— Ну, что ты! — говорит Коростелев, опускаясь на корточки рядом с Толей. — Что ты, что ты, что ты… — и сам исследует отек. Ветеринар пробуждается в нем, и вся его коростелевская решимость, решимость до азарта, пробуждается.
— Представляешь, трахеотубус здесь на дворе, без подготовки… говорит он, прощупывая длинными пальцами границы вздутия. — Загноим ей глотку к чертовой матери. Давай неси ртутную мазь.
— А не рискованно? — спрашивает Толя. — Мы вызовем обострение, которое может…
— Все рискованно. Все-таки меньше риска, чем с трахеотубусом. Давай живей, а то на мясо пойдет наша Печальница.
Толя приносит мазь, и они втирают ее в глотку Печальницы. Почти сразу удушье усиливается. Корова вытянула шею, пасть ее раскрыта, глаза, налитые кровью, с смертным ужасом смотрят в потолок, хрипы редки и страшны. Доярки стоят тихо, даже Гирина замолчала.
— Что? — спрашивает Коростелев.
— Аритмия, — говорит Толя, слушающий сердце.
— У человека давно бы остановилось, — говорит одна из доярок. — Это надо же такое мученье…
Опять молчанье и зловещие хрипы. После каждого хрипа ждут — вот сейчас конец.
— Улучшается, — говорит Толя.
— Ну да? — с надеждой спрашивает Коростелев.
Печальница на мгновение приподнимает голову и взглядывает на людей. Все облегченно улыбаются.
— На меня посмотрела, — говорит Гирина. — Матушка моя, на меня…
Коростелев исследует отек — он заметно уменьшился — и говорит:
— Будет жить.
Они с Толей смотрят друг на друга, и им смешно.
— На танцы вырядился? — спрашивает Коростелев. — Так, так. Она тебя ждет, понимаешь, а ты тут… Теперь и не ходи: не оправдаешься. Скажет: между нами все кончено…
— Ничего и не начиналось, — говорит Толя. — Два раза потанцевали.
— Что ж, это тоже вещь… Так ты иди. Эндоскоп оставь и иди.
— Ну как же…
— Теперь уж дело ясное — часа через два-три поднимется. Я еще тоже, может быть, успею на концерт. Заскочу домой переодеться и приду.
Толя тоже находит, что корова скоро поднимется и что он может уйти, если Коростелев подежурит. Ему хочется уйти и неловко. Чтобы оправдаться, он говорит:
— Я, правда, обещал Марьяне Федоровне, учительнице, что буду сегодня.
— Вот видишь, — говорит Коростелев, — я так и знал, что у тебя свиданье. На тебе это написано.
— Да не свиданье, — говорит Толя, расстроенный тем, что соврал. — Так просто…
— Иди, иди! — говорит Коростелев.
— Ботиночки-то запачкали, — говорит Гирина. — Дайте, Анатолий Иваныч, оботру.
Доярки ведут Толю мыть руки, помогают ему одеться, снимают соломинки с его пальто. В этой бригаде всё пожилые женщины, и как сына они провожают его на праздник. Они любят его, потому что он молодой, хороший и спас Печальницу.
Толя уходит веселиться. Он идет по замерзшей, крепкой, как железо, дороге, в колеях насыпан белый снежок. Вдали огоньки города, свет на небе от транспаранта, установленного у входа в Дом культуры. Толя идет и думает: как хорошо, что все кончилось благополучно, — и, честное слово, он заработал, чтобы Марьяна Федоровна, в своем синем платьице с белыми горошками, ждала его в танцевальном зале.
А Коростелев остается около Печальницы. Расходятся доярки, ночной сторож заступает смену. Дышат, фыркают, хрустят жвачкой коровы.
«И весь этот свет, — думает Коростелев, — и все это, чему даже не подберешь названия, — для того, чтобы покрутиться по залу с парнем? Ты о ней бог знает что думаешь, а она назначает свидания на танцульках». Он понимает, что несправедлив; другой, справедливый голос в нем говорит насмешливо: «Ты с ума сошел: что же делать молодой женщине в праздничный вечер?» — «Не знаю, пусть сидит дома и книжку читает, концерт послушала, и иди домой». — «Да зачем тебе надо, чтобы она сидела в одиночестве, вдовье горе горевала? Шестой год ее вдовству, сколько можно убиваться? Пусть повеселится, посмеется». — «Не знаю, если у тебя такие глаза, так нечего топтаться с парнями под музыку. Другие — пожалуйста, а она — не хочу».
В двенадцатом часу Печальница поднялась и потянулась к кормушке как ни в чем не бывало.
Год кончается.
Как будто прожили этот год как надо, не положили охулки на свою честь. Сдали государству молока, мяса, шерсти, зерна больше, чем требовалось по плану. Кормами запаслись: еще не по-богатому, не так, как запасались в довоенные урожайные годы, но все же скот будет сыт. И новый скотный двор, и два новых телятника, помимо профилактория, — не подвел Алмазов! — к первому января будут закончены полностью.
Доярки и телятницы подсчитывают, сколько премиальных набежало им за год. Многим набежало порядочно, по тысяче и больше. Лукьяныч и управляющие фермами составляют производственно-финансовый план на тысяча девятьсот сорок седьмой год. А в кузне стучит молот, взлетают к закоптелому потолку жаркие искры: хоть зима только что укрыла землю своим одеялом и пожелала спокойного сна — и долог будет этот сон, — но придет весна и снимет белое одеяло, и мы загодя готовим наши плуги и сеялки, чтобы на проснувшейся земле провести новые борозды и заложить в них новые семена.
Вечерком, дома, Лукьяныч играет в шахматы с председателем колхоза имени Чкалова.
Играет он плохо. Чкаловский председатель, научившийся шахматной игре только в армии, в Отечественную войну, играет еще хуже.
— Думайте, думайте! — говорит ему Лукьяныч. — Пока вы думаете, я с вашего разрешения газетку прочитаю.
Между двумя ходами председатель заговаривает о цели своего приезда.
— Мы к вам с просьбой, — говорит он. — Сделайте одолжение, помогите соответственно оформить годовой отчет.
— Конь так, между прочим, не ходит, — говорит Лукьяныч. — Конь ходит вот так, либо вот так… Не знаю, как я вам помогу. Своих дел хватает.
— Гонорар будет такой, какой сами назначите, — говорит председатель, прибирая коня на место.
— Мы с Пашенькой люди скромные, нам немного надо. Если бы я был заинтересованный, я бы в деньгах ходил с головы до ног.
— Скажите ваши условия, мы вам пойдем навстречу.
— Шах! — говорит Лукьяныч.
Председатель пробует улизнуть, но, зашахованный со всех сторон, вынужден сдаться.
— Сильный вы игрок! — говорит он, вытирая вспотевший лоб, и они с Лукьянычем садятся пить чай.
— Так как же? — спрашивает председатель за чаем. — Мы в этом году вышли в области на первое место. Обороты миллионные, на базаре наша продукция самая видная — нашему балансу особое будет внимание; в Москву, возможная вещь, пойдет наш баланс — так как же, Павел Лукьяныч?
— Да уж что поделаешь. Придется помочь, как дружественной державе.
— А в смысле гонорара?
— В смысле гонорара мне требуется бревно.
— Бревно?
— Челн новый думаю ладить к лету, старый больно плох.
— Есть такие бревна, сделайте ваше одолжение.
— Я знаю, что у вас есть такие бревна.
— Сделайте одолжение. Только какой же это гонорар при вашей квалификации. Не желаете ли, помимо того, медку, яблочек?
— Ну, можно медку, яблочек, то, се, — говорит Лукьяныч равнодушным голосом. — Пашеньке и Сереже побаловаться.
Каждому хочется представить годовой отчет в полном блеске. Когда отчет оформлен как конфетка, к хозяйству уважение и интерес. У чкаловской бухгалтерши, хоть девушка и старается, блеска еще нет. Блеск — он со стажем приходит. Каждый год перед первым января в районе на Лукьяныча великий спрос.
В кабинет к Коростелеву вошел Иконников, держа в руке листки отчета.
— Дмитрий Корнеевич, — сказал он суховато и с достоинством, — я прошу добавить к отчету небольшой комментарий.
— О чем это? — спросил Коростелев.
— Оговорить, что выкидыш у Мушки произошел в мое отсутствие. Если припомните, я был в это время в командировке. Рацион составлялся без меня. Я настоятельно прошу отметить это в особом примечании.
Коростелев посмотрел на него в упор.
— Кстати, — сказал он, — а как сейчас поживает Мушка?
Он знал наверняка, что не получит ответа: не был Иконников на скотном, не интересовался Мушкой, ничем вообще не интересовался, кроме собственного спокойствия.
Иконников слегка смутился, но выдержал взгляд Коростелева.
— В данный момент у меня нет сведений. К вечеру, пожалуйста, — могу представить.
Бумажку представишь. Обложишься бумажками и из них добудешь сведения. А как там на производстве живая жизнь идет — тебе начихать. О, терпеть не могу.
— Хорошо, — сказал Коростелев, — составьте примечание. Пусть отвечает Бекишев.
Иконников пожал плечами:
— Согласитесь сами, Дмитрий Корнеевич, — в данном случае было бы странно, если бы за Бекишева отвечал я.
В самом деле, это было бы странно. В самом деле, виноват Бекишев. И все равно, Бекишева уважаю, а тебя терпеть не могу — и уходи ты скорей с глаз моих.
Зима.
Снег летит за окошком.
К северу и югу, к востоку и западу — на тысячи километров кругом «Ясного берега» снег, снег.
Женщина, которую любил Алмазов, была умная. Начнет, бывало, Алмазов рассказывать ей про свои тяжелые думы в госпитале или станет жаловаться, что от работы отвык, нет, чувствует, прежней сноровки и мастерства, — она слушает тихо, смотрит серьезным, ласковым взглядом, потом положит на руку Алмазова свою теплую руку и скажет: «Ну, что разволновался? Жизнь человеческая не только из выпивки-закуски состоит; из всякой всячины, душа, жизнь состоит. В народе живем, с народом участь делим: что людям, то и нам».
Много она знала таких слов и умела сказать их вовремя и подать человеку душевную помощь. Алмазов дивился: откуда такое? Четыре класса окончила, на конвейере какую-то гайку накручивает, а ума палата!
И его тянуло все ей рассказать и обо всем узнать ее мысли.
Тося пристанет: расскажи, как ты жил эти годы; два года назад в этом месяце где был, что делал? Он начнет нехотя. Она сейчас же всплескивает руками и перебивает:
— Ох, да что ты! Ох, вот ужас! Надя, послушай, что папа рассказывает! Ох, и натерпелись же люди!
И окончательно пропадает охота рассказывать…
Та женщина поддерживала в доме чистоту и сама ходила чисто. А у Тоси никакого порядка: только бы мужа накормить и приодеть, а за собой не смотрит. Вся ее приборка — раз-два махнуть веником да набросить косо-криво чистую скатерть на стол. И девочек не приучает к работе: только приказывает — подай то, принеси это, а чтобы научить их самостоятельно что-нибудь сделать, этого нет.
Наде было уже двенадцать лет, Кате девять.
До войны они были маленькие, занятные. Щебетали, как воробушки, Алмазов слушал их щебет и улыбался. Он сделал им маленькие табуретки и стол. Сделал дом для кукол. Крыша дома снималась, крыльцо было с перильцами, на нижней ступеньке крохотная скоба для вытирания ног, в угловом окне форточка. Соседи приходили посмотреть на дом и ахали — ну и игрушку сработал Алмазов для своих детей. Такую ни в каком магазине не купишь, ни за какие деньги!
Теперь дома не было: развалился, дощечки потерялись… Дочери выросли. У Нади появились неприятные гримасы. Держалась она развязно. Катя старалась во всем ей подражать. В куклы они уже не играли, они танцевали.
Надя научилась танцам в школьном кружке. Она танцевала, собираясь в школу, возвращаясь из школы, накрывая на стол. Танцевала дома, во дворе и на улице. При этом она напевала: «Ля-ля-ля-ля…» И Катя, глядя на нее, тоже танцевала и пела. Алмазова это раздражало до головной боли:
— Перестаньте вы прыгать!
Тося вступалась:
— И потанцевать детям нельзя.
— Делом бы занялись! — говорил он. — В глазах рябит.
— Танцы — тоже дело, — говорила Тося, глядя на Надины приплясывающие ноги. — У нее большие способности.
Щека Алмазова начинала дергаться:
— Кто тебе сказал, что большие способности?
— Старшая вожатая.
— В балерины ее готовишь?
— А чем плохо, если будет балериной?
— Научила бы чулки штопать.
— Все ты недоволен! — уже с тоской говорила Тося. — Все тебе не нравится — просто руки опускаются, не хочется жить!
И прекращала разговор. И Алмазову становилось жалко ее, потому что тоска у нее была неподдельная, от тоски она чахла и старела.
Она горячо любила мужа и детей и горячо желала, чтобы в семье всем было очень хорошо, но не знала, как это сделать. Она хваталась то за одно дело, то за другое, взваливала на себя все заботы, всем старалась угодить, и ни муж, ни дети не испытывали к ней за это благодарности.
Как-то Алмазов позвал старшую дочь:
— Надя!
Та вошла с готовностью, напевая «ля-ля-ля» и думая, что ее позвали по какому-нибудь привычному необременительному делу — достать отцу из комода чистую рубаху или сбегать за спичками.
— Вымой-ка пол, — сказал он. — Вон как наследили.
Она удивилась, но стала мыть. Вдруг бросила тряпку, громко заплакала и сказала:
— Я маме скажу. Мама никогда не заставляет мыть.
— А я заставляю! — сказал Алмазов. — И если не вымоешь, в кружок тебе больше не ходить, поняла?
Плача, она домыла пол и убежала из дому. «Встречать мать, жаловаться», — подумал Алмазов.
Эх, недаром он всегда хотел сына. Уж так хотел сына, а Тося рожала девочек…
Тося пришла расстроенная, мельком взглянула на вымытый пол и сказала:
— Хоть домой не приходи, право. Меня мачехой ругал, а сам хуже отчима. Как она помыла? Все равно не мытье это.
— Один раз плохо помоет, — сказал Алмазов, — другой раз плохо, потом научится.
— Да к чему это, детей заставлять, — сказала Тося. — Как будто я не сделаю.
— Вот именно, чтобы тебе не мыть, я ее заставил. Должна приучаться.
— Меня с шести лет бабка с дедкой заставляли все делать, — сказала Тося, слегка задыхаясь, — так пускай мои дети в неге живут. Это им советская власть дает.
— Советская власть тебя не учит паразитами детей растить! — не сдержавшись, закричал Алмазов. Тут же раскаялся: уж это никуда не годится — кричать на Тосю.
— Жизнь, — сказал он обычным своим негромким голосом, — не из одних танцев состоит. Из всякой всячины она состоит. Сама знаешь. И к жизни надо детей готовить. За это с нас спросится, с тебя и с меня.
Говорил и видел: ничего она не понимает, только мучается. «Неужели так вот и будем жить вечно, мучаясь друг за друга? Дорогая моя умница, ты меня к этому присудила, понимаю, что правильно присудила, — а тяжело!.. Ты, может, уже сладила свою жизнь, может, все уже забыла, радуешься, и смеешься, и цветешь, как цветок в саду, — а мне еще трудно… Снег летит за окошком, от меня до тебя — тысячи километров снегов…»
На Нюшином попечении было десять коров, каждая требовала ухода, и на каждую у Нюши был свой расчет.
Она пошла к Иконникову и попросила дать ей сведения, какие удои были у Грации в прошлом и позапрошлом году. Иконников достал из картотеки карточку Грации и дал точную справку: по первой лактации получено 1710 килограммов, по второй — 4402, то есть, в среднем, четырнадцать целых шестьдесят шесть сотых килограмма в сутки.
А какой рацион у нее был во второй лактации? Чем ее кормили, когда раздаивали? В основном — грубыми и сочными кормами. Сейчас тоже не особенно рассчитывайте на концентраты.
— У нас еще жмых есть, — сказала Нюша. — И отруби, говорят, будут завозить. А Грация — очень хорошая корова, элита…
Иконников поднял брови и что-то стал писать острым карандашом, показывая, что разговор окончен.
Нюша подумала и пошла искать Коростелева. Ее бросало в жар, когда она встречалась с ним или слышала его голос, и она боялась выдать себя, но все-таки пошла к нему.
— Опять что-нибудь не так? — спросил Коростелев. Он разговаривал с нею, как взрослый с малолетней, — она казалась ему подростком. Но было в ней нечто, что трогало его и внушало ему уважение: ее страстное и взволнованное отношение к работе. И на этот раз он тронулся ее волнением и сказал:
— Ладно. Скажу. Ставь Грацию на раздой, будут ей концентраты.
«Ну что за человек! — думала Нюша. — Такой сочувственный, всегда идет навстречу».
Грация, как и предполагала Нюша, оказалась очень отзывчивой на кормление: только усилили ей рацион, она стала повышать удои и к концу первого месяца дала двадцать два литра в день. Начали скармливать ей все больше и больше питательных кормов — удой увеличился, дошел до тридцати восьми литров, но вдруг Грация заскучала: перестала жевать, отказалась от еды. Взвесив ее, обнаружили, что она потеряла в весе сорок килограммов.
— Общее переутомление всего организма, — сказал Толя.
— Перестарались, — сказал Коростелев.
Пришлось ослабить кормление. Удой сразу резко уменьшился, дошел до двадцати — двадцати двух литров в сутки и на этом остановился. Двадцать два литра — это ничего себе; значит, за лактацию можно получить тысяч пять литров, но, откровенно говоря, Нюша ожидала большего…
Холмогорка Стрелка тоже вскоре должна была отелиться. Стрелка большая, видом неказистая корова, очень тихая, но с причудами: не по вкусу ей корм — она не мычит, не бунтует, но опустит голову, стоит как бы задумавшись и к корму не притронется. Нюша раньше сердилась на Стрелку за капризы и говорила: «Нечего дуться, ешь, как все едят!», а теперь Нюша стала опытнее и понимала, что каждая корова требует особого подхода. Взять ту же Грацию: ей, Нюше, Грация дает двадцать два литра, а придет Нюшина сменщица — Грация ни за что больше двенадцати не отпустит… Звездочка любит, чтобы сначала подоили ее соседок, а ее уж после всех. Крошка любит, чтобы с нею разговаривали, когда ее доят. Чего они мудруют, эти коровы, кто их знает, но приходится им угождать, если хочешь побольше получить от них.
Нюша стала готовить Стрелку к раздою сразу после запуска: чем упитаннее корова к отелу, тем больше даст молока. Только бы опять не зарваться, не перекормить, а то может сделаться ожирение молочной железы.
Концентратов Стрелке не выписывали, кормили ее сеном, мякиной, свеклой, силосом. За силосом Нюша теперь смотрела в оба, выбрасывала комья, нюхала: если пахнет хорошо — вином, печеным хлебом, мочеными яблоками, хлебным квасом, — значит, хорош, можно давать бесстрашно. Мякину она готовила так: запаривала горячей водой, клала дрожжи, а перед тем, как скормить, перемешивала с мелко нарезанным турнепсом. Солому за сутки до скармливания перестилала силосом, чтобы стала помягче.
— Цельную поварню развела для скотины! — говорила сменщица, ревновавшая, что Грация выдает Нюше молока больше, чем ей.
— Ну что тебе надо? — спрашивала Нюша у Стрелки. — Почему не ешь?
Стрелка смотрела на нее и не прикасалась к резаной свекле, насыпанной в кормушку.
— Может, целенькой захотела? — спрашивала Нюша и подкладывала целенькую. Стрелка забирала свеклу губами и принималась жевать.
— Мудровщица! Каждый день чего-нибудь вздумаешь. Царствовать хочешь надо мной.
Сорок шестой год Нюша закончила с приличными показателями: надоила сверх плана восемьсот восемьдесят три литра. Это почти девять центнеров, а девять центнеров — это почти тонна. В передовые стахановки Нюша с этими показателями не попала, но все-таки кое-кого оставила позади себя, в прошлые годы этого не было.
— Растешь, Нюша, — говорили доярки.
— Расту, — тоненько отвечала Нюша.
«Да, вот расту. Глядите, как бы вас не переросла».
«Если бы я вышла замуж за Иннокентия Владимировича, — думала Марьяна, — надо ли было бы, чтобы Сережа называл его отцом? С одной стороны, Сережа знает по карточкам настоящего отца, он скажет: какой же это папа, вот наш папа, на карточке, совсем не такой… Но, с другой стороны, так хорошо, когда ребенку есть кому сказать: папа. Так хорошо, когда в доме есть папа, отец, самый главный человек, опора семьи…»
Началось с того, что иногда летом Иконников подходил к Марьяниному окошку и разговаривал с нею. Однажды он сказал шутливо:
— Когда же вы пригласите меня к себе?
Марьяна смутилась и пригласила. Иконников пришел в условленный вечер, пил чай, спросил у Сережи, сколько ему лет и когда он пойдет в школу, сказал:
— Очень развитой мальчик.
Он являлся два-три раза в месяц. Сидели, пили чай, разговаривали. Марьяна уходила уложить Сережу — Иконников разворачивал газету или брал книгу с полки и читал, пока Марьяна не возвращалась.
Иконников?
«Он красивый, интеллигентный, — думала она, настраивая себя на эту волну, которая называлась — любовь и замужество. — Видимо, очень порядочный: сколько лет в совхозе, и никто никогда ничего дурного о нем не сказал…»
Он приходил. Уходя, спрашивал:
— Разрешите мне заходить и в дальнейшем, когда позволит время?
— Да, конечно, — отвечала она с смешанным чувством удовольствия и неприязни (отвратительное, гнетущее чувство!). — Пожалуйста, мы будем очень рады…
— Иннокентий Владимирович, вы были когда-нибудь женаты?
Он сощурил белые ресницы с таким выражением, словно припоминал: был он женат или не был.
— Да, был. Один раз. Очень давно. Это была ошибка молодости.
Больше он не счел нужным распространяться об этом. Он тогда работал в другой области, в городе, в земельном аппарате. Его жена была фабричная девчонка, картонажница, но пронзила ему сердце красотой. (Он не был равнодушен к таким вещам.) Прожили год, неважно прожили: его оскорбляла ее простецкая речь, берет набекрень, шумный хохот, она почему-то выходила из себя от каждого его слова. Через год она его бросила, обозвав на прощанье бюрократом, слизняком и совсем уже грубо — занудой. Детей, к счастью, не было.
Больше Иконников не женился — стал осторожен. Это опасная игра: за временное увлечение, за ошибку, по сути дела, закон и общество возлагают на человека громадную ответственность…
Теперь он укололся, так он выражался мысленно, о красоту Марьяны. Пугался этого чувства, боролся с ним. Давал себе зарок: больше не пойду, мальчишество, блажь, зачем мне это, мне и так хорошо, даже несравненно лучше… и шел.
Приходил в милый дом, где была женщина, к которой его влекло, смотрел на нее и ее ребенка и думал: «Нет, невозможно, ужасно — добровольно взять на себя такую ответственность. Если бы она согласилась просто так…»
Но он не мог предложить ей этого просто так, — она была защищена своей чистотой, своей профессией, своим Сережей, именем своего отца, любовью двух стариков, живших около нее. «Пожалуй, это было бы еще хуже. Не оберешься неприятностей».
Придется жениться.
Тут с первого дня встанут сложные вопросы. Прежде всего — где жить после женитьбы. В ее доме? Далеко от совхоза. Он привык, что из дому до конторы — три минуты ходьбы, это такое удобство. Привык к своей опрятной комнате в общежитии. Ее мальчишка будет все трогать, брать его книги с полок…
Жить с нею в общежитии? И мальчишка там же? Невозможно.
Идеально было бы под разными крышами. Муж и жена, пожалуйста, все законно и оплачено гербовым сбором, но для удобства живут под разными крышами…
Она не согласится.
И чтобы Сережа отдельно — тем более не согласится.
Поди тут решай — как быть.
И где гарантия, что через год-два она будет так же мила ему?
А между тем он все больше накалывался на эту булавку. С трудом заставлял себя уходить. Вот-вот скажет лишнее… Как нарочно, она становилась все красивее. Похудела, ей шло.
«Я гибну», — сказал себе Иконников.
В конце декабря он поехал в областной центр в командировку. Там встретился с знакомыми из облзо, ужинал с ними в ресторане, и они стали звать его на работу в областной аппарат. Пора ему возвращаться в город… Не отпустят? Это можно устроить, было бы его согласие. Иконников отшутился: куда ему в город, он привык к сельской глуши, его здесь задавит трамвай… но про себя серьезно задумался.
Если он безнадежно запутается в своих брачных делах — переезд в город, на другую работу, будет самым лучшим выходом.
Как-то Марьяна спросила:
— У вас есть карточка вашей жены? Покажите мне как-нибудь.
— Зачем?
— Мне интересно.
Что это значит? Конечно, она не может не придавать значения его визитам — все кругом, должно быть, уже придают значение… «Но если я принесу карточку, не примет ли она это за залог сердечной интимности? Кажется, я пока не дал никакого повода…»
Все-таки он принес карточку. Марьяна взяла ее с интересом. С карточки глянуло веселое молодое лицо. Лукавый прищуренный глаз как бы подмигнул Марьяне: эй, сестра, поберегись! Ничего тут хорошего не будет…
Скорей всего именно так.
Да, по-видимому, не ждать ничего хорошего, какой он ни будь интеллигентный и порядочный.
Уж потому не ждать, что нету в ней самой беззаветного радостного чувства, которое она испытала когда-то. Смотрит равнодушно и рассуждает.
Там была любовь, а здесь тоска по гнезду, желание свить гнездо.
Стыдно, Марьяна Федоровна.
Почему стыдно?
Потому что без любви. Вам хочется подойти к нему, прикоснуться? Узнать, как он прожил эти дни без вас? Не лгите: не хочется. Смотрите холодными глазами…
У вас сын, Марьяна Федоровна. У вас ученики. Вам есть чем дышать: кислорода вволю. Ну-ка, выкиньте бабьи бредни из головы.
Ну его, этого Иннокентия Владимировича. Ходить пусть ходит развлечение… и смешно ни с того ни с сего прогнать человека… а думать о нем ни к чему.
Против Марьяниного окошка лежал во дворе высокий красивый сугроб. Он начинался у калитки и шел вдоль протопки, ведущей по снегу к крыльцу, постепенно повышаясь, как горный хребет; когда светило солнце, он играл голубыми искрами — больно глазам смотреть.
Лучше всего, когда светит солнце. Но когда опускаются низкие серые тучи и начинается метель, тоже очень хорошо. Летит, летит снег, заполняет все пространство между небом и землей, заваливает деревья и крыши… Весело в такую погоду принести дрова из сарая и звонко рассыпать их перед печкой, и затопить печку жарко-жарко, когда на дворе не видать за метелью света белого. Весело потом, как прояснеет, влезть на крышу с лопатой, скидывать снег и покрикивать на редкого прохожего: «Поберегись!»
Просыпалась Марьяна в шесть часов: репродуктор будил ее гимном. Шла в кухню умываться — вода в кадушке к утру замерзала, и ковш, разбив ледяную корочку, сладко захлебывался льдинками. Ночь еще стояла в окнах. Марьяна ела что-нибудь наскоро, надевала старый тулупчик, из которого выросла (от него пахло сундуком, овчиной, детством), повязывала голову платком и шла в школу. Тетя Паша в этот час только поднималась, а Лукьяныч еще спал — он уходил на работу много позже.
Зимой, хоть как будь темно, а все-таки на снегу видно, что человек идет. И видно, кто идет. То и дело Марьяну догоняли люди, идущие в совхоз на работу. Пока дойдешь до школы — уже навстречаешься, наговоришься и узнаешь новости.
Как-то Марьяна шла с Настасьей Петровной. Высокий человек — Марьяна его узнала, но не окликнула — обогнал их, по колено проваливаясь в снег, и пошел дальше, валенки доверху в снегу, он их не отряхивал…
— Митя, — сказала Настасья Петровна. — Ишь и не оглянется, побежал…
Вскоре после этого Марьяне приснился сон. Будто она шла по улице и потеряла всю получку. Она пошла обратно, ища деньги по дороге, но нигде их не было. Навстречу Марьяне шел Коростелев в кителе, по-летнему. Он приподнял фуражку и сказал вежливо: «Здравствуйте, Марьяна Федоровна. Разрешите вас проводить». Они вместе пошли по городу, но это уже не был их городок, это был большой город, где Марьяна училась в педучилище, и даже еще больше, с никогда не виданными улицами… Шли, шли и пришли к лотку с пирожками. Марьяне захотелось есть, и она сказала: «Знаете что, угостите меня, пожалуйста, пирожком, а то я потеряла все деньги и мне не на что купить». — «С удовольствием», — сказал Коростелев и купил ей пирожок. Она надкусила — повидло было очень сладкое — и сказала: «Спасибо, но теперь я должна проснуться, посмотреть в тумбочке — наверно, деньги там лежат, это я во сне их потеряла». Она простилась с Коростелевым за руку; ей было приятно, когда их руки соприкоснулись; она даже подумала: «Может быть, не просыпаться, может быть, досмотреть сон, что-то будет дальше?..» И проснулась.
Весь день она нет-нет и вспоминала сон и улыбалась: надо же, какая чепуха!.. Потом сон стал забываться, почти совсем забылся, но еще несколько дней жило воспоминание о том соприкосновении. Не в памяти, не в мозгу, не в сердце. Жило в руке. В сгибах пальцев. В мякоти ладони.
Мама принесла елку, связанную веревкой и похожую на маленькое зеленое веретено. Веретено внесли в Сережину комнату, сняли некрасивую лохматую веревку, вставили ствол в деревянную подпорку. Елочка сразу стала расправлять ветки, пушиться, разворачиваться. По всему дому запахло зимним морозным лесом.
В первый день Сережа очень волновался и водил с улицы товарищей, чтобы они тоже полюбовались елочкой. Пришел и скверный Васька. Заложив руки в карманы бобриковой куртки, он взглянул с порога пренебрежительным взглядом.
— Красиво? — спросил Сережа.
— Ерундой, парень, занимаешься, — сказал Васька. — Шарики какие-то навесил…
— Это мама вешала, — сказал Сережа. — Я только подавал.
— Чепуха это все, — сказал Васька.
— А у вас в мужской школе разве нет елки? — спросил Сережа.
— У нас не такая, — сказал Васька. — У нас во — под потолок. И вся на электричестве. Свечей вовсе не жгем, они противопожарные. Лампочки электрические: седьмой класс делал проводку. У нас на елке самодеятельность и подарки дают. А у вас она всего ничего, с веник ростом. Поставили около кровати и радуются.
— А ты меня пригласишь на вашу елку?
— Ну вот, скажешь. Разве я могу с тобой в школу прийти? Подумают, что я с тобой дружу. И потом, я занят буду. Я в самодеятельности читаю «Полтавский бой».
И Васька ушел, задрав нос, шапка с торчащими ушами сидела на его голове лихо и вызывающе. А Сережа остался около елочки, грустный, пристыженный и разочарованный, и задумался — когда же наконец он будет таким же большим и независимым, как Васька?
Но тут пришла из школы мама и сказала:
— Сережа, я тебя возьму к нам на утренник.
— А самодеятельность будет? — спросил Сережа.
— До чего ты образованный, — сказала мама. — Да, будет самодеятельность. Если хочешь, можешь тоже прочесть что-нибудь. «Проказница Мартышка, Осел, Козел». Только повтори хорошенько, чтобы не сбиться.
Первого января был сильный мороз. Солнце светило Так ярко, что все кругом сверкало и искрилось — и снег, и небо, и воздух. Закутанного Сережу, похожего на большой мягкий узел, посадили на саночки, и он поехал на елку.
Саночки везла мама. Сережа не мог смотреть по сторонам и видел только мамины валенки, шагающие быстро и однообразно. Ему надоело смотреть на валенки, и он попросил:
— Поразговаривай со мной.
Но так как он сказал это в шарф, которым был завязан его рот, то мама не услышала. Сережа вздохнул и стал повторять басню: «Проказница Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка…»
Вдруг произошло непонятное: мамины валенки куда-то исчезли, и перед саночками зашагали чьи-то чужие, огромные. Над чужими валенками была военная шинель. Сережа откинул голову, чтобы увидеть, что над шинелью, и увидел серую армейскую ушанку.
«Здорово!» — подумал Сережа. Ему стало очень приятно, что его везет военный. Пусть бы это увидел Васька!
Военный побежал, взбивая ногами сверкающий снег, Сережа взлетел на горку, потом слетел с горки, от удовольствия громко смеясь в шарф. Военный остановил саночки, наклонился к Сереже и сказал:
— Ну, брат, хватит с тебя. Уморился конь.
Сережа узнал Коростелева и немножко огорчился, потому что Коростелев уже не военный, а простой человек, носящий военную шинель без погон.
Подошла мама, очень румяная от мороза. Коростелев что-то ей сказал, она ответила. Он опять сказал, она опять ответила.
— Мы опоздаем! — сказал Сережа.
Его не услышали, но, к счастью, мама сама вдруг заторопилась и стала прощаться. Коростелев хотел еще разговаривать, он задержал ее руку в своей руке, чтобы она не ушла, но мама отняла руку, сказала «до свиданья», и уже без задержек они с Сережей приехали в школу.
В школьной раздевалке вокруг Сережи сразу запрыгали девочки и закричали: «Ой, какой закутанный, какой закутанный!» Женщина в синем халате раздевала Сережу и спросила:
— Это кто же тебя так упаковал?
— Мама, — ответил Сережа. «Ни за что больше не дам надевать на меня столько, — подумал он. — Лягу на пол и не дам».
— Девочки, — сказала мама, — кто возьмет шефство над моим сыном?
— Я, я возьму шефство! — закричали девочки и ринулись на Сережу. Сережа испугался. Но девочка с рыжими косичками, завязанными крендельками на ушах, выручила его.
— Я! — сказала она и крепко взяла Сережу за руку. — Пойдем со мной.
Сережа пошел с нею, оглядываясь на других девочек, которые страшно шумели.
— Не обращай на них внимания, — сказала девочка с рыжими косичками. Я покажу тебе нашего директора.
— А елку? — спросил Сережа.
— Фу, елку! — сказала девочка. — Как будто ты никогда не видел елки. Директор страшно строгая. Один раз она увидела, что я из крана поливала себе голову, так сию же минуту вызвала родителей.
Они шли через длинную широкую комнату, где бегало, прыгало и шумело много мальчиков и девочек. Большой мальчик, больше Васьки, подмигнул Сереже, подмигнул необыкновенно — сначала правым глазом, потом левым, потом опять правым, потом опять левым…
— Ты всегда так ходишь? — спросила рыжая девочка. — Иди, пожалуйста, побыстрее и не оглядывайся. Ну, смотри: вот наш директор.
У окна стояли, разговаривая, две женщины.
— А другая завуч, — сказала девочка.
— А где елка? — спросил Сережа.
— Вот чудак. Мы же мимо нее только что прошли.
— Фима! Фима! — позвал кто-то.
— Постой здесь, — сказала девочка. — Меня зовут.
И она убежала, поставив Сережу у стенки. Сережа поискал глазами елку и нашел ее: она действительно была очень близко и вся была так опутана бусами, флажками и золотой паутиной, что за этими украшениями совсем скрылась ее живая, лесная зелень. Местами в золотой паутине, неяркие в свете солнечного дня, горели разноцветные электрические лампочки. «Интересно, — подумал Сережа, — из какого крана она поливала себе голову? Не из того ли бака, что там у двери?..» И он стал учиться мигать так, как мигал тот мальчик: закрыл правый глаз, потом открыл его и закрыл левый. Сначала дело шло медленно, потом пошло быстрее. Сережа с увлечением мигал, стоя у стены.
Мигал он и тогда, когда классы выстроились парами и началась самодеятельность — пение, танцы и чтение стихов. Вдруг он услышал, что кто-то читает: «Проказница Мартышка». Он перестал мигать и пошел через комнату к маме.
— Я тебе что-то скажу, — сказал он.
— Что, Сережа? — спросила она, наклонившись к нему и хмуря брови.
— Я тоже хочу это читать, — сказал он. — Я повторил.
— Мы с тобой опоздали, — сказала мама. — Нельзя двум читать одно и то же. В другой раз прочтешь.
«Для чего же я повторял?» — подумал Сережа.
Раздали подарки — мешочки со сластями. Стали играть в игры. Сережа пытался поиграть тоже, но его очень толкали, он ушел к своей стенке и занялся сластями. Большой пряник с белой сахарной корочкой он оставил для мамы.
Праздник кончился. Ребята разошлись. Мама одела Сережу и повезла домой.
На саночках Сережа заснул. Проснулся, когда въезжали в ворота.
— Ты меня все время везла? — спросил он.
— Да, — удивленно ответила мама.
— А Коростелев? — спросил он и не понял, почему она засмеялась и поцеловала его.
На другой день все мальчики на Дальней улице научились мигать и состязались в быстроте миганья.
— Дураки, — сказал Васька. — Кто вас научил?
— Это один мальчик в совхозной школе мне показал, — ответил Сережа. Я там был на елке.
— Да разве ж это так делается! — сказал Васька. — Во, ребята, смотри! — и он замигал обоими глазами с такой быстротой, что всем стало ясно: мальчику из совхозной школы копейка цена по сравнению с Васькой.
Глава девятая НЮША
Отец Нюши, Степан Степаныч, был гармонист. Без него не ладилось никакое веселье в красном уголке. Вечерами далеко по «Ясному берегу» разносились звуки его гармони. Люди, проходившие и проезжавшие темными полями, слышали эти звуки и говорили:
— Степан Степаныч играет.
В сорок втором году Степан Степаныч ушел на войну. Гармонь осталась дома. Мать завернула ее в шелковый платок и спрятала в сундук. Нюша приходила из школы — мать была на работе (она поступила уборщицей в контору), Нюша доставала гармонь, садилась на край открытого сундука и училась играть. Не разжимая губ, напряженно сведя поднятые тоненькие брови, напевала она какую-нибудь мелодию и старалась подобрать аккомпанемент. Иногда получалось, иногда нет. Чаще получалось.
Стрелка старых ходиков с розами на циферблате подходила к трем. Нюша запирала гармонь в сундук и клала ключ на место. Мать не потерпела бы, чтобы чьи-нибудь руки прикасались к отцовской гармони.
Мать обожала отца. «Степушка», «Степушка» — только и разговору слышали от нее люди в войну. Не всегда она его так любила. Когда она была молода и хороша собой, она больше любила других мужчин. Немало нахлебался с нею горя Степан Степаныч. Но она рано завяла: к тридцати пяти годам только и осталось от ее красоты, что богатые косы в руку толщиной да заманчиво вздернутый нос, про который, бывало, говорили бабы, что против Шуркиного носа ни один парень устоять не может.
Ее не уважали и звали пренебрежительно — Шурка. И вот — вошла она в степенные годы, стала примерной мужней женой и хлопотуньей-хозяйкой, и ничего дурного за нею больше не замечалось, а по имени-отчеству все равно никто не величал: так и осталась Шуркой.
Нюша пошла ни в мать, ни в отца — худая, смуглая, тонкая кость, глубокие глазницы на узком лице… Летом сорок второго года она окончила семь классов и поступила в совхоз.
— Потом доучусь, после войны, — сказала она своим учителям, которые жалели, что она, такая способная, не закончит десятилетки. — К ним эвакуированных коров нагнали, люди уходят и уходят, кому-то работать надо.
Ох, как плохо ей было на первых порах! Не потому, что работа тяжела: Нюша выросла среди трудовых людей и знала, что легкой работы не бывает. Потому плохо, что кругом все большие, а Нюша была маленькая, пятнадцати не исполнилось. Большие все умели, а она не умела ничего. Эти плечистые женщины с могучими руками считали ее слабосильной, заморышем и удивлялись — зачем она тут. Нюша страдала…
Хорошо Тане, нынешнему комсоргу. Она всего двумя годами старше Нюши, а сложение! а походка! Ступает — пол под нею гнется. Серьезность, солидность в голосе, в выражении лица. С самого начала ей было уважение и доверие: посылали ее на курсы, выдвинули в ветсанитары. Как с ровней обращались с нею большие, а Нюше говорили:
— Ладно. Где тебе, дай я сделаю.
— О, да не путайся под ногами.
Сколько надо проглотить обид, сколько приложить стараний, чтобы угодить этим большим, умелым, не верящим в тебя!
Настасья Петровна первая оценила Нюшино усердие: может быть, потому, что сама была тонкой кости, не обладала могучим сложением и знала, что дело не в этом… Настасья Петровна поговорила с директором (директор был еще тот ленинградский, старенький), и он перевел Нюшу в доярки.
Доярка — фигура большая! Весь совхоз глядит на доярку. Она дает выполнение плана. Она дает совхозу славу.
Нюша спала и во сне видела — дать совхозу славу.
Она жила в стране, где цена определяется человеку по его труду. Где труд приравнен к подвигу и труженик — к герою. Где героев знает и уважает весь народ.
И посмотрите, что получается: так кругом работают люди, что просто хорошая работа за хорошую не засчитывается, хорошей почитается только замечательная работа.
Я хочу работать замечательно. Хочу, чтобы меня уважали, чтобы сам Иосиф Виссарионович узнал о Нюше Власовой, девчонке из дальнего совхоза. Дескать, есть такая Нюша, тоже строит коммунизм, и не хуже других… Я добьюсь! Не обижена ни разумом, ни силой, не смотрите на меня как на последнюю…
…Отец вернулся. Из Кострова позвонил кто-то в контору и сообщил, что гармонист Степан Степаныч высадился с поезда и сидит на станции, дожидаясь автобуса. Сказали Шурке. Она уронила веник, закружилась по конторе, прижав ладони к щекам:
— Степушка… Степушка…
Ее отпустили домой. Вне себя она побежала по избам с криком: «Степушка на станции, сегодня дома будет, ой, не могу!» Когда Степан Степаныч явился, стол был празднично убран, жена и дочь празднично одеты. Он обнял их, спустил мешок с плеч — светлые слезы потекли по его небритому, запыленному лицу — и сказал:
— Ну, здравствуйте, семья!
Минувшим летом Нюша вдруг поняла, что она влюблена, влюблена без памяти.
В директора, Дмитрия Корнеевича.
Любовь была всевластная, жестокая, точь-в-точь как пишут в романах и даже в сто раз сильней.
Все на свете озарилось! Таинственная радость проявлялась во всем. Солнышко грело — жаром любви наливались Нюшины руки. Цветы в палисаднике пахли по-другому — горячо, сладостно и непонятно. Заслышится голос Дмитрия Корнеевича — Нюша побледнеет и вздохнет глубоко-глубоко, до боли в груди…
Сначала было только смятение и счастье оттого, что вот — полюбила… Потом пришли мечты.
Но она не умела мечтать бездельно и бесцельно, она включила эти мечты в план своей жизни. Раньше план касался только работы и учебы, теперь в него неколебимо вошел Дмитрий Корнеевич.
Все будет у Нюши, все. Нюша добьется громадных производственных успехов. Выучится на старшего зоотехника. Директор Дмитрий Корнеевич будет ее мужем.
Как это произойдет и когда — неизвестно, но обязательно произойдет.
Дмитрий Корнеевич ходит и не знает, что он будущий Нюшин муж. Даже не догадывается, что Нюша его любит. Если бы он знал, что это за любовь, — ни о чем бы больше не мог думать…
…И на гармони Нюша научится играть. Все будет.
Нюша подружилась с Таней. С чего начинается девичья дружба? Сколько лет Нюша дулась на Таню, считая, что та зазнается. Уж Таня и так и сяк к ней подходила — и хвалила на собрании, и клипсы, по ее заказу, привезла ей из Москвы, — а не могла подобрать ключ к Нюшиному сердцу. Но вот однажды она догнала Нюшу, когда та шла домой, и стала жаловаться на свою обиду: все считают, что она влюблена в Бекишева, а это клевета и кто пустил такую клевету?! Если человек тебе симпатичный, это еще ничего не значит. У наших женщин старорежимный взгляд на взаимоотношения.
— Только подрывают авторитет, — сказала Таня.
— Ах, Танечка, бедная! — искренно сказала Нюша. Как прежде она с полной убежденностью поддерживала слух, который Таня назвала клеветой, так сейчас, увидев слезы на Таниных глазах, горячо ей поверила и вознегодовала против клеветников.
— Конечно, — сказала Таня, — мне, как ветсанитару, приходится обращаться и к Анатолию Иванычу, и к тому же Бекишеву, и то же самое, как комсорг, я от них получаю данные о производственной работе комсомольцев, с меня райком требует характеристики… Так вот, почему-то не говорят же ничего про меня и Анатолия Иваныча, а всё Бекишев да Бекишев.
Нюша обняла Таню и сказала:
— Плюнь на них, Танечка. Ну вот, еще переживать из-за этого. Хочешь, я с тобой поделюсь?
— Поделись, — сказала Таня, сморкаясь.
— Я составила план своей жизни, — сказала Нюша и замолчала.
— Ну?
— Ох, подробный план!.. Чего-то мне расхотелось рассказывать, Танечка.
— Я не понимаю! — сказала Таня с негодованием. — Это уже безобразие. Не хочешь рассказывать — не надо было обещать.
Нюша сказала, что план этот касается исключительно учебы: подготовиться — и в техникум. В школе говорили, что она способная, годы подходящие, просто даже совестно не учиться.
— И все? — спросила Таня. — Такой план у всей молодежи, все учатся или думают учиться. Ой, крутишь ты чего-то, скрываешь от меня…
Нюша засмеялась и запела:
Слезы, слезы, слезы, Лейтесь, слезы, тише…Таня подхватила вполголоса (она не могла слышать, что кто-нибудь поет, и не подхватить):
Чтоб никто не видел, Чтоб никто не слышал…Они шли обнявшись и с веселыми глазами пели грустную песню:
Ах, любовь-кручина Сердце рвет и гложет, И никто на свете Горю не поможет…И разом оборвали песню: из конторы вышли Анатолий Иваныч, Бекишев и Коростелев. Коростелев громко говорил и размахивал руками.
— Не могу привыкнуть! — говорил он. — До войны, может, не принял бы его так близко к сердцу, а сейчас вижу — душа кипит. Удивительно: по другим война всеми своими колесами прошлась, во всех щелоках перемыла, а люди вышли из войны еще крепче, еще живее! А его война не тронула, он тут в конторе просидел. И — мертвый.
— Вы необъективны! — сказал Бекишев. — Осторожен он очень, старается избежать лишней ответственности, это верно. Но работник сильный.
— Кабинетчик!
— Есть грех, но это, думается мне, еще не повод, чтобы аттестовать его мертвецом.
— Повод! — сказал Коростелев. — Мертвец он, мертвец и есть. Это не просто боязнь ответственности, это безразличие — полное безразличие ко всему, что делается! Не нужны ему ни телка Ромашка, ни бычок Рокамболь, ни мы с вами, ни дело, для которого мы живем!.. Здорово, девчата.
— Здорово, — сказал и Бекишев.
Таня сурово насупила светлые брови, не глядя сказала: «Здравствуйте». Никто из них не заметил обожающего, смятенного взгляда, который подняла Нюша на Коростелева. Один Толя заметил и подумал, вздохнув:
«Как она на него посмотрела. Если бы Марьяна Федоровна когда-нибудь так на меня посмотрела…»
С того дня Нюша и Таня стали дружить. Встречаясь, задушевно беседовали. На собраниях садились рядышком. Конспекты по политучебе составляли вместе. Таня стала вышивать себе блузку украинским узором, и Нюша стала вышивать себе блузку украинским узором. Заговорят про Таню и Бекишева — Нюша вступается: странно! Она к нему, кроме как за производственными данными, и не обращается. У вас старорежимный взгляд на взаимоотношения.
Холмогорка Стрелка отелилась двадцать восьмого января здоровым теленком хорошего веса. Первые дни после отела она давала по семь-восемь литров молока, на пятый день удой повысился до двенадцати литров. Следующие дни шло дальнейшее повышение: тринадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать с половиной.
— Стрелочка! — сказала Нюша при Бекишеве. — Вывози, дорогая, на тебя вся моя надежда!
Бекишев посмотрел на Нюшу, ничего не сказал, но на другой день принес ей большой разграфленный лист клетчатой бумаги.
— У меня такой же, — сказал он. — Каждый день будем проставлять Стрелкин удой, потом вычертим кривую.
Стрелка стала получать жмыхи. Подсолнечный жмых Нюша замачивала обратом — снятым молоком, а льняной давала в сухом виде, потому что размоченный он прилипает к деснам и небу коровы. Стала Стрелка еще больше давать молока: девятнадцать, двадцать три, двадцать четыре литра… Вдруг вниз пошла кривая: двадцать три, девятнадцать, семнадцать… Нюша перепугалась, прибежал Анатолий Иваныч, велел оставить свеклу, а вместо нее давать клевер — что-то у Стрелки случилось с желудком. Велел также кормить небольшими порциями, но почаще. Подошли директор Дмитрий Корнеевич и Бекишев — целое производственное совещание состоялось. Бекишев привел Иконникова. Иконников просмотрел график удоев и Стрелкины рационы (Нюша их записывала в особую тетрадку) и милостиво согласился со словами Бекишева, что есть смысл индивидуализировать питание Стрелки и использовать для ее раздоя все корма, какими располагает совхоз.
Расщедрился! Нюша с первых дней поняла, что Стрелка с лихвой окупит все, что на нее затратят.
Стрелка оправилась быстро, опять пошла вверх кривая удоев. Пришлось доить Стрелку по четыре раза в сутки, потом по пять раз, потом по шесть.
Нюша приходила на скотный двор задолго до рассвета, в начале четвертого часа. Задавала Стрелке утренний корм: свеклу (опять разрешил Анатолий Иваныч), мелко изрезанную и посыпанную овсяной мукой, — Стрелке это блюдо нравилось. В четыре Нюша садилась доить Стрелку. После дойки давала комбинированный корм, зерно, которое Стрелка ела особенно охотно, обильно запивая свежей водой. В шесть часов, когда Нюша доила Стрелку уже вторично, приходил Бекишев, еще красный После утреннего умыванья, с мокрыми волосами, гладко зачесанными назад. Он всегда говорил одни и те же слова:
— Доброе утро. Ну, как?
И записывал цифру вчерашнего удоя. Цифра была большая, приближалась к сорока…
Теперь уже и Коростелев завел себе график и тоже каждый день наведывался к Нюше, иногда даже по два, по три раза. Глаза у него азартно поблескивали. Он все беспокоился, не потеряла бы Стрелка аппетита.
— Ест? — спрашивал он, заскочив на минутку.
— Ест! — отвечала Нюша, ответно блестя глазами. — Что я думаю, Дмитрий Корнеевич, не обязательно ей один чистый клевер, можно и осоки, немножко, для разнообразия, она осоку хорошо ест.
— Ладно, диктуй! — говорил Коростелев. — Я скажу старшему зоотехнику — будет выписывать все, что закажешь. Тебе видней.
Вот как он с нею теперь разговаривал, вот как доверял ей!
Прибегала Таня: «Что новенького?» Доярки, приходя на работу, прежде всего заглядывали к Нюше: «Прибавила?»
Нюша отвечала коротко. Ей не нравилось, что столько ходит народу. Коровам беспокойно. Корова любит тишину.
Отец понимал это, Степан Степаныч. Похаживает около двора, крутит свои цигарки, вздыхает, а к Нюше не заходит. Только вечером, дома, спросит:
— Идет дело?
— Идет!
— Ты ее когда купала?
— Раз в месяц я их с мылом мою. Недавно мыла.
— А вымой лишний раз. Для аппетиту. Чтоб бодрость в ней взыграла.
Хороший советчик отец.
Бекишев специально читает книжки о раздое коров. Вычитает что-нибудь новенькое — и сразу к Нюше.
— Спасибо, — говорит Нюша. — Попробую.
— Вы запишите. Давайте я вам запишу.
— Спасибо, запомню без записки.
Иной раз что-нибудь такое скажет Бекишев, что старых доярок разбирает смех.
— Погодите, — скажет, — в новых скотных дворах мы такие создадим условия!.. На окнах повесим шторы — регулировать освещение; и поставим радиолы — будут коровы доиться под музыку.
— Что ли — от музыки удои повысятся? — спрашивают его.
— Именно повысятся.
Женщины смеются. Нюша пожимает худеньким плечом: чего смеяться? Человек серьезный, знает, что говорит. Ей представляется, как будет здесь на скотном через два-три года: механизация полная, чистота. И красивая, тихая музыка. Разве не хорошо? Очень хорошо.
Разговаривают Коростелев и Бекишев.
— Вита швиц дала шестьдесят девять, симменталка Фрея семьдесят два, а мировой рекорд, семьдесят семь и семь десятых, поставила все-таки холмогорка Вольница.
— Еще не вечер, — говорит Коростелев, — мы не знаем, где Стрелкин предел.
— Может быть, не так уж и далек ее предел, — говорит Бекишев.
Нюша смотрит через окошечко электрического доильника, как быстро-быстро бежит по резиновой трубке молоко, и думает: да, еще не вечер. Кто знает, может быть, Стрелка окажется не хуже прославленной Вольницы. А Бекишев так и ходит рядом, и Анатолия Ивановича водит с собой. Смотрят Стрелку, слушают у нее сердце — берегут…
Пошла телеграмма в область, в трест молочных совхозов, директору треста Данилову:
«Доярка Анна Власова первая откликнулась на решение февральского пленума ЦК, раздоив корову Стрелку до 52,7 литра суточного удоя и выполнив свой месячный план на 143 процента. Взяла обязательство надоить от данной коровы за лактацию десять тысяч литров. Директор совхоза Коростелев. Парторг Бекишев».
И пошли летать телеграммы! Горельченко телеграфировал в обком партии, рабочком — в обком союза, трест по телеграфу поздравил Нюшу, Коростелева и Бекишева, потом пришли поздравления от обкома партии, обкома союза, от министерства совхозов.
— Что, Нюша? — сказал Коростелев. — Так начинается слава.
Она стояла и держала в руках телеграмму, подписанную министром: узенький казенный бланк, твердый на сгибе, с рядками слов, приклеенных желтым клеем… Лицо Нюши горело. С счастливым и растерянным, детским вздохом она ответила:
— Не понимаю, что они находят особенного.
И спрятала телеграмму в карман.
Пришел из райцентра фотограф с треножником. Накрывшись черной простынкой, долго фотографировал Нюшу. Другой приехал вечерним поездом из областного центра. Этот снимал без простынки, жег магний, ослепляя Нюшу шипящими голубыми вспышками, и велел Нюше вынуть из ушей серьги, милые ее клипсы: почему-то они ему не понравились. Третий фотограф приехал утренним поездом из Москвы, в совхоз его доставили на райисполкомовском «газике». Московский понравился Нюше больше всех. Он сказал: «Вот вы какая, а я думал, вы пожилая — мамаша!» Она стала было снимать серьги, он сказал: «Зачем это? Будьте такая, как вы есть, а сережки вам идут». Он сфотографировал отдельно Нюшу и отдельно Стрелку, потом Нюшу рядом со Стрелкой, потом Нюшу с доярками четвертой бригады, потом Нюшу с Таней. Хотел снять Нюшу с Бекишевым, но тот отказался сниматься… Фотоаппарат у московского фотографа был маленький-маленький, умещался на ладони.
Москвич уехал, обещав всем прислать карточки. Принесли районную газету с Нюшиным портретом. Под портретом было напечатано: «Анна Власова» — очень крупно, и это хорошо, потому что портрет был совсем не похож, Нюша была на нем старая и толстая, даже отец и мать не узнали бы без подписи… Приехали из треста старший зоотехник и старший ветврач, их прислал Данилов. Опять начались совещания около Стрелки. Даже Иконников теперь часто бывал на скотном дворе — не то его задело за живое, не то неловко было при начальстве сиднем сидеть в конторе… Нюша не могла участвовать в совещаниях, у нее не было времени: Стрелка дала уже пятьдесят пять литров, доить ее приходилось семь раз в день; Нюша пробовала доить даже восемь раз, но Стрелка забастовала — в восьмую дойку не дала ни капли.
«Что, Нюша? Так начинается слава». Нюша исхудала. «В спичку, в спичку исхудала!» — говорила мать. Глаза запали, ушли в глубокие темные ямы. Первая дойка была в половине четвертого утра, а последняя в половине одиннадцатого вечера — исхудаешь тут… Каждый день Коростелев и Бекишев, бригадир и доярки гнали Нюшу. «Бери выходной, с ума сошла, в больницу себя загонишь, без тебя будто некому управиться!» — кричали доярки, жалея ее и сердясь от жалости. Она их не слушалась: какой там выходной! Уйти, когда сбываются наконец ее желанья?!
Раньше дни были коротенькие, особенно зимние, когда светает поздно, темнеет рано. Как будто только что встал и умылся — ан уж ложиться время. И не вспомнишь сразу, что было в четверг, а что в среду, потому что четверг был похож на среду, а среда на вторник… Теперь дни стали очень длинные: от утра до ночи столько событий, встреч, разговоров! И уже не похож вторник на среду, потому что одно происходило во вторник, а другое в среду. И каждое происшествие врезывается в память навеки, и все как есть Нюшины нервочки натянулись и поют…
— Нюшка, падешь! Ой, смотри, девка, падешь!
— Отвяжитесь! Не паду!
В совхозе инструктор обкома партии, с ним Иван Никитич Горельченко. Пятьдесят девять литров надоила Нюша от Стрелки… Еще газета, областная, в ней портрет, похожий, но без клипс, такая обида!.. Данилов приехал, на летучке объявляет Нюше благодарность… Прибыл представитель от министерства, изучать Нюшин опыт… Стрелка, Стрелка, не подведи! Шестьдесят два и одна десятая… Кого тут нет сейчас в совхозе — райзо, облзо, зональная станция, колхозные животноводы. Кто приходит пешком, кто приезжает в санях, кто поездом, кто машиной. Одни побудут и уйдут, другие остаются пожить. Уже у всех служащих есть постояльцы. Бекишев с женой, говорят, на полу себе стелят, кровать и диван гостям отдали… Шестьдесят три литра… Ветеринары не отходят от Стрелки. Представитель министерства считает необходимым ввести дополнительное кормление в ноль часов двадцать минут: овсяная мука и брюква… Шестьдесят пять литров… Коростелев, Дмитрий Корнеевич, давеча пришел, спрашивает как всегда: «Ест?» — «Ест». «А ты ешь?» — спрашивает вдруг. Нюша засмеялась, а он ей на лоб руку положил, пощупал, нахмурясь — нет ли жара у нее. Какой там жар… Данилов обязал директоров совхозов обсудить Нюшин опыт на собраниях… Из министерства опять телеграмма — чтобы каждый день производили ветосмотр Стрелки, а ей и так то температуру измеряют, то пульс, то дыхание. Два журнала заведены на Стрелку: журнал наблюдений за состоянием здоровья и журнал расхода кормов… Шестьдесят шесть и восемь десятых… Облзо и зональная станция взяли на себя научную консультацию по кормлению Стрелки, до сих пор в «Ясном береге» только Брильянтовая пользовалась такой честью… Опять телеграмма — от министра! Беспокоится: как в совхозе с кормами, не подбросить ли концентратов. Да, да, да! Подбросить! Да побольше!.. Пришла центральная газета: и Нюша, и клипсы — как живые!.. Телеграмма от академиков; когда ее принесли, Нюша доила, прочла через плечо. Надоели ей телеграммы. Взяли бы лучше да приехали, помогли высокоавторитетным своим советом… И они приезжают, как по заказу, даже не приезжают, а прилетают — специально им дали самолет, чтобы слетать к Нюше. Два академика, оба седенькие, один бритый, другой с бородкой. Ходят ботиночками своими по грубым мосткам скотного двора, а другие все следом, как свита… Академики постановляют: «В целях создания для коровы более продолжительного отдыха в ночное время, перевести на шестикратное доение, перенеся последнее доение с 23.30 на 22 часа…» Ну, Стрелка, ну, золото мое! Шестьдесят восемь и пять десятых… Громадные рационы выписываются Стрелке. «Ест?» — «Ест!»
Семьдесят один.
Она сидела и доила корову, маленькая девушка в малиновых, ягодками, сережках; академики, хозяйственники и партийные работники стояли почтительно и смотрели, как она доит.
На пятьдесят шестой день после отела Стрелке скормили девяносто два килограмма кормов, считая обрат. Она дышала как паровоз, но ела. В этот день дала семьдесят два и девять десятых литра молока. На другой день отказалась есть.
— Стоп! — сказал академик с бородкой.
— Ну да? — грустно сказал Коростелев.
Бекишев и Толя пошли в служебку и составили акт: «Принимая во внимание общее состояние коровы на такое-то число и слабую поедаемость установленных рационом кормов при высоком удое, дальнейшее раздаивание и удержание рекордного удоя считать нецелесообразным и опасным для здоровья животного».
Нюша медленно прочитала акт, с трудом вникая в смысл неуклюжих фраз. У нее было такое чувство, словно она бежала, бежала, бежала, едва касаясь земли, и вдруг ее схватили и остановили сразу…
— Я пойду, — сказала она.
— Придется задержаться еще часа на два, — сказал Бекишев. — Мы сейчас отсюда в красный уголок. Там из колхозов пришли доярки, требуют, чтобы вы им рассказали, как это у вас получилось.
— А что получилось? — спросила Нюша. — Ничего такого. Вольница дала семьдесят семь и семь.
— Ну, знаете! — сказал академик с бородкой. — Хватит вам на первый раз.
— Дело не в рекорде, — сказал Бекишев. — Вы показали, чего можно добиться. Увидите, как сейчас поднимется соревнование.
В красном уголке хлопотал рабочком: вешали флажки, несли стулья из столовой. На передних скамьях сидели принаряженные женщины из колхозов. Девушки-комсомолки натягивали красное полотнище с надписью: «Привет победительнице соцсоревнования Нюше Власовой!» Буквы на полотнище были еще влажные, пачкали пальцы. Двери хлопали, впуская людей, — на собрание шли доярки со второй фермы, телятницы, свинарки, птичницы. Кого интересовало послушать, кого просто посмотреть на Нюшу: ее помнили здесь вот такой девочкой…
Да, вот вам и девочка! Теперь тянись за этой девочкой!
Она входит, а за нею что народу! Городские, с портфелями. Она в будничном сером платке, обмотанном кругом шеи. Похудала, видать, пришлось поработать… Сажают ее на главное место, по обе руки от нее — старички, как лунь белые («это, знаете, из Академии»), остальные — где кто. Выходит вперед товарищ Данилов, директор треста, — речь говорить…
Данилов говорил, потом Горельченко, потом Коростелев. Нюша слушала все перед нею плыло в дымке… «Ее успехом гордится весь коллектив», говорит Коростелев. «И он гордится, Дмитрий Корнеевич, любовь моя», туманно думает Нюша. О премии говорят… Это хорошо, премия, она себе туфли купит модные. В Книгу почета… Кого это? А, ее, Нюшу, в Книгу почета. Ах, хорошо, все хорошо. Она знала, что будет хорошо, только не думала, что так скоро… Все-таки, вот сейчас ей дадут слово, что же она скажет? А что тут мудрить: встанет и расскажет, как она ходила за Стрелкой. Скажет спасибо всем, кто ей помогал и учил. И все. Ничего нет страшного…
Вошла Нюшина мать. Она скромно остановилась у двери — она знала свое место, недаром ее чуть не до седых волос кликали Шуркой. Но женщины, толпившиеся в дверях, расступились, и одна сказала:
— Ближе, ближе иди. Дочку твою чествуем.
Тогда она вдруг поняла свое право и пошла вперед. Лукьяныч, сидевший в первом ряду, оглянулся и встал, уступая ей место. Она села и горделиво поправила косы. Кругом сидели гостьи, женщины из колхозов. Она услышала шепот:
— Это мать.
— А мать кто?
— В конторе служит.
— Как звать?
Знакомый голос доярки Гириной ответил:
— Александра Михайловна.
«Что, Нюша? Так начинается слава».
Глава десятая ВЕСНА
Красавец сугроб, голубыми искрами сверкавший на солнце, потемнел. Тонкий черный налет появился на нем. Сугроб стал оседать, меняя форму, покрылся хрупкой стеклянной коркой, корка трескалась и ломалась. Оседал-оседал сугроб и стал маленький, некрасивый, весь черный, и потек из-под него тоненький прозрачный ручеек.
Ручеек потек через двор, проложил себе русло во льду и выбежал за ворота. А там уже струился, завиваясь на ледяных порогах, широкий ручей. Маленький ручеек влился в большой ручей и с ним устремился к реке.
Толстые сосульки, свисавшие с крыш, обтаивали на солнце, капли, падая с них, звонко ударяли о лед, по всем улицам пели капели песню весны.
Все это было днем. Стоило солнцу склониться к закату, — крадучись, возвращался мороз: по ночам он еще был владыка. Замерзали ручейки и ручьи, умолкали капели.
А солнце делало свое дело, как хороший рабочий, — вышли из-под снега заградительные щиты на полях, обнажились светло-зеленые разливы озими, наметились вдоль дорог и улиц дорожки-протопки. Перед утром еще возвращается мороз, но владычество его все кратковременнее и ничтожнее, и ликуют живые силы, воскрешенные солнцем.
И выразить это можно только в стихах, в пьесу такое не вмещается.
Толя бросает начатую пьесу и пишет стихи. Они посвящены Марьяне Федоровне, но он не может прочесть их ей: если она поднимет брови и останется холодной, это его убьет. А она непременно поднимет брови и останется холодной, Толя чувствует.
В стихах повторяется извечная ложь, невинная младенческая ложь поэтов. У Марьяны Федоровны волосы прямые, русые — непонятно, о каких золотых кудрях пишет Толя, переполненный чувствами и рифмами. Серые глаза Марьяны Федоровны сравниваются то с незабудками, то с васильками, то с фиалками (хотя известно, что человеческим глазам фиолетовый цвет не присущ), то с лазурью южных морей, которых Толя никогда не видел (увидит этим летом: ему обещана путевка в Новый Афон)… «Ты прошла, и очи синие мне приветно улыбнулись» — обычные враки, весенний бред, юношеский захлеб!
Ямбы, хореи, сравнения, многоточия, восклицательные знаки! Стихотворение за стихотворением, тетрадка за тетрадкой! Столбцы коротких и длинных строчек душат Толю, ему необходимо прочитать их кому-нибудь — кому же? Коростелеву, он молодой и неженатый, поймет! Распихав тетрадки по карманам пиджака, Толя идет к Коростелеву.
— Здорово, честное слово! — говорит Коростелев, послушав. В поэзии он не искушен, все написанное в рифму кажется ему прекрасным.
Они вдвоем. Толя читает стоя, Коростелев сидит, закинув ногу на ногу («совсем как Пушкин и Пущин на картине!»). После Толиного ухода Коростелев подходит к окну, дергает раму — сыплется краска, с хрустом рвутся бумажные ленты, которыми заклеены щели рамы, — в звездах черное небо, острый жадный ветер влетает в комнату…
— С ума сошел, Митя. Кто же в марте открывает окна!
Не золотые кудри, не васильковые очи — волосы прямые русые, глаза серые — ах ты моя милая, ты моя хорошая, куда ж я раньше глядел, где я раньше был, никакой другой нет на свете, позови ты меня сейчас — за тыщи километров побежал бы на твой зов!
Стихов не умею сочинять. Один только раз, в школе, сочинил стишок на учителя, который мне поставил «неуд» по арифметике. Полюби меня без стихов, без шелковых галстуков, без выдающихся заслуг, простого, немудреного, любящего тебя!
Говорят: сердце сердцу весть подает, — неверно! Встретишь ее, скажет: «Здравствуйте, Дмитрий Корнеевич» — и идет своим путем, не остановится.
Позови меня, Марьяша.
Врет он в своих стихах, будто ловил твои взгляды. Не верю! Не потому, что он недостоин твоих взглядов — наверно, достоин, славный паренек, талантливый, честный, а вот не верю, и все.
Меня позови, Марьяша.
Сам не шел. Так же боялся пойти без зова, как боялся Толя читать ей стихи. Свободные вечера проводил у Горельченко.
Иван Никитич и его жена Анна Сергеевна — гостеприимные, радушные. Званых вечеров не устраивают, а набежит гость — все, что есть в доме, подается на стол. Заходят всякие люди — районные работники, колхозники, учителя, вдовы фронтовиков (Анна Сергеевна работает в райсобесе). За вечер человек десять придут, выпьют стакан чаю, переговорят о деле, сообщат новости и уйдут, а Коростелев сидит, подобрав под стул длинные ноги, чтобы не споткнулся кто, стакан за стаканом пьет чай и уходить не хочет.
«Что значит ум и принципиальность!» — думает он, слушая Горельченко. «Что значит интеллигентность!» — думает он, слушая Анну Сергеевну. «Что значит, когда между мужем и женой такое уважение и внимание! — думает он, наблюдая за Горельченко и Анной Сергеевной. — Когда такие отношения, то тепло в доме и приятно зайти в дом…» У Анны Сергеевны и Ивана Никитича оба сына убиты в войну, их карточки стоят на столе; известно всему городу, что иногда в сумерки Анна Сергеевна приходит в сквер, садится на лавочку около обелиска Александра Локтева — будто это могила ее детей — посидит и уходит. Но никогда ни она, ни Иван Никитич не говорят с людьми о своем горе, не жалуются, не предаются тяжким воспоминаниям.
Иван Никитич увлечен железной дорогой. По пятилетнему плану в сорок восьмом году к городку будет проведена железнодорожная ветка, строительные работы начнутся этим летом. Новые возможности открываются перед городком, перед колхозами, перед всем районом! Чкаловский председатель так и кружит вокруг Ивана Никитича, усы председателя становятся дыбом от нетерпения, от размашистых планов, от буйных хозяйственных мечтаний. И другие люди, встречающиеся у Горельченко, говорят о вокзале, пакгаузах, холодильниках, об асфальтированной трассе от вокзала через весь город… Расти городку, цвести городку, приумножать свое достояние!
— Ну-ка, старожилы, — говорит Горельченко, — ну-ка, местные уроженцы, почему у вас до сих пор не было железной дороги, а у костровцев была, кто скажет?
Никто не может сказать.
— Ладно, старожилы, ладно, местные уроженцы. Послушайте лекцию из истории города. В области раскопал, в архиве. Три четверти века назад строили дорогу через нашу область — тогдашнюю губернию, — и дорога эта по первоначальному проекту должна была пройти через наш город. Но заартачились окрестные помещики: не надо нам, и без того, дескать, после освобождения крестьян жизнь стала неустойчивая, дайте хоть кой-как дожить в тишине, не рушьте дедовских гнезд… Темные люди были помещики.
Послали петицию в Петербург. Петиция в архиве не сохранилась, только следы ее, а жалко: то-то, должно быть, было произведение… Помещики здешние — что, люди маленькие, никто на их петицию не обратил бы внимания, но у некоей госпожи Ломакиной, местной такой Коробочки, племянник был при дворе, влиятельное лицо; по тетушкиной просьбе замолвил там кому-то словечко; благо ему это, как говорится, ни копейки не стоило… Дворянскую петицию уважили.
Вот и прошла дорога за тридцать верст от города, через село Кострово. А как пустили ее в эксплуатацию, и стало Кострово расти не по дням, а по часам, и тамошние землевладельцы стали втридорога сдавать свои участки взвыли в дедовских гнездах блюстители тишины! Вона что наделали! Сами себя ограбили! А всему, дескать, злу корень — старая дура Ломакина с ее племянником… Кричали, ругались, потом сочинили новую петицию: мы передумали, пускай дорога и у нас будет, мы согласны. Но уж на это послание ответа не последовало. И остался город — как-никак, административный центр — от дороги в стороне…
Горельченко рассказывает с живостью, глаза его жмурятся веселой улыбкой. Ласково и внимательно смотрит на мужа Анна Сергеевна, и ее бледное лицо тоже улыбается…
Тихими темными улицами Коростелев идет домой. В теплой тьме перестукиваются невидимые капели. В их перестуке обещание, надежда, радость. Полным-полно надеждами сердце Коростелева, и всему-то хорошему и высокому раскрыто оно, это простое сердце. Идет Коростелев один, но в каждом домике, за запертыми ставнями, чувствует присутствие людей. И в полях тоже люди, людские жилища. И по всей земле советской — люди, с которыми связан едиными чаяньями и делами: сокурсники ли, с которыми учился, однополчане ли, с которыми плечо к плечу отстаивал все, что дорого в жизни, те ли, которых знаешь понаслышке о великих ихних трудах на заводах, в шахтах, в поле… Может быть, и они в эту самую ночь слушают перестук капелей и улыбаются своим надеждам. И в далекой Москве, может быть, отворил окошко, закурил трубочку, заслушался перестука капелей самый драгоценный в мире человек, любовь и слава народа — Сталин… Громадная, громадная земля кругом, громадная, громадная весна на земле!
Коростелев делает крюк, проходит по Дальней улице, мимо ее темных окон.
Спи, моя хорошая. В чистом и радостном труде прошел твой день, и сны тебе, должно быть, снятся легкие, веселые. И как это так — жила ты и жила, и я не думал, как ты живешь, какая ты, хорошо тебе или плохо… И вдруг стала ты мне близкой навеки, и я уже не смогу перенести, если тебе будет плохо, — почему не смогу, с чего это вдруг, как же так устроено?..
Вот как началось: я шел по улице и совсем не думал о тебе, и вдруг вижу — ты стоишь у калитки. Не чужая и гордая, как в ту встречу на дороге, а простая и печальная. Без чулок, и прическа рассыпалась… Я оглянулся, ты смотрела на меня твоими глазами…
В тебе радость. В тебе ясность, и нежность, и молодое материнство, и женская прекрасная тишина. Это правильно, что ты учишь маленьких детей. Да, ты именно должна учить маленьких детей! — и дети вырастут хорошими. И именно в таком доме, с такими ставенками, ты должна жить. И городок — не придумать для тебя лучше. И Сережа — как раз для такой мамы сынишка. Все правильно, в самый раз. Люблю тебя, Марьяша.
Ну, и что дальше? В гости к тебе ходить? А вдруг встретишь неласково — ведь я же сбегу и больше не приду, и всему конец!.. В кино тебя пригласить, в клубе повертеться с тобой под музыку?.. Не хочу. Оскорбительно. Чувства не те. Ты мне разреши сразу сказать самые главные слова. И ответь: да, нет.
…Как хороший рабочий, старается солнце. Стрельнули из земли иглы молодой травы, взбухли почки на деревьях, и перед окнами конторы, на припеке, дерзко расцвел первый одуванчик.
Лукьяныч ладит новый челн.
Еще зимой, по санному пути, к субботинскому дому подвезли на специально сколоченных санях огромное бревно, тянула его тройка лошадей. Лукьяныч вышел из дому, важный, обошел бревно, пощелкал — сухое ли, спросил:
— То самое, что я выбрал?
— А как же, Павел Лукьяныч! — сказали возчики. — Вот же ваша отметина.
— Ладно, выпрягайте, — сказал Лукьяныч.
Возчики отпрягли лошадей и уехали. Бревно с санями осталось на улице.
Наступила оттепель, снег подтаял, осел, осели и сани с бревном. Весенняя грязь была — в грязь оседали сани. Дожди шли, мороз ударял, солнце грело — бревно мокло, покрывалось ледяной коркой, оттаивало, обсушивалось на ветерке.
Когда грязь подсохла, Лукьяныч взялся за работу. Придя из совхоза домой, он надевает старые брюки и свитер и идет к своему бревну. Бревно надлежит остругать, выдолбить, обточить, осмолить. Хватит работишки на всю весну.
Тетя Паша сидит у ворот на лавочке и смотрит, как работает муж. Она закончила на сегодня все свои дела, настал ее час отдыха. Отдохнуть бы вместе: сели бы двое стариков, поговорили дружно… Поговоришь! Когда, вот именно, жена свободна, он вишь как взялся трудиться! Летят щепки, стучит топор, шуршит рубанок, сам весь в поту — видели стахановца?
Тете Паше хочется сказать ему что-нибудь обидное.
— Удивляюсь, — говорит она, когда он наконец останавливается отдохнуть и топор умолкает, — кто это у чкаловцев выдал тебе такое бревнище? Небось незаконно. Небось как откроется, под следствие пойдет.
— Ты под следствие пойдешь, — замечает Лукьяныч. — За клевету. Это мой гонорар за красоту баланса.
— Из него что дров можно напилить, — говорит тетя Паша. — Кубометров шесть, право. Или не будет шести? Всё бы для жизни, для дела, а не для глупости.
— Тебе поручить управление, — говорит Лукьяныч, — ты бы и дома, и пароходы, и фабрики попилила на дрова.
— Небось когда я была молодая, ты со мной целый вечер, бывало, просиживал.
— А я сам молодой был да глупый, вот и просиживал целый вечер без всякого дела.
— То у тебя сверхурочные, то по колхозам завеешься. Мало жалованья, что ли? Все жадность — где бы еще сорвать сотню…
— Грешный человек, — говорит Лукьяныч, — люблю поработать, люблю заработать, люблю, чтобы в доме была полная чаша.
— Ты меня любил, — говорит тетя Паша, пригорюнясь. — И я тебя любила.
— Действительно, было такое дело.
— А какая я была душечка! Уж какая я тебе досталась лебедушка! Помню, как я на ярмонку оделась, когда тебя первый раз встретила. Юбка зеленая, галунчиком обшитая, а кофта китайской кисеи, на рукавах в четыре рядка оборочка, и лента в косе вишневая…
— А где та лента? — спрашивает Лукьяныч. — Я ж ее тогда у тебя на память выпросил. Она тебе не попадалась?
— Грубиян, право грубиян. Пугалище. Ничего не помнит. У меня та лента спрятана. С венчальными свечами.
— А, это ты молодчина, что спрятала. Ты мне ее как-нибудь покажи.
— Вот так и прожила всю жизнь с грубияном непомнящим. Чем бы посидеть, чайку попить не спеша, побеседовать, повспоминать…
— Видишь, Пашенька, тут разница психологий, мужской и женской. Женщина, лишившись молодости, интересуется главным образом повспоминать. А мужчина, если он настоящий мужчина, и в преклонных годах орел. У него в поле зрения и работа, и политическое положение, и благородный спорт.
— Орел. Спортсмен какой, посмотрите на него. Всю улицу загородил бревнищем. Шоферы ругаются, что проезд закрыт. Спорт.
— Однако довольно, пожалуй, — говорит Лукьяныч. — Побеседовали, повспоминали — время поработать.
И он берется за рубанок.
Этот разговор начался лет двадцать назад. Они ведут его вполголоса, с прохладцей, незлобно. Если бы в какой-то день разговор не состоялся, оба заскучали бы и опечалились.
Время сева и свадеб. Закладываются фундаменты новых семей и новых зданий.
Отремонтируем две сушильные печи, вышедшие из строя в годы войны, доведем выпуск кирпича до двух миллионов штук. Будем строить новые конюшни на всех фермах. Шеф-завод прислал рельсы, механизируем вывозку навоза со скотных дворов: от дворов на поля проведем рельсы и пустим вагонетки. Вагонетки Алмазов делает в своей мастерской. Вот человек оказался Тосин муж! В прорабы его надо перевести. На глазах растет. Как обучил молодых! Моментально соображает всякое дело, касающееся до строительства. О нем уже прослышали, к нему в ученики просятся молодые люди, желающие научиться столярному и плотницкому мастерству.
В райцентре стучат молотки: две улицы мостятся, Коммунистическая и Первомайская. По этим улицам будут ходить новые автобусы, обтекаемой формы, для них строится новый гараж. Электростанция стоит в лесах, на капитальном ремонте. Двигатель, говорят, привезут новый, на весь район хватит мощности — ставь столбы и тяни проволоку куда хочешь. Горельченко ходит по городу, жмурится, шутит, мурлычет песню: «А мы пидем в сад зеленый, в сад криниченьку копать».
Ждем станка, обещанного Даниловым. Станок для выделки черепицы, и уже появился на нашем горизонте неугомонный председатель колхоза имени Чкалова. Сидел у Коростелева в кабинете, поигрывал пальцами по столу: «Черепичка вам, черепичка нам». Нет, дорогой товарищ. Помню, как вы с нами прошлый год обошлись. Так между людьми не делается.
— Больно злопамятны, неужели полностью удовлетворены рабочей силой?
— Там полностью, не полностью, а у нас тоже своя амбиция.
— Амбицией, знаете, производство вперед не двинешь. Мы кирпич теперь имеем свой, вот в чем дело, нам самим квалифицированный народ понадобился, через это и забрали своих людей. А черепицы у нас нет, а черепица нужна. Я и положил амбицию в карман и приехал с поклоном. Мне на первом месте колхоз, а амбиция на десятом, и вам, думаю, то же самое… Эх, товарищ Коростелев, ведь одному делу служим — крепости и мощи родного государства.
Погорячась, Коростелев подписал контракт. Умеет чкаловский председатель уговаривать людей. Не хуже Гречки.
Весна, соленый пот, планы, чаянья. «Ку-ку! Ку-ку!» — тысячу раз подряд кричит кукушка за рекой. Даже Иконников оживился, ему кажется, что он смелый, остроумный, неотразимый, что не сегодня-завтра он объяснится с Марьяной Федоровной… Шутка, он не может уснуть, думая о ней.
Если бы он знал, как он надоел Марьяне Федоровне. Ох, хуже горькой редьки. Едва завидев в окно его благообразную, солидно приближающуюся фигуру, Марьяна испытывает тоскливое чувство: опять тащится, опять скука на целый вечер!
Влюблен, не влюблен — это теперь не имеет ни малейшего значения. Она-то его не может полюбить — вот в чем дело, ни в коем случае не может! Ей с ним скучно, тяжело, невыносимо.
Но как сказать ему об этом, пожилому, важному человеку? Как дать понять, чтобы не ходил больше, что никакой дружбы у них не получится?
— Иннокентий Владимирович, вы извините, — говорит Марьяна, ужасаясь своей неделикатности, — у меня масса ученических тетрадок, я должна проверить…
— О, пожалуйста! — говорит Иконников, как бы даже обрадовавшись (потому что говорить им, в сущности, не о чем, все случаи из жизни рассказаны, все книги и кинофильмы обсуждены). — Пожалуйста, а я посижу тут возле, не помешаю?
И сидит. Читает газету или просто водит бесцветными глазами, размышляя о чем-то.
Марьяна проверяет тетрадки как можно медленнее, по два раза проверяет каждую тетрадку, чтобы не разговаривать с ним. Но как ни старайся, а этого занятия надолго не хватит — какие там у ребят в первом классе работы! Марьяна встает, улыбаясь бледной, вымученной улыбкой, а тут тетя Паша вносит самовар и приглашает Иконникова к столу.
Еще немного, и лопнуло бы Марьянино терпение. И сдержанная, застенчивая, интеллигентная учительница выгнала бы Иконникова, как выгнала его когда-то несдержанная и неинтеллигентная картонажница, его жена. Но прежде чем это произошло, вмешались другие силы.
— Похоже на то, — сказал Лукьяныч Настасье Петровне, — что скоро будем гулять на Марьяшиной свадьбе, очень похоже.
— Все ходит? — спросила Настасья Петровна.
— Прямо сказать — зачастил.
— А Марьяша?
— Кто знает. Не гонит. Женская душа — бездна. Замечаем — вроде грустит… Что вы так на меня смотрите, Настасья Петровна?
— А вы что на меня смотрите, Павел Лукьяныч?
— Мы с вами не вправе давить на ее психику.
— Конечно, ей решать, она человек самостоятельный…
— И что мы можем сказать о нем компрометирующего?
Вечером, дома, Настасья Петровна сказала сыну:
— Малокровный-то. Жениться собрался.
— Какой малокровный?
— Иннокентий Владимирович.
— Ишь ты. На ком?
— На Марьяше.
Коростелев не сразу понял.
— Как на Марьяше?
— Да вот так. На ней. Ох, не знаю. Будто не худой человек, а не лежит душа…
Коростелев слушал с каменным лицом, неподвижно уставясь на мать. Вдруг встал, снял шинель с гвоздя, оделся, вышел, не сказав слова. «Странный Митя, — подумала Настасья Петровна, ничего не поняв, — все-таки Марьяша нам не чужая…»
А Коростелев шел к Марьяне. Внезапная злая решимость подняла его и погнала. Плана действий у него не было — просто быть на месте, лично убедиться, вмешаться!
Посредине Дальней при свете месяца Лукьяныч трудился над своим челном. Щепа и стружки, густо набросанные вокруг, белели под месяцем.
— Вы ко мне?
— Нет, — сказал Коростелев. — К Марьяне.
Он рывком отворил калитку и громко постучался с черного хода. Вышла тетя Паша.
— Митя! — сказала она. — У нас не заперто, заходи. Насилу собрался!
Марьяна и Иконников были в столовой. Самовар на столе, чашки-блюдечки, крендельки… «Совсем по-семейному». Марьяна быстрым движением повернула голову на голос Коростелева, лицо ее залилось краской. Смутился и Иконников. «Смотри ты, застеснялся, какой мальчик».
— Здравствуйте, Дмитрий Корнеевич.
— Здравствуйте, — недобрым голосом сказал Коростелев и сел.
— Чайку, Митя.
— Пил, не хочу. Как живете?
Тетя Паша с простодушной готовностью начала докладывать, как она живет. Коростелев смотрел на строгое, правильное лицо Иконникова, на его белые брови, на белую руку с прямыми, как линейки, неживыми пальцами, держащими ложечку… «Отставил мизинец, как барышня. Опустил глаза. Стесняется, что его здесь застали?» Марьяна что-то шила, низко наклонив голову. «Неужели уже решено? Неужели жених и невеста?» Иконников протянул руку, взял кренделек. «Хозяином себя здесь чувствует. Над ней, над Сережкой будет хозяином вот этот человек, которому наплевать на всех и на все… Рыбья кровь, бездушный слизняк, которого и ухватить-то нельзя пальцы соскальзывают…»
— Сережа где? — некстати спросил Коростелев, прерывая тетю Пашу.
Оказалось, что Сережа давно спит.
— Неудивительно, — с улыбочкой заметил Иконников. — Уже двенадцатый час.
— Да, — сказал Коростелев, — поздно, поздно.
Марьяна подняла голову, взглянула на него, потом на Иконникова. Милая, лукавая улыбка блеснула в ее глазах. Расцеловал бы ее за эту улыбку! Тетя Паша, недовольная тем, что ее перебили, возобновила доклад. Марьяна еще ниже опустила голову, улыбка так и танцевала вокруг ее губ. Чему ты, радость моя, смеешься, что тебе так весело, у меня ком в горле, а тебе смешно! Неужели надо мной смеешься, неужели любишь его? Да ведь нечего любить, присмотрись хорошенько!
Иконников взглянул на часы и сказал: «Ого!» Коростелев сидел железно. Иконников встал с недовольным видом.
— Пошли вместе, — сказал Коростелев.
Марьяна проводила их до двери. Коростелев пропустил Иконникова вперед, прикрыл дверь и сказал:
— Марьяша, если ты хочешь добра себе и Сереже, этого человека здесь быть не должно.
Она стояла, доверчиво подняв к нему лицо, в глазах у нее был радостный испуг.
— Ничего не любит, трус и эгоист. Гони в шею. Слышишь?
И он побежал за Иконниковым.
Что-то крикнул вслед Лукьяныч — Коростелев не слышал, не оглянулся. Ему не терпелось догнать Иконникова. Тот выжидающе оглянулся на его шаги.
— Я вот что хотел… — сказал Коростелев. — Я вам хотел сказать, чтобы вы забыли дорогу на эту улицу.
— Не понимаю, — сказал Иконников.
— Не понимаете. Хорошо, уточню: забудьте дорогу в этот дом. Коров еще могу вам доверить, но не более, чем коров.
— Позвольте. Вы говорите непозволительные грубости.
— Наплевать. Как сказал, так сказал. Стихами не умею… И я не как директор, а как частное лицо, так что писать заявление в трест бесполезно. Пока.
Он зашагал прочь с видом человека, сделавшего трудное и важное дело.
Иконников посмотрел ему вслед, собрался с мыслями и рассмеялся громким, деланным, театрально-снисходительным смехом:
— Ха-ха-ха.
Дойдя до поворота, Коростелев оглянулся на ее дом. Мягко светилось сквозь занавеску угловое окно…
— Не хочу, чтобы ты была там, а я здесь. Хочу вместе, Марьяша.
О, ветер сладкий и пронзительный, веющий от необъятных просторов, черных полей и звездных небес. Безмолвие, полное обещаний. Вечная, нежная, торжествующая песня весны.
Глава одиннадцатая РАДОСТИ И ГОРЕСТИ, ВСТРЕЧИ И РАЗЛУКИ
Как они выросли за зиму! Светлана пришла в школу крошечной, у нее на руках были ямочки, как у младенца, сейчас вытянулась, выше всех в классе, руки и ноги тоненькие, длинные, платья стали слишком короткими, мать жалуется — все новое надо шить.
Очень повзрослела рыженькая Фима. После того как ей купили форму (коричневое платье и черный передник), ей вдруг захотелось быть примерной, поражать своим отличным поведением весь мир. Ни с кем не ссорится, на переменах гуляет чинно, как взрослая (хотя животик выпячивается совсем по-детски), на каждом шагу — «спасибо», «пожалуйста». Интересно, надолго ли хватит такого благонравия, Фима — человечек с порывами…
Вадик тоже вытянулся, перестал спать в школе, но шалости прежние: то подрался, то изрезал парту, то прыгнул из открытого окна и расшибся. Вадик, если бы ты знал, сколько ты у меня крови выпил — сам бы удивился, что ты такой кровопийца.
Еще труднее, чем с шалуном Вадиком, было с кротким Сашей, рисовальщиком и фантастом. Вадик, по крайней мере, посещает аккуратно, ни одного пропущенного урока, по утрам является раньше всех. Шалуны вообще сходятся первыми: еще заперта школа, еще сторожиха домывает пол в коридоре, а во дворе и на крыльце полно мальчиков, они бегают, шумят, хлопают друг друга сумками, из-за них и Марьяне приходится ходить в школу спозаранок.
Саша пропустил шестьдесят процентов уроков — все болеет.
У него была корь, затяжной колит и воспаление легких. В промежутках между этими серьезными болезнями он болел разной мелочью — гриппами, ангинами, ветрянкой и диатезом. Мальчик с опытом — знает, что такое изолятор, рентген, амбулаторный прием, инкубационный период. Конечно, жизнь его не сахар, конечно, ему хочется жить так, как живут другие мальчики, — бегать, играть, кататься на саночках. Но он болеет терпеливо, лечится сознательно, никого не мучает капризами: лежит с перевязанным горлом или с грелкой на животе, глотает микстуры и рисует свои пароходы. Мать у него оптимистка, она говорит: «Ну, вот, Сашок, от кори ты теперь застрахован, корь два раза не бывает». И они с облегчением вычеркивают корь из громадного списка существующих болезней, которые, видимо, все предстоят Саше.
Марьяна приходила к нему, садилась около кроватки и занималась с ним. Очень ей не хотелось, чтобы он остался на второй год. Все перейдут во второй класс, а он останется в первом, с малышами? Он примет это без слез, как мужчина, но воображаю, какие у него будут грустные глаза…
Все перейдут во второй класс. И ты, Саша, тоже. Почему же тебя не переведут? Ты, как и все, научился читать, научился рассказывать прочитанное, знаешь, что трижды девять двадцать семь, умеешь надписать тетрадку. Во втором классе, ребята, придется заниматься еще усиленнее, там задачки, например, очень серьезные… Как же не увидимся, все лето будем видеться, мы же будем вместе ухаживать за нашими грядками. Милые мои ребятишки, никуда вы от меня не уйдете, четыре года мне быть с вами.
Вот кому она действительно нужна — молодая или старая, красивая или некрасивая, лишь бы хорошая! — своим ребятишкам. Для них она первый человек после матери и отца: учительница, наставница, как ее называют старые люди.
Долго ребятам расти. Десятки учителей будут их учить. Многие, может быть, станут большими людьми — не ты ли, Саша? не ты ли, Вадик? разъедутся, с улыбкой будут вспоминать свое детство. «Какая я была смешная», — скажет Фима. Она, Марьяна, будет старушкой, а они вспомнят молоденькую Марьяну Федоровну, с которой читали букварь и сажали цветы.
«…А Иннокентий Владимирович перестал наконец-то ходить. Митя что-нибудь ему сказал… Странный Митя, прилетел тогда, как сумасшедший… Это просто дружеское расположение: от кого-то что-то услышал Митя, зашел дать совет. По старому знакомству. А какие мы знакомые? Столько лет врозь, ничего друг о друге толком не знаем — а он все-таки пришел дать совет, а я хочу, чтобы он пришел еще…
Приди, Митя, еще».
Алчен человек. Удивительно, сколько всякой всячины надо ему для счастья.
Иннокентий Владимирович готовится расстаться с «Ясным берегом».
После того разговора с Коростелевым он пришел домой в расстроенных чувствах. Сначала среди чувств преобладало здоровое возмущение. Он строил планы борьбы и мести. Завтра же он подаст в партбюро заявление: «Прошу воздействовать на директора, допустившего неслыханную выходку» — даже «безобразную выходку» — даже «хулиганскую выходку». Каково-то будет Коростелеву объясняться, ведь года нет, как он получил партийное взыскание, а теперь новое дело — травля беспартийного специалиста.
И завтра же он, Иконников, пойдет к Марьяне и потребует, чтобы ноги Коростелева не было в доме.
Писать ли Данилову? Пусть знает, как тут сложились взаимоотношения. Нет, лучше вот как сделать: написать письмо старшему зоотехнику треста совершенно частное письмо, в тоне грустном и лирическом, — что устал сверх меры, многолетняя напряженная работа сказывается на здоровье, что-то с сердцем, что-то с нервами, а тут еще, между нами, со стороны директора непристойные и дикие выпады… Старший зоотехник треста пойдет с этим письмом к Данилову, так будет гораздо лучше: и цель достигнута, и вроде не жаловался, только вскользь упомянул в частном письме.
А вдруг Коростелев возьмет и от всего отопрется? Свидетелей нет, вполне можно отпереться.
С работы Коростелева все равно не снимут, успел себя зарекомендовать, несмотря на историю с Аспазией. Будут их мирить, предложат сработаться.
«Жизни не будет, — подумал Иконников, — он обозлится и начнет меня всячески топить и подводить под монастырь, что называется, и в конце концов подведет».
«При таких отношениях работать невозможно, — думал он в середине ночи. — Не разумнее ли, не поднимая шума, воспользоваться тем предложением Петра Иваныча и Ивана Петровича и попытаться перейти в облзо?»
Эта перспектива показалась вдруг ему очень привлекательной: наказать совхоз своим уходом, ускользнуть от мстительных интриг Коростелева, а попутно — развязаться с брачными делами.
«Уеду за двести километров и сразу отрезвлюсь. Зачем мне жениться? Ну, зачем? Еще предложения не сделал, а уже скандалы и неприятности, что же дальше будет?»
И вместо заявлений и жалоб Иконников сел писать письмо своему знакомому в облзо — письмо, с которого началась обширная ведомственная переписка об отпуске выдающегося специалиста Иконникова из совхоза «Ясный берег» и о переводе его в областной земельный аппарат, где его опыт и способности могут быть использованы в надлежащих масштабах.
— Правильная вещь, — сказал Коростелев Бекишеву. — Это он придумал гениально, честное слово! Я бы на месте Данилова его не удерживал и минуты: в облзо аппарат большой, должностей много, найдется нашему кабинетчику штатное сидячее местечко — просиживай стул в полное свое удовольствие. Будет статистиком, и, кроме учета, с него ничего не спросится — и от него польза, и ему хорошо, так? А мы человека найдем, Бекишев, не сомневайтесь, пусть не с таким стажем, да помоторнее, подходящего — живого человека, Бекишев, найдем!
— Ну, — сказал Бекишев Нюше, — и что дальше?
Она притворилась, что не понимает:
— Вы про что именно, товарищ Бекишев?
Он смотрел на нее любопытными глазами и молчал. Занятная девушка. Подняла тоненькие брови, лицо невинное и серьезное, а ведь прекрасно знает, что он имеет в виду. Кокетка. Уверенности набралась… В работе неутомима. Большое будущее у нее. Сколько раз он это видел: живет-живет человек незаметно, будто особенного от него и проку нет, и вдруг сверкнет и удивит. Наши люди — они такие.
— Учиться вам надо, вот что, — сказал Бекишев.
— Учиться? — повторила Нюша. — Вы считаете?
— А вы сами разве не считаете? Мне комсорг говорила — у вас целый план.
Они стояли во дворе. Подняв брови, задумчиво улыбаясь, она водила по земле хворостинкой. Пусть поманежится около нее парторг товарищ Бекишев. Пусть поуговаривает.
— Я думаю так, — сказал Бекишев. — Нет вам смысла возвращаться в школу. В области есть краткосрочные курсы по подготовке в техникум. За лето пройдете курсы и сразу в студенты. Через три года — зоотехник. Чем плохо?
— Да, конечно, не плохо, — протяжно-тоненько сказала Нюша. — Но только я еще не знаю. Может быть, я еще надумаю в ветеринарный. И потом, могут быть планы личной жизни, как вы считаете?
— Замуж, что ли, собрались?
— Все может быть, — сказала Нюша и белыми зубами откусила кончик хворостинки.
— Слушайте, не стоит, — сказал Бекишев огорченно. — Доучитесь сперва. Рано вам еще.
— А если чувство с одной и с другой стороны?
— Чувство никуда не денется.
— А если условие есть?
— Подождет!
— Подождет?
— А не подождет — куда же он после этого, Нюша, годится?
— Вот вы какого мнения. Вы, значит, верите в вечное чувство?
— Верю! — серьезно сказал Бекишев. — И верю в то, что вы очень стоящий человек и вам учиться нужно. Да вам и самой хочется. Чего ради вам отказываться от образования?
Она подняла глаза и смотрела мимо его плеча, в зеленеющие, солнечные, весенние дали.
— Думайте скорей и пишите заявление!
— Без меня Стрелка снизит удои. Никто за ней не будет ухаживать так, как я.
— Уж это просто обидно слушать. Я вам слово даю, что за Стрелкой будет тот уход, к которому она привыкла.
— А Дмитрий Корнеевич меня отпустит? — спросила Нюша.
— Отпустит. Я говорил.
«Легко отпускает», — подумала Нюша.
— Конечно, ему не хочется вас отпускать, — сказал Бекишев, угадав ее мысль по омрачившемуся взгляду и краске, выступившей на лице, — ясно. Но я это устроил. Я убедил его, что это для производства нужно. Вы вернетесь работать сюда, в «Ясный берег». Мы вас никому не отдадим.
Она закинула голову и засмеялась от удовольствия.
— Еще захочу ли вернуться, вы спросите.
— И спрашивать не буду. Вернетесь. Так пишем, Нюша, заявление? Бекишев протянул руку.
— Ну, что мне с вами делать, пишем! — ответила она и положила свои тонкие, огрубевшие пальцы в его большую спокойную руку.
У Лукьяныча лучезарное настроение.
Вторая ферма, состоящая на хозрасчете, досрочно закончила сев. Перевод фермы на хозрасчет — инициатива Лукьяныча; даже Данилов, любитель хозрасчета, сомневался, говорил — рановато. Вот вам и рановато, Иван Егорыч! Лукьяныч знает, что делает! Первую и третью я вам не предлагал переводить на хозрасчет!
С кредиторами расплатились, счет в банке свободен от претензий, директор банка всегда лично выходит к Лукьянычу и здоровается с ним за руку… А какая погода! Праздник. Поднимешь глаза от счетов — в распахнутом окне синь, золото, блеск, медвяный дух льется в бухгалтерию. Только прижимай бумаги прессом, чтобы не унес сквозняк, когда откроют дверь.
Хорошо Лукьянычу. Приплыви к нему золотая рыбка и спроси, как в сказке: «Чего тебе надобно, старче?» — А то самое, скажет, и надобно, что у меня есть: жить на Ясном берегу, царить над финансами совхоза, и чтоб Пашенька мне варила и пекла своими ручками, и чтоб люди меня почитали и кланялись мне: придите, Павел Лукьяныч, проверьте наши балансы, оформите наши отчеты, а мы вам за это гонорарчик — то, се…
А на берегу стоит новый челн. Лукьяныч его уже опробовал — хороший челн, устойчивый, не тяжелый, красота челн. О встрече с ним Лукьяныч мечтает с нежным томлением. Сегодня он позволит себе уйти с работы раньше обычного, использовать, так сказать, пару отгульных часов (у него этих часов тысячи, ввек не отгулять), сегодня он обещался покатать на челне детвору.
Желающих много. Собственно говоря, когда дела улучшатся, годика через два, почему бы не купить совхозу моторную лодку — этакий речной автомобиль — катать детишек, пусть радуются, ну, и для служебных надобностей… Всё, товарищи, впереди, и всё в ваших руках, а пока что, детвора, вас много, челн один, и покатаю я тех, кому давно обещано.
Сережа мне вроде внука. Сколько лет просится — покатай. Марьяша запрещала, а сей год разрешила. Сергей на седьмом небе, ждет не дождется. Никак невозможно его не взять… Васька, сосед: ему катанье обещано за то, что героическим усилием перешел из третьего класса в четвертый. Мамаша не ждала, прослезилась от умиления; необходимо наградить Ваську.
Еще есть у меня одна знакомая рыжая красавица. На полотенце ее водил, когда она ходить училась, — некая Фимочка, помбухгалтера Марьи Васильевны дочка и Марьяшина ученица. Марья Васильевна давеча спрашивает: «Павел Лукьяныч, вы же возьмете мою рыжую?» Какой может быть разговор. Рыжая, да не поедет?
С другой барышней имею честь быть знакомым недавно, но она произвела на меня сильное впечатление. В Доме культуры демонстрировалась школьная самодеятельность, и данная барышня всех затмила как совершенством техники, так и неутомимостью: танцевала семь, не то восемь раз, и с шарфиком, и без шарфика, и на каблучках, и в одних носочках. Надя зовут. Исключительный успех имела. И что же оказывается — дочка Тоси Алмазовой, члена нашего коллектива. В знак восхищения вручил шоколадку и обещал покатать на челне.
Часа за полтора до назначенного времени на берегу около Лукьянычева челна сошлись Сережа, Васька и Фима.
— Вот эта девочка, — сказал Сережа Ваське по секрету, — была на елке в совхозной школе, ее зовут Фима.
— Плевал я на девчонок! — сказал Васька довольно громко. Сережа не осмелился при нем поздороваться с Фимой, присел на корточки и занялся мокрым песком. Но он чувствовал, что поступает подло, и терзался муками совести. Он придумал хитрость: стал рыть траншею по направлению к челну, на борту которого, вызывающе свесив крепкие загорелые ножки, сидела Фима. Сережа, энергично копая песок, подползал к ней все ближе, когда подошвы ее сандалий были над его головой, он сказал:
— Здравствуй.
— Здравствуй, — ответила Фима со своей высоты. — Ты что-то совсем не вырос, какой был маленький, такой и остался.
Сережа понял, что она оскорблена его подлостью и мстит ему. Он смиренно пополз обратно вдоль траншеи, размышляя о том, как невыгодно быть подлым — все презирают.
— Однако, — сказал Васька после десятиминутного ожидания, — похоже на то, что старик надул.
Подходила Надя в белой блузке с пионерским галстучком и в зеленой шляпе с красной лентой.
— С ума он сошел, — сказал Васька. — Сплошные девчонки. Знал бы, не поехал.
Когда Лукьяныч, с веслом на плече, явился на берег, ребята сидели понурые, измученные ожиданием, разуверившиеся во всем на свете. Сережа и Фима кинулись навстречу Лукьянычу с криком:
— Мы думали, вы не придете!
Посмеиваясь, Лукьяныч достал из кармана часы, показал:
— Без пяти пять. Условились в пять. Вы тут небось с утра? Без обеда? Ладно, сейчас поплывем. Повторяю, товарищи, запоминайте: челн — не пароход, нельзя вскакивать, нельзя наваливаться на борт. Не будете сидеть смирно — другой раз не возьму. На-ка, держи весло.
Сникают замок, гремит цепь, усталости как не бывало, сердца бьются, глаза блестят — до чего хорошо, сейчас поедем, до чего счастливый этот мальчишка, которому дали весло… Только Надя держится томно и тонно, она большая, балерина, она выше всего этого.
— Навались, помогай! Эй, дубинушка, ухнем! Раз-два — взяли!
Каждому кажется, что именно оттого, что он схватился за борт своими руками и со стоном ударился о челн своей грудью, — челн тронулся, с тихим шипеньем тронулся по мокрому песку и пополз к воде.
— Поддай, поддай, богатыри!
Челн на воде.
— Сели.
Девочки у одного борта, мальчики у другого.
— И не забывать лозунг: аб-со-лютно смирно!
За бортом зазмеилась быстрая серебряная вода.
— Водичка, водичка! — скороговоркой сказала Фима и опустила руку в воду. Надя тоже опустила, визгнула и сказала:
— Холодная.
Ваське очень хотелось опустить руку в воду, но он не сделал этого, чтобы девчонки не подумали, что он им подражает.
Сережа сидел тихий и смотрел на волшебные берега, плывущие мимо.
А погода была яркая, тревожная — солнце и кучками в небе густые, круглые облака, ветер, налетающий порывами, солнце печет, а ветер холодный. Все время дуют холодные ветры, до сих пор нельзя купаться, купаются только отпетые мальчишки вроде Васьки; старики говорят, что настоящее лето начнется после того, как пройдет проливной дождь с хорошей грозой.
Плыли против течения. Ветер подувал от устья, плыть вверх было нетрудно. Лукьяныч правил с осторожной силой.
— Вот я вам покажу одно местечко, — сказал он.
Высоко на берегу росла группа старых осин. Когда набегал ветер, их серебряная листва струилась, как вода, и внизу в реке струились их отражения. Галки кричали в осинах.
— Это местечко? — спросила Фима.
— Нет, — ответил Лукьяныч. — То местечко за поворотом. Мы там, возможно, причалим, и вы, барышни, наберете водяных лилий. Я Сережину маму туда возил, когда она была маленькая.
Сережа прислушивался.
— Как ты думаешь, — спросил он у Васьки, — это не Галя-Галя кричит?
— Еще выдумай, — сказал Васька. — Других галок нету, кроме твоей.
— Какая Галя-Галя? — спросила Фима.
— Это у него ручная галка была, — свысока объяснил Васька. — Я ему достал.
— Ее звали Галя-Галя, — сказал Сережа. — Она улетела.
Он продолжал вслушиваться. Глаза его стали большими и тревожными. Вдруг весь покраснел, даже уши покраснели, и с отчаянной надеждой крикнул что было силы:
— Галя-Галя-Галя!
«Кар!» — громко и явственно раздалось в ответ, и что-то черное метнулось в серебре осин.
— Галя-Галя! — вне себя крикнул Сережа, вскочил и бросился к борту, у которого сидели девочки. За ним бросился Васька. Челн качнулся, хлебнул воды, ребятишки, как горох, посыпались в воду.
Все это произошло в одну секунду. Лукьяныч и опомниться не успел. Он сидел один в пустом челне, челн, успокаиваясь, раскачивался все тише, в осинах кричали галки.
— Ааах! — сказал Лукьяныч и стал срывать с себя сапоги. Лихорадочно разуваясь, осматривался: к челну, вытаращив полные ужаса черные глазенки, по-собачьи плыла Фима.
— Не сюда! Не сюда! — крикнул Лукьяныч. — К берегу плыви, тут отмель близко! Челн все одно уйдет!
Фима деловито повернула и поплыла к берегу.
— Молодец! — крикнул ей Лукьяныч и прыгнул в воду.
Рядом вынырнул Васька, сплюнул, высморкался левой рукой — правая держала за волосы Сережу.
— К берегу! — сказал Лукьяныч. — Доплывешь?
— Еще чего спросите! — отдуваясь, сказал Васька и поплыл, гребя левой рукой.
— Где Надя? — крикнул Лукьяныч вслед. Васька не ответил, должно быть, ему приходилось трудно. Лукьяныч нырнул, вынырнул метров на пятьдесят ниже, огляделся: вольно качаясь, перед ним уплывал челн, а за челном плыла шляпа — течение играло концами лент. «Шляпу не могло сорвать, — сообразил Лукьяныч, — она на резинке, под самый подбородок резинка. Где шляпа, стало быть, там и голова…»
…Он вытащил Надю на берег посиневшую, бесчувственную. Стал ей делать искусственное дыханье — ее вырвало водой, она стала дрожать, глаза открылись. Песок под нею размокал, растекался жидкими струйками… И как она не пошла на дно, не умея плавать? Может быть, по привычке, бессознательно перебирала ногами… Эх, танцевать научили, плавать не научили, воспитателиии!
Подошел мокрый Васька. Вдали на берегу виднелись две убегающие маленькие фигурки — Фима и Сережа.
— Я их послал домой, — сказал Васька. — Велел, чтоб бегом бежали. Простудятся еще. Девчонка сама выплыла…
Лукьяныч смотрел вслед челну. Челн был далеко — словно пробка, кружась, уплывала по реке. Лукьяныч затопал босыми ногами и застонал…
Прежде чем они добрались до города, им навстречу уже бежали люди: увидели мокрых, испуганных детей, расспросили их и бросились на помощь. Надю забрали в больницу. Фиму вместе с Сережей отвели к тете Паше. Тетя Паша встретила их на углу. Она сама тряслась, как в лихорадке, но была распорядительна и говорила твердым голосом. Марьяны не было дома. Детей уложили в постель, напоили горячим молоком, обложили горячими бутылками. Лукьяныч отказался от медицинской помощи, велел тете Паше истопить баню и купить пол-литра водки.
— Водки! — говорила тетя Паша. — Аспирину лучше выпей. Никогда не пил, куда тебе пол-литра? Челн — бог с ним, пропади он пропадом, вот сапоги-то хорошие жалко!
Но Лукьяныч ничего не хотел слушать и ни о чем разговаривать. Кликнул Ваську, велел и ему париться в бане и пить водку: «Пей, орел!» Вышел из бани свекольно-красный, лег в постель и до ночи стонал от стыда и горя.
В этот день Алмазова с утра не было в совхозе.
Прибыл из Ленинграда станок для черепичного производства. Совхозный механик, сопровождавший станок, примчался со станции в панике: железнодорожное начальство велит освобождать платформу, снимать станок без промедления, времени дают четыре часа. А как его, черта, снимешь, когда в нем восемь тонн весу. Коростелев велел подать грузовик и поехал на станцию с Алмазовым, механиком и двумя плотниками. Следом трактор ЧТЗ потянул площадку, заранее изготовленную для перевозки станка.
На запасных путях, за каким-то забором, в закутке, стоял на платформе станок. Алмазов осмотрел его и нашел, что иначе не снять, как спустив по слегам. Там же, в Кострове, одолжили у кооперации бревна и сбили слеги. Работая впятером ломами, как рычагами, поставили станок на рельсы и по рельсам подвели к слегам. По слегам станок перешел на площадку… Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается — в назначенный железнодорожниками срок все равно не управились, только часам к пяти вернулся Алмазов домой.
Ни Тоси, ни детей не было. «И посплю же я сейчас!» — подумал Алмазов. Есть не хотелось — в Кострове заправлялись, директор угощал в станционном буфете. Только воды выпил, свежей, прохладной: наклонил ведерко и прямо из ведерка пил — долго, жадно. Разделся, переменил белье, лег на кровать, с наслаждением распрямил тело — сейчас бы уснул, но вдруг постучали. Пришел парнишка из стройбригады и принес письмо. Конверт мятый, на конверте ни марки, ни настоящего адреса, просто написано карандашом: совхоз «Ясный берег», Алмазову. Парнишка сказал, что письмо принес еще утром незнакомый человек, велел передать срочно и только в собственные руки; бригадные ребята несколько раз забегали к Алмазову, но не заставали. Алмазов разорвал конверт, прочел…
— Ладно, — сказал он. — Иди.
Когда парнишка ушел, он перечитал короткую записку, окончательно все понял и дрожащими руками стал одеваться.
Какие шутки шутит судьба! Она в Кострове со вчерашнего вечера, ищет его, зовет повидаться, а он полдня провел в Кострове, и они не встретились.
Уезжает вечерним поездом. Поезд отходит в одиннадцать. Сейчас полшестого, не больше. Успею. Увижу.
Был уже за порогом, вдруг заметил, что плохо надета портянка, сапог трет ногу. Этак через два километра охромеешь и никуда не дойдешь. Вернулся, надел портянку как следует. Можно идти.
По той же дороге, по которой он сегодня дважды проехал на грузовике, в Кострово и обратно, он шел теперь пешком, солдатским ровным шагом, выбрасывая руки.
Он считал, что она и думать о нем забыла. Уславливались, что будут друг другу писать, до востребования. Он написал два письма, она не отозвалась ни словечком. Сколько ни справлялся в городе на почте — ничего не было на имя Алмазова.
А тут позвала: «Извещаю тебя, что я нахожусь на станции Кострово, проездом, вчера вечером приехала и сегодня вечерним поездом еду дальше, приходи непременно, для той цели задержалась на сутки, чтобы повидаться».
Чтобы повидаться!
«Меня женщина пустила переночевать, так что ищи меня в общежитии железнодорожников, шестая комната во втором этаже. Остаюсь любящая тебя…»
Остаюсь любящая тебя. Была и осталась любящая. Рана моя вечная, незаживающая! Как же, как же я был там, в двух шагах от этого самого общежития, в двух шагах от тебя, и не знал, и не встретились…
Снится, что ли?
В незнакомой, чужой комнате сидит дорогая женщина, любовь, друг, жена. Она готова в путь: увязанная в холст корзина у ее ног, черная в розанах шаль наброшена на плечи. Венцом сияют вокруг лица туго уложенные косы.
Младенец спит у нее на коленях.
— Сын?
— Сын.
— Сколько ему?
— Семь месяцев скоро.
— Звать как?
— Егорушка, Егорка. Егорий означает — победитель.
Слов у них мало. Что тут слова. Только смотрят друг на друга не отрываясь.
— Далеко едешь?
— Далеко. К свекрови.
— Какой свекрови?
— Мужней матери. Она ласковая ко мне. Ребеночка хочет повидать.
Что ж это такое — бабья подлость или бабья высшая мудрость?
— Получила отпуск — дай, думаю, съезжу к старухе, погощу.
— Не гадал уже видеть тебя.
— Надумала повидаться. Соскучилась… Здешняя хозяйка очень хорошая, в комнату пустила и билет мне перекомпостировала, якобы я с ребеночком отстала от поезда… Письма скучные твои.
— Письма что.
— Все-таки пиши иногда.
— А ты?
— Я плохо пишу.
— Ты замечательно пишешь!
— Откуда ты знаешь?
— Записку твою читал.
Она засмеялась:
— Глупый…
И уголком шали смахнула слезинку.
— Ничего, родной, не поделаешь. Трудно, а надо пережить. Ты молодцом смотришь, загорел, поздоровел… Твои живы-здоровы?
— Ничего.
— Мой вахтером служит, приспособился к делу. У нас же на заводе, в проходной. Все помаленьку образуется…
Стукнули в дверь:
— К поезду выходите, время.
Она встала.
— Эко горе, не покормила. Придется в поезде покормить. Вот чайник, ты мне наберешь кипятку? Люблю ездить, а с ребенком хлопотливо все же, особенно летом: сквозняки.
— Слушай! — сказал он. — Что я хотел тебе сказать?.. Да: я больше не согласен переносить, чтоб ты не писала. Знать, что ты на свете живешь, и то ладно.
Она поднесла к нему спящего ребенка и строго сказала:
— Поцелуй его.
Он поцеловал маленькое теплое личико. Судорога свела горло…
— Прощай. Пиши веселей. Может, еще удастся свидеться через сколько времени…
…И поезд ушел.
И вот и все.
Шагай, Алмазов, обратно.
В пути он почувствовал страшную усталость и присел отдохнуть на холмике у дороги.
Пепельный, светлый вечер лежал над полями. Тихо качались травинки. Кузнечик трещал. Сиротливо показалось кругом Алмазову, и сиротой бездомным почувствовал он себя.
Все люди, наработавшись, идут домой, а ему идти некуда. Где его дом?
Травинки закачались сильней, ветер донес издалека мерный стук колес: тах-тах-тах-тах… тах-тах-тах-тах… Это ее поезд уходит.
«Так нельзя», — подумал вдруг Алмазов.
Жить так нельзя. Одна дорога должна быть у человека. К одному чему-то надо прибиться, на одном успокоиться.
И опять стихли травы.
Устал я, понимаешь. Не по мне это.
Выбирать надо.
Устроить душу, устроить жизнь.
Жить надо.
Ночь глубокая, а дверь в доме настежь, женские голоса разговаривают на крыльце:
— Ты, Тося, не расстраивайся. Еще спасибо скажи, что так обошлось.
— День-два подержат — и выпишут.
— Да жар-то, сорок и две десятых, — говорит убитый Тосин голос.
— От перепуга жар. От такого перепуга разрыв сердца может быть, не то что жар.
Что случилось?
— Вот муж пришел, — говорит голос на крыльце, — успокоит жену. Вдвоем какая хочешь неприятность легче. Ложись, отдыхай, Тося. Сном нервы утихомирятся. Этих ребят пока вырастишь — наплачешься с ними…
Две женские фигуры спускаются с крыльца. Алмазов входит в дом. Горит электричество. Тося сидит в кухне, положив плечи и голову на стол. Катя в рубашонке сидит на кровати, смотрит большими глазами. Нади нет.
— Тося, что такое? Где Надя?
Тося поднимает серое лицо.
— Балерина-то наша… — говорит она и опять опускает голову на руки.
— Надя утонула, — говорит Катя. — Ее положили в больницу. У нее сорок и две десятых.
Алмазов садится к столу. Его не держат ноги.
— Постойте. Тося, ты была в больнице?
— Была, — синими губами отвечает Тося, — так не пускают к ней. Температуру сказали, а в палату не пускают. При мне докторша по телефону в область говорила, какое-то лекарство затребовала, я не поняла. Что-то они страшное думают и скрывают. Я говорю: скажите, ведь мой ребенок, я имею право знать! А они говорят: «Идите, мамаша, домой, завтра выяснится». Голову бы я себе разбила, если ей не жить! Никого мне нет дороже Надички!
Последние слова она прокричала в голос. Прокричав, зарыдала отчаянно, со стонами и выкриками: «Надичка! Надичка!»
Алмазов слушал эти крики, они били его по лицу.
Теперь, когда Надя чуть не утонула, когда она больна (не может быть, чтобы умерла, это Тосины страхи, а вдруг умрет?) — теперь ему, как и Тосе, казалось, что из всех близких она самая близкая и дорогая, что он был к ней несправедлив — мало любил, мало жалел, мучил придирками, не воспитывал, не уберег — кругом виноват! — что свет померкнет, если не станет Нади, дочки, девочки с серо-зелеными глазами, обведенными темной каемочкой.
Он смотрел на Тосину опущенную голову, содрогающуюся от рыданий, и явственно видел сединки в ее волосах — раньше не видел — и знал, отчего до времени стала седеть Тося.
И понимал, какое было бы преступление — оставить девочек, оставить Тосю с ее материнством, ее сединками, ее тревогами и скорбями. И так их было жалко — разрывалось сердце.
— Ну, будет, — сказал он. — Будет, Тося. — И, подойдя, погладил ее по волосам.
Она вся сникла от его прикосновения, рыданья стали тише. Он гладил, гладил ее волосы, пока она не стихла совсем.
— Теперь пойди, — сказал он, — отдохни. Утром вместе пойдем в больницу.
Он отвел ее в комнату. Она упала на кровать и сразу уснула. А он сидел рядом, курил и думал: что бы ни было, не уйти ему отсюда, из этого жилья, от Тоси, от Нади и Кати — что бы там ни было, душой не уйти.
Спит в столовой рыженькая Фима, укрытая четырьмя одеялами. Прикурнув возле нее, уснула Марья Васильевна, Фимина мать. Из-за Лукьянычевой двери доносятся длинные мучительные «а-а-ах!» — это Лукьяныч переживает свой позор и свою потерю.
Марьяна вернулась из больницы; в чулках, сняв туфли в передней, проходит в свою комнату.
Сережа спит, а лампа на столе зажжена, чтобы Сереже не было страшно, если проснется. Лампа заслонена бумажным щитом, чтобы свет не разбудил Сережу. Весь раскинулся Сережа, одеяла сбиты, с подушки сполз… Марьяна поправляет одеяла, кладет Сережину голову на подушку, целует в темя; при этом она рассказывает ему, что происходит: «Глупый, глупый, одеяла сбил, с подушки сполз, подушка сама по себе, он сам по себе, мама уложит на подушку, мама укроет, глупый, глупый…» Она задумалась, держась за изголовье кроватки и глядя на сына; лицо ее стало суровым. Эта разлука, которая чуть-чуть не совершилась, была бы ужаснее всех разлук. Сережа метнулся, заплакал тоненько, смешно — во сне, давешнее ему снится… Спи, милый, милый, мама тут, свет горит, ничего не страшно!
Шаги, осторожный стук в дверь.
— Войдите, — сказала Марьяна.
Она знала, что это Коростелев. Весь вечер знала, что сегодня он придет. И он пришел, хоть поздно. Не побоялся прийти в поздний час.
Робко сгибая спину, на цыпочках подошел к кроватке, заглянул:
— Спит… Жара нет?
— Нет.
— У Тосиной девчушки тридцать восемь и восемь. Опасались менингита. Теперь говорят — не менингит.
— Я знаю. Я только что из больницы.
— Ну! Была? Я звонил.
— Слава богу, что не менингит.
— Подумай, что могло быть. Ты подумай.
— Все мой. Сережка.
— Ну да?
— Из-за него опрокинулся челн. Я как чувствовала, ты знаешь, что нельзя его пускать. Я виновата.
— Милая ты, да в чем ты можешь быть виновата, ты и твой Сережка…
Их руки рядом на изголовье кроватки.
— Марьяша! — говорит Коростелев и кладет горячий лоб на Марьянину руку. — Я тебя полюбил. Не прогоняй меня.
Через два дня прошла гроза, и началось настоящее лето с знойными днями и теплыми вечерами.
Теплым вечером в полях звучит то удалой, то грустный голос гармони. «Степан Степаныч играет», — говорят люди, заслышав этот голос. В красном уголке веселье на всю ночь — провожают Нюшу, завтра она уезжает учиться.
Девушки устали танцевать и расселись, утираясь платочками, вокруг Степана Степаныча. Спели любимые песни: «Катюшу», «Москву мою», «Вышел в степь донецкую парень молодой». Потом Степан Степаныч заиграл старинные романсы. «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», — радостным хором запели девушки. Это был любимый час Степана Степаныча: когда молодежь, устав носиться по залу, льнула к его гармони. Они могли петь до утра.
Нюша сидела между Таней и Анатолием Иванычем, румянец горел на ее скулах. То она громко хохотала, то глаза ее блестели слезами в свете лампочек…
Ну-ну, не горевать! Он все равно будет мой. Чья любовь приравняется к моей любви? Уеду и приеду, и он будет мой. Эй, вы еще не знаете Нюши! Чего захочет Нюша, того и добьется! «Рано мои косыньки на две расплетать…» Подождешь, мой золотой, красивенький!
Слезы, слезы, слезы, Лейтесь, слезы, тише…пели девушки. И Анатолий Иваныч, Толечка, подтягивал застенчивым неверным баритоном:
Чтоб никто не видел, Чтоб никто не слышал. Ах, любовь-кручина Сердце рвет и гложет…Ничего не кручина, ничего не гложет. Любовь — веселье, радость, любовь — торжество!
А что, если сказать ему?.. Даже стул будто качнулся под Нюшей, когда она это подумала, сердце задрожало и замерло… Очень просто, подойти и сказать: Дмитрий Корнеевич, вы меня, смотрите, дождитесь…
И тут в красный уголок вошел Коростелев. И с ним Марьяна Федоровна, учительница, которую он любил. И Марьяна Федоровна любила Коростелева. Они собирались пожениться… Никто не докладывал Нюше об их любви и их планах, она сама увидела сразу — по тому, как вошли, как взглянули друг на друга, как что-то сказал Марьяне Коростелев, Дмитрий Корнеевич…
И никто на свете Горю не поможет!пели девушки, и пела с ними Нюша.
— Товарищи, — сказал Коростелев громко, — прошу всех в столовую, проводим дорогую нашу стахановку банкетом. — И взглянул на Марьяну и сказал что-то тихо — только для нее…
Было, было, было Счастье недалечко, Да зашло, как месяц, Утекло, как речка!Банкет, тосты, опять гармонь. Молодежь перестает есть-пить, отодвигает стулья, снова устремляется в зал — танцевать. И опять возвращается к столу, и опять тосты, песни, смех…
Коростелев ушел с Марьяной перед рассветом. Проводив Марьяну, пошел домой и стал будить мать:
— Мама! Вы спите, мама?
Она спала не на полатях, а по-летнему, на сеновале. Сеновал был устроен под крышей дома, из сеней вела к нему приставная лестница. Коростелев стоял внизу около лестницы и оттуда окликал тихонько.
— Ну, не сплю, — отозвалась она наконец. — Что тебе?
— Нет, так, ничего, — сказал он. — Я вам только хотел сказать, что Иконников на ней не женится. Я на ней женюсь. Спите дальше, мама. Не сердитесь, что разбудил.
А Нюша после банкета пошла пройтись, проститься с родными местами. До сих пор ни на один день она не уезжала от них, и странно ей было думать, что завтра ее здесь не будет, — что-то новое, непривычное окажется перед глазами, какая-то другая начнется жизнь…
— Танечка, — сказала она подруге, которая не отставала от нее, — ты иди, пожалуйста, тихо, не говори ничего.
— Нюшечка, я понимаю! — ответила Таня. — Я буду молчать.
Она пошла не рядом с Нюшей, а шага на два позади и честно молчала всю дорогу, только громко вздыхала от чувств. И Нюше было приятно, что Таня тут близко и сочувствует ей.
Чуть рассветало. Прошли по спящему поселку и вышли на полевые просторы. Не сговариваясь, скинули туфли: от высоких каблуков, от танцев горели ноги. Дорожная пыль была глубокая и мягкая, еще по-ночному прохладная. Пепельная зыбь пробегала по высоким овсам.
«Значит, — думает Нюша, — впустую цвела-расцветала любовь…»
Проснулись птицы, ликующий щебет несся из рощи. «И чем она его приворожила? Ничего в ней нет такого особенного…»
Они вышли к кирпичному заводу. Рабочий день еще не начался, нигде ни души, из труб больших печей, в которых вчера обжигали кирпич, еле заметный сочился дымок, и пахло гарью. Цвели ромашки. В карьерах ярко-коричневые срезы глины: «Большие какие ромашки», — подумала Нюша, сорвала ромашку и воткнула в волосы над ухом. И Таня сорвала ромашку и воткнула в волосы…
«Совсем ничего особенного. И это несправедливо. Это самое обидное! Он пожалеет. Мы еще увидимся, и он пожалеет. Эх, подумает, не ту полюбил, было б мне Нюшу полюбить… Так, значит. Не вышла у меня любовь. Но все другое выйдет, вот выйдет же, хоть бы что тут! В соревновании моя победа, и во всем дальше будет моя победа, я докажу! Вот такими слезами еще поплачет Дмитрий Корнеевич, что меня упустил!»
«Звоннн… Звоннн…» — донеслось издалека. Это утренний сигнал к началу работ, подает его сторож на второй ферме, ударяя молотком о стальную рельсу.
— Пошли, Нюшечка, обратно, — жалостным голосом сказала Таня. — Мне на работу время.
— Иди, — сказала Нюша, — я еще пройдусь.
Она пошла через город. Улица Дальняя. «Вот в этом доме она живет. Красивенькая, конечно. Ну, и что? Только что уезжать надо, а то бы еще поборолись, Марьяна Федоровна! Еще неизвестно, чья бы взяла. Образованные вы и красивенькие, а еще ни-че-го неизвестно…»
Марьяна Федоровна в этот час сладко спала. Снились ей счастливые сны, и не знала, не ведала она о том, что мимо ее дома, по другой стороне улицы, прошла маленькая девушка с горем в сердце и с обидой против нее.
На левом берегу, в тишине, под теплым бархатным ветерком медленно похаживали коровы. Среди них Нюша разыскала Стрелку.
— Ну, прощай, — сказала она. — Не забывай.
Стрелка перестала щипать траву и повернула голову к Нюше с тем довольным, разнеженным видом, какой бывает у животных на летнем пастбище.
— Да, вот уезжаю, да! — звенящим голосом сказала Нюша. — Не я теперь с тобой буду, да, да. А ты ничего не понимаешь!
Стрелка махнула длинным хвостом и вдруг замычала — так тревожно и грозно, что со всех сторон послышалось ответное взволнованное мычанье. Нюша засмеялась, заплакала и пошла проститься с другими своими коровами…
На обратном пути, уже в послеобеденный час, усталая и заплаканная, она еще раз забежала в профилакторий.
Настасья Петровна очень занята: двадцать семь новорожденных телят! Все-таки она оторвалась от работы и постояла с Нюшей на порожке. Солнце пылало и палило, и у Настасьи Петровны сами собой зажмурились глаза, когда она вышла из пахнущей свежим сеном прохлады профилактория.
— Едешь?
— Еду, — вздохом уронила Нюша.
— А грустить не надо, — сказала Настасья Петровна. — Сколько раз еще приедешь и опять уедешь. И проводы, и встречи — все еще будет.
— Все будет, правда? — переспросила Нюша, перебирая концы пояска.
— Все.
Нюша коротко, глубоко вздохнула и обняла Настасью Петровну.
— До свиданья, — сказала она ей в плечо.
…Под вечер линейка, запряженная добрым жеребчиком, стояла около дома. Степан Степаныч укладывал поудобнее сено и накрывал его ковриком: лучший выезд предоставил совхоз для Нюши. Девушки, пришедшие проводить, стайкой стояли в сторонке.
Степан Степаныч вынес чемодан, а мать кошовку с едой, ручки кошовки были связаны вместе, чтобы еда не растряслась и не выпала, горлышко бутылки, бело-мутное от молока, торчало из кошовки.
— Молочко-то спеши выпить, — сказала мать, — а то не скисло бы.
— А ты его кипятила? — спросил Степан Степаныч.
— Нет, — сказала мать, опустив руки. — Не кипятила.
— Кипяченое не скиснет, — сказал Степан Степаныч.
— Как же я вскипячу, — сказала мать, — она кипяченого сроду не пьет.
Они говорили взволнованно и серьезно, будто невесть что зависело от этого молока.
Торопливо подходила Таня, вся красная: красная кофточка, красное лицо, красная роза в руке.
— Ой, жара! — сказала она.
— Да, — сказал Степан Степаныч. — Лето берет свое.
— Зима лучше, — сказала Таня. — Вот не знаю почему — чем холоднее, тем мне дышится легче.
— Зима хороша, — сказал Степан Степаныч, — а лето все же лучше.
И они стали обсуждать этот вопрос. И девушки приняли участие в разговоре. Нюша слушала, горько сложив губы: вот всегда так — когда уезжает кто-нибудь, то все молчат либо говорят о чепухе, и никто не говорит о главном. Одна Настасья Петровна сказала о главном.
— Ну, время! — сказал Степан Степаныч.
Нюша сидит, поставив ноги на подножку, боком к жеребчику, спиной к отцу. Отец говорит: «Н-но!» — и жеребчик, рванув, трогает. Нюша смотрит девушки бегут за линейкой, машут, кричат хором неразборчивое, мать стоит посреди дороги, а рядом Таня с красной розой; утирая глаза, тоже крикнула что-то… Нюша подняла руку, махнула…
Улица поселка пустынна в этот час: люди на работе. Кончилась улица, сразу за нею дорога уходит в разливы овса. Две маленькие девочки стоят, взявшись за руки, на границе овсяного поля и смотрят, как уезжает Нюша…
Как бы трудно ни отрывался человек от привычного места, какую большую часть сердца ни оставлял бы там, а есть в самой дороге утешение, и надежда, и зовущая радость. Вьется дорога среди полей и лугов, поля и луга веерами кружат от горизонта к горизонту, ветерок дует в лицо, огромный раздвигается мир, и в этот мир едешь ты за своей судьбой! Где-то слева фырчит трактор. «Это наш трактор», — думаешь ты. Немного погодя зафырчало с другой стороны, справа. «Это у чкаловцев», — думаешь ты. Вдали над полями попыхивают частые белые дымки, ветерок донес пыхтенье локомобиля «А это чей же?..» Круглое молочное облако с зарумянившимися перед закатом краями высоко и недвижно стоит в небе. «Тут остаешься, — думаешь ты, глядя на облако, — а я — где-то буду завтра?» Ветерок сначала слаб и горяч, потом усиливается и свежеет: покуда ехали к станции, солнце село за твоей спиной, и летние сумерки, смуглые и нежные, опустились на огромный мир.
В сумерках мягко, неотчетливо рисуются избы и сады Кострова. За избами и садами в смуглом, по-вечернему тревожном небе горит один высокий фонарь. Облако, которое днем было ярко-белым, а при заходе солнца зарумянилось, начиная с краев, и постепенно стало густо-розовым, — сейчас оно лиловое, стоит рядом с одиноким фонарем, и кажется, что именно от этого облака ложатся на землю такие нежные, неуловимо густеющие сумерки… Тихо, и вдруг за селом, на станции, закричал паровоз, и тебе показалось криком заторопил тебя: скорей, скорей, поспешай за своей судьбой!..
Всадник мчится за линейкой, нагоняя ее: встает в стременах, понукает лошадь, падает на ее круто выгнутую шею — торопится всадник! Поравнявшись с линейкой, сдержал лошадь, засмеялся, блеснув зубами, — Толя, Анатолий Иваныч.
— Все-таки догнал!
Нюша молча, не удивляясь и не радуясь, смотрит на него.
— Со мной даже не простилась. Захожу к вам, говорят — уж час как уехала. Как же так — вместе работали…
Он очень доволен, что догнал Нюшу. Едут рядом. Станция. Толя соскакивает с лошади, берет кошовку и чемодан и несет на перрон, щеголяя своей силой (кошовка весит с пуд, чемодан из крепкого дерева — вдвое больше). Он, впрочем, замечает, встряхивая багаж в руках:
— Ого, Нюша! А как же ты в городе одна? Тебе придется взять носильщика.
— Ничего, — говорит Степан Степаныч. — У нее кость тонкая, а сила есть. Справится.
Он угощает Толю махоркой.
— Спасибо, — говорит Толя и закуривает с мученическим видом.
— Что, — спрашивает Степан Степаныч, — папиросы лучше?
— Нет, почему, — говорит Толя. — В общем — одно и то же.
— Я папиросами не накуриваюсь, — говорит Степан Степаныч. — Самое сытное курево — махорка, я считаю.
Нюша смотрит туда, откуда придет поезд. Ей надоели разговоры бог знает о чем. Пусть скорей придет поезд.
Показался дымок, потом черкал голова паровоза. Голова увеличивается, приближаясь, — она увеличивается сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, и кажется, что за нею ничего нет, никаких вагонов. И только когда паровоз помчался вдоль перрона — тогда развернулся, стал виден весь поезд, длинные вагоны, полные незнакомыми людьми, едущими каждый за своей судьбой. Толя с чемоданом побежал по перрону, побежала за ним и Нюша, вдруг испугавшись, что не успеет сесть. В страхе вскочила она на подножку и рассердилась на проводника, который преградил ей путь и спросил билет и плацкарту.
Поезд стоял недолго. Едва Нюша, с помощью пассажиров, положила багаж на полку, как раздался свисток, что-то громыхнуло, — поехали!
— Нюша, мы здесь! — крикнул Толя в открытое окно.
Она подошла к окну и улыбнулась отцу и Толе. Они шли за вагоном, потом скрылись. И станционные постройки скрылись, и человек с флажком на краю платформы, и Кострово. Все. Пошли опять разворачиваться до горизонта поля, поля.
Нюша стояла у окна и думала: «Прощай, любовь, уехала я от тебя…»
На насыпи стоял человек с ножовкой на плече: должно быть, шел с работы и остановился, чтобы посмотреть на проходящий поезд. Человек был молодой и стройный, ветер трепал его непокрытые темные волосы. На секунду Нюшины глаза встретились с его глазами…
И пролетел поезд, и насыпь пустынна, и первая звезда в окне — бежит за поездом, не отставая ни на шаг.
«БССР. Колхоз имени Сталина.
Председателю колхоза Ивану Николаевичу Гречке.
Дорогой Иван Николаевич! Я тогда не ответил на твое дружеское письмо, потому что как раз получил наказание за нашу с тобой общую ошибку, и не до дружеских писем было. Не знаю, как тебе вправляли мозги, а мне так вправили, что в жизнь не забуду. Ну, да об этом что распространяться. Ошибки не повторю, думаю — и ты не повторишь. Долгое время не хотелось тебе писать и даже думать о тебе, а сейчас вдруг захотелось. Ты не более виноват, чем я, и между нами могла бы быть дружба на принципиальных большевистских основаниях.
И на таковых основаниях — давай дружить!
Поздравляй меня: следуя твоему совету, я привел в порядок все без исключения сердечные дела…»
Коростелев пишет это письмо на террасе субботинского дома. Время к вечеру, под старым кленом в косом луче бьется мелкая мошкара, голенастые цыплята с черными крестами на белых спинах вереницей идут в сарай, на ночлег.
— Знаешь, Марьяша, он был уверен, что я черт его знает какой донжуан.
«Помимо того, еще один серьезный сдвиг в моих личных делах: принят заочником на биологический факультет. С осени начинаю учиться. Это безусловно необходимо! Иначе отстанем мы с тобой, Иван Николаевич, и через какие-нибудь пять-десять лет не будем годиться для нашей жизни.
Может, еще встретимся с тобой. Может быть, даже не раз. Я бы этого хотел. Привет Алене Васильевне и детишкам. Твой Д. Коростелев».
Наде лучше. У нее было воспаление легких, оно прошло, через неделю-полторы Надю выпишут из больницы. У Алмазова лицо посветлело и подобрело — вишь, говорят люди, рад, что дочка поправляется… Тося ходит исхудавшая, с сияющим лицом, притихшая от счастья.
Надичка, балерина ненаглядная, будет жить! И в горестные дни Надичкиной болезни сбылись горячие желания Тоси: муж-опора, муж — друг и товарищ, муж — глава — при ней! Хорошо стало в доме: ни ссор, ни тяжкого молчанья. Заговорит Тося — муж ей ответит, сделает Тося что-нибудь не так — он простит. Вместе ходят в больницу проведывать Надю (теперь к ней уже пускают). К гостинцам, которые Тося напечет-наварит дома, отец обязательно приложит свои гостинцы — конфеты, пряники. И так радостно у Тоси на душе, когда они с мужем идут рядом по дороге в город и несут дочке гостинцы, а люди замечают и думают: счастье Тосе, хороший муж у нее.
Лукьяныч тоже проведывает Надю и носит ей шоколадки и петушков на палочке, — а Тося-то его передразнивала! И учительница Марьяна Федоровна, Дмитрий-Корнеевича жена, ходит в больницу, и сам Дмитрий Корнеевич, говорила докторша, три раза звонил, справлялся о Наде. До чего кругом люди дружные, сколько хорошего в жизни!
Однажды Коростелев сказал Алмазову.
— Товарищ прораб, вы вечером, пожалуйста, никуда не уходите, я к вам в гости приду. И не один.
Алмазов, придя с работы, сказал Тосе. Она только что поставила машину в гараж (новый гараж, недавно законченный) и вернулась домой, а тут известие: сейчас гости прибудут. Тося кинулась печь ватрушки и пироги с ягодами. Пироги поспели, а никого не было. Уже зажгли электричество, и Катя, устав ждать гостей, заснула, когда пришел Коростелев и с ним Бекишев и Иван Никитич Горельченко.
Алмазов встал растерянно, почуяв необычное. Коростелев вынул из карманов галифе две бутылки и с маху поставил на стол:
— Закуска, вижу, готова. Умница, Тося, сообразила!
Бекишев сказал, улыбаясь:
— Вы нарушаете условленный порядок.
— Нет, товарищ парторг, сегодня давайте без торжественной части!
— Доклад сделать придется. Без этого не обойтись.
— Ладно, коли так. Слово имеет товарищ Бекишев.
Бекишев, улыбаясь:
— Лучше товарищ Коростелев. Ему по штату положено.
— Вы садитесь! — взмолилась Тося.
Гости сели. Коростелев откупорил бутылку и налил водку в стаканы.
— Слово имею я. Товарищи, по инициативе парторга Бекишева был произведен подробный анализ наших достижений и ближайших перспектив. Анализ был осуществлен нашей замечательной бухгалтерией под руководством товарища Бекишева. И стала ясна, между прочим, такая вещь, что в этом году у нас есть полная возможность, при наших кадрах и запасах материала, осуществить пятилетний план строительства по совхозу на восемьдесят пять процентов, то есть всего пятнадцати процентов будет не хватать до полного выполнения.
— Не точно выражаетесь, — сказал Бекишев. — Не только есть возможность, но это, так сказать, неизбежно при нынешних темпах работы наших строителей.
— Не перебивайте докладчика, — сказал Коростелев. — И вот мы, товарищ Алмазов, пришли вас об этом известить и принести товарищеское большевистское спасибо человеку, в короткий срок обучившему такие кадры.
— Постой, — сказал Горельченко. — Значит, пятилетний план по строительству вы закончите в первой половине сорок восьмого года?
— Безусловно, — сказал Бекишев.
— Выходит, — сказал Горельченко, устремив свои черные глаза на Алмазова, — вы через год будете в следующей пятилетке? Мы еще в этой, а вы махнете в будущую?
— Выходит, так, — подумав, сказал Алмазов.
— Будете работать в счет тысяча девятьсот пятьдесят первого года.
— Пятьдесят первого.
— А с будущей управитесь года в три — дальше двинетесь? К коммунизму заявитесь в первой роте?
— Товарищи, что делается! — Коростелев встал, громко двинув стулом, прошелся по тесной кухне — два шага от стола к печи, два обратно… — Ведь уже близко, а? Мы, мы, вот в этих наших рабочих сапогах, идем к коммунизму и придем!
Алмазов бледнел, глаза его заблестели, дрожала рука с папироской… Слова Горельченко насчет будущей пятилетки и первой роты поразили его, никогда он не представлял себе это так наглядно. «Ну да, так и есть, тысяча девятьсот пятьдесят первый пойдет для меня с сорок восьмого года. Да, именно мы идем к коммунизму и придем…» По-новому увидел себя Алмазов, ярким светом озарился для него простой и привычный его труд. В этом ярком свете сердечные горести и неудачи показались вдруг Алмазову почти не стоящими внимания, образ женщины с золотым венцом вокруг прекрасного лица, с младенцем на коленях — даже этот образ отодвинулся перед тем огромным и ослепительным, что увидел Алмазов вплотную перед собой.
— Как бы американцы не помешали, — сказал он.
Сказал только для того, чтобы совладать с волнением: не верил он в эту минуту, что кто-нибудь может воспрепятствовать ему и его товарищам идти вперед и вперед!
— Немцы пробовали помешать, — сказал Бекишев и поднял стакан. Выпьем, товарищи, за время, в которое нам выпало счастье жить!
— Какими в него войдем, в коммунизм? — сказал Коростелев задумчиво. Достойны ли?
— Поскольку осилим построить — кто скажет, что недостойны? — возразил Алмазов.
— Все-таки не без того, — сказал Коростелев, — что есть в нас еще эти самые пережитки капитализма. Вот, по совести — все ли, что во мне есть, я хочу взять с собой в коммунизм? Конечно, не все.
— Для того нас партия и воспитывает, — сказал Бекишев, — чтобы мы очистились от пережитков. Чем дальше строим, тем больше очищаемся. Люди создают эпоху, а эпоха переделывает людей. Нераздельный процесс.
Алмазову непонятно было, куда вдруг свернул разговор. «Ну, замечается еще иногда в людях кое-что, чего не должно быть, — подумал он, — но все-таки: Родину от фашистов мы отстояли? Города восстанавливаем, хлеб сеем, сталь льем, — кто? — обыкновенные советские люди. Не плохи мы, стало быть: чего прибедняться?..»
И, словно угадав его мысль, сказал Горельченко:
— Крепкая кость у советского человека и крепкая вера. Повел нас в Отечественной Сталин, и мы победили. Ведет нас Сталин, и мы претворяем в жизнь самую высокую — нету выше! — мечту человечества. Если есть еще в сознании людей старая какая шелуха — всю скинем по дороге, в коммунизм ее с собой не принесем. А сколько принесем хорошего, товарищи? Посчитайте.
И сильные мужские руки протянули стаканы над столом, чокаясь за тост, предложенный Бекишевым.
Глава двенадцатая УТРО, ВСЕ ИДУТ НА РАБОТУ
Звоннн… Звоннн — раздается над полями. Это сторож на второй ферме ударил в рельсу, возвещая начало нового дня. Вставайте, люди, солнце взошло!
На том берегу, в обширных загонах, где под навесами ночует скот, пробуждается хлопотливая жизнь: скрипят колодезные журавли, гремят ведра, с глухим прерывистым шумом льются в сотни подойников белые струи молока. Грузовик ждет — сейчас нагрузят его большими бидонами, и шофер по прохладе повезет на станцию молоко утреннего удоя и молоко вчерашнее, которое сохраняется тут же в глубоких ледниках, укрытых соломой.
Степан Степаныч запрягает быка в телегу, пробует свою знаменитую косу: накосит молодой травы — овес с горохом пополам, привезет скоту питательную зеленую подкормку. Бык старый, знает порядок, сам поворачивает к овсяному полю, остановится где надо, только скажи: «Приехали».
Бекишев и Толя идут по мосту. Бекишев вымыт докрасна, свеж, подтянут. Толя идет понурив голову и сочиняет стихи о неудавшейся любви: «Нет, ты не для меня. Так суждено…» — и в то же время машинально старается ступать по новым, свежим, атласным доскам, тут и там белеющим в настиле моста…
Покинув молодую жену, меряет длинными ногами дорогу к совхозу Коростелев. Вышел на постройку Алмазов, крутит первую папироску, ждет, когда соберутся строители. Вон уже они идут, с топорами, с пилами, с первой фермы, со второй — местность ровная, видать издалека.
Райкомовский «газик» стоит на тихой улице, где пыльная зелень черемух свешивается из-за заборов и плетней. Шофер, предвидя дальнюю поездку, поднял капот и проверяет мотор, копаясь в его потрошках. Выходит на улицу Горельченко, сел в машину, шофер захлопнул капот, взялся за баранку, завилась по улице пыль — поехал в колхозы Иван Никитич.
Попозже, среди полей, что волнами ходят вокруг школы, поплывет синее платьице с белыми горошками — учительница Марьяна Федоровна пошла к своим питомцам.
А по-над речкой, по высокому правому берегу, далеко от города идет Сережа. Он в сандалиях и трусиках, с непокрытой головой, ветерок шевелит его мягкие светлые волосы. Кругом разливанное море желтой сурепки, ромашки, одуванчиков. Одни одуванчики золотые, только что раскрылись, другие торчат прозрачными пуховыми шариками. Сережа срывает одуванчик и дует: летит пух.
Сережа идет к старым осинам. Ради этого он отказался пойти с мамой на школьные грядки — ему необходимо наведаться к осинам и проверить, не там ли его галка, его Галя-Галя. Он уверен, что то была она: какая другая птица могла отозваться на его голос? Васька пускай смеется сколько хочет. Все уважают Ваську как героя, мама сказала, что он прекрасный парень, отличный товарищ и что Сережа обязан ему жизнью. Действительно, Васька хорошо сделал, что сразу вытащил Сережу из воды, Сереже стало очень страшно, когда он свалился в воду, и он очень благодарен Ваське, но все-таки не стоит верить всему, что говорит Васька. В этом Сережа убедился на опыте многих лет. Насчет галки Васька безусловно ошибается. То была Галя-Галя.
Белая бабочка летела перед Сережей: летела — словно танцевала. Сядет на цветок, сложит крылышки, Сережа только нацелится схватить ее — бабочка пугается и летит дальше, на другой цветок. И опять вспархивает, и опять летит.
Так шел Сережа по высокому берегу, ветерок развевал его мягкие волосы, и белая бабочка летела перед ним, перелетая с цветка на цветок.
1949
СЕРЕЖА Несколько историй из жизни очень маленького мальчика (Повесть)
Моим детям
Наталии, Борису и Юрию
КТО ТАКОЙ СЕРЕЖА И ГДЕ ОН ЖИВЕТ
Выдумали, будто он на девочку похож. Это прямо смешно. Девочки ходят в платьях, а Сережа давным-давно не ходит в платьях. У девочек, что ли, бывают рогатки? А у Сережи есть рогатка, из нее можно стрелять камнями. Рогатку сделал ему Шурик. За это Сережа отдал Шурику все ниточные катушки, которые собирал всю свою жизнь.
А что у него такие волосы, так их сколько раз стригли машинкой, и Сережа сидит смирно, закутанный простыней, и терпит до конца, а они все равно растут опять.
Зато он развитой, все говорят. Он знает наизусть целую кучу книжек. Два или три раза прочтут ему книжку, и он уже знает ее наизусть. Знает и буквы, но читать самому — очень долго. Книжки густо измазаны цветными карандашами, потому что Сережа любит раскрашивать картинки. Если даже картинки в красках, он их перекрашивает по своему вкусу. Книжки недолго бывают новыми, они распадаются на куски. Тетя Паша приводит их в порядок, сшивая и склеивая листы, изорванные по краям.
Пропадет какой-нибудь лист — Сережа ищет его и успокаивается, когда находит: он привязан к своим книжкам, хотя в глубине души не принимает всерьез все эти истории. Звери на самом деле не разговаривают, и ковер-самолет летать не может, потому что он без мотора, это каждый дурак знает.
И вообще, как принимать всерьез, если читают про ведьму и тут же говорят: «А ведьм, Сереженька, не бывает».
Но все-таки он не может перенести, как это дровосек и его жена обманом завели своих детей в лес, чтобы они там заблудились и не вернулись никогда. Хоть мальчик с пальчик спас их всех, но слушать про такие дела невозможно. Сережа не позволяет читать ему эту книжку.
Живет Сережа с мамой, тетей Пашей и Лукьянычем. В доме у них три комнаты. В одной спит Сережа с мамой, в другой тетя Паша с Лукьянычем, а третья столовая. При гостях едят в столовой, а без гостей в кухне. Еще есть терраса и двор. Во дворе куры. На двух длинных грядках растет лук и редиска. Чтобы куры не раскапывали грядки, кругом натыканы сухие ветки с колючками; и когда Сереже нужно сорвать редиску, вечно эти колючки царапают ему ноги.
Считается, что их город маленький. Сережа и его товарищи думают, что это неправильно. Большой город. В нем есть магазины, и водокачки, и памятник, и кино. Иногда мама берет Сережу с собой в кино. «Мамочка, говорит Сережа, когда тушат свет, — если будешь что-нибудь понимать, говори мне».
По улицам ездят машины. Шофер Тимохин катает ребят на своей полуторке. Только это редко бывает. Это бывает, когда Тимохин не выпьет водки. Тогда он нахмуренный, не разговаривает, курит, плюется и всех катает. А если приезжает веселый — не стоит и проситься, ничего не будет: машет рукой из окошечка и кричит: «Привет, ребята! Не имею морального права! Я выпивши!»
Улица, где живет Сережа, называется Дальняя. Просто называется: от нее всюду близко. До площади — километра два, Васька говорит. А до совхоза «Ясный берег» еще ближе, Васька говорит.
Главнее совхоза «Ясный берег» ничего нет. Там работает Лукьяныч. Тетя Паша ходит туда в магазин за селедками и мануфактурой. Мамина школа тоже в совхозе. По праздникам Сережа бывает с мамой на школьных утренниках. Там он познакомился с рыжей Фимой. Она большая, ей восемь лет. У нее косы уложены на ушах крендельками, а в косы вплетены ленты и завязаны бантами, или черные ленты, или голубые, или белые, или коричневые; очень много лент у Фимы. Сережа бы не заметил, но Фима сама спросила его:
— Ты обратил внимание, сколько много у меня лент?
ТРУДНОСТИ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Это она правильно сделала, что спросила. А то разве на все обратишь внимание? Сережа и рад обратить, да внимания не хватит. Столько вещей кругом. Мир набит вещами. Изволь все заметить.
Почти все вещи очень большие: двери ужасно высокие, люди (кроме детей) почти такой же высоты, как двери. Не говоря уже о грузовике или комбайне, или о паровозе, который как загудит, так ничего не слышно, кроме его гудка.
Вообще — не так уж опасно: люди к Сереже доброжелательны, наклоняются, если ему нужно, и никогда не наступают на него своими громадными ногами. Грузовик и комбайн тоже безвредны, если не перебегать им дорогу. Паровозы — далеко, на станции, куда Сережа два раза ездил с Тимохиным. Но вот ходит по двору зверь. У него круглый, подозрительный, нацеливающийся глаз, могучий дышащий зоб, грудь колесом и железный клюв. Вот зверь остановился и мозолистой ногой разгребает землю. Когда он вытягивает шею, то делается одного роста с Сережей. И может так же заклевать Сережу, как заклевал молодого соседского петушка, который сдуру разлетелся в гости. Сережа стороной обходит кровожадного зверя, делая вид, что и не видит его вовсе, — а зверь, свесив красный гребень набок и гортанно говоря что-то угрожающее, провожает его бдительным недобрым взглядом…
Петухи клюются, кошки царапаются, крапива жжется, мальчишки дерутся, земля срывает кожу с колен, когда падаешь, — и Сережа весь покрыт царапинами, ссадинами и синяками. Почти каждый день у него откуда-нибудь идет кровь. И вечно что-то случается. Васька влез на забор, и Сережа хотел влезть, но сорвался и расшибся. У Лиды в саду выкопали яму, и все ребята стали прыгать через яму, и всем ничего, а Сережа прыгнул и свалился в яму. Нога распухла и болела, Сережу уложили в постель. Едва поднялся и вышел во двор поиграть мячиком, а мячик залетел на крышу и лежал там за трубой, пока не явился Васька и не достал его. А как-то Сережа чуть-чуть не утонул. Лукьяныч повез их кататься по речке на челне — Сережу, Ваську, Фиму и еще одну свою знакомую девочку, Надю. Челн у Лукьяныча оказался никудышный: только ребята зашевелились — он качнулся, и они все упали в воду, кроме Лукьяныча. Вода была жутко холодная. Она сразу налилась Сереже в нос, рот, уши — он и крикнуть не успел — даже в живот. Сережа сделался весь мокрый и тяжелый, и его как будто кто-то потащил вниз. Он почувствовал ужас, какого никогда не чувствовал. И было темно. И это длилось невероятно долго. Как вдруг его подняли кверху. Он открыл глаза возле самого лица его струилась речка, был виден берег, и все сверкало от солнца. Вода, что была у Сережи внутри, вылилась, он вдохнул воздуху, берег придвигался ближе и ближе, и вот Сережа стал на четвереньки на твердый песок, дрожа от холода и страха. Это Васька сообразил схватить его за волосы и вытащить. А если бы у Сережи не было длинных волос, тогда что?
Фима выплыла сама, она умеет плавать. А Надя тоже чуть не утонула, ее спас Лукьяныч. А челн уплыл, пока Лукьяныч спасал Надю. Колхозницы поймали челн и позвонили Лукьянычу в контору по телефону, чтобы он его забрал. Но больше Лукьяныч не катает ребят. Он говорит: «Будь я проклят, если еще когда-нибудь с вами поеду».
От всего, что приходится увидеть и испытать за день, Сережа очень устает. К вечеру он совсем изнемогает, еле ворочается у него язык, глаза закатываются, как у птицы. Ему моют руки и ноги, сменяют рубашку — он в этом не участвует, его завод кончился, как у часов.
Он спит, свободно откинув светловолосую голову, разбросав худенькие руки, вытянув одну ногу, а другую согнув в колене, словно он всходит по крутой лестнице. Волосы тонкие и легкие, разделившись на две волны, открывают лоб с двумя упрямыми выпуклостями над бровями, как у молоденького бычка. Большие веки, опушенные тенистой полоской ресниц, сомкнуты строго. Рот приоткрылся посредине, в уголках склеенный сном. И дышит он неслышно, как цветок.
Он спит, и можете, пожалуйста, бить в барабан, палить из пушки Сережа не проснется, он копит силы, чтобы жить дальше.
ПЕРЕМЕНЫ В ДОМЕ
— Сереженька, — сказала мама, — знаешь что?.. Мне хочется, чтобы у нас был папа.
Сережа поднял на нее глаза. Он не думал об этом. У одних ребят есть папы, у других нет. У Сережи тоже нет: его папа убит на войне; Сережа видел его только на карточке. Иногда мать целовала карточку и Сереже давала целовать. Он с готовностью прикладывал губы к стеклу, затуманившемуся от маминого дыхания, но любви не чувствовал: он не мог любить того, кого видел только на карточке.
Он стоял между мамиными коленями и вопросительно смотрел ей в лицо. Оно медленно розовело: сначала порозовели щеки, от них нежная краснота разлилась на лоб и уши… Мама зажала Сережу в коленях, обняла его и приложила горячую щеку к его голове. Теперь ему видна была только ее рука в синем рукаве с белыми горошинами. Шепотом мама спросила:
— Ведь без папы плохо, правда? Правда?..
— Да-а, — ответил он, тоже почему-то шепотом.
На самом деле он не был в этом уверен. Он сказал «да» потому, что ей хотелось, чтобы он сказал «да». Тут же он наскоро прикинул: как лучше — с папой или без папы? Вот когда Тимохин их катает на грузовике, то все садятся наверху, а Шурик всегда садится в кабину, и все ему завидуют, но не спорят, потому что Тимохин — Шурикин папа. Зато если Шурик не слушается, то Тимохин наказывает его ремнем, и Шурик ходит зареванный и угрюмый, а Сережа страдает и выносит во двор все свои игрушки, чтобы Шурик утешился… Но, должно быть, с папой все-таки лучше: недавно Васька обидел Лиду, так она кричала: «А у меня зато папа есть, а у тебя нет, ага!»
— Чего это стучит? — спросил Сережа громко, заинтересовавшись глухим стуком у мамы в груди. Мама засмеялась, поцеловала Сережу и крепче прижала к себе.
— Это сердце. Мое сердце.
— А у меня? — спросил он, наклоняя голову, чтобы услышать.
— И у тебя.
— Нет. У меня не стучит.
— Стучит. Просто тебе не слышно. Оно обязательно стучит. Без этого человек не может жить.
— Всегда стучит?
— Всегда.
— А когда я сплю?
— И когда ты спишь.
— А тебе слышно?
— Да. Слышно. А ты можешь рукой почувствовать.
Она взяла его руку и приложила к ребрам.
— Чувствуешь?
— Чувствую. Здорово стучит. Оно большое?
— Сожми кулачок. Вот, оно такое приблизительно.
— Пусти, — озабоченно сказал он, выбираясь из ее объятий.
— Куда ты? — спросила она.
— Я сейчас, — сказал он и побежал на улицу, прижимая руку к левому боку. На улице были Васька и Женька. Он сказал им:
— Вот попробуйте, хотите? Тут у меня сердце. Я его рукой чувствую. Попробуйте, хотите?
— Подумаешь! — сказал Васька. — У всех сердце.
Но Женька сказал:
— А ну.
И приложил руку к Сережиному боку.
— Чувствуешь? — спросил Сережа.
— Ага, — сказал Женька.
— Оно приблизительно такое, как мой кулак, — сказал Сережа.
— А ты почем знаешь? — спросил Васька.
— Мне мама сказала, — ответил Сережа. И, вспомнив, добавил: — А у меня будет папа!
Но Васька и Женька не слушали, занятые своими делами: они несли на заготпункт лекарственные растения. На заборах вывесили списки — какие растения принимаются; и ребятам захотелось заработать. Два дня они собирали травы. Васька отдал свой сбор матери и велел перебрать, рассортировать и увязать в чистую тряпку — и теперь шел на заготпункт с большим опрятным узлом. А у Женьки матери нет, тетка и сестра на работе, не самому же возиться; Женька нес сдавать лекарственные растения в дырявом мешке от картошки, с корнями и даже с землей. Зато очень много было; больше, чем у Васьки; взвалил на спину — так и согнулся пополам.
— И я с вами, — сказал Сережа, поспешая за ними.
— Не, — сказал Васька. — Поворачивай домой. Мы по делу идем.
— Да я просто так, — сказал Сережа. — Просто провожу.
— Поворачивай, сказано! — приказал Васька. — Это тебе не игра. Маленьким нечего там делать!
Сережа отстал. У него дрогнула губа, но он скрепился: подходила Лида, при ней плакать не стоит, а то задразнит: «Плакса! Плакса!»
— Не взяли тебя? — спросила она. — Эх, ты!
— Если я захочу, — сказал Сережа, — я вот столько наберу всякой разной травы! Выше неба!
— Выше неба — врешь, — сказала Лида. — Выше неба никто не наберет.
— А вот у меня будет папа, он наберет, — сказал Сережа.
— Врешь ты все, — сказала Лида. — Никакого папы у тебя не будет. И он все равно не наберет. Никто не наберет.
Сережа, запрокинув голову, посмотрел на небо и задумался: можно набрать травы выше неба или нельзя? Пока он думал, Лида сбегала к себе домой и принесла пестрый шарф — мать ее носила этот шарф, когда на шее, а когда на голове. С шарфом Лида принялась плясать, размахивать им, вскидывая руки и ноги и распевая что-то себе в помощь. Сережа стоял и смотрел. Лида на минутку перестала плясать и сказала:
— Надька врет, что ее в балет отдают.
Поплясала еще и сказала:
— На балерин учат в Москве и в Ленинграде.
И, заметив в Сережиных глазах восхищение, великодушно предложила:
— Чего ж ты? Учись давай, ну? Смотри на меня и делай, что я делаю.
Он стал делать, но без шарфа не получалось. Она велела ему петь, но и это не помогло. Он попросил:
— Дай мне шарфик.
Но она сказала:
— Ишь какой!
И не дала. В это время подъехала машина «газик» и остановилась у Сережиных ворот. Из машины вышла женщина-шофер, а из калитки тетя Паша. Женщина-шофер сказала:
— Принимайте. Дмитрий Корнеевич прислал.
В машине был чемодан и стопки книг, перевязанные веревками. И еще что-то толстое серое, скатанное в трубку, — оно развернулось, это оказалась шинель. Тетя Паша и шофер стали носить все это в дом. Мама выглянула из окошка и скрылась. Шофер сказала:
— Извините — вот и все приданое.
Тетя Паша ответила грустным голосом:
— Уж пальтишко мог бы купить.
— Купит, — пообещала шофер. — Все впереди. И вот передайте письмецо.
Она отдала письмо и уехала. Сережа побежал домой, крича:
— Мама! Мама! Коростелев нам прислал свою шинель!
(Дмитрий Корнеевич Коростелев ходил к ним в гости. Он дарил Сереже игрушки и один раз зимой катал его на саночках. Шинель у него без погон, осталась с войны. Сказать «Дмитрий Корнеевич» трудно, Сережа звал его: Коростелев.)
Шинель уже висела на вешалке, а мама читала письмо. Она ответила не сразу, а когда дочитала до самого конца:
— Я знаю, Сереженька. Коростелев теперь будет жить с нами. Он будет твой папа.
И она стала читать то же самое письмо — наверно, с одного раза не запомнила, что там написано.
Под словом «папа» Сереже представлялось что-то чужое, невиданное. А Коростелев — их старый знакомый, тетя Паша и Лукьяныч зовут его «Митя», что это маме вдруг вздумалось? Сережа спросил:
— А почему?
— Слушай, — сказала мама, — ты дашь прочесть письмо или ты не дашь?
Так она ему и не ответила. У нее оказалось много разных дел. Она развязала книги и поставила на полку. И каждую книгу обтирала тряпкой. Потом переставила штучки на комоде перед зеркалом. Потом пошла во двор и нарвала цветов и поставила в вазочку. Потом для чего-то ей понадобилось мыть пол, хотя он был чистый. А потом стала печь пирог. Тетя Паша ее учила, как делать тесто. И Сереже дали теста и варенья, и он тоже испек пирог, маленький.
Когда пришел Коростелев, Сережа уже забыл о своих недоумениях и сказал ему:
— Коростелев! Посмотри, я испек пирог!
Коростелев наклонился к нему и несколько раз поцеловал, — Сережа подумал: «Это он потому так долго целуется, что он теперь мой папа».
Коростелев распаковал свой чемодан, достал оттуда мамину карточку в рамке, взял в кухне гвоздь и молоток и повесил карточку в Сережиной комнате.
— Зачем это, — спросила мама, — когда я живая буду всегда с тобой?
Коростелев взял ее за руку, они потянулись друг к другу, но оглянулись на Сережу и отпустили руки. Мама вышла. Коростелев сел на стул и сказал задумчиво:
— Вот так, брат Сергей. Я, значит, к тебе переехал, не возражаешь?
— Ты насовсем переехал? — спросил Сережа.
— Да, — сказал Коростелев. — Насовсем.
— А ты меня будешь драть ремнем? — спросил Сережа.
Коростелев удивился:
— Зачем я тебя буду драть ремнем?
— Когда я не буду слушаться, — объяснил Сережа.
— Нет, — сказал Коростелев. — По-моему, это глупо — драть ремнем, а?
— Глупо, — подтвердил Сережа. — И дети плачут.
— Мы же с тобой можем договориться как мужчина с мужчиной, без всякого ремня.
— А в которой комнате ты будешь спать? — спросил Сережа.
— Видимо, в этой, — ответил Коростелев. — По всей видимости, брат, так. А в воскресенье мы с тобой пойдем — знаешь, куда мы с тобой пойдем? В магазин, где игрушки продают. Выберешь сам, что тебя устраивает. Договорились?
— Договорились! — сказал Сережа. — Я хочу велисапед. А воскресенье скоро?
— Скоро.
— Через сколько?
— Завтра будет пятница, потом суббота, а потом воскресенье.
— Еще не скоро! — сказал Сережа.
Пили чай втроем: Сережа, мама и Коростелев. (Тетя Паша с Лукьянычем куда-то ушли.) Сереже хотелось спать. Серые бабочки толклись вокруг лампы, стукались об нее и падали на скатерть, часто мелькая крылышками, от этого хотелось спать еще сильней. Вдруг он увидел, что Коростелев куда-то несет его кровать.
— Зачем ты взял мою кровать? — спросил Сережа.
Мама сказала:
— Ты совсем спишь. Пошли мыть ноги.
Утром Сережа проснулся и не сразу понял, где он. Почему вместо двух окон три, и не с той стороны, и не те занавески. Потом разобрался, что это тети-Пашина комната. Она очень красивая: подоконники заставлены цветами, а за зеркало заткнуто павлинье перо. Тетя Паша и Лукьяныч уже встали и ушли, постель их была постлана, подушки уложены горкой. Раннее солнце играло в кустах за открытыми окнами. Сережа вылез из кроватки, снял длинную рубашку, надел трусики и вышел в столовую. Дверь в его комнату была закрыта. Он подергал ручку — дверь не отворялась. А ему туда нужно было непременно: там ведь находились все его игрушки. В том числе новая лопата, которой ему вдруг очень захотелось покопать.
— Мама! — позвал Сережа.
— Мама! — позвал он еще раз.
Дверь не открывалась, и было тихо.
— Мама! — крикнул Сережа изо всех сил.
Тетя Паша вбежала, схватила его на руки и понесла в кухню.
— Что ты, что ты! — шептала она. — Как можно кричать! Нельзя кричать! Слава богу, не маленький! Мама спит, и пусть себе спит на здоровье, зачем будить!
— Я хочу взять лопату, — сказал он тревожно.
— И возьмешь, никуда не денется лопата. Мама встанет — и возьмешь, сказала тетя Паша. — Смотри-ка, а вот рогатка твоя. Вот ты пока рогаткой позанимаешься. А хочешь, морковку почистить дам. А раньше всех дел добрые люди умываются.
Разумные, ласковые речи всегда действовали на Сережу успокоительно. Он дал ей умыть себя и выпил кружку молока. Потом взял рогатку и вышел на улицу. Напротив на заборе сидел воробей. Сережа, не целясь, стрельнул в него из рогатки камушком и, конечно же, промахнулся. Он нарочно не целился, потому что сколько бы он ни целился, он бы все равно не попал, кто его знает — почему; но тогда Лида дразнилась бы, а теперь она не имеет права дразниться: ведь видно было, что человек не целился, просто захотелось ему стрельнуть, он и стрельнул не глядя, как попало.
Шурик крикнул от своих ворот:
— Сергей, в рощу пошли?
— А ну ее! — сказал Сережа.
Он сел на лавочку и сидел, болтая ногой. Его беспокойство усиливалось. Проходя через двор, он видел, что ставни на его окнах тоже закрыты. Сразу он не придал этому значения, а теперь сообразил: ведь они летом никогда не закрываются, только зимой, в сильный мороз; получается, что игрушки заперты со всех сторон. И ему захотелось их до того, что хоть ложись на землю и кричи. Конечно, он не станет ложиться и кричать, он не маленький, но от этого ему не было легче. Мама и Коростелев даже и не беспокоятся, что ему сию минуту нужна лопата.
«Как только они проснутся, — думал Сережа, — я сейчас же все-все перенесу в тети-Пашину комнату. Не забыть кубик: он еще когда упал за комод и там лежит».
Васька и Женька подошли и стали перед Сережей. И Лида подошла с маленьким Виктором на руках. Они стояли и смотрели на Сережу. А он болтал ногой и не говорил ничего. Женька спросил:
— Ты чего сегодня такой?
Васька сказал:
— У него мать женилась.
Еще помолчали.
— На ком она женилась? — спросил Женька.
— На Коростелеве, директоре «Ясного берега», — сказал Васька. — Ох, его и прорабатывали!
— За что прорабатывали? — спросил Женька.
— Ну — за хорошие, значит, дела, — сказал Васька и достал из кармана мятую пачку папирос.
— Дай закурить, — сказал Женька.
— Да у меня у самого, кажется, последняя, — сказал Васька, но все-таки папиросу дал и, закурив, протянул горящую спичку Женьке. Огонь на кончике спички в солнечном свете прозрачен, невидим; не видать, отчего почернела и скорчилась спичка и отчего задымила папироса. Солнце светило на ту сторону улицы, где собрались ребята, а другая сторона была еще в тени, и листья крапивы там вдоль забора, вымытые росой, темны и мокры. И пыль посреди улицы: на той стороне прохладная, а на этой теплая. И два гусеничных следа по пыли: кто-то проехал на тракторе.
— Переживает Сережка, — сказала Лида Шурику. — Новый папа у него.
— Не переживай, — сказал Васька. — Он дядька ничего себе, по лицу видать. Как жил, так и будешь жить, какое твое дело.
— Он мне купит велисапед, — сказал Сережа, вспомнив вчерашний разговор.
— Обещал купить, — спросил Васька, — или же просто ты надеешься?
— Обещал. Мы вместе в магазин пойдем. В воскресенье. Завтра будет пятница, потом суббота, а потом воскресенье.
— Двухколесный? — спросил Женька.
— Трехколесный не бери, — посоветовал Васька. — На кой он тебе. Ты скоро вырастешь, тебе нужен двухколесный.
— Да врет он все, — сказала Лида. — Никакого велисапеда ему не купят.
Шурик надулся и сказал:
— Мой папа тоже купит велисапед. Как будет получка, так и купит.
ПЕРВОЕ УТРО С КОРОСТЕЛЕВЫМ. — В ГОСТЯХ
Загремело железо во дворе. Сережа посмотрел в калитку: это Коростелев снимал болты и отворял ставни. Он был в полосатой рубашке и голубом галстуке, мокрые волосы гладко зачесаны. Он отворил ставни, а мама изнутри толкнула створки окна, они распахнулись, и мама что-то сказала Коростелеву. Он ответил ей, облокотясь на подоконник. Она протянула руки и сжала его лицо в ладонях. Они не замечали, что с улицы смотрят ребята.
Сережа вошел во двор и сказал:
— Коростелев! Мне нужно лопату.
— Лопату?.. — переспросил Коростелев.
— И вообще все, — сказал Сережа.
— Войди, — сказала мама, — и возьми что тебе надо.
В маминой комнате стоял непривычный запах — табака и чужого дыхания. Чужие вещи валялись тут и там: одежа, щетка, папиросные коробки на столе… Мама расплетала косу. Когда она расплетает свои длинные косы, бесчисленные каштановые змейки закрывают ее ниже пояса, а потом она их расчесывает, пока они не распрямятся и не станут похожи на летний ливень… Из-за каштановых змеек мама сказала:
— С добрым утром, Сереженька.
Он не ответил, занятый видом коробок. Они были пленительны своей новизной и одинаковостью. Он взял одну, она была заклеена, не открывалась.
— Положи на место, — сказала мама, видевшая все в зеркале. — Ты ведь пришел за игрушками?
Кубик лежал за комодом. Сережа, присев на корточки, видел его, но достать не мог: рука не дотягивалась.
— Ты что там пыхтишь? — спросила мама.
— Мне никак, — ответил Сережа.
Вошел Коростелев. Сережа спросил его:
— Ты мне потом отдашь эти коробки?
(Он знал, что взрослые отдают детям коробки тогда, когда то, что в коробках, уже выкурено или съедено.)
— Вот тебе в порядке аванса, — сказал Коростелев.
И подарил Сереже одну коробку, выложив из нее папиросы. Мама попросила:
— Помоги ему. У него что-то завалилось за комод.
Коростелев ухватил комод своими большими руками — старый комод заскрипел, подвинулся, и Сережа без труда достал кубик.
— Здорово! — сказал он, с одобрением посмотрев вверх на Коростелева.
И ушел, прижимая к груди коробку, кубик и еще столько игрушек, сколько смог захватить. Он снес их в комнату тети Паши и свалил на пол, между своей кроватью и шкафом.
— Ты забыл лопату, — сказала мама. — Так срочно она была тебе нужна, а ее-то ты и забыл.
Сережа молча взял лопату и отправился во двор. Ему уже расхотелось копать, он только что задумал переложить свои фантики — бумажки от конфет — в новую коробку, но было неудобно не покопать хоть немножко, когда мама так сказала.
Под яблоней земля рыхлая и легче поддается. Копая, он старался забирать поглубже — на полную лопату. Это была работа не за страх, а за совесть, он кряхтел от усилий, мускулы напрягались на его руках и на голой узенькой спине, золотистой от загара. Коростелев стоял на террасе, курил и смотрел на него.
Явилась Лида с Виктором на руках и сказала:
— Давай цветов насажаем. Красиво будет.
Она усадила Виктора наземь, прислонив к яблоне, чтобы он не падал. Но он все равно сейчас же упал — на бок.
— Ну, ты, сиди! — прикрикнула Лида, встряхнула его и усадила покрепче. — Глупый ребенок. Другие уже сидят в этом возрасте.
Она говорила нарочно громко, чтобы Коростелев на террасе услышал и понял, какая она взрослая и умная. Искоса поглядывая на него, сна принесла ноготков и воткнула в землю, вскопанную Сережей, приговаривая:
— Вот видишь, до чего красиво!
А потом принесла из-под желоба белых и красных камушков и разложила вокруг ноготков. Она растирала землю в пальцах и прихлопывала ладонями, руки у нее стали черные.
— Не красиво разве? — спрашивала она. — Говори, только не ври.
— Да, — признался Сережа. — Красиво.
— Эх, ты! — сказала Лида. — Ничего без меня не умеешь сделать.
Тут Виктор опять упал, на этот раз затылком.
— Ну, и лежи, раз ты такой, — сказала Лида.
Виктор не плакал, сосал свой кулак и изумленно смотрел на листья, шевелящиеся над ним. А Лида взяла скакалку, которою была подпоясана вместо пояса, и принялась скакать перед террасой, громко считая: «Раз, два, три…» Коростелев засмеялся и ушел с террасы.
— Смотри, — сказал Сережа, — по нем муравьи лазиют.
— Фу, дурак! — с досадой сказала Лида, подняла Виктора и стала счищать с него муравьев, и от чистки его платье и голые ноги почернели.
— Моют, моют его, — сказала Лида, — и все он грязный.
Мама позвала с террасы:
— Сережа! Иди одеваться, пойдем в гости.
Он охотно побежал на зов — в гости ходят ведь не каждый день. В гостях хорошо, дают конфеты и показывают игрушки.
— Мы пойдем к бабушке Насте, — объяснила мама, хотя он не спрашивал не важно к кому, лишь бы в гости.
Бабушка Настя серьезная и строгая, на голове белый платочек в крапушку, завязанный под подбородком. У нее есть орден, на ордене Ленин. И всегда она носит черную кошелку с застежкой-молнией. Открывает кошелку и дает Сереже что-нибудь вкусное. А в гостях у нее Сережа еще не был.
Все они нарядились — и он, и мама, и Коростелев — и пошли. Коростелев и мама взяли его за руки с двух сторон, но он скоро вырвался: куда веселей идти самому. Можно остановиться и посмотреть в щелку чужого забора, как там страшная собака сидит на цепи и ходят гуси. Можно убежать вперед и прибежать обратно к маме. Погудеть и пошипеть, изображая паровоз. Сорвать с куста зеленый стручок — пищик — и попищать. Поднять с земли золотую копейку, которую кто-то потерял. А когда тебя ведут, то только руки потеют, и никакой радости.
Пришли к маленькому домику с двумя маленькими окошками на улицу. И двор был маленький, и комнатки. Ход в комнатки был через кухню с огромной русской печкой. Бабушка Настя вышла навстречу и сказала:
— Поздравляю вас.
Должно быть, был какой-то праздник. Сережа ответил, как отвечала в таких случаях тетя Паша:
— И вас также.
Он осмотрелся: игрушек не видно, даже никаких фигурок, что ставят для украшения, — только скучные вещи для спанья и еды. Сережа спросил:
— У вас игрушки есть?
(Может быть, есть, но спрятаны.)
— Вот чего нет, того нет, — отвечала бабушка Настя. — Детей маленьких нет, ну, и игрушек нет. Съешь конфетку.
Синяя стеклянная вазочка с конфетами стояла на столе среди пирогов. Все сели за стол. Коростелев открыл штопором бутылку и налил в рюмки темно-красное вино.
— Сережке не надо, — сказала мама.
Вечно так: сами пьют, а ему не надо. Как самое лучшее, так ему не дают.
Но Коростелев сказал:
— Я немножко. Пусть тоже за нас выпьет. — И налил Сереже рюмочку, из чего Сережа заключил, что с ним, пожалуй, не пропадешь.
Все стали стукаться рюмками, и Сережа стукался.
Тут была еще одна бабушка. Сереже сказали, что это не просто бабушка, а прабабушка, так он ее чтоб и называл. Коростелев, впрочем, звал ее бабушкой без «пра». Сереже она ужасно не понравилась. Она сказала:
— Он зальет скатерть.
Он действительно пролил на скатерть немного вина, когда стукался. Она сказала:
— Ну, конечно.
И высыпала на мокрое место соль из солонки, недовольно сопя. И потом все время следила за Сережей. На глазах у нее были очки. Она была старая-престарая. Руки коричневые, сморщенные, в шишках, большущий нос загибался вниз, а костлявый подбородок — вверх.
Вино оказалось сладким и вкусным, Сережа выпил сразу. Ему дали пирог, он стал есть и раскрошил. Прабабушка сказала:
— Как ты ешь!
Сидеть было неудобно, он заерзал на стуле. Она сказала:
— Как ты сидишь!
А ему стало горячо в середине и захотелось петь. Он запел. Она сказала:
— Веди себя как следует.
Коростелев заступился за Сережу:
— Оставьте. Дайте парню жить.
Прабабушка пригрозила:
— Погодите, он вам себя покажет!
Она тоже выпила вина, глаза у нее за очками так и сверкали. Но Сережа крикнул ей храбро:
— Пошла вон! Я тебя не боюсь!
— Какой ужас! — сказала мама.
— Ерунда, — сказал Коростелев. — Сейчас пройдет. Сколько он там выпил.
— Я хочу еще! — крикнул Сережа, потянулся к своей рюмке и опрокинул пустую бутылку. Зазвенела посуда. Мама ахнула. Прабабушка ударила кулаком по столу и воскликнула:
— Вы видите, что делается!
А Сереже захотелось качаться. Он стал качаться из стороны в сторону. И стол с пирогами качался перед ним, и мама, и Коростелев, и бабушка Настя, разговаривая, качалась как на качелях, это было смешно, Сережа хохотал. Вдруг он услышал пение. Это пела прабабушка. Держа очки в шишковатой руке и размахивая ими, пела о том, как выходила на берег Катюша, выходила, песню заводила. Под прабабушкино пение Сережа заснул, положив голову на кусок пирога.
…Проснулся — прабабушки не было, а остальные пили чай. Они улыбнулись Сереже. Мама спросила:
— Пришел в себя? Не будешь больше буянить?
«Разве я буянил?» — подумал Сережа, удивившись.
Мама достала из сумочки гребешок и причесала Сережу. Бабушка Настя сказала:
— Съешь конфетку.
В соседней комнате, за пестрой полинялой занавеской, повешенной вместо двери, кто-то храпел: хрр! хрр! Сережа осторожно отодвинул занавеску, заглянул и обнаружил, что там на кровати спит прабабушка. Сережа чинно отошел от занавески и сказал:
— Пошли домой. Надоело в гостях.
Прощаясь, он услышал, что Коростелев назвал бабушку Настю «мама». Сережа и не знал, что у Коростелева есть мама, он думал — Коростелев и бабушка Настя просто знакомые.
Обратный путь показался Сереже долгим и неинтересным. Сережа подумал: «Пусть-ка Коростелев меня понесет, раз он мой папа». Ему случалось видеть, как отцы носят сыновей на плече. Сыновья сидят и задаются, и им, должно быть, далеко видно сверху. Сережа сказал:
— У меня ноги заболели.
— Уже близко, — сказала мама. — Потерпи.
Но Сережа забежал спереди и охватил колени Коростелева.
— Ты же большой, — сказала мама, — как не стыдно проситься на руки! Но Коростелев поднял Сережу и усадил к себе на плечо.
Сережа очутился очень высоко. Ему ни капельки не было страшно: не мог такой великан, запросто сдвигающий с места комоды, его уронить. С высоты было видно, что делается во дворах за заборами и даже на крышах, прекрасно видно! Это увлекательное зрелище занимало Сережу всю дорогу. Гордо посматривал он вниз на встречных мальчиков, идущих на собственных ногах. И с ощущением новых крупных своих преимуществ прибыл домой — на отцовском плече, как положено сыну.
КУПИЛИ ВЕЛОСИПЕД
И на этом же плече он отправился в воскресенье в магазин за велосипедом.
Воскресенье наступило внезапно, раньше, чем он надеялся, и Сережа сильно взволновался, узнав, что оно наступило.
— Ты не забыл? — спросил он Коростелева.
— Как же я забуду, — ответил Коростелев, — сходим обязательно, вот только управлюсь маленько с делами.
Насчет дел он соврал. Никаких дел у него не оказалось, просто он сидел и разговаривал с мамой. Разговор был непонятный и неинтересный, но им нравился, они говорили да говорили. Особенно мама длинно говорит: одно и то же слово повторяет зачем-то сто раз. От нее и Коростелев этому учится. Сережа кружит вокруг них, стихший от внутреннего возбуждения, весь сосредоточенный на одной мысли, и ждет — когда же им надоест их занятие.
— Ты все понимаешь, — говорит мама. — До чего я рада, что ты все понимаешь.
— Сказать откровенно, — отвечает Коростелев, — я до тебя мало понимал в данном вопросе. Многого я не понимал, только тогда и стал понимать, когда — ты понимаешь.
Они берутся за руки, словно играют в «золотые ворота».
— Я была девочка, — говорит мама. — Мне казалось, что я счастлива безумно. Потом мне казалось, что я умру от горя. А сейчас кажется, что все это приснилось…
Она напала на новое слово и твердит его, закрыв свое лицо коростелевскими большими руками:
— Приснилось, понимаешь? Как сны снятся. Это во сне было. Мне снился сон. А наяву — ты…
Коростелев прерывает ее и говорит:
— Я тебя люблю.
Мама не верит:
— Правда?
— Люблю, — подтверждает Коростелев. А мама все равно не верит:
— Правда — любишь?
«Сказал бы ей: „честное пионерское“ или „провалиться мне на этом месте“, — думает Сережа, — она бы и поверила».
Коростелеву надоело отвечать, он умолк и смотрит на маму. А она на него. Они смотрят так, наверно, целый час. Потом мама говорит:
— Я тебя люблю. (Как в игре, когда все по очереди говорят то же самое.)
«Когда это кончится?» — думает Сережа.
Кое-какое знание жизни подсказывает ему, однако, что не следует приставать к взрослым, когда они увлечены своими разговорами: взрослые этого не выносят, они могут рассердиться, и неизвестно, какие будут последствия. И он лишь осторожно напоминает о себе, оставаясь у них на виду и тяжело вздыхая.
И настал-таки конец его мученьям. Коростелев сказал:
— Я на часок уйду, Марьяша, мы с Сережкой договорились сходить тут по одному делу.
Ноги у него длинные, не успел Сережа оглянуться, как вот она площадь, где магазины. Здесь Коростелев спустил Сережу на землю, и они подошли к магазину игрушек.
В магазинном окне кукла с толстыми щеками улыбалась, расставив ноги в настоящих кожаных башмаках. Синие медведи сидели на красном барабане. Пионерский горн горел золотом. У Сережи дух захватило от предвкушения счастья… Внутри магазина играла музыка. Какой-то дядька сидел на стуле с гармонью в руках. Он не играл, а только время от времени растягивал гармонь, она издавала надрывный, рыдающий стон и опять смолкала, а бойкая музыка слышалась из другого места, со стойки. Празднично одетые дядьки в галстуках стояли перед стойкой и слушали музыку. За стойкой находился старичок продавец. Он спросил у Коростелева:
— Вы что хотели?
— Детский велосипед, — сказал Коростелев.
Старичок перегнулся через стойку и заглянул на Сережу.
— Трехколесный? — спросил он.
— На кой мне трехколесный… — ответил Сережа дрогнувшим от переживаний голосом.
— Варя! — крикнул старичок.
Никто не пришел на его зов, и он забыл о Сереже — ушел к дядькам и что-то там сделал, и бойкая музыка оборвалась, раздалась медленная и печальная. К великому беспокойству Сережи, и Коростелев словно забыл, зачем они сюда пришли: он тоже перешел к дядькам, и все они стояли неподвижно, глядя перед собой, не думая о Сереже и его трепетном ожидании… Сережа не выдержал и потянул Коростелева за пиджак. Коростелев очнулся и сказал, вздохнув:
— Великолепная пластинка!
— Он нам даст велисапед? — звонко спросил Сережа.
— Варя! — крикнул старичок.
Очевидно, от Вари зависело — будет у Сережи велосипед или не будет. И Варя пришла наконец, она вошла через низенькую дверку за стойкой, между полками, в руке у Вари был бублик, она жевала, и старичок велел ей принести из кладовой двухколесный велосипед. «Для молодого человека», сказал он. Сереже понравилось, что его так назвали.
Кладовая помещалась, несомненно, за тридевять земель, в тридесятом царстве, потому что Вари не было целую вечность. Пока она пропадала, тот дядька успел купить гармонь, а Коростелев купил патефон. Это ящик, в него вставляют круглую черную пластинку, она крутится и играет — веселое или грустное, какого захочется; этот-то ящик и играл на стойке. И много пластинок в бумажных мешках купил Коростелев, и две коробки каких-то иголок.
— Это для мамы, — сказал он Сереже. — Мы ей принесем подарок.
Дядьки с вниманием смотрели, как старичок заворачивает покупки. А тут явилась из тридесятого царства Варя и принесла велосипед. Настоящий велосипед со спицами, звонком, рулем, педалями, кожаным седлом и маленьким красным фонариком! И даже у него был сзади номер на железной дощечке черные цифры на желтой дощечке!
— Вы будете иметь вещь, — сказал старичок. — Крутите руль. Звоните в звонок. Жмите педали. Жмите, чего вы на них смотрите! Ну? Это вещь, а не что-нибудь. Вы будете каждый день говорить мне спасибо.
Коростелев добросовестно крутил руль, звонил в звонок и давил на педали, а Сережа смотрел почти с испугом, приоткрыв рот, коротко дыша, едва веря, что все эти сокровища будут принадлежать ему.
Домой он ехал на велосипеде. То есть — сидел на кожаном седле, чувствуя его приятную упругость, держался неуверенными руками за руль и пытался овладеть ускользающими, непослушными педалями. Коростелев, согнувшись в три погибели, катил велосипед, не давая ему упасть. Красный и запыхавшийся, он довез таким образом Сережу до калитки и прислонил к лавочке.
— Теперь сам учись, — сказал он. — Запарил ты меня, брат, совсем.
И ушел в дом. А к Сереже подошли Женька, Лида и Шурик.
— Я уже немножко научился! — сказал им Сережа. — Отойдите, а то я вас задавлю!
Он попробовал отъехать от лавочки и свалился.
— Фу ты! — сказал он, выбираясь из-под велосипеда и смеясь, чтобы показать, что ничего особенного не случилось. — Не туда крутнул руль. Очень трудно попадать на педали.
— Ты разуйся, — посоветовал Женька. — Босиком лучше — пальцами цепляться можно. Дай-ка я попробую. А ну, подержите. — Он взобрался на сиденье. — Держите крепче.
Но хотя его держали трое, он тоже свалился, и с ним за компанию Сережа, державший усерднее всех.
— Теперь я, — сказала Лида.
— Нет, я! — сказал Шурик.
— Пылища чертова, — сказал Женька. — По ней разве научишься. Пошли в Васькин проулок.
Так они называли короткий непроезжий переулок-тупик, лежавший позади Васькиного сада. По другую сторону переулка находился дровяной склад, обнесенный высоким забором. Кудрявая, мягкая низенькая травка росла в этом тихом переулке, где так уютно было играть, удалясь от взрослых. И хотя тупым концом он упирался в тимохинский огород и две матери — Васькина и Шурикина — равноправно выплескивали из-за своих плетней помои на кудрявую травку, — но никто ведь не усомнится в том, что первый человек в этих местах — Васька, потому и переулок был назван Васькиным именем.
Туда повел велосипед Женька. Лида и Шурик ему помогали, споря по дороге, кто первый будет учиться кататься, а Сережа бежал сзади, хватаясь за колесо.
Женька, как старший, объявил, что первым будет он. За ним училась Лида, за Лидой Шурик. Потом Сереже дали поучиться, но очень скоро Женька сказал:
— Хватит! Слазь! Моя очередь!
Сереже страшно не хотелось слезать, он вцепился в велосипед руками и ногами и сказал:
— Я хочу еще! Это мой велисапед!
Но сейчас же Шурик его выругал, как и следовало ожидать:
— У, жадина!
А Лида добавила нарочно противным голосом:
— Жадина-говядина!
Быть жадиной-говядиной очень стыдно, Сережа молча слез и отошел. Он удалился к тимохинскому плетню и, стоя к ребятам спиной, заплакал. Он плакал потому, что ему было обидно, потому, что он не умел постоять за себя, потому, что ничего на свете ему сейчас не нужно, кроме велосипеда, а они, грубые и сильные, этого не понимают!
Они не обращали на него внимания. Он слышал их громкие споры, звонки и железный лязг падающего велосипеда. Его никто не позвал, не сказал: «Теперь ты». Они катались уже по третьему разу! А он стоял и плакал. Как вдруг за своим плетнем появился Васька.
Появился, голый по пояс, в слишком длинных — на вырост — штанах, подпоясанных ремешком, в кепке козырьком назад, — подавляющая, сильная личность! Какую-нибудь минутку смотрел он через плетень и все понял.
— Эй! — крикнул он. — Вы чего делаете? Велисапед кому купили — ему или вам? Иди давай, Сергей!
Он перескочил через плетень и взялся за руль властной рукой. Женька, Лида и Шурик смиренно отступили. Сережа приблизился, локтем утирая слезы. Лида пискнула было:
— Две жадины!
— А ты — паразитка, — ответил Васька. И еще сказал про Лиду нехорошие слова. — Не могла обождать, пока маленький научится. — И велел Сереже: Садись.
Сережа сел и долго учился. И все ребята помогали ему, кроме Лиды, она сидела на траве, плела венок из одуванчиков и делала вид, что ей гораздо веселее, чем тем, кто ездит на велосипеде. Потом Васька сказал:
— Теперь я, — и Сережа с удовольствием уступил ему место, он все готов был сделать для Васьки. Потом Сережа катался уже сам, без помощи, и почти не падал, только велосипед вилял во все стороны, и Сережа нечаянно попал ногой в колесо, и четыре спицы вывалились, но ничего, велосипед все равно ездил. Потом Сереже стало жалко ребят, он сказал:
— И они пускай. Будем все по разу.
Тетя Паша вышла во двор и услышала на улице Сережин плач. Отворилась калитка, гуськом вошли ребята. Впереди шел Сережа, он нес велосипедный руль, Васька нес раму, Женька — два колеса, на каждом плече по колесу, Лида — звонок, а сзади семенил Шурик с пучком велосипедных спиц.
— Господи ты боже мой! — сказала тетя Паша.
Шурик сказал басом:
— Это он сам. Он ногой в колесо попал.
Вышел Коростелев и удивился.
— Ловко вы его, — сказал он.
Сережа горько плакал.
— Не горюй, починим, — пообещал Коростелев. — Отдадим в мастерскую будет как новый.
Сережа только рукой махнул и ушел плакать в тети-Пашину комнату: это Коростелев просто так говорит, чтобы утешить; разве можно из этих обломков сделать прежний прекрасный велосипед? Тот, что ехал и звонил, и сверкал спицами на солнце? Невозможно, невозможно! Все пропало, все! — Сережа убивался целый день, не радовал его и патефон, который для него специально заводил Коростелев. «Загудели, заиграли провода! Мы такого не видали никогда!» — на всю улицу бешено веселился ящик с пластинкой, а Сережа слушал и не слышал, думал о своем, безотрадно качая головой.
…Но что вы думаете — велосипед действительно починили, Коростелев не надул! Его починили слесари в совхозе «Ясный берег». Только чтоб большие ребята на нем не катались, сказали слесари, а то он опять развалится. Васька и Женька послушались, катались с тех пор Сережа да Шурик, да Лида каталась потихоньку от взрослых, но Лида худая и не очень тяжелая, пусть уж ее.
Сережа здорово научился ездить, научился даже съезжать с горки, бросив руль и сложив руки на груди, как — видел он — делал один ученый велосипедист. Но почему-то уже не было у Сережи того счастья обладанья, того восторга взахлеб, как в первые блаженные часы…
А там и надоел ему велосипед. Стоял в кухне со своим красным фонариком и серебряным звонком, красивый и исправный, а Сережа пешком отправлялся по делам, равнодушный к его красоте: надоело, и все, что ж тут сделаешь.
КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ КОРОСТЕЛЕВЫМ И ДРУГИМИ
Сколько ненужных слов у взрослых! Вот, например: пил Сережа чай и пролил, тетя Паша говорит:
— Экий неаккуратный! Не настачишься на тебя скатертей! Не маленький уж, кажется!
Тут все слова ненужные, по Сережиному мнению. Во-первых, он их слышал уже сто раз. А во-вторых, и без них понимает, что виноват: как пролил, так сразу понял и огорчился. Ему стыдно и хочется одного — чтобы она поскорей убрала скатерть, пока другие не видели. Но она говорит еще и еще:
— Никогда ты не подумаешь, что кто-то эту скатерть стирал, крахмалил, гладил, старался…
— Я не нарочно, — объясняет ей Сережа. — У меня чашка из пальцев выскочила.
— Скатерть старенькая, — не унимается тетя Паша, — а я ее штопала, целый вечер сидела, сколько труда вложила.
Как будто если скатерть новая, то можно ее обливать.
В заключение тетя Паша говорит возмущенно:
— Еще бы ты это нарочно сделал! Этого не хватало!
То же самое говорится, если Сережа разобьет что-нибудь. А когда они сами бьют стаканы и тарелки, то как будто так и надо.
Или как, например, мама заботится, чтобы он говорил «пожалуйста», а это слово даже и не значит ничего.
— Оно обозначает просьбу, — сказала мама. — Ты у меня просишь карандаш, и в знак того, что это просьба, ты добавляешь: пожалуйста.
— А ты не поняла, — спросил Сережа, — что я у тебя попросил карандаш?
— Поняла, но без «пожалуйста» — это невежливо, невоспитанно. На что это похоже — «дай карандаш»! А если ты скажешь: «Дай карандаш, пожалуйста», — это вежливо, и я с удовольствием дам.
— А если не скажу — без удовольствия дашь?
— Совсем не дам! — сказала мама.
Хорошо, пожалуйста. Сережа говорит им «пожалуйста» — при всех своих странностях они сильны и властвуют над детьми, они могут дать или не дать Сереже карандаш, как им вздумается.
Вот Коростелев не беспокоится о пустяках, даже внимания не обращает сказал Сережа «пожалуйста» или не сказал.
И если Сережа занят в своем уголке и ему нельзя, чтобы его отрывали, — Коростелев никогда не разрушит его игру, не скажет что-нибудь глупое, вроде: «А ну, иди, я тебя поцелую!» — как Лукьяныч говорит, придя с работы. Поцеловав Сережу своей жесткой бородкой, Лукьяныч дает ему шоколадку или яблоко. Спасибо, но зачем же, скажите пожалуйста, непременно целоваться и отрывать человека от игры, игра важнее яблока, яблоко Сережа и потом бы съел.
В дом ходят разные люди — по большей части к Коростелеву. Чаще всех бывает дядя Толя. Он молодой и красивый, у него длинные черные ресницы, белые зубы и застенчивая улыбка. Сережа питает к нему почтение и интерес, потому что дядя Толя умеет сочинять стихи. Его уговаривают прочитать новый стишок, он сперва стесняется и отказывается, потом встает, отходит в сторонку и читает наизусть. Про что он не насочинял стихов: и про войну, и про мир, и про колхозы, и про фашистов, и про весну, и про какую-то женщину с синими глазами, которую он все ждет, все ждет и никак не может дождаться. Великолепные стихи! Совершенно такие же певучие и гладкие, как в книжках. Перед чтением дядя Толя откашливается и откидывает рукой свои черные волосы, а читает громко, глядя на потолок. Все его хвалят, и мама наливает ему чаю. За чаем разговаривают о коровьих болезнях: дядя Толя в совхозе «Ясный берег» лечит коров.
Но не все приходящие в дом такие занимательные и приятные. Дяди Пети, например, Сережа сторонится: у него лицо противное, а голова бледно-розовая и голая, как целлулоидный мячик. И смех противный: «гы-гы-гы-гы!» Однажды, сидя на террасе с мамой — Коростелева не было, дядя Петя подозвал Сережу и дал ему конфету, большую и редкую — «Мишка косолапый». Сережа вежливо сказал: «Спасибо», развернул бумажку, а в ней ничего — пустышка. Сереже стало совестно — за себя, что поверил, и за дядю Петю, что тот обманул. Сережа увидел, что и маме совестно, она тоже поверила…
— Гы-гы-гы-гы! — засмеялся дядя Петя.
Сережа сказал не сердито, с сожалением:
— Дядя Петя, ты дурак.
Он был уверен, что мама с ним согласна. Но она воскликнула:
— Это что такое! Извинись сейчас же!
Сережа посмотрел на нее удивленно.
— Ты слышал, что я сказала? — спросила мама.
Он молчал. Она взяла его за руку и увела в дом.
— Не смей и подходить ко мне, — сказала она. — Не хочу с тобой разговаривать, раз ты такой грубиян.
Она постояла, ожидая, что он раскается и попросит прощенья. Он сжал губы и отвел глаза, ставшие грустными и холодными. Он не чувствовал себя виноватым: в чем же он должен просить прощенья? Он сказал то, что подумал.
Она ушла. Он побрел к себе и занялся игрушками, бессознательно стараясь отвлечься от случившегося. Его тоненькие пальцы дрожали; перебирая фигуры, вырезанные из старых карт, он нечаянно оторвал черной даме одну голову… Почему мама заступилась за глупого дядю Петю? Вон она с ним разговаривает и смеется как ни в чем не бывало, а с Сережей не хочет разговаривать…
Вечером он слышал, как она рассказывала о происшествии Коростелеву.
— Ну и правильно, — сказал Коростелев. — Это называется справедливая критика.
— Разве можно допустить, — возразила мама, — чтобы ребенок критиковал взрослых? Если дети примутся нас критиковать — как мы их будем воспитывать? Ребенок должен уважать взрослых.
— Да за что ему, помилуй, уважать этого олуха! — сказал Коростелев.
— Обязан уважать. У него даже мысль не должна возникнуть, что взрослый может быть олухом. Пусть сначала дорастет до этого самого Петра Ильича, а потом уж его критикует.
— По-моему, — сказал Коростелев, — он давно умственно перерос Петра Ильича. И ни по какой педагогике нельзя взыскивать с парня за то, что он дурака назвал дураком.
Про критику и педагогику Сережа не понял, а про дурака понял и почувствовал к Коростелеву благодарность за эти слова.
Хороший человек Коростелев, странно подумать, что прежде он жил отдельно от Сережи, с бабушкой Настей и прабабушкой, и только изредка приходил в гости.
Он берет Сережу с собой на речку купаться и учит плавать. Мама боится, что Сережа утонет, а Коростелев смеется. Он снял с Сережиной кровати боковую сетку. Мама боялась, что Сережа упадет и расшибется, но Коростелев сказал:
— А вдруг поездом придется ехать? На верхней полке? Пусть привыкает по-взрослому.
Теперь Сереже не надо перелезать через сетку по утрам и вечерам. Раздевается он, сев на край постели. И спит по-взрослому.
Один раз, говорят, он свалился с кровати. Это было ночью; они услышали, как он упал, и положили его обратно, а утром рассказали ему, что с ним было. Он ничего не помнил и не ушибся нигде. А если не ушибся и не помнишь, то это не в счет.
А вот как-то он упал во дворе, ссадил колени в кровь и пришел домой плача. Тетя Паша заахала и побежала за бинтом. Коростелев сказал:
— Что ты, брат. Сейчас пройдет. А на войну пойдешь, и ранят, как же ты тогда?..
— А тебя когда ранили, — спросил Сережа, — ты не плакал?
— Как же бы я плакал: надо мной бы товарищи смеялись. Мы — мужчины, такое уж наше дело.
Сережа перестал плакать и сказал: «ха, ха, ха!» — чтобы доказать свою мужскую сущность. И когда тетя Паша приступила к нему с бинтом, он сказал бесшабашно:
— Завязывай, не бойся! Мне не больно!
Коростелев рассказал ему про войну. С тех пор, сидя с ним рядом за столом, Сережа испытывал гордость: если будет война, кто пойдет воевать? Мы с Коростелевым. Такое уж наше дело. А мама, тетя Паша и Лукьяныч останутся тут ждать, пока мы победим, такое уж ихнее дело.
ЖЕНЬКА
Женька — сирота, живет с теткой и сестрой. Сестра ему не родная теткина дочка. Днем она на работе, а вечером гладит. Она свои платья гладит. Все возится во дворе с большим утюгом, который разогревается угольками. То она дует в утюг, то плюет на него, то наденет на него самоварную трубу. А волосы у нее накручены сардельками на железные штучки.
Выгладив себе платье, она наряжается, распускает волосы и уходит в Дом культуры танцевать. А на другой вечер опять хлопочет с утюгом во дворе.
Тетка тоже работает. Она жалуется, что она и уборщица, и «кульер», а платят ей только как уборщице, а по штату «кульер» полагается особо. Она подолгу стоит с ведрами на углу, у водопроводного крана, и рассказывает женщинам, как она отбрила своего заведующего и какое на него написала заявление.
На Женьку тетка сердится, что он много ест и ничего не делает в доме.
А ему не хочется делать. Он встает утром, поест что ему оставили и идет к ребятам.
Весь день он на улице или у соседей. Тетя Паша его кормит, когда он заходит. Перед тем как тетке вернуться с работы, Женька идет домой и садится за уроки. Ему на лето задана целая куча уроков, потому что он отстающий: во втором классе учился два года, в третьем два года и в четвертом тоже остался на второй год. Когда он пошел в школу, Васька был еще маленький, а теперь Васька его догнал, несмотря на то что тоже сидел два года в третьем классе.
А по росту и по силе Васька даже обогнал Женьку…
Сначала учителя за Женьку волновались, вызывали тетку и сами к ней ходили, а она им говорила:
— Навязалось мне счастье на голову, делайте с ним что хотите, а у меня возможности нет, он меня объел всю, если хотите знать.
А женщинам жаловалась:
— Устройте ему, говорят, для занятий уголок. Ему не уголок, а плетку бы хорошую, только потому и жалею, что от покойной сестры.
Потом учителя перестали ходить. И даже хвалили Женьку: очень, говорили, дисциплинированный мальчик; другие на уроках шумят, а он сидит тихо, — одно жалко, что редко ходит в школу и ничего не знает.
Они ставили Женьке пятерки за поведение. И еще по пению у него пятерка. А по остальным предметам двойки и единицы.
Перед теткой Женька делает вид, что занимается, чтобы она на него меньше кричала. Она приходит, а он сидит за кухонным столом, где наставлена грязная посуда и валяются тряпки, — сидит и пишет цифры, решая задачу.
— Ты что же, василиск, — начинает тетка, — опять ни воды не принес, ни, за керосином не сходил, ничего? Я с тобой что же, век буду мучиться, рахитик?
— Я занимался, — отвечает Женька.
Тетка кричит — он, укоризненно вздохнув, кладет перо и берет бидон для керосина.
— Ты надо мной смеешься или что?! — кричит тетка не своим голосом. Ты же знаешь, лукавый, что лавка уже закрыта!!
— Ну, закрыта, — соглашается Женька. — Чего же вы ругаетесь?
— Иди, дрова коли!!! — кричит тетка с такой надсадой, что кажется сию минуту у нее разорвется горло. — Иди, чтоб я тебя без дров тут не видела!!!
Она хватает с лавки ведра и, воинственно размахивая ими, с криком мчится по воду, а Женька не спеша уходит в сарай колоть дрова.
Тетка говорит неправду, будто он ленивый. Ничего подобного. Тетя Паша его о чем-нибудь попросит или ребята — он с удовольствием сделает. Его похвалят — он рад и старается сделать как можно лучше. Он как-то вместе с Васькой целый метр дров наколол и сложил.
И что он неспособный, тоже неправда. Сереже подарили железный конструктор, так Женька с Шуриком такой сделали семафор, что с улицы Калинина ребята приходили смотреть: с красным и зеленым огоньками был семафор. Шурик в этом деле сильно помог, он в машинах здорово понимает, потому что у него папа — шофер Тимохин, но Шурик не додумался, что можно взять из Сережиных елочных украшений цветные лампочки и приспособить к семафору, а Женька додумался.
Из Сережиного пластилина Женька лепит человечков и зверей — ничего, похоже. Сережина мама увидела и купила ему тоже пластилин. Но тетка раскричалась, что не разрешит Женьке заниматься глупостями, и выбросила пластилин в уборную.
От Васьки Женька научился курить. Папирос купить ему не на что, он курит Васькины, и когда найдет окурок на улице, то поднимает и курит. Сережа, жалея Женьку, тоже подбирает с земли окурки и отдает ему.
Перед младшими Женька не задается, как Васька, — охотно играет с ними во что угодно: в войну так в войну, в милиционеров так в милиционеров, в лото так в лото. Но, как старший, он хочет быть генералом или начальником милиции. А когда играют в лото с картинками и он выигрывает, он рад, а если не выигрывает, то обижается.
Лицо у него доброе, с большими губами, большие уши торчат, а на шее сзади косички, потому что стрижется он редко.
Как-то пошли Васька с Женькой в рощу и Сережу взяли. В роще разожгли костер, чтобы испечь картошку. Они с собой принесли картошек, соли и зеленого луку. Костер горел вяло, дымя горьким дымом. Васька сказал Женьке:
— Поговорим про твое будущее.
Женька сидел, подняв колени к подбородку и охватив их, узкие штаны его вздернулись, открывая тощие ноги. Не отрываясь глядел он на плотные дымовые струйки, сизые и желтые, вытекающие из костра.
— Школу, как ни думай, кончать придется, — продолжал Васька таким тоном, словно он был круглый отличник и старше Женьки по крайней мере на пять классов. — Без образования — кому ты нужен?
— Это-то ясно, — согласился Женька. — Без образования я никому не нужен.
Он взял ветку и разгреб костер, чтобы тот горел веселей. Сырые сучья шипели, из них текла слюна, разгоралось медленно. Вокруг полянки, на которой сидели ребята, пышно росли береза, осина и ольха. В играх ребята воображали эти заросли дремучим лесом. Весной там много ландышей, а летом много комаров. Сейчас комары отступили, потревоженные дымом, но отдельные храбрецы и сквозь дым налетали и кусались, и тогда ребята звонко шлепали себя по ногам и щекам.
— А тетку поставь на место, и все, — посоветовал Васька.
— Попробуй! — возразил Женька. — Попробуй, поставь ее на место!
— Или не обращай внимания.
— Да я и не обращаю. Просто она мне надоела. Просто, ты же видишь, в печенки въелась.
— А Люська ничего?
— Люська ничего. Люська — что, она замуж устроится.
— За кого?
— Ну, за кого-нибудь. У нее план — за офицера, да тут офицеров нету. Она, может быть, поедет куда-нибудь, где есть офицеры.
Костер разгорелся: огонь одолел влагу и охватил груду сучьев и листвы, прыгая озорными острыми язычками. Что-то в нем выстрелило, как из пистолета. Дыма больше не было.
— Сбегай, — велел Васька Сереже, — поищи сухого — подбросить.
Сережа побежал исполнять поручение. Когда он вернулся, говорил Женька, а Васька слушал со вниманием и деловито.
— Как бог буду жить! — говорил Женька. — Ты подумай: вечером придешь в общежитие — постель у тебя, тумбочка… Ляжь и слушай радио или играй в шашки, никто не орет над ухом… Лектора к тебе ходят, артисты… И поужинать дадут в восемь часов…
— Да, — сказал Васька, — культурно. А тебя примут?
— Я подам заявление. Почему ж не примут. Наверно, примут.
— Ты с какого года?
— Я с тридцать третьего года. Мне на той неделе четырнадцать было.
— Тетка не возражает?
— Она не возражает, только она боится, что если я уеду, то я ей потом не буду помогать.
— А ну ее, — сказал Васька и прибавил нехорошие слова.
— Да я все равно, наверно, уеду, — сказал Женька.
— Ты, главное, прими решение и действуй, — сказал Васька. — А то «наверно» да «наверно», а учебный год начнется, и пойдет твоя волынка опять сначала.
— Да, я, наверно, приму решение, — сказал Женька, — и буду действовать. Я, Вася, знаешь, часто об этом мечтаю. Как вспомню, что уже скоро первое сентября, — так мне нехорошо, так нехорошо…
— Еще бы! — сказал Васька.
Они беседовали о Женькиных планах, пока пеклась картошка. Потом поели, обжигая пальцы и с хрустом разгрызая толстый трубчатый лук, и легли отдыхать. Солнце спускалось, стволы берез стали розовыми, на маленькой полянке, где посредине в сером пепле еще таились невидимые искры, лежала тень. Сереже товарищи велели отгонять комаров. Он сидел и добросовестно махал веткой над спящими, а сам думал: неужели Женька, когда станет рабочим, будет отдавать деньги тетке, которая только кричит на него, — это несправедливо! Впрочем, скоро и он заснул, пристроившись между Васькой и Женькой. Ему приснились офицеры и с ними Люська, Женькина сестра.
Женька не был решительным человеком, он больше любил мечтать, чем действовать, но первое сентября близилось, в школе закончили ремонт, школьники уже ходили туда за тетрадками и учебниками, Лида хвалилась новым форменным платьем, вплотную подходил школьный год со всеми его неприятностями, и Женька принял решение. Если не в ремесленное, то в ФЗО, может быть, возьмут, сказал он. В общем, он решился уезжать.
Многие одобряли его и старались ему помочь. Школа написала характеристику, Коростелев и мама дали Женьке денег, и даже тетка испекла ему на дорогу коржики.
В утро его отъезда тетка попрощалась с ним без криков и попросила не забывать, сколько она для него сделала. Он сказал: «Хорошо, тетя». И добавил: «Спасибо». После этого она ушла в свою контору, а он стал собираться.
Тетка ему подарила деревянный чемодан, выкрашенный зеленой краской. Она долго колебалась, ей жалко было чемодана, но все-таки подарила, сказав: «С мясом от себя отрываю». В этот чемодан Женька уложил рубашку, пару рваных носков, застиранное полотенце и коржики. Ребята смотрели, как он укладывается. Сережа вдруг сорвался с места и выбежал. Он вернулся запыхавшись, в руках у него был семафор с лампочками — зеленой и красной; он так нравился всем, семафор, что его не разобрали, он стоял на столике, и его показывали гостям.
— Возьми! — сказал Сережа Женьке. — Возьми с собой, мне не надо, он просто так стоит!
— А чего я с ним там буду делать, — сказал Женька, посмотрев на семафор. — И без него килограмм пятнадцать тянуть.
Тогда Сережа опять умчался и примчался с коробкой.
— Ну, это возьми! — сказал он взволнованно. — Ты там будешь лепить. Он легкий.
Женька взял коробку и открыл. В ней были куски пластилина. На Женькином лице мелькнуло удовольствие.
— Ладно, — сказал он, — возьму. И положил коробку в чемодан.
Тимохин обещал отвезти Женьку на станцию: до станции тридцать километров, железная дорога к городу еще не построена… Но как раз накануне тимохинская машина забастовала, мотор отказал, его ремонтируют, а Тимохин спит, сказал Шурик.
— Наплевать, — сказал Васька. — Доедешь.
— На автобусе можно, — сказал Сережа.
— Ловкий ты! — возразил Шурик. — На автобусе платить надо.
— Выйду на шоссе и проголосую, — сказал Женька, — кто-нибудь, наверно, довезет.
Васька подарил ему пачку папирос. А спичек у него не было, спички Женька взял теткины. Все они вышли из теткиного дома. Женька навесил на дверь замок и положил ключ под крыльцо. Пошли. Чемодан был тяжелый как черт — не оттого, что в нем лежало, а сам по себе; Женька нес его то в одной руке, то в другой. Васька нес Женькино пальто, а Лида маленького Виктора. Она несла его, выпятив живот, и часто встряхивала, говоря: «Ну, ты! Сиди! Чего тебе надо!»
Было ветрено. Вышли за город, на шоссе — там пыль крутилась столбами, запорашивая глаза. Под ветром серая трава и выцветшие васильки у края шоссе, дрожа, припадали к земле. Как будто совсем безмятежные облака, круглые и белые, стояли в ярко-синем небе, не грозя ничем, но пониже быстро приближалась черная туча, вихрясь лохматыми лапами, и казалось, что это от нее рвется ветер и веет по временам сквозь пыль что-то острое, свежее и облегчает грудь… Ребята остановились, поставили чемодан и стали ждать машины. Как назло, машины все шли со станции в город. Наконец показался грузовик с другой стороны. Он был высоко нагружен ящиками, но возле шофера никого не было. Ребята подняли руки. Шофер поглядел и проехал. Потом, в клубах пыли, показался черный «газик», почти пустой, кроме шофера в нем был всего один человек, но и он проехал не остановившись.
— Вот дьявол! — выругался Шурик.
— А вы чего голосуете! — сказал Васька. — Я вам проголосую! Они же думают — всю роту надо везти! Пускай Женька один голосует! Вон еще какой-то друндулет.
Ребята повиновались, и когда друндулет с ними поравнялся, никто не поднял руку, кроме Женьки и Васьки: Васька нарушил собственный приказ большие мальчики всегда позволяют себе то, что они запрещают младшим…
Друндулет проскочил вперед и остановился, Женька побежал к нему с чемоданом, а Васька с пальто. Щелкнула дверца, Женька исчез в машине, а за Женькой исчез Васька. Потом все заслонило облако газа и пыли; когда оно улеглось, на шоссе не было ни Васьки, ни Женьки, и уже далеко виднелся удаляющийся друндулет. Хитрюга Васька, никого не предупредил, не намекнул даже, что поедет провожать Женьку на станцию.
Остальные ребята пошли домой. Ветер дул в спину, толкал вперед и хлестал Сережу по лицу его длинными волосами.
— Она ему никогда ничего не пошила, — сказала Лида. — Он обноски носил.
— У нее заведующий сволочь, — сказал Шурик. — Не хочет платить ей как кульеру. А она имеет право.
А Сережа шел, подгоняемый ветром, и думал — какой счастливый Женька, что поедет на поезде, Сережа еще ни разу не ездил на поезде… День почернел и вдруг озарился мигающей яростной вспышкой, гром бабахнул как из пушки над головами, и сейчас же бешено хлынул ливень… Ребята побежали, скользя в мгновенно образовавшейся грязи, ливень сек их и пригибал вниз, молнии прыгали по всему небу, и сквозь грохот и раскаты грозы был слышен плач маленького Виктора…
Так уехал Женька. Через сколько-то времени от него пришло два письма: одно Ваське, другое тетке. Васька никому ничего не рассказал, сделал вид, что в письме заключены невесть какие мужские тайны. Тетка же не секретничала и всем сообщала, что Женю, слава богу, приняли в ремесленное. Живет в общежитии. Выдали ему казенное обмундирование. «Пристроила-таки его, — говорила тетка, — в люди выйдет, а через кого, через меня».
Женька не был ни коноводом, ни затейником, ребята скоро привыкли к тому, что его нет. Вспоминая о нем, они радовались, что ему хорошо, у него есть тумбочка и к нему ходят артисты. А если играли в войну, то генералами были теперь, по очереди, Шурик и Сережа.
ПОХОРОНЫ ПРАБАБУШКИ
Прабабушка заболела, ее отвезли в больницу. Два дня все говорили, что надо бы съездить проведать, а на третий день, когда дома были только Сережа да тетя Паша, пришла бабушка Настя. Она была еще прямей и суровей, чем всегда, а в руке держала свою черную сумку с застежкой-молнией. Поздоровавшись, бабушка Настя села и сказала:
— Мама-то моя. Померли.
Тетя Паша перекрестилась и ответила:
— Царствие небесное!
Бабушка Настя достала из сумки сливу и дала Сереже.
— Понесла передачку, а они говорят — два часа, как померла. Ешь, Сережа, они мытые. Хорошие сливы. Мама любили: положат в чай, распарят и кушают. Нате вам все. — И она стала выкладывать сливы на стол.
— Да зачем, себе оставьте, — сказала тетя Паша.
Бабушка Настя заплакала:
— Не надо мне. Для мамы покупала.
— Сколько им было? — спросила тетя Паша.
— Восемьдесят третий пошел. Живут люди и дольше. До девяноста, смотришь, живут.
— Выпейте молочка, — сказала тетя Паша. — Холодненькое, с погреба. Кушать надо, что поделаешь.
— Налейте, — сказала бабушка Настя, сморкаясь, и стала пить молоко. Пила и говорила:
— Так их перед собой и вижу, так они мне и представляются. И какие они умные были, и сколько прочитали книг, удивительно… Пустой мой дом теперь. Я квартирантов пущу.
— Ах-ах-ах! — вздыхала тетя Паша.
Сережа, набрав полные руки слив, вышел во двор, под горячее нежное солнце, и задумался. Если дом бабушки Насти теперь пустой — значит, умерла прабабушка: они ведь вдвоем жили; она, значит, была бабушки-Настиной мамой. И Сережа подумал, что когда он пойдет в гости к бабушке Насте, то уже никто там не будет придираться и делать замечания.
Смерть он видел. Видел мышку, которую убил кот Зайка, а перед этим мышка бегала по полу, и Зайка играл с нею, и вдруг он бросился и отскочил, и мышка перестала бегать, и Зайка съел ее, лениво встряхивая сытой мордой… Видел Сережа мертвого котенка, похожего на обрывок грязного меха, мертвых бабочек с разорванными, прозрачными, без пыльцы, крылышками, мертвых рыбешек, выброшенных на берег, мертвую курицу, которая лежала в кухне на лавке: шея у нее была длинная, как у гуся, и в шее черная дырка, а из дырки в подставленный таз капала кровь. Ни тетя Паша, ни мама не могли зарезать курицу, они поручали это Лукьянычу. Он запирался с курицей в сарае, курица кричала, а Сережа убегал, чтобы не слышать ее криков, и потом, проходя через кухню, с отвращением и невольным любопытством взглядывал искоса, как капает кровь из черной дырки в таз. Его учили, что теперь уже больше не надо жалеть курицу, тетя Паша ощипывала ее своими полными проворными руками и говорила успокоительно:
— Она уже ничего не чувствует.
Одного мертвого воробья Сережа потрогал. Воробей оказался таким холодным, что Сережа со страхом отдернул руку. Он был холодный, как льдинка, бедный воробей, лежавший ножками вверх под кустом сирени, теплой от солнца.
Неподвижность и холод — это, очевидно, и называется смерть.
Лида сказала про воробья:
— Давай его хоронить!
Она принесла коробочку, выстлала ее внутри лоскутком материи, из другого лоскутка сложила подушечку и убрала кружевом: многое умела Лида, надо ей отдать справедливость. Сереже она велела выкопать ямку. Они отнесли коробочку с воробьем к ямке, закрыли крышкой и засыпали землей. Лида руками выровняла маленький холмик и воткнула веточку.
— Вот как мы его похоронили! — похвалилась она. — Он и не мечтал!
Васька и Женька отказались участвовать в этой игре, сидели поодаль и, покуривая, наблюдали хмуро, но не насмехались.
Люди тоже иногда умирают. Их кладут в длинные ящики — гробы — и несут по улицам. Сережа это видел издали. Но мертвого человека он не видел.
…Тетя Паша наполнила глубокую тарелку вареным рисом, белым и рассыпчатым, а по краям тарелки разложила красные мармеладки. Посредине, поверх риса, она сделала из мармеладок не то цветок, не то звезду.
— Это звезда? — спросил Сережа.
— Это крест, — ответила тетя Паша. — Мы с тобой пойдем прабабушку хоронить.
Она вымыла Сереже лицо, руки и ноги, надела на него носки, туфли, матросский костюм и матросскую шапку с лентами — очень много вещей! Сама тоже хорошо оделась — в черный кружевной шарф. Тарелку с рисом завязала в белую салфетку. Еще она несла букет, и Сереже дала нести цветы, два георгина на толстых ветках.
Васькина мать шла с коромыслом по воду. Сережа сказал ей:
— Здравствуйте! Мы идем хоронить прабабушку!
Лида стояла у своих ворот с маленьким Виктором на руках, Сережа и ей крикнул: «Я иду хоронить прабабушку!» — и она проводила его взглядом, полным зависти. Он знал, что ей тоже хочется пойти, но она не решается, потому что он так парадно одет, а она в грязном платье и босиком. Он пожалел ее и, обернувшись, позвал:
— Пойдем с нами! Ничего!
Но она очень гордая, она не пошла и ничего не сказала, только смотрела ему вслед, пока он не свернул за угол.
Одну улицу прошли, другую. Было жарко. Сережа устал нести два тяжелых цветка и сказал тете Паше:
— Понеси лучше ты.
Она понесла. А он стал спотыкаться: идет и спотыкается на ровном месте.
— Ты что все спотыкаешься? — спросила тетя Паша.
— Потому что мне жарко, — ответил он. — Сними с меня это. Я хочу идти в одних штанах.
— Не выдумывай, — сказала тетя Паша. — Кто это тебя пустит на похороны в одних штанах. Вот сейчас дойдем до остановки и сядем в автобус.
Сережа обрадовался и бодрее пошел по бесконечной улице, вдоль бесконечных заборов, из-за которых свешивались деревья.
Навстречу, пыля, шли коровы. Тетя Паша сказала:
— Держись за меня.
— Я хочу пить, — сказал Сережа.
— Не выдумывай, — сказала тетя Паша. — Ничего ты не хочешь пить.
Это она ошиблась: ему в самом деле хотелось пить. Но когда она так сказала, ему стало хотеться меньше.
Коровы прошли, медленно качая серьезными мордами. У каждой вымя было полно молока.
На площади Сережа с тетей Пашей сели в автобус, на детские места. Сереже редко приходилось ездить в автобусе, он это развлечение ценил. Стоя на скамье коленями, он смотрел в окно и оглядывался на соседа. Сосед был толстый мальчишка, меньше Сережи, он сосал леденцового петуха на деревянной палочке. Щеки у соседа были замусолены леденцом. Он тоже смотрел на Сережу, взгляд его выражал вот что: «А у тебя леденцового петуха нет, ага!» Подошла кондукторша.
— За мальчика надо платить? — спросила тетя Паша.
— Примерься, мальчик, — сказала кондукторша.
Там у них нарисована черная черта, по которой меряют детей: кто дорос до черты, за тех надо платить. Сережа стал под чертой и немножко приподнялся на цыпочках. Кондукторша сказала:
— Платите.
Сережа победно посмотрел на мальчишку: «А на меня зато билет берут, сказал он ему мысленно, — а на тебя не берут, ага!» Но окончательная победа осталась за мальчишкой, потому что он поехал дальше, когда Сереже и тете Паше уже пришлось выходить.
Они оказались перед белыми каменными воротами. За воротами длинные белые дома, обсаженные молодыми деревцами, стволы деревцев тоже побелены мелом. Люди в синих халатах гуляли и сидели на лавочках.
— Это мы где? — спросил Сережа.
— В больнице, — ответила тетя Паша.
Пришли к самому последнему дому, завернули за угол, и Сережа увидел Коростелева, маму, Лукьяныча и бабушку Настю. Все стояли у широкой открытой двери. Еще были три чужие старухи в платочках.
— Мы приехали на автобусе! — сказал Сережа.
Никто не ответил, а тетя Паша шикнула на него, и он понял, что разговаривать почему-то нельзя. Сами они разговаривали, но тихо. Мама сказала тете Паше:
— Зачем вы его привели, не понимаю!
Коростелев стоял, держа кепку в опущенной руке, лицо у него было кроткое и задумчивое. Сережа заглянул в дверь — тут были ступеньки, спуск в подвал, из подвального сумрака дохнуло сырой прохладой… Все медленно двинулись и стали спускаться по ступенькам, и Сережа за ними.
После дневного света в подвале сначала показалось темно. Потом Сережа увидел широкую лавку вдоль стены, белый потолок и щербатый цементный пол, а посредине высоко деревянный гроб с оборочкой из марли. Было холодно, пахло землей и еще чем-то. Бабушка Настя большими шагами подошла к гробу и склонилась над ним.
— Что это, — тихо сказала тетя Паша. — Как руки положены. Господи ты боже мой. Навытяжку.
— Они неверующие были, — сказала бабушка Настя, выпрямившись.
— Мало ли чего, — сказала тетя Паша. — Она не солдат, чтобы так появляться перед господом. — И обратилась к старухам: — Как же вы недоглядели!
Старухи завздыхали… Сереже снизу ничего не было видно. Он влез на лавку и, вытянув шею, сверху посмотрел в гроб…
Он думал, что в гробу прабабушка. Но там лежало что-то непонятное. Оно напоминало прабабушку: такой же запавший рот и костлявый подбородок, торчащий вверх. Но оно было не прабабушка. Оно было неизвестно что. У человека не бывает так закрытых глаз. Даже когда человек спит, глаза у него закрыты иначе…
Оно было длинное-длинное. А прабабушка была коротенькая. Оно было плотно окружено холодом, мраком и тишиной, в которой боязливо шептались стоящие у гроба. Сереже стало страшно. Но если бы оно вдруг ожило, это было бы еще страшней. Если бы оно, например, сделало: «хрр…» При мысли об этом Сережа вскрикнул.
Он вскрикнул, и, словно услышав этот крик, сверху, с солнца, близко и весело отозвался живой резкий звук, звук автомобильной сирены… Мама схватила Сережу и вынесла из подвала. У двери стоял грузовик с откинутым бортом. Ходили дядьки и покуривали. В кабине сидела тетя Тося, шофер, что тогда привезла коростелевское имущество, она работает в «Ясном береге» и иногда заезжает за Коростелевым. Мама усадила Сережу к ней, сказала: «Сиди-ка тут!» — и закрыла кабину. Тетя Тося спросила:
— Прабабушку проводить пришел? Ты ее, что же, любил?
— Нет, — откровенно ответил Сережа. — Не любил.
— Зачем же ты тогда пришел? — сказала тетя Тося. — Если не любил, то на это смотреть не надо.
Свет и голоса отогнали ужас, но сразу отделаться от пережитого впечатления Сережа не мог, он беспокойно ерзал, озирался, думал и спросил:
— Что значит — являться перед господом?
Тетя Тося усмехнулась:
— Это просто так говорится.
— Почему говорится?
— Старые люди говорят. Ты не слушай. Это глупости.
Посидели молча. Тетя Тося сказала загадочно, щуря зеленые глаза:
— Все там будем.
«Где — там?» — подумал Сережа. Но уточнять это дело у него не было охоты, он не спросил. Увидев, что из подвала выносят гроб, он отвернулся. Было облегчение в том, что гроб закрыт крышкой. Но очень неприятно, что его поставили на грузовик.
На кладбище гроб сняли и унесли. Сережа с тетей Тосей не вылезли из кабины, сидели запершись. Кругом были кресты и деревянные вышки с красными звездами. По растрескавшемуся от сухости ближнему холму ползали рыжие муравьи. На других холмах рос бурьян… «Неужели про кладбище она говорила, — подумал Сережа, — что все будем там?..» Те, что уходили, вернулись без гроба. Грузовик поехал.
— Ее засыпали землей? — спросил Сережа.
— Засыпали, детка, засыпали, — сказала тетя Тося.
Когда приехали домой, оказалось, что тетя Паша осталась на кладбище со старухами.
— Надо же Пашеньке пристроить свою кутью, — сказал Лукьяныч. Варила, трудилась…
Бабушка Настя сказала, снимая платок и поправляя волосы:
— Ругаться с ними, что ли? Пусть покадят, если им без этого нельзя.
Опять они говорили громко и даже улыбались.
— У нашей тети Паши миллион предрассудков, — сказала мама.
Они сели есть. Сережа не мог. Ему противна была еда. Тихий, всматривался он в лица взрослых. Старался не вспоминать, но оно вспоминалось да вспоминалось — длинное, ужасное в холоде и запахе земли.
— Почему, — спросил он, — она сказала — все там будем?
Взрослые замолчали и повернулись к нему.
— Кто тебе сказал? — спросил Коростелев.
— Тетя Тося.
— Не слушай ты тетю Тосю, — сказал Коростелев. — Охота тебе всех слушать.
— Мы, что ли, все умрем?
Они смутились так, будто он спросил что-то неприличное. А он смотрел и ждал ответа.
Коростелев ответил:
— Нет. Мы не умрем. Тетя Тося как себе хочет, а мы не умрем, и в частности ты, я тебе гарантирую.
— Никогда не умру? — спросил Сережа.
— Никогда! — твердо и торжественно пообещал Коростелев.
И Сереже сразу стало легко и прекрасно. От счастья он покраснел покраснел пунцово — и стал смеяться. Он вдруг ощутил нестерпимую жажду: ведь ему еще когда хотелось пить, а он забыл. И он выпил много воды, пил и стонал наслаждаясь. Ни малейшего сомнения не было у него в том, что Коростелев сказал правду: как бы он жил, зная, что умрет? И мог ли не поверить тому, кто сказал: ты не умрешь!
МОГУЩЕСТВО КОРОСТЕЛЕВА
Разрыли землю, поставили столб, протянули провод. Провод сворачивает в Сережин двор и уходит в стену дома. В столовой на столике, рядом с семафором, стоит черный телефон. Это первый и единственный телефон на Дальней улице, и принадлежит он Коростелеву. Ради Коростелева рыли землю, ставили столб, натягивали провод. Другие, потому что, могут без телефона, а Коростелев не может.
Снимешь трубку и послушаешь — невидимая женщина говорит: «Станция». Коростелев приказывает командирским голосом: «Ясный берег!» Или: «Райком партии!» Или: «Область дайте, трест совхозов!» Сидит, качая длинной ногой, и разговаривает в трубку. И никто в это время не должен его отвлекать, даже мама.
А то зальется телефон дробным серебряным звоном. Сережа мчится, хватает трубку и кричит:
— Я слушаю!
Голос в трубке велит позвать Коростелева. Скольким людям требуется Коростелев! Лукьянычу и маме звонят редко. А Сереже и тете Паше никогда никто не звонит.
Рано утром Коростелев отправляется в «Ясный берег». Днем тетя Тося иногда завозит его домой пообедать. А чаще не завозит, мама звонит в «Ясный берег», а ей говорят, что Коростелев на ферме и будет не скоро.
«Ясный берег» ужасно большой. Сережа и не думал, что он такой большой, пока не поехал однажды с Коростелевым и тетей Тосей на «газике» по коростелевским делам. Уж они ездили, ездили! Громадные просторы бросались навстречу «газику» и распахивались по обе стороны — громадные просторы осенних лугов с высокими-высокими стогами, уходящими к краю земли в бледно-лиловую дымку, желтого жнивья и черной бархатной пахоты, кое-где тонко разлинованной ярко-зелеными линиями всходов. Лились и скрещивались, как серые ленты, бесконечные дороги, по ним бежали грузовики, тракторы тащили прицепы с четырехугольными шапками сена. Сережа спрашивал:
— А теперь это что?
И всё ему отвечали:
— «Ясный берег».
Затерянные в просторах, далеко друг от друга стоят три фермы: три нагромождения построек, при одной ферме толстенная силосная башня, при другой сараи с машинами. В мастерской шипит сверло и жужжит паяльная лампа. В черной глубине кузницы летят огненные искры, стучит молот… И отовсюду выходят люди, здороваются с Коростелевым, а он все осматривает, расспрашивает, дает распоряжения, потом садится в «газик» и едет дальше. Понятно, почему он вечно спешит в «Ясный берег», — как они будут знать, что им делать, если он не приедет и не скажет?
На фермах очень много животных: свиней, овец, кур, гусей, — но больше всего коров. Пока было тепло, коровы жили на воле, на пастбище, до сих пор там навесы, под которыми они ночевали в плохую погоду. Сейчас коровы на скотных дворах. Стоят смирно рядышком, прикованные цепями за рога к деревянной балке, и едят из длинной кормушки, обмахиваясь хвостами. Ведут они себя не очень-то прилично: все время за ними убирают навоз. Сереже совестно было смотреть, как бесстыдно ведут себя коровы; за руку с Коростелевым он проходил по мокрым мосткам вдоль скотного двора, не поднимая глаз. Коростелев не обращал внимания на неприличие, хлопал коров по пестрым спинам и распоряжался.
Одна женщина с ним чего-то заспорила, он оборвал спор, сказав:
— Ну-ну. Делайте давайте.
И женщина умолкла и пошла делать что он велел.
На другую женщину, в такой же синей шапке с помпоном, как у мамы, он кричал:
— Кто же за это отвечает, в конце концов, неужели даже за такую ерунду я должен отвечать?!
Она стояла перед ним расстроенная и повторяла:
— Как я упустила из виду, как я не сообразила, сама не понимаю!
Откуда-то взялся Лукьяныч с бумажкой в руках, дал Коростелеву вечное перо и сказал: «Подпишите». Коростелев еще не докричал и ответил: «Ладно, потом». Лукьяныч сказал:
— Что значит потом, мне же не дадут без вашей подписи, а людям зарплату надо получать.
Вот как, если Коростелев не подпишет бумажку, то они и зарплаты не получат!
А когда Сережа и Коростелев шли, пробираясь между навозными лужами, к ожидавшему их «газику», дорогу преградил молодой парень, одетый роскошно в низеньких резиновых сапогах и в кожаной курточке с блестящими пуговицами.
— Дмитрий Корнеевич, — сказал он, — что же мне теперь предпринимать, они площади не дают, Дмитрий Корнеевич!
— А ты считал, — спросил Коростелев отрывисто, — тебе там коттедж приготовлен?
— У меня крах личной жизни, — сказал парень. — Дмитрий Корнеевич, отмените приказ!
— Раньше думать надо было, — сказал Коростелев еще отрывистее. Голова есть на плечах? Думал бы головой.
— Дмитрий Корнеевич, я вас прошу как человек человека, поняли вы? Не имею опыта, Дмитрий Корнеевич, не вник в эти взаимоотношения.
— А левачить — вник? — спросил Коростелев, потемнев лицом. — Бросать доверенный участок и дезертировать налево — есть опыт?..
Он хотел идти.
— Дмитрий Корнеевич! — не отцеплялся парень. — Дмитрий Корнеевич! Проявите чуткость! Дайте возможность загладить! Я признаю ошибку! Допустите стать на работу, Дмитрий Корнеевич!
— Но учти!.. — грозно обернулся Коростелев. — Если еще хоть раз!..
— Да на что они мне сдались, Дмитрий Корнеевич! Они только койку обещают и то в перспективе… Я на них плевал, Дмитрий Корнеевич!
— Эгоист собачий, — сказал Коростелев, — индивидуалист, сукин сын! В последний раз — иди работай, черт с тобой!
— Есть идти работать! — проворно отозвался парень и пошел прочь, подмигивая девушке в платочке, которая стояла поодаль.
— Не для тебя отменяю, для Тани! Ей спасибо скажи, что тебя полюбила! — крикнул Коростелев и тоже подмигнул девушке, уходя. А девушка и парень смотрели на него, взявшись за руки и скаля белые зубы…
Вот какой Коростелев: захоти он — парню и Тане было бы плохо.
Но он этого не захотел, потому что он не только всемогущий, но и добрый. Он сделал так, что они рады и смеются.
Как Сереже не гордиться, что у него такой Коростелев?
Ясно, что Коростелев умнее всех и лучше всех, раз его поставили надо всеми.
ЯВЛЕНИЯ НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
Летом звезд не увидишь. Когда бы Сережа ни проснулся, когда бы ни лег — на дворе светло. Если даже тучи и дождь, все равно светло, потому что за тучами солнце. В чистом небе иногда можно заметить, кроме солнца, прозрачное бесцветное пятнышко, похожее на осколок стекла. Это месяц, дневной, ненужный, он висит и тает в солнечном сиянье, тает и исчезает уже расстаял, одно солнце царит на синей громаде неба.
Зимой дни короткие, темнеет рано, задолго до ужина Дальнюю улицу, с ее тихими снежными садами и белыми крышами, обступают звезды. Их тыща, а может, и миллион. Есть крупные, и есть мелкие. И мельчайший звездный песок, слитый в светящиеся молочные пятна. Большие звезды переливают голубыми, белыми, золотыми огнями; у звезды Сириус лучи как реснички; а посреди неба звезды, мелкие и крупные, и звездный песок — все сбито вместе в морозно-сверкающий плотный туман, в причудливо-неровную полосу, переброшенную через улицу, как мост, — этот мост называется Млечный Путь.
Прежде Сережа не обращал внимания на звезды, они его не интересовали. Потому что он не знал, что у них есть названия. Но мама показала ему Млечный Путь. И Сириус. И Большую Медведицу. И красный Марс. У каждой звезды есть название, сказала мама, даже у такой, которая не больше песчинки. Да они только издали кажутся песчинками, они большущие, сказала мама. На Марсе, очень может быть, живут люди.
Сережа хотел знать все названия, но мама не помнила; она знала, да забыла. Зато она показала ему горы на луне.
Чуть не каждый день идет снег. Люди расчистят дорожки, натопчут, наследят, а он опять пойдет и все завалит высокими пуховыми подушками. Белые колпаки на столбиках заборов. Толстые белые гусеницы на ветвях. Круглые снежки в развилках ветвей.
Сережа играет на снегу, строит и воюет, катается на санках. Малиново гаснет день за дровяным складом. Вечер. Волоча санки за веревку, Сережа идет домой. Остановится, закинет голову и с удовольствием посмотрит на знакомые звезды. Большая Медведица вылезла чуть не на середину неба, нахально раскинув хвост. Марс подмигивает красным глазом.
«Если этот Марс такой здоровенный, что на нем, очень может быть, живут люди, — думается Сереже, — то, очень может быть, там сейчас стоит такой же мальчик, с такими же санками, очень может быть — его тоже зовут Сережей…» Мысль поражает его, хочется с кем-нибудь ею поделиться, но не с каждым поделишься — не поймут, чего доброго; они часто не понимают; будут шутить, а шутки в таких случаях для Сережи тяжелы и оскорбительны. Он поделился с Коростелевым, улучив время, когда никого поблизости не было, — Коростелев не насмехается. И в этот раз не насмехался, а, подумав, сказал:
— Ну что ж, возможно.
И потом почему-то взял Сережу за плечи и заглянул ему в глаза внимательно и немножко боязливо.
…Вернешься вечером, наигравшись и озябнув, домой, а там печки натоплены, пышут жаром. Греешься, хлюпая носом, пока тетя Паша раскладывает на лежанке твои штаны и валенки — сушить. Потом садишься со всеми в кухне у стола, пьешь горячее молоко, слушаешь ихние разговоры и думаешь о том, как пойдешь завтра с товарищами на осаду ледяной крепости, которую сегодня построили… Очень хорошая вещь зима.
Хорошая вещь зима, но чересчур долгая: надоедает тяжелая одежа и студеные ветры, хочется выбежать из дому в трусах и сандалиях, купаться в речке, валяться по траве, удить рыбу, — не беда, что ни черта не поймаешь, зато весело в компании собираться, копать червей, сидеть с удочкой, кричать: «Шурик, у тебя, по-моему, клюет!»
Фу ты, опять метель, а вчера уже таяло! До чего надоела противная зима!
…По окнам бегут кривые слезы, на улице вместо снега — густое черное месиво с протоптанными стежками: весна! Речка тронулась. Сережа с ребятами ходил смотреть, как идет лед. Сперва он шел большими грязными кусками. Потом пошла какая-то серая ледяная каша. Потом речка разлилась. На том берегу ивы затонули по пояс. Все было голубое, вода и небо; серые и белые облака плыли по небу и по воде.
…И когда же, и когда же — Сережа прозевал — поднялись за Дальней улицей такие высокие, такие непроходимые хлеба? Когда заколосилась рожь, когда зацвела, когда отцвела? Сережа не заметил, занятый своей жизнью, а она уже налилась, зреет, пышно шумит над головой, когда идешь по дороге. Птицы вывели птенцов, сенокосилки пошли на луга — скашивать цветы, от которых было так пестро на том берегу. У детей каникулы, лето в разгаре, про снег и звезды думать забыл Сережа…
Коростелев подзывает его и ставит между своими коленями.
— Давай-ка обсудим один вопрос, — говорит. — Как ты считаешь, кого бы нам еще завести — мальчика или девочку?
— Мальчика! — сейчас же отвечает Сережа.
— Тут ведь вот какое дело: безусловно, два мальчика лучше, чем один, но, с другой стороны, мальчик у нас уже есть, так, может быть, девочку теперь, а?
— Ну, как хочешь, — без особенной охоты соглашается Сережа. — Можно и девочку. С мальчиком мне лучше играть, знаешь.
— Ты ее будешь защищать и беречь, как старший брат. Будешь смотреть, чтоб мальчишки не дергали ее за косички.
— Девчонки тоже дергают, — замечает Сережа. — Еще как. — Он мог бы рассказать, как его самого Лида дернула недавно за волосы, но он не любит ябедничать. — Еще так дернет, что мальчишки орут.
— Так наша же будет крохотная, — говорит Коростелев. — Она не будет дергать.
— Нет, знаешь, давай все-таки мальчика, — говорит Сережа, поразмыслив. — Мальчик лучше.
— Думаешь?
— Мальчики не дразнятся. А эти только и знают — дразниться.
— Да?.. Гм. Об этом стоит подумать. Мы еще с тобой посовещаемся, ладно?
— Ладно, посовещаемся.
Мама слушает улыбаясь, она сидит тут же за шитьем. Она себе сшила широкий-преширокий капот — Сережа удивился, зачем такой широкий; впрочем, она сильно потолстела. А сейчас у нее в руках что-то маленькое, она это маленькое обшивает кружевом.
— Что ты шьешь? — спрашивает Сережа.
— Чепчик, — отвечает мама. — Для мальчика или для девочки, кого вы там решите завести.
— У него, что ли, такая будет голова? — спрашивает Сережа, взыскательно разглядывая игрушечный предмет. (Ну, знаете! Если на такой голове хорошенько дернуть волосы, то можно и голову оторвать!)
— Сначала такая, — отвечает мама, — потом вырастет. Ты же видишь, как растет Виктор. А сам ты как растешь! И он будет так же расти.
Она надевает чепчик себе на руку и смотрит на него, лицо у нее довольное, ясное. Коростелев осторожно целует ее в лоб, в то место, где начинаются ее мягкие блестящие волосы…
Они затеяли это всерьез — с мальчиком или девочкой, купили кроватку и стеганое одеяло. А купаться мальчик или девочка будет в Сережиной ванне. Ванна Сереже тесна, он давно уже не может, сидя в ней, вытянуть ноги, но для человека с такой головой, которая влезет в такой чепчик, ванна будет в самый раз.
Откуда берутся дети, известно: их покупают в больнице. Больница торгует детьми, одна женщина купила сразу двух. Зачем-то она взяла совершенно одинаковых, — говорят, она их различает по родинке, у одного родинка на шее, у другого нет. Непонятно, зачем ей одинаковые. Купила бы лучше разных.
Но что-то Коростелев и мама оттягивают дело, начатое всерьез: кроватка стоит, а нет ни мальчика, ни девочки.
— Почему ты никого не покупаешь? — спрашивает Сережа у мамы.
Мама смеется — ой до чего она стала толстая:
— Как раз сейчас нет в продаже. Обещали, что скоро будут.
Это бывает: нужно что-нибудь, а в продаже как раз и нет. Что ж, можно подождать, Сереже не так уж к спеху.
Медленно растут маленькие дети, что бы мама ни говорила. Именно на примере Виктора видать. Давненько Виктор живет на свете, а ему всего год и шесть месяцев. Когда еще он будет в состоянии играть с большими детьми. И новый мальчик или девочка сможет играть с Сережей в таком отдаленном будущем, о котором, собственно говоря, не стоит и загадывать. До тех пор придется его, или ее, беречь и защищать. Это благородное занятие, Сережа понимает, что благородное, но вовсе не привлекательное, как представляется Коростелеву. Трудно Лиде воспитывать Виктора: изволь таскать его, забавлять и наказывать. Недавно отец и мать ходили на свадьбу, а Лида сидела дома и плакала. Не будь Виктора, ее бы тоже взяли на свадьбу. А из-за него живи как в тюрьме, сказала она.
Но — уж ладно: Сережа согласен помочь Коростелеву и маме. Пусть себе спокойно уходят на работу, пусть тетя Паша варит и жарит, Сережа, так и быть, присмотрит за беспомощным созданьем с кукольной головой, которому без присмотра просто пропадать. И кашей его покормит, и спать уложит. Они с Лидой будут друг к другу ходить и носить детей: вдвоем присматривать легче — пока те спят, можно и поиграть.
Однажды утром он встал — ему сообщили, что мама уехала в больницу за ребеночком.
Как ни был он подготовлен, сердце екнуло: все-таки большое событие…
Он ждал маму обратно с часу на час: стоял за калиткой, ожидая, что вот-вот она появится на углу с мальчиком или девочкой, и он помчится им навстречу… Тетя Паша позвала его:
— Коростелев тебя кличет к телефону.
Он побежал в дом, схватил черную трубку, лежавшую на столике.
— Я слушаю! — крикнул он. Голос Коростелева, смеющийся и праздничный, сказал:
— Сережа! У тебя брат! Слышишь? Брат! Голубоглазый! Весит четыре кило, здорово, а? Ты доволен?
— Да!.. Да!.. — растерянно и с расстановкой прокричал Сережа. Трубка умолкла. Тетя Паша сказала, вытирая глаза фартуком:
— Голубоглазый — в папу, значит. Ну, слава тебе, господи! В добрый час!
— Они скоро придут? — спросил Сережа. И удивился и огорчился, узнав, что не скоро, дней через семь, а то и больше, — а почему, потому что ребеночек должен привыкнуть к маме, в больнице его к ней приучат.
Коростелев каждый день бывал в больнице. К маме его не пускали, но она ему писала записки. Наш мальчик очень красивый. И необыкновенно умный. Она окончательно выбрала ему имя — Алексей, а звать будем Леней. Ей там тоскливо и скучно, она рвется домой. И всех обнимает и целует, особенно Сережу.
…Семь дней, а то и больше, прошли. Коростелев сказал Сереже, уходя из дому:
— Жди меня, сегодня поедем за мамой и Леней.
Он вернулся на «газике» с тетей Тосей и с букетом цветов. Они поехали в ту самую больницу, где умерла прабабушка. Подошли к первому от ворот дому, и вдруг их окликнула мама:
— Митя! Сережа!
Она смотрела из открытого окна и махала рукой. Сережа крикнул: «Мама!» Она еще раз махнула и отошла от окна. Коростелев сказал, что она сейчас выйдет. Но она вышла не скоро — уж они и по дорожке ходили, и заглядывали в визгливую, на пружине, дверь, и сидели на скамейке под прозрачным молодым деревцом почти без тени. Коростелев стал беспокоиться, он говорил, что цветы завянут, пока она придет. Тетя Тося, оставив машину за воротами, присоединилась к ним и уговаривала Коростелева, что это всегда так долго.
Наконец завизжала дверь и появилась мама с голубым свертком в руках. Они кинулись к ней, она сказала:
— Осторожно, осторожно!
Коростелев отдал ей букет, а сам взял сверток, отвернул кружевной уголок и показал Сереже крошечное личико, темно-красное и важное, с закрытыми глазами: Леня, брат… Один глаз приоткрылся, что-то мутно-синее выглянуло в щелочку, личико скривилось. Коростелев сказал расслабленно: «Ах, ты-ы…» — и поцеловал его.
— Что ты, Митя! — сказала мама строго.
— Нельзя разве? — спросил Коростелев.
— Он любой инфекции подвержен, — сказала мама. — Тут к ним подходят в марлевых масках. Прошу тебя, Митя.
— Ну, не буду, не буду! — сказал Коростелев.
Дома Леню положили на мамину кровать, развернули, и Сережа увидел его целиком. С чего мама взяла, что он красивый? Живот у него был раздут, а ручки и ножки неимоверно, нечеловечески тоненькие и ничтожные и двигались без всякого смысла. Шеи совсем не было. Ни по чему нельзя было отгадать, что он умный. Он разинул пустой, с голыми деснами, ротик и стал кричать странным жалостным криком, слабым и назойливым, однообразно и без устали.
— Маленький ты мой! — утешала его мама. — Ты кушать хочешь! Тебе время кушать! Кушать хочет мой мальчик! Ну сейчас, ну сейчас!
Она говорила громко, двигалась быстро и была совсем не толстая похудела в больнице. Коростелев и тетя Паша старались ей помочь и со всех ног бросались выполнять ее распоряжения.
Пеленки у Лени были мокрые. Мама завернула его в сухие, села с ним на стул, расстегнула платье, вынула грудь и приложила к Лениному рту. Леня вскрикнул в последний раз, схватил грудь губами и стал сосать, давясь от жадности.
«Фу какой!..» — подумал Сережа.
Коростелев угадал его мысли. Он сказал потихоньку:
— Ему девятый день, понимаешь? Девятый день, всех и делов, что с него спросишь, верно?
— Угу, — смущенно согласился Сережа.
— Впоследствии будет парень что надо. Увидишь.
Сережа подумал: когда это будет! И как за ним присматривать, когда он… как кисель — даже мама за него берется с опаской.
Наевшись, Леня спал на маминой кровати. Взрослые в столовой разговаривали о нем.
— Няню надо, — сказала тетя Паша. — Не управлюсь я.
— Никого не нужно, — сказала мама. — Пока каникулы, я сама буду с ним, а потом устроим в ясли, там настоящие няни и настоящий уход.
«А, это хорошо, пусть в ясли», — подумал Сережа, чувствуя облегчение. Лида всегда мечтала, чтоб Виктора отдали в ясли… Сережа влез на кровать и уселся рядом с Леней, намереваясь рассмотреть его как следует, пока он не орет и не морщится. Оказалось, у Лени есть ресницы, только очень короткие. Кожа темно-красного личика была нежная, бархатистая, Сережа дотронулся до нее пальцем, чтобы испытать на ощупь…
— Что ты делаешь! — воскликнула мама, входя.
От неожиданности он вздрогнул и отдернул руку…
— Слезь сейчас же! Разве можно его трогать грязными руками!
— У меня чистые, — сказал Сережа, испуганно слезая с кровати.
— И вообще, Сереженька, — сказала мама, — давай подальше от него, пока он маленький. Ты можешь толкнуть нечаянно… Мало ли что. И пожалуйста, не води сюда детей, а то еще заразят его какой-нибудь болезнью… Давай уйдем лучше! — ласково и повелительно закончила мама.
Сережа послушно вышел. Он был задумчив. Все это не так, как он ожидал… Мама завесила окошко шалью; чтобы свет не мешал Лене спать, вышла вслед за Сережей и тихо прикрыла дверь…
ВАСЬКА И ЕГО ДЯДЯ
У Васьки есть дядя. Лида, безусловно, сказала бы, что это вранье, никакого дяди нет, но ей приходится помалкивать: дядя есть; вот его карточка — на этажерке, между двумя вазами с маками из красных стружек. Дядя снят под пальмой, одет во все белое, и солнце светит таким слепым белым светом, что не рассмотреть ни лица, ни одежи. Хорошо вышла на карточке только пальма да две короткие черные тени, одна дядина, другая пальмина.
Лицо — не важно, но жалко, что не разобрать, во что одет дядя. Он не просто дядя, а капитан дальнего плавания. Интересно же — как одеваются капитаны дальнего плавания. Васька говорит, снимок сделан в городе Гонолулу на острове Оаху. Иногда от дяди приходят посылки. Васькина мать хвастает:
— Опять Костя прислал два отреза.
Она куски материи называет отрезами. Но бывают в посылках и драгоценные вещи. Например: бутылка со спиртом, а в ней крокодильчик, маленький, как рыбка, но настоящий; будет в спирту стоять хоть сто лет и не испортится. Понятно, что Васька задается: все, что есть у других ребят, — тьфу против крокодильчика.
Или пришла в посылке большая раковина: снаружи серая, а внутри розовая — розовые створки приоткрыты, как губы, — и если приложить ее к уху, то слышен тихий, как бы издалека, ровный гул. Когда Васька в хорошем настроении, он дает Сереже послушать. И Сережа стоит, прижав раковину к уху, с неподвижно раскрытыми глазами, и, притаив дыхание, слушает тихий незамирающий гул, идущий из глубины раковины. Что за гул? Откуда он там берется? Почему от него беспокойно — и хочется слушать да слушать?..
И этот дядя, необыкновенный, исключительный, — этот дядя после Гонолулу и всяких островов надумал приехать к Ваське погостить! Васька сообщил об этом, выйдя на улицу, сообщил небрежно, держа папиросу в углу рта и щуря от дыма глаз, сообщил так, будто в этом не было ничего выдающегося. А когда Шурик, после молчания, спросил басом: «Какой дядя? Капитан?» — Васька ответил:
— А какой же еще? У меня другого и нету.
Он сказал «у меня» с особенным выражением, чтоб было ясно: у вас могут быть другие дяди, не капитаны; у меня их быть не может. И все признали, что это на самом деле так.
— А он скоро приедет? — спросил Сережа.
— Через недельку, две, — ответил Васька. — Ну, я пошел мел покупать.
— Зачем тебе мел? — спросил Сережа.
— Мать потолки белить собралась.
Конечно, для такого дяди как не побелить потолки!
— Врет он, — сказала Лида, не выдержав. — Никто к ним не едет.
Сказала и поспешно отступила, боясь получить затрещину. Но Васька на этот раз не дал ей затрещины. Даже не сказал «дура» — просто удалился, помахивая плетеной сумкой, в которой лежал мешочек для мела. А Лида осталась на месте как оплеванная.
…Побелили потолки и наклеили новые обои. Васька мазал куски обоев клеем и подавал матери, а она наклеивала. Ребята заглядывали из сеней — в комнаты Васька не велел входить.
— Вы мне все тут перепутаете, — сказал он.
Потом Васькина мать вымыла пол и постлала половики. Они с Васькой ходили по половикам, на пол не ступали.
— Моряки обожают чистоту, — сказала Васькина мать.
Будильник перенесли в заднюю комнату, где будет спать дядя.
— Моряки все по часам делают, — сказала Васькина мать.
Дядю ждали с нетерпением. Если на Дальнюю сворачивала машина, все замирали — не дядя ли едет со станции. Но машина проезжала, а дяди не было, и Лида радовалась. У нее бывали свои какие-то радости, недоступные для других.
По вечерам, придя с работы и управившись по хозяйству, Васькина мать выходила за калитку похвалить соседкам своего брата, капитана. А ребята, держась в сторонке, слушали.
— Сейчас он на курорте, — рассказывала Васькина мать. — Поправляет свое здоровье. Сердце неважное. Путевку ему дали, конечно, в самый лучший санаторий. А после леченья заедет к нам.
— Как он пел когда-то! — говорила она дальше. — Как он исполнял в клубе «Куда, куда вы удалились» — лучше Козловского! Теперь, конечно, располнел, и одышка, и в семье бог знает что делается, не очень-то запоешь.
Она понижала голос и рассказывала что-то по секрету от ребят.
— И всё девочки, — говорила она. — Одна блондинка, другая брюнетка, третья рыженькая. На Костю только старшая похожа. А он плавает и переживает. Везет ей на девочек. Девочек хоть десятеро будь, их легче воспитать, чем одного мальчишку.
Соседки оглядывались на Ваську.
— Пусть, как брат, посоветует что-нибудь, — продолжала Васькина мать. — Вынесет свою мужскую резолюцию. Я уже ненормальная стала.
— С мальчишками намучаешься, — вздыхала Женькина тетка, — пока поставишь на ноги.
— Смотря какие мальчишки, — возражала тетя Паша. — Наш, например, страшно нежный.
— Это пока он маленький, — отвечала Васькина мать. — Маленькие они все нежные. А подрастет — и тоже начнет себя выявлять.
Дядя-капитан приехал ночью — утром ребята заглянули в Васькин сад, а там дядя стоит на дорожке, весь в снежно-белом, как на карточке, белый китель, белые брюки со складкой, белые туфли, на кителе золото; стоит, заложив руки за спину, и говорит мягким, немножко в нос, чуть-чуть задыхающимся голосом:
— До чего же пре-лестно! Какая благодать! После тропиков отдыхаешь душой. Как ты счастлива, Поля, что живешь в таком дивном месте.
Васькина мать говорит:
— Да, у нас ничего.
— Ах, скворечник! — томно вскрикнул дядя. — Скворечник на березе! Поля, ты помнишь нашу хрестоматию, там точно такая была картинка — береза со скворечником!
— Скворечник Вася повесил, — сказала Васькина мать.
— Пре-лестный мальчик! — сказал дядя.
Васька был тут же, умытый и скромный, без кепки, причесанный, как на Первое мая.
— Идем завтракать, — сказала Васькина мать.
— Я хочу дышать этим воздухом! — возразил дядя. Но Васькина мать увела его. Он взошел на крыльцо, большой, как белая башня с золотом, и скрылся в доме. Он был толстый и прекрасный, с добрым лицом, с двойным подбородком. Лицо было загорелое, а лоб белый, ровной чертой белизна отделялась от загара… А Васька подошел к забору, между палками которого смотрели, прижавшись, Сережа и Шурик.
— Ну, — спросил он милостиво, — чего вам, малыши?
Но они только сопели.
— Он мне часы привез, — сказал Васька. Да, на левой руке у него были часы, настоящие часы с ремешком! Подняв руку, он послушал, как они тикают, и покрутил винтик…
— А нам можно к тебе? — спросил Сережа.
— Ну, зайдите, — разрешил Васька. — Только чтоб тихо. А когда он ляжет отдыхать и когда родственники прядут, то геть без разговоров. У нас будет семейный совет.
— Какой семейный совет? — спросил Сережа.
— Будут совещаться, чего со мной делать, — объяснил Васька.
Он ушел в дом, и ребята вошли туда, безмолвные, и стали у порога.
Дядя-капитан намазал маслом ломтик хлеба, вставил в рюмку вареное яйцо, разбил его ложечкой, осторожно снял верхушку скорлупы и посолил. Соль он взял из солонки на самый кончик ножа. Чего-то ему не хватало, он озирался, его светлые брови изобразили страдание. Наконец он спросил своим нежным голосом, деликатно:
— Поля, извини, нельзя ли салфетку?
Васькина мать заметалась и дала ему чистое полотенце. Он поблагодарил, положил полотенце на колени и стал есть. Он откусывал маленькие кусочки хлеба, и почти совсем не было заметно, как он жует и глотает. А Васька насупился, на его лице выразились разные чувства: ему было неприятно, что у них в доме не нашлось салфетки, и в то же время он гордился своим воспитанным дядей, который без салфетки не может позавтракать.
Много разной еды наставила Васькина мать на стол. И дядя всего взял понемножку, но со стороны казалось, будто он не ест ничего, и Васькина мать стонала:
— Ты не кушаешь! Тебе не нравится!
— Все так вкусно, — сказал дядя, — но у меня режим, не сердись, Поля.
От водки он отказался, говоря:
— Нельзя. Раз в день рюмочку коньяку, — он грациозно показал двумя пальцами, какую маленькую рюмочку, — перед обедом, способствует расширению сосудов, это все, что я могу.
После завтрака он предложил Ваське погулять и надел фуражку, тоже белую с золотом.
— Вы — по домам, — сказал Васька Сереже и Шурику.
— Ах, возьмем их! — сказал дядя в нос. — Прелестные малыши! Очаровательные братья!
— Мы не братья, — басом сказал Шурик.
— Они не братья, — подтвердил Васька.
— Неужели? — удивился дядя. — А я думал — братья. Чем-то похожи: один беленький, другой черненький… Ну, не братья — все равно, пошли гулять!
Лида видела, как они вышли на улицу. Она было побежала, чтобы догнать их. Но Васька взглянул на нее через плечо, она повернулась и побежала, припрыгивая, в другую сторону.
Гуляли в роще — дядя восхищался деревьями. Гуляли по полям — он восхищался колосьями. По правде сказать, надоели его восторги: рассказал бы, как там на море и островах. Но, несмотря на это, он был хорош — больно было смотреть, как сверкают на солнце его нашивки. Он шел с Васькой, а Сережа и Шурик то держались позади, то забегали вперед, чтобы полюбоваться на дядю с лица. Вышли к речке. Дядя посмотрел на часы и сказал, что хорошо бы выкупаться. Васька тоже посмотрел на свои часы и сказал, что выкупаться можно. И они стали раздеваться на нагретом чистом песке.
Сережа с Шуриком огорчились, что у дяди под кителем не полосатая тельняшка, а обыкновенная белая сорочка. Но вот, вскинув руки, он через голову стащил сорочку, и они окаменели…
Все дядино тело, от шеи до трусиков, все это обширное, ровно загорелое, в жирных складках тело было покрыто густыми голубыми узорами. Дядя поднялся во весь рост, и ребята увидели, что это не узоры, а картины и надписи. На груди была изображена русалка, у нее был рыбий хвост и длинные волосы, с левого плеча к ней сползал осьминог с извивающимися щупальцами и страшными человечьими глазами, русалка протягивала руки в его сторону, отвернув лицо, умоляя не хватать ее, — наглядная и жуткая картина! На правом плече была длинная надпись, во много строчек, и на правой руке тоже — можно сказать, что справа дядя был исписан сплошь. На левой руке выше локтя два голубя целовались клювами, над ними были венок и корона, ниже локтя — репа, проткнутая стрелой, и внизу написано большими буквами: «Муся».
— Здорово! — сказал Шурик Сереже.
— Здорово! — вздохнул Сережа.
Дядя вошел в речку, окунулся, вынырнул с мокрыми волосами и счастливым лицом, фыркнул и поплыл против течения. Ребята — за ним, очарованные.
Как плавал дядя! Играючи двигался он в воде, играючи держала она его огромное тело. Доплыв до моста, он повернул, лег на спину и поплыл вниз, еле заметно правя кончиками ног. И под водой, как живая, шевелилась на его груди русалка.
Потом дядя лежал на берегу, животом на песке, закрыв глаза и блаженно улыбаясь, а они разглядывали его спину, где были череп и кости, как на трансформаторной будке, и месяц, и звезды, и женщина в длинном платье, с завязанными глазами, сидящая, раздвинув колени, на облаках. Шурик набрался храбрости и спросил:
— Дядя, это у вас на спине чего?
Дядя засмеялся, поднялся и стал счищать с себя песок.
— Это мне на память, — сказал он, — о моей юности и некультурности. Видите, мои дорогие, когда-то я был до такой степени некультурным, что покрыл себя глупыми рисунками, и это, к сожалению, навеки.
— А чего на вас написано? — спросил Шурик.
— Разве важно, — сказал дядя, — какая ерунда на мне написана. Важны чувства человека и его поступки, ты как, Вася, считаешь?
— Правильно! — сказал Васька.
— А море? — спросил Сережа. — Какое оно?
— Море, — повторил дядя. — Море? Как тебе сказать. Море есть море. Прекрасней моря нет ничего. Это надо увидеть своими глазами.
— А когда шторм, — спросил Шурик, — страшно?
— Шторм — это прекрасно, — ответил дядя. — На море все прекрасно. Задумчиво качая головой, он прочитал стих:
Не все ли равно, сказал он, где? Еще спокойней лежать в воде.И стал надевать брюки.
После гулянья он отдыхал, а ребята собрались в Васькином переулке и обсуждали дядину татуировку.
— Это порохом делается, — сказал один мальчик с улицы Калинина. Наносится рисунок, потом натирают порохом. Я читал.
— А где ты порох возьмешь? — спросил другой мальчик.
— Где? В магазине.
— Продадут тебе в магазине. Папиросы до шестнадцати лет не продают, не то что порох.
— Можно у охотников достать.
— Дадут они тебе порох.
— А вот дадут.
— А вот не дадут.
Но третий мальчик сказал:
— Порохом в старину делали. Сейчас делают тушью или же чернилами.
— А нарвет, если чернилами? — спросил кто-то.
— Нарвет, еще как.
— Лучше тушью. От туши здоровей нарвет.
— От чернил тоже нарывает здорово.
Сережа слушал и представлял себе город Гонолулу на острове Оаху, где растут пальмы и до слепоты бело светит солнце. И под пальмами стоят и снимаются белоснежные капитаны в золотых нашивках. «И я так снимусь», думал Сережа. Подобно всем этим мальчикам, рассуждавшим о порохе и чернилах, он веровал без колебаний, что ему предстоит все на свете, что только бывает вообще, — в том числе предстояло капитанство и Гонолулу. Он веровал в это так же, как в то, что никогда не умрет. Все будет перепробовано, все изведано в жизни, не имеющей конца.
К вечеру он соскучился по Васькиному дяде: тот отдыхал да отдыхал он накануне в дороге не спал ночь. Васькина мать пробежала по улице на высоких каблуках и на бегу рассказала тете Паше, что идет за коньяком, Костя кроме коньяка ничего не пьет. Солнце спустилось. Пришли родственники. Зажгли электричество в доме. И ничего не было видно с улицы через занавески и герани. Сережа обрадовался, когда Шурик позвал его к себе на липу, сказав, что оттуда все видать.
— Он когда проснулся, то зарядку делал, — рассказывал Шурик, деловито семеня рядом с Сережей. — А когда побрился, то деколоном на себя брызгал через трубку. Они уже поужинали… Идем через проулок, а то Лидка увяжется.
Старая липа росла у Тимохиных в огороде, на задах, близко к плетню, отделяющему огород от Васькиного сада. Сразу за плетнем — стена Васькиного дома, но на плетень не влезешь, он гнилой, трещит и рассыпается… В липе дупло, одно лето в нем жили удоды, теперь Шурик хранил там вещи, которые лучше держать подальше от взрослых, — патронные гильзы и увеличительное стекло, при помощи этого стекла можно выжигать разные слова на заборах и скамейках.
Обдирая ноги о грубую, в трещинах, кору, ребята влезли на липу и устроились на суковатой корявой ветви — Шурик ухватясь за ствол, а Сережа за Шурика.
Они очутились в шелково-шуршащем, ласково-щекотном, свежо и горьковато дышащем лиственном шатре. Высоко над их головами шатер был золотисто озарен закатом, а чем ниже, тем гуще темнели сумерки. Веточка с черными листьями покачивалась перед Сережей, она не заслоняла внутренности Васькиного дома. Там горело электричество и сидел среди родственников дядя-капитан. И было слышно, что говорят.
Васькина мать говорила, размахивая руками:
— И выписывают квитанцию, что с гражданки Чумаченко Пе Пе взыскан штраф за хулиганство на улице в сумме двадцать пять рублей.
Одна родственница засмеялась.
— По-моему, нисколько не смешно, — сказала Васькина мать. — И обратно через два месяца вызывают в милицию и предъявляют протокол, и обратно отмечают в документе, что я уплатила пятьдесят рублей за разбитие витрины в кино.
— Ты расскажи, — сказала другая родственница, — как он с большими ребятами бился. Ты расскажи, как он папиросой ватное одеяло прожег, что чуть дом не сгорел.
— А деньги на папиросы у него откуда? — спросил дядя-капитан.
Васька сидел, опершись локтем о колено, щеку положив на ладонь, скромный, причесанный волосок к волоску.
— Негодяй, — сказал дядя своим мягким голосом, — я тебя спрашиваю где деньги берешь?
— Мать дает, — ответил Васька, насупясь.
— Извини, Поля, — сказал дядя, — я не понимаю.
Васькина мать зарыдала.
— Покажи-ка свой дневник, — велел дядя Ваське.
Васька встал и принес дневник. Дядя, сощурясь, полистал и сказал нежно:
— Мерзавец. Скотина.
Швырнул дневник на стол, вынул платок и стал обмахиваться.
— Да, — сказал он. — Печально. Если хочешь ему пользы, обя-за-на держать его в ежовых рукавицах. Вот моя Нина… Прелестно воспитала девочек! Дисциплинированные, на рояле учатся… Почему? Потому что она их держит в ежовых рукавицах.
— С девочками легче! — хором сказали родственники. — Девочки не то что мальчики!
— Учти, Костя, — сказала та родственница, что наябедничала про одеяло, — когда она ему денег не дает, он берет у ней из сумочки без спроса.
Васькина мать зарыдала пуще.
— У кого же мне брать, — спросил Васька, — у чужих, да?
— Вон отсюда! — в нос крикнул дядя и встал…
— Драть будет, — шепнул Шурик Сереже… Раздался треск, ветка, на которой они сидели, с стремительным шуршаньем ринулась вниз, с нею ринулся Сережа, увлекая Шурика.
— Не вздумай мне реветь! — сказал Шурик, лежа на земле.
Они поднялись, растирая ушибленные места. Через плетень глянул Васька, все понял и сказал:
— Вот я вам дам шпиёнить!
За Васькой в оконном свете выросла белая фигура, поблескивающая золотом, и томно сказала:
— Дай сюда папиросы, болван.
Сережа и Шурик, хромая, уходили по огороду и, оглядываясь, видели, как Васька подал дяде пачку папирос и дядя ее тут же изорвал, изломал, искрошил, потом взял Ваську сзади за воротник и повел в дом…
Наутро на доме висел замок. Лида сказала, что все чем свет уехали к родственникам в колхоз Чкалова. Целый день их не было. А еще на другое утро Васькина мать, всхлипывая, опять навесила замок и в слезах пошла на работу: Васька в эту ночь уехал с дядей — насовсем; дядя забрал его с собой, чтобы перевоспитать и отдать в Нахимовское училище. Вот какое счастье привалило Ваське за то, что он брал у матери деньги из сумочки и разбил витрину в кино.
— Это родственники постарались, — говорила Васькина мать тете Паше. В таком виде обрисовали его Косте, что получился готовый уголовник. А разве он плохой мальчик, он — помните — целый метр дров наколол и сложил. И обои со мной клеил. И как он теперь без меня…
Она принималась рыдать.
— Им безразлично, поскольку не их ребенок, — рыдала она, — а у него что ни осень, то чирии на шее, кому это там интересно…
Она не могла видеть ни одного мальчишки в кепке козырьком назад начинала плакать. А Сережу и Шурика как-то позвала к себе, рассказывала им про Ваську, как он был маленьким, и показала фотографии, которые подарил ей ее брат, капитан. Там были виды приморских городов, банановые рощи, древние постройки, моряки на палубе, люди на слоне, катер, разрезающий волны, черная танцовщица с браслетами на ногах, черные губастые ребята с курчавыми волосами — все незнакомое, обо всем надо спрашивать, как называется, — и почти на всех снимках было море, простор без края, сливающийся с небом; живая, в жилках, вода, блистающий туман пены, — и незнакомый этот мир пел глубинно и заманчиво, как розовая раковина, если к ней приложишь ухо…
А в Васькином саду было теперь пусто и молчаливо. Стал этот сад вроде общественного: входи и играй хоть целый день — никто не окрикнет, не прогонит… Ушел хозяин сада в поющий розовый мир, куда и Сережа уйдет когда-нибудь.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗНАКОМСТВА С ВАСЬКИНЫМ ДЯДЕЙ
Тайные отношения завязались между улицей Калинина и Дальней. Ведутся переговоры. Шурик ходит туда и сюда, хлопочет и приносит Сереже известия. Озабоченный, торопливо перебирает он смуглыми налитыми ножками, и его черные глаза стреляют во все стороны. Такое у них свойство: как придет Шурику в голову новая мысль, так они начинают стрелять направо и налево, и каждому видать, что Шурику пришла в голову новая мысль. Мать беспокоится, а отец, шофер Тимохин, заранее грозит Шурику ремнем. Потому что мысли у Шурика всегда озорные. Вот родители и тревожатся, им ведь хочется, чтобы ихний сын был жив и здоров.
Плевал Шурик на ремень. Что ремень, когда ребята улицы Калинина собрались делать себе татуировку. Они готовятся к этому организованно, коллективом. Черти: выспросили у Шурика и Сережи все до тютельки, где какая татуировка на Васькином дяде; по указаниям Шурика и Сережи сделали рисунки, а теперь отказываются принимать Шурика и Сережу в компанию, говорят: «Куда таких». Дьяволы. Где же правда на свете?
И никому не пожалуешься — поклялись, что не скажут ни одному человеку во всем мире, то есть на улице Дальней. На Дальней живет знаменитая ябеда — Лида; она из чистого вредительства — выгоды ей ни на копейку растреплет взрослым, те поднимут шум, вмешается школа, пойдут проработки на педсовете и родительских собраниях, и вместо делового мероприятия получится тоскливая канитель.
Из-за этого улица Калинина скрывает от Дальней свои замыслы. Но от Шурика не больно-то скроешь. К тому же он видел рисунки. Роскошные рисунки на чертежной и пергаментной бумаге.
— Они и от себя навыдумывали, — сообщал Шурик Сереже. — Самолет нарисовали, кита с фонтаном, лозунги… Накладается на тебя лист, и по рисунку колют булавкой. Должно выйти здорово.
Сереже стало не по себе. Булавкой!..
Но что может Шурик, то может и Сережа.
— Да! — сказал он с притворным хладнокровием. — Должно получиться здорово.
Калининские ребята не соглашались сделать Шурику и Сереже не только кита, но даже маленького лозунга. Напрасно Шурик стучался во все калитки, убеждал и канючил. Они отвечали:
— Да ну вас. Ты шутишь, что ли. Катись.
Гнать стали. Совсем плохо обстояло дело, пока Шурик не склонил на свою сторону Арсентия.
От Арсентия все родители без ума. Он отличник, книжник, чистюля и пользуется громадным авторитетом. Главное, у него есть совесть, после разных шуточек он сказал:
— Надо отметить их заслуги, я считаю. Сделаем им по одной букве. Первую букву имени. Ты согласен? — спросил он Шурика.
— Нет, — ответил Шурик. — Мы не согласны на одну букву.
— Тогда пошел вон, — сказал силач Валерий из пятого класса. — Ничего вам не будет.
Шурик ушел, но выбора не было — пришел опять и сказал, что ладно, пускай уж одну букву: ему «шы», а Сереже «сы». Только чтоб как следует делали, без халтуры. Завтра все должно было совершиться — у Валерия, его мать уехала в командировку.
В назначенный час Шурик и Сережа пришли к Валерию. На крыльце сидела Лариска, Валериева сестра, и вышивала крестиками по канве. Она была тут посажена с тою целью, что если кто зайдет посторонний, то говорить, что никого дома нет. Ребята собрались во дворе возле бани: всё мальчики, из пятого и даже шестого класса и одна девочка, толстая и бледная, с очень серьезным лицом и отвисшей, толстой и бледной, нижней губой; казалось, именно эта отвисшая губа придает лицу такое серьезное, внушительное выражение, а если бы девочка ее подобрала, то стала бы совсем несерьезной и невнушительной… Девочка — ее звали Капой — резала ножницами бинты и раскладывала на табуретке. Капа у себя в школе была членом санитарной комиссии. Табуретку она застлала чистой тряпочкой.
В закопченной тесной бане, с мутным окошком под потолком, сразу за порогом стоял низкий деревянный чурбан, а на лавке лежали рисунки, свернутые трубками. Ребята, приходя, рассматривали рисунки, обсуждали, весело, удовлетворенно ругались, и каждый выбирал, что ему нравилось. Споров не было, потому что один и тот же рисунок можно сделать на скольких угодно ребятах. Шурик и Сережа любовались рисунками издали, не решаясь хозяйничать на лавке: очень уж ребята были солидные, самостоятельные и блестящие.
Арсентий пришел прямо с занятий, с портфелем, после шестого урока. Он попросил уступить ему первую очередь: много задано, сказал он, домашнее сочинение и большой кусок по географии. Из почтения к его прилежанию его пустили первым. Он аккуратно поставил портфель на лавку, скинул, улыбаясь, рубашку и, голый до пояса, сел на чурбан, спиной ко входу.
Его обступили большие ребята. Сережу с Шуриком оттерли из бани во двор, — как они ни подскакивали, им ничего не было видно. Разговоры стихли, послышался треск и шорох бумаги и немного погодя голос Валерия:
— Капка! Сбегай к Лариске, пусть даст полотенце.
Серьезная Капа, на бегу тряся отвисшей губой, побежала, принесла полотенце и через головы перебросила Валерию.
— Зачем полотенце? — спрашивал Сережа, подскакивая. — Шурик! Зачем полотенце?
— Кровь, наверно, текет! — азартно сказал Шурик, стараясь протиснуть голову между ребятами, чтобы взглянуть, что делается. Высокий мальчишка обернул к ним суровое лицо и сказал тихо, грозно:
— А ну, не баловаться тут!
Бесконечно длилась тишина. Бесконечно томила неизвестность. Сережа успел устать, соскучиться, половить стрекоз и осмотреть Валериев двор и Лариску… Наконец заговорили, задвигались, расступились, и вышел Арсентий — о! — неузнаваемый, ужасный, фиолетовый от шеи до пояса, — где его белая грудь, где его белая спина, — и на полотенце вокруг пояса были кровавые и чернильные пятна! А лицо бледное-пребледное, но он улыбался, герой Арсентий! Твердо подошел к Капе, снял полотенце и сказал:
— Бинтуй потуже.
— Малышей бы пропустить, — сказал кто-то, — чтоб не создавали паники. Пропустим малышей.
— Вы где, малыши? — спросил Валерий, выходя из бани с фиолетовыми руками. — Не передумали?.. Ну, давайте, живо.
Как скажешь — «передумал». Как хватит духу сказать, когда вот он стоит, в крови и в чернилах, Арсентий, и смотрит на тебя с улыбкой?..
«Одна буква — недолго!» — подумал Сережа.
Вслед за Шуриком он вошел в опустевшую баню. Большие ребята смотрели, как Капа бинтует Арсентия. Валерий сел на чурбан и спросил:
— Кому какую букву?
— Мне «шы», — сказал Шурик. — А полотенце не надо?
— Не запачкаешься и так, — сказал Валерий. — На руке буду делать.
Он взял Шурикину руку и ткнул булавкой пониже локтя. Шурик подпрыгнул и вскрикнул:
— Ой!..
— Ой, так иди домой, — сказал Валерий и ткнул еще раз. — Ты воображай, — посоветовал он, — что я тебе вынимаю занозу. Вот и не будет больно.
Шурик скрепился и не пикнул больше, только перепрыгивал с ноги на ногу и дул на руку, на которой алыми точками одна за другой выступали капли крови. Валерий булавкой вспорол кожу между точками — Шурик подскочил, ударил себя пятками, задул изо всех сил, кровь потекла струйкой…
«Буква „шы“ длинная, — думал бледный Сережа, большими глазами неподвижно глядя на кровь, — целых три палочки и четвертая внизу, несчастный Шурик, „сы“ короче, молодец Шурик, не кричит, я тоже не буду кричать, ой-ой-ой, убежать нельзя, будут насмехаться, Шурик скажет, что я трус…»
Валерий взял с лавки пузырек чернил и кисточкой помазал Шурика прямо по крови.
— Готов! — сказал он. — Следующий!
Сережа шагнул и протянул руку…
…Это было в конце лета, только что начались занятия в школе, дни стояли теплые, сонно-золотистые, — а сейчас осень, хмурое небо в окнах, тетя Паша заклеила оконные рамы полосками белой бумаги, между рамами положила вату и поставила стаканчики с солью…
Сережа лежит в постели. К ней придвинуты два стула: на одном кучей навалены игрушки, на другом Сережа играет. Плохо играть на стуле. Даже танку не развернуться, а если, например, нужно оттеснить неприятеля, то вовсе некуда — дойдешь до спинки, и все, это разве сражение.
Болезнь началась, когда Сережа вышел из Валериевой бани, неся правой рукой левую руку, вспухшую, пылающую, в чернилах. Он вышел из бани — от света черные круги помчались перед глазами, вдохнул запах чьей-то папиросы — его стошнило… Лег на траву, руку под бинтом терзало и пекло. Шурик и еще один мальчик отвели его домой. Тетя Паша ничего не заметила, потому что на нем была рубашка с длинными рукавами. Он прошел в дом молча и лег на кровать.
Но вскоре началась рвота и жар, тетя Паша всполошилась и позвонила маме в школу по телефону, прибежала мама, пришел доктор, Сережу раздели, сняли бинт, ахали, спрашивали, а он не отвечал — ему снились сны, отвратительные, тошнотворные: кто-то могучий, в красной майке, с голыми лиловыми руками — от них мерзко пахло чернилами, — деревянный чурбан, мясник на нем рубит мясо, — окровавленные ругающиеся мальчики… Он рассказывал, что видит, не сознавая, что рассказывает. Так что взрослым все стало известно. Долго не могли понять, почему он бредит бубликом, половинкой бублика; когда рука зажила и отмылась, они догадались — на ней навеки запечатлелась сизо-голубая половинка бублика, буква «сы».
Они были с Сережей нежны и ласковы — и мучили его не хуже Валерия. Особенно доктор: бесчеловечно вливал он Сереже пенициллин, и Сережа, не плакавший от боли, рыдал от унижения, от бессилия перед унижением, оттого, что оскорблялась его стыдливость… Доктору было мало, он присылал вредную тетку в белом халате, медсестру, которая специальной машинкой резала Сереже пальцы и выдавливала из них кровь. После пыток доктор шутил и гладил Сережу по голове, это было уже издевательство.
…Устав играть на стуле, Сережа ложится и размышляет о своем тяжелом положении. Пытается найти первопричину своего несчастья.
«Я бы не заболел, — думает он, — если бы я не сделал татуировку. А я бы не сделал татуировку, если бы не познакомился с Васькиным дядей. А я бы с ним не познакомился, если бы он не приехал к Ваське. Да, не захоти он приехать, ничего бы не случилось, я был бы здоров».
Неприязни к Васькиному дяде он не чувствует. Просто, видимо, на свете одно цепляется за другое, не предугадаешь, когда и где грозит беда.
Его стараются развлечь. Мама подарила ему аквариум с красными рыбами. В аквариуме растут водоросли. Кормить рыб нужно порошком из коробки.
— Он так любит животных, — сказала мама, — это его займет.
Правильно, он любит животных. Любил кота Зайку, любил свою ручную галку, Галю-Галю. Но рыбы не животные.
Зайка пушистый и теплый, с ним можно было играть, пока он был не такой старый и угрюмый. Галя-Галя была веселая и смешная, летала по комнатам, воровала ложки и отзывалась на Сережин зов. А от рыб какая радость, плавают в банке и ничего не могут делать, только шевелить хвостами… Не понимает мама.
Сереже нужны ребята, хорошая игра, хороший разговор. Больше всех ребят он хочет Шурика. Еще когда рамы были не заклеены и окна открыты, Шурик пробрался к нему под окно и позвал:
— Сергей! Как ты там?
— Иди сюда! — крикнул Сережа, вскочив на колени. — Иди ко мне!
— Меня к тебе не пускают, — сказал Шурик (его макушка виднелась над подоконником). — Выздоравливай и выходи сам.
— Что ты делаешь? — спросил Сережа в волнении.
— Папа мне портфель купил, — сказал Шурик, — в школу буду ходить. Уже метрику сдали. А Арсентий тоже болеет. А другие никто не болеет. И я не болею. А Валерия в другую школу перевели, ему теперь далеко ходить.
Сколько новостей сразу!
— Пока! Выходи скорей! — уже издали донесся голос Шурика — должно быть, тетя Паша появилась во дворе…
Ах, и Сереже бы туда! За Шуриком! На улицу! Как прекрасно жилось ему до болезни! Что он имел и что потерял!..
НЕДОСТУПНОЕ ПОНИМАНИЮ
Наконец позволили Сереже встать с постели, а потом и гулять. Но запретили отходить далеко от дома и заходить к соседям: боятся, как бы опять чего-нибудь с ним не случилось.
Да и выпускают Сережу только до обеда, когда его товарищи в школе. Даже Шурик в школе, хотя ему еще нет семи: родители отдали его туда из-за истории с татуировкой, чтоб больше был под присмотром и занимался делом… А с маленькими Сереже неинтересно.
Однажды вышел он во двор и увидел, что на сложенных у сарая бревнах сидит какой-то чужой дядька в плешивой ушанке. Лицо у дядьки было как щетка, одежа рваная. Он сидел и курил очень маленькую закрутку, такую маленькую, что она вся была зажата между двумя его желто-черными пальцами; дым шел уже прямо от пальцев, — удивительно, как дядька не обжигался… Другая рука была перевязана грязной тряпкой. Вместо шнурков на ботинках были веревки. Сережа рассмотрел все и спросил:
— Вы к Коростелеву пришли?
— К какому Коростелеву? — спросил дядька. — Не знаю я Коростелева.
— Вы, значит, к Лукьянычу?
— И Лукьяныча не знаю.
— А их никого дома нет, — сказал Сережа. — Только тетя Паша дома да я дома. А вам не больно?
— Почему больно?
— Вы пальцы себе жгете.
— А!
Дядька потянул закрутку последний раз, бросил крохотный окурок наземь и затоптал.
— А другую руку вы уже пожгли? — спросил Сережа.
Не отвечая, дядька смотрел на него суровым озабоченным взглядом. «Чего он смотрит?» — подумал Сережа. Дядька спросил:
— А живете вы как? Хорошо?
— Спасибо, — сказал Сережа. — Хорошо.
— Добра много?
— Какого добра?
— Ну, чего у вас есть?
— У меня велисапед есть, — сказал Сережа. — И игрушки есть. Всякие: и заводные, и нет. А у Лени мало, одни погремушки.
— А отрезы есть? — спросил дядька. И, подумав, должно быть, что Сереже это слово непонятно, пояснил: — Материал — представляешь себе? На костюм, на пальто.
— У нас нету отрезов, — сказал Сережа. — У Васькиной мамы есть.
— А где она живет? Васькина мама.
Неизвестно, как бы дальше повернулся разговор, но тут щелкнула щеколда и во двор вошел Лукьяныч. Он спросил:
— Кто такой? Вам что?
Дядька поднялся с бревен и стал смиренным и жалким.
— Заработка ищу, хозяин, — ответил он.
— Почему по дворам ищете? — спросил Лукьяныч. — Где ваше место?
— В данный момент нет у меня места, — сказал дядька.
— А где было?
— Было — сплыло. Давно было.
— Из тюрьмы, что ли?
— Месяц, как освобожденный.
— За что сидел?
Дядька потоптался и ответил:
— Якобы за неаккуратное обращение с личной собственностью. Засудили-то зря. Судебная ошибка произошла.
— А почему домой не поехал, а болтаешься?
— Я поехал, — сказал дядька, — а жена не приняла. Нашла себе другого: работника прилавка! Да и не прописывают там… Теперь к маме пробираюсь, в Читу. В Чите у меня мама.
Сережа слушал, приоткрыв рот. Дядька сидел в тюрьме!.. В тюрьме с железными решетками и бородатыми стражниками, вооруженными до зубов секирами и мечами, как описано в книжках, — а в какой-то Чите ждет его мама и, верно, плачет, бедная… Она будет рада, когда он к ней проберется. Сошьет ему костюм и пальто. И купит шнурки для ботинок…
— В Читу — ближний свет… — сказал Лукьяныч. — И как же? Удается заработать, или опять-таки, это самое, по части личной собственности?..
Дядька насупился и сказал:
— Разрешите дрова попилить.
— Пили, ладно, — сказал Лукьяныч и принес из сарая пилу.
Тетя Паша вышла на голоса и слушала разговор с крылечка. Почему-то она заманила кур в сарай, хотя им рано было спать, и заперла на замок. А ключ положила к себе в карман. И сказала Сереже потихоньку:
— Сережа, ты пока гуляешь, присматривай, чтобы дяденька с пилой не ушел.
Сережа ходил вокруг дядьки и смотрел на него с любопытством, сомнением, сожалением и некоторым страхом. Заговаривать с ним он больше не решался, из почтения к его выдающейся и таинственной судьбе. И дядька молчал. Он пилил усердно и только иногда присаживался, чтобы сделать закрутку и покурить.
Сережу позвали обедать. Коростелева и мамы дома не было, обедали втроем. После щей Лукьяныч сказал тете Паше:
— Отдай этому ворюге мои старые валенки.
— Ты бы еще сам их поносил, — сказала тетя Паша. — На нем штиблеты ничего себе.
— Куда в Читу в таких штиблетах, — сказал Лукьяныч.
— Я его покормлю, — сказала тетя Паша. — У меня вчерашнего супу много.
После обеда Лукьяныч прилег отдохнуть, а тетя Паша сняла со стола скатерть и убрала в шкафчик.
— Зачем ты сняла скатерть? — спросил Сережа.
— Хорош будет и без скатерти, — ответила тетя Паша. — Он как чума грязный.
Она разогрела суп, нарезала хлеба и грустным голосом позвала дядьку:
— Зайдите, покушайте.
Дядька пришел и долго вытирал ноги о тряпку. Потом помыл руки, а тетя Паша сливала ему из ковша. На полочке лежали два куска мыла: одно розовое, другое простое, серое; дядька взял серое — или он не знал, что умываться надо розовым, или розового ему не полагалось, как скатерти и сегодняшних щей. И вообще он стеснялся и ступал по кухне неуверенно, осторожно, точно боялся проломить пол. Тетя Паша зорко за ним следила. Садясь за стол, дядька перекрестился. Сережа видел, что тете Паше это понравилось. Она налила полную, до края, тарелку и сказала ласково:
— Кушайте на здоровье.
Дядька съел суп и три большущих куска хлеба молча и сразу, сильно двигая челюстями и шумно потягивая носом. Тетя Паша дала ему еще супу и маленький стаканчик водки.
— Теперь и выпить можно, — сказала она, — а на пустой желудок нехорошо.
Дядька поднял стаканчик и сказал:
— За ваше здоровье, тетя. Дай вам бог.
Закинул голову, открыл рот и мигом вылил туда все, что было в стаканчике. Сережа посмотрел — стаканчик стоит на столе пустой.
«Здорово!» — подумал Сережа.
Дальше дядька ел уже не так быстро и разговаривал. Он рассказал, как приехал к жене, а она его не пустила.
— И не дала ничего, — сказал он. — У нас добра порядочно было: машина швейная, патефон, посуда там… Ничего не дала. Иди, говорит, уголовник, откуда пришел, ты мне жизнь испортил. Я говорю — хоть патефон отдай, совместно нажит, учтите. Так ей жалко. Из моего костюма себе костюм пошила. А пальто мое продала через комиссионный магазин.
— А прежде ничего жили? — спросила тетя Паша.
— Жили — лучше не надо, — ответил дядька. — Любила как сумасшедшая. А теперь там работник прилавка. Видел я его: смотреть не на что. Никакого вида. На что польстилась? На то, что работник прилавка, ясно.
Рассказал и про свою маму, какая у нее пенсия и как она ему прислала посылку. Тетя Паша совсем добрая стала: дала дядьке и вареного мяса, и чаю, и курить позволила.
— Конечно, — говорил дядька, — приди я к маме с патефоном хотя бы было б лучше.
«Конечно, лучше, — подумал Сережа. — Они бы пластинки ставили».
— Может, устроитесь на работу, так и ничего будет, — сказала тетя Паша.
— Не очень нас любят брать на работу, — сказал дядька, и тетя Паша вздохнула и покачала головой, как бы сочувствуя и дядьке и тем, кто не любит брать его на работу.
— Да, — сказал дядька, помолчав, — мог бы и я быть не то что работником прилавка — кем угодно мог быть; да так как-то время зря провел.
— А зачем же вы его зря проводили? — сказала тетя Паша снисходительно. — А вы бы проводили не зря, лучше б было.
— Сейчас что говорить, — сказал дядька, — после всех происшествий. Сейчас говорить вроде ни к чему. Ну, спасибо вам, тетя. Пойду допилю.
Он ушел во двор. Сережу тетя Паша больше не пустила гулять, потому что стал накрапывать дождик.
— Почему он такой? — спросил Сережа. — Дядька этот.
— В тюрьме сидел, — ответила тетя Паша. — Ты же слышал.
— А почему сидел в тюрьме?
— Жил плохо, потому и сидел. Хорошо бы жил — не посадили бы.
Лукьяныч отдохнул после обеда и отправлялся обратно в свою контору. Сережа спросил у него:
— Если плохо живешь, то сажают в тюрьму?
— Видишь ли, — сказал Лукьяныч, — он чужие вещи крал. Я, например, работал, заработал, а он пришел и украл: хорошо разве?
— Нет.
— Ясно — нехорошо.
— Он плохой?
— Ясно — плохой.
— А зачем ты ему велел отдать валенки?
— Жалко мне его стало.
— Которые плохие — тебе жалко?
— Видишь ли, — сказал Лукьяныч, — я его не потому пожалел, что он плохой, а потому, что он почти босой. Ну, и вообще… неприятно, когда кто-то живет плохо… Ну, а вообще… я бы с большим удовольствием, безусловно, отдал ему валенки, если бы он был хороший… Я пошел! — сказал Лукьяныч и убежал, заторопившись.
«Чудак, — подумал Сережа, — ничего не поймешь, что он говорит…»
Он смотрел в окно на реденький серый дождик и старался распутать путаные Лукьянычевы слова… Дядька в плешивой ушанке прошел мимо по улице, неся под мышкой валенки, вложенные один в другой, так что подошвы их торчали в разные стороны. Мама пришла и принесла из яслей Леню, завернутого в красное одеяльце.
— Мама! — сказал Сережа. — Ты рассказывала, помнишь, один тетрадку украл. Его посадили в тюрьму?
— Что ты! — сказала мама. — Конечно, не посадили.
— Почему?
— Он маленький. Ему восемь лет.
— Маленьким можно?
— Что можно?
— Красть.
— Нет, и маленьким нельзя, — сказала мама, — но я с ним поговорила, и он больше никогда не украдет. А почему ты об этом спрашиваешь?
Сережа рассказал про дядьку из тюрьмы.
— К сожалению, — сказала мама, — такие люди иногда бывают. Мы об этом поговорим, когда ты вырастешь. Попроси, пожалуйста, у тети Паши гриб для штопки и принеси мне.
Сережа принес гриб и спросил:
— А зачем он крал?
— Не хотел работать, вот и крал.
— А он знал, что его посадят в тюрьму?
— Конечно, знал.
— Он, что ли, не боялся? Мама! Она, что ли, нестрашная — тюрьма?
— Ну, хватит! — рассердилась мама. — Я ведь сказала, что тебе рано об этом думать! Думай о чем-нибудь другом! Я этих слов даже не хочу слышать!
Сережа посмотрел на ее нахмуренные брови и перестал спрашивать. Он пошел в кухню, набрал ковшом воды из ведра, налил в стакан и попробовал выпить сразу, одним глотком; но как ни запрокидывал голову и не разевал рот — не получалось, только облился весь. Даже сзади за воротник залилось и текло по спине. Сережа скрыл, что у него мокрая рубашка, а то бы они подняли свой шум и стали его переодевать и ругать. А к тому часу, как спать ложиться, рубашка высохла.
…Взрослые думали, что он уже спит, и громко разговаривали в столовой.
— Он ведь чего хочет, — сказал Коростелев, — ему нужно либо «да», либо «нет». А если посередке — он не понимает.
— Я сбежал, — сказал Лукьяныч. — Не сумел ответить.
— У каждого возраста свои трудности, — сказала мама, — и не на каждый вопрос надо отвечать ребенку. Зачем обсуждать с ним то, что недоступно его пониманию? Что это даст? Только замутит его сознание и вызовет мысли, к которым он совершенно не подготовлен. Ему достаточно знать, что этот человек совершил проступок и наказан. Очень вас прошу — не разговаривайте вы с ним на эти темы!
— Разве это мы разговариваем? — оправдывался Лукьяныч. — Это он разговаривает!
— Коростелев! — позвал Сережа из темной комнаты.
Они замолчали сразу…
— Да? — спросил, войдя, Коростелев.
— Кто такое — работник прилавка?
— Ты-ы! — сказал Коростелев. — Ты что не спишь? Спи сейчас же! — Но Сережины блестящие глаза были выжидательно и открыто обращены к нему из полумрака, и наскоро, шепотом (чтобы мама не услышала и не рассердилась) Коростелев ответил на вопрос…
НЕПРИКАЯННОСТЬ
Опять привязались болезни. Без всякой на этот раз причины была ангина. Потом доктор сказал: «Желёзки». И придумал новые мучения — рыбий жир и компрессы. И велел измерять температуру.
Мажут тряпку вонючей черной мазью и накладывают тебе на шею. Сверху кладут жесткую колкую бумагу. Сверху вату. Еще сверху наматывают бинт до самых ушей. Так что голова как у гвоздя, вбитого в доску: не повернешь. И так живи.
Спасибо еще, что лежать не заставляют. А когда у Сережи нет температуры, а на улице нет дождя, то можно и гулять. Но такие совпадения бывают редко. Почти всегда есть или дождь, или температура.
Включено радио, но далеко не все, что оно говорит и играет, интересно Сереже.
А взрослые очень ленивые: как попросишь их почитать или рассказать сказку, так они отговариваются, что заняты. Тетя Паша стряпает; руки у нее, правда, заняты, да рот-то свободен; могла бы рассказать сказку. Или мама: когда она в школе, или пеленает Леню, или проверяет тетрадки, это одно; но когда она стоит перед зеркалом и укладывает косы то так, то так и при этом улыбается, — чем же она занята?
— Почитай мне, — просит Сережа.
— Погоди, Сереженька, — отвечает она. — Я занята.
— А зачем ты их опять распустила? — спрашивает Сережа про косы.
— Хочу причесаться иначе.
— Зачем?
— Мне надо.
— Почему тебе надо?
— Так…
— А почему ты смеешься?
— Так…
— Почему так?
— Ох, Сереженька. Ты мне действуешь на нервы.
Сережа думает: как это я ей действую на нервы? И, подумав, говорит:
— Ты мне все-таки почитай.
— Вечером приду, — говорит мама, — тогда почитаю.
А вечером, придя, она будет кормить и купать Леню, разговаривать с Коростелевым и проверять тетрадки. А от чтения опять увильнет.
Но вот тетя Паша уже все сделала и села отдохнуть на оттоманке у себя в комнате. Руки сложила на коленях, сидит тихо, дома никого нет — тут-то Сережа и припирает ее к стенке.
— Теперь ты мне расскажешь сказку, — говорит он, выключив радио и усаживаясь рядом.
— Господи ты боже мой, — говорит она устало, — сказку тебе. Ты же их все наизусть знаешь.
— Ну так что ж. А ты расскажи.
Страшно ленивая.
— Ну, жили-были царь и царица, — начинает она, вздохнув. — И была у них дочка. И вот в один прекрасный день…
— Она была красивая? — требовательно прерывает Сережа.
Ему известно, что дочка была красивая, и всем известно, но зачем же тетя Паша пропускает? В сказках ничего нельзя пропускать.
— Красивая, красивая. Уж такая красивая… В один, значит, прекрасный день надумала царевна выйти замуж. Приехали женихи свататься…
Сказка течет по законному руслу. Сережа внимательно слушает, глядя в сумерки большими строгими глазами. Он заранее знает, какое слово сейчас будет произнесено; но от этого сказка не становится хуже. Наоборот.
Какой смысл он вкладывает в понятия: женихи, свататься, — он не мог бы толково объяснить, но ему все понятно — по-своему. Например: «конь стал как вкопанный», а потом поскакал, — ну, значит, его откопали.
Сумерки густеют. Окна становятся голубыми, а рамы на них черными. Ничего не слышно в мире, кроме тети-Пашиного голоса, рассказывающего о злоключениях царевниных женихов. Тишина в маленьком доме на Дальней улице.
Сереже скучно в тишине. Сказка кончается скоро, вторую тетя Паша ни за что не соглашается рассказать, несмотря на его мольбы и возмущение. Кряхтя и зевая, уходит она в кухню, и он один. Что делать? Игрушки за время болезни надоели. Рисовать надоело. На велосипеде по комнатам не поездишь — тесно.
Скука сковывает Сережу хуже болезни, делает вялыми его движения, сбивает мысли. Все скучно.
Пришел Лукьяныч с покупкой: серая коробка, обвязанная веревочкой. Сережа было загорелся и ждет нетерпеливо, чтобы Лукьяныч развязал веревочку. Чикнуть бы ее, и готово. Но Лукьяныч долго пыхтит и распутывает тугие узелки — веревочка пригодится, он ее хочет сохранить в целости.
Сережа смотрит во все глаза, поднявшись на цыпочки… Но из серой коробки, где могло бы поместиться что-нибудь замечательное, появляется пара огромных черных суконных бот с резиновым ободком.
У Сережи у самого есть боты, с такими же застежками, только без сукна, просто из резины. Он их ненавидит, смотреть еще на эти боты ему нет ни малейшего интереса.
— Это что? — упав духом, уныло-пренебрежительно спрашивает он.
— Боты, — отвечает Лукьяныч и садится примерить. — Называются «прощай, молодость».
— А почему?
— Потому что молодые таких не носят.
— А ты старый?
— Поскольку надел такие боты — значит, старый.
Лукьяныч топает ногой и говорит:
— Благодать!
И идет показывать боты тете Паше.
Сережа влезает на стул в столовой и зажигает электричество. Рыбы плавают в аквариуме, тараща глупые глаза. Сережина тень падает на них они всплывают и разевают рты, ожидая корм.
«А вот интересно, — думает Сережа, — будут они пить свой собственный жир или не будут?»
Он вынимает пробку из пузырька и наливает немножко рыбьего жира в аквариум. Рыбы висят хвостами вниз с разинутыми ртами и не глотают. Сережа подливает еще. Рыбы разбегаются…
«Не пьют», — равнодушно думает Сережа.
Скука, скука! Она толкает его на дикие и бессмысленные поступки. Он берет нож и соскабливает краску с дверей в тех местах, где она вздулась пузырями. Не то чтобы это доставляло ему удовольствие, но все-таки занятие. Берет клубок шерсти, из которой тетя Паша вяжет себе кофту, и разматывает его до самого конца — для того, чтобы потом смотать снова (что ему не удается). При этом он каждый раз сознает, что совершает преступление, что тетя Паша будет ругаться, а он будет плакать, — и она ругается, и он плачет, но в глубине души у него удовлетворение: поругались, поплакали — глядишь, и провели время не без событий.
Веселее становится, когда приходит мама и приносит Леню. Начинается оживление: Леня кричит, мама кормит его и сменяет ему пеленки, Леню купают. Он теперь больше похож на человека, чем когда родился, только жирный чересчур. Он может держать в кулаке погремушку, но больше с него пока нечего взять. Живет он там в яслях целый день своей какой-то жизнью, отдельно от Сережи.
Коростелев приходит поздно, и его рвут на части. Начнется у них с Сережей разговор, или согласится Коростелев почитать ему книжку, а телефон звонит, и мама перебивает каждую минуту. Вечно ей надо что-то говорить, не может подождать, пока люди кончат свое дело. Перед тем как уснуть на ночь, Леня долго кричит. Мама зовет Коростелева, вот обязательно ей нужен Коростелев — тот носит Леню по комнате и шикает. А Сереже хочется спать, и общение с Коростелевым прекращается на неопределенное время.
Но бывают прекрасные вечера — редко, — когда Леня угомоняется пораньше, а мама садится исправлять тетрадки, тогда Коростелев укладывает Сережу спать и рассказывает ему сказку. Сначала рассказывал плохо, почти совсем не умел, но Сережа ему помогал и учил его, и теперь Коростелев рассказывает довольно бойко:
— Жили-были царь и царица. Была у них красивая дочка, царевна…
А Сережа слушает и поправляет, пока не уснет.
В эти неприкаянные, тягучие дни, когда он ослабел и искапризничался, еще милее стало ему свежее, здоровое лицо Коростелева, сильные руки Коростелева, его мужественный голос… Сережа засыпает, довольный, что не все Лене да маме, — вот и ему что-то перепало от Коростелева.
ХОЛМОГОРЫ
Холмогоры. Это слово Сережа все чаще слышит в разговорах Коростелева с мамой.
— Ты написала в Холмогоры?
— Может, в Холмогорах не так буду загружен, тогда и сдам политэкономию.
— Я получила ответ из Холмогор. Предлагают работу в школе.
— Из отдела кадров звонили. Насчет Холмогор решено окончательно.
— Куда его тащить в Холмогоры. Его уже жучок съел. (Про комод).
Все Холмогоры да Холмогоры.
Холмогоры. Это что-то высокое. Холмы и горы, как на картинках. Люди лазают с горы на гору. Школа стоит на горе. Ребята катаются с гор на санках.
Красным карандашом Сережа рисует все это на бумаге и тихонько поет на мотив, который для этого случая пришел ему в голову:
— Холмогоры, Холмогоры.
Очевидно, мы туда едем, раз уж о комоде зашла речь.
Великолепно. Лучше ничего и придумать нельзя. Женька уехал, Васька уехал, и мы уедем. Это очень повышает нашу ценность, что мы тоже куда-то едем, а не сидим на одном месте.
— Холмогоры — далеко? — спрашивает Сережа у тети Паши.
— Далеко, — отвечает тетя Паша и вздыхает. — Очень далеко.
— Мы туда поедем?
— Ох, не знаю я, Сереженька, ваших дел…
— Туда на поезде?
— На поезде.
— Мы едем в Холмогоры? — спрашивает Сережа у Коростелева и мамы. Они бы должны сообщить ему сами, но забыли это сделать.
Они переглядываются и потом смотрят в сторону, и Сережа безуспешно пытается заглянуть им в глаза.
— Мы едем? Мы ведь правда едем? — добивается он в недоумении: почему они не отвечают?
Мама говорит осторожным голосом:
— Папу переводят туда на работу.
— И мы с ним?
Он задает точный вопрос и ждет точного ответа. Но мама, как всегда, сначала говорит кучу посторонних слов:
— Как же его отпустить одного? Ведь ему плохо будет одному: придет домой, а дома никого нет… не прибрано… покормить некому… поговорить не с кем… Станет бедному папе грустно-грустно…
И только потом ответ:
— Я поеду с ним.
— А я?
Почему Коростелев смотрит на потолок? Почему мама опять замолчала и ласкает Сережу?
— А я!! — в страхе повторяет Сережа, топая ногой.
— Во-первых, не топай, — говорит мама и перестает его ласкать. — Это что еще такое — топать?! Чтоб я этого больше не видела! А во-вторых давай обсудим: как же ты сейчас поедешь? Ты только что после болезни. Ты еще не поправился. Чуть что — у тебя температура. Мы еще неизвестно как устроимся. И климат тебе не подходит. Ты там будешь болеть и болеть, и никогда не поправишься. И с кем я тебя буду больного оставлять? Доктор сказал, тебя пока нельзя везти.
Гораздо раньше, чем она кончила говорить, он уже рыдал, обливаясь слезами. Его не берут! Уедут сами, без него! Рыдая, еле слышал, что она еще там говорит:
— Тетя Паша и Лукьяныч останутся с тобой. Ты будешь жить с ними, как всегда жил.
Но он не хочет жить как всегда! Он хочет с Коростелевым и мамой!
— Я хочу в Холмогоры! — кричал он.
— Ну, мальчик мой, ну перестань! — сказала мама. — Что тебе Холмогоры? Ничего там кет особенного…
— Неправда!
— Зачем ты так говоришь маме. Мама всегда говорит правду. И ведь ты же не навеки остаешься, дурачок мой маленький, ну довольно же… Поживешь здесь зиму, поправишься, а весной или, может быть, летом папа за тобой приедет, или я приеду, и заберем тебя — как только поправишься, сразу заберем, — и все опять будем вместе. Подумай, разве мы можем надолго тебя бросить?
Да, а если он до лета не поправится? Да, а легкое ли дело — прожить зиму? Зима — это так длинно, так бесконечно… И как же перенести, что они уедут, а он нет? Будут жить без него, далеко, и им все равно, все равно! И поедут на поезде, и он бы поехал на поезде, — а его не берут! Все вместе было — ужасная обида и страданье. Но он умел высказать свое страданье только самыми простыми словами:
— Я хочу в Холмогоры! Я хочу в Холмогоры!
— Дай, пожалуйста, воды, Митя, — сказала мама. — Выпей водички, Сереженька. Как можно так распускаться. Сколько бы ты ни кричал, это не имеет никакого смысла. Раз доктор сказал — нельзя, значит — нельзя. Ну успокойся, ну ты же умный мальчик, ну успокойся… Сереженька, я ведь сколько раз уезжала от тебя, когда училась, ты уже забыл? Уезжала и приезжала опять, правда же? И ты прекрасно жил без меня. И никогда не плакал, когда я уезжала. Потому что тебе и без меня было хорошо. Вспомни-ка. Почему же ты теперь устроил такую истерику? Разве ты не можешь, для своей же пользы, немножко побыть без нас?
Как ей объяснить? Тогда было другое. Он был маленький и глупый. Она уезжала — он от нее отвыкал, привыкал заново, когда она возвращалась. И она уезжала одна, а теперь она увозит от него Коростелева… Новая мысль новое страдание: «Леню она наверно возьмет». Проверяя, он спросил, давясь, распухшими губами:
— А Леня?..
— Но он же крошечный! — с упреком сказала мама и покраснела. — Он без меня не может, понимаешь? Он без меня погибнет! И он здоровенький, у него не бывает температуры и не опухают желёзки.
Сережа опустил голову и снова заплакал, но уже тихо и безнадежно.
Он бы кое-как смирился, если бы Леня оставался тоже. Но они бросают только его одного! Только он один им не нужен!
«На произвол судьбы», — подумал он горькими словами из сказки про Мальчика-с-пальчика.
И к обиде на мать — к обиде, которая оставит в нем вечный рубец, сколько бы он ни прожил на свете, — присоединялось чувство собственной вины: он виноват, виноват! Конечно, он хуже Лени, у него желёзки опухают, вот Леню и берут, а его не берут!
— Аах! — вздохнул Коростелев и вышел из комнаты… Но сейчас же вернулся и сказал:
— Сережка. Пошли-ка погулять. В рощу.
— В такую сырость! Он опять сляжет! — сказала мама.
Коростелев отмахнулся.
— Он и так все лежит. Пошли, Сергей.
Сережа, всхлипывая, пошел за ним. Коростелев сам его одел. Только шарф завязать попросил маму. И, взявшись за руки, они пошли в рощу.
— Есть такое слово: надо, — говорил Коростелев. — Думаешь, мне хочется в Холмогоры? Или маме? Наоборот. Полный кавардак в наших планах, во всем. А надо — и едем. И таких моментов лично у меня было сколько угодно.
— Почему? — спросил Сережа.
— Такова, брат, жизнь.
Коростелев говорил серьезно и грустно, и становилось капельку легче оттого, что ему тоже невесело.
— Приедем туда с мамой. Так… Надо с ходу браться за новое дело. А тут Леня. Его, значит, срочным порядком в ясли. А вдруг ясли далеко? Придется няньку искать. Тоже штука сложная. А за мной зачеты, надо сдать, хоть тресни. Куда ни кинь, всюду надо и надо. А тебе одно только надо: временно переждать здесь. Зачем заставлять тебя переносить с нами трудности? Пуще расхвораешься…
Не надо заставлять. Он согласен, он готов, он жаждет переносить с ними трудности. Что им, то пусть и ему. При всей убедительности этого голоса Сережа не мог избавиться от мысли, что они оставляют его не потому, что он там расхворается, а потому, что он, нездоровый, будет им обузой. А сердце его понимало уже, что ничто любимое не может быть обузой. И сомнение в их любви все острее проникало в это сердце, созревшее для понимания.
Пришли в рощу. Там было пусто и печально. Листья уже совсем осыпались, на голых деревьях темнели гнезда, похожие снизу на плохо смотанные клубки черной шерсти. Чмокая ботами по мокрому слою бурой листвы, Сережа ходил под деревьями за руку с Коростелевым и думал. Вдруг он сказал без выражения:
— Все равно.
— Что все равно? — спросил Коростелев, наклонясь к нему.
Сережа не ответил.
— Ведь только, брат, до лета! — растерянно сказал Коростелев после молчания.
Сережа хотел бы ответить так: думай не думай, плачь не плачь, — это не имеет никакого смысла: вы, взрослые, всё можете, вы запрещаете, вы разрешаете, дарите подарки и наказываете, и если вы сказали, что я должен остаться, вы меня все равно оставите, что бы я ни делал. Так он ответил бы, если бы умел. Чувство беспомощности перед огромной, безграничной властью взрослых навалилось на него…
С этого дня он стал очень тихим. Почти не спрашивал: «почему?» Часто уединялся, садился с ногами на тети-Пашину оттоманку и шептал что-то. Гулять его по-прежнему выпускали редко: тянулась осень — сырая, гнилая, и с осенью тянулась болезнь.
Коростелев почти не бывал с ним. С утра он уходил сдавать дела (так он говорил теперь: «Ну, я пошел сдавать дела Аверкиеву»). Но он помнил о Сереже: один раз, проснувшись, Сережа нашел возле кровати новые кубики, другой раз — коричневую обезьяну. Сережа полюбил обезьяну. Она была его дочкой. Она была красивая, как та царевна. Он говорил ей: «Ты, брат». Он ехал в Холмогоры и брал ее с собой. Шепча и целуя ее холодную пластмассовую морду, он укладывал ее спать.
НАКАНУНЕ ДНЯ ОТЪЕЗДА
Пришли незнакомые дядьки, посдвинули мебель в столовой и в маминой комнате и упаковали в рогожу. Мама сняла занавески и абажуры и портреты со стен. И в комнатах стало безобразно и бесприютно: обрывки шпагата на полу, на выцветших обоях темные четырехугольники — там, где висели портреты. Только тети-Пашина комната да кухня были островками среди этого унылого безобразия. Голые электрические лампочки светили на голые стены, голые окна и рыжую рогожу. Громоздились стулья, поставленные друг на друга, задирая к потолку исцарапанные ножки.
В другое время тут бы неплохо поиграть в прятки. Но не то время…
Дядьки ушли поздно. Все, усталые, легли спать. И Леня заснул, откричав, сколько ему требовалось кричать по вечерам. Лукьяныч и тетя Паша в постели долго шептали и сморкались, наконец и они стихли, и раздался храп Лукьяныча и тоненькое, носом, сонное посвистыванье тети Паши.
Коростелев один сидел в столовой под голой лампочкой, пристроившись у стола, обшитого рогожей, и писал. Вдруг он услышал вздох за спиной. Оглянулся — за ним стоял Сережа в длинной рубашке, босой и с завязанным горлом.
— Ты что? — шепотом спросил Коростелев и встал.
— Коростелев! — сказал Сережа. — Дорогой мой, милый, я тебя прошу, ну пожалуйста, возьми меня тоже!
И он тяжело зарыдал, стараясь сдерживаться, чтобы не разбудить спящих.
— Что ты, брат, делаешь! — сказал Коростелев, беря его на руки. Ведь сказано — босиком нельзя, пол холодный… Ведь сам знаешь, ну?.. Мы же договорились обо всем…
— Я хочу в Холмогоры! — прорыдал Сережа.
— Вот видишь, ноги-то уже застыли, — сказал Коростелев. Подолом Сережиной рубашки он прикрыл ему ноги, прижал к себе худенькое тело, сотрясающееся от рыданий. — Что ж поделаешь, понимаешь, если так складываются дела. Если ты все болеешь…
— Я больше не буду болеть!
— А как только поправишься — моментально за тобой приеду.
— Ты не врешь? — в тоске спросил Сережа и охватил рукой его шею.
— Я тебе, брат, еще не врал.
«Правда, не врал, — подумал Сережа, — но вообще иногда он врет, все они иногда врут… Вдруг он теперь и мне врет?»
Он держался за эту твердую мужскую шею, колючую под подбородком, как за последний свой оплот. В этом человеке была его главная надежда, и защита, и любовь. Коростелев носил его по столовой и шептал — весь этот ночной разговор происходил шепотом:
— …Приеду, поедем с тобой на поезде… Поезд идет быстро… Народу полные вагоны… Не заметим, как приедем к маме… Паровоз гудит…
«Просто даже ему некогда будет за мной приезжать, — соображал Сережа, терзаясь. — И маме некогда. Каждый день будут к ним ходить разные люди и звонить по телефону, и всегда они будут идти по делу, или сдавать зачеты, или нянчить Леню, а я тут буду ждать, ждать и не дождусь никогда…»
— …Там, где мы будем жить, лес настоящий, не то что наша роща… С грибами, с ягодами…
— С волками?
— Вот не скажу тебе. Насчет волков выясню специально и напишу в письме… И речка есть, будем с тобой ходить купаться… Научу тебя плавать кролем…
«А кто его знает, — с новой вспышкой надежды подумал Сережа, устав сомневаться. — Может, это все и будет».
— Сделаем удочки, будем рыбу удить… Смотри-ка! Снег пошел!
Он поднес Сережу к окну. Большие белые хлопья летели за окном и, распластываясь, на мгновенье прилипали к стеклу.
Сережа загляделся на них. Он измучился, он затихал, прижавшись воспаленной мокрой щекой к лицу Коростелева.
— Вот и зима! Опять будешь много гулять, кататься на санках — время и пролетит незаметно…
— Знаешь что? — сказал Сережа с печальной заботой. — У меня очень плохая на санках веревка, ты привяжи новую.
— Есть. Обязательно привяжу. А ты, брат, дай мне обещание: больше не плакать, ладно? И тебе вредно, и мама расстраивается, и вообще не занятие для мужчины. Не люблю я этого… Обещай, что не будешь плакать.
— Ага, — сказал Сережа.
— Обещаешь? Твердо?
— Ага…
— Ну, смотри. Полагаюсь на твое мужское слово.
Он отнес изнемогшего, отяжелевшего Сережу в тети-Пашину комнату, уложил и укрыл одеялом. Сережа протяжно, прерывисто вздохнул и уснул сейчас же. Коростелев постоял, посмотрел на него. В свете, падавшем из столовой, Сережино лицо было маленькое, желтое… Коростелев отвернулся и вышел на цыпочках.
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
Наступил день отъезда.
Угрюмый день без солнца, без мороза. Снег на земле за ночь растаял, лежал только на крышах тонким слоем. Серое небо. Лужи. Какие там санки: противно даже выйти во двор. И не на что надеяться в такую погоду. Вряд ли уже может быть что-нибудь хорошее.
А Коростелев все-таки привязал к санкам новую веревку — Сережа заглянул в сени, веревка уже привязана. А сам Коростелев убежал куда-то.
Мама сидела и кормила Леню. Все она его кормит, все кормит… Улыбаясь, она сказала Сереже:
— Посмотри, какой у него потешный носик.
Сережа посмотрел: носик как носик. «Ей потому нравится его носик, подумал Сережа, — что она его любит. Раньше она любила меня, а теперь любит его».
И он ушел к тете Паше. Пусть у нее миллион предрассудков, но она останется с ним и будет его любить.
— Ты что делаешь? — спросил он скучным голосом.
— Не видишь разве, — резонно отвечала тетя Паша, — что я делаю котлеты?
— Почему столько много?
По всему кухонному столу были разложены сырые котлеты, обвалянные в сухарях.
— Потому что нужно нам всем на обед и еще отъезжающим на дорожку.
— Они скоро уедут? — спросил Сережа.
— Еще не очень скоро. Вечером.
— Через сколько часов?
— Еще через много часов. Темно уже станет, тогда и поедут. А пока светло — не поедут.
Она продолжала лепить котлеты, а он стоял, положив лоб на край стола, и думал:
«Лукьяныч тоже меня любит, а будет еще больше любить, прямо ужасно будет любить… Я поеду с Лукьянычем на челне и утону. Меня закопают в землю, как прабабушку. Коростелев и мама узнают и будут плакать, и скажут: зачем мы его не взяли с собой, он был такой развитой, такой послушный мальчик, не плакал и не действовал на нервы, Леня перед ним — тьфу. Нет, не надо, чтобы меня закапывали в землю, это страшно: лежи там один… Мы тут будем жить хорошо, Лукьяныч будет мне носить яблоки и шоколадки, я вырасту и стану капитаном дальнего плаванья, а Коростелев и мама будут жить плохо, и вот в один прекрасный день они придут и скажут: разрешите дрова попилить. А я скажу тете Паше: дай им вчерашнего супу…»
Тут Сереже стало так непереносимо грустно, так жалко Коростелева и маму, что он залился слезами. Но тетя Паша успела только воскликнуть: «Господи ты боже мой!» — как он вспомнил обещание, данное Коростелеву, и сказал испуганно:
— Я больше не буду!
Вошла бабушка Настя со своей черной кошелкой и спросила:
— Митя дома?
— Насчет машины побежал, — ответила тетя Паша. — Аверкиев не дает, такой хам.
— Почему же он хам, — сказала бабушка Настя. — Самому в хозяйстве машина нужна. Во-первых. А во-вторых, он же дал грузовик. С вещами — чего лучше.
— Вещи — конечно, — сказала тетя Паша, — а Марьяше с дитем в легковой удобнее.
— Забаловались чересчур, — сказала бабушка Настя. — Мы детей ни на которых не возили, ни на легковых, ни на грузовых, а вырастили. Сядет с ребенком в кабину, и ладно.
Сережа слушал, медленно моргая. Он был поглощен ожиданием разлуки, которая неминуема. Все в нем как бы собралось и напряглось, чтобы выдержать предстоящее горе. На чем бы то ни было, но скоро они уедут, бросив его. А он их любит.
— Что ж это Митя, — сказала бабушка Настя, — я проститься хотела.
— Вы разве проводить не поедете? — спросила тетя Паша.
— У меня конференция, — ответила бабушка Настя и ушла к маме. И стало тихо. А на дворе еще посерело и поднялся ветер. От ветра позвякивало, вздрагивая, оконное стекло. Тонким, в белых черточках, льдом затянуло лужи. И опять пошел снег, быстро кружась на ветру.
— А теперь сколько осталось часов? — спросил Сережа.
— Теперь немножко меньше, — ответила тетя Паша, — но все-таки еще порядочно.
…Бабушка Настя и мама стояли в столовой среди нагроможденной мебели и разговаривали.
— Да где ж это он, — сказала бабушка Настя. — Неужели не попрощаемся, ведь неизвестно, увижу ли его еще.
«Она тоже боится, — подумал Сережа, — что они уезжают насовсем и никогда не приедут».
И он заметил, что уже почти стемнело, скоро надо зажигать лампу.
Леня заплакал. Мама побежала к нему, чуть не наткнулась на Сережу и сказала ласково:
— Ты бы чем-нибудь развлекся, Сереженька.
Он бы и сам рад был развлечься и честно попробовал заняться сперва обезьяной, потом кубиками, но ничего не получилось: было неинтересно и как-то все равно. Хлопнула в кухне дверь, затопали ноги, и послышался громкий голос Коростелева:
— Давайте обедать. Через час машина придет.
— Выбегал «Москвича»-то? — спросила бабушка Настя.
Коростелев ответил:
— Да нет. Не дают. Черт с ним. Придется на грузовой.
Сережа по привычке обрадовался было этому голосу и хотел вскочить, но тут же подумал: «Ничего этого скоро не будет» — и опять принялся бесцельно передвигать кубики по полу. Коростелев вошел, румяный от снега, сверху посмотрел на него и спросил виновато:
— Ну как, Сергей?..
…Пообедали на скорую руку. Бабушка Настя ушла. Совсем стемнело. Коростелев звонил по телефону и прощался с кем-то. Сережа прислонился к его коленям и почти не двигался, — а Коростелев, разговаривая, перебирал его волосы своими длинными пальцами…
Вошел шофер Тимохин и спросил:
— Ну как, готовы? Дайте лопату снег расчистить, а то ворота не открыть.
Лукьяныч пошел с ним отворять ворота. Мама схватила Леню и стала, суетясь, заворачивать его в одеяло. Коростелев сказал:
— Не спеши. Он упарится. Успеешь.
Вместе с Тимохиным и Лукьянычем он стал выносить упакованные вещи. Двери то и дело открывались, в комнаты нашел холод. У всех был снег на сапогах, никто не обтирал ног, и тетя Паша не делала замечаний — она понимала, что теперь уж и ноги обтирать не к чему! По полу растеклись лужи, он стал мокрым и грязным. Пахло снегом, рогожей, табаком и псиной от тимохинского тулупа. Тетя Паша бегала и давала советы. Мама, с Леней на руках, подошла к Сереже, одной рукой обняла его голову и прижала к себе; он отстранился: зачем она его обнимает, когда она хочет уехать без него.
Все вынесено: и мебель, и чемоданы, и сумки с едой, и узел с Лениными пеленками. Как пусто в комнатах! Только валяются какие-то бумажки да лежит на боку пыльный пузырек от лекарства. И видно, что дом старый, что краска на полу облезла, а сохранилась только там, где стояли тумбочка и комод.
— Надень-ка, на дворе холодно, — сказал Лукьяныч тете Паше, подавая ей пальто. Сережа встрепенулся и бросился к ним с криком:
— Я тоже выйду во двор! Я тоже выйду во двор!
— А как же, а как же! И ты, и ты! — успокоительно сказала тетя Паша и одела его. Мама и Коростелев тоже тем временем оделись. Коростелев поднял Сережу под мышки, крепко поцеловал и сказал решительно:
— До свиданья, брат. Будь здоров и помни, о чем мы договорились.
Мама стала целовать Сережу и заплакала:
— Сереженька! Скажи же мне «до свиданья»!
— До свиданья, до свиданья! — отозвался он торопливо, задыхаясь от спешки и волнения, и посмотрел на Коростелева. И был награжден Коростелев сказал:
— Ты у меня молодец, Сережка.
А Лукьянычу и тете Паше мама сказала, все еще плача:
— Спасибо вам за все.
— Не за что, — печально ответила тетя Паша.
— Сережку берегите.
— Это можешь не беспокоиться, — ответила тетя Паша еще печальнее и вдруг воскликнула: — Присесть забыли! Присесть надо!
— А куда? — спросил Лукьяныч, вытирая глаза.
— Господи ты боже мой! — сказала тетя Паша. — Ну, пошли в нашу комнату!
Все пошли туда, сели кто где и зачем-то посидели — молча и самую минутку. Тетя Паша первая встала и сказала:
— Теперь с богом.
Вышли на крыльцо. Шел снег, все было белое. Ворота были распахнуты настежь. На стенке сарая висел фонарь со свечкой, он светил, снежинки роились в его свете. Грузовик с вещами стоял посреди двора. Тимохин укрывал вещи брезентом, Шурик помогал ему. Вокруг собрался народ: Васькина мать, Лида и еще всякие люди, пришедшие проводить Коростелева и маму. И все они — и все кругом показалось Сереже чужим, невиданным. Незнакомо звучали голоса. Чужой был двор… Как будто никогда он не видел этого сарая. Как будто никогда не играл с этими ребятами. Как будто никогда не катал его этот самый дядька на этом самом грузовике. Как будто ничего своего не было и не могло уже быть у него, покидаемого.
— Погано будет ехать, — незнакомым голосом сказал Тимохин. Скользко.
Коростелев усадил маму с Леней в кабину и укутал шалью: он их любил больше всех, он заботился, чтобы им было хорошо… А сам он влез на грузовик и стоял там большой, как памятник.
— Ты под брезент, Митя! Под брезент! — кричала тетя Паша. — А то тебя снегом засекет!
Он ее не слушался, а сказал:
— Сергей, отойди в сторонку. Как бы мы на тебя не наехали.
Грузовик зафырчал. Тимохин полез в кабину. Грузовик фырчал громче и громче, стараясь сдвинуться с места… Вот сдвинулся: подался назад, потом вперед и опять назад. Сейчас уедет, ворота закроют, фонарь потушат, и все будет кончено.
Сережа стоял в сторонке под снегом. Он изо всех сил помнил про свое обещание и только изредка всхлипывал длинными, безотрадными, почти беззвучными всхлипами. И одна-единственная слеза просочилась на его ресницы и заблистала в свете фонаря — слеза трудная, уже не младенческая, а мальчишеская, горькая, едкая и гордая слеза…
И, не в силах больше тут быть, он повернулся и зашагал к дому, сгорбившись от горя.
— Стой! — отчаянно крикнул Коростелев и забарабанил Тимохину. Сергей! А ну! Живо! Собирайся! Поедешь!
И он спрыгнул на землю.
— Живо! Что там? Барахлишко. Игрушки. Единым духом. Ну-ка!
— Митя, что ты! Митя, подумай! Митя, ты с ума сошел! — заговорили тетя Паша и мама, выглянувшая из кабины. Он отвечал возбужденно и сердито:
— Да ну вас. Это что же, понимаете. Это вивисекция какая-то получается. Вы как хотите, я не могу. И все.
— Господи ты боже мой! Он же там погибнет! — кричала тетя Паша.
— Идите вы, — сказал Коростелев. — Я за него отвечаю, ясно? Ни черта он не погибнет. Глупости ваши. Давай, давай, Сережка!
И побежал в дом.
Сережа сперва оцепенел на месте: он не поверил, он испугался… Сердце застучало так, что стук отдавался в голове… Потом Сережа бросился в дом, обежал, задыхаясь, комнаты, на бегу схватил обезьяну — и вдруг отчаялся, решив, что Коростелев, наверно, передумал, мама и тетя Паша его отговорили, — и кинулся опять туда к ним. Но Коростелев уже бежал навстречу, говоря: «Давай, давай!» Вместе они стали собирать Сережины вещи. Тетя Паша и Лукьяныч помогали. Лукьяныч складывал Сережину кровать и говорил:
— Митя, это ты правильно! Это ты молодец!
А Сережа лихорадочно хватал что попало из своего имущества и бросал в ящик, который дала тетя Паша. Скорей! Скорей! А то вдруг уедут? Ведь никогда нельзя знать точно, что они сейчас сделают… Сердце билось уже где-то в горле, мешая дышать и слышать.
— Скорей! Скорей! — кричал он, пока тетя Паша его укутывала. И, вырываясь, искал глазами Коростелева. Но грузовик оказался на месте, а Коростелев еще даже не сел и велел Сереже со всеми проститься.
И вот он взял Сережу и запихал в кабину, к маме и Лене, под мамину шаль. Грузовик покатил, и можно наконец успокоиться.
В кабине тесно: раз, два, три — четыре человека, ого! Очень пахнет тулупом. Тимохин курит. Сережа кашляет. Он сидит, втиснутый между Тимохиным и мамой, шапка съехала ему на один глаз, шарф давит шею, и не видно ничего, кроме окошечка, за которым мчится снег, освещенный фарами. Здорово неудобно, но нам на это наплевать: мы едем. Едем все вместе, на нашей машине, наш Тимохин нас везет, а снаружи, над нами, едет Коростелев, он нас любит, он за нас отвечает, его секет снег, а нас он посадил в кабину, он нас всех привезет в Холмогоры. Господи ты боже мой, мы едем в Холмогоры, какое счастье! Что там — неизвестно, но, наверно, прекрасно, раз мы туда едем! — Грозно гудит тимохинская сирена, и сверкающий снег мчится в окошечке прямо на Сережу.
1955
ВАЛЯ (Рассказ)
ОТЪЕЗД
1
До войны Валя с Люськой жили в новом доме. Он был построен в тот год, как Люська родилась.
Серый дом с большими окнами. Каждое окно, как пирог, разрезано на много одинаковых квадратных частей.
Серые длинные балконы, — дом с этими балконами напоминал комод с выдвинутыми ящиками.
Рядом находилась фабрика-кухня, тоже новая. Второй этаж ее был во всю длину здания, а первый только на полдлины, вместо другой половины круглые каменные столбы и каменный навес над головой. Дети, играя на улице, забегали под навес и кричали: «Ага!» или: «Ура!» или: «Ух!» — им нравилось, как гулко и чуждо раздаются между каменными столбами их голоса.
Тротуар перед домом был исчерчен мелом для игры в классы.
Улица вливалась в проспект. По проспекту ходил трамвай. Длинные вагоны красными полосками, звеня, пересекали перекресток. На проспекте было людно, а на улице, где жили Валя и Люська, спокойно: никто не мешал прыгать на одной ноге по асфальту, исчерченному меловыми клетками.
2
Вход в их квартиру был со двора.
Двор небольшой, тоже залитый асфальтом. Шаги в нем звучали резко, как щелчки.
С четырех сторон двора теснились окна. Вечером они светили, бывало, разным светом: оранжевым, белым, зеленым.
В войну перестали светить: затемнение. Все купили в магазине специальные шторы из черной бумаги. Но проще было совсем не зажигать свет — стояли белые ночи. Женщины сумерничали у темных открытых окон. Мерцали лица. Клочок смуглого неба над двором остывал от дневного жара.
Прежде по воскресеньям на подоконниках играли патефоны. Перебивая друг дружку, играли фокстроты и песни. В войну патефоны замолчали. Во дворе, под аркой подворотни, воцарился черный рупор радио.
Трубным голосом, слышным во всех квартирах, он читал сводки, говорил речи, пел, выкрикивал лозунги. Он выл ужасным воем, когда нужно было прятаться а подвал. И если иногда, после непрерывного говоренья, пения и воя, он ненадолго притихал — его неугомонное сердце стучало громко и тяжело.
Вот так он молчал и стучал, когда Валя и Люська вместе с матерью спеша выходили со двора в один очень жаркий день.
Дворничиха с противогазом через плечо стояла у ворот. Она спросила:
— Откуда же отправка им?
— С Витебского, — на ходу ответила мать.
Красные трамваи, звеня, подходили к остановке. С них были сняты дощечки, указывавшие, куда они идут (чтобы этими указаниями не могли воспользоваться шпионы). Подошел девятнадцатый номер. Мать не знала, идет он к Витебскому или нет, и спрашивала у людей, а они тоже не знали. «Доедете», — сказал наконец с площадки какой-то дядька, но было поздно трамвай тронулся, и мать побоялась вскочить с Люськой на руках. «Ой беда, ой опоздаем», — твердила она. Но подошла девятка, и они сели уже без сомнений.
Витрины магазинов были заслонены фанерными щитами. На одном щите наклеена газета. На другом написаны стихи черной краской. Валя прочла название стихотворения: «Ленинградцам».
В небе висела серебряная колбаса.
Чей-то памятник был обложен мешками с песком.
По мостовой шли мужчины в штатском, с противогазами, и с ними военный командир.
Стояла очередь перед лотком с газированной водой.
Бежала собачка на ремешке, за ней бежала, держась за ремешок, девочка с авоськой, в авоське капустный кочан как мяч в сетке.
Все это плыло в пекле дня — щиты, стихи, колбаса, собачка, мешки, пробирки с красным сиропом, военные и штатские.
Витебский вокзал был Вале знаком, прошлым летом она уезжала отсюда в лагерь, в Детское, и сюда же приехала из Детского: загорелые пионеры шли тогда по платформе с барабаном и с букетами, а родители их встречали. Теперь Валя бежала по знакомой платформе, держа Люську за руку, за другую руку держала Люську мать. Со всех сторон их толкали. Было жарко, как еще никогда в жизни. Всю длинную платформу пробежали они и сбежали по ступенькам вниз, на огненную землю, перевитую сверкающими рельсами. Они пролезали под вагонами и цистернами, на секунду их обнимала тень, казавшаяся прохладной. Знойно пахло железом, черные смолистые лужи были налиты на земле и черные расставлены горы угля.
Из-под одной цистерны вынырнули и увидели громадную толпу людей. Тут не было никаких платформ, ни ларьков, ничего — толпа людей и над толпой теплушки, вереница теплушек. Увядшие ветки, свернув неживые листья, свешивались с их крыш. На одной крыше стоял кто-то и кричал знакомые слова про фашистов, агрессоров. Слова то отчетливо были слышны, но относило их в другую сторону дуновением горячего ветра. Мать металась, твердя:
— Где же он! Ну где же он!
И вдруг они услышали отцовский голос:
— Нюра! Нюра!
Отец подходил к ним, одетый в военную форму. В военном он был худее и меньше ростом. Он сказал:
— Я боялся, ты опоздаешь.
Мать ответила:
— Я заезжала за детьми.
Она сняла с головы косынку и стала обмахивать лицо. Отдышавшись, заплакала, а отец ее утешал.
Совсем они не опоздали, еще даже паровоз не был прицеплен. Черный большой паровоз, могуче двигая рычагами, гулял в отдалении. Он приблизился, к нему обернулись, разговоры стихли. Но он опять великодушно отошел, бросая ярко-белые крутые облака в синее небо. Люська смотрела на него с отцовских рук и кричала: «Туту!» Рядом пели хором: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Подошла продавщица мороженого, она продавала эскимо на палочках.
— Дайте нам, — сказал отец.
Продавщица не слышала, она продавала другим и отсчитывала сдачу, доставая мелочь из кармана своей белой куртки. Вале очень хотелось мороженого, у нее просто горло горело. Она забеспокоилась, что продавщица всё продаст и им не хватит. Но настал их черед, и она им дала четыре эскимо. Мать, заплаканная, тоже стала есть.
— Так мы и не снялись все вместе на карточку, — сказала она.
— Детей увози, если будет такая возможность, — сказал отец, глядя, как Люська лижет эскимо.
Рядом пели: «Идет война народная, священная война».
Вдруг качнулись теплушки и лязгнули: это, подойдя под шумок, прицепился паровоз. Мать зарыдала. Кругом стали целоваться. Заиграла гармонь — так громко, словно закричала. Отец поцеловал Люську и спустил наземь. Поцеловал Валю: на нее пахнуло знакомым табачным дымом, а ее губы были липкие, онемевшие от эскимо. Онемевшими губами она сказала:
— До свиданья, папочка.
Что-то докрикивал, торопясь, человек на вагонной крыше. Ополченцы лезли в теплушки.
Теплушки двинулись, покатились на высоких колесах, в распахнутых дверях — лица, гимнастерки, пилотки. Толпа хлынула вслед, но за поездом долго ли угонишься! Быстрее — и замелькали теплушки, уже и лиц не различить, мелькает темная, в перехватах полоска сквозь дрожащую радугу слез.
Рукой Валя стерла с глаз радугу.
Последний вагон мелькнул, за ним открылась пустота рельсов и шпал.
Они пошли домой.
3
Приходит тетя Дуся и говорит:
— Прежде всего, Нюра, ты сшей рюкзаки.
До этого мать хваталась то за одно, то за другое. Постирав, начинала гладить. Не догладив, садилась починять белье. Бросив починку, стала из своих платьев шить платья для Вали и Люськи.
— Будет в чем ходить, — говорила она соседкам. — Будем не хуже людей. А то они из всего повырастали.
На фабрику она больше не ходила.
Тетя Дуся пришла и увидела раскиданное по комнате белье и лоскуты.
— Когда сошьешь рюкзаки, — сказала тетя Дуся, — сразу будет ясность: что брать, что нет.
Мать послушалась, бросила недошитое платье и стала кроить рюкзаки. Тетя Дуся давала советы, зажав в зубах дымящую папиросу и прищурив глаз.
— Главное, теплое все возьми, — говорила она. — Польта, валенки, все что есть. Там морозы до тридцати градусов и выше.
— А вы неужели останетесь? — спросила мать.
— Я одинокая, — сказала тетя Дуся, — кому-то оставаться надо, не может так тебе все и прекратиться. Мы будем выпускать диагональ, а возможно — шинельное сукно.
— Я этих тревог до смерти боюсь, — сказала мать. — Как завоет, я прямо ненормальная делаюсь.
— А я чего не выношу — это очередей, — сказала тетя Дуся. — До того они мне противны, я лучше есть не буду, чем в очереди стоять. Но я устроилась, я свои карточки Клаве отдала, ее девчонка, Манька, свой паек будет брать и на меня получит.
Тетя Дуся ушла. Мать села за машину и сшила из коричневой материи два рюкзака с лямками. Один большой — для себя, другой очень маленький — для Люськи. Люське тоже с этого дня полагалась своя доля тяжести.
У Вали был старый рюкзак, с которым она ездила в лагерь.
Мать гордилась — как аккуратно сшила и прочно.
— А для другого багажа руки свободны останутся, — рассуждала она. Удобная вещь рюкзак.
— Удобная вещь рюкзак, — повторила Валя, разговаривая с подружками.
Ей не подумалось, как от него будет болеть шея, от этого мешка. В лагерь и из лагеря рюкзаки ехали на грузовике, а пионеры шли вольно, без ноши, и срывали ромашки, растущие у дороги.
4
Тяжесть почувствовалась, едва сделали несколько шагов. Но Валя не сказала.
Не сказала и мать, хотя она самое тяжелое взвалила на себя — в одной руке корзина, в другой кошелка и бидон, горой рюкзак на спине, — и шла согнувшись, с оттянутыми вниз руками.
Одна Люська бежала и припрыгивала, веселенькая, у нее в рюкзаке были носки да платочки, да мыльница, да гребешок, да полотенце — утираться в дороге, да кружка — пить в дороге, а больше ничего.
Дворничиха стояла у ворот. Они попрощались:
— До свиданья, тетя Оля.
— Счастливо. Давай бог. Вернуться вам поскорей.
Было рано. Нежаркое солнце светило на одну сторону улицы. На асфальте были лужи от поливки.
Люська шла в новом платье с оборочкой, Валя — в новом платье с пояском и бантиком. Накануне мать сводила их в парикмахерскую. Им нравилось, что они отправляются в путешествие такие нарядные.
Перед тем как уйти, мать и Валя убрали комнату. Смахнули со стола крошки, посуду помыли и спрятали в шкафчик. Оттоманку покрыли газетами, чтоб не пылилась. Абажур еще накануне был укутан в старую простыню. Укутывая его, мать заплакала: ей вспомнилось, как она покупала этот абажур, как радовалась, что он такой веселый, красно-желтый, как апельсин, и думала — вот еще скатерть купить новую, и совсем хорошо станет в комнате, — а вместо того смотри ты, что стряслось над людьми.
5
И вот они сидят у Московского вокзала.
У Московского вокзала, вдоль по Лиговке, до самой площади сидят на мешках и чемоданах женщины и дети. Ждут отправки.
Где-то близко голосом надежды кричат паровозы.
Тетя Дуся собрала вместе всех своих, пересчитала и сердится:
— Барахольщицы, вам сказано было — шестнадцать кило и чемоданов не брать, а вы натаскали?!
— Сама говорила, — кричат женщины, — польта брать и валенки, а теперь куда деть, на Лиговке кинуть?!
— И так сколько дома бросили, — кричат другие, — не знаем — пропадет или цело будет!
— На всех про всех три вагона, — сердится тетя Дуся, — багаж запихаете, а сами останетесь, что ли?
— Небось впихнемся и сами! — кричат в ответ. — Ты вагоны давай получай скорей!
Все жарче печет солнце.
Ожидающие выпивают всю газированную воду и съедают все мороженое, что продается на площади и ближних улицах. Очереди у водопроводных кранов стоят по дворам Лиговки, Старо-Невского и улицы Восстания. Валя стоит с чайником и бидоном, Люська с кружкой.
Набрав воды и напившись, они мочат носовые платки с завязанными на углах узелками и натягивают на голову. Получаются такие приятные прохладные шапочки. Только они сразу высыхают.
Мать сидит на корзине. Возле ее рук и колен — их имущество. Рядом сидит на своем чемодане толстая бабушка с большим желтым лицом и очень черными глазами. Она одета в синее горошком платье, белый шелковый шарф на плечах. Обмахиваясь сложенной газетой, она разговаривает с матерью.
— У вас красивые девочки.
Мать, конечно, рада.
— В отца пошли, — говорит она. — Он тоже такой блондин, тонкая кость.
— Прекрасные девочки, — хвалит бабушка и дает Люське и Вале по шоколадной конфете.
— И ты скажи спасибо, — учит Люську мать. — Видишь, Валя сказала спасибо. Всегда надо говорить спасибо. Угостите бабушку водичкой. Пейте, бабушка.
В очереди много девочек Валиного возраста. Валя с ними познакомилась. Стайкой бродят они вдоль высоких домов, на них смотрят тысячи окон, перекрещенных косыми крестами из белых бумажных полосок.
Заходят девочки в большой магазин и разглядывают: что там есть.
Там есть разные шляпы, и материи, и меха, и мебель, что хочешь. Только забиты фанерой витрины и горит электричество.
Только зачем нам эта мебель? Мы и свою-то бросили, не знаем, пропадет или цела будет.
Хорошие материи, да нам бы их все равно девать некуда. И так мешки набиты доверху.
А вон ту шляпу я бы взяла, если б мне купили. Ту красоту из прозрачной соломы с цветами я бы взяла. Я бы ее на голову надела. Какие цветы. Как живые.
Гуськом выходят девочки из магазина. Идут дальше.
Есть балованные и бойкие, нарочно разговаривают погромче и смеются, чтобы прохожие обратили внимание.
Но прохожие проходят, не обращая внимания. Взглянет рассеянно и пройдет.
Может, ему в военкомат, призываться.
Или с окопов приехал, спешит домой поесть, помыться, дел миллион. Что ему девочки, идущие стайкой по улице.
6
Среди этих девочек была одна. Такая всегда бывает одна. Еще она молчит. Еще она издалека посматривает на тебя — какая ты, будет ли вам вдвоем хорошо и весело; а ты уже понимаешь: это из всех подруг будет самая твоя дорогая подруга!
— Тебя как звать?
— Валя. А тебя?
— Светлана. Пошли за мороженым?
— Пошли!
— Я попрошу денег у моей мамы.
Но матери кричат:
— Хватит бегать! Что вам не сидится? Если посадка — где вас искать?
С дорогой подругой посидеть рядышком на мешках — удовольствие.
— А ты что читала?
— Я читала такую книгу! Понимаешь: он ее любил. И она его любила…
— Какие у тебя косы.
— А мне больше нравится без кос. Как у тебя.
— А ты смотрела кино «Большой вальс»?
Женщина рассказывает, как немцы бомбят Москву.
Другая рассказывает, как бомбили Псков. Но чаще всего упоминается какая-то Мга. Все время: Мга, Мга.
— Ой, — говорит мать, — хотя б тревоги не было, пока мы тут сидим. Куда с вещами в убежище?
— Будем надеяться, что не будет тревоги, — отвечает толстая бабушка. И, сорвав с плеч шарф, машет им и кричит:
— Саша! Саша!
Лысый дяденька, глядя себе под ноги, пробирается к ней. Лысина у него как яйцо, как острый конец яйца. Глаза такие же черные, как у бабушки. Рукава рубашки засучены. Портфель в руке.
— Вы еще здесь, — говорит он. — Ты что-нибудь пила?
— Я пила, — отвечает бабушка. — Не беспокойся.
— Ела что-нибудь?
— Ела, ела. Не беспокойся.
— Принести тебе чего-нибудь? Мороженого. Хочешь, поищу мороженого?
— Ничего не надо, побудь со мной. Что нового?
Они разговаривают потихоньку. Он стоит нагнувшись, а она его держит за руку, за худую, жилистую, поросшую темными волосами руку, стянутую ремешком часов.
— Ты еще забежишь, Сашенька?
— Постараюсь.
— Вдруг нас отправят еще не скоро. Вдруг только вечером. — Никак она его не может отпустить. — Ты забеги на всякий случай.
— Я постараюсь.
Высоко поднимая ноги, дяденька выбирается из очереди.
— Сын? — спрашивает мать.
— Какой сын, вы бы знали! — говорит бабушка. По ее большим щекам текут слезы. — При всех своих занятиях нашел время ко мне наведаться. И еще придет, дорогое мое дитя!
Валя и Светлана переглядываются. Подумать, что такого лысого дяденьку называют: дитя.
Люська засыпает на коленях у матери. Бабушка делает из газеты будку, чтобы прикрыть Люську от солнца.
И Валя со Светланой прилегли на мешках, пряча головы в коротенькой тени, которую отбрасывает бабушка. От каменной стены пышет как от печки.
Тень передвинулась — Валя очнулась, села, черные круги перед глазами.
Раскатами нарастает грохот: низко над крышами проносятся два самолета. Люська дернулась во сне.
— Спи, доченька, — говорит мать, качая ее на коленях, — это наши.
Самолеты жгуче сверкают, пролетая. Кажется, что они еще раскаленней, чем этот камень. Они раскаленные, как солнце. И грохот от них раскаленный, яростный.
Лиговка и Невский катят свою карусель. Спешат люди и машины. Милиционер размахивает палочкой. К тем, кто сидит и лежит у вокзала, это все не относится, они уже не здесь вроде бы. Они начали свое путешествие.
Вот этот трамвай, двадцать пятый, сейчас пойдет-пойдет — по улицам, по мосту — к нам на Выборгскую. Минут двадцать всего, и пройдет трамвай мимо нашей улицы. И там на нашей улице — наш дом и наша комната, мы ее убрали и веник с совком поставили в уголку.
На нашей улице тихо.
Перед нашим домом на асфальте мелом начерчены клетки, это мы чертили. Кто-нибудь сейчас там играет, прыгает.
Всего двадцать минут, если сесть на трамвай, на вот этот двадцать пятый номер.
Люди садятся.
Мы не сядем. Мы начали свое путешествие, до свиданья. Далеко наш дом. Далеко наша тихая улица. На краю света.
7
Большая девочка пришла с матерью и братом. Мать и брат сели и стали пить и есть, а девочка ничего не хотела. Даже сесть она не хотела. Стоя, с злым лицом озиралась она и говорила своей матери злые, насмешливые слова:
— Ах, жарко тебе! Ах, не нравится тебе! А кто это затеял, мы с Виктором? Мы с Виктором хоть сейчас вернемся, пожалуйста. Ах, ты не хочешь! Ну что ж, пожалуйста. Но тогда не говори, что тебе жарко, потому что ты сама, сама виновата!
Брат молчал. Он был калека, на костылях, одна нога отрезана выше колена. Он молчал, опустив голову. А их мать стала жаловаться соседям, старичку со старушкой:
— Как я ее воспитывала, во всем себе отказывала, а она вон что себе позволяет.
Девочка сказала с отчаяньем:
— Что ты со мной делаешь! Куда ты меня везешь! Ты меня ненавидишь! Ты меня убиваешь! Ты мне такое делаешь, как будто ты не мать, а враг!
Тут и брат ее сказал:
— Ну, хватит!
А их мать спросила у старичка и старушки:
— Видели?
Старичок и старушка поднялись и стали чистить друг на друге одежу.
— Присмотрите, будьте добры, за нашими вещами, — попросили они. — Мы сходим пообедать к родственнице. У нас тут близко, на Второй Советской, живет родственница.
— Ишь как вы устроились, — сказали им. — А если без вас уйдет эшелон?
— Ну что ж, значит судьба, — сказала старушка. — Мы там, знаете ли, примем душ.
— И полежим на диване, — добавил старичок.
Все смотрели, как они идут мелкими шажками, старичок опираясь на палочку, а старушка держа его под руку, — и говорили:
— И не все им равно, в тылу помирать или в Ленинграде? Еще едут куда-то, господи.
А другие заступались, говоря:
— Жить всем хочется.
Молодая женщина прижала к себе краснощекого маленького мальчика, целовала его красные щеки и спрашивала:
— Василек, Василечек, когда мы теперь вернемся с тобой?
Закричал на вокзале паровоз. Еще один поезд уходит, увозит еще сколько-то народу. Все встают, беспокоятся, тетя Дуся появляется, растрепанная, с дымящей папиросой во рту, и говорит:
— Теперь уже скоро, женщины. Обещают, что скоро.
Паровоз кричит: я тут! Я работаю! Я сделаю все, что могу!
8
Люди с химкомбината уехали.
Артисты оперы и балета уехали.
Старичок со старушкой пообедали у родственницы на Второй Советской, приняли душ, полежали на диване и вернулись на Лиговку.
Большая девочка перестала ссориться с матерью; замолчала. Сидит на мешке, крепко обняв колени загорелыми руками, глаза угрюмо горят из-под бровей, лицо темно от пыли и гнева.
Женщины волнуются, что так медленно идет отправка.
— Что в сводке? Вы дневные известия слушали?
— Говорят, из Гатчины шли жители, гнали коров.
— Нам не через Гатчину. Нам через Мгу.
— Через Мгу. Мгу. Мга.
Светлана рассказывает Вале:
— Я постучалась, спрашиваю: можно? Он говорит: войдите. Я вхожу. Он говорит: чем могу быть полезен? Я говорю: попробуйте меня, пожалуйста, в роли Снегурочки. Он говорит: мы моложе восьмого класса не принимаем. Я говорю: извините, пожалуйста, а разве способности ровно ничего не значат? Он говорит: вот о способностях мы и будем разговаривать, когда вы перейдете в восьмой класс. Ты понимаешь, я чуть не заплакала. Говорю: ну, тогда извините, — и пошла поскорей. Еще два года ждать, ты понимаешь?!
У Светланы плечи узенькие, руки и ноги как палочки. На ногах сандалии. Голубые бантики в косах.
— Ты мне будешь писать? — спрашивает Валя.
— Как же я буду тебе писать, когда я не буду знать, где ты. И ты не будешь знать, где я.
— Ты мне напиши на ленинградский адрес. И я тебе напишу на ленинградский адрес Война кончится, приедем и найдем друг друга.
— Ужас, до чего надоела мне эта война, — говорит Светлана.
9
День бесконечен. Не счесть: сколько раз ходили за водой, и приваливались отдохнуть, и сколько видели лиц, и слышали разговоров, и сами разговаривали.
Но начинает наконец смягчаться сверканье неба. Уже можно взглянуть вверх не зажмуриваясь. Сиреневым становится небо и легким.
Черноглазая бабушка в горе: почему не пришел ее сын.
— Он обещал наведаться.
Она провожает трамваи печальным и жадным взглядом, вытягивая шею и приподнимаясь с чемодана. Все ей кажется, что на этом трамвае к ней едет сын.
— Может, придет еще, — успокаивают женщины.
— А если его перевели на казарменное положение? — спрашивает бабушка. — А если он уехал на окопы? Как мне узнать? Не съездить ли мне домой?
Но уже без пяти десять на вокзальных часах. А после десяти нельзя ходить по городу. Не удастся бабушке съездить домой. И сын ее не придет сегодня.
Медленно заволакивает ночь пролеты Лиговки и Невского.
Она уже не белая: белые ночи кончились. Сиреневая она сперва, потом простая, темная.
Без фонарей, и ни щелочки света нигде. Синие лампочки. Да бездонно высоко проступают звезды.
Лиговка это, или что это?
Где это мы сидим под звездами, путешественники?
Валя закрывает глаза, и ей снится пустыня Сахара.
— Валечка, — говорит над ухом голос матери, — поешь, детка.
Валя думает: «Мне потому снится пустыня Сахара, что я недавно читала про нее».
— Не ела целый день, — говорит голос матери. — Валечка, а Валечка, съешь яичко.
Громко разбивается яичная скорлупа. Должно быть, на всю Сахару слышно. До звезд.
Еще кто-то ест, шуршит бумагой, гремит бидоном. Кто-то спрашивает то здесь, то там:
— Градусник? Градусник? У вас нет градусника? Простите, у вас градусника не найдется?
Черноглазая бабушка рассказывает о своем сыне:
— Когда еще маленький был, все — мамочка, мамочка. К отцу не особенно, все мамочка. И сейчас говорит — уезжай, говорит, мамочка, я не могу перенести, чтобы ты подвергалась опасности.
Сквозь мешок, набитый одежей (кажется или нет? Нет, не кажется), сквозь мешок (ну вот, опять) — слабые далекие толчки. Как будто землетрясение где-то. А, ну да. Это бомбежка, какое там землетрясение. Бомбовозы прилетают и бросают бомбы. Далеко: звука никакого, беззвучно вздрагивает земля. Далеко…
Притихла очередь.
Погромыхивая железом, на толстых шинах прокатил черный грузовик.
Идет какой-то военный.
Военный, которому разрешается ночью ходить по городу, переходит сюда с той стороны, где гостиница.
Черноглазая бабушка подняла голову. Ей, наверно, подумалось, не сын ли идет. А это военный.
Он идет вдоль очереди, высматривая. Сделает шаг и остановится, смотрит.
Чего ему надо?
Как вдруг поднимается над грудами багажа темная фигурка.
Поднялась, протянула руки… Ни слова не сказано. Как она очутилась возле военного? Валя моргнула — уже фигурка возле военного. Еще раз моргнула Валя — уже они уходят. Ладно идут они в ногу.
Сапоги военного стучат, а фигурка с ним рядом шагает словно по воздуху. И где-то в глубине ночи негромко засмеялась она.
В военную, без щелочки света ночь засмеялась она под высокими звездами так беззаботно, будто шла на одну только радость. Будто не летели бомбовозы и не целились пушки, чтобы убить ее радость.
10
Кончилась ночь. Валя встала и огляделась.
Было раннее утро, как тогда, когда они вышли из дому. Опять нежно светило солнце и прохладна была тень от домов.
Прошла машина и полила мостовую широкими свежими струями.
Воробьи чирикают и прыгают по мостовой, не боясь водяных струй. Маленькие быстрые коричневые воробьи вспархивают на тротуар, клюют крошки возле мешков и людских ног.
Матери расчесывают волосы дочкам. Женщина кормит ребенка грудью, прикрывшись косынкой.
И Люська проснулась. Она просыпается так: сначала начинают вздрагивать ресницы, потом приоткрываются глаза, они медленные, томные, они еще видят сон, наконец совсем открываются, яркие, чистые-чистые.
Люська проснулась, и видно, что она все забыла: где она и что с ней. Сидит и смотрит то налево, то направо, то вверх на небо.
Их новые платьица, которые мать шила и гладила с таким стараньем, стали мятыми и грязными, все оборки и бантики, как тряпочки. Какая досада! Еще вчера они были такие приличные!
11
О, новость, вот это новость, это событие! Знаете, кто ночью ушел с военным? Та большая девочка, что все ссорилась со своей матерью. Теперь понятно, почему она выходила из себя и ломала руки: ее увозили, а она хотела остаться там, где ее любимый. И оттого говорила дерзости.
— Как же она все-таки согласилась эвакуироваться?
— Она, может быть, его потеряла. Не знала, где он.
— Его, может быть, не было в Ленинграде.
— А мать ее заставила ехать.
Это девочки рассуждают, сверстницы Вали и Светланы. Собравшись стайкой, рассуждают, обсуждают, сочиняют.
— Они уехали, а он пришел к ним на квартиру.
— А ему сказали, что они уехали.
— И он пошел на вокзал. Вдруг, думает, она еще тут!
— Пришел, а она тут!
— И похитил!
— Какое же похищение, когда она сама к нему выбежала.
— Конечно, похищение, потому что потихоньку.
— А мать спала. С вечера, говорит, не могла заснуть, а тут как раз заснула.
— И брат спал?
— А кто его знает.
— Не спал он. Я видела.
— Говорит — спал.
— Вон та тетенька видела, как они уходили. Она ребеночка кормила. Видела и ничего не сказала.
— Кто ж бы сказал. Ты бы сказала?
— Ни за что!
— Никто бы не сказал, — говорит Светлана. — Это надо не знаю кем быть, чтобы сказать.
Мать беглянки плачет. Женщины ее утешают:
— Может, вернется! Одумается и прибежит!
— Да, как же, прибежит она, — плачет мать.
— Заявить можно, — говорит одна женщина. — Его за такие поступки, будьте покойны, не похвалят.
— Куда я заявлю, — плачет мать беглянки, — когда я даже фамилии не знаю, только знаю, что Костя!
Другие женщины говорят — как же она без паспорта, паспорт остался у матери.
А девочки говорят:
— Она красивая.
— Что ты, красивая! Совершенно она не красивая!
— Просто самая обыкновенная.
Спорят, но ясно и спорящим, и молчащим, что эта беглянка, эта грубиянка — существо особенное: ведь во всей огромной очереди только за ней, какая бы она ни была наружностью, пришел ее любимый, и она выбежала к нему, протянув руки.
— У нее глаза голубые-голубые.
— Что ты, голубые! Карие у нее глаза.
— Ничего подобного. Не то серые, не то зеленые, не разберешь какие.
— Ты видел или нет? — пристает мать беглянки к своему сыну-калеке. Ты спал или нет?
Калека молчит-молчит, потом обрывает:
— Да перестань! Тошно!
И ужасно становится похож на свою сестру.
— Пусть хоть у кого-нибудь в семье будет настоящая жизнь, — говорит он.
— Хорошо как жизнь, а как смерть? — плачет мать.
— Тоже ничего, — говорит калека. — Настоящая смерть на войне — тоже неплохо.
Он трудно поднимается, собирает свои костыли, идет. Он, когда был маленький, баловался на улице и попал под трамвай. Лопатки у него торчат под рубашкой, и нестриженые волосы лежат косичками на худой шее.
Женщины говорят:
— Без паспорта, без карточек, в чем была, — с ума сойти!
А девочки говорят:
— Как она ломала руки. Какая она была несчастная.
— Какая она сегодня счастливая!
— Ты рада? — спрашивает Светлана.
— Да! — отвечает Валя.
— Хорошо, правда?
— Хорошо!
Они быстро, по секрету от всех, пожимают друг другу руки.
В военную темную ночь, и такая история. Что за праздник нечаянный у девочек возле Московского вокзала!
12
И все как ветром сдунуто враз. Ничего этого нет.
— Светла-наааа! До свида-ньяааа!
Не видно Светланы, только слабенький голосишко звенит в ответ: «До свида-ньяааа!»
Все дальше, слабей звенит голосишко: «…ньяааа!»
Вздев мешки на спину, потоком идет народ.
Как щепочку, уносит Валю в душном потоке. Идем, идем. Не остановиться, не оглянуться. Справа мешок, слева мешок; каменные, ударяют больно. Собственный рюкзак давит Вале на позвонки, гнет шею. Идем, идем. Без конца идем, не видно куда. «Сейчас задохнусь», — думает Валя, но с готовностью идет и без страха: так надо. Так в нашем путешествии полагается. Только крепче держаться за Люськину руку. С другой стороны держит Люську мать, — мы все тут, потеряться не можем…
…В вагоне. Темно от вещей и людей. Валя, Люська, еще чьи-то маленькие дети, двое, на верхней полке. Там же чьи-то узлы. Внизу толчея голов. Мать говорит:
— Сели, слава богу.
До верха полон вагон, но люди входят, входят, вносят, вносят, непонятно, как это все вмещается. Те, кто раньше вошел, говорят:
— Что они делают, дышать же нечем!
Черноглазая бабушка говорит свое:
— Так он и не пришел. Боже мой, так я его больше и не повидала!
На нижней полке напротив лежит на материнской жакетке краснощекий маленький мальчик Василек. Он заболел. Это его мать, оказывается, искала ночью градусник. У него тридцать девять и три.
— Тридцать девять и три! Тридцать девять и три! — несется по вагону. — Корь! Дифтерит! Скарлатина! Ветрянка!
Из толчеи является белый халат с красным крестом. Спрашивает громко:
— У кого тридцать девять и три?
Вслед за белым халатом — тетя Дуся.
— Ты, Нинка, всегда, — говорит она. — Вечно у тебя что-нибудь. И главное — в последнюю минуту.
Молодая мать Василька оправдывается:
— Как будто я нарочно, детя Дуся, что я могла сделать?
— Могла раньше сказать, — сердится тетя Дуся, — могла не сажать больного ребенка со здоровыми. Надо ответственность иметь и перед ребенком, и перед коллективом. Которые твои манатки? Давай помогу.
Женщина в белом халате уносит Василька. Его мать идет за ними и говорит, смеясь и плача:
— Вот мы, Василечек, и вернулись в Ленинград.
Резкий свисток, заскрежетало под вагоном железо. Сдвинулись, тихо поплыли за мутным стеклом вокзальные здания.
Валя смотрит с верхней полки.
Тетя Дуся стоит на перроне, машет рукой. Проплыла, скрылась.
Размахивая портфелем, бежит по перрону дяденька с лысиной, как яйцо. Смотрит на поезд и бежит, вскидывая ноги в серых брюках.
— Ваш сын! Бабушка, ваш сын!
— Где? Где? Где? — кричит бабушка.
— Вон! Вон! — кричит Валя.
Но бабушке не видно и не пробиться к окну.
Скрылся дяденька.
…Поезд идет, как в туннеле, между другими двумя поездами, стоящими на путях. Длинный темный туннель, но вдруг голубизна, небо нараспашку, внизу — невиданная улица с домами и заборами и зеленые растрепанные деревья, а мы над улицей и над деревьями едем в голубой простор по высокой насыпи. Все бойчей идет наш поезд. И колеса запевают свои песни.
А Светлана осталась в Ленинграде. Или тоже уехала? Там на вокзале столько было поездов… Светлана, где ты, ты уехала или нет? Мы с тобой даже не поговорили так, чтоб почувствовать — вот так наговорились, все теперь друг про друга знаем. Мы ведь должны были стать подругами на всю жизнь!
Мать вьет гнездо на той стороне полки, где сидят Валя и Люська.
Что-то она им стелет, чтоб было мягче, и снимает с Люськи сандалии, чтоб легче было ножкам, и, намочив водой из бидона тряпочку, обтирает эти запыленные ножки. Из кошелки достает хлеб, огурцы, ножик, соль. Не кладет куда попало, сначала расстилает у Вали на коленях чистое полотенце. Красными и черными крестиками на полотенце вышиты петушки и коники, кто, бывало, увидит — обязательно скажет:
— Что за полотенце у вас такое красивое.
А мать ответит:
— Это еще моя мама вышивала себе в приданое.
Сейчас никто не любуется старинным полотенцем. Не до полотенец им. Не до уюта.
А мать все равно вьет гнездо.
— Как бы мне вам платья переменить, — говорит она.
Вила гнездо под крышей, в комнате, оклеенной новыми обоями. Вила, как могла, на тротуаре под небом, на Лиговке. Теперь вьет на вагонной полке.
Устроив и покормив своих детей, садится внизу рядом с черноглазой бабушкой, бабушка ее пустила на свой чемодан — и задремывает, усталая от трудов и волнений посадки, руками придерживая склоненную голову. И Валя, сидя поджавши ноги на полке, сверху видит небольшую эту темно-русую голову с тонким белым пробором.
13
Она учила своих девочек всему хорошему, что знала сама.
Не ее вина, что знала она не много. Она не успела научиться. Ей и на фабрику нужно было, и дома все делать — готовить, шить, убирать, стирать. Спала меньше всех: все еще спят, а она уже встала и варит суп или гладит отцу рубашку.
Если вкусное что-нибудь, она им троим раздаст, а сама скажет — я уже ела.
Если отец выпьет когда, она его уложит, укроет, уговорит не петь, а соседям скажет — Митя отдыхает, устал на работе.
И всегда взваливала на себя самое тяжелое, и всегда торопилась.
Ее радость была — все делать для тех, кого она любила.
Валя ничего этого не успела даже понять.
Ничего я не успела понять. Не успела как следует полюбить тебя. Ты меня приучила, мне казалось — так и надо, чтобы ты раньше всех вставала и все для нас делала.
Глупая я, глупая, думала о Светлане, — ты была около меня, а я о тебе не думала, думала о Светлане!
Я бы потом поняла, когда выросла! когда поумнела! Я бы ноги тебе мыла, мамочка!
14
К станции Мга идет поезд.
Больше, впрочем, стоит, чем идет. Пойдет-пойдет, иной раз даже шибко, — и станет, и стоит три часа, четыре часа…
Нева то видна из поезда, а то скрывается.
Мужчины и женщины копают окопы. Летит с лопат ярко-черная земля и ярко-рыжая. В поезде люди говорят:
— Уже возле самого Ленинграда копают.
На болоте сложены какие-то плиты. Люди говорят — торф.
Говорили, Мга совсем близко, рукой подать. А ее все нет. Все она впереди, Мга.
Но мы к ней приближаемся. В тесноте и муке, с затекшими ногами, засыпая от духоты дурным, мутным сном и просыпаясь со стонами, приближаемся к тебе, Мга, последний наш выход из города, к которому подходят убийцы.
Я запомню все эти болота и постройки.
Не станет этих построек, а я их буду помнить.
Приближается ночь, мы приближаемся к Мге. На нашем пути она неминуема, Мга.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
1
В старую конфетную коробку Ксения Ивановна положила лекарства и сказала:
— Если порез или царапина — помажете йодом. Если заболит горло — вот стрептоцид, по таблетке три раза в день. И на всякий случай даю валерьяновые капли.
Ксения Ивановна от всего пила валерьяновые капли и других любила поить.
— На остановках не выходите, а то загуляетесь и поезд уйдет, что тогда будете делать? А если все-таки выйдете и поезд уйдет, обратитесь в железнодорожную милицию. Уж как-нибудь вас доставят.
— Мы не будем выходить, — сказала Люська. — Мы будем все время в поезде сидеть.
— И потом — ты, Валя, уже большая, я должна тебя предостеречь, сказала Ксения Ивановна, понизив голос. — Избегай дорожных знакомств с молодыми людьми. Ни в коем случае не допускай этих знакомств! У молодых людей в поезде только одно на уме — как бы познакомиться и поухаживать. Сначала он с тобой заговорит, потом принесет тебе кипятку, а потом подсядет и начнет ухаживать. А тебе это неприлично. Ты еще маленькая. И вообще неприлично, даже взрослым. Ты так сделай. Если он принесет кипятку, ты скажи: благодарю вас, мы не нуждаемся в ваших услугах, нам даст чаю проводник. Я один раз ехала, еще до войны, и какой-то в шляпе ехал. Нас было три девушки, и он ухаживал за всеми. Но я сказала: прекратите, я знаю эти штуки, не на такую напали! А известны случаи, — продолжала Ксения Ивановна, зловеще помаргивая, — когда он прикинется, будто ухаживает, а потом возьмет и стащит твой чемодан, только ты его и видела!
— И у вас стащил? — спросила Люська.
— Нет, лично у меня нет, — ответила Ксения Ивановна, — но с дочерью одной учительницы был такой случай. У меня не так просто что-то стащить. Я когда еду, то глаз не спускаю с моего чемодана. А когда сплю, то чемодан у меня в изголовье, и я ложусь так, чтобы все время чувствовать его головой.
— И мы ляжем, — сказала Люська. — И мы так ляжем, чтоб чувствовать головой.
Другие воспитательницы тоже хотели бы дать Вале разные полезные советы. Но они не могли себе ясно представить, какая сейчас жизнь в Ленинграде и что можно посоветовать тем, кто туда едет. Они задумывались, сбивались и, начав советовать, не доводили дело до конца. А Ксения Ивановна была уверена, что ее советы пригодятся при любых обстоятельствах.
2
Валя, Люся! — будила она торопливо-тревожно. — Вставайте, ехать пора!
Валя вскочила. Ударило светом в глаза. Ксения Ивановна стояла одетая, с мокрой лисой на плечах, держала лампу… Валя стала одеваться, хватая не те одежки, дрожа от ночного холода. Многие девочки тоже поднялись из-под серых одеял, одевались молча. Люська села в постели и сидя досыпала, пар шел от ее открытых губ.
— Вставай! — сказала Валя.
— Я хочу спать, — сказала Люська, качаясь.
— Одевайтесь, одевайтесь! — повторяла Ксения Ивановна, уходя в волнении. От валенок ее отпечатались на полу темные следы, похожие на восьмерки. Среди ночи она ходила в колхозную конюшню проверить, запрягают ли лошадей.
Сани у крыльца. Старшие девочки и воспитательницы вышли провожать. Крыльцо освещено фонарем. Дядя Федя, двигаясь неловко на своем протезе, укладывает багаж. Он закапывает Люську в солому. Тетя Настя ему помогает.
Потом Люську укутывают черным пахучим тулупом, и все подходят ее поцеловать. Ее тут баловали, такую славненькую.
Тем, кто остается, грустно.
— Валечка, пиши! Хорошо тебе устроиться!
— Закрывайте рты хорошенько, а то простудитесь! — Это Ксения Ивановна говорит.
— Ты смотри не особенно себе позволяй! — Это говорит тетя Настя дяде Феде.
Тронулись сани.
Тихо тронулись сани, медленно отступает детдом — длинное темное строение, кучка людей на крыльце, фонарь над крыльцом на бревенчатой голой стене.
Это все отступает медленно в ночь и исчезает, когда унесли фонарь. Ночь — даже полосы от полозьев не разглядеть на снегу, даже полосы полозьев не соединяют нас с тем, что исчезло.
Мороз неподвижный, чистый. Спят в неподвижном морозе далеко друг от друга раскиданные села. И в детдоме, наверно, опять все легли, проводив. А мы едем, обмотанные шарфами, стынут глаза.
Мы прожили в детдоме три года, три месяца и три дня.
Там мы получили известие, что папа убит под Шлиссельбургом. Люська плохо помнила папу и не плакала.
Нас учили.
Мы выросли.
Дом, где мы жили в Ленинграде, разрушен. Это и странно и не странно, как подумаешь. Дом был, когда были мама и папа. Его не стало, когда не стало их.
Но мы едем в Ленинград, это устроила тетя Дуся. Еще давно, в голоде, под бомбами, она написала: «Фабрика вас не оставит, ждите». Мы ждали, и дождались, и едем.
Пофыркивают лошади. Хорошее животное лошадь. Мороз, мрак, а оно везет себе, пофыркивая.
Начинает светать. Перед нами внизу — будто молоко разлито до горизонта — огромная замерзшая река. Мы спустились к реке. На ее белой глади цепочкой чернеет дорога, по которой нам ехать.
Мы, должно быть, очень маленькими кажемся в этом белом студеном утре, встающем из ночи. Ползет через неоглядную зимнюю равнину черненькая какая-то козявка. А на самом деле это целых две лошади, и сани, и две девочки, и солдат в шинели, и женщина, которая правит лошадьми, широкая суровая женщина в платках, с белыми от инея бровями и ресницами.
3
Иззябшие, они захлебываются теплом и махорочным дымом вагона. Махорочный дым и музыка! Патефон играет вальс. Морячок, не обращая на патефон внимания, играет свое на гитаре с голубым бантом. Гитару он взял у девушки в белом пуховом берете. Он играет и поет: «Я уходил вчера в поход в далекие края». Припев «моя любимая» он поет, обращаясь к девушке, а она начинает делать разные движения — смотреть на часы, заправлять волосы под берет и отворачиваться к окну.
Люди на всех полках, до потолка. На нижних — по три, четыре человека. В этой тесноте они пьют чай, играют в домино, ходят по вагону. В окнах раннее розовое солнце.
Едем.
Устроив Люську и Валю, дядя Федя их кормит. Кипятку он захватил на станции. Люди смотрят с интересом, что едят Валя и Люська, смотрят на их платья из жесткой материи защитного цвета и говорят одобрительно:
— Детдомовские? Сухой паек хороший дали в дорогу. И платья пошили новые.
— И пальтишки, — говорит дядя Федя. — Пальтишки тоже новые, не как-нибудь.
— Дочки? — спрашивают у него.
— Почти, — отвечает дядя Федя и подмигивает Люське, он ее полюбил. Еду по своему делу и дал согласие сопровождать.
Конечно, людям интересно, по какому он едет делу.
Дядя Федя начинает издалека — рассказывает, как его часть брала Ропшу, как он был ранен и лежал в Ленинграде.
— И теперь, — говорит он, — я желаю жить только в этом высококультурном городе, и моя супруга, она в данное время в детдоме поваром, со мной солидарна.
Люди говорят:
— Вот как.
— Мой знакомый майор, — говорит дядя Федя, — демобилизовался в Ленинграде — неплохую получил комнату на набережной реки Карповки. Помещение, правда, чердачное, но оборудован санузел и проведено электричество.
— То майор, — говорит другой солдат, — а мы что за генералы, чтобы получать квартиры в Ленинграде?
Но дядя Федя говорит — чины не первое дело, есть вещи более говорящие уму и сердцу, — когда, например, человек сражался за Ленинград и потерял ногу, что, не верно?
Другой солдат говорит, что оно-то верно. Слово за слово выясняется, что они с дядей Федей земляки, оба из-под Вологды. Дядя Федя достает из кармана шинели бутылку с мутной жидкостью, похожей на керосин, и говорит:
— Позволим себе по этой уважительной причине. Деревенский, свеженький.
Они чокаются с земляком жестяными кружками.
Едем.
Против Вали — офицер и девушка. Они держатся за руки, их пальцы сплетены и неспокойны. Время от времени один поворачивает голову и взглядывает на другого, и сейчас же, дрогнув, поворачивается другой, и они глядят прикованно друг другу в глаза, и офицер что-то шепчет, нежно шевеля губами, и девушка обливается румянцем.
Она говорит:
— Мне жаль.
— Чего жаль? — спрашивает он, нагибаясь к ней.
— Домика.
— Нашего домика?
— Да… Крыльцо. Дорожку. Окошечко.
— Почему жаль?
— Потому что я это больше не увижу.
— Очень жаль?
— Очень.
Взгляд в глаза. Девушка обливается румянцем. Потом она спрашивает:
— А тебе?
— Я взял наш домик с собой. Он у меня тут.
Офицер похлопывает свободной рукой по своей сумке. Девушка улыбается, счастливая.
— Ты все взял?
— Все.
— Дорожку не забыл?
— Как же бы я ее забыл.
— Ты не забыл, что окошечко было красное?
— А сосны черные.
— И месяц над соснами.
— Молоденький, тоненький… Вот он. И сосны вот они. Всё тут. Вот какая ноша. Тяжело от тебя уйти с этой ношей.
— Ты вернешься, — говорит она, закрывая глаза, и сжимает его пальцы. — Ты вернешься, ты вернешься!
— Ты меня встретишь, — говорит он. — Я открою сумку и все достану. Домик, месяц. Дорожку…
Но она плачет. Почему она плачет так горько? Он, должно быть, в отпуску был и снова едет воевать. А с войны, бывает, не возвращаются… Музыка! Патефон играет румбу. Морячок играет на гитаре с голубым бантом «Солнечную поляночку».
4
Мне нравится, чтобы играла музыка. Чтобы у людей были спокойные, довольные лица.
Как хорошо, когда разговаривают вежливо и приветливо.
Особенно мне нравится, когда красиво говорят о любви. Ну что она плачет, такая любовь у нее, а она плачет.
Гражданочка, что вы сделали, испортили вашими слезами прекрасный разговор! Гражданочка, гражданочка… Я знала другую, та смеялась. Без паспорта, без карточек, в чем была — шла и смеялась…
Вообще, устала я от слез.
Конечно, без слез как же, когда война…
Но хоть по возможности — пусть побольше, пожалуйста, будет красивого и играет музыка.
Дядя Федя разувается, чтобы показать земляку свой протез. Зачем это, я не понимаю, показывать? Люська. А Люська. Иди сюда. Давай я тебе лучше, хочешь, почитаю. Чего тебе там смотреть. Почемучку давай почитаю тебе.
5
Читали Почемучку.
Книгу «Радуга» читала Валя, уже не вслух, — для себя. О войне.
Дядя Федя и его земляк рассказывали о войне. Все слушали. Еще один солдат ехал на верхней полке, спал, загородив проход ногами в синих шерстяных носках. Он проснулся, свесился с полки и охрипшим со сна голосом тоже рассказал о войне.
Война, война, боль, кровь!
Потом женщины рассказывали, как плохие жены изменяют мужьям.
Одна женщина рассказала о вещих снах и видениях.
Дяди-Федин земляк сказал — видения бывают только у психических, но что действительно бывает, это предчувствия.
Морячок сказал — предчувствия тоже предрассудок. Оставив гитару, он прочитал маленькую научную лекцию. Солдаты одобрили, что он такой образованный, не зря его учили, расходовали народные средства. Закончив лекцию, он рванул струны и запел любовное с новой силой, и девушка в пуховом берете уже улыбалась, не отворачивалась, она стала его уважать за лекцию. И правда же, это много значит, когда человек, который оказывает тебе внимание, может прочитать лекцию.
Тем временем померк декабрьский день, первый день пути. Долго стояла в окне желтая полоса заката — растаяла, и под потолком в махорочном тумане зажелтели лампочки. Все, устав, угомонились, и певцы, и говоруны, и тот, что с утра крутил пластинки. Притих вагон, только в глубине его один голос монотонно и неустанно рассказывал что-то… Люська заснула, прижавшись к Вале. И Валя вдруг поплыла куда-то — упала к соседке на плечо, очнулась… Солдат в шерстяных носках стоял рядом и поталкивал задремавшего дядю Федю.
— Товарищ, товарищ, — говорил он тихонько, — проснись, послушай: мне через остановку сходить, занимай для детей мою полку, слышишь…
Дядя Федя разобрался, вскочил и, не тратя слов, поднял Люську наверх. Люська, не просыпаясь, пробормотала: «Иди, вот я Вале скажу», — и сладостно растянулась, привалясь светлой встрепанной головой к солдатову сундучку.
— И вы полезайте, девушка, — сказал солдат Вале и сел на ее место возле дяди Феди. — Закурим, товарищ.
Тучи горького дыма поднялись снизу.
— Устраиваться, значит, едете, — сказал солдат.
— Я очарованный странник, — сказал дядя Федя. — Очаровал меня Ленинград.
— Нет, — сказал солдат, — я к себе в Курскую область, когда окончится. У нас там вишни хорошо цветут.
— Нахозяйничал Гитлер в вашей Курской области.
— Поправим.
— Теперь уж недолго, — сказал дяди-Федин земляк, — все пойдут кто куда. Вопрос месяцев, а скоро будет вопрос дней.
— Я что в армии освоил, — сказал дядя Федя, — я машину прилично освоил. Буду стараться получить права.
— Торговая сеть, — сказал земляк, — имеет свои преимущества.
— Эх, земляк, — вздохнул дядя Федя, — какой я продавец, чего я наторгую? Я лесоруб, я плотник, я птиц любитель, — очарованный странник, тебе говорят…
6
Второй дорожный день. Почти полпути проехали.
Высадился солдат в шерстяных носках. Высадилась девушка, та, что плакала. Один, темней тучи, едет девушкин офицер, ни на кого не глядит.
Большая станция. Стоят поезда, обвешанные ледяными сосульками. Многие пассажиры вышли подышать воздухом. Вышел и дядя Федя, он с утра опять себе позволил, и у него болит голова.
— А мы не выходим, — объясняет Люська соседям. — Нам Ксения Ивановна не разрешила. А то загуляемся и поезд уйдет, что тогда будем делать? А если у нас заболит горло, мы будем принимать — стрептоцид — по таблетке три раза в день…
Она говорит все рассеянней и медленней, лицо становится задумчивым. Задумчиво глядя куда-то, она принимается стоя качать ногой, так она поступает всегда в затруднительных положениях.
Валя оглянулась — какое затруднение у Люськи.
Стоит молодой парень, или большой мальчик, в ватнике, ушанке, через плечо переброшен полупустой рюкзак.
Лицо чистое, можно сказать — красивое. Темный пушок над губой…
Парень видит, что они на него обратили внимание, и спрашивает вежливо:
— Тут все места заняты?
— Кажется, все, — отвечает Валя, дичась и чувствуя себя виноватой, что приходится отказать человеку. Но и человек-то что думает, разве по вещам, везде наваленным, не видно, что здесь ни одного свободного места.
Парень говорит:
— Ну, придут — я уступлю. — И садится на кончик скамьи.
— Подсел, — говорит Люська.
— Что?.. — спрашивает Валя.
— Он подсел! — повторяет Люська торжественно. — Он в шляпе!
Качая ногой, она спрашивает:
— Это у вас правда шляпа?
Парень в недоумении:
— Что она спросила? Ты что спросила?
— Это шляпа! — в восторге, что предсказания сбываются, говорит Люська. — Сейчас он начнет ухаживать.
— Это шапка, — говорит сбитый с толку парень. — Конечно, шапка, а что же еще. Ты хочешь, чтобы я за тобой ухаживал? — Он улыбается невеселой какой-то улыбкой. — Смешная девочка. Ты очень смешная девочка. Как же за тобой ухаживать? Ну хочешь, я тебе принесу кипятку, ты попьешь чаю.
— Благодарю вас, — говорит Люська, качая ногой. — Мы не нуждаемся в ваших услугах, нам даст чаю проводник.
— Что делается, — говорит парень. — Откуда ты такая взялась?
Он шутит, но глаза строгие. Улыбнулись чуть-чуть и опять помрачнели.
— И как же зовут тебя?
— Люся, Людмила, — благовоспитанно отвечает Люська тонким голоском. А вас?
— Володя. Будем знакомы?
Люська вкладывает в его руку свои пальчики.
— Сестра ваша? — спрашивает он у Вали. — В Ленинград едете?
Она не привыкла разговаривать с незнакомыми парнями, да и знакомых было много ли — несколько сельских ребят! — и отвечает «да», робея, краснея и негодуя на свою дикость. Чтобы он не подумал, что она совсем дура нелюдимая, она спрашивает:
— И вы?
— Я тоже. Вы в Ленинграде где живете?
— Мы жили на Выборгской, — говорит она. Что дом их разбит, договаривает в мыслях, вслух стесняется — чересчур уж получится бойкий разговор.
— Мы на Дегтярной. Знаете Дегтярную?
Она не знает Дегтярной, вообще мало что знает дальше своего района, по правде говоря. Ей снятся улицы, она считает — это ленинградские, но, может быть, она их придумывает во сне…
Это все она ему рассказывает мысленно, а вслух произносит одно только слово:
— Нет.
Возвращаются пассажиры, выходившие дышать воздухом. Возвращается дядя Федя. В одной руке у него бутылка топленого молока с коричневыми пенками. В другой — большая, румяная, великолепная картофельная шаньга. Он несет эти свои приобретения бережно и с достоинством, и, конечно, он недоволен, что его место занято.
— Ну-ка, парень, — говорит он.
Тот встает безропотно. Дядя Федя, успокоившись, разламывает шаньгу пополам и дает Люське и Вале, приговаривая:
— Покушайте гостинца.
— Я потом, — говорит Валя.
Потому что парень смотрит на шаньгу. Она бы отдала ему половину своей доли. Даже всю свою долю. Но как дать? Сказать «нате»? Обидится. Спросить: «Хотите?» — скажет: «Спасибо, не хочу».
Он отвернулся. Сидит на мешке чьем-то и смотрит в другую сторону. Отвернулся, чтобы не мешать Вале есть. Будто так уж ей нужна эта шаньга.
Поезд идет. Идет контроль.
Старичок контролер в очках, а перед ним проводница, она выкликает:
— Приготовьте ваши билеты!
Все достают билеты. Дядя Федя лезет в нагрудный карман. И тот парень лезет в нагрудный карман. У всех внимательно рассматривает контролер билеты, а у некоторых еще спрашивает документы, и громко щелкают его щипцы, и когда они щелкнули — уже тот человек спокоен, он едет правильно и может ехать дальше, куда ему нужно.
Так проверил контролер дядю Федю и его земляка, женщину, которая рассказывала про сны, и морячка, и девушку в пуховом берете, и остальных всех, и вот он повернулся к парню в ушанке и ватнике, сидящему на чьем-то мешке. Парень подал бумаги.
— Билет, — сказал контролер.
Парень встал и молчал.
— Нет билета? — спросил контролер, глядя сердито через очки.
— Мне нужно в Ленинград, — сказал парень.
— А пропуск где? — спросил контролер.
— Мне очень нужно в Ленинград, — сказал парень.
— Мешок твой? — крикливо спросила проводница. — Где ж твои вещи? Это все вещи твои?
Парень молчал. Все молчали, покамест контролер читал его бумаги.
— Так, — сказал контролер, дочитав. — Пошли.
Опустив глаза, парень двинулся вслед за проводницей. Контролер за ними. Все заговорили громко.
— Как можно, — говорили одни, — ехать зайцем, на что это похоже!
— А вам никогда не приходилось? — спрашивали другие. — Не знаете, почему человек иной раз едет зайцем?
— Просто жулик, — говорили третьи. — Думал украсть чего, — не вышло.
— Валь! — сказала Люська. — Он думал украсть чемодан?
— Хватит тебе повторять глупости, — сказала Валя.
— Он жулик? Валь!
— Нет.
— Просто он молодой человек, — примирительно сказала Люська, желая утешить и подлизаться.
Валя взялась за «Радугу». Ей грустно стало. Еще почти двое суток в этом вагоне… Какие несправедливые есть люди. Не может быть у жулика такое лицо.
7
…Вот запало в голову чужое окошечко и месяц над черной сосной.
Тонкий месяц светит. Краснеется окошечко. Зовет дорожка, бегущая к домику.
Что будет у меня, что? Какая предстоит мне любовь?
Какие подвиги, какие переломы судьбы?
Это со всеми так или только со мной, что все время уходят от меня те, кто мне нужен, или я от них ухожу?
И этот тоже — на минутку подсел, и нет его, увели.
Будет ли встреча прочная, вечная?
8
Сколько печных труб, оказывается, понастроили люди. Вот они торчат, трубы, во множестве торчат из-под снега. При каждой трубе была раньше печь, варилось кушанье, люди грелись. Сейчас голо и дико торчат бездомные трубы. Все кругом рухнуло, лежит под снегом, печи, стены, а трубы торчат.
Подъезжаем.
Все одеты в пальто и давно стоят на ногах, накаляя вагон своим жаром. Дядя Федя в шинели, спустив наушники и завязав тесемки под небритым подбородком, встал как скала позади Вали с Люськой. Толчок под ногами, и остановился поезд, люди начинают выливаться из вагона.
Свежий воздух в лицо, столб, часы…
Ленинград?
Толпа льется по перрону…
— Держись! — вскинув на спину багаж, велит Люське дядя Федя. Люська ухватилась за его шинель рукой в рукавичке… Железная калитка в конце перрона, и у калитки — да, она! — тетя Дуся, постаревшая, потемневшая, но она, она! — пряди стриженых волос вдоль щек, папироса во рту, прижмуренный глаз…
9
У тети Дуси умылись над раковиной в большой темной кухне и пообедали. Кроме супа и каши была сладкая наливка, и не только дядя Федя, все, даже Люська, позволили себе и выпили за то, чтоб больше с нами этого не было, сколько б мы ни прожили, хоть по сто лет, — будем здоровы!
Накрывала на стол и грела обед молодая красавица. Ее звали Маней. Она работала на фабрике. Мать у нее умерла в блокаду.
Тетя Дуся рассказывала, как Маня тушила пожары и поймала ракетчика.
— Схватила мерзавца за шиворот.
Маня весело засмеялась. Совсем нетрудно было вообразить, как эта Маня с подбритыми бровками и золотистыми локонами хватает мерзавца за шиворот. Такой был вид у нее боевой, что ничего о ней вообразить не трудно. Среди пляшущего пламени она бегала по крышам, ну что ж. Она все могла. Как ловко сидел на ней черный свитер, загляденье.
— Что думаешь делать? — спросила тетя Дуся у Вали, когда закончился обед и закончились воспоминания и дядя Федя, распрощавшись, ушел к своим знакомым.
Валя поделилась давнишним планом.
— Я бы хотела, — сказала она, запинаясь, ей самой этот план казался фантастическим, хотя мало ли фантастического на свете… — Хотела, если можно, съездить на Мгу, поискать мамину могилку. Папину, конечно, не найти…
— Это удивительно, — сказала тетя Дуся, — до чего вы ни о чем не имеете понятия. Ты ехала: ты видела? Можно там найти могилу? Мга! На Мге все перекопано, мин еще до черта… Она будет искать могилку!
— Но я помню, где она! — сказала Валя. — Вот так находится ров, к которому мы бежали. А так…
— А зачем у тебя на могилы настрой?! — спросила тетя Дуся гневно. Молодая! Жить должна! Становись на участок, где мама работала, — это будет красота, это я понимаю!.. А пока бери-ка Люську да идите в баню, самое первое дело с дороги баня.
Когда Валя собрала белье, тетя Дуся к ней подошла и поцеловала.
— Ты все-таки молодец, — сказала она. — Я боялась, ты слабонервная, как мама была, — нет, ты молодец. Где баня, помнишь? А то Манька проводит.
— Не надо провожать, — сказала Валя. — Я помню.
Они хорошо помылись с Люськой, потом Валя сказала:
— Пойдем посмотрим, где был наш дом. Отсюда близко.
Горели фонари. Мелкий снег, блестя, крутился вокруг фонарей. Валя озиралась, — напоминания обступали ее, выходя из летящего снега. Вывески, подъезды, звон трамваев, освещенный вход в кино, завитая кукла в окне парикмахерской, все было напоминаниями. Но почему-то думала Валя не о том, как она ходила тут маленькой, — ей снова вспомнилось ее поездное знакомство, молодой человек Володя, которого увел контролер.
«Он все равно доберется до Ленинграда, — подумала она, — и я смогу его встретить. Даже сейчас могу его встретить, почему нет, как будто это так уж невозможно».
И на всякий случай стала смотреть на прохожих.
Люди шли по улице, входили в магазины, выходили из магазинов. Ловко вскидывая над снежным тротуаром короткое толстое туловище, на руках прошел безногий, его отечное, темное, хмельное лицо вдруг вынырнуло перед Люськой. Люська отпрянула.
— Валь, — сказала она, — я не хочу смотреть, где был наш дом. Идем к тете Дусе.
— Уже скоро! — сказала Валя. — Вон наш угол! Вон тот, где булочная! Видишь? Где высокое крыльцо, мы там покупали хлеб.
Они дошли до булочной и свернули за угол.
Все дома были на месте. Только одного не было, вместо него — дощатый забор. Слева стояла фабрика-кухня, к ее каменным столбам примело свежего снежку. Справа подымался высокий темный дом, только несколько окон в нем было освещено. А посредине — провал, будто зуб выпал. Провал и дощатый забор.
— Надо же! — сказала Валя.
Они постояли, глядя на забор.
— Вот тут были ворота, — сказала Валя.
— А может, — сказала Люська, — это не наш дом. Почем ты знаешь?
— Ну как же мне не знать! — сказала Валя. — Вот тут всегда стояла дворничиха. Ее звали тетя Оля. Пройдешь подворотню, и направо второе наше было окно.
— Ну, пойдем, — сказала Люська.
Обратно лучше было идти: ветер дул в спину. Сквозь снег загорались на перекрестках то зеленые огни, то красные.
10
— С легким паром! — сказала тетя Дуся. — Вешайте пальтишки к батарее. Сейчас чай пить будем.
Маня в кухне развешивала на веревке чулки и лифчики и пела: «Вышел в степь донецкую парень молодой». И пела она, и развешивала белье, и мыла таз как-то приятно, ловко, с удовольствием. «И я завтра все перестираю», подумала Валя.
На керосинке сопел чайник. Тетя Дуся наколола щипчиками сахар, нарезала хлеб, достала из шкафчика банку консервов и сказала Мане:
— Свинобобовые открой-ка.
— Тетя Дусечка, — сказала Маня, — это не свинобобовые, это паштет.
— Как же паштет, — возразила тетя Дуся, — когда свинобобовые?
— Ну как же свинобобовые, когда паштет! — воскликнула Маня, держа банку в разбухших от стирки маленьких ручках с колечком на розовом пальце.
И они еще поспорили, прежде чем открыть банку. Там оказался паштет. Сели за стол. Люська ела все, что давали, и тянула из блюдечка чай, раскрасневшись, а Валя съела немножко, она боялась, что мало останется тете Дусе и Мане, которые столько голодали. Она смотрела на Маню и думала: «Какая красивая». Ей хотелось иметь такой же свитер и такую же прическу. Быть тоже бедовой, проворной. «Она разговаривает с тетей Дусей как равная, — думала Валя, — это потому, что она тушила пожары и спасала умирающих».
Постучали в дверь, пришла женщина.
— Нюрины девчата прибыли, — сказала ей тетя Дуся. — Ты помнишь Нюру?
— Это какая Нюра? — спросила женщина.
— Ну как же, — сказала тетя Дуся, — небольшая такая, во втором цехе работала.
— Рябоватенькая? — спросила женщина.
— Нет, рябоватенькая — то Соня была, — сказала тетя Дуся, и Маня подтвердила:
— То тетя Соня была.
— А чего ж это я Нюру не помню? — спросила женщина.
Вошла другая женщина, болезненная, угрюмая. Тетя Дуся и ее спросила:
— Нюру помнишь? Это ее дети.
— Нюрины дети? — переспросила женщина.
Она стояла, прислонясь к двери, и смотрела на Валю и Люську.
— Не похожи на Нюру, — сказала тетя Дуся. — В отца, я его знала, белокуренький такой был.
— На Нюру не похожи, — эхом повторила женщина.
Она отвернулась, и в профиль Валя ее узнала. До чего она изменилась, она была совсем молоденькой, когда сидела на Лиговке у Московского вокзала со своим мальчиком Васильком. Волосы у нее стали редкие и серые, и черты другие, будто не ее лицо, непонятно, как Валя ее узнала.
Узнав, она об этом не сказала и не спросила про Василька. Она понимала, что спрашивать не надо. Что можно, скажут без твоих вопросов. Ты молчи, жди, когда тебе скажут.
Посторонние ушли. Тетя Дуся и Маня стали готовиться к ночлегу. Тетя Дуся уложила Люську с собой на кровати, а Маня постелила себе и Вале на полу. Подушки она прислонила к батарее парового отопления. Через окна с улицы светил свет в комнату.
— Ложись к середке ближе, — сказала Маня. — Место есть.
— Мне хорошо, — ответила Валя.
Они лежали деликатно, стараясь не прикасаться друг к другу.
— Будут тебе предлагать в трампарк, в стройтехникум и так далее, сказала Маня, — ты не соглашайся. Не советую тебе. У нас коллектив мировой, а там еще неизвестно. Это первое. Второе — вашу маму у нас помнят. Так что ты не кто-нибудь, а своя, потомственная.
Тетя Дуся сказала с кровати:
— Слушай Маньку, она дело говорит.
Валя спросила шепотом:
— А у тебя тоже разбомбили дом?
— Нет, — ответила Маня. — Моя мама когда умерла, тетя Дуся забрала меня, так у ней и живу. Скоро уже три года. А комната у меня есть. Неплохая.
Она повертелась, укладываясь поудобней, и засвистела носиком. Всхрапнула тетя Дуся. Валя лежала, дышала тихо. От батареи было тепло. Отсвечивало темной гладью зеркало на комоде.
«Я приехала? — спросила Валя у кого-то. — Здравствуйте! Нет, я еду, еду, буду ехать всю жизнь…»
Маня сказала сонно:
— Четырнадцать квадратных метров. В случае одна надумаю жить — есть где.
— Я те дам одна, — сказала тетя Дуся. — Спи.
По улице прошумел грузовик. Все дома на улице были на месте, только вместо одного — дощатый забор.
— Надо же! — сказал дядя Федя.
— Поправим, — сказал солдат в шерстяных носках.
— Нам даст чаю проводник, — сказала Люська.
— Приготовьте билеты! — сказала проводница.
Музыка заиграла. Кто-то запел: «Вышел в степь донецкую парень молодой». Парень был в ушанке и ватнике. Черными глазами он смотрел на Валю.
1959
ВОЛОДЯ (Рассказ)
1
Когда в поезде контролер сказал Володе «пошли!», Володя пошел спокойно. Он не чувствовал за собой вины, бояться ему было нечего. Что у него нет пропуска в Ленинград, так откуда же он возьмет пропуск, раз отец не прислал ему вызова. А без пропуска билет все равно бы не продали, если бы даже у Володи были деньги на билет.
Это формальности. Кто мог помешать ему вернуться в город, где он родился и жил до самой войны? Решил вернуться и вернется. Днем-двумя позже, это неважно.
Держа в руке свой легкий, полупустой рюкзак, он терпеливо пробирался среди мешков, чемоданов, корзин, которыми был загорожен вагонный проход. Проводница шла перед ним, выкликая:
— Граждане, приготовьте ваши билеты!
Контролер шел сзади, и за Володиной спиной сухо щелкали его щипцы.
«На ближайшей станции меня высадят, — размышлял Володя, шагая через чемоданы и мешки. — Допустим, отправят в милицию. Нет, вряд ли, я же не жулик. Ну, допустим, отправят все-таки. В милиции что мне сделают? Самое большее — составят протокол, а держать не будут, охота им меня кормить. Да нет, и протокол не захотят составлять, тратить время на ерунду. Выговор сделают, погрозят, а я попрошу, чтобы помогли уехать следующим поездом, потому что чего же мне там на станции болтаться зря. А если обойдется без милиции, сам уеду. Может, больше шансов проскочить незамеченным, если ехать с пересадками, короткими перегонами? Пожалуй; только есть ли подходящие поезда, надо выяснить… Я дурак, сам виноват, что сцапали. Снаружи надо ехать, на подножке. Так никогда ничего не добьешься, если бояться ветра. А интересно, — подумал он и глотнул слюну, — где мне придется поесть?»
Ему представилась большая, румяная, как топленое молоко, картофельная шаньга, которую купил девочкам солдат.
— Давай-давай! — сказал контролер и подтолкнул Володю.
Они преодолели тамбур, где женщины и дети толпились перед открытой дверью уборной, и вышли на междувагонный мостик — два металлических щита, переброшенных через грохочущую пустоту. Ледяной ветер рванул воротник Володиной куртки, поставил дыбом, прижал к щеке, — Володя глубоко вдохнул этот режущий ветровой воздух с примесью паровозной гари. В щели между щитами мчались рельсы.
Дальше опять был переполненный вагон, воздух серый и густой от махорки, от дыханий, и так же двигалась впереди проводница, уже другая, а за проводницей Володя, а за Володей контролер с щипцами. Так же медленно приходилось продвигаться, застревая в грудах наваленного багажа. И еще переход, еще вагон, до крыши набитый мешками, корзинами, взрослыми, детьми, плачущими, спящими…
А поезд шел ровным ходом, в окнах серое темнеющее небо и провода, и телеграфный столб проплывал одиноко и неторопливо.
«Что же, — подумал Володя, — так меня и будут водить по поезду?»
Но в следующем вагоне контролер его оставил, сдав на руки двум тамошним проводницам. Володины документы он унес с собой.
2
Одна проводница была постарше и потолще, коротконогая, плечистая, с большим белым лицом под маленьким черным беретом. Лицо выражало хмурую важность.
Другая — худенькая и еще молодая, хотя ее желтоватый лоб уже был разлинован длинными продольными морщинами. Худые руки торчали из рукавов кителя. Глаза были очень блестящие, а тонкие красные губы все усмехались, будто проводница вспоминала о чем-то смешном.
— Ишь, зайчик! — сказала она громко и резко, глядя на Володю, когда контролер ушел. — Смотри, Варя, какой зайчик! С черными усами!
И закатилась долгим нервным смехом. В смехе обнажились ее длинные желтые зубы и розовые десны. Володе сделалось неприятно от этого смеха, десен, зубов, от взгляда женщины. Он отвернулся и стал смотреть в окно.
Там были провода, столбы да лес. Темнело, лес мрачнел. Паровозный дым застилал окно и сразу развеивался, сорванный ветром.
Лес подступал вплотную и отступал. Открывалась серая бревенчатая деревня, уплывала, как приснившийся сон. Деревенские ребята слепили из снега большую бабу, стояла баба лицом к полотну, салютовала метлой, сквозь сумерки черные угольки ее глаз посмотрели на Володю пристально.
И стояли люди на маленьких станциях, протягивая флажки. Поезд замедлял ход, проходя мимо них; но не останавливался.
«Где-то он остановится все же», — подумал Володя.
Он был один в просторном тамбуре. Пассажиры здесь не толпились плацкартный, значит, вагон. Вышел лейтенант, бросил в мусорный ящик пустую консервную банку и промасленную бумагу, повеяло запахами жира, лаврового листа, сытости. Володя взглянул в открытую дверь: это был не просто плацкартный вагон, а купированный; коридор, застланный дорожкой, уходил во всю его длину; два офицера курили в коридоре. Да, есть избранники, которые едут в купированном вагоне, и никто не имеет права их высадить, и они едят свиную тушенку, полную банку тушенки съедает он! — и божественно пахнущую банку выбрасывает в мусорный ящик — видимо, даже не обтерев ее как следует хлебом…
«Об этом не думать! — приказал себе Володя. — С неба, что ли, свалится тушенка, если думать о ней?» Уже не раз он имел случай убедиться, что такие бесплодные мысли не ведут ни к чему хорошему: недостойную зависть порождают эти мысли и жалость к себе, человек размагничивается и слабеет, а Володя не хотел быть слабым…
Нерусские названия у станций на этой дороге: Кез, Чепца, Пибаньшур, Туктым. На каком это языке, на удмуртском? Мы через Удмуртию сейчас едем? А может, эти названия остались от племен, обитавших тут в глубокой древности? Как их: чудь, меря, мурома? (Володя любил историю, любил читать исторические книги.) А из тех станций, что зовутся по-русски, у некоторых такие горькие, безотрадные имена: Убыть, Безум. Должно быть, эти имена при царском режиме перешли к станциям от ближних деревень. Сколько горя должен был нахлебаться народ, думал Володя, чтобы назвать так свои поселения. Деревня Безум…
«Где-то меня высадят?»
Желательно все-таки, чтобы это произошло, пока еще не окончательно стемнело, и чтобы это была порядочная станция, где есть электричество и имеют обыкновение хоть раз в сутки топить печку в комнате для ожидающих.
— Балезино? — спросил кто-то за Володиной спиной. Младшая проводница прокричала в ответ:
— Балезино, Балезино!
Поезд замедлял ход.
Так. Сейчас, значит, придет контролер. Придет контролер с документами и скажет: «Слезай, приехали».
Двери защелкали. В тамбуре зажглась лампочка. Тамбур заполнился пассажирами, ожидающими остановки. Сплошь кители и шинели с офицерскими погонами.
А окно стало совсем темным, когда зажглась лампочка.
«Ну, где ж контролер мой?»
— Разрешите, — важно сказала старшая проводница, с фонарем протискиваясь на площадку.
В темном окне медленно поплыли огоньки. И остановились. Заскрежетало под ногами. Вспыхнув алмазами в морозных разводах на стекле, брызнул в глаза свет над станционной вывеской: Балезино.
3
— Молодой человек, — сказал важный голос, и старшая проводница тронула Володю за локоть, — идем-ка сюда.
В тесном купе проводников на столике стоял стакан чая и лежали ржаные сухари.
— Садись поешь.
Он сел. И когда с хрустом разгрыз сухарь и ощутил на языке солоноватый прекрасный вкус, — только тогда по-настоящему понял, до чего же проголодался.
— Ешь, — сказала проводница. — Все ешь, не стесняйся.
Она налила ему еще стакан из большого, весело кипящего самовара.
Поезд шел полным ходом. На десятки километров позади осталась станция Балезино. Контролер не пришел.
Володя ел, а проводница стояла рядом, суровая, с маленьким беретом над большим лицом, и серьезно смотрела маленькими белесыми глазами без бровей. Спросила:
— Мать есть?
— Есть.
— Чего делает?
— В сберкассе работает.
— А отец?
Володя глотнул чаю.
— Отца нет.
— А братья, сестры?
— Сестра.
— Большая?
— Нет. Маленькая.
— А ты кем работал? — Она смотрела на его руки.
— Слесарем.
Проводница кивнула:
— Ничего!
Вошла младшая проводница с пустыми стаканами на подносе.
— Зайчик! — сказала она, просияв своей желтозубой, розоводесной улыбкой. — Зайчик кушает! — и опять залилась мелким смехом, и стаканы запрыгали и зазвенели на подносе.
— Перебьешь! — строго сказала старшая.
Володя, опустив глаза, допивал чай. Он знал этот женский смех без причины и этот отчаянно блестящий женский взгляд. То же было у его матери.
— Ложись-ка, — сказала ему старшая проводница. — Отдохни маленько.
И указала на верхнюю полку, где был постлан полосатый тюфяк и лежала подушка.
Сняв ватник и валенки, Володя залез наверх. Там было очень тепло, но он с удовольствием натянул на себя толстое колючее одеяло. Пускаясь в путь, он не рассчитывал ни на какие удобства и теперь охотно и благодарно пользовался всем хорошим, что подворачивалось. «Эх, а контролер-то меня забыл! — подумал он. — Пока вспомнит, я посплю!» Он сладко вытянулся в предвкушении отдыха. Внизу проводницы мыли стаканы. Потом достали вязанье и сели рядышком на нижней полке. Лампочка светила тускло. Вагон мотало. Привычные, они вязали кружево, ловко работая крючками. Только младшей мешали приступы смеха, накатывавшего на нее.
— Давай-ка запевай лучше, — сказала старшая. — Ну совершенно ты себя в руках не хочешь держать, Капитолина.
Младшая тихо запела. Старшая вторила.
— «Мыла Марусенька белые ноги», — пела младшая прерывисто, будто задыхалась. А старшая гудела негромко:
— «Мыла, белила, сама говорила».
Мимо купе прошел, кидая двери, офицер, блеснули на его груди сплошные ордена. Младшая проводница встала и заглянула на верхнюю полку.
— Спит? — спросила старшая.
— Спит, — ответила младшая, блаженно сияя зубами и деснами. — Спит заинька хорошенький.
И старшая поднялась, чтобы бросить сурово-заботливый взгляд на мальчика, спящего под этим движущимся странническим кровом. Он лежал, прижавшись щекой к подушке в казенной клейменой наволочке, в его черных ресницах был покой, и ровно поднимались юношеские ключицы. И, словно карауля этого неизвестно чьего мальчика, стояли внизу женщины, вязали кружево и пели.
— «Плыли к Марусеньке серые гуси, — шевеля крючками, пели они чуть слышно под стук колес, — серые гуси, лазоревы уши…»
4
Перед отъездом из Ленинграда, летом сорок первого года, Володя с матерью ходил к отцу.
— Надо попрощаться, — сказала мать, — кто знает, может, не суждено больше увидеться.
Два раза они его не заставали дома, он был в госпитале. Во второй раз их встретила жена отца: женщина, которую мать в своих рассказах называла она — без имени — и которая в Володином детском представлении была существом опасным, хищным, бессовестным, вторгающимся и отнимающим, — это существо вторглось к ним и отняло у них отца, когда Володе было два года, а мать была совсем молодой и неустроенной, так она и осталась неустроенной…
Стесняясь рассматривать, он взглядывал на эту женщину и сейчас же отводил глаза, но ничто не укрылось от его неприязненной зоркости. Она была некрасива! Как странно, что отец покинул маму ради этой раскосой, с острыми скулами, в обыкновенном — обыкновенней не бывает — сером платье, с длинными худыми руками! Ее даже не сравнить с мамой, думал Володя горделиво-горько. И одевается мама в десять раз красивей. Всегда на ней какая-нибудь нарядная косыночка, или кружевной воротничок, или бант, платья пестрые, яркие. Особенно в тот день она была хорошенькая, завитая и приодетая, с глазами, блестящими от волнения и страха.
Да, мама боялась этой женщины. Робела перед ней. Так робела, что путалась в словах, запиналась, Володе стыдно было. А мачеха стояла, глядя узкими глазами то на нее, то на Володю, и говорила тихим голосом. Она сказала, чтобы они пришли вечером, отец будет дома. Конечно, надо попрощаться, сказала она и посмотрела на Володю задумчивым долгим взглядом. У нее большая просьба. Она не говорила Олегу, что у него есть брат, Олег не знает. Она хотела бы, чтобы Олег услышал это от нее самой… в свое время. Если Олег, когда они вечером придут, еще не будет спать… Чтобы он как-нибудь случайно… Она просит и Володю, он уже большой мальчик…
— Нет-нет, Володя не проговорится, будьте покойны! — торопливо и испуганно сказала мать, как будто это желание мачехи, о котором давным-давно было известно и которое почему-то исполняли беспрекословно, не было желанием глупым, низким и глубоко возмутительным.
Они пришли вечером, отец был дома. Он их принял хмуро и вежливо. Утомленно полузакрыв глаза, поддерживал разговор. Ему нелегко было притворяться, что его интересуют их дела. Слезы выступали у него на глазах, когда он сдерживал зевоту, раздиравшую ему челюсти. Он повторялся и путался. Несколько раз выражал удивление, что Володя вырос. Вспоминая после об этом, Володя резко усмехался…
Вдруг ему потребовалось узнать, с какими отметками Володя перешел в седьмой класс, — вот, действительно… Ему и в мирное-то время было наплевать на Володины отметки. Спросив, отец положил Володе на плечо свою большую, с тонкой и красной от непрестанного мытья кожей, докторскую руку. Володя покраснел — прямо-таки запылало лицо от этой ласки, от которой некуда деться и с которой не знаешь, что делать.
Сидели в кабинете: письменный стол, шкаф и полки с книгами. Чистая, уютная квартира в новом доме. «Здесь на диване он спит». К изголовью дивана был придвинут столик, на столике лампа, газеты, будильник. «Он тушит верхний свет и зажигает на столике и, прежде чем заснуть, читает газеты, а утром звонит будильник и будит его».
Мачеха входила очень тихо, приносила чай и угощенье к чаю. Она принесла три чашки: маме, Володе и отцу, сама не села пить с ними. Когда она первый раз вошла с вазочками, отец на нее посмотрел, будто спрашивал: «Это так нужно?» Она на него не взглянула, ставя вазочки на стол, но всем своим видом, спокойным и решительным, как бы ответила: «Да, нужно».
Ее сын Олег, должно быть, уже спал, они поздно пришли, или куда-нибудь она его запрятала.
А мать опять сидела как виноватая, поджав под кресло ноги в белых носочках и стесняясь взять печенья. Володя ей сигнализировал: «Пошли домой!», но она не шла и усердно помогала отцу вести ненужный, обидный разговор.
Под конец он пожаловался, что на жизнь не хватает, приходится выкручиваться. Впрочем, перед прощаньем дал матери денег.
Прощанье было холодное, смущенное. Он желал им разных вещей, а сам думал: «А-ха-ха, сейчас они, слава богу, уйдут, а я спать лягу».
Мать заплакала, выйдя на улицу.
— Он подумал, что я пришла из-за денег.
Володя дернул плечом:
— Не надо было ходить. Не ходили, и не надо было.
Она шла и плакала. Он ожесточился и сказал:
— Если не суждено больше увидеться, лично я не заплачу.
Но она, сморкаясь, возразила кротко:
— Все-таки ведь много было когда-то и хорошего.
Дня через два они уехали, долго ехали и приехали в Н.
5
Их поселили в комнате вместе с двумя латышками, бежавшими из Риги. Латышки не стеснялись при Володе раздеваться и одеваться — он был еще пацан.
Латышки ходили в меховых шубах, в Н. такие шубы называют дошками, и с блестящими кольцами на пальцах. По утрам, перед тем как уйти на работу, они снимали кольца и прятали в мешочки, надетые на шею. Работали латышки на перевалочной базе — перебирали картошку и мыли бочки от солений. Придя домой, они подолгу натирали кремом свои покрасневшие, растрескавшиеся руки. Иногда им там на базе выдавали несколько соленых огурцов или баночку кислой капусты. Они угощали Володю и его мать, как бы мало у них у самих ни было — обязательно угостят.
Володя замечал, что его латышки угощают с удовольствием, а маму нехотя, просто потому ее угощают, что неудобно не угостить. Он обижался за мать, но молчал — что ж тут скажешь?
Очень вкусны были большие, темно-зеленые, налитые рассолом огурцы с мятыми боками.
Латышки предложили Володиной матери, что устроят и ее на перевалку, они считали — это выгодней, чем служить в сберкассе. Но мать сказала — ну их, эти бочки, в сберкассе работа чистая и привычная и видишь людей. Латышки не спорили, они вообще были молчаливы, изредка перебросятся несколькими словами на своем языке. Когда они бывали дома, это Володе ничуть не мешало готовить уроки и читать. Шум вносила мама, она, приходя, что-то начинала рассказывать ослабевшим от усталости голосом, спрашивать, смеяться.
Никогда она не жаловалась, не сердилась на трудную жизнь. Скажет иногда вскользь, без огорчения, принимаясь за еду: «Фу ты, опять этот суп», или расскажет, так же вскользь, что вкладчик ей нагрубил несправедливо. В те дни ей еще все казалось легким, она была уверена, что самое хорошее у нее впереди. Блестя глазами, говорила об этом латышкам.
— Не может быть, чтобы все уже кончилось. Нет, я чувствую, что еще полюблю и буду любима.
Латышки сжали губы.
— Ваш мальчик вас слышит, — сказала одна.
— Ничего, — беззаботно сказала мать, — что ж тут такого. У меня будет настоящее счастье, не то, что было. То, что было, так быстро пролетело, я и не заметила, как оно пролетело. Подумайте, я кормила, а он сошелся с ней… Нет, не может быть, что это уже все.
— У вас есть сын, — сказала другая латышка. — У вас есть для кого жить.
— Да, конечно, — нерешительно согласилась мать и замолчала.
Так блестели у нее глаза. Такая нежная была у нее шея, тонкая белая шея в много стиранном, застиранном кружевном воротничке. Волосы она причесывала по-модному, в виде гнездышка.
6
Школьники ездили в колхоз убирать сено и полоть. Они жили в красивой местности, такой тихой, будто никакой войны нет на свете, а есть только широкие поля, располагающие к неторопливости и раздумью, и глубокий прохладный лес, полный жизни и тайны, и в самой глубине его — озеро: холодная лиловая вода, обомшелые камни; а кругом — сосны, темными вершинами устремленные в небо. Ребята удили рыбу в озере, варили ее либо пекли в угольях, здорово вкусно было.
Володе там понравилась городская девочка Аленка из другой, не их школы. В Аленку были влюблены многие ребята, но Володе она сказала, когда прощались:
— Приходи к нам. Придешь?
«Придешь?» спросила, понизив голос. И, опустив ресницы, продиктовала адрес — он записал. Они вернулись в город. Он каждый день собирался пойти к ней, его звало и жгло, и по ночам снилось это «придешь?», сказанное вполголоса, и эти опущенные ресницы, — и было жутко: вот он пришел; что он скажет? что она ответит? После того «придешь?» — какие должны быть слова! Из-под тех опущенных ресниц — какой должен вырваться свет! Чтоб сбылись неизвестные радостные обещания, данные в тот миг. Чтоб не уйти с отвратительным чувством разрушения и пустоты…
Ночные зовы были сильны — он все-таки собрался.
Собрался и обнаружил, что штаны ему ужас до чего коротки и рукава тоже, — он еще вырос! Не замечал, как растет, глядь — ноги торчат из штанов чуть не до колен.
«Нельзя к ней в таком виде».
Других штанов не было.
«И вообще нельзя в таком виде».
— Это действие свежего воздуха, — сказали латышки, — и свежей рыбы.
Они перестали ходить при Володе полуодетыми, раздобыли материи и отгородили свою половину комнаты. И когда Володе надо было ложиться или вставать, они уходили к себе за занавеску.
«Я вдвое сильней мамы, — думал Володя, раскалывая дрова в сарае, втрое сильней, а она меня кормит. Я варю суп и колю дрова, которые привезли латышкам, и хожу чучелом».
До войны отец помогал им. Но с тех пор, как они уехали из Ленинграда, о нем не было ни слуху ни духу. На письма он не отвечал. Может быть, его не было в Ленинграде. Может быть, его не было в живых.
«Хватит детства», — думал Володя, яростно набрасываясь с топором на полено.
Бросил топор и поглядел на свою руку: небольшая, а крепкая, смуглая, с хорошо развитыми мускулами, на указательном пальце и розовой ладони мозоли, нажитые в колхозе, мужская, подходящая рука…
Октябрьским дождливым утром он отправился искать работу.
У входа в сквер были выставлены щиты с объявлениями — где какая требуется рабочая сила. Засунув руки в куцых рукавах в карманы куцых штанов, Володя читал, что написано на мокрой почерневшей фанере…
7
В горсовете был человек, занимавшийся трудоустройством подростков, он послал Володю на курсы подучиться слесарному делу. Немножко они подучились — их направили на военный завод.
Завод находился далеко от города. Надо было ехать на поезде, а потом на автобусе лесами и перелесками. Автобусом называли грузовик с брезентовой будкой; кто сидел на скамьях вдоль бортов, кто прямо на полу.
Володе выдали ватную стеганую одежду, валенки и армейскую шапку. Через его руки проходили части механизма, не имевшие названия; говорили, например: сегодня мы работали шестнадцатую к узлу Б-7.
Цех, в котором Володя работал, назывался: цех номер два.
Все это звучало таинственно и важно, но сплошь и рядом их отзывали из этого многозначительного номерного мира для самых земных дел. Портился водопровод в поселке, и Ромка говорил:
— Пошли, Володька, посмотрим, что там такое.
И они шли паять трубы и накладывать манжеты.
Когда строили банно-прачечный комбинат, завод выделил бригаду молодых слесарей под Ромкиным руководством — налаживать трубное хозяйство.
Везде в мире разрушали, а здесь строили.
Комбинат был большой, пышный, как Дворец культуры.
На этой стройке Ромка женился. Зина была штукатуром. Они решили пожить на комбинате, пока он строится. Зина оштукатурила комнатку наверху. Ромка поставил железную печку и сделал из досок два топчана, один служил кроватью, другой столом. Ромка сделал и табуретки, он на все руки мастер, а материала было сколько угодно. Они сидели на табуретках и пили чай, у них было жарко и сыро, некрашеный пол затоптан известью. Когда начнется внутренняя отделка, говорили они, мы перейдем в техникум, его уже подвели под крышу, скоро там можно будет жить. А дальше видно будет. Может быть, уедем в Ленинград или к Зине в село Сорочинцы, описанное у Гоголя. Они были счастливы и всех звали приходить к ним в гости.
Но Зина заболела и умерла в больнице. Ее похоронили на маленьком кладбище на опушке леса. Похороны были торжественные, из города привезли венки с лентами. Пока говорили речи, Ромка без шапки стоял над открытой могилой, оцепенев от холода и горя, с неподвижным, посиневшим ребячьим лицом. Ему не везло — у него все родные умерли в Ленинграде, отец пропал на фронте без вести, и к тому же Ромка, как он ни бодрился и ни хорохорился, был болен сердечной болезнью. Его жена, которую он любил, была немного старше его. А ему было восемнадцать лет.
Вернувшись с кладбища, он лег на топчан и от всех отвернулся. Ребята сели и молчали. Один принес чурок и стружек и затопил печку. У стены стоял Зинин зеленый деревенский сундучок. Кто-то сказал потихоньку:
— Наверно, надо матери отправить сундучок.
По соседним гулким, без дверей, заляпанным светлым комнатам загрохали, приближаясь, шаги, вошел Бобров. Кивнул ребятам, погрел руку над гудящей печкой, подошел к Ромке:
— Ром, а Ром.
— Ну что? — спросил Ромка грубым голосом.
— Не надо тут лежать.
— А чего вам?..
— Пойдем где народ, Ром.
Единственной своей рукой он бережно похлопал Ромку по спине, светлый чуб упал из-под шапки.
— А, Ром? Пойдем в общежитие, а? Пошли!
Ромка встал, все с тем же окоченелым, одичалым лицом, и пошел с Бобровым. Ребята, не спрашиваясь, взяли Ромкины вещи и Зинин сундучок и понесли за ними.
8
Володина жизнь, интересы, дружба — все теперь было на заводе.
Об Аленке вспоминал редко. Было в этом воспоминании что-то горькое.
Матери писал иногда. Поехал к ней не скоро, на Первое мая.
Приехав, сначала увидел латышек, они стряпали в кухне. Они ему улыбнулись и спросили, как он живет. Потом вошел в комнату, где была мать. Тревожными, умоляющими глазами она смотрела, как он входит. У нее сидел капитан. Немолодой, лысоватый капитан. На столе — водка, закуска.
— Это мой сын, — сказала мать, пунцово краснея.
Капитан налил ему водки. Мать что-то спрашивала, но вид у нее был отвлеченный, вряд ли она понимала толком, что он отвечает. А он-то воображал — она будет вне себя от радости, что он приехал.
Ей было не до него сейчас. Он помешал им сидеть вдвоем и вести свой разговор. Какие-то фразы из этого несостоявшегося разговора, который был бы таким увлекательным, не ввались вдруг Володя, — какие-то фразы прорывались, и мать смеялась, блестя глазами, хотя ничего не было смешного. Володе было совестно за нее, ему не нравился лысоватый капитан с отекшими щеками, но он стеснялся уйти — показать, что все понимает.
Наконец он сказал:
— Я в кино схожу.
Мать обрадовалась. Но для виду возразила:
— Достанешь ли ты билет?
А капитан, пуская дым, смотрел искоса, как Володя уходит.
В кино Володя не попал, провел остаток дня у школьного товарища. Вечером вернулся — капитана не было. Мать бродила скучная и печальная. Поговорив немного, легли спать.
Поезд уходил в пять утра. Володя поднялся в четыре, он умел просыпаться когда нужно без всякого будильника… Уже было светло. За занавеской бодро всхрапывали латышки. Мать спала, положив голову на кротко сложенные руки. Волосы ее надо лбом были накручены на бумажки: чтобы волнились. С досадливым и жалостливым чувством Володя посмотрел, уходя, на это лицо, на исхудалые руки…
Только осенью он снова к ней собрался. Ее не оказалось дома, латышки сказали — уехала в дом отдыха.
— Она себя плохо чувствует.
Латышки сжимали губы, говоря это. У них на пальцах осталось по одному кольцу, обручальному, остальные кольца они прожили. И дошки их поизносились. Но настроение у них было отличное.
— Теперь уже скоро домой! — говорили они. — О! Рига! Самый красивый город — Рига! Ты вернешься в Ленинград, приезжай к нам в гости в Ригу, это близко, рядом.
Из такой дали действительно казалось, что Рига совсем возле Ленинграда, почти пригород.
«Вернешься в Ленинград!» Это было в мыслях у Володи, Ромки, у всех ленинградцев. Мало кто говорил: хочу остаться здесь. Помимо любви к своему городу, любви, ставшей в эти годы какой-то даже восторженной, — тут, видимо, вот какая была психология. Они уезжали в лихое, грозное время, когда враг пер по земле и по воздуху и брал город за городом. Эвакуация была знамением беды, неизвестности, развала жизни. Теперь фашистов теснили обратно на запад. Поющий, или играющий, или разговаривающий репродуктор умолкал, и люди умолкали, обернувшись на его молчание. Раздавались тихие позывные — один и тот же обрывок одной и той же мелодии, первые такты песни «Широка страна моя родная». Они повторялись, приглашая, собирая всех к репродуктору, — потом торжественно и повелительно взмывал знакомый голос: «Говорит Москва!» Приказы гремели победами. Снова город за городом, но — не горе, не гнев, не недоумение, а салюты из сотен орудий! Только что освобождена Полтава. Скоро очередь Киева. Возвращение домой означало: лихо позади, точка, гора с плеч, подвели черту — живем дальше, мы на месте, братцы, порядок!
Поэтому все так рвутся в свои места, говорили Володя с Ромкой, лежа вечером на койках в общежитии.
— Слушай, ты помнишь Невский, когда иллюминация?
— Почему когда иллюминация? Он и без иллюминации, и в дождь, и в слякоть — будь здоров. Ему всё к лицу.
— А на мостах вымпела в праздники, помнишь? Красные вымпела на ветру…
— А сфинксы на Неве? Это настоящие сфинксы, не поддельные. Их привезли из Африки.
— Да-да-да. Им тысячи лет.
— Ты ловил рыбу на стрелке Васильевского? Я ловил. А ты купался возле Петропавловки? Я купался.
— Мы же в другом районе. От нас далеко. От нас зато близко Смольный. А ты в какое кино больше всего ходил, в «Великан», наверно?..
У Ромки такой характер, что ему непременно надо к кому-нибудь привязаться. После смерти Зины он привязался к Володе. Разница в возрасте не мешала дружбе. Лицо у Ромки — маленькое, с мелкими чертами — было более детское, чем у Володи, рост меньше Володиного.
Приподнявшись в постели, подперев голову маленьким кулаком, Ромка перечислял:
— Убитые. Раненые. Блокада. Пропавшие без вести. Лагеря смерти. Прибавь — которых в Германию поугоняли. Подытожь.
— Ну.
— Страшное дело сколько народу, а?
— Ну.
— Как считаешь: какие это все будет иметь практические последствия?
— Как какие последствия?
— Для стран. Для людей.
— Гитлер капут, фашизм капут, тебе мало?
— Фашизм капут?
— Безусловно капут.
Ромка думал и говорил:
— Мне мало.
— Ну, знаешь!.. Ты вдумайся, что такое фашизм, тогда говори — мало тебе или, может быть, хватит.
Ромка молчал. Володя говорил:
— Ну, а то, что мы будем строить коммунизм?!
— Коммунизм мы и до войны строили. Я что спросил, как по-твоему: этой войной люди полностью заплатили за то, чтоб войны никогда больше не было?
— Спи давай, бригадир, — говорили с соседней койки. — Завтра в клубе прочитаешь лекцию.
— Или еще не всё люди заплатили? — спрашивал Ромка шепотом. — Еще придется платить? А?..
И Володя, подумав, отвечал:
— Я не знаю.
От отца пришло наконец письмо. Оно было адресовано не матери, которая ему писала и разыскивала его, а Володе на завод. Отец одобрял самостоятельный путь, выбранный Володей (мать ему сообщила); он сам рано стал самостоятельным. Он выражал пожелание, чтобы на этом самостоятельном пути Володя не забывал о необходимости дальнейшей учебы. О себе писал, что работает в том же госпитале. Как здоровье, жива ли его семья — ни слова. Он считал, что никого это не касается и сообщать незачем. Ну что ж, он и прав, пожалуй.
9
У матери родилась девочка.
Капитан перестал появляться раньше, чем это случилось. К нему приехала жена. Она ходила на квартиру к матери и жаловалась квартирной хозяйке и соседям, и плакала, и все ополчились на мать, разрушительницу семьи. Латышки не выдержали беспокойств, нашли себе где-то другое жилье. У квартирной хозяйки муж был на фронте, и она говорила — испорченные женщины пользуются войной, им хорошо, когда мужья разлучены с женами, им выгодна война, этим женщинам, ради их разврата льется кровь человеческая.
Она же и Володе все рассказала, хозяйка. Он поспешил уйти от ее рассказов, но он не мог защитить мать. Почем он знал, какими словами защищают в таких случаях? И как защищать, когда он тоже осудил ее в своем сердце — гораздо суровей осудил, чем эти простые женщины.
Мать толклась по комнате растерянная, потерянная, но силилась показать, что ничего особенного не произошло.
— Видишь, Володичка, — сказала она небрежно даже, — какие у меня новости.
— Как зовут? — спросил Володя.
Ведь делать-то нечего, осуждай, не осуждай — ничего уж не поделаешь, надо это принимать и с этим жить.
— Томочка, Тамара. Хорошенькое имя, правда?
— Хорошенькое.
Он не понимал. Можно любить нежную красивую Аленку. Нельзя любить плешивого капитана с отекшими щеками. Мысль, что мать любила плешивого капитана и родился ребенок, — эта мысль возмущала юное, здоровое, благоговейное понятие Володи о любви, о красоте любви. (То, с чем приходится иной раз сталкиваться в общежитии, — не в счет, мало ли что.) Опущенные ресницы, поцелуи, ночные мечтания — это для молодости, для прекрасной свежести тела и души. В более зрелых годах пусть будет между людьми уважение, приязнь, товарищество… пожалуйста! Но не любовь.
Понадобилось сходить в аптеку, ему было стыдно выйти из дому. Эта улица, где все друг о друге всё знают! Мрачный шел он, сверкая черными глазами.
Вернулся — в кухне была хозяйка, она сказала как могла громче:
— Вот ты на оборону работаешь, а она о тебе думала? Она об ухажерах думала.
— Будет вам, — сказал Володя.
Мать стояла на коленях возле кровати и плакала.
— Я перед всеми виновата! — плакала она. — Перед тобой виновата, перед ней виновата!
Она о девочке своей говорила. Девочка лежала на кровати, развернутая, и вытягивала вверх крохотные кривые дрожащие ножки.
— Володичка, — в голос зарыдала мать, — ты на папу сердишься, Володичка, если бы ты знал, как я перед ним виновата!
И, схватив его руки и прижимаясь к ним мокрым лицом, рассказала, как она живет. Рано утром она относит Томочку в ясли. Это далеко, другой конец города. На работу приходит усталая, голова у нее кружится, она плохо соображает и делает ошибки. Ее уволят, уже уволили бы, не будь она кормящая мать. И что ужасно, вместо того чтобы признать свои ошибки и просить извинения, она, когда ей делают замечания, раздражается и грубит, — правда, как это на нее не похоже? Но она очень нервная стала. Грубит людям, которые жалеют ее и держат на работе, хотя давно бы надо уволить. А здесь, дома, ее ненавидят. Когда она приходит к колонке за водой, женщины расступаются и пропускают ее, и пока она набирает воду, они стоят и смотрят молча; а уходя, она слышит, что они о ней говорят. Она не смеет покрасить губы — начинают говорить, что она еще у кого-то собралась отбить мужа. Ох, уехать бы! Вернуться в Ленинград, где никто ничего не знает! Там люди так настрадались, никто и не спросит, даже рады, наверно, будут, что вот маленький ребеночек, новая жизнь там, где столько людей умерло…
И мать вскрикивала, как в бреду:
— Я не хочу жить! Я не хочу жить!
— Пока что надо здесь на другую квартиру, — сказал Володя, со страхом чувствуя руками, как колотятся у нее на висках горячие жилки.
— Думаешь, это просто? Думаешь, я не пробовала? Никто не пускает с ребенком. Или хотят очень дорого… И все равно эта женщина и туда придет. Она ходит всех настраивает, как будто она тоже не могла бы быть одинокой, она тоже могла бы!
— А если попробовать написать отцу?
— Нет. Я не могу.
— Ничего особенного: чтобы прислал тебе вызов.
— Он не пришлет, — сказала мать с отчаяньем. — Он рад, что мы тут, что нас нет в Ленинграде.
Томочкины ножки развлекли ее в конце концов. Она стала губами ловить их и целовать и, целуя, вся еще в слезах, смеялась тихо, чтоб хозяйка не услышала и не осудила за смех. А Володя думал — как же она дальше, что с ними делать…
10
Он написал отцу, что матери плохо живется в Н., она болеет, устала, и чтобы отец прислал ей вызов и денег на дорогу. Деньги она отдаст, вернувшись в Ленинград и продав что-нибудь из мебели.
Отец отозвался довольно быстро. Письмо было раздраженное. Ленинград не санаторий, жизнь тут не приспособлена для поправки здоровья. В Н. первоклассные поликлиники и врачи, можно лечиться от чего угодно. Что касается усталости, то все устали, верно? Вообще самое лучшее — чтобы Володя не вмешивался в отношения отца и матери, сложившиеся так, а не иначе в силу причин, Володе неизвестных.
Володя ответил: хорошо, он не будет вмешиваться ни в чьи отношения, но просит отца прислать вызов лично ему, Володе, а он, приехав, уж сам займется делами матери.
Так как на это письмо ответа не было, он написал то же самое еще раз и послал заказным.
Тем временем уехал Ромка. У него в Ленинграде нашелся двоюродный дядька, он вызвал Ромку — бывают же такие двоюродные дядьки, — и Ромка отбыл, разрываемый надвое восторженной преданностью Ленинграду и привязанностью к заводу, где было у него и счастье, и горе, где он оставил родную могилу на опушке леса за аэродромом… Володя все ждал ответа от отца, а мать перестала ждать, уж ничего она больше не ждала хорошего.
К ней привязались разные недомогания, она старела, глаза потухли. Утром ей трудно было подняться с постели, она задыхалась от приступов удушья. По-прежнему носила Томочку в ясли и потом брела на работу, еле волоча ноги. А Томочка стала славная, веселая, с ямочками на розовом налитом тельце, ее прикармливали в яслях и давали витамины.
Володя решил ехать без вызова. Его бы не отпустили, никто и слышать не хотел, чтоб отпустить его в такой момент. Но толкнувшись напрасно туда-сюда, он догадался поговорить с Бобровым, и дело уладилось. Возможно, оно уладилось бы и раньше, в других инстанциях. Бобров был не самой важной инстанцией, но он был тот человек, которому на вопрос: «Почему хочешь уволиться?» — Володя смог ответить: «Нужно мать перетянуть в Ленинград, она попала в переплет».
— В какой? — спросил Бобров. И у Володи хватило духу рассказать, в какой переплет она попала, а другим рассказывать почему-то не хватало духу, слова застревали в горле.
— Дома стены лечат, так говорят?.. — сказал Бобров. — Ладно, через денька два зайди, скажу чего делать.
Он был человек, которому мало того что все рассказать можно, — он пойдет к начальству, к любому начальнику пойдет и скажет: «Надо, товарищи, отпустить парня. Надо, надо. Где можно войти в положение — надо входить. По-человечески, по-хозяйски, как угодно рассуждая — надо».
Каждому необходимо в трудную минуту иметь такого человека, как Бобров.
Володя так в него уверовал, что тут же написал Ромке: «Скоро буду. Как насчет работы? Постараюсь выехать дня через два, три». Но прошло полторы недели, прежде чем Бобров уговорил начальство, и еще столько же, пока наложили все резолюции и оформили увольнение.
— Ну, ни пуха ни пера тебе, — сказал Бобров, прощаясь, — не поминай лихом уральцев, напиши, как добрался и устроился, и Роме там привет…
— Вот, — сказал Володя, явившись к матери. — Еду.
Она вздрогнула и просияла — его отъезд в Ленинград был светлым событием, внушающим надежды, теперь она и для себя будет ждать перемен.
— Ты же мне сразу напишешь?
— А как ты думаешь?
— Я так буду ждать твоих писем! — сказала она, глядя на него с доверием и обожанием, как девочка на взрослого.
В тот вечер они допоздна шептались — строили планы. Мать починила Володины вещи и уложила в рюкзак.
11
Он сел в поезд без билета, и сначала все шло благополучно, но потом контролер отобрал у него документы, а его самого сдал проводницам в офицерском вагоне, и двое суток Володя ехал, все время ожидая, что на следующей станции его высадят.
Только когда проехали Волховстрой и контролер явился и, не сказав ни слова, отдал документы, — Володя понял, что боялся зря, что его довезли до Ленинграда.
12
Старый дом на Дегтярной еще постарел за эти годы, стоял обветшалый, насупленный и ничем не приветил Володю, не заметил его приближения. Почти все окна были забиты фанерой, уцелевшие стекла перекрещены косыми крестами из бумажных полосок, пожелтевших до коричневого цвета, словно опаленных на огне. Это те клеили, что потом уехали или умерли.
На лестнице было черным-черно — ни зги. Но Володя помнил, что внизу пять ступенек и в каждом марше одиннадцать, и, не прикасаясь к перилам, поднялся на четвертый этаж.
Позвонил. Звонок не действует.
Постучал. И еще. Никто не отзывается.
Достав ключи, отворил на ощупь. В полном мраке вошел в пустую холодную квартиру.
Выключатель щелкнул — свет не зажегся. Или перегорела лампочка, или выкрутили ее, или не было тока.
Шагнув, нащупал дверь и осветил ее зажигалкой.
Откуда висячий замок на двери их комнаты? Маленький висячий замок на кольцах. Они с матерью его не вешали, просто заперли дверь на ключ. У них никогда даже не было никакого висячего замка. И колец в двери не было.
Плясал огонек зажигалки.
Не та дверь? Ошибся?
Ну как же. Дверь та, передняя та. В этой квартире он жил, сколько помнит себя.
Перочинным ножиком он расковырял дерево и вытащил одно из колец, дверь открылась. В их отсутствие кто-то входил, взломав дверной замок, а уходя, приладил висячий. Это не был грабитель, тот бросил бы все настежь, ему что; стал бы он, уходя, ввинчивать кольца и вешать замок.
Но комната пуста, как сарай. Все-таки те, что входили, вынесли все. Только мамину кровать оставили. На кровати спали — постель не убрана. В подушке вмятина. Одеяло скомкано кое-как.
Кто-то здесь живет?..
Но заброшенность, царившая в комнате, но гулкий звук шагов, мертвенная пустота стен, иней в оконной нише — говорили: что ты. Кто может тут жить.
Окно забито фанерой. В фрамуге сохранились стекла с бумажными крестами: грязные, еле пропускают свет.
В чуть брезжущем свете Володя разглядел, что и одеяло, и подушка с вмятиной покрыты слоем мохнатой пыли.
Старая пыль, такую тронь веником — сворачивается в серый войлок.
Кто-то здесь жил без нас, давно.
Этот кто-то взломал дверь. Принес одеяло (это не наше, мы свои взяли) и стал жить. Пытался держать комнату в порядке: забил окно фанерой и осколки стекла смел в уголок, вон они лежат пыльной кучкой с мусором вместе.
А потом он, может быть, умер на этой кровати.
А те, что его хоронили, может быть, подумали: хозяин комнаты умер, для чего пропадать вещам? Возьмем их и будем ими пользоваться, пока мы живы.
Постель умершего они, должно быть, побрезгали взять.
Одно непонятно: зачем, все унеся, они вкрутили кольца и повесили замок.
Володя не был барахольщик, это меньше всего. Да на миру, как известно, и смерть красна: по дороге насмотрелся на разрушения — что уж горевать о мебелишке. И не ахти какая та мебелишка была. Но все же в голове закружилось, как представил себе — приедет мать с Томкой, и ровным счетом ничего нет, кроме кровати.
Что-то зашебаршило сзади. Оглянулся — старуха в комнате. Незнакомая.
— Я извиняюсь. Я слышу — ходят. Вы кто будете?
— Здешний. Приехал. Вы здесь живете?
— Рядом моя комнатка… Вы Якубовский Володя?
— Якубовский. Не знаете, кто жил в нашей комнате?
— Не знаю, сынок. При мне никто не жил. Я ничего у тебя не трогала. Я и заходить боялась. Свою комнатку очистила и живу. Я тут второй месяц. Сын ордер выхлопотал. Сын у меня инвалид Отечественной войны. Сам женился, у жены живет, а мне ордер выхлопотал. Я красносельская, всю войну по городу с квартиры на квартиру. В Красном Селе у меня домик был, теперь нету. Там такой был бой, когда обратно его брали, Красное, — всю ночь, говорят, наши танки беспрерывно шли, где там уцелеть домику. Сын говорит — не плачь, обожди, справимся, поставим новый. — Старуха не плакала, рассказывала с удовольствием. — В булочную ходила, пришла, слышу — ходят, приехал хозяин, думаю. Тебе записка оставлена. Третьего дня приходили, оставили записку.
«Ромка», — подумал Володя.
Записка действительно была от Ромки, и Володе сразу стало веселей, когда он ее прочел.
«Володька! — писал Ромка. — Печально, что ты задерживаешься. Необходимо твое личное присутствие, чтобы договориться окончательно. У тебя мерзость запустения, эту проблему придется решать в срочном порядке. В общем, ты немедленно (подчеркнуто) приходи ко мне. Я эту неделю во второй смене, так что днем меня застанешь в любой час, а не застанешь, то ключ на шкафу в передней, входи и располагайся. У меня в кармане оказался замок с кольцами, я тебе его повесил, а то комната настежь, как бесхозная. Ключик оставляю бабушке. Пусть с этого замочка начнется твое устройство. Привет! Р.»
— И вот вам ключик, — сказала старуха.
Ромка жил на Пушкарской. У него тоже была фанера вместо стекол, но у него горела лампочка, был вымыт пол, топилась времянка, на времянке грелся чайник, и репродуктор задиристо пел: «Торреадор, смелее…» У Ромки была мебель, у Ромки были дрова — лежали, уложенные аккуратно, между диваном и этажеркой.
— У тебя, я вижу, полное хозяйство!
— А что мне, пропадать, что ли? Сейчас будем чай пить. Имеешь дело с рабочим Кировского завода. Помимо того, что нас снабжают, прямо сказать, ничего себе, — везде же, имей в виду, прорва людей, которые ни черта не умеют. Как они существуют, ты не знаешь? Пробку сменить не может, балда!.. Вчера одному тут научному сотруднику на третьем этаже ванную ремонтировал, ну и он со мной поделился от своего литера а или бе.
Ромка заварил чай, достал колбасу, разрезал пайку хлеба, все моментально.
— Сегодня же повидаешься с мастером, будем ковать, пока горячо. Перед сменой повидаешься, пусть посмотрит на тебя, задаст какие ему надо вопросы. Я с ним говорил. Неплохой старик. С Калининым знаком. Калинин работал на нашем заводе, ты не знал?
И стал рассказывать, что было с заводом в блокаду.
— Куда же ты?
— Мне по делу по одному.
— Слушай, живи у меня пока.
— Может быть.
— У тебя, прямо сказать, не жилье. Живи у меня. А потом достанем ящики, я понаделаю мебели, какой тебе надо.
Они условились, что встретятся у проходных ворот завода в девятнадцать ноль-ноль.
Госпиталь находился на Кирочной, рядом с музеем Суворова.
Был час посещений. В вестибюле толпились женщины с авоськами. У гардеробщицы Володя спросил, как ему повидать доктора Якубовского.
— Доктора Якубовского нет. Болен.
— Сильно болен?
— Это мы не знаем. А вы ему кто? — Гардеробщица всматривалась с любопытством.
— Родственник, — сказал Володя.
— Ну вот, сразу видать, — сказала гардеробщица. — Похож с лица, как сын родной.
Уже хмурились ранние зимние сумерки. Шел мелкий снег, подувал ветер.
Странно пустынны были улицы: мало людей, мало машин.
Дощатыми заборами обнесены разрушенные дома. Иные выглядывали из-за заборов обожженными глазницами.
На Фонтанке вдоль решетки набережной снег свален высоким барьером.
Голый, темнел запертый Летний сад. Володя вспомнил: в Летнем есть старые липы, у которых дупла запломбированы, как зубы. Он еще маленький останавливался, бывало, перед этими пломбами, заинтересованный, тронутый заботой человека о стареющих деревьях. Сейчас, идя мимо, он с улицы улыбнулся нахохленным голым липам там за решеткой. Человек пломбирует дыру на дереве. Человек везет в поезде человека, у которого нет билета. Человек говорит человеку: «Живи у меня».
Ветер дул сильней, снег кружился быстрей и гуще.
Когда Володя подходил к дому на Мойке, где жил отец, ему навстречу вышла мачеха. Они почти столкнулись у крыльца. На ней была низенькая меховая шапочка. До этого он видел ее один раз, и без шапочки. Но он сразу узнал узкое скуластое лицо с косо прорезанными узкими глазами, мелькнувшее перед ним сквозь снежную сетку.
Она пошла дальше, не узнав его. Он обрадовался, что она ушла, не будет ходить с чашками взад и вперед и слушать их разговор с отцом.
13
— Здравствуй, — сказал Володя.
Отец сам ему отворил. Он был в домашней куртке и мягких туфлях. Он похудел.
— Володя! — сказал он. — Заходи. Ну здравствуй.
Поздоровались за руку.
— Давно приехал? Молодец, что зашел.
Последние три слова можно бы и не говорить, верно? Ведь это как-никак сын пришел. Не само ли собой разумеется, что сын правильно сделал, придя к отцу?
Володя повесил на вешалку свой мокрый ватник. Они прошли в кабинет и сели.
— Вырос-то! Взрослый мужчина!.. Как мать?
— Мать жива. Ты получил мои письма?
— Да. Я, как видишь, болею. Сейчас, правда, поправляюсь… Ну как ты и что, расскажи о себе.
И в эту встречу между ними была мучительная неловкость, они не могли через нее перешагнуть. Отец сидел полузакрыв глаза, и Володя не верил, что отцу интересна его жизнь, и слова застревали в горле, как тогда, когда Володя пытался рассказывать о себе посторонним людям. И все еще жило чувство обиды, что отец покинул мать, — хотя они, по всей вероятности, никак не могли ужиться вместе, Володя об этом уже догадался.
— А ты как?
— Я? Ну что ж я… Я пережил здесь блокаду. Ты, конечно, знаешь, слышал, что это такое. Жил в госпитале, сюда почти не заходил, — до сих пор, как видишь… — Отец развел руками, показывая на растрескавшийся темный потолок и рваные обои. Достали стекло для окон — сложнейший разрешили вопрос… Да. Это полезно, что ты поработал на производстве. Я в твои годы тоже работал на производстве: лучшие мои воспоминания… Да. Я не успел послать вызов, я просто не предполагал, видишь ли, что это так экстренно. Я преподаю, видишь ли, — совмещая с госпиталем, так что для личных дел не так много времени, — потом хворал вот, — но я намеревался это сделать, поправившись, и уже предпринял шаги — узнал, как это делается, вызов… Но ты добрался без формальностей, тем лучше. У тебя все в порядке? Никаких хвостов, надеюсь?
— Каких хвостов?
— Неприятностей не нажил? С завода отпустили или удрал?
— Отпустили.
— Все чисто?
— Все чисто.
— Комната цела?.. Тебе, конечно, деньги нужны, — сейчас у меня… Но через пару дней… Какие планы на дальнейшее? В техникум? Или вернешься в школу?
— В школу — не думаю, — ответил Володя. — Во всяком случае, буду работать. — Облегчением, отрадой было сознавать, что он не зависит от отца, захочет — и денег не возьмет, обойдется, Ромка выручит до первой получки… Нет, деньги надо взять, послать матери. — Тут один парень, он обещает устроить на Кировский завод.
— Зачем же парень, — сказал отец, — я, если хочешь, могу помочь тебе устроиться, во всяком случае, могу попытаться.
— Спасибо. Сейчас не мне надо помогать.
— Да, с матерью плохо, ты писал, — вздохнул отец. — А что, собственно?.. Чем она больна?
Опустив голову, морщась, он выслушал сжатый Володин рассказ. Очень видно было, что он предпочел бы ничего этого не знать.
О капитане он сказал:
— Ах, прохвост.
Возможно, это все не очень бы на него подействовало. Но его проняло известие об ограблении комнаты. Оно ему, так сказать, окончательно прояснило картину. Глаза его — в буквальном смысле слова — открылись. Он простонал с брезгливым ужасом:
— Фу ты, боже мой!
— Можно закурить? — спросил Володя, досказав.
— Да, пожалуйста, — встрепенулся отец, придвинул пепельницу и, взяв у Володи махорки и бумагу, закурил тоже.
Они сидели друг против друга в креслах, одинаково закинув нога на ногу, отец и сын. Сын был похож на отца лицом, ростом, даже манерой курить. Сын видел сходство, ему и приятно было, и почему-то оно его раздражало. Замечал ли сходство отец?
— Да. Положение… Но что же я могу, по-твоему?
Володя с готовностью стал перечислять, он давно все обдумал:
— Ты должен — раз: дать ей возможность приехать сюда, где у нее жилплощадь, — ты понимаешь, ей выехать не на что. Ты должен — два: помочь ей так здесь устроиться, чтобы она могла существовать. Понимаешь, это не только вопрос зарплаты, главным образом надо ребенка в круглосуточные ясли, в этом ее спасение, она больна по-настоящему, в этом форменное сейчас ее спасение.
— Ужасно! — сказал отец. — Так запутать свою жизнь! Ужасно!
Он встал и начал ходить, топчась в тесной комнате. Володя сказал:
— Ей помогли запутать, всю жизнь помогали.
— Нет, прошу тебя! — сказал отец. — Володя, я не хочу, чтобы ты меня судил слишком строго, послушай. Володя, это всегда был несчастный, безответственный характер!
— Допустим, — сказал Володя. — Скорей всего так. Вот именно несчастный. Что из этого следует? Что ее надо бросить без помощи?
— Слушай. Я не по бархатной дорожке шел. Я работал на фабрике и рабфак кончал, а поступил в институт — пароходы грузил, иной раз всю ночь в порту, придешь потом в анатомичку — пальцы задубели, не держат инструмент… Для вас работал, чтоб вы не голодали, сам бы я на стипендию, будь уверен… Мне кроме хлеба ничего не надо было, лишь бы учиться и стать врачом… А она?! Ни с чем не считалась, ничем не интересовалась, книжку в руки не брала, — я не хочу говорить, не считаю возможным…
— Ей сейчас так плохо, как только может быть, — сказал Володя. — Мы тут с тобой обсуждаем, а она?.. Просто вообразить не могу. Ее надо поднять, понимаешь? Поставить на ноги, а то что же это… Я один не справлюсь, понимаешь? Мы вдвоем должны.
— Но почему я должен?! — закричал отец. — По какому закону я обязан расхлебывать кашу, которую она заварила, мы четырнадцать лет врозь, смешно!
14
В соседней комнате мальчик Олег Якубовский, белокурый, слабенький, узколицый и узкоглазый, сидел у стола и готовил уроки.
Он готовил их с небрежностью способного мальчугана, знающего, что достаточно ему сделать ничтожное усилие — и задача будет решена, и руки развязаны для более увлекательных занятий, и обеспечена та отметка, которая составит счастье его родителей.
Олегу ничего не стоило осчастливить родителей этим способом, он счастливил их с снисходительной щедростью.
Впрочем, и для его собственного самочувствия хорошая отметка была не то что необходима, но, во всяком случае, желательна. Он не был излишне самолюбив, но не имел охоты подвергаться порицанию из-за пустяков. Приготовление уроков и получение хороших отметок было именно пустяковым делом, не стоящим разговоров.
Кроме того, в том, чтобы он решил задачу, было заинтересовано немало людей. Ребята, для которых задача трудна или которые поленились ее решать, смогут завтра списать решение у него, Олега, и тоже получат пятерку.
Ради этих ребят он приходил в школу немного раньше, чем требовалось. Ему нетрудно было подняться для товарищей на полчаса раньше. Он вообще не любил спать. Время, проведенное в постели, казалось ему пропащим. Ничего еще не было сделано в жизни. Олег стыдил себя и поторапливал, говоря, что пора начинать.
Что начинать? Он не знал. Его интересовали науки: биология, физика, география. Особенно все касающееся космоса, межпланетных сообщений, овладения пространством поэтически волновало его до спазм в горле. Его не пускали в публичку по молодости лет, но он через знакомых доставал научные журналы, чтоб быть в курсе проблем и открытий.
Так же занимала его литература, и сама по себе, и все связанные с ней споры, все события этой сложной сферы. Он писал стихи, рассказы, пьесы и полагал, что при любых обстоятельствах, какую бы ни избрал профессию, он будет одновременно и писателем.
Возможно также, думал он, что одним из основных его занятий будут шахматы, — у него уже первая категория, не так плохо.
Если соединить это все и еще многое, до чего он пока не додумался, и всему этому посвятить жизнь, — может быть, этого и хватит Олегу Якубовскому.
От многообразия интересов, от взволнованности и некоторой растерянности перед рассыпанными на его пути сокровищами он постоянно был нервно приподнят и глаза его возбужденно блестели, серые узкие, чуть раскосые глаза.
С тех пор как он себя помнил, ему предоставлялось все, что могло способствовать его развитию, физическому и умственному. Никогда к нему не приставали: «Скушай еще ложечку», но, чтобы укрепить его здоровье, от рождения хрупкое, его приохотили к гимнастике, к играм на воздухе, лыжам. Это делала мать. Она это делала и в эвакуации. Любящая без чувствительности, внимательная без назойливости, она старалась не упустить ничего, что должно было дать ему силу, знания, людское расположение. Воспитывала в нем вкус к здоровым развлечениям, научила его читать хорошие книги, водила на концерты и выставки картин, чтобы наполнить его жизнь теми духовными наслаждениями, которые составляли высшую радость собственного ее существования.
При этом он пользовался полной свободой. Всегда у него был свой уголок, неприкосновенный для других; а когда, за год до войны, они получили эту трехкомнатную квартиру, — ему, тогда еще маленькому мальчишке, дали отдельную комнату; и вот недавно он с удовольствием водворился в ней снова. Очень скромно обставлена комнатка, но как заботливо! Пусть сыну не захочется уходить из дому и шататься по улицам, напротив, где бы он ни был, пусть его тянет домой — такая мысль лежала в основе убранства комнаты и в основе всей жизни семьи. Занятия Олега уважались так же, как занятия его отца. Если Олег, случалось, нес ребячью чепуху, ему возражали терпеливо и серьезно. Он мог приводить к себе товарищей, и если приходили девочки, это не было предметом идиотского и оскорбительного поддразнивания, как в некоторых других, менее интеллектуальных домах.
Так поставила дело мать, и отец охотно ей подчинялся, и в семье царил дух благопристойности и взаимопомощи.
Мать была интеллигентней отца, хоть и называлась скромно — домашняя хозяйка. Отец, например, неважно знал музыку. Отец мог взорваться по ничтожному поводу, мог по-женски раскапризничаться. У него иногда срывались вульгарные, плоские выражения, вроде: «перебрал рюмочку», или «пусть он это своей бабушке расскажет», или «что я — рыжий, что ли?». Мать же была безупречна. Ее безупречность наполняла Олега нежной гордостью, но чувство к отцу не страдало от этого сопоставления. Олег был достаточно умен и широк, чтобы не придавать значения мелочам. Так ли важно, что отец неважно знает музыку? Он делает большое дело, все его уважают, и те знакомые с известными и уважаемыми именами, которые дают Олегу научные журналы и отвечают на его трудные вопросы, — это знакомые отца, отец их лечит и ввел их в дом. Отец был краеугольным камнем семьи, фундаментом, на котором мать возводила свою педагогическую постройку.
А что ее педагогика призвана благотворно влиять не только на Олега, но и на отца, — это Олег тоже видел прекрасно, это мельком его забавляло и еще больше сближало с отцом, ставя их как бы на одну доску: двое мужчин, добровольно и добродушно признавших моральное превосходство женщины и вверившихся ей (разумеется, до той черты, где начинается область мужского призвания и мужской независимости), это было в глазах Олега и красиво, и правильно, и поднимало всех троих на новую какую-то высоту.
…Олег сидел и решал задачу. Лампа в оливковом бумажном абажуре смугло светила на его узкое лицо с узкими глазами и острыми скулами.
Он решил задачу. Ему захотелось пить. Он вышел в столовую и налил себе воды из чайника на буфете и услышал — у отца разговаривают. Голос отца и чей-то незнакомый, голос молодого мужчины. Олег не вслушивался.
Но голоса поднялись, и несколько слов зацепили его внимание, и он услышал «ты», сказанное молодым голосом.
«Ты»?.. Во всем мире он не знал, кроме себя, ни одного молодого существа, которое с такой непринужденностью, с таким сознанием своего права могло бы сказать «ты» его отцу. «Ты должен», — сказал этот молодой.
— …Я не хочу, — сказал отец, и было слышно, что он удручен, — не хочу, чтобы ты меня судил слишком строго, послушай…
Кто же это судит отца, и отец, удрученный, стоит перед судом и оправдывается?
— Володя, это всегда был несчастный, безответственный характер!
— Допустим, — сказал молодой непреклонно. — Скорей всего так. Вот именно несчастный. Что же из этого следует? Что ее надо бросить без помощи?
Олег подошел ближе к отцовской двери.
— Слушай! — сказал отец. — Я не по бархатной дорожке шел…
Сейчас будет про пароходы, как он их грузил. Маленькая папина слабость эти пароходы.
— …Для вас работал, чтоб вы не голодали!.. А она?! Ни с чем не считалась…
— …Ей так плохо, как только может быть, — сказал молодой. — …Ее надо поднять, понимаешь? Поставить на ноги, а то что же это… Я один не справлюсь, понимаешь? Мы вдвоем должны.
— Но почему я должен?! — крикнул отец. — По какому закону я обязан расхлебывать кашу, которую она заварила, мы четырнадцать лет врозь, смешно!
— Вот — потому что тебе смешно, а ей не смешно, вот потому ты и обязан! — сказал молодой резко.
Олег стоял у отцовской двери. Он не подслушивал, просто считал необходимым дослушать этот разговор. И, стоя у закрытой двери деловито и нахохленно, с руками, засунутыми в карманы, он дослушал до конца.
— …Когда позвонить тебе? — спросил молодой.
— У нас сегодня что? — спросил отец покорно. — Позвони в пятницу.
— Пока, — сказал молодой.
— Будь здоров, Володя.
Олег ушел в свою комнату. Было бы в высшей степени глупо и бестактно подвернуться им сейчас под ноги… Хлопнула выходная дверь.
Он вернулся в столовую. И отец туда входил из передней.
— Кто это был? — спросил Олег. — Папа, кто это? — повторил он, вслед за отцом войдя в кабинет.
— По делу, — отрывисто ответил отец. Он стоял спиной к Олегу, закуривая.
— Почему он говорит тебе «ты»?
— Тебе показалось.
— Ну что ты, папа, что за ерунда… Это мой брат?
Отец оглянулся. Рука с папиросой дрожала у губ.
— Я не позволю задавать вопросы! — закричал он гневно и бестолково. Кто, что, почему!.. До всего дело… Ни малейшего уважения… Воспитали! Иди, я занят!
И Олег вспыхнул. Взрослые люди, мыслящие люди, и вдруг ложь и истерика!
Хорошо. Он будет действовать так, как находит нужным.
Кто запретит ему? И разве можно иначе?
…Наклонясь над гулким пролетом лестницы, он позвал:
— Володя!
15
Он выскочил на улицу. Охватило ветром, снегом. Запахнул пальто на груди, озираясь.
Вдоль набережной несся мелкий снег, и в обе стороны уходили под фонарями темные фигуры, — который из этих людей был брат? Олег крикнул в косо несущийся белый дым:
— Володя!
Изо всех сил крикнул.
На крик оглянулись двое. Один остановился. Олег побежал к нему, тот стоял и ждал.
— Володя?
— Да? — откликнулся Володя сдержанно.
— Здравствуй!
Володя молчал.
— Я Олег Якубовский.
Они пристально всматривались друг другу в лицо.
Володя протянул руку:
— Владимир Якубовский.
— Послушай, нам надо поговорить, — сказал Олег, задыхаясь от волнения, но озабоченно-деловым тоном.
— Ты уверен, что надо?
— Да. Уверен.
— О чем?
— Я хочу тебе сказать. Очень важное.
Володина настороженность причиняла Олегу боль.
— Важное?.. Ладно, проводи меня до остановки. Мне на Кировский завод.
— Ты работаешь на Кировском заводе?
— Собираюсь.
— Послушай, тебе сколько лет?
Слова срывались с Олеговых губ без задержки, бурно.
— Шестнадцать. А тебе четырнадцать, верно?
— Ты знаешь, — значит, ты знал обо мне? Что я существую — ты знал?
— Знал.
— Давно?
— Всегда знал.
— Что ты говоришь. А я о тебе никогда… ничего… Любопытно, зачем они это делают? Как ты считаешь?
— Что делают?
— Ну вот это: что я не знал о тебе совершенно. Зачем они скрывают? А? Из педагогических соображений?
— Не знаю, — ответил Володя, поведя плечами. Он никогда не понимал, для чего нужно отцу и мачехе скрывать, наводить туман… Олегу, видимо, это так же не нужно и обидно, как ему, Володе.
— Оберегают наши юные души? Или боятся нашего осуждения?
— Может, и то и другое, — сказал Володя.
— Боятся, чтобы я не осудил отца. Бедняги. Тоже ведь нелегко — вечно бояться осуждения, верно?
— А еще бы. Так вот поэтому не надо скрывать.
— Конечно! Насколько лучше — откровенно! Сообща можно все обсудить и решить, и ни у кого ни перед кем не будет страха.
Они шли рядом по кромке Марсова поля, утонувшего в сугробах. Снег был в спину, не мешал.
— Постой, не беги так. Я хочу тебе сказать. Из-за того, что у них там между собой что-то получилось или, наоборот, не получилось, разве значит, что мы не должны быть братьями? Не только по фамилии, ты понимаешь? — а вообще.
— Нет, конечно, — снисходительно согласился Володя. — Я разве говорю, что значит?
— Ты не говоришь, но ты уходишь от меня.
— Ты не думай, пожалуйста, что я к тебе что-то такое питаю. Какие-нибудь нехорошие чувства. И не думаю питать, чего ради? Просто меня парень ждет.
— Что за парень?
— Один парень, мы с ним работали на военном заводе.
— Танковый завод?
— Завод, где директором товарищ Голованов, — все, и больше ничего.
— Ах, понимаю… Послушай, это ты про свою маму говорил, что ей очень плохо?.. Извини, я слышал. Она сильно больна, да?
— Об этом не будем, — сказал Володя.
— Хорошо. Извини. Послушай, а где ты живешь? У тебя есть где жить?
— Есть, — ответил Володя с некоторым высокомерием: Олег, кажется, взялся его опекать. — Хочешь, приходи в гости.
Олег понял, что задел Володю, и огорчился.
— Хорошо, — сказал он, присмирев. — Спасибо. Я зайду, если разрешишь.
Дошли до остановки.
— Я с тобой, можно? — спросил Олег.
Его тревожило, что они сказали друг другу слишком мало, ничтожно мало даже для первой беглой встречи.
— Провожу до завода, не возражаешь?
— Валяй, провожай, — ответил Володя. Его неудовольствие уже прошло. Было приятно, что Олег просит у него разрешения кротким голосом, как и подобает младшему брату.
«Какие бы у нас были отношения, — подумал Володя, — если бы мы росли вместе?»
В трамвае пахло промокшей одежей, мехом. Зажатые в углу площадки, стояли они, наскоро рассказывая о себе друг другу. Ты сколько окончил? А ты где был эти годы — и как там, ничего? А спортом занимаешься?
— Немножко, — отвечал Володя, наблюдая нервную жизнь худенького треугольного лица с узкими глазами, вспыхивающими от возбуждения. Возбуждение было каким-то всеобъемлющим. Чувствовалось, что от всего на свете этот организм вибрирует, на все отзывается, воспламеняясь до глубин.
«Лицом на нее похож».
«Как он похож на папу», — думал Олег.
«Это она его таким вырастила?» — думал Володя.
«А что я знаю о ней?» — думал он.
«Что я знаю об отце?» Два человека встретились и, сердясь, говорили о житейском, угнетающем душу. И это были отец и сын, встретившиеся после разлуки. «И всегда так, наверно, будет: с чего бы это изменилось? Я груз для него, досадная забота, не больше». А Олег ни при чем. Вот он весь как на ладони — он ни при чем…
Трамвай прошел под воздушным мостом и остановился у длинной стены. Темные высокие арки ворот встали в метели.
У ворот, выбивая чечетку, дожидался Ромка.
— Познакомься, — сказал Володя Олегу. — Рома, мой товарищ. А это Олег. — Он поколебался и договорил: — Мой брат.
Ромка не придал этой рекомендации должного значения. Бывают двоюродные дяди, бывают двоюродные братья…
— Здоров, — сказал он ворчливо. — Пошли, Володька, ты где пропал? Документы с тобой?
Они ушли в дверь возле ворот. Олег смотрел вслед Володе. Брат! Без вины отторгнутый от семьи и дома, отдельно, как посторонний, шагающий своей дорогой старший брат! Со всей своей пылкостью Олег хотел войти в его дела, подставить ему свое плечо…
Он был один у заводской стены, щербатой, как стена крепости, выдержавшей осаду.
Это и на самом деле была крепость, здесь совсем недавно был фронт, пылали пожары, но крепость выдержала осаду, враги отхлынули, оставив несчетно своих мертвецов на подступах к заводу, — а завод жив и возносит в метель свои тонкие трубы, и теплое живое гуденье исходит от него.
Косо летел мелкий снег, как белый дым. Летящим снегом был доверху и через верх наполнен проспект: словно в небесах раскрылись закрома, где держат это белое, сыпучее, летучее, — и оно высыпается вольно и неиссякаемо. Олег поднял воротник и пошел улыбаясь, жмурясь, шепча.
Любимый город проступал сквозь метель темными линиями своих крыш и вихрящимися пятнами фонарей. Все взвивалось, неслось! — и овладевало Олегом, и он с восторгом давал ему собой овладеть.
На бесконечном, взвихренном, мчащемся проспекте, спеша домой поскорей, в тот вечер встречали прохожие странного мальчика. Под разверзшимися небесными закромами он один шел не торопясь, будто вышел прогуляться в отличную погоду. Прохожие думали: «Чудак!», но догадывались, что он счастлив, — счастлив, раз может такое проделывать. Он сочинял стихи на ходу, желая увековечить любимый город, не считая, что любимый город достаточно увековечен в стихах.
Триумфальная арка, и мальчик рядом, он совсем теряется в ее величии, его будто и нет на площади, есть одна триумфальная арка… Но почем знать — а вдруг он действительно увековечит любимый город в своих стихах! Вдруг ему это удастся, как еще никому не удавалось! Почем знать, кому что удастся из этих мальчишек и девчонок, из кого что получится. Почем знать, почем знать…
1959
ЛИСТОК С ПОДПИСЬЮ ЛЕНИНА (Рассказ)
Эту очень простую историю я слышала от одной женщины. Произошло это зимой 1920 года. Женщина была тогда девочкой-подростком, и звали ее не Мария Николаевна, а Маруся.
Марусина мать преподавала русский язык в школе красных курсантов. Жили мать и дочь скудно, как все в те времена.
Мать бывала по своим учительским делам в Наркомпросе и встречалась с Надеждой Константиновной Крупской. Однажды зашла она в Наркомпрос вместе с Марусей. Идут по коридору, и вдруг Надежда Константиновна навстречу. Поздоровалась и пошла, внимательно оглядев обеих. «А мы уж так плохо были одеты!» — вспоминает Мария Николаевна…
На другой день Надежда Константиновна вызвала к себе Марусину мать и спрашивает:
— Это вы с дочкой вчера были?
И дает ей листок, вырванный из блокнота, и говорит:
— Идите с этой запиской к бывшему Мюру и Мерилизу. Возьмите, что вам нужно, только стучитесь хорошенько: там заперто.
Смотрит Марусина мать — на листке подпись Ленина. Несколько слов его почерком и подпись внизу.
Надежда Константиновна улыбнулась ее волнению и говорит:
— Идите, идите к Мюру и Мерилизу.
Тут кругом стола люди с разными делами, и неловко Марусиной матери расспрашивать, что все это значит. Взяла Марусю и пошла, куда велела Крупская.
Мюру и Мерилизу до революции принадлежал самый роскошный и модный универсальный магазин в Москве. Это здание и сейчас стоит на Петровке: одно время москвичи называли его «Большой Мосторг», а теперь оно называется «ЦУМ» — центральный универмаг. Чего-чего в нем нет, с утра народу по всем четырем этажам, что пчел в улье… А в тот морозный, жестокий день двадцатого года, когда Маруся и ее мать подошли к этому зданию, высокие витрины были непроницаемо забраны ледяной броней, и заперто было все и немо. Только к одной двери была кой-как протоптана тропка в снегу. Они постучались, робея. Человек в тулупе, с кобурой у пояса, отворил им. Прочитал листок с ленинской подписью и сказал:
— Заходите.
Не горело электричество. Еле пробивался свет дня сквозь толстый лед витрин. Холодно было — холодней, чем на улице. И странно звучали шаги и голоса троих в пустой громадной каменной коробке. До крыши уходили бесконечными ярусами голые полки, но на нижних полках лежали редкостные, прекрасные вещи, нужные для жизни: овчинные тулупы, валенки, бязевое белье. И даже стояли сапоги из настоящей кожи!
— Что будете брать? — спросил человек с кобурой. Белые облака рвались из его губ и ноздрей.
— Не знаю, — смущаясь, ответила Марусина мать. — Вот если бы тулупчик для девочки.
— А тебе лично не нужен тулупчик? — спросил человек с кобурой.
— Куда же два, — сказала Марусина мать. — Я еще ничего. Перехожу как-нибудь. А она выросла очень…
— Ты слушай! — сказал человек с кобурой. — Тебя Ленин сюда направил, потому что ты перед революцией заслужила. Ты заслужила, видать из этого факта, чтоб тебе одеться по-человечески и девчонку свою одеть! Бери, что требуется, не стесняйся. Товарищ Ленин заранее на все изъявил согласие и утвердил. Он тебе верит, что лишнего не возьмешь. Видишь, вот его собственноручная подпись, этой подписью он за твою совесть ручается… Рубашки есть у девчонки?
— Нету, — прошептала мать.
— Ну видишь! — сказал человек с кобурой. — И у тебя нету, факт.
И так как Марусина мать продолжала стесняться, он распорядился сам. Он сбрасывал на прилавок груды окоченевших товаров и рылся в них, выискивая вещи подходящего размера. Он отобрал два тулупа, две пары валенок, четыре смены белья и отмерил сколько-то аршин мануфактуры. Белье было солдатское, желтое, с завязками Женского на складе не было.
— Ничего, — сказал человек с кобурой. — Где длинно, подрежете.
Он вписал вещи в листок с подписью Ленина, Марусина мать расписалась в получении, и они с Марусей ушли, сказав:
— До свиданья. Спасибо.
— Всего вам, — ответил человек с кобурой и запер за ними дверь. И они, счастливые, пошли домой по снежной, нечищеной, малолюдной Петровке.
В новеньких, необношенных тулупчиках и валенках они пошли домой, пошли в свое будущее. Зимний день кончался, малиновая зорька горела над Москвой…
1960
МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА (Кинорассказ)
Огромное море заполняет полмира, огромное вечное море. Белые гребни идут, завиваясь, на землю и с грохотом разбиваются о берег.
Глядя на это море, можно сказать: мы в Крыму. И это будет правильно.
Но нельзя не подумать: мы на земном шаре…
— Уезжаю в Крым, — сказал мальчик товарищу. — Отец достал путевку.
Они стояли у открытого окна, а в скромно обставленной комнате танцевали нарядные мальчики и девочки — их сверстники, все они окончили школу только что, на днях.
— Тебя посылают в Крым? — переспросила девочка, танцевавшая с подругой. — Счастливый!
Под окном прошел взвод молодых солдат, военных курсантов, — в этот час у них была вечерняя прогулка, и они шли с песней, печатая шаг.
Мальчики из окна посмотрели на проходящих солдат, и кое-кто из идущих в рядах взглянул в открытое окно, откуда неслась легкая музыка и где мелькали белые девичьи платья, прически, руки… Взглянул и отвернулся, увлеченный песней и строем.
Удалился грохот военной песни и четкого шага.
— В санаторий, — сказал мальчик. — Я просил туристскую путевку, но мама настояла на санатории. Чтобы я отдохнул перед мужской жизнью, как они выражаются.
И докурив, они с товарищем пошли танцевать, разбив девичью пару, и та девочка повторила мальчику:
— Счастливый. В Крыму так красиво. Отдохнешь как следует…
— А я и не устал! — сказал мальчик, как ему и полагалось сказать.
В соседней комнате стояли мать и отец.
Они были еще молодые и никак не могли поверить, что их сын уже вырос, и вот окончил школу, и стоит у окна, и курит, и танцует с девочкой — белым мотыльком.
— Подумай, — сказала мать, — это наш малыш окончил школу!
— Пусть путевка будет твой подарок, — сказал отец, — а я подарю ему электрическую бритву. Если дадут премию, — сказал он озабоченно.
— Что-то с ним будет, — сказала мать. — Школу кончил, а дальше?..
— Успеем решить! — ответил отец. — Пока что пусть выспится да поджарится на солнце хорошенько…
Ехал мальчик в простом вагоне на боковой полке и то смотрел на спутников, то в окно. Спутники как спутники: молодая мамаша с ребеночком, старушка с узлами, флотские ребята из Севастополя и парень с гитарой, который пел всю дорогу песню про любовь.
Закричит ребеночек — мамаша берет его покормить, тогда нужно деликатно отвернуться и смотреть в окно.
Пробегают мимо заводские трубы, бескрайние поля, бессчетные тропки и дороги. От столба к столбу тянутся провода, они разлиновали и пейзажи и облака на небе. Кажется — вниз слетает вагон по проводам, потом взлетает вверх; появляется столб, пробегает за окном, и опять: вниз — вверх столб, вниз — вверх — столб. Как на волнах, летит, качаясь, вагон, везет мальчика к беспечной жизни сроком на двадцать четыре дня.
Поет про любовь парень с гитарой, бодро кричит ребеночек, стучат в домино флотские ребята.
А когда вечер, то над пейзажами за окном повисает молодой месяц, и тогда не видно полей и заводов, не видно бессчетных дорог, только темень внизу да месяц в небе, разлинованном светлыми нитями проводов.
Санаторий мальчику попался очень хороший. В большом парке у моря стоят белые дома в два этажа. Белой каменной балюстрадой парк отделен от пляжа.
По другую сторону парка — горы. Кончается парк — начинаются горы.
Между морем и горами стоит санаторий.
Мальчик приехал ночью; вышел из автобуса и пошел, куда ему сказали, озираясь на все это великолепие, залитое светом месяца. И начался его отдых.
Он просыпался в восемь, когда уже высоко стояло солнце и море пылало слепящим серебряным огнем. Он натягивал брюки, брал мохнатое полотенце, перепрыгивал через балюстраду и бежал к морю.
Утренний пляж почти пуст. Купаются вдалеке мальчишки, худые и загорелые, пускают блинчики по сверкающей поверхности моря.
Он бросался в море, нырял и плавал, наслаждаясь. Заплывал далеко, так что берег был еле виден. Зато хорошо становился виден корабль. С корабля купались моряки — дружно, по команде бросались в воду.
Под ним в темном море плыли облака. Если смотреть на них, то кажется, будто не плывешь, а летишь над облаками в небе.
Нанырявшись и наплававшись, мальчик ложился загорать, смотрел в высокое, божественно бескрайнее небо. И в небе, как и в море, плыли облака, и простор-простор был над мальчиком, и он переворачивался со спины на живот, взмахивая руками, как птица крыльями.
Тем временем пляж густо заполнялся людьми.
Великое множество отдыхающих собиралось к морю, покрывало песок, не оставляя ни одного свободного местечка, и пенило воду у берега.
Приходила женщина средних лет в кимоно из китайского шелка с узорами. К ней подсаживались знакомые, расстилали простыню и играли в карты.
Располагались неподалеку от мальчика муж и жена с тремя детьми и с корзиной провизии, из которой семья почти непрерывно ела.
На пляже становилось тесно, и мальчик, последний раз окунувшись, в отличном настроении, прищелкивая пальцами от удовольствия, шел завтракать.
Вежливо поздоровавшись, садился за стол.
— Хорошая вода сегодня, верно? — говорил кто-нибудь за столом, и мальчик отвечал с готовностью:
— Прекрасная вода!
Две тонкие руки ставили перед ним завтрак. Мальчик съедал все до крошки — у него был отличный аппетит.
После завтрака он отправлялся с компанией в горы, где за каждым поворотом открывался новый великолепный вид.
— Какая красота! — ахали женщины.
— Ну правда же, красота? — приставали они к мальчику.
— Здорово! — соглашался он.
И помогал им вскарабкиваться по крутым тропам.
Их вожак, санаторный затейник, показывал на горный ручей и говорил:
— Прошу обратить внимание, это знаменитый водопад, им еще Антон Павлович Чехов любовался, прошу обратить внимание.
И мальчик вместе со всеми обращал внимание, и нисколько ему не мешало, что все время перед ним маячили силуэты других отдыхающих.
И вместе со всеми он фотографировался на фоне гор, лесов и знаменитого водопада, а также рядом со скульптурами, поставленными для оживления местности: белым оленем и пионером-горнистом.
Опять они ехали на экскурсию. Ехали в автобусе. Мальчик сидел на заднем сиденье, и рядом с ним та женщина, что ходила на пляж в китайском халате.
Ее укачало, и голова ее беспомощно болталась у мальчика на плече.
— Надо, товарищи, прибегнуть к хоровому пению, — сказал затейник. Прошу, товарищи.
И он запел. Экскурсанты подхватили кто как умел. Но и хор не помог женщине, которую укачало.
— Ну хорошо, товарищи, — сказал затейник, прерывая пение. — Выйдем на воздух, сфотографируемся, а то отдыхающей плохо.
И все вышли фотографироваться.
Потом мальчик шел со всеми и слушал, как неутомимый затейник говорил:
— Прошу обратить внимание. Царская тропа. Протяженность четыре километра семьсот пятьдесят метров. Любимое место Антона Павловича Чехова. Прошу обратить внимание, товарищи.
После экскурсии мальчик играл в теннис с пожилыми отдыхающими и все время бегал для них за мячами, потому что пожилые люди не могли и не хотели бегать сами.
И опять была кормежка. За столом сосед мальчика стал требовать:
— Я же просил жаркое без лука, мне нельзя лук, уберите лук!
И ему поставили жаркое без лука, а мальчику было немного неловко, что взрослый человек так шумит из-за лука, но другой сосед сказал:
— В нашем положении диета — вещь серьезная. Съешь чего-нибудь не того — и будь здоров…
А вечером было кино на открытом воздухе, с поцелуями героев и громкими — на всю окрестность — голосами, от которых дрожала листва акаций в парке.
Перед сном, в симпатичном обществе взрослых людей, на террасе мальчик участвовал в разговоре. Один отдыхающий говорил:
— В наши дни люди живут долго, поэтому все у них дольше теперь: и детство дольше, и молодость, и зрелость. Прежде в двадцать лет человек считался зрелым…
— Средняя продолжительность жизни была в два раза меньше, — сказал другой отдыхающий.
— Вот именно, — сказал первый. — В двадцать лет считался зрелым, а теперь человеку под сорок, а он все для окружающих Костя или Шурик.
— Лермонтову было двадцать семь, когда он погиб, — сказала почтенная дама, — а он уже был великий поэт.
— Да, — сказал второй отдыхающий. — А теперь поэту под сорок, а он все еще начинающий.
Мальчик сидел на перилах террасы и смотрел на луну. Она очень подросла с тех пор, как он ее видел из вагонного окна.
И опять день, опять море, опять купанье.
Пожилые мужчины лежали на пляже рядом с мальчиком, и один сказал:
— Первые дни было двести двадцать на сто тридцать.
— Кошмар! — сказал другой.
— А сейчас немного снизилось — нижнее сто десять, а верхнее двести.
— Все равно кошмар, — сказал другой. — Вам нельзя было ехать на юг.
Пришла на пляж незнакомка в большой войлочной шляпе.
Мальчик осторожно заглянул под шляпу: незнакомка, стройная и легкая, годилась ему в матери.
— Молодой человек, — окликнула его женщина в китайском халате, будьте добры, принесите мне зонтик — шестнадцатая комната…
Он побежал, нашел зонтик в шестнадцатой комнате, принес женщине и очень вежливо отдал, а она взяла, едва взглянув на мальчика, потому что, как всегда, играла в карты. Ей тоже, наверно, было за тридцать, она напоминала ему мать, и он был с ней вежлив, как с учительницей, — он был воспитанный мальчик.
Около играющих стоял затейник и смотрел, как играет женщина. Он сказал:
— Приятный молодой человек.
— Да, — сказала женщина.
— Только все время один да один.
— Образуется, — сказала женщина и посмотрела на затейника. И они улыбнулись.
Мальчик не слышал их разговора.
Мимо прошел толстяк с градусником и стал измерять температуру воды в море, не доверяя сведениям, обозначенным на доске у входа на пляж, а жена ему кричала из гущи отдыхающих:
— Костя, тебе нельзя купаться, если меньше двадцати четырех, Костя, ты помнишь, что доктор сказал?
Толстяк наклонился над водой, и жена подошла к нему, чтобы посмотреть на градусник, и они стояли у берега по щиколотку в воде, а мальчик сердито смотрел на них. Потом он отвернулся и лег на спину, — в небе высоко-высоко шли самолеты, оставляя белые полосы. Мальчик следил за ними, потом перевернулся на живот, взмахнув руками, как птица крыльями.
Чего-то ему не хватало. Ему не хватало чего-то для полноты счастья.
Жизнь подсказала ему и показала, чего не хватает.
На пляж пришла и расположилась рядом с мальчиком пара новеньких: громадный мужчина атлетического телосложения, коротко стриженный, уверенный, неторопливый, и его спутница, нежная и молодая.
Они пришли на пляж, держась за руки; потом побежали к морю, держась за руки; а потом мужчина вынес женщину из воды на руках, а она смеялась и неожиданно быстро поцеловала его.
Весь пляж смотрел на эту пару, и мальчик тоже смотрел.
Две женщины за спиной у мальчика сказали:
— Все-таки это безнравственно — целоваться при посторонних.
— Смотреть противно.
Но смотреть было совсем не противно, женщины покривили душой.
Затейник сказал:
— Молодость — это половина счастья, а любовь — это его вторая половина, причем лучшая.
Женщина в китайском халате оторвалась от карт и сказала с улыбкой:
— Это еще вопрос, какая половина лучше.
Эти разговоры мальчик услышал.
Нестерпимо скучно вдруг стало ему.
Он огляделся.
Нестерпимо тесно вдруг показалось на пляже.
Рядом с ним, закрывая от него даль, возвышалась фигура мужчины-гиганта. У ног мужчины на песке сидела женщина. Она сидела, обняв свои колени, нежная и влюбленная.
Мальчик встал и пошел меж человеческих рук, ног, голов, туловищ, набросанных на песке.
Пошел в парк. Женщины попадались ему навстречу Одна прошла, другая, третья, четвертая…
Он всматривался в них вопросительно. Не то чтобы сравнивал и выбирал, нет, все было бессознательно — и поиски, и тревога, что толкала на поиски. Ни одно лицо его не привлекало, к тому же все женщины были старше его, годились ему если не в матери, то в старшие сестры.
Он сел на скамейку. Две тонкие ветки орешины покачивались над его головой, густая сеть теней лежала на дорожке. Между деревьями, в глубине парка, стояла белая скульптура — лыжник, прыгающий с трамплина.
В конце аллеи показалась тоненькая девушка в светлом платьице. Мальчик насторожился. Она подходила все ближе, улыбаясь, и он уж подумал, что эта улыбка адресована ему, и оживился… Но оказалось, что не ему улыбается девушка, а своему молодому человеку, который шел ей навстречу и которого мальчик заметил только тогда, когда тот прошел мимо. Молодой человек взял девушку под руку, и они ушли своей дорогой. Оживление мальчика прошло, он разочарованно откинулся на скамейке.
А потом он сидел на перилах террасы и слушал взрослые разговоры.
— Первый раз я влюбился, когда мне было девять лет, — сказал затейник. — Ей было столько же, и, на мое счастье, она не ответила мне взаимностью — я бы не знал, что мне с этой взаимностью делать.
— В девять лет — это редкость, — сказал другой. — Хотя, как говорится, любви все возрасты покорны.
— А вы, молодой человек, уже бывали влюблены? — спросил кто-то у мальчика.
Но за него ответил затейник:
— Молодому человеку о любви разговаривать не полагается, ему полагается стесняться. Конечно, бывал, о чем тут спрашивать.
Мальчик был рад, что не надо отвечать. Он спрыгнул с перил и ушел на свою скамейку в парк, чтобы посидеть в одиночестве. Две тонкие ветки покачивались над его головой, светясь в лунных лучах…
…Две ветки — и две молодые руки, тонкие и точеные.
Не раз они протягивались перед мальчиком, подавая ему еду; но до сих пор он как-то не поинтересовался взглянуть на ту, которой они принадлежали.
— Спасибо, красавица, — сказал кто-то за их столом.
Он поднял глаза и увидел милый профиль, уголок свежего рта и пушистую прядку из-под косынки.
И обрадовался — это было то, чего ему не хватало, то, что он искал.
Почему он не замечал эту девочку, эту подавальщицу? Может быть, потому, что она была одета как все подавальщицы: в серенькое платье, передник и косынку, — неотличимо.
— Здравствуйте! — сказал мальчик. — Это вы!
Она взглянула на него смущенно-вопросительно, но вслух не спросила что это значит.
Наступило время обеда.
Все уже поели и ушли, когда пришел мальчик.
Он сел за пустой столик.
Подошла девочка, принесла первое. Он сказал:
— Здравствуйте!
— Мы уже здоровались, — сказала девочка. — Утром.
— Ну, утро — это было давно! — сказал мальчик.
«Это ты просто так, — спросила она беглым взглядом, — или есть в твоих словах значение?..»
И отошла к соседнему столику, чтобы подать суп другому опоздавшему, а мальчик посматривал на нее, рассеянно мешая ложкой в тарелке. Девочка прилагала все усилия, чтобы не смотреть на него, — лицо ее стало напряженным от этих усилий, но, проходя обратно с пустым подносом, не выдержала — посмотрела. И обрадовалась: смотрит!.. И мальчик обрадовался: посмотрела!..
— Вы заняты с утра до вечера, с утра до вечера, — сказал он, когда она принесла второе. — А погулять когда же?
— Мы работаем посменно, — сказала девочка. — День я, день Таня.
— Теперь я узнал, как вас зовут! — сказал мальчик.
«Как это?..» — спросила она глазами.
— Вас зовут не Таня! — объявил он, и они улыбнулись друг другу.
Раньше он ничего не замечал, кроме платьица — такого же, как у всех остальных подавальщиц, кроме передника, и воротничка, и косынки — таких же, как у всех остальных подавальщиц; одинаковые, они сновали по столовой взад и вперед.
Теперь он видел ужасно много, и все больше и больше, открытие за открытием приходило к нему.
Видел ее глаза и ресницы.
И улыбающийся нежный рот, и белые зубы.
И легкую ее походку, и легкие стройные ноги.
Он садился так, чтобы ее рука коснулась его, когда она ставила ему тарелку на стол. Рука касалась, девочка отдергивала руку, обожженная. Он смотрел ей в глаза — душа его уходила в пятки, но он смотрел.
Еще в дверях столовой она опускала глаза, старалась не смотреть на него — знала уже, что он глядит на нее неотступно. Но не удерживалась и украдкой поднимала взгляд — так и есть, глядит, глядит…
Он теперь приходил завтракать, обедать и ужинать позже всех, чтобы одному быть за столиком.
И они разговаривали — мельком и тихо, как заговорщики.
— Сегодня вы работаете — значит, завтра вы свободны? — спрашивал мальчик.
— Свободна, — отвечала девочка.
Ее голос был как тихая музыка.
— Свободны? — переспрашивал он, чтобы еще раз услышать музыку.
— Свободна, — откликалась та же музыка…
— Может, сходим погуляем? — спросил он, как в воду бросился.
Она отошла, ничего не ответив.
— Может быть, сходим погуляем? — уже настойчивее спрашивал мальчик, когда она появлялась снова.
— Не принято с отдыхающими, — отвечала она, уходя.
Он огорчался, а когда она возвращалась, спрашивал:
— А в кино?
— С отдыхающими тоже не принято, — отвечала она и торопилась убрать посуду.
— Но я же не виноват, что я отдыхающий! — говорил он ей вслед, и она смеялась и чуть-чуть поворачивала голову. Какой поворот!
На пляже, среди взрослых, мальчик скучал — здесь не было таких глаз, как у девочки, таких рук; здесь люди ходили неуклюже, ноги разъезжались в песке; красивая пара перебралась на другое место, их было плохо видно, да мальчик и не смотрел. С пляжа он бежал в столовую бегом, радуясь этой захватывающей игре. Он был весело взвинчен, прищелкивал пальцами и насвистывал песню, которую играл в вагоне тот парень с гитарой.
— Извините, пожалуйста, — говорил он толстяку Косте, нечаянно толкнув его. — Я очень спешу.
— Надо отдыхать, а не спешить, — сердито говорил толстяк.
— После ужина я вас жду! — заявлял мальчик девочке, стараясь говорить как можно решительнее.
А она делала вид, что не слышит.
— Ну, пойдемте, пройдемтесь, никто и не увидит, — уговаривал он, и голос его вдруг менялся — из решительного становился просительным, совсем как у маленького.
— После ужина я еще целый час буду занята, — говорила она. — Даже час с половиной.
…Тот же это ужин или другой? Сколько времени прошло?..
— Я буду ждать хоть два с половиной! — говорил он весело. — Хоть три с половиной! Сколько хотите — и с половиной!
Вот видишь, говорил он ей всем своим видом, какой я веселый, бодрый, как легко тебе будет со мной — одно удовольствие.
Он все больше нравился девочке, она изнемогала — до того нравился, но отвечала:
— Нельзя, у нас это не одобряют.
…Сколько времени прошло?..
— Кто не одобряет? — спрашивал он капризно.
— И начальство, и девочки, — отвечала она.
— Зверское у вас начальство, — говорил мальчик. — И зверские девочки.
Она смотрела на него затуманенным взглядом, но повторяла:
— Нет, нельзя!
Вечерами на террасе отдыхающие вели свои степенные беседы уже без мальчика — он бродил вдоль моря, пускал блинчики и говорил:
— Зверское начальство! Зверские девочки!
А она сидела у себя в общежитии на кровати и примеряла клипсы.
— Таня, а Таня, — говорила она подруге, — не знаешь, какие клипсы сейчас в моде? Перламутровые в моде?
— На московской балерине я видела клипсы, — говорила Таня. Представляешь, две живые ромашки!
— Ну, ромашки — это слишком просто, — сказала девочка.
На другой день в столовой он заметил ее новые клипсы и радовался и был горд — она хотела ему нравиться!
— И ничего не зверское, — сказала она, улыбаясь, видя, что он заметил клипсы.
— Ну что плохого — посидим часок у моря? — спрашивал он. — Или в парке?.. Чего они, собственно, не одобряют, странные люди?
— Просто у нас не принято, — объяснила она. — Отдыхающие должны отдыхать.
— Ну, от чего мне отдыхать? — говорил он. — В такие ночи грех заваливаться спать! Честное слово, грех!
— Нет, нельзя! — говорила она.
Когда она была выходная, подавала за столом ее сменщица Таня, толстуха с короткими руками, и мальчик скучал, плохо ел, не находил себе места ни у моря, ни на теннисной площадке, где отдыхающие играли под наблюдением врача.
— Ну, в чем дело, молодой человек? — спросил его затейник. — Поехали на экскурсию! К Бахчисарайскому фонтану, а?
— Спасибо, — сказал мальчик. — Не хочется.
— Вы что, заболели? — спросил затейник.
— Нет, почему, я здоров, — сказал мальчик.
— Вид невеселый.
— Просто скучновато.
— Это у нас скучновато? — спросил затейник. — Ну что вы! Сплошное веселье. Дым коромыслом. Поехали, а? С ночевкой. Дружным коллективом. Переночуем на турбазе, завтра вернемся.
— Завтра? — переспросил мальчик. — Нет, спасибо, я не поеду!
— По-моему, все образовалось, — тихо сказала женщина в китайском халате, но затейник не расслышал ее слов и сказал:
— Одиночество вредно для здоровья, как установила медицина. Кто сказал, товарищи, «единица ноль, единица вздор»?
— Маяковский! — сказали отдыхающие.
— Правильно! — сказал затейник. — Маяковский и никто другой.
И шумной толпой отдыхающие пошли к автобусу, а впереди шел затейник.
И наконец она сказала:
— Хорошо.
Только что он очень пылко говорил, очень убедительно и вдруг осекся, потому что она сказала, прервав его:
— Хорошо.
Это было утром, и весь день он неистово играл в теннис, и неистово купался, и неистово извинялся направо и налево, потому что никого не замечал на пляже и на всех натыкался: и на игроков в карты, и на толстяка с градусником, и на чету с корзиной провизии, из которой кто-нибудь все время доставал продовольствие и жевал, — чуть не опрокинул он эту корзину, будь она проклята!
За обедом она повторила, не улыбнувшись, очень серьезно:
— Хорошо.
— После ужина? — спросил мальчик и перевел дух — словно бежал за кем-то и вот догнал, держит за рукав, и больше он не побежит.
— Да.
— Я вас буду ждать в той аллее, где скульптура лыжника, — сказал мальчик, и сказал тоже очень серьезно и внятно.
Он сел на скамейку, над которой протянулись две тонкие ветки, и ждал.
Но тут в аллею набежало множество отдыхающих во главе с затейником. Они начали играть в какую-то игру, гоняясь друг за другом и хохоча. Время от времени кто-нибудь кричал мальчику:
— Идите к нам! Чего вы там скучаете в одиночестве!
Ему пришлось встать и уйти с этого места, и он очень беспокоился, что пропустит девочку, — было довольно темно. Но она показалась вдали, и он быстро пошел ей навстречу.
Они шли по ночному парку, густому, как лес. Издали доносились голоса играющих, хохот и хлопанье в ладоши.
Они шли медленно и молча. Он не знал, что сказать.
— Как тихо, — сказал он.
— Да, — сказала она.
— Теплый какой вечер, правда? — спросил он.
— Да… — отозвалась она.
Решился, взял ее за руку.
Она не отняла.
Покрепче сжал ее руку, она ответила пожатием…
Повернулся к ней, посмотрел — она подняла глаза навстречу.
И когда он обнял ее за плечи, она прижалась к нему.
Обнявшись, скрылись они в глубине парка.
…Сколько времени прошло?..
Вот они на берегу моря, залитого лунным светом.
Стеной вздымается море, спокойное, чуть дышащее.
— Какая ты красивая! — говорит мальчик.
Даже когда он любовался ею, он не думал, что она такая красивая.
— Ничего не красивая, самая обыкновенная, — тихо говорит она.
— Нет, — говорит он и берет ее за руку.
— Да, — говорит она, но думают они уже о другом, только повторяют машинально несколько раз:
— Нет.
— Да.
На ней простенькое платье, босоножки, перламутровые клипсы в ушах, волосы подвязаны ленточкой. Или это лунный свет сделал ее такой красивой?
— Золушка, — говорит он медленно.
— Что? — спрашивает она.
— Нет, так, — говорит он.
— Ты такой особенный, — говорит она. — Ты, наверно, знаешь много такого, что я не знаю. Как я тебе понравилась, не пойму.
…Сколько прошло времени?..
Они сидели на камне у берега ночного моря, и волны докатывались почти до самых их ног.
— Ты мне сразу понравился, как только приехал, — сказала девочка.
— Да? — удивился он.
— Сразу, — повторила она, прижимаясь к нему.
И луна светила на них — почти полная, ослепительная, вырисовывающая черные тени на белом песке.
Комната мальчика. Кроме него здесь живут еще трое. Сейчас они крепко спят.
Мальчик тихо входит, он не крадется, он просто идет тихо, чтобы никого не разбудить.
…Девочка уже разделась. Усталая, бросилась она на постель у себя в общежитии.
Рядом спит ее сменщица, толстуха Таня, — комнатка у них на двоих. Таня спит крепко, ее не будит радио, которое у них никогда не выключается.
— Радиопередачи окончены, — говорит радио мощным голосом. — Спокойной ночи, товарищи.
— Спокойной ночи, — говорит девочка, закрывая глаза.
Они шли обнявшись по темной тропинке, по которой прежде мальчик гулял с другими отдыхающими.
Тогда в горах было людно и шумно. Сейчас пусто и тихо.
Луна зашла за облако, потемнели очертания гор.
Вдруг раздался лай. Девочка вскрикнула и крепче прижалась к мальчику. Подбежали собаки, обступили их.
— Не бойся, — сказал мальчик, но ему было не по себе.
— Надо стоять спокойно, — сказала девочка, — тогда они не тронут, я знаю.
Казалось, сейчас собаки бросятся, но они только лаяли бешено. Прижавшись друг к другу, мальчик и девочка ждали, чем это кончится.
Из темноты вышел человек и позвал собак.
— Ходят тут, — сказал человек недовольно, — дня им мало, бездельникам…
И мальчик и девочка прошли дальше мимо пасшихся коней, которые вздыхали и фыркали.
— До чего страшные, — сказала девочка. — Злющие.
— Ты знаешь, я тоже испугался, — признался мальчик.
— Ну конечно, — сказала девочка. — Ты же городской.
— У меня была собака, — сказал мальчик, — но она была такая смирная, маленькая. Китайская порода, видела таких?
— Китайская? — сказала девочка. — Даже не слышала.
— Они похожи на кошку. Мне ее подарили, когда я в школу пошел.
— Сколько ты всего видел! — вздохнула девочка.
Он стал ласкать ее, чтобы отвлечь от пережитого страха и отвлечься самому. Страх сблизил их, она отвечала на его ласки…
Ей не спалось, она сбросила простыню и села на постели.
И мальчик встал у себя в комнате, ему тоже не спится.
Стараясь не шуметь, налил в стакан воды из графина, пьет…
«Ты спишь?» — услышал он голос девочки.
«Ты думаешь обо мне?» — услышала она его голос.
«Ты мне сразу понравился, как только приехал», — сказал ее голос.
«Я дружил, конечно, с девочками, но такого у меня еще никогда не было», — сказал его голос.
Он стоял у окна и смотрел в черную ночь. Светлый огонек плыл мимо не то самолет в небе, не то пароход в море…
«Ты видишь?» — спросил он.
«Я думаю о тебе», — услышал он ее голос.
Все становилось необычным кругом во время их встреч.
Ручеек, который будто бы любил Антон Павлович Чехов, казался в самом деле водопадом, громадным и светящимся, низвергавшимся по скалам.
Белые руки их лежали в траве — мужская сверху, женская снизу.
Нет, не в траве — в тропическом лесу, среди громадных растений лежали руки гигантов — мужская сверху, женская снизу…
Небольшой камень был как утес фантастической формы.
Тот незаметный мир, что днем окружал их своими пустяками, по которому они ходили в повседневной своей жизни, принял их сейчас и приютил и, приняв, избавился от своей незаметности, дивно вырос — и вместе с ним выросли они.
— Посмотри, — шептала девочка.
И они смотрели, как рядом с ними ползет по земле жук — то ползло по земному шару небывалое чудище, ощупывая все на пути своими чудовищными усами. Проползло чудище мимо горы — плеча человеческого, — скрылось в чаще…
То ли ночь так действовала, то ли еще что — мир вокруг мальчика и девочки был сказочный и небывалый.
— Что это? — спросил мальчик.
Только что было темно — луна зашла за облако, и вдруг феерическим ярким светом до самого горизонта залилось море, и всплески волн стали как всплески ослепительного сияния.
Свет взлетел в небо и вольно носился там, и снова пал на море, и воспламенил его, и вдруг исчез, и вспыхнул опять, еще ослепительней.
— Что это? — повторил мальчик.
— Прожектора, — сказала девочка. — Пограничники.
Казалось, это их ищет свет.
— А до нас сюда они не достанут, — сказал мальчик.
Свет погас, и снова в темноте смутно вскипали и пропадали беловатые гребни волн.
— Искупаемся? — предложил мальчик.
Предложил будто небрежно. Но голос его дрогнул.
— Хорошо, — ответила она так же серьезно, как когда-то в столовой…
И он вынес ее из моря на руках — ему очень хотелось это сделать. И она быстро поцеловала его.
Неожиданно им становилось весело, необыкновенно весело: пошепчутся, пошепчутся — и рассмеются.
Скрыла их ночь, не видно их, только слышится их смех.
Рассмеются и испугаются своего смеха.
— Тише, с ума ты сошел, — шепчет девочка.
Где она шепчет?
Велик морской берег, еще больше море, а еще больше небо. Где они шепчутся?
— Ты меня любишь?
— А ты?
Где они шепчутся?
Может быть, за этими скалами, что похожи на обнявшихся людей?
Может быть, за этими деревьями?
Или здесь, в бухте, где поплескивает вода с каждым движением моря?
Или среди волн морских?
Или, может быть, в небе, где облака как горы, и идет у этих гор своя игра, непонятная здесь, внизу?
Велик мир, и повсюду слышится их шепот:
— Я тебя люблю…
— Я тебя тоже…
И смех, неудержимый смех, словно сказали они что-то необыкновенно смешное.
А луна теперь шла на ущерб, становилась все меньше, меньше…
За столом знакомые тонкие руки поставили перед ним тарелку.
Он не удержался, дотронулся до этой точеной, стройной руки. Девочка испуганно огляделась — не видел ли кто. Но все были заняты едой, и никто ничего не заметил.
— Не надо, — шепнула она.
А он улыбнулся счастливо и торжествующе, он чувствовал себя заговорщиком против всех этих стариков и старух, удачливым заговорщиком, а она была его сообщница в этом заговоре. Ему хотелось шалить, он вторично погладил ее руку, на этот раз решительнее. И так везло ему — опять никто ничего не заметил.
Тут раздался крик:
— Товарищи, кто еще не записался на билеты, прошу записываться!
Мальчик и девочка не обратили на этот крик внимания, занятые своим. Но крик повторился ближе:
— Товарищи, кто еще не позаботился об обратном пути, записывайтесь на билеты!
И тут они поняли, и лица у них стали несчастные и растерянные.
За стеклянной дверью столовой, в вестибюле, выстроилась очередь.
Стал в очередь и мальчик. С грустными глазами он стоял между своими знакомыми по пляжу — женщиной, носившей китайский халат, и толстяком, которого жена называла Костей.
— Все мгновенно в этом мире! — бодро сказал толстяк. — Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова.
— Да, извольте спешить, если не хотите прозевать свое, — сказала женщина.
— Два в Москву, пожалуйста, — сказал гигант атлетического телосложения, доставая бумажник.
— А автобус будет? — спросил один из отдыхающих.
— Будет, будет, — сказал затейник, который работал в санатории еще и эвакуатором. — Следующий, товарищи, следующий!
— Я попрошу у вас обязательно нижнюю полочку, — сказал отдыхающий.
А сквозь стеклянную дверь, разнося котлеты и каши, на мальчика, стоящего в очереди, смотрела девочка, и дрожали ее руки, и путала она кому кашу, кому котлеты, и потихоньку смахивала слезинки.
Ночью у моря он спал, а она смотрела на волны и мечтала.
— Я тебя люблю на всю жизнь, — шептала она.
«На всю жизнь», — как эхо откликался его голос грохотом волн.
— Всегда будем вместе, — шептала она. И его голос повторял послушно:
«Всегда вместе».
Волна притронулась к его ногам, он проснулся, встал, потянулся с силой. Она посмотрела на него, хотела что-то сказать… но не решилась, не сказала.
— Пошли? — сказал он сонным голосом и привычно обнял ее за плечи.
Они пошли прочь от разгулявшегося моря, и волны смыли с песка следы их тел и следы их ног.
Зажав в ладонях фотографическую карточку, завернутую в бумагу, она сказала:
— Я хочу тебе что-то подарить. На память. Только сначала дай обещание. Даешь обещание?
— Какое обещание? — спросил он.
— Что ты на это посмотришь, только когда приедешь домой.
— Почему? — спросил он.
— Ну, обещай.
— Да почему?
— Ну, какой!.. Обещай.
— Ну ладно, обещаю, — сказал он снисходительно.
В конце концов ему не так уж было важно, что там в бумажке. Он притянул девочку к себе и поцеловал.
В вечер разлуки она была заплаканная, с распухшими веками.
В тот вечер она спросила, не удержалась:
— Ты приедешь?
Он ответил пылко:
— А как ты думаешь?
Но тут же присмирел и задумался.
Она поняла его задумчивость и отвернулась, сдерживая слезы. Он нежно приласкал ее и сказал:
— При первой возможности приеду. Ты ведь знаешь, что мне хочется приехать. Но не все же по курортам кататься, верно? Надо что-то думать… куда-то устраиваться. Может, и в армию призовут, вполне может быть.
Погодя, она спросила:
— Ты меня любишь?
— Глупышка, — сказал он. — Конечно, люблю, ты не видишь, что ли?
Они до рассвета сидели на укромной скамье, над которой протянулись две тонкие ветви орешины.
— Письма будешь писать? — спросила девочка.
— Ну конечно, буду, — ответил мальчик.
— До востребования пиши. Почта, до востребования.
— Хорошо…
Утром к конторе санатория был подан автобус.
Посадкой руководил затейник, человек опытный и привычный. Он помогал отъезжающим взбираться на высокую подножку и, прощаясь, говорил:
— Передавайте привет Донбассу, счастливого вам пути, успешной работы.
— Спасибо, — отвечал отъезжающий, взбираясь на подножку. — Счастливо оставаться.
— Счастливого пути, передавайте привет Ленинграду, — говорил затейник следующему. И следующий отвечал:
— Спасибо, передам обязательно.
И мальчик помогал старикам и женщинам и подавал им их чемоданы и сумки с персиками. Как самый молодой, он вошел после всех. Ему не хватило места, он осмотрелся и скромно уселся на своем чемодане.
Над его головой переговаривались отъезжающие.
— Груши вы напрасно здесь покупали, — сказала одна. — Груши дешевле после Запорожья.
— Понимаете, я здесь в первый раз, — оправдывалась другая. — Так, впопыхах накупила.
— Да, в таких вещах нужен опыт, — сказала женщина, ходившая в китайском халате. — Впопыхах такие вещи нельзя.
Шофер, дожевывая свой завтрак, полез в кабину автобуса. Затейник поднял руку и затянул песню. Отъезжающие нестройно подхватили. Дверца захлопнулась…
А девочка, разносившая в столовой котлеты и каши, сказала своей начальнице:
— Ой, мне в контору нужно сбегать, велели зайти!
— Вечно вам в рабочее время куда-то нужно, — заворчала диетсестра, но тут же разрешила: — Ну ладно уж, сбегай, если нужно, только быстренько.
Девочка побежала к конторе со всех ног.
Но автобус уже тронулся — издали она увидела, как открылись перед ним ворота парка и он покатил, выбросив сизое облачко.
И, не добежав, остановилась девочка, глядя автобусу вслед.
И медленно, медленно закрылись высокие решетчатые ворота.
Вагон был купированный.
Едва мальчик бросил чемодан на свою полку, к нему обратился мужчина:
— Молодой человек, вы со мной не поменяетесь, мы с женой оказались в разных купе.
Мальчик сказал:
— Пожалуйста, конечно.
И перешел в соседнее купе, но и там, едва он устроился, другой мужчина, тот гигант, что приходил на пляж с молодой красивой женщиной, сказал ему:
— Молодой человек, вы не перейдете, тут рядом совершенно такое же место, мы, понимаете, вдвоем, так хотелось бы вместе…
— Пожалуйста, — сказал мальчик и перешел, а его место заняла та самая молодая женщина.
Потом он смотрел в окно, как пробегают мимо заводские трубы, как пробегают бескрайние поля, бессчетные тропки и дорожки. От столба к столбу тянутся провода, разлиновавшие и пейзажи, и небо в облаках: кажется, вниз слетает вагон по проводам, потом взлетает вверх — появляется столб, пробегает за окном. И опять: вниз — вверх — столб, вниз — вверх — столб. Как на волнах, летит, качаясь, вагон, везет мальчика навстречу его мужской жизни.
Слева и справа от мальчика у окон стояли пары, и слышалась мальчику любовная песня, которую двадцать пять дней назад пел парень с гитарой.
А когда наступил вечер, то месяц повис за окнами и не стало видно ни полей, ни дорог, а только темень внизу да лунный свет в небе, разлинованном светлыми нитями проводов.
И звучала, звучала в стуке колес любовная песня. Мальчик слушал ее, стоя с папиросой у окна.
Как вихрь, возник вдруг встречный поезд: грохоча, замелькали его вагоны, понеслись молниеносные отсветы его окон, все было заглушено этим вторжением летящего грохота и блеска… Встречный промчался, опять стал слышен мирный перестук колес, но уже не звучала в нем песня.
— Пора идти спать, — сказал мальчик, туша папиросу.
И запер за собой дверь в купе.
В общежитии служащих санатория сидела в своей комнатке девочка и писала письмо.
Она писала тщательно, задумываясь над каждой фразой.
Закончила, вздохнула и приписала: «Жду ответа, как соловей лета».
Мальчик приехал домой.
Мать разбирала его чемодан, а отец говорил:
— Не зря мы тебя посылали на юг, не зря! Смотри, как загорел, посвежел, возмужал! Ей-богу, возмужал немножко! Смотри, мать, еще пара-другая лет — и будет у нас с тобой помощник! Того гляди женится!
— Самое время, — шутила мать, — усы уже выросли.
— Что-то мне не хочется еще становиться дедушкой, — шутил отец.
Мать посмотрела на мальчика с восхищением.
— Он еще больше стал похож на меня, — сказала она.
— Не возражаю, — сказал отец, — если он будет такой же красавец, как ты.
— Ну, ну, не порть малыша, — сказала мать.
— Я пойду к ребятам, — сказал мальчик некоторое время спустя.
— Сходи, они тебя очень ждут, — сказала мать.
Отец отошел с мальчиком в сторонку и сказал:
— Тебе, наверно, понадобятся деньги. Возьми трешку, малыш.
— Спасибо, — сказал мальчик.
Со своими товарищами он шел по большому городу, они были веселы и оживленно разговаривали.
…Мальчик был со своими товарищами на стадионе. Советская команда играла с иностранной, игра была острая. Мальчик сидел наэлектризованный, поглощенный зрелищем.
После матча громадная толпа текла со стадиона. В толпе двигался и мальчик. Выражение его лица было счастливое, задорное, потому что выиграла наша команда.
Он пришел домой и на столике в передней увидел письмо. Схватил его, быстро прошел к себе, стал читать. «Жду ответа, как соловей лета», прочел он, ему стало неловко. Он вспомнил, достал фотографию, завернутую в бумагу, развернул. На фотографии были две девичьи головки, старательно причесанные, две пары глаз смотрели в одну точку. Оба лица были невыразительны, ненатуральны. Одно из них принадлежало его девочке, но это было не то лицо, которое ему так нравилось. На обороте было написано:
Когда в жизни что случится, Тогда вспомнишь ты меня И вспомнишь, что в мире есть сердце. Которое любит тебя.Мальчик задумчиво положил фотографию в ящик стола.
Девочка зашла на почту, где было полно отдыхающих, и, стесняясь, спросила в окошечко:
— Надя, посмотри, мне есть?
Надя была та самая подруга, с которой девочка вместе фотографировалась. В жизни лицо у нее было не деревянное, а живое и смышленое.
Она взяла пачку писем на букву «О», перебрала и сказала:
— Пишет.
Девочка отошла.
Мальчик действительно писал письмо.
Но что он мог написать?
«Из нашего класса двое поступают в институт», — написал он и представил себе свой класс, и зачеркнул написанное. Что ей до его класса?
«Кто сидит на моем месте за столом?» — написал он и представил себе этот стол, и место за столом, и на этом месте кого-то безликого, и протянутые перед ним стройные руки девочки — нахмурился и зачеркнул.
С пером в руке он сидел и думал мучительно — что написать?..
И девочка писала.
«Напиши, — писала она, — понравилась тебе моя карточка или же нет».
Мальчик получил и это письмо, и снова он сидел и пытался ответить.
«Твоя карточка мне очень понравилась».
Но, написав это, положил перо и достал фотографию… Нет, не нравилась ему фотография, не видел он на ней той красавицы, что стояла на морском берегу, залитая светом луны.
И лица той красавицы он уже не мог вспомнить. Безликая стояла она перед ним, или же на месте настоящего ее лица виделось мальчику ненастоящее, напряженное — с фотографии.
И свет луны ему виделся не таким уж ярким, словно сквозь туман…
Он разорвал свое неоконченное письмо на мелкие кусочки и бросил в корзину.
— Я пройдусь, — сказал он матери и вышел из дому.
На улице он повстречал двух бывших своих одноклассниц.
— Как ты загорел! — сказала та, что когда-то говорила: «Тебя посылают в Крым, счастливый!»
— Поздравь, — сказала другая, — последний экзамен с плеч долой! Теперь уже скоро объявят, кто прошел по конкурсу, кто нет.
Два лица смотрели на мальчика — оживленные, сияющие.
— Поздравляю! — сказал мальчик.
И они ушли по улице, разговаривая о своих делах. Московская летняя улица — дома в лесах, зной, грохот, движение…
— А ребята что говорят? — спросил отец.
Они сидели за семейным ужином втроем, родители и их мальчик. Комната была чистая, с книжной полкой, с репродукцией Пикассо на стене.
— Одни завидуют, — ответил мальчик весело, — те, что хотели и не прошли. Другие рады, что их забраковали. А в общем-то все одобряют — что же тут возразишь, дело стоящее.
— Если б еще на прежних самолетах, — сказала мать, — а то десять тысяч метров и даже больше, представить себе только.
— Мама, десять тысяч метров — это пустяковая высота! — сказал мальчик.
— Ну да, пустяковая, много ты понимаешь, — сказала мать.
— Я вот о чем думаю, — сказал мальчик, — техника там все же трудная.
— Ничего, — сказал отец, — все в жизни трудно, справишься, малыш.
— Ну ясно справлюсь, — сказал мальчик, — только не сразу, конечно.
— Надя, посмотри, мне есть? — спросила девочка в окошечко.
На почте было пустовато, лето кончилось.
Надя терпеливо перебрала пачку писем на букву «О» и сказала:
— Пишет.
— Все пишет, — вздохнув, сказала девочка. — Пишет, никак дописать не может.
— Все они такие, — сказала Надя.
— Напишу еще раз все-таки, — сказала девочка. — Последний.
— Попробуй, — сказала Надя. — Только не стоят они того, уверяю тебя, не стоят.
Мальчик зашел в магазин подарков.
Переливались, играли бусы всех сортов и размеров; маршировали флаконы с духами; перевязанные лентами, лежали аккуратные, как пакеты с младенцами, подарочные наборы; шли табуны слонов; лежали поделки из кости, малахита, янтаря.
— Скажите, пожалуйста, — спросил мальчик у пожилой продавщицы, сколько стоят вот эти клипсы?
— Цена написана, посмотрите сами, — ответила продавщица.
Мальчик посмотрел сам, отошел…
Был осенний вечер. Фонари расплывались в тумане.
Мальчик стоял с приятелем.
— Зайдем, выпьем пива? — предложил приятель.
Мальчик достал из кармана горсть монет, посмотрел на них и сказал с горечью:
— Зайдем, на пиво хватит…
Девочка шла к Наде.
Стоял ноябрь. В парке на голых акациях связками висели большие черные стручки. Ветер перебирал их, они шуршали и позванивали высохшими семечками.
Длинные мутные волны, завиваясь и пенясь, заливали берег до самой балюстрады. Тучи сползали по горам лохмотьями черного дыма.
Надя жила в маленьком домике на горе.
Девочка сидела на Надиной кровати и беззвучно плакала, утирая слезы уголком головного платка.
— Что теперь делать? — шептала она.
— Раньше думать надо было, — сказала Надя угрюмо.
— Все узнают, — шептала девочка. — Все будут говорить…
— Вовремя надо было спохватиться, — сказала Надя. — Теперь хоть плачь, хоть криком кричи на весь свет — ничего не поможет.
Еще она сказала:
— Надо же.
И еще:
— Так уж он тебе понравился?
— Понравился, — всхлипнула девочка.
— И неужели ты ему не напишешь? — спросила Надя. — Как же так?!
Но тут девочка поднялась и стала такая гордая, горько-замкнутая.
— А что это поможет? — сказала она. — Только стыда больше. Когда он ни словечка даже не написал, исчез и все… Ладно, пусть так: он — сам, я — сама…
Длинные мутные волны заливали берег до самой балюстрады. Тучи ползли по горам лохмотьями черного дыма.
Мглистый, промозглый спускался вечер.
Ударил утренний мороз, и враз свалились с орешины ее красивые крупные листья, все до единого, легли кругом на землю и на ту скамью. И выступил, точно выбежал, гипсовый лыжник, прыгающий с трамплина.
Перед стеклянной дверью в пустую столовую диетсестра в белом халате стояла среди персонала и ответственным голосом спрашивала:
— А ты когда пойдешь в отпуск?
— Я пойду, пожалуй, в декабре, — ответила толстуха Таня, соседка девочки по общежитию.
— Можно в декабре, а можно и в январе, так что выбирай, — сказала диетсестра.
— В декабре мне лучше, — сказала Таня.
— А мне надо в апреле, — сказала девочка.
— В апреле нельзя, — сказала диетсестра. — Можно в декабре и можно в январе.
— Мне в апреле надо, — сказала девочка. — У меня в деревне тетя, она мне все равно что мать.
— Она ее воспитала, когда родители умерли, — сказала Таня.
— При чем тут тетя, — сказала диетсестра. — Объясните толком.
— Тетя строит дом, — сказала девочка. — И просит приехать вот именно в апреле. Помочь. Она письмо прислала. — И девочка показала письмо.
Диетсестра взяла письмо, персонал тоже стал читать, заглядывая через плечо.
«Приезжай, помоги, без тебя как без рук», — было написано в письме.
Девочка стояла такая смирненькая и смотрела пристально на читающих.
«Жду ответа, как соловей лета», — дочитала диетсестра и сказала с досадой:
— Вот непременно им надо тогда, когда нельзя! — Но тут же смягчилась: — Ну ладно уж, иди в апреле в виде исключения, раз она тебя воспитала.
И девочка вздохнула с облегчением и сказала:
— Спасибо!
— Обошлось, — сказала она Наде. — Разрешили отпуск в апреле.
— А дальше-то как? — спросила Надя.
— Писем больше не потребуется, — сказала девочка. — За это спасибо, а больше не потребуется. Время подойдет, просто уеду отсюда.
— Вот отчаянная стала, кто б мог подумать! — сказала Надя. — Какая была тихая и какая стала отчаянная.
— Ты мне свой паспорт дашь, как поеду, — сказала девочка.
— Только бы тут не узнали до апреля, — сказала Надя.
— Не узнают, — сказала девочка.
Она сидела в своем общежитии: двухэтажный опрятный дом на краю парка, дальше за ним хозяйственные постройки — кладовые, прачечная, гараж.
Жила она по-прежнему в комнате с Таней. У Тани над энергичным, подковкой, с опущенными углами ртом росли суровые темные усики. Росту маленького была, а плечи могучие. Глядела Таня хмуро, зря болтать не любила, в свободное время вышивала на пяльцах.
Вот и сейчас сидела она напротив девочки и вышивала, а девочка говорила ей:
— Будем жить в своем домике. И рядом лес. И речка. И море. Такое теплое, как тут. И все будет у нас как нельзя наилучшее.
— Пустяки говоришь, — отвечала Таня недовольным баском. — Где ты видела, чтоб и море, и лес, и речка, скажи, пожалуйста? Еще и домик! Домик-то откуда возьмешь?
— А мы тот дом, что тетя строит, обменяем на эти места. И заживем с моим мужем тут, — поддразнивала девочка.
— Откуда это у тебя уже и муж появился? — удивлялась Таня, а девочка говорила:
— Не может же такого быть, чтоб мужа не было. Будет и муж в свою очередь…
Зимой по вечерам девушки в общежитии собирались вместе и пели песни под Таниным руководством, хорошо пели, красиво.
У толстушки Тани лицо становилось вдохновенным, она поднимала глаза к потолку и пела, словно молилась:
Подмоско-овные вечера…Приходила к девушкам диетсестра в неизменном белом халате, говорила удовлетворенно:
— Вот какая у нас самодеятельность — на фестиваль послать не стыдно.
— А что, — говорила Таня, — вот если б у Кати пьяно получилось, какое требуется, то можно бы и на фестиваль.
И девочка пела с ними, но пела без удовольствия, и не интересно было ей, получится или не получится пиано у Кати. Поет веселое, а глаза безрадостные. Поет и вдруг смолкнет, задумавшись о своем.
Очнется и оглядится подозрительно: не заметил ли кто ее задумчивости.
Всех людей вокруг она подозревала, все ей казались соглядатаями, недоброжелателями.
— Ты чего, голова болит? — спросит Таня. Девочка вспыхнет, как спичка:
— Ничего у меня не болит! Почему это она заболит!
Диетсестра еще разок заглянула в комнату, чтобы послушать пение, девочка смотрит на нее с ненавистью.
— Так и ходит, так и смотрит! — ожесточенно рассказывает она потом почтарке Наде. — Так за каждым моим шагом и следит!
Хотя диетсестра на нее обращает внимания не больше, чем на других.
Пришел апрель. Тюльпаны цвели в горах и в парке, под окнами общежития. Окна уже открывали настежь.
Девочка собиралась в отпуск.
— Общественный чемодан у Кати, — сказала Таня. — Она последняя брала.
Катя принесла чемодан. Девочка укладывала в него свои вещи — лифчики, платьица, поставив чемодан на стол, повыше.
— На стул поставь, — сказала Таня. — Нехорошо чемодан на столе.
— Тебе нехорошо, а мне хорошо, — резко сказала девочка, и Таня удивилась — чего это она так?..
По аллее подъехало такси, из него вышли отдыхающие, их встречал затейник-эвакуатор.
— Добро пожаловать, — говорил он. — Откуда? Из Магнитогорска? Как там у вас в Магнитогорске?
— Здравствуйте, здравствуйте, старая знакомая! — обрадовался он женщине, которая в прошлом сезоне щеголяла на пляже в китайском халате. Опять, значит, к нам?
— Как видите, — сказала женщина. — Я очень люблю юг весной, весной он особенно романтичный.
Шофер такси стоял на аллее и смотрел, как выгружаются его пассажиры, когда появилась девочка с общественным чемоданом в руке.
Шофер посмотрел на девочку и спросил:
— В город?
— Да, — сказала девочка.
Он посмотрел на нее еще раз, внимательно, взял у нее чемодан, положил в багажник и сказал:
— Садись, поехали.
— Хорошо, — сказала девочка. — Только как же…
— Все понимаю и вижу, — сказал шофер. — Не беспокойся, так свезу, за улыбку.
— Законы нарушаешь? — спросил затейник. — Газеты не читаешь?
— Нарушаю, точно, — сказал шофер. — А газеты читаю.
Девочка попрощалась со всеми и с диетсестрой, которая тоже вышла на аллею.
— Смотри, возвращайся вовремя, — сказала диетсестра. — Сама знаешь, сколько теперь работы, теперь поедут!
И она неодобрительно посмотрела на приехавшую женщину, которая легко и беззаботно удалялась по аллее.
Машина тронулась.
Отцвели тюльпаны.
— Изволь радоваться, третью неделю без смены работаю, — сказала Таня.
Катя посмотрела на вторую постель в Таниной комнате и сказала:
— Что ж это она?
— Еще в субботу ждали, — сказала Таня сердито. — В субботу ей срок был.
— Может, заболела? — спросила Катя.
— Так напиши! — сказала Таня. — Разве ж так делают? Напиши, если ты заболела!
… - Ни дисциплины, ни совести нет у людей, — сказала диетсестра. Под Первое мая и такое себе позволять. Телеграмму пошлем, давайте адрес.
— А у кого адрес? — спросила Таня. — У тебя есть адрес? — спросила она Катю.
— Нет, — ответила Катя. — Мне она не оставляла.
— И мне не оставляла, — сказала Таня.
— Как же так, — сказала диетсестра, — а в конторе сказала, что ее адрес у вас есть, там тоже не записали… Обманула, выходит?
— Ну почему обманула, — сказала Катя. — Хотела нам оставить, наверно, да забыла.
— Дом достраивают, — решила Таня, — не пускает ее тетка. Только так, больше ничего не может быть.
А девочка была в сотне километров от санатория в областном центре, в родильном доме.
Первомайские флаги развевались на улицах областного центра, день был ослепительно яркий, ликующий, когда раздался крик новорожденного и голос врача сказал:
— Мальчик.
И праздничная музыка, гремевшая за окном, замерла, стихла.
В белой палате, на белой постели лежала девочка, тихая после мучений.
— Мамаша, мамаша, сыночку кушать время! — сказал бедовый женский голос.
Санитарка, пожилая женщина, положила около девочки белый пакетик и смотрела на него.
— Вы подумайте! — сказала она. — Ишь, образованный! И кто его учил?
На лице у девочки робкая мелькнула улыбка. Боязливо, и виновато, и в то же время с невольной нежностью смотрела она на сына.
…Она окрепла и уже, кормя, сидела на постели и держала ребенка ловко, как опытная мать.
Санитарка говорила ей:
— Не горюй, пристроим парня. Такого отличного парня кто хочешь возьмет. Многим желательно иметь ребенка, да не у всех получается.
— А ей вот нежелательно было, да получилось, — сказала соседка.
— Вы, мамаша, на девочку не нападайте, — сказала санитарка. — В жизни, да у неопытных всякое может быть. Я здесь много чего повидала и постигла, что и не расскажешь.
— Разве я нападаю, — сказала соседка. — Ошибка молодости, разве я не понимаю.
— Сама ты ошибка, — прошептала девочка, рассматривая крохотное личико, прижатое к ее груди. Но громко ничего не сказала, не хотела ссориться.
Крохотный носик сопел, лобик морщился. С силой, странной в таком малюсеньком существе, втягивал ребенок молоко и громко глотал. Он должен был жить, должен был расти и вырасти большим, и, чтобы это осуществилось, он насыщался яростно, весь поглощенный своим занятием.
И девочка, его мать, смотрела на него, приоткрыв в изумлении бледные губки.
В комнатке за кухней сидел милиционер и рассказывал:
— Запросили мы, значит, сельсовет по месту прежнего ее жительства. Они, конечно, поставили в известность тетку. От тетки поступили сведения, что племянница к ней не приезжала. И что никакого, значит, дома тетка не строила и не строит, поскольку жила и живет в старой своей хате, хотя действительно крыша нуждается в ремонте, но колхоз обещает починить, и так далее тому подобные подробности о своем быте. Но, конечно, тетка впала в панику — опасается, что с племянницей мог произойти несчастный случай, и вообще жива ли.
Официантки и судомойки слушали волнуясь. Слушал и повар в белом колпаке.
— Необходимо разыскать во что бы то ни стало! — сказала диетсестра.
— Разыщем, — сказал милиционер. — Это непорядок, чтобы наш советский человек пропадал, и вообще без адреса.
Девочка брала с тумбочки свое копеечное зеркальце, смотрелась и дивилась на себя.
Прежде было ее лицо — ну, пустое, ничего не выражало серьезного. Вот так:
«Не принято с отдыхающими».
«А в кино?» — спросил голос мальчика.
«С отдыхающими тоже не принято», — сказало ее прежнее лицо…
А сейчас были в ее лице тишина, и раздумье, и достоинство, и озаренность, — она бы не могла назвать все это, но видела, что оно есть.
— Глупый ты мальчишка, — сказала она. — Ничего ты не понимаешь, хоть и окончил десятилетку. Спрятался, не пишешь… А еще мужчиной считаешь себя. Мальчишка, трусишка…
— А о чем вы с ним разговаривали? — спросила соседка.
— С кем? — спросила девочка.
— С отцом его, сына вашего, — пояснила соседка, — когда у вас любовь была.
— Да так, о всяком разном, — ответила девочка.
— Ну, а например?
— Ну, например, про кино разговаривали, — сказала девочка. — Кто какие видел фильмы.
И отвернулась к стене и сделала вид, будто дремлет.
На аэродроме с ревом взлетел самолет.
Трудно было узнать мальчика в форме здесь, среди других солдат.
Перед мальчиком стоял офицер, уже немолодой, он разговаривал спокойно, но неумолимо:
— От укладки парашюта зависит ваша жизнь. А это что? Вы уже не мальчишка, товарищ солдат, здесь нет папы и мамы, которые вам помогут, которые переделают то, что вы понаделали. — Он отошел, сказал сопровождавшему его младшему офицеру: — Привыкают делать кое-как, спустя рукава. Ответственности нет.
— Перекурить! — скомандовали солдатам.
— При чем тут мама и папа? — обиженно спросил мальчик у товарища. — Я все сам могу сделать, не маленький уже!
— Что ж ты не сделал? — спросил товарищ.
— Ну, поспешил немного, не подумал, это же учебное все. Надо будет сделаем. При чем тут мамы и папы?
И губы у него дрожали по-детски от обиды.
В том городе, областном центре, где лежала в родильном доме девочка, жил на окраине отставной полковник с женой.
Находились они в саду среди отцветших яблонь, когда у забора остановилась санитарка из родильного дома, та, что была при девочке.
— Здравствуйте! — сказала санитарка. — Я к вам по известному вам делу.
Отставной полковник с женой пригласили ее в дом:
— Заходите, пожалуйста.
— Имеется мальчик, — сказала санитарка. — Просто первый сорт что за мальчик. Мать желала бы его отдать хорошим людям, а поскольку вы желание такое изъявляли, то вот.
Полковник заволновался так, что даже встал и заходил по комнате, а его жена сказала:
— Вы мамаше передайте, пусть не беспокоится, воспитаем как следует, будем любить и жалеть, как своего когда-то любили, все у мальчика будет, как было бы у нашего, если б не война… А когда умрем, то домик наш с садом ему останется, пусть живет.
— И машина «Москвич-четыреста семь», — сказал полковник.
— И машина, и все наше имущество, — сказала жена полковника. — Только хочется нам, чтоб вырос на наших руках и считал нас родными отцом и матерью.
— Тогда я так и скажу в роддоме, — сказала санитарка, — что все устроилось.
— Подождите, — сказала жена полковника.
И стала собирать передачу для девочки.
Дрожащими руками она собирала передачу, и лицо ее выражало тревогу и надежду.
— Это пока передайте, — сказала она, — а муж сейчас сходит, купит что надо, я принесу.
— Вот она обрадуется, — сказала санитарка, — ведь никого-то у нее нет, сирота круглая.
И вышла, довольная.
Весенний берег моря, купающихся мало, а загорающих уже много.
Мелькают знакомые по прошлому году лица: семейство с корзиной продовольствия, толстяк Костя с градусником, картежники…
Нет среди картежников женщины в китайском халате.
— А где же наша председательница, — спрашивает один из играющих в карты мужчин, внимательно сдавая, — куда она делась?
— Вчера плохо ей что-то стало, лежит у себя, врачи беспокоятся, ответил другой.
— Что это она так вдруг, — сказал третий.
…Машина скорой помощи возле одного из белых домов санатория, расстроенная Катя бегает, помогая, вверх и вниз по лестнице, у входа в дом стоит затейник-эвакуатор с несколькими отдыхающими, беседуют тихо, пока происходит необходимая процедура.
— Третий раз к нам приехала, — рассказывает затейник, словно оправдываясь, — никто не думал не гадал… Внезапное обострение процесса, и пожалуйста, в два дня…
— Главное, молодая еще совсем, — сказал один из отдыхающих.
— Еще и сорока не было, — сказал затейник. — В шелках ходила, походка такая легкая была. Некоторые думали — болтается по курортам, чтобы флиртовать да в преферанс резаться, а поди ж ты…
— Не повезло, да, — сказал другой отдыхающий.
Подошел милиционер, со строгим выражением наблюдает печальную процедуру. Подошли другие служащие и отдыхающие, стоят молча… Захлопнулась дверца, машина с санитарными крестами тронулась.
— Отыскалась пропащая душа, — сказал милиционер диетсестре.
— Что вы говорите! — встрепенулась диетсестра. — Где же она?
Машина скрылась за поворотом аллеи.
— Пройдемте отсюда куда-нибудь, расскажу, — сказал милиционер. Жива, здорова…
Она была жива и здорова, сидела на больничной кровати, погруженная в глубокую думу.
На столике возле кровати стояла разная еда, коробка конфет, апельсины горой на тарелке, а девочка ни к чему не притрагивалась, сидела и думала.
— Подумайте, как они вас балуют, — говорила женщина на соседней койке, — чего-чего только не принесли, очень заботливые. Сразу видно, что сыночку вашему будет у них хорошо.
И она уговаривала девочку:
— Вы кушайте! Ребенку полезно, чтоб вы кушали!
А дезочка ничего не отвечала и не притрагивалась ни к чему.
Полковник стоял с женой во дворе, а санитарка с ребенком на руках подошла к открытому окну.
Они посмотрели на ребенка и умилились — какой славный.
Жена полковника даже заплакала, отвернувшись, а полковник ее утешал:
— Ну будет, будет.
— Вспомнила свое, — сказала жена полковника. — А подержать его нельзя? Немножко.
— Не полагается, — сказала санитарка. — Пока он тут — не полагается, уж вы нас извините.
— Конечно, конечно, — торопливо согласилась жена полковника. — А когда же ей разрешат выписаться?
— Пусть покормит, спешить не надо, — сказала санитарка. — Пусть при матери побудет ребенок, пока до рожка-то, оно лучше.
— А она не передумает? — спросил полковник.
— Ну, чего ради она передумает, — сказала санитарка. — Где она еще для него такое счастье найдет.
— Для того ее, возможно, и не выписывают, чтобы дать ей время подумать, — грустно сказала жена полковника.
— Нечего тут думать! — стояла на своем санитарка. — А насчет выписки, так ее на днях все равно выпишут, недолго теперь вам ждать.
— Что она ни решит, на все ее полная воля, — сказал полковник. Осуждать ее не придется ни в каком случае. И с выпиской спешить не нужно, это ведь дело такое, особенное.
— Ехать, конечно, надо Тане, — сказала диетсестра. — И притом одной, потому что это дело такое, особенное, да и работы у нас много, каждый человек на учете.
— Ты ей все скажи, — сказала Катя Тане.
Они увязывали большущий сверток.
Надя-почтарка плакала тут же.
— И зачем я, дура, паспорт свой дала, — говорила она. — Все равно все раскрылось, а только лишние неприятности.
— Ничего нет тайного, что не стало бы явным, — сказал затейник. Через скрытность и дурость неприятности и происходят. Ну, я пошел, отдыхающие желают к Бахчисарайскому фонтану ехать просвещаться. Мне этот фонтан уже вот тут сидит, — показал он на горло.
— Ты ей, главное, скажи, что тебя коллектив послал, весь коллектив, объясняла Тане диетсестра. — Про коллектив не забудь сказать, это ей сразу поднимет настроение.
— Скорей, — сказала Катя. — Сейчас машина пойдет.
Они вышли к кухне, около которой стоял грузовик.
— Сверток в кузов давай, — сказал шофер.
— Ну да, в кузов, — сказала Таня. — Ты там картошку возишь…
Она уселась в кабину рядом с шофером и взяла сверток к себе на колени.
Девочка кормила сына своим материнским молоком и обливалась слезами.
Еще никогда в жизни у нее не было такого страданья, как то, что предстояло.
— Бог ему счастье посылает, — говорила санитарка. — У тебя что есть? Ничего у тебя нет. А здесь у людей дом — полная чаша, сад, машина собственная. И все ему останется. А тебе он как гиря на ногах.
А девочка плакала, плакала. Не утешало ее нисколько, что у сына будет дом с садом. Санитарка ушла, рассердясь, и тогда еле слышно, шепотом стала девочка разговаривать с сыном.
— Как же это будет? — шептала она. — Ты, что ли, с чужой старушкой и с чужим старичком будешь счастливей, чем со мной?
И в отчаянии прижимала его к груди, словно его уже отрывали от нее.
Таня сидела с шофером в кабине. Огромный сверток с детским приданым лежал у нее на коленях. Под суровыми, даже гневными усиками Танины губы складывались в веселую усмешку.
Грузовик деловито бежал через степь, окаченную зноем. Сквозь зной величаво смотрели древние горы, как бежит куда-то небольшой грузовик по человечьим вечным делам.
Бежал он мимо гор, а потом мимо домика на окраине, около которого рос сад, и в саду полковник с женой возились под яблонями. Мимо, мимо бежал грузовик, и огромный сверток подпрыгивал на Таниных коленях.
Сын поел и засыпал в материнских руках.
Засыпая, он высвободил из пеленок свой кулачок и приложил к щеке, будто пригорюнясь. И при виде этого девочка зарыдала еще пуще и укрепилась духом, все до конца ей прояснилось в ее судьбе.
… - Даже если б пришлось нам с тобой уволиться, — пламенно шептала она в крохотный, безмятежно спящий кулачок, — ну и что, другой работы не найдем, что ли? Хоть бы даже уехать пришлось — ну и что? Сядем в поезд, ту-ту, и уедем. И что угодно пускай говорят, у кого совести нет.
— Сейчас полковник с женой придут, — сказала санитарка. — Повидать тебя хотели. Ты подойди к окошку, побеседуй с ними.
Девочка не слушала, она разговаривала с сыном:
— И не надо больше врать — ой, как хорошо! Не надо мучиться, скрывать… А у полковника с женой мы попросим прощенья. Простите, что зря вас побеспокоили… И мы скажем людям нашу настоящую фамилию. Чтобы под правильной фамилией мы тут фигурировали, вот. Наде паспорт привезем, скажем — не понадобился, вот.
Санитарка хотела взять ребенка, чтобы унести. Девочка взглянула…
— Да ты что, боишься? — спросила санитарка.
— Ничего я не боюсь, — спокойно и степенно сказала девочка и отдала ей ребенка.
Оставшись одна, она застегнула халат, посмотрелась в зеркальце и пошла в коридор к открытому окну, откуда виден был просторный больничный двор, — повидаться с полковником и его женой.
Но не полковник с женой стояли во дворе, глядя на окна, а стояла там Таня с огромным, неудобным свертком в руках, смотрела на девочку и улыбалась до ушей.
— Таня! — закричала девочка…
Шло время.
Расцвела девочка, стала красивой молоденькой женщиной, гордой и уверенной в себе.
— Мы не погуляем после ужина? — спрашивали у нее. Она отвечала с усмешкой:
— Не могу, занята.
— А в кино?
— Спасибо, не могу. Меня сын ждет.
— Так возьмем и сына, — приставали к ней, тогда она бросала через плечо:
— Не принято с отдыхающими.
А пока она работала, десять нянек нянчили ее ребенка, все девчата, что были свободны в ту смену.
Катали его в колясочке, и носили на руках, и присаживались с ним на ту скамью под орешиной, где когда-то его отец ждал его мать.
Вечером Таня купала ребенка, укладывала в кроватку и садилась возле него со своим вышиванием. Девочка прибегала, спрашивала:
— Ну как?..
— Все в порядке, — отвечала Таня.
Зевая, она вкалывала иглу в шитье, расчесывала косу и ложилась спать, а у девочки было еще много разных дел, она принималась стирать — на ребенка и на себя, штопать, шить.
Она разувалась и ходила босая по комнате и кухне, чтобы никого не разбудить, ни сына, ни девчат. Стирая, набрызгает на пол, потом, развесив на веревке свои лифчики и сыновьи ползунки, возьмет тряпку и замоет пол быстро, ловко: так и горела всякая работа в ее руках.
Потом и она ложилась, поцеловав спящего сына и улыбнувшись ему, и засыпала мгновенно.
А когда девочка была выходная, она сама гуляла с сыном. Он стал еще милей и забавней, и она смеялась звонким, счастливым смехом, радуясь, что ее сын так хорош.
Приехали в санаторий актеры на двух военных машинах — пестрая, запыленная, шумная компания.
Ушли они в клуб, встреченные персоналом.
— Помогите, — сказал затейник, — помогите, товарищи, не справляемся с запросами, растут у людей потребности в культурном развлечении.
А шоферы, солдаты в форме пограничников — один постарше, другой помоложе, — пошли в парк полюбоваться его красотами, размяться после дороги.
В парке никого не было, потому что все ушли на концерт, — сидели в клубе, перед эстрадой, на которой выступали актеры.
Солдаты-шоферы гуляли вольно, кормили крошками рыбок в бассейне и нюхали цветы.
И вдруг увидели девочку, которая, повязав голову от солнца платком, полола грядку.
Солдаты пошли медленней и остановились.
— Здравствуйте, — сказал, постояв, солдат постарше.
— Здравствуйте, — сказала девочка, продолжая свое занятие.
— Разрешите вам помочь.
— Не требуется, — ответила девочка.
— Ну как же это, — сказал солдат постарше, — у нас совесть не спокойна, что мы стоим без дела, а вы работаете.
— А вы ее успокойте, — сказала девочка, с силой орудуя цапкой.
Солдат еще что-то хотел сказать, как вдруг у самого его локтя заплакал ребенок — солдат даже вздрогнул… Это девочкин сын заплакал в колясочке, стоящей за кустами, он спал, а его, должно быть, комар укусил или мошка, он и заплакал.
Девочка бросила цапку, отогнала мошку, сказала «ш-ш-ш» и натянула на колясочку полог из марли. А солдат постарше взял тем временем цапку и стал полоть еще ловчей, чем полола девочка.
— Вы только розы не повредите, — сказала девочка, примирившись с его помощью.
— Как можно, — сказал солдат. — Розам никакого вреда не будет.
Младший солдат молчал и смотрел на девочку с грустным восхищением.
Потом девочка шла домой, катя перед собой колясочку, а по бокам шли солдаты.
— Вы по садоводству работаете? — спросил солдат постарше.
— Нет, — ответила девочка, — не по садоводству. Это я так, прирабатываю немножко. Деньги нужны.
— Ну ясно, нужны! — сказал солдат. — Кому они не нужны?
Пришли к дому. У крыльца девочка взяла ребенка на руки.
— Разрешите помочь, — сказал солдат постарше.
— Ну что ж, помогите, — разрешила девочка.
— Бери, Саша, коляску, — скомандовал солдат постарше, — а мне позвольте ребеночка.
— Его я сама отнесу, — сказала девочка.
— Не бойтесь, давайте смело, справимся! — сказал солдат.
Он умело и бережно взял малыша на руки, внес вслед за девочкой.
— Мальчик? — спросил он.
— Мальчик.
— Лучшего и желать нельзя! — сказал солдат.
В комнате Саша поставил коляску, а солдат постарше сам уложил в нее ребенка.
— Это вам от санатория такая комната? — спросил он.
— Да, — сказала девочка. — От санатория.
— И супруг ваш здесь же работает? — спросил солдат, глядя на Танину кровать.
— Да, — ответила девочка, — здесь же. Только сейчас он в командировке. В длительной командировке.
— Вот как, — сказал солдат.
Он стоял со своим товарищем у порога и ждал, не пригласит ли их девочка присесть, посидеть. Но она не пригласила, и он сказал:
— Ну, не смеем вас больше беспокоить, всего вам хорошего, будьте здоровы.
— До свиданья, — сказала девочка, и глаза ее тоже стали грустными.
И младший солдат сказал робко:
— До свиданья.
— Супругу вашему привет, когда вернется, — сказал солдат постарше.
— Спасибо вам! — сказала девочка.
И солдаты ушли, а она из окна посмотрела им вслед, как они удалялись в парк, полные неторопливости и чувства собственного достоинства.
Шло время.
Ребенок уже умел ходить.
Однажды девочка сидела с Катей в саду, а он играл около них. Они шили и, заговорясь, не заметили, как он отошел от них и направился к морю.
Высоко стояло солнце, и море пылало слепящим серебряным огнем.
Малышу было трудно идти по песку, он падал, но, поднявшись, снова упорно шел туда, где пылало и шумело море.
Он шел, и оно шло ему навстречу.
Он остановился, жмурясь от блеска. Легкий ветер раздувал его волосы и рубашечку, и длинные медленные волны подкатывали к его ногам. И он стоял и смотрел на это все.
…Две тонкие нежные руки протянулись к нему, осторожно подняли. Набежало и легло на песок огромное вечное море.
1960
ТРОЕ МАЛЬЧИШЕК У ВОРОТ (Рассказ)
Трое мальчишек стоят у ворот красивого дома. Старинный дом на Марсовом поле, желтый с белыми колоннами. Жаркий августовский день, последняя неделя каникул, раздолья, клетчатых бобочек. Эх, хорошо было лето! И прошло…
— Закурим, — задумчиво говорит Витька и протягивает пачку «Беломора».
Сашка берет папиросу.
— А ты? — спрашивает Витька у Юрчика.
— Спасибо, нет, — отвечает Юрчик. — Я бросил.
— Так-таки окончательно бросил?
— Да, — отвечает Юрчик. — Окончательно.
Он щупленький, бледный, в очках. Витьке и Сашке едва по плечо. Когда его мать узнала, что он курит, — это было на даче, она шла и увидела дым, поднимающийся над кустами, — она рыдала так, будто он покушался на самоубийство. Этого он не мог перенести. Он пожертвовал своим удовольствием, чтобы она не рыдала так ужасно.
— Не сбивай его, — говорит Сашка Витьке. — Бросил и бросил, чего тебе?
— Я не сбиваю. Я только предложил.
— А ты не предлагай. Курил человек и бросил, не так это просто. Нужна твердость характера.
Эти силачи и верзилы немножко жалеют Юрчика, что у него такая сумасшедшая мать, — но уважают. И не только за твердость характера. В их глазах он чудо начитанности и всезнайства. О чем хочешь спроси — ответит. Или сразу, или, самое позднее, на следующий день. Наш очкарик, зовут они его с любовью.
Перед домом по неширокой мостовой проложены рельсы, ходит трамвай. По ту сторону трамвайной линии — широко распахнутое, веселое поле: аллеи круглых подстриженных липок, купы кустов на ярко-зеленых газонах. Газоны усеяны серебряными шариками одуванчиков. Над полем в синем небе — пышные белые облака… От ворот мальчишкам виден широкий выход к Неве, к Кировскому мосту. Там памятник Суворову: молодой красавец в шлеме и короткой тунике, с мускулистыми голыми икрами. Витька и Сашка думали, что это изображение генералиссимуса Суворова, но Юрчик сказал — это Марс, бог войны. И поле называется, сказал он, Марсовым, потому что на нем когда-то происходили военные учения и смотры, и ничего здесь не росло, ни деревца, ни травинки, земля была твердая, как камень, от солдатских сапог, и пыльные смерчи бродили по ней.
Ничего похожего мальчишки не застали. При них военное поле уже зеленело и цвело. Розы цветут и другие цветы, на скамейках сидят бабушки и няньки, дети играют на песочке. Специальные тетки смотрят за порядком, если что не так — свистят в свисток. За большими мальчишками тетки смотрят во все глаза: все им кажется, что ребята пришли нарушать правила.
От старины осталось на Марсовом поле шестнадцать фонарей. Чудные, граненые, с темноватыми стеклами. По вечерам, когда по всему полю, как ясные жемчужины, загораются белые круглые лампионы, — шестнадцать старых фонарей светят слабым, жидким, отжившим каким-то светом. Будто из другого мира светят они. Посредине поля эти фонари, у братских могил.
Братские могилы.
На сером граните памятника жертвам революции вырезаны надписи. Длинные надписи, каждая во много строчек, какие строчки крупными буквами, какие помельче.
С четырех сторон памятника открывается вход вовнутрь. Жертвы революции там похоронены — очень давно: еще не только этих мальчишек, но и родителей их на свете не было.
Там горит вечный огонь. Это газовый огонь: под землей проложена труба, наружу выведена горелка. Газовщики Ленгаза присматривают за горелкой, чтоб была в исправности.
Штука обыкновенная, ничего особенного. Эти мальчишки живут в городе, где построен атомный ледокол, они интересуются космосом, искусственными спутниками, кибернетикой, газовая горелка для них — только газовая горелка, не больше. Вечный огонь — под этими словами они разумеют в основном то, что Ленгаз относится к своим обязанностям вполне добросовестно.
А те длинные надписи на памятнике — рассказал как-то Юрчик — сочинил Луначарский. Был такой, тоже очень давно, товарищ Луначарский, нарком, народный комиссар. Между прочим, у нас тогда не было паровозов, все ломаные, старые, и американцы нам предлагали сто новых паровозов, а мы им чтоб отдали решетку Летнего сада.
— Да, эту самую решетку. Да, за сто паровозов.
— Я бы отдал, — сказал Витька.
— Ты бы отдал?
— Если дают, почему не взять?
— Это, по-твоему, дорогая цена, сто паровозов?!
— А то нет, — сказал Витька.
— Ну и дуб! — сказал Юрчик.
— Почему дуб? — спросил Витька.
— Потому что паровозов мы делаем сколько угодно, и даже уже не паровозов, а тепловозов, электровозов — сколько угодно! А эта решетка единственная в мире.
Такого же мнения был Луначарский. И он уговорил Совет Народных Комиссаров, что не надо отдавать решетку.
— Неужели единственная в мире? — спросил Сашка.
С одной стороны — Летний сад с его решеткой, которая дороже ста паровозов, с другой — Михайловский сад. Пойдешь налево от ворот — в двух шагах клуб Ленэнерго, где каждый вечер кино, а дальше, через мост, Петропавловская крепость. Между Невой и крепостью — полоса песка, узкий пляж. Крепостной стеной он защищен от северных ветров. Там купаются и загорают. Витька с апреля ходит загорать. Конечно, когда есть солнце. В апреле даже в солнечные дни песок как лед холодный, лежать нельзя загнешься. Мужчины, молодые и старые, обнажась до пояса, загорают стоя, целой толпой, терпеливо и доблестно.
Пока ты маленький, ты себе не представляешь, что такое мужская жизнь. Ты думаешь: отработал отец свои восемь или семь часов — на сегодня его дело кончено. Ну, еще общественная работа, собрание или что. Но как подрастешь да начнешь самостоятельно ходить и налево от ворот, и направо вот тогда и видишь, какая у них прорва разных занятий, у мужчин. Например: на Конюшенной площади каждый день мотоциклисты сдают испытания — получают права. Стоит экзаменатор — лейтенант милиции, дядька выделывает восьмерки на своем мотоцикле, а кругом мужчины, старые и молодые: приросли к земле, не могут с места сдвинуться, смотрят, наводят критику. Кое-кто с работы, спецовка в известке или машинном масле. Того мать в булочную посылала, батон у него в авоське. Мать ждет, а он все на свете забыл.
Сашка ходит в магазин на Невском, возле Литейного, где продаются марки для коллекций. И там полно взрослых дядек. Они толкутся в магазине и выходят на улицу покурить. Меняются марками со школьниками, обсуждают, какие перемены происходят в мире, перечисляют новые африканские государства. Они в этих вопросах разбираются, говорит Сашка, как профессора географии.
А в той аллее Михайловского сада, что идет вдоль Мойки, мужчины организовали шахматный клуб. Приносят с собой шахматы и играют. Вокруг играющих — болельщики. Там устраиваются свои турниры, свои есть Ботвинники и Тали.
И опять, как не уважать Юрчика: эти серьезные люди принимают его в свою игру. Приглашали участвовать в турнире. Мать его на дачу увезла, а то бы он участвовал, ему хотелось.
Стоят трое мальчишек у ворот. Смотрят на Марсово поле. Люди ходят по дорожкам, бабушки и няньки сидят, беседуют.
Крохотная девочка в красном платьице и мальчик в белой рубашонке рвут одуванчики на зеленом газоне.
Дворничиха собралась полить улицу, выволокла шланг из ворот. Но не успела пустить воду — загляделась, рукой прикрывшись от солнца.
Со стороны Невы, щегольски плавно огибая угол на повороте, приближаются черные «ЗИЛы». Густо, один за другим.
— Ух ты, сколько! — замечает Сашка.
«ЗИЛы» замедляют ход, а за ними подъезжают новые, еще и еще, и им тесно становится на неширокой нашей улице. Осторожно толпясь, как большие жуки, они всползают на рельсы, и трамвай, шедший навстречу, останавливается.
— Поляки, наверно, — говорит Юрчик.
— Почему думаешь? — интересуется Витька.
— В «Ленправде» сообщение.
— Ага, — подтверждает Сашка. — И по радио говорили. Польская делегация.
— Они возложат венок, — говорит Юрчик, — и увезут в Польшу вечный огонь.
— Как увезут? — спрашивает Витька. — Совсем?
— Ну что ты. От нашего огня зажгут и увезут.
Остановились «ЗИЛы». Кто на мостовой, а кто по широкой дорожке въехал на Марсово. Хлопают дверцы. Выходят люди. Двое в шляпах, остальные с непокрытыми головами. Один в зеленом пиджаке, другие в плащах, бежевых и серых.
Два человека несут большой венок к памятнику.
Прохожие приостановились взглянуть, что происходит. Бабушки и няньки, схватив детей за руки, со всех сторон бегут к могилам.
Трое мальчишек двинулись туда же. Но они плетутся не спеша, руки в карманы — соблюдают свое достоинство.
Люди, приехавшие в «ЗИЛах», у памятника. Двое, что были в шляпах, тоже обнажили головы: ветер треплет их волосы. В зеленом пиджаке, должно быть, переводчик, он размахивает руками и без конца говорит что-то верно, переводит надписи, — а делегация, окружив его, слушает. А потом один отделяется от группы. Он идет крупным шагом туда, к центру, где горит вечный огонь. Остальные — цепочкой — за ним. Он становится на одно колено — дальше мальчишкам не видно, потому что его заслонили.
Но то, что они успели увидеть, им понравилось. На лицах у всех троих появляется удовлетворенное, гордое выражение. Да, им понравилось, что он стал на одно колено и склонил голову, свою седую голову. Это рыцарственно и красиво. Этого им не приходилось видеть, как становятся на одно колено в знак благоговения, об этом они только читали в исторических романах.
А главное, что коленопреклонение совершилось здесь, перед нашими братскими могилами. На нашу ленинградскую землю опустился он, благоговея, и ветер с Невы взвевал его седые волосы.
И все смотрели на это в молчании. И прохожие, и дети, и работники Ленэнерго из окон второго этажа, и работники почтового отделения из окон первого этажа… Кучка поляков расступилась, седой идет по дорожке обратно к машинам. Что-то несет он у груди в правой руке, а левой прикрывает. Это они зажгли от нашего огня и увезут к себе… За седым цепочкой идут другие. Щелкают дверцы машин. Садится делегация, садится переводчик в зеленом пиджаке.
И все. Нежно запели, разворачиваясь, черные «ЗИЛы». Тронулось, унеслось все это сверкающее черным лаком великолепие. Звеня, пошли трамваи. Бабушки и внуки расходились по своим скамейкам.
Той же прогулочной походкой — руки в карманы — трое мальчишек, не сговариваясь, направляются к могилам. В соседстве с этими могилами они выросли; каждый день, зимой и летом, видели этот гранитный памятник с надписями, сочиненными наркомом Луначарским. Но никто из них, и Юрчик в том числе, до сих пор толком не прочел этих надписей. В одиннадцать-двенадцать лет не очень-то интересуешься, что написано на могилах.
Но теперь они медленно обходят памятник и останавливаются перед каждой надписью, и читают медленно и старательно эти строгие торжественные строки: трое мальчишек хотят знать, что прочитали на этих камнях поляки, что увезли они в свою Польшу с нашего Марсова поля.
не зная имен
всех героев борьбы
ЗА СВОБОДУ
кто кровь свою отдал
род человеческий
чтит безыменных
ВСЕМ ИМ В ПАМЯТЬ
И ЧЕСТЬ
этот камень
на долгие годы
поставлен
Они читают молча, про себя: Сашка — нахмурясь, Витька — отвесив румяную губу, Юрчик — с выражением серьезной замкнутости на маленьком лице. Кто быстрей, кто медленней доходит до смысла этих слов. Смотри-ка, даже нет знаков препинания. Сколько мороки с этими знаками, а оказывается — можно и без них. В долгие годы, в даль времен это обращено, к русским, полякам, ко всем народам, и не до знаков препинания тут.
БЕССМЕРТЕН
павший за великое
дело
в народе жив
ВЕЧНО
кто для народа
жизнь положил
трудился боролся
и умер
за общее благо
Стоя в сторонке, на больших мальчиков, читающих надписи, смотрят маленький мальчик в белой рубашонке и девочка в красном платьице. Ждут, наверно, еще каких-нибудь событий. Не будет ли еще кто-нибудь становиться на колени. Но большие мальчики только вынули окурки изо рта и спрятали в карманы.
со дна угнетенья
нужды и невежества
поднялся
ТЫ ПРОЛЕТАРИЙ
себе добывая
свободу и счастье
все человечество
ты осчастливишь
и вырвешь
ИЗ РАБСТВА
Они входят внутрь. В углу прислонен венок, привезенный поляками. Посредине, в углублении, на маленькой квадратной площадке горит вечный огонь, он вьется на ветру в свете яркого дня, как живое ало-золотое знамя. Огонь, за которым приезжали поляки. Огонь, за которым присматривают газовщики, чтобы он горел вечно.
НЕ ЖЕРТВЫ — ГЕРОИ
лежат под этой могилой
НЕ ГОРЕ А ЗАВИСТЬ
рождает судьба ваша
в сердцах
всех благодарных
потомков
в красные страшные дни
славно вы жили
и умирали прекрасно
Ну и что ж такого, думается мальчишкам, что газовщики присматривают. Ясно — нужно присматривать, прочищать, когда засорится, без этого как же.
И что ж такого, думается им, что он погас однажды, когда был тот ураганный ветер, — ветер его сорвал, а люди зажгли опять, и опять зажгут, если это повторится, и конечно же он вечный, конечно вечный.
А у их загорелых, запыленных, исцарапанных ног, обутых в сандалии, тихими голосами говорят могильные плиты. Называют имена и поясняют:
— Погиб в бою с белогвардейцами.
— Убит правыми эсерами.
— Умер на фронте.
— Убиты финнами-белогвардейцами.
— Павшие от руки белогвардейцев при подавлении мятежа в Ярославле в июле 1918 года.
— Здесь погребены павшие в боях в дни Февральской революции и Великого Октября 1917.
против богатства
власти и знанья
для горсти
ВЫ ВОЙНУ ПОВЕЛИ
И С ЧЕСТИЮ ПАЛИ
за то чтоб богатство
власть и познанье
СТАЛИ БЫ
ЖРЕБИЕМ ОБЩИМ
Трое мальчишек — руки в карманы — идут от могил.
Это правильно, думают они, чтобы такие вещи записывали иностранцы и увозили за границу. Да, так и нужно. Как там написано: славно вы жили и умирали прекрасно. В те далекие, красные, страшные дни.
— Почему страшные? — спрашивает Витька.
Но товарищам не хочется сейчас обсуждать все это, им надо немножко подумать. Юрчик, тот прямо-таки железно сжал свои бледненькие губы, показывая, что не желает разговаривать. Подумай и ты, Витька, своей головой, если можешь.
Молча шествуют мальчишки по гладкой аллее между круглыми липками, высокие слова стучатся в их сердца.
Они ушли вовремя: уже поспешала к могилам тетка со свистком. Она заметила ребят у памятника и поспешала со всех ног: она думала, рассказывала она потом бабушкам и нянькам, что ребята пришли воровать цветы из венка. Но они уже ушли, а венок был цел. И с досады, что она зря ноги себе трудила, тетка им вслед засвистела в свисток.
А девочка в красном платьице и мальчик в белой рубашечке вернулись к одуванчикам. Они ничего не поняли, от начала до конца. Их время понимать еще не настало. Девочка присела, раздув свое красное платье, она похожа на большой цветок. Они оба с мальчиком похожи на цветы на ярко-зеленом лугу.
1961
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК (Киноповесть)
Поселок этот стоит у реки.
Река течет широко, медленно и серебряно. Скобкой через нее переброшен мост.
До войны в поселке было много старых деревянных домов: таких почернелых, одноэтажных и двухэтажных, с цветами на окнах. Но и новых, в пять этажей, уже стояла целая улица. Некрасивые были эти дома первых пятилеток, вот уж излишеств ни малейших, все как один голые, пятнисто-серые, с ржавыми прутьями балконов. Но селились в них охотно, потому что там был водопровод, паровое отопление и другие культурные условия.
Поселок лепился вокруг большого завода. Не будь завода, не было б и поселка. Старинный завод, трубы толстые и тонкие, царство закоптелого стекла, закоптелого кирпича и дымов, поднимающихся в небо.
Кругом темнели леса. За лесами лежали деревни. Многие рабочие жили в деревнях, иные даже в дальних, и на работу приезжали поездом.
И с того берега каждое утро приходил поезд. С грохотом шел он по мосту. Люди высаживались из вагонов и спешили к проходной.
Среди тысяч рабочих были на заводе трое молодых мужчин, трое приятелей: Леонид Плещеев, Алексей Прохоров и Григорий Шалагин.
Плещеев самый старший из них, у него уже сын был шестилетний.
Прохоров женился недавно, детей еще не было.
Шалагин жил у матери-колхозницы в деревне Подборовье, километрах в восьмидесяти, пил молоко по утрам и вечерам и был холостой и вольный.
Может быть, их сближала работа. Может быть — то, что все трое относились к жизни основательно, без озорства, и на этой почве друг друга уважали. В общем, их часто видели вместе, хотя Плещеев много времени уделял семье, Прохоров переживал медовые месяцы с молодой женой, а вольный Шалагин любил позубоскалить и погулять с девушками, которые очень и очень к нему хорошо относились.
Однажды летним утром они подходили к проходной и вдруг услыхали дальний гул, слабый и прерывистый. Он шел сверху. Но не был похож на рокот наших самолетов. Что такое? — подумали люди и приостановились, подняв головы…
Так для них началась война.
Дальний голос ее приближался, грубел, свирепел… То был первый налет, и после него не стало одного деревянного дома — в нем, слава богу, никого не было, все выбежали глядеть на самолеты — и не стало моста: вся его середина обрушилась, казалось — два гиганта стоят на коленях друг против друга на берегах реки, бессильно опустив руки в воду.
К заводу немцы не пробились, но фронт пролег совсем близко, и поселок сполна испил чашу горькой беды.
Сначала трубы завода еще дымили. Все меньше, но дымили. Потом работать никакой не стало возможности.
Сначала старались женщины (мужчины, за которыми женщины могут укрыться, ушли воевать) — старались женщины, кто не так слабонервный, удержаться в своих жилищах. Как ни страшно — цеплялись за свое место. Тяжко с детьми, с немощными стариками, с трудно нажитым, для жизни необходимым добром ринуться в бездомность, безвестность. Не цыганки же, не бродяжки: жительницы.
Но все-таки постепенно пустел поселок. А когда грянули решающие бои самые отчаянные не выдержали, ушли в лес, унося что можно.
Скоро у меня это рассказалось, а дело длилось не дни, не месяцы длинные годы. Чего не было, сколько народу полегло в битвах, блокадах, оккупациях, пока они тут сидели в поселке, поливаемые снарядами из пушек и бомбами из облаков, и берегли капельку тепла в своем очаге…
Ушли-таки, забубенные головы, в лес. И хорошо сделали. Когда стих наконец-то ад и настал день возвращения и потянулись жители из лесу со своими узлами и мешками (а кто и с корытом, кто с кроватью, разобранной и сложенной, были и такие предусмотрительные, кто козу ведет, кто коровку), — в день возвращения жители не увидели своего поселка: только груды праха да печные трубы среди праха. Больших домов не осталось. Редко где уцелела одна-другая старая деревянная изба. Сбивались в каждой избе десятки душ. Остальные — а что делать? — землянки стали копать, ставить хибарки.
Помаленьку объявлялись и те, кто эвакуировался в тыл. И тем же занялись: копают, сбивают себе жилье на скорую руку. Временное жилье, а все же: кровлю нужно. Печку нужно. Дверь нужно.
Старались, не ленились, и это не жизнь была, а только подготовка к ней, настоящая жизнь все маячила впереди, и они к ней рвались, и сколько на это рвение сил уходило — поди сосчитай…
Полина Прохорова долго рылась в развалинах, устала, присела отдохнуть над кучкой скарба, в поте лица ею собранного. Кучка была увенчана паровым утюгом. Деревянная его рукоятка превратилась в уголь, но сам утюг уцелел.
Когда-то семья Прохоровых жила на этом месте. Здесь стоял пятиэтажный дом. Здесь было Полинино счастье. Сейчас — тенями бродили по пепелищу женщины и дети, что-то выбирали из-под камней и пепла — остатки порушенной, поруганной своей жизни.
Небольшим казалось пепелище, не верилось даже, что столько тут жило народу, столько было квартир, и окон, и абажуров в окнах.
К Полине подсела Тоня, фельдшерица. Когда-то, в школе, они были подружками, потом разошлись дороги. Полина вышла замуж, Тоня нет. Полина всю войну оставалась с родителями мужа, Тоня уехала, работала в прифронтовых госпиталях, вернулась недавно. Полина была красивая, видная, Тоня — худенькая, бесцветная, незаметная.
— Полина, — сказала Тоня, — я хотела тебе сказать. Старики обижаются очень.
Полина смотрела прямо перед собой.
— Не лезли бы старики, — сказала она.
— Поля… Ты память Алеши беречь должна.
— А твое какое дело, ты тут при чем? — спросила Полина.
— Вчера опять, говорят, до света гуляла…
Полина повернулась к Тоне.
— А что мне, под землей с ними сидеть? Стариковским ихним духом дышать? Я под землей — как в гробу! И что я вам далась, сами-то святые! Думаешь — поверю, что ты в армии ни с кем дела не имела? Целую роту небось перебрала.
— Ну вот клянусь тебе!.. — в ужасе сказала Тоня, прижимая руки к груди.
— А не клянись, — оборвала Полина и встала. — Нужны мне твои клятвы… Но и в мою душу не лезьте!
Леня Плещеев вытащил из груды обломков исковерканный непонятный предмет и закричал радостно:
— Мама! Посмотри, что я нашел!
Для десятилетнего и такое занятие — игра, и всякая находка — трофей.
— Что такое? — спросил Павка, товарищ Лени.
— Мамина шляпа. — Леня подул на изуродованную шляпу. — Мам! Смотри! Вот. Цветы…
— О господи, Ленечка, — лихорадочно сказала Мария, не отрываясь от поисков. Она была в ватнике, голова обмотана платком, лицо запылено. — Все не то ты находишь. Отцов ящик с инструментами, вот что ищи.
Но Полина подошла к Лене и взяла шляпу из его рук.
— Ты смотри, пожалуйста, — сказала она.
— У мамы две было! — похвалился Леня.
— Надо же! — сказала Полина. — Вот уж чему не пропасть… — Она со злобой отшвырнула шляпу. Взметнулось облачко пепла.
— Ящик с инструментами, — бормотала Мария, не видя ничего. — Неужели же сгорел, неужели железный ящик с железными инструментами, и сгорел?!
— Сгори все, — сказала Полина. — Подумаешь, ящик с инструментами!
— Можно подумать, я, кроме этого ящика, ничем не пострадала, сказала Мария, задетая. — Я не меньше твоего пострадала!
— Меняюсь! — уходя, жестко бросила Полина. — Хочешь?
— Ой, Ленечка, — бормотала Мария, роясь в обломках, — Ленечка, ой да неужели… Ленечка, нашла! — раздался ее радостный вскрик.
Леня и Павка бросились к ней, втроем они стали нетерпеливо разгребать обломки.
А причина радости была покореженный железный ящик, в нем молоток да клещи, да топорик, да плоскогубцы, да пилы без рам и прочий простой рабочий инструмент.
Инструмент был нужен Марии, чтобы хоть какое построить жилье для семьи — для мужа и сына.
Вот сидит ее муж на солнышке. Он пробовал ей помогать. Досок им выдали, он с сынишкой доски носил… Он вернулся живой, Мариин муж Леонид Плещеев, с руками и с ногами вернулся — но слепой. Ослеп после ранения. Распилить доску — это кой-как можно, если жена направит его руку. Повыдергать из старых досок гнутые гвозди — это он был в силах и без подмоги. Он пытался выпрямить один гвоздь молотком, но попал себе по пальцам и бросил это дело. В ожидании, какую еще дадут ему работу, сидел и перебирал инструменты. Нащупал в ящике лекало, повертел, бросил…
Самим бы, конечно, ничего им не построить. Но приходили люди — кто на час, кто на два — и помогали. Вдова Капустина приходила, мать Лениного товарища Павки. Павка вертелся тут же. На грузовике подъезжал шофер Ахрамович, гигант с добрыми глазами, всегда под мухой немножко. Подмигнув Плещееву, словно тот мог видеть его подмигиванье, Ахрамович доставал из кабины флягу, давал Плещееву хлебнуть, отхлебывал сам и брался за работу.
А Мария, женщина хрупкая, работала неумело, но без устали, горячечно. Она вообще в постоянной была горячке — на нервном накале тянула все эти годы небывалых бедствий.
— Ну вот, и стены есть, — звенел ее голос. — А где четыре стены — там дом. А где дом, там и жизнь. Тоня бинтов обещала дать, покрашу синькой, голубые занавески сошью. Все приложится постепенно, пойдет жизнь, куда ж она денется, господи…
Неподалеку остановилась молодая женщина, недурная собой, в платочке по-деревенски и с кошелкой в руке.
— Помогай боже, — сказала она.
— Спасибо, — сказала Мария. — Не здешняя?
— Приезжая, — степенно объяснила женщина. — По вербовке, на восстановление народного хозяйства. Муж-то больной?
— Не повезло нам, — тяжко вздохнула Мария.
— Бог, значит, судил, — сказала женщина. — Молиться надо.
— Исцелит, что ли?
— Его святая воля, захочет — и исцелит.
— Если б я вот столечко верила, что это может быть, — сказала Мария.
— А ты молись. Будешь молиться, и вера придет. Сейчас ты в темноте, не хуже как хозяин твой. А в молитве свет увидишь. Ну, Христос с вами, сказала женщина и пошла.
— Сама ты темнота, — сказала Мария. — Господи, и какого только народу на свете нет!
Заводоуправление временно помещалось в бараке. Кабинет директора был обставлен скудно, по-бивачному.
К директору Сотникову пришел предзавкома Мошкин, маленький хмурый человек в потрепанном кителе без погон.
Сотников разговаривал по телефону. Еще человека два сидели тут, ожидая, пока он освободится.
— Я бы просил уточнить, — говорил Сотников. — Бульдозеров — сколько? Цемента? Железа?.. Мало. Мало. Что ж торговаться, вы же знаете обстановку. Всё начинаем заново. И людей, людей, как можно больше людей!.. Хорошо. Ждем.
Мошкин сел и расстегнул нагрудный карман. Достал бумагу и положил на стол.
— Я вас слушаю, товарищ Мошкин.
— Собрание рабочих бывшего цеха номер два, — сказал Мошкин, — приняло резолюцию. Не тратить людей и средства на строительство бараков. Обратить все ресурсы на восстановление завода. Собрание призывает весь коллектив присоединиться к этому решению.
— А где, — спросил Сотников, — думают жить рабочие цеха номер два?
— Они постановили зимовать в землянках и времянках.
— А те, кто к нам едет на помощь, — спросил Сотников, — они как? Тоже будут рыть землянки? Каждый себе? Изроем землю, как кроты? — Он читал резолюцию. — Вот как: и школу туда же? Детям не учиться?
— Школа может обойтись постройкой барачного типа.
— Мы достали прекрасный проект школы, — сказал Сотников. Взглядом он как бы пригласил присутствующих порадоваться этой удаче. — С учебными кабинетами, с залом для спорта. Ну, это, конечно, на будущее. Пока что один этаж возведем — но как следует, капитально, чтоб потом расширять! Уважим детишек… Что касается жилья — в ударном порядке будем ставить бараки. До лучших времен. Чтобы ни один человек не думал, где ему приклонить голову, когда зима грянет.
— Не понимаю, — сказал Мошкин, — почему вы против этой резолюции? Она патриотическая…
— А потому что, — ответил Сотников, — если вы хотите иметь от человека хорошую работу, потрудитесь подумать, чтоб этому человеку получше жилось. В этом, между прочим, патриотизм, а не в том, чтобы держать рабочего в землянке. И вы очень хорошо знаете, товарищ Мошкин, что рабочие не сами додумались до этой резолюции.
— Никто их не заставлял, — сказал Мошкин. — Сами поднимали руки.
— Конечно, сами, — сказал Сотников. — Уж кому-кому, а вам известно, как надо ставить вопрос, на каких струнах играть, чтобы люди подняли руки.
— За десятью зайцами, значит, погнались, — сказал Мошкин, нервно убирая свою бумагу и застегивая карман. — А если не справимся? Тогда что?
— Не справимся — отвечу я, — сказал Сотников и отвернулся к другому посетителю.
— Ясно, не справимся! — уходя, тихо сказал Мошкин третьему посетителю. — Все фантазии, лишь бы власть показать. Видали барина «отвечу я»! — украдкой передразнил он Сотникова. — Другие, значит, такая мелочь, что им и отвечать не придется… На всю страну могла бы резолюция прозвучать! А теперь только и жди провала — тыщу обязательств наберем и сядем в калошу…
— Поживем — увидим, — сказал посетитель.
…На огромном пространстве развернулась стройка.
Разрушенные заводские корпуса были обставлены лесами. В поселке за руинами рос новый город из длинных бараков. Строилась школа. На реке восстанавливали мост. Работой были заняты тысячи людей — каменщики, кровельщики, штукатуры, водители машин, саперы, разнорабочие, в военной и штатской одежде, демобилизованные и приехавшие по вербовке, мужчины, женщины, подростки.
По ночам пылали над поселком электрические солнца: работа не прекращалась.
Почти не было таких, чтоб сидели тогда по кабинетам. И днем и ночью то на одном участке, то на другом появлялась видная фигура Сотникова в генеральской форме и мелькал присматривающийся, вдумчивый Мошкин.
Женщины расчищали цех, заваленный битым кирпичом. Мошкин остановился возле одной из них. Это была та молодая женщина, что советовала Марии молиться, ее звали Фрося. Она заметила пристальный взгляд Мошкина, но продолжала работать с усердным и скромным видом.
— Это о вас говорят, — негромко спросил Мошкин, — что вы у себя в селе насаждали религиозный дурман?
Фрося подумала мгновение.
— То ж при немцах было, — ответила она спокойно. — А при немцах чего не было? Страдал невыносимо народ, ну и пошли в религию, чего ж вы хотите?
— В церковь небось ходила?
— Ходила.
— И других подбивала?
— Не то чтоб подбивала, — еще секунду подумала Фрося, — а просто обсуждали мы между собой, что, возможно, это нас бог наказывает за грехи.
— А теперь не обсуждаете? — строго спросил Мошкин.
— Теперь нет, не обсуждаю.
— Имейте в виду, мы здесь у себя подобной деятельности не допустим.
— Буду иметь в виду, — согласилась Фрося, твердо глядя в глаза Мошкину.
— А вы знаете, кто с вами говорит? — спросил он.
— Ну как же, — сказала Фрося почтительно и даже поклонилась небольшим поклоном. — Председатель завкома товарищ Мошкин.
Мошкину ее ответ понравился.
— Вообще, — сказал он покровительственно, — я вам рекомендую почитать научную литературу. Наука давно доказала, что бога нет, а вы всё обсуждаете.
И, проговорив это равнодушным голосом, Мошкин двинулся дальше. Фрося посмотрела ему вслед прозрачными глазами.
В том же цехе работала Мария Плещеева. Исхудавшая, мрачная, она рассказывала женщинам:
— И никакого просвета. Что ни дальше, то хуже. Связался с этими пьяницами, Макухиным и Ахрамовичем, друг дружку взбадривают. На коленях стою, плачу — не губи нас, — нет! И Ленечка это все видит. Дождался отца.
Через пролом в крыше огромный ковш крана уносил горы мусора, и светлел цех. Вот все уже очищено и проломы заделаны, и женщины моют окна, впуская все больше солнечного света, а голос Марии жалуется, жалуется:
— Уедем, прошу, к моим родным, не могу я больше так мучиться! У меня родные на Алтае, хорошо живут. Так не хочет, — конечно, ему там не будет той воли…
— Христос терпел и нам велел, — сказала Фрося. — Грешим много, по грехам и муки.
— Где я нагрешила? — страстно спросила Мария. — Женой была, матерью была, работала, все исполняла, — чего я нагрешила?.. Лопнет мое терпение, возьму Ленечку и уеду. Ты бы уехала? — спросила она у Полины Прохоровой.
— Не знаю, — сказала Полина. — Как же он без никого?
— Вот вернись твой Алеша и веди себя как мой, — уехала бы?
— Вернись Алеша слепой?..
— Как до дела — он слепой, — сказала Мария, яростно выкручивая тряпку, — а для выпивки — это он зрячий, будь покойна… Уж ты-то в два счета бы уехала, не говори мне… если б тебя капли радости лишили…
Подошла вдова Капустина с листком и карандашом:
— Мария! Твой Леня в какой класс идет?
— В третий, — ответила Мария.
— Зайдешь с ним после работы, — сказала Капустина, делая пометку в списке, — получишь костюмчик и ботинки.
— Да он и сам может получить, — сказала Мария, радостно оживляясь. Он у меня толковый, куда ни пошли, все сделает… Костюмчик и ботинки, уж так кстати, вырос изо всего, а ботинки ну совсем развалились.
Костюм был из жесткой темной бумажной материи: блуза вроде гимнастерки и длинные брюки, доставлявшие Лене особенное удовольствие. Еще и еще раз прикладывал он их к себе: хороши! А лучше всего были ботинки, кожаные, с болтающимися шнурками, и к ним пара сияющих калош.
Все эти обновы лежали на столе в плещеевской хибарке, и Леня с Марией ими любовались.
Новый приятель Плещеева, Макухин, находился тут же. Он протянул руку, взял ботинок, сказал уважительно:
— Вещь.
— А вы положите! — раздраженно и неприязненно одернула Мария. Непременно вам трогать! — Она ревниво прикрыла лежащее на столе газетой. И вообще нечего вам тут делать.
— Маруся, — сказал Плещеев, — он ко мне зашел…
— Вот и идите отсюда оба! — забушевала Маруся. — Сил моих нет на твоих гостей смотреть! И так повернуться негде! Идешь домой как на пытку, все одно и то же, одно и то же…
Плещеев и Макухин вышли из хибарки, присели на лавочку, прилаженную у входа.
— Сердится Маруся, — сказал Плещеев.
Макухин скрутил папиросы ему и себе. Закурили.
— Чего это Ахрамович не едет? — сказал Плещеев.
— Приедет.
— А вдруг он тоже не достанет?
Они сидели плечом к плечу на лавочке и ждали Ахрамовича.
Мария спрятала обновы под сенник на нарах.
— Наденешь, когда в школу пойдешь, — сказала она Лене.
Она силилась и в этом жилье сохранить крохи уюта. На окошке висела занавеска, сшитая из бинтов, и какой-то стоял цветок в горшке.
Наступил день, когда дети пошли в школу.
Это не было первое сентября. Может быть, это было первое октября, или десятое, или пятнадцатое: в те годы не везде удавалось придерживаться узаконенного расписания. Но так или иначе первый этаж новой школы был отстроен, над входом висел транспарант «Добро пожаловать!», и туда потянулись дети всего поселка. Сотников пришел посмотреть, как они в первый раз входят в новую школу, он был доволен и морщился, чтобы скрыть улыбку.
— Мальчики налево, девочки направо, — говорила молоденькая учительница, стоя в вестибюле.
Среди мальчиков, идущих налево, был Леня Плещеев. Вместе со своими товарищами он переживал оживление и ожидание первого школьного дня. Одет был не в новое, как предполагалось, а в прежние свои одежки с заплатами и старые разбитые ботинки, но радость его не была этим отравлена, — в его возрасте мальчики вообще мало внимания обращают на одежду, а в ту пору, пережив военные лишения, и вовсе не обращали. Смятение в его душе вызывали отец и мать. Он не мог разобраться до конца, что же происходит. Ему было хорошо вдвоем с отцом и вдвоем с матерью, а с обоими вместе — плохо. Обоих было жалко, но отца особенно. Леня стряхивал с себя эту тяжесть, уходя от них. Поэтому в школе, среди сверстников, он был веселый и беззаботный, а дома — серьезный и много старше своих десяти лет.
Делая вид, что спит, слушал он ночью разговор матери с отцом.
— Что же мне делать! Что мне делать! — как в бреду вскидывалась Мария. — Ну за что нам такое с Ленечкой! За что ты ребенка обездолил! Да есть ли сердце у тебя, есть ли у тебя сердце, или все в тебе фашисты убили?!
А отец плакал, и слезы его были для Лени ужас и мучение.
— Маруся, — говорил отец, — это Макухин сделал, гад, я и не знал! Маруся, да разве бы я мог, если бы знал, откуда эта водка!
— Ничему не верю, ничему! — металась Мария. — Ты не отец, ты не человек после этого — и что мне делать, что делать?..
— Ну поверь! В последний раз поверь, слышишь? Маруся, как я к тебе рвался, как ждал — вот приеду…
— А я как ждала?
— Никого никогда, кроме тебя…
— Чтоб этого Макухина не было здесь больше!
— Да я его сам видеть не могу!
— И водки этой проклятой — чтоб и не пахло!
— Да я о ней думать не могу после этого!
— Ох, как я хочу тебе верить! — сказала Мария. — Как хочу, ты бы знал! Господи!
Она обессилела и лежала как мертвая, протянув руки вдоль тела.
— Вот ты господа поминаешь, — вспомнился ей Фросин наставительный голос, — а ведь ты его без всякого соображения поминаешь. Просто от привычки. Это грех. Ты к нему сознательно обратись, лично, чтоб укрепил тебя.
— Отвяжись от меня! — в мыслях отвечала ей Мария нетерпеливо.
— Обратись, Мария, — убеждала Фрося. — Легче тебе будет свой крест нести.
— Не хочу крест нести. Хочу жить разумно, ясно, — отвечала Мария. Ну хорошо, пусть уж без счастья. Но покоя, покоя хоть капельку — можно?..
В конце месяца Леня Плещеев забежал после уроков в карточное бюро. Перед окошечком, где выдавали продуктовые карточки, стояла очередь.
— Кто последний? — спросил Леня и чинно занял место в хвосте.
— А, Леня Плещеев, — ласково сказала женщина в окошечке, когда очередь дошла до него. Ему пришлось подняться на цыпочки, чтобы расписаться в ведомости.
— Получай: мамины… папины… твои.
Новенькие карточки, все в цифрах и надписях, ложились перед Леней. На одних талонах было напечатано: «Хлеб». На других: «Сахар», «Жиры», «Мясо». Леня бережно сложил карточки и спрятал за пазуху.
Плещеев сидел в хибарке, чистил картошку. Он был трезвый, благодушный, и дело у него получалось ловко. Вбежал Леня.
— А, сынок, здоров.
— Пап, я карточки получил. У нас сбор отряда, ты отдай маме. Вот. Только спрячь хорошенько. Постой, я сам спрячу. — Леня положил карточки в карман отцовской гимнастерки и заколол булавкой. — Вот так не потеряешь.
— Ты поешь, — сказал Плещеев. — Там картошка в чугунке.
— Потом. Опаздываю… Тебе ничего не надо?
— Ничего. Беги, сынок.
Леня схватил из чугунка на плите картофелину и побежал, откусывая на ходу.
Под вечер того же дня Плещеев, Макухин и Ахрамович выходили из столовой, разговаривая. Они были сильно пьяны и склонны к откровенности.
— А я сам себе главный друг, — говорил Макухин, — потому что я на себя самого положиться могу полностью, а на других, даже на вас, — не полностью.
— Почему же на нас не полностью? — обиженно спрашивал Ахрамович.
— А я на себя не могу положиться, — сказал Плещеев. — Прежде мог, теперь не могу. Эх, Гришку бы мне, Гришку!
— Кто такой Гришка? — еще больше обиделся Ахрамович.
— Шалагин. Хороший человек — Гришка Шалагин.
— Чем же он такой хороший? — спросил Макухин.
— Всем хороший, — сказал Плещеев. — Ходит прямо, говорит весело. Дружили мы когда-то: я, он, покойный Прохоров Алеша… В чешуе как жар горя, тридцать три богатыря… Вам не понять!
— «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет!» — запел вдруг во все горло Макухин, и Плещеев с Ахрамовичем подтянули.
Они проходили мимо школы. Распахнулась дверь, послышалась барабанная дробь, на улицу высыпали пионеры. Среди них был Леня. Он выбежал радостный и остановился, увидев отца, которого Ахрамович вел под руку.
— Всё гуляют, — вздохнув, как взрослый, сказал Павка Капустин.
А Леня испугался. Его испугала страшная догадка. Хотел броситься за отцом, окликнуть — но стыдно было перед ребятами. Он медленно пошел домой.
Мать уже пришла. Она рылась в постели на нарах. Подушки и все тряпье были разбросаны, и руки ее двигались судорожно-торопливо, как тогда, когда она искала на пепелище ящик с инструментами.
— Ты где до ночи ходишь? — напустилась она на Леню. И, не дожидаясь ответа: — Ты где дел карточки? — (Он молчал.) — Не получил?
— Получил.
— Так давай сюда. У тебя они?
Он стоял, не зная, что сказать.
— Леня! Где карточки?
— Я их положил куда-то, — сказал он.
— Куда?
— Я не помню.
Он отвернулся, чтоб не видеть ее глаз.
— Потерял?.. — спросила она шепотом. И села, — не держали ноги. Пот выступил каплями на лице.
— Без хлеба, — шептала она, — без ничего… целый месяц… — И вдруг громко: — Ничего ты не потерял, Ленечка. Неправда. Это опять злодей этот…
Пьяные голоса донеслись с улицы. Мария замолчала.
— А ты ее поставь на место, — говорил Макухин. — Чего она тебе, на самом деле, повернуться не дает!
— Да ну, боялся я ее! — отвечал Плещеев. — Пусть только попробует скандалить!
— Небось, когда ты ее в шляпах водил, она шелковая была, — подначивал Макухин.
— Пусть только!.. — хорохорился Плещеев.
— Ты все-таки не очень, — жалостно сказал Ахрамович. — Я считаю женщин мы жалеть должны и оберегать.
— Во-первых, — сказал Макухин, — там и твои были карточки. Государство тебе их выдало.
— Вот именно! — повысил голос Плещеев. — Мои кровные, начнем с этого…
Он толкнул дверь и ввалился в хибарку. Макухин и Ахрамович заглянули через его плечо и исчезли.
— Две мои были, верно? — спросил Плещеев. — Как хочу, так и распоряжаюсь.
— Дверь закрой, — безжизненно сказала Мария. — Выстудишь избу.
Леня закрыл дверь.
— Значит, так, — продолжал Плещеев, — человек все отдал — это хорошо, да, хорошо… А взять чего-нибудь для себя — моментально глаза колоть… Коли, на, коли, сколько хочешь, все равно ничего не видят. Видели когда-то.
— Ложись, — сказала Мария.
— Захочу — лягу, — сказал Плещеев, — а не захочу — не лягу. И ничего такого страшного нет. Скажешь там, что потеряла, — не могла потерять, что ли? Придумают, помогут… У нас не капиталистические джунгли, где человек человеку волк. У нас все за одного…
Он повалился на нары.
— И один за всех, — заключил он и всхрапнул. Мария и Леня сидели молча.
Они ехали в поезде дальнего следования.
С верхней полки Леня смотрел в окно. Плыл за окном снежный лес.
Снизу доносился до Лени голос матери, разговаривавшей с пассажирами.
— Вы поймите меня правильно, — говорила Мария. — Разве я от трудностей уезжаю? Сын не даст мне соврать: на какую хотите тяжелую работу — я первая. Я на трудности, как на дзот, грудью кидалась! Но с пьющим человеком существовать немыслимо, и тем более чтоб у вас на глазах страдал ребенок.
Настал вечер, в вагоне зажегся слабый свет. Леня все лежал на полке, глаза его блестели в полумраке. Внизу говорила мать:
— Ну что ж, у него пенсия, проживет. Если, конечно, не будет пропивать.
— Кроме пенсии уход требуется, — сказала старая женщина в очках.
— Вот пусть его приятели за ним и ухаживают, на которых он нас променял, — возразила Мария. — А моих сил нет больше этот воз везти. Должно же и мне что-то от жизни быть, господи!..
Но вот стихли разговоры. Вагон уснул. Леня привстал — рядом с ним, с краю, спала мать, подложив узелок под голову. Леня стал слезать с полки. Мария шевельнулась, спросила:
— Ты что?
— Я сейчас, — пробормотал он. И она опять уснула и не видела, как он взял свое пальтишко и шапку и оделся. Углем из ведра, что стояло в тамбуре, он написал на мешке, лежавшем возле матери: «Я ушол к папе», подумал и переделал «о» на «е». Кругом спали люди, и даже во сне лица у них были серьезные, напряженные, словно и сны их так же трудны были, как явь.
Мела метель. Поезд стоял на большой станции. Шла посадка. У входа в вагон скучились люди, мешки, чемоданы, проводница проверяла билеты. Леня соскользнул с площадки — никто не окликнул, — и метель его скрыла.
Он остановился, посмотрел, как прошел мимо него, светя окнами, тронувшийся поезд, который вез его к какой-то более легкой, вероятно, жизни и из которого он сбежал.
На пустоватом ночном вокзале он познакомился с компанией мальчишек постарше, чем он, в ватниках и стеганых штанах. Они отвели его в комнату, куда пассажирам вход воспрещен, и напоили кипятком.
— А хлеба, брат, нет, — сказал тот, что наливал ему кипяток из кипятильника. — Чего нет, того нет.
Леня пил, обжигая губы о жестяную кружку.
— А вы кто? — спросил он.
— А мы тут работаем, — ответили они с важностью. — Мы железнодорожники.
Самый старший сказал:
— Тебе надо ехать местными поездами, с пересадками. Вот мы тебя утром посадим, до Грязнова доедешь, слезешь. А там опять на местный поезд садись — и дальше.
— Только к дядькам не обращайся, — сказал самый младший. — И особенно к теткам. К ребятам обращайся, если что надо спросить. А то сцапать могут.
Ночь прошла. Солнце светило в вагонное окно.
Далеко позади остался родной поселок.
Мария сидела, закрыв лицо. Вздрагивал от толчков поезда мешок с надписью: «Я ушел к папе».
— Возвращаться вам придется, — сказала старушка в очках.
— Нет! — крикнула Мария, затрясла головой, открыла измученное лицо. Вернусь — больше не вырвусь до смерти, так и пропадет жизнь! Одумается, заскучает — прибежит небось к маме, сыночек мой, Ленечка…
— Ничего, Леонид, — говорил Макухин, поддерживая Плещеева. — Будь мужчиной.
Они брели по поселку, направляясь к плещеевской хибарке.
— Она подлая! — говорил Плещеев. — Она мразь!
— Подлая, а ты будь мужчиной. Тут канавка, Леонид.
— Все ясно! — говорил Плещеев. — Конечно, со зрячими лучше жить, чем со слепым. Распутничать легче, чем за инвалидом ухаживать… Чего уж тут! Ясно все!
— Тут бугорочек, Леонид.
— Но сына отнять у отца! Это что ж такое делается, я тебя спрашиваю! Кто ближе сыну, чем отец?! Я спрашиваю!
Плещеев спрашивал уже в одиночестве. Макухин ушел, доведя его до порога.
Дверь была не заперта. Плещеев поднял щеколду и вошел в хибарку.
— Спрашивай не спрашивай, — сказал он, ощупью вешая шапку на гвоздь, — отвечать некому. — Он замолк, постоял, вслушиваясь, вскрикнул: Кто здесь?
Голос Лени ответил виновато:
— Я.
— Сынок! — сказал Плещеев и протянул руки. Леня подошел к нему, взял за руку, прижался… Плещеев жадно ощупывал и гладил его плечи и голову:
— Вернулись! Милые вы мои!.. А мама где?
— В Барнаул поехала, — тихо и не сразу ответил Леня.
— Как! Без тебя?
— Я вылез потихоньку. Пап, я местными поездами обратно ехал, с пересадками.
Плещеев притиснул его к себе:
— Сынок! Сынок!
— Я не хочу уезжать. Я с тобой буду.
— С кем она поехала? — громко и грозно спросил Плещеев.
— Ни с кем. Сама.
— Правду говори!
— Я — правду, — недоуменно сказал Леня.
— Без меня, без тебя, — сказал Плещеев, — совсем, значит, мы ей не нужны? Отрезала начисто?
Он сел и закрылся руками.
А Леня стоял, взгляд его шарил по комнате и не находил того, что искал. Наконец, догадавшись, Леня достал с полки старый треснувший глиняный горшок, накрытый дощечкой, и заглянул в него. В горшке лежал кусок хлеба.
— Пап, можно, я хлеба возьму?
Плещеев не ответил — не слышал. Леня отломил хлеба и стал есть.
Плещеев поднял злое, несчастное лицо.
— С кем она поехала, мерзавка, дрянь? Говори, ну?! С кем она, гадина?..
Леня заплакал.
Пригородный поезд дачного типа, весь обшарпанный и переполненный, полз медленно. На одной из остановок в вагон вошли Плещеевы, отец и сын. Опустив по швам руки — в одной была старая пилотка, — слепой запел «Землянку»:
Бьется в тесной печурке огонь…Вагон слушал молча, понимающе и строго.
Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтоб услышала ты, Как тоскует мой голос живой…Он пошел по вагону, и со всех сторон к его пилотке потянулись руки с бумажными купюрами и мелкой монетой.
Когда он прошел, один гражданин сказал:
— Шел бы, милый друг, хоть что-нибудь работать, чем попрошайничать.
— Позвольте, — возразил другой, — вы же сами, я видел, положили ему пятерку.
— Ну да, — смутился первый, — но это неправильно. Ему указать надо, а мы, дураки, потворствуем.
— Дураки?! — вскинулась пожилая женщина. — Молчите лучше! А то я вам укажу — век не забудете!
Гражданин посмотрел на ее лицо в морщинах, мужские руки, разъяренные глаза, — отвернулся молча.
А Плещеев пел уже в соседнем вагоне:
Пой, гармоника, вьюге назло, Заплутавшее счастье зови…— Потрудились, — сказал он Лене, выйдя в тамбур, — на сегодня хватит.
— Пошли домой, — сказал Леня. — Не надо за водкой.
— Сынок, — сказал Плещеев, — ты книжку можешь почитать, верно? Вечером в кино убежишь, верно? А мне что? А? Умирать? А?
Леня зажмурил глаза, чтобы представить себя слепым, и мрак обступил его. Во мраке стучали колеса… И Леня, как всегда, пожалел отца и не стал уговаривать.
Потом в хибарке, где было теперь мусорно и темно — стекло в окне разбито и заклеено газетой, — Плещеев пил водку и говорил:
— Все-таки по ее не вышло. Хитро придумала, а не вышло по ее: ты не с ней, а со мной, с отцом.
Леня растапливал печку. Отсветы огня дрожали на его худеньком грязном лице. В дверях стояла женская делегация с вдовой Капустиной во главе.
— Выше отца, — говорил Плещеев, — нет ничего. Никто отца заменить не может. Особенно сыну.
— Леонид, здравствуй, — сказала вдова. — Это я, Капустина. Мы к тебе по поручению общественности.
— Чего еще от меня надо общественности? — спросил Плещеев.
— Глаза бы мои на тебя не смотрели, — сказала Капустина.
— А мои на тебя давно не смотрят. Дальше?
Другая женщина втихомолку достала из сумки бутылку молока и судок и поставила на табуретку возле печки.
— Поешь, — сказала она Лене.
— Леонид, — сказала Капустина Плещееву, — мы с тобой детями по поселку босые бегали.
— Ты на мое место себя поставь, — сказал Плещеев надменно, — и тогда ты со мной говори.
— Что уж нам местами считаться, — сказала Капустина. — Мы вот тебя на свое место не приглашаем. А тоже, уж ты поверь!.. Сколько нас тут — все слезами плачем. Моего-то — в первый же месяц не стало… Возьми ты себя в руки, просим тебя. Имей рабочую гордость.
— Свяжите меня, — сказал Плещеев, — положите меня в угол, как полено, чтоб не портил вам вид, этого вам надо?
— Ну как с ним разговаривать? — обратилась Капустина к женщинам.
— Нам надо, — сказала третья женщина, смертно худая и беспощадная, чтоб вы себя вели как нормальный советский человек. И чтобы ваш мальчик регулярно посещал школу, как всякий нормальный советский ребенок.
— Времени у него мало посещать, — сказал Плещеев. — Мать его меня бросила, приходится ему отдуваться. Она меня бросила на произвол судьбы!
— Марию общественность осуждает, — сказала Капустина. — Она должна была за тебя бороться, а не бросать. Это если каждая так все кинет да улетит — это что же получится?
И женщины посмотрели в сторону и вверх, как бы прикидывая, что получится, если они всё кинут и улетят.
— Мы решили вот что, — продолжала Капустина. — Устанавливаем дежурства. Коллективно будем за вами присматривать. В отношении питания, уборки, стирки и так далее. Чтоб жили вы как люди. Так мы постановили.
— Но, конечно, — сказала беспощадная, — чтоб вы свое поведение в корне бросили. Иначе никто не вынесет.
— Леня! — крикнул Плещеев, шаря руками. — Где бутылка? Леня!
— Да на столе, — сказал Леня, — перед тобой.
Плещеев нашел бутылку, хлебнул прямо из горлышка.
— Хорошо! — сказал он. — Сынок, слышишь, как жить будем, — уборка и так далее. И так далее. Нянечки за нами присмотрят, чтоб мы… всё как люди. Сейчас мы не люди, нет… Нянечки добрые веником помахают, и мы станем как люди. И сейчас же они нас на поводок — раз — и все… А идите вы с уборкой знаете куда!.. Идите, идите! Будьте здоровы! Афидерзейн!
Он встал и взмахнул бутылкой, так что женщины шарахнулись. Капустина схватила его за локти:
— Да ты что, да ты постой!
Но он кричал:
— Будьте здоровы, живите богато! Афидерзейн! — и замахивался бутылкой, как гранатой.
— Ну, стыд! Ну, стыд! — убивалась Капустина. — Мы к тебе со всей душой…
— Придется говорить в другом месте, — сказала беспощадная, выходя.
Все стали выходить гуськом. Та, что принесла еду, тихонько сказала Лене:
— Соберешь что постирать и принесешь. Отцу не говори.
— А жену мою судить не смейте, — кричал Плещеев, — вы ей не судьи, ей только я судья, ничего вы не знаете!
Леня тронул его и сказал:
— Пап, а пап. Никого нет уже…
Кончилась война, и вернулся Григорий Шалагин.
Неся через плечо свой солдатский багаж, шел он по поселку.
За развалинами жилых домов виднелись крыши новых бараков. Часть заводских строений еще стояла в лесах, но другие были восстановлены и имели хороший вид, и по легкому дымку из труб, по освещенным окнам было видно: многие цеха вступили в строй.
Навстречу показалась пожилая женщина с полными воды ведрами на коромысле — Ульяна Прохорова, мать Алексея.
— Здравствуйте, Ульяна Федоровна! — сказал Шалагин.
— Да не может быть! — сказала Ульяна, у нее дыхание перехватило, Гриша! Ты чего приехал?!
— Жить, — сказал Шалагин.
Жестокая боль воспоминания проступила в ее лице, но она не стала жаловаться, сказала, бодрясь:
— Нашел куда ехать жить. Держал бы курс где получше.
— Именно туда и держим, где получше, — сказал Шалагин.
— Ну пойдем, — сказала Ульяна.
Прохоровы жили в землянке. Она была построена хорошо, добротно.
— Узнаю аккуратность вашу, Ульяна Федоровна, — сказал одобрительно Шалагин.
— Что б ни было, — сказала Ульяна, — порядок должен быть. На дереве, как птицам, жить случится — и на дереве надо соблюдать порядок.
В землянке стало светло, когда она зажгла керосиновую лампу. Осветился выскобленный добела стол, опрятно застеленные нары, посуда на полке. Стекло на лампе было чистое, как слеза.
— Снимай шинель, умывайся, отдыхай, — сказала Ульяна. — Сейчас хозяин придет, ужинать будем.
Над столом висела фотография Алексея с Полиной.
— И когда это?.. — спросил Шалагин, глядя на портрет.
— Давно. Когда из-под Киева немца гнали.
— А невестка с вами?
— Невестка с нами, — безрадостно ответила Ульяна и переменила разговор. — А ты совсем целый? А в госпитале чего лежал?
— В семи госпиталях я лежал, — отвечал Шалагин. — Семь раз в меня всаживали — то осколки, то пули.
— Семь раз! — повторила Ульяна.
— Угу. Семь раз.
— И ничего!
— Да ничего, — слегка виновато сказал Шалагин. — Заштопали.
Пришел с работы старик Прохоров. Обнял Шалагина.
— С возвращением, Гриша, — сказал тихо.
Отвернулся, чтоб скрыть выступившие слезы, и пошел в угол к умывальнику, снимая спецовку.
— Где жить думаешь? — спросил он, умываясь. — С жильем плохо. Бараки переполнены. Пока, конечно, ночуй у нас…
— У мамы в Подборовье дом был, — сказал Шалагин. — Съезжу, посмотрю цел ли.
— Хороший был дом, — рассказывал он за ужином. — Сюда бы его перевезти. Хватило бы на несколько семейств. Проще, чем новый ставить.
— Только слушай меня, — сказал Прохоров, — становись-ка ты на работу сразу, приживляйся к делу. Без работы портится человек. Поглядишь, что с Плещеевым сделалось. Ты знаешь, что он слепой вернулся?
— Писали мне…
— С ним, сам понимаешь, тяжелый разговор. На завком его вызывают. Не перенес Плещеев своего несчастья…
Перед сном Шалагин вышел на воздух покурить. Было тихо, лунно. Спал поселок, только очень издалека доносился еле внятный шум — пение, взвизги, вскрики гармони, женский разудалый раскатистый, ведьмовский смех «ах-ха-ха!» Гуляли где-то. С разных сторон на шум тревожно откликались собаки…
Шалагин вернулся, лег на лавке, где постелила ему Ульяна. Фитиль на лампе был спущен. Старики Прохоровы спали или притворялись спящими. Шалагин лежал, думал… Среди ночи скрипнула дверь, вошла Полина. Сбросила с головы на плечи душный платок, жадно выпила ковш воды.
— Явилась-таки полуночница, — проворчала, не поднимаясь, Ульяна. Ишь, разит, как из пивной.
— Терпение, мамаша, — сказала Полина громким нетвердым голосом. Зинченко вернулся, отметили.
— Каждую ночь повадилась отмечать. Уже не только женщины — мужчины говорят…
— Ха, мужчины! — сказала Полина. — Где вы, мамаша, мужчин нашли? Остатки одни, инвалидная команда. Труб печных больше, чем мужчин.
— Цыц, женщины! — сказал Прохоров. — Люди спят.
Полина увидела лежащего на лавке. Отчаянным движением вывернула ламповый фитиль так, что копоть заплясала в стекле и вскрикнула Ульяна, склонилась в неистовой безумной надежде — распрямилась, медленно спустила фитиль… На табуретке лежала гимнастерка Шалагина. Полина взяла ее, сосчитала нашивки: семь нашивок — семь ранений. Затряслась от неслышных рыданий, уткнув лицо в чужую гимнастерку.
Дом в Подборовье, полученный Шалагиным в наследство от матери, в самом деле был хорош, хоть и обветшал за войну, — просторный, добротный, с мезонином и стеклянной верандой.
Шалагин подходил к нему вместе с председателем сельсовета. Председатель говорил:
— Ты, конечно, владелец. Твое законное имущество. Не взыщи за самоуправство. Суди сам: от войны бежали, все потеряли — куда их девать? А твой дом пустой стоял.
Из трубы шел дым. Во дворе женщина развешивала белье. Детишки с криком играли в снежки. Стекла веранды были оклеены изнутри старыми газетами, по заголовкам и фотографиям можно было прочитать всю историю Великой Отечественной войны.
С веранды выглянула встрепанная старуха с папиросой во рту и чадящей сковородкой в руке. Она свирепо глядела на Шалагина. Он спросил:
— И много вас тут?
— Много, — ответила старуха. — Как сельдей в бочке. А ты комнату ищешь?
— Что мне комната! — сказал Шалагин. — Мне нужен дворец, и с принцессой в придачу.
— Принцесс хватает, — сказала старуха, — а вот дворца нету.
— Да ты зайди посмотри, — сказал Шалагину председатель. — Ты владелец, твое право, в чем дело? Постучись и зайди.
Шалагин взошел на крыльцо, стукнул, услышал крики в ответ: «Да! Входи!» — и пошел из комнаты в комнату, а председатель осторожно держался за его спиной.
И правда, дом был полон жильцов.
Молодых принцесс не было видно: они на работе были в этот час. Но старух — хоть пруд пруди.
Там стряпали, толпясь у плиты. Там учили ребенка ходить и приговаривали над ним:
— Иди, иди. Ножками, ножками. Вот как наш Юрочка ножками ходит!
Сапожничал инвалид с одной ногой, сидя на полу и разложив вокруг себя свой товар. Спросил у вошедшего Шалагина:
— Огонь есть? — И Шалагин дал ему прикурить.
Заходился кашлем полуживой старик, глядя на Шалагина выкаченными глазами, и видно было, что ему уж ничего не поможет, кроме смерти.
— Мда, — сказал Шалагин, выйдя на воздух.
— Твое право, Григорий Ильич, — повторил председатель. — По суду всех их можешь выселить.
— Ну да, — сказал Шалагин. — Что я, больной — судиться? Пока с ними со всеми пересужусь — так и жизнь пройдет.
Вдруг дворовый пес, вихрем пронесясь через двор, кинулся к нему. Положив лапы ему на грудь, дрожа от восторга, лез целоваться.
— Жук! — сказал Шалагин, гладя его. — Жучок, Жучок, хорошая псина, узнал меня! — Он обратился к председателю: — Вот так давай, председатель. Домом пользуйтесь пока что, а мне лесу выпиши взамен, строиться буду.
— Сделаем, — сказал председатель. — Только на корню бери лес, заготовленного нет у меня.
— Ладно, что поделаешь, — сказал Шалагин. — Ну, Жук, пошли!
И зашагал прочь от своего дома, а счастливый Жук бежал возле его ноги.
Мошкин держал речь:
— Товарищи, в этом вопросе мы обязаны быть принципиальными и непримиримыми до конца! Тут, товарищи, всякое проявление либерализма преступление! Мы не можем терпеть личностей, потерявших облик! Каленым железом будем их выжигать из своей среды!
Речь Мошкина была направлена против Макухина, Ахрамовича и Плещеева, которые сидели рядышком на стульях у стены. Посреди комнаты за столом заседали завкомовцы.
— Наш облик вас не касается, — сказал Макухин, обидясь. — Какой есть.
— Ты скажи, ты где кровельное железо взял? — обратился к нему один из членов завкома. — Это раз. Как вас угораздило стекла побить, это два. Шутка сказать, по зимнему времени, стекла днем с огнем не найдешь — и нате, окна перебить… Ну почему обязаны люди такое терпеть через вас?
— И кто его знает, как оно вышло, действительно, — вздыхая, виновато сказал Ахрамович.
— Но про облик он не имеет права, — настаивал Макухин. — Облик сюда не относится. Не крал я железа, слева купил.
— Значит, краденое купил, — сказал кто-то.
— Да уж накладных не спрашивал, — огрызнулся Макухин. — Не брильянты покупал, крышу купил, крышу над головой, для детей, понятно?
— А получку пропиваешь — это тоже об детях заботишься? — спросила Капустина.
Ахрамович, вздыхая, сказал примирительно:
— Знаете ведь — работаем всегда, а пьем иногда.
— Наоборот скажи, — возразила Капустина. — Пьете всегда, а работаете иногда. Так вернее будет.
— Лично я, — сказал Плещеев, — ничего слева не купил, и не тянул ничего, и пью на свои заработанные, и чего вы меня сюда привели, спрашивается?
— Леонид, Леонид! — сказала Капустина. — На свои ли?
— Я вашего суда не признаю, — сказал Плещеев. — Я за вас жертвы принес, а не вы за меня.
И на эти заносчивые слова в комнату вошел Шалагин.
— Постойте, товарищ Плещеев, — равнодушно сказал Мошкин. — По порядку давайте. Закончим с Макухиным Значит, так, товарищи, запишем: просить прокуратуру разобраться, откуда у гражданина Макухина кровельное железо…
— Минутку, товарищ Мошкин, — сказал Сотников, стоявший с папиросой у приоткрытой двери. — Погодите с прокуратурой. Товарищи, не хочу я Макухина и Ахрамовича под суд отдавать! Не нужно мне сажать их на скамью подсудимых, они заводу нужны! Их уменье нам нужно — что мы, не знаем, какие это работники, когда они трезвые?.. А Плещеева мы разве не помним как замечательного слесаря? И разве исключено, что товарищ Плещеев вернется на завод?
— Конечно, сейчас! — сказал Плещеев.
— Я убежден, что он сможет вернуться, — продолжал Сотников, — если захочет. Если захочет! Так что давайте, друзья, без прокуратуры. Берите себя в руки, кончайте с этой нечистью, и будем сообща делать то, чего от нас народ ждет.
Капустина сказала задумчиво:
— Верно, пора, товарищи, кончать. Никто, только мы сами можем навести порядок и на заводе, и в поселке, и везде. Давайте браться, товарищи.
Пьяницы вышли из комнаты. Придерживаясь за спину Ахрамовича, последним шел Плещеев. Шалагин остановил его:
— Леонид.
— Кто это? — в раздражении сердито спросил Плещеев.
— Шалагин. Не узнаешь по голосу?
— Гриша! — сказал Плещеев. — Ты здесь! А я — вот видишь…
Лицо у него задрожало. Он нетерпеливо оттолкнул Ахрамовича:
— Вы идите! Идите без меня! Я с Гришей!
Макухин и Ахрамович ушли, оглядываясь. Шалагин обнял Плещеева за плечи и повел.
Сотников и Мошкин вместе вышли после заседания.
— Слабо провели, — сказал Мошкин. — Никаких, в сущности, выводов.
— Все вам выводов хочется, — сказал Сотников. — Иногда мудрее оставить вопрос открытым.
— Не понимаю вас. Вы бы попроще выражались, по-нашему, по-рабочему.
Сотников усмехнулся.
— Оставьте, Мошкин, демагогию.
Мошкин покосился на него. Очень отличались они друг от друга: большой, сильный, подтянутый директор с умным лицом, выражающим энергию, юмор и жизнелюбие, и щупленький Мошкин с впалой грудью, недоверчиво настороженный, в мешковатом кителе.
— Насквозь я тебя вижу, — сказал Мошкин, переходя вдруг на «ты». Мало тебе власти, хочешь любви широких масс? Доморощенный вождь местного значения? Я в эти игры не играю. Каждый обязан долг свой сполнять, а нет заставим. Сказано не пей — не смей пить. Сказано работать — иди работай. Твоими методами людей не воспитаешь. И нет твоим заигрываниям и утопиям от меня поддержки. И не жди. Тебе налево, мне направо.
— Верно, — сказал Сотников. — Вам туда, мне сюда. Но не забывайте работать-то нам вместе.
— Не пугай, — сказал Мошкин. — Под меня не подкопаешься.
Шалагин и Плещеев сидели в столовой за столиком.
— Сейчас принесут нам кашу и омлет, — сказал Шалагин, — и будет нам хорошо. Продолжай, рассказывай: как дальше жить думаешь?
— А что продолжать? — надрывно спросил Плещеев. — Какое у меня может быть дальше?
— Как же?.. — спросил Шалагин. — Как вообще жить, если нет «дальше»?
— И не надо бы, — сказал Плещеев. — Ради Лени живу, ради сына только!
— И хорошо получается?
— Значит, хорошо, если от матери ко мне прибежал! — огрызнулся Плещеев. Помолчав, сказал угрюмо: — А что я должен делать? Живу как могу.
— Мог бы иначе, — сказал Шалагин.
— Это работать?
— А ты пробовал?
— И пробовать нечего. Вот! — Плещеев вытянул пальцы, они дрожали.
— Так, — сказал Шалагин. — Еще не до того себя можно довести умеючи.
Им подали еду.
— Одну неделю походишь трезвый, — сказал Шалагин, — трястись перестанут. Самому небось тошно с протянутой рукой ходить.
— Я не хожу с протянутой рукой! Я артист!
— Брось, какие мы с тобой артисты. Что песенки умеем петь? Это все умеют. Ты что не ешь?
— Водочки, — сказал Плещеев. — Глоточек.
— Тут нельзя. Плакат висит.
— Плакат!.. Позови официантку. У нее такой чайничек есть.
Официантка, стоя у буфета, на них уже поглядывала в ожидании.
Шалагин пристально посмотрел на Плещеева:
— Вот ей-богу! Ну… — Он обратился к официантке: — Принесите… это самое… из чайничка.
— Один момент, — виолончельным голосом сказала официантка.
— Письма есть от Марии? — спросил Шалагин, понизив голос.
— Была телеграмма. Про Леню запрашивала. Я ей написал, что он у меня. Посылку присылала…
— И все?
— Пишет иногда. Леня отвечает…
Официантка поставила перед ними два стакана в подстаканниках.
— Ну — за твое здоровье, — сказал Шалагин.
— За твое! — сказал Плещеев. Выпил и пригорюнился. — Эх, Гриша, помнишь, как ты про нас говорил: в чешуе как жар горя, тридцать три богатыря… Вот тебе и тридцать три богатыря! Алеши нет, и я не жилец уже…
— Ты брось этим козырять, что ты не жилец, — сказал Шалагин. — Не очень-то жизнью швыряйся, рассердится. Я заметил: когда человек от нее отворачивается — она от него тоже. Она, брат, тех любит, кто на нее наседает… Насчет сына, — продолжал он. — Ведь это он для тебя живет, а не ты для него. И вечно это, конечно, продолжаться не может. Сейчас он с тобой нянчится, а скоро — увидишь — покрикивать начнет.
— Не посмеет! — сказал Плещеев.
— Вырастет — посмеет. И будет тебе тогда, Леня, кисло.
— Мне и сейчас не сладко!
— Тем более, — сказал Шалагин. — Надо, значит, стать на такую позицию, чтоб он тебя уважал. А попробуй на завод. Что-нибудь подходящее подберем, а?
Плещеев оттолкнул тарелку:
— По-вашему, человек пострадал в бою — этого мало, чтоб его уважать…
— Ты б, брат, видел, на что ты похож, — тихо сказал Шалагин.
— Имею право на уважение, — ожесточенно твердил свое Плещеев, — даже если не буду работать в социалистической промышленности! А что я одет неважно…
— Только ли, что одет неважно! Давай-ка, знаешь, не о социализме и коммунизме, а о том, какой ты вид имеешь. Совсем молодой еще…
— Ну, где там! — возразил Плещеев, не без кокетства впрочем.
— …а на старика смахиваешь. Сколько дней не брился?.. Ты все на высокие материи сворачиваешь, а знаешь, что от тебя разит, да, разит?! Перегаром, болезнью… от молодого, сильного — да, сильного, не морочь мне голову! Ты воображаешь, Мария от разбитого сердца сбежала? От отвращения!
— Ну да! — ужаснулся и не поверил Плещеев.
— От духа твоего чумного! Попробуй подыши. Я бы сбежал! Да сын подрастет — он же тебя стыдиться будет, а что ты думал? Разве что и его погубишь — приучишь… Не ради социалистической промышленности приглашают тебя работать, а тебе, дура божья, надо из болота ноги вытянуть, чтоб не захлебнулся в собственной дряни!
— Слушай, — спросил Плещеев не очень решительно, — а какое ты имеешь право меня оскорблять?
— Я тебе правду говорю, — ответил Шалагин, — а не оскорбляю. Ты себя не видишь — я вижу и обязан сказать. А то он страдалец, понимаешь, он артист!.. Одним словом — кончай перекур, выходи строиться!
Последнюю фразу он сказал громко, так что многие оглянулись, но, встретив веселые, дружелюбные шалагинские глаза, не рассердились, даже заулыбались. Улыбнулся с подобострастием и парень пропитого, запущенного, даже антиобщественного вида, явно подбиравшийся к стакану, из которого Шалагин только отхлебнул. Однако Шалагин, приметив манипуляции парня, бросил на него такой взгляд через плечо, что тот поскорей отчалил подальше, а подумав — счел за лучшее и вовсе убраться из столовой.
Резко разносился звук пилы в зимнем лесу… Шалагин сложил вместе очищенные от сучьев стволы, рядом — сучья. Управлялся с трудом — в работе ранил левую руку, рана кровоточила. Он обмотал руку платком, зубами затянул узелок.
Поздно вечером он вернулся в поселок и пошел к новому, в три окошка, домику, где на двери под лампочкой была вывеска: «Поликлиника». Крайнее окошко, с белой тюлевой занавеской, молочно светилось. Шалагин заглянул: фельдшерица Тоня сидела у стола, читала книгу, плакала и сморкалась в платочек. Шалагин постучал — она повернулась к окну своим заплаканным, добрым, бесцветным лицом…
В маленькой перевязочной, надев белый халат и косынку, Тоня привычными движениями перевязывала Шалагину руку, а он говорил:
— То ли руки работу забыли, то ли на фронте недополучил, что мне причиталось…
Она ответила рассеянно, мысли ее были в книге:
— Да, вы сильно себя хватили.
Уронила пинцет и нагнулась поднять, и Шалагин нагнулся — их головы сблизились, она увидела, что перед нею не просто пациент, а молодой привлекательный мужчина, что это его рука в ее руке, — и Тоня смутилась.
И Шалагин понял ее смущение, потому что сам почувствовал себя неловко, когда они столкнулись головами. Они были вдвоем в маленькой поликлинике, кроме них ни души. Он сказал мягко, маскируя неловкость:
— А вы хорошее что-то читали, я видел.
— «Войну и мир» Льва Толстого, — с пугливой готовностью ответила Тоня. — Я как раз читала, как один тоже раненый умер. Князь Андрей Болконский. Очень умный был человек, так жалко. В те времена еще не было пенициллина, а то бы спасли.
— Я тоже люблю книгу почитать, — сказал Шалагин. — Когда время есть. В госпитале много читал. — Перевязка была окончена. — Спасибо!
— Постойте! — окликнула она. — Надо заполнить карточку. Фамилия, имя, отчество?
— Шалагин Григорий Ильич.
— Шалагин Григорий Ильич, — повторила Тоня. Она писала медленно, ей хотелось, чтобы он побыл тут подольше, а удержать не умела. — Год рождения?..
Еще раз окликнула, уже с порога:
— Григорий Ильич! — (Шалагин остановился.) — Я вам не туго перевязала?
— В самый раз! Очень благодарен! Всего вам хорошего!
Тоня постояла на пороге. Сколько мужчин вот так уходило, приняв от нее помощь и сказав «спасибо», а то и не сказав. И ни один никогда не оглянулся. И она увядала…
Не оглянулся и Шалагин. Растаял в темноте…
Сотников сидел в гостях у Прохоровых в землянке. Ульяна хлопотала, подавая угощение.
— Нет, — говорил старик Прохоров. — Не трогайте меня с моего места. Не гожусь в начальники, никогда к этому вкуса не имел. Привык к машинному отделению, полжизни в нем прошло.
— Так расти же надо, Дмитрий Иванович, — шутливо уговаривал Сотников.
— Честолюбия, думаете, не имею? — улыбнулся Прохоров. — Имею. Где-то я читал: в средние века в Шартре — это во Франции, кажется, — строился замечательный собор. И вот идет человек и встречает на дороге трех строителей. Каждый тачку толкал с камнями. Прохожий у них спрашивает, у каждого: «Ты что делаешь?» Один отвечает: «Тачку тяжелую тащу, пропади она пропадом». Второй отвечает: «Зарабатываю на хлеб семейству». А третий пот с лица вытер и гордо так сказал: «Я строю Шартрский собор!» Вот какая есть очень старинная притча…
На ступеньках показались статные, аккуратно ступающие ноги — пришла Фрося.
— Извините, если некстати, — сказала она учтиво. — Приятно кушать. Ульяна Федоровна, я вам грибочков принесла, мне из деревни прислали. — И достала из кошелки низку сушеных грибов.
— Спасибо, Фрося, — сказала Ульяна. — Садись, пирога отрежу. — Она усадила Фросю за кухонный столик в уголку, отдельно от мужчин. — Дай бог здоровья.
За столом у мужчин продолжался разговор.
— Народ к нам идет хороший, — говорил Сотников. — Крепкий.
— Всякий попадается.
— В основном хороший. Знаете, Дмитрий Иваныч, кажется мне, что фронтовики принесли с собой из окопов очень что-то важное. Большую правду, я бы сказал.
— Кто принес, а кто, наоборот, разбаловался.
— Неважно, — сказал Сотников. — Решают не те, кто разбаловался, а те, кто правду несет! Обязательно должно свежим ветром повеять! Народ какую победу выиграл, братья-то и сестры?.. — Сотников понизил голос. — Помните, как по радио обращался: «Братья и сестры» — когда немец нас бить пошел… Как графин-то об стакан звенел — воду, значит, пил в волнении, помните?.. И с кадрами теперь придется советоваться, нельзя игнорировать кадры, не выйдет…
К столу подошла Ульяна.
— А в собственном особняке, землячки, хватит вам жить, — сказал Сотников, меняя разговор. — Вот достроим наш пятиэтажный, перебирайтесь-ка.
— Мы не спешим, — за Ульяну ответил Прохоров. — У нас детей и внуков нет.
— Детей, да… Я вот наконец-то семью выписываю.
— Ну слава богу. Что ж всё в разлуке.
— Соскучился жить бобылем. Хочу сам воспитывать сыновей.
— Хорошее дело, — сказал Прохоров.
На портрете Алексей словно слушал разговор. А с другой стороны, деликатно кушая пирог, слушала разговор Фрося.
Шалагин работал в цехе — монтировал новые станки, привезенные из Германии. С ним рядом работал Макухин.
— Слушай, — сказал Шалагин, — помоги немножко в личном вопросе, а?
— В каком это? — брюзгливо спросил Макухин.
— Строиться начинаю.
— Ну что ж, — сказал Макухин, — договориться можно.
— Мне договариваться не из чего, — сказал Шалагин. — Московских длинных копеечек нет у меня. По-товарищески: люди мне, я людям. — (Макухин работал молча.) — Как при коммунизме.
— Кабы здоровье, — сказал Макухин. — Вот в чем дело. Помочь можно. И как при коммунизме можно. Все можно. Да печенка у меня больная. Вот в чем дело.
— Ну, если печенка… — сказал Шалагин.
Идя с работы, он увидел Ахрамовича. Тот копался в потрошках своего грузовика.
— Слушай, — сказал Шалагин, — ты в сторону Подборовья не собираешься?
— Может случиться, — отозвался Ахрамович, — а что?
— Лес мне оттуда надо привезти.
— Привезем, коли надо, — сказал Ахрамович.
Под вечер Шалагин проходил мимо крытой загородки временного поселкового клуба. Там рядом рос старый прекрасный тополь, а вправо и влево от него тянулись тоненькие, только что посаженные топольки. Висела рукописная афиша: «Сегодня кино». Молодежь по дощечкам обходила весенние лужи, группками собиралась у входа.
Шалагин шел медленно, кого-то ища, — нашел: под тополем стояла Полина, нарядная, щелкала орешки. С ней была Тоня, она первая увидела Шалагина и просияла радостью. Он остановился:
— Привет, принцессы. В кино собрались?
— Приглашаем тебя с нами, — с усмешкой сказала Полина.
— Вот построю дом, тогда буду с вами ходить. Помогла бы мне, Полина, а? Полина!
— Шутишь, Гришенька.
— Не шучу. Поехали за материалом.
— На чем поехали?
— На Ахрамовиче.
— О, в кузове трястись!..
— Следующий раз легковую тебе подам. А пока — в кабину посажу. Давай-давай!
— А мы уже билеты взяли, — с той же усмешечкой ответила она.
— Ай-ай-ай! Громадный расход понесли! Ну ладно, поищу пойду которые еще билетов не взяли.
Он двинулся дальше. Тоня метнулась:
— Григорий Ильич! Я поеду! Я вам помогу! — Он оглянулся. — Я сейчас! — торопилась Тоня. — Только переоденусь сбегаю…
Полина догнала ее, взяла за локоть:
— Стой, Тонька. Остановись, говорю. Можешь не переодеваться: не поедешь. В кино иди.
Тоня возмутилась:
— Что ты командуешь? Почему не помочь человеку? Ты же отказалась…
— А ты уж и рада, что я отказалась…
— Жадная…
— Вот и жадная…
Тонино оживление погасло.
— Пожалуйста! — сказала она, дернув плечиками, и скучная пошла назад, а Полина с веселым лицом поспешила за Шалагиным:
— Надумала все же, Гриша, тебе помочь.
— Больно платье шикарное, — поддразнил он. — Не испортишь?
— А что на него, на то платье, молиться, что ли, — сказала Полина.
— А правду говорят, — спросил Ахрамович, когда они втроем в Подборовье грузили на машину заготовленный Шалагиным лес, — будто ты Плещеева с мальчонкой к себе забрать собираешься?
— Не совсем так, — ответил Шалагин. — Два входа будут: один мой, другой его.
Полина, подняв бровь, поглядела любопытно.
— Это в том случае, — продолжал Шалагин, — если хозяйка моя не будет возражать.
— И хозяйка уже есть? — спросил Ахрамович.
— Да наметил.
— Хорошая?
— Да ничего вроде.
Полина, отвернувшись, силилась поднять бревно. Шалагин подошел, сказал с лаской:
— Дай я, Поля.
И такими добрыми глазами взглянул ей в глаза, что озарилось, смягчилось, стало девичьим от растерянности ее дерзкое лицо.
Фрося сидела в кабинете у Мошкина. Мошкин что-то писал.
— Так и сказал, значит, — спросил он, — «свежим ветром должно повеять»?
— Так, — подтвердила Фрося.
— «Придется советоваться с кадрами»?
— Так.
— Себя имел в виду?
— Это не могу сказать.
— «Графин звенел»?..
— Звенел…
— «Нельзя игнорировать кадры»? «Не выйдет»? Этими самыми словами?
— Да, именно, я хорошо запомнила, — сказала Фрося. — Очень гордо говорил. А люди ведь слушают. Мало что может быть, я и подумала: зайду к вам, посоветуюсь.
— Правильно сделали, — сказал Мошкин своим бесцветным голосом. — Так и обязаны поступать честные советские граждане. Я передам ваш сигнал куда следует. Сигнализируйте и впредь. Обо всем.
— Я постараюсь, — сказала Фрося.
Снова, как когда-то, шел Плещеев утром на завод. Он был побрит и почищен. Шалагин вел его.
Сотни людей их обгоняли.
— Здоров, Леонид! — окликнул знакомый. — На работу, что ли?
— Я — только попробовать! — сказал Плещеев. Беспокойная усмешка являлась и пропадала на его губах. — На автомат какой-то ставят… Не получится — бывайте здоровы!
— Слышишь, Григорий, — капризно сказал он Шалагину, — не понравится уйду, и ты ко мне тогда не приставай.
Несколько парней приостановились у входа в цех, глядя на приближающегося Плещеева. Они молча расступились перед ним. Он шагнул — и во мраке, окружающем его, услышал родной, деятельный, многоголосый шум цеха.
Это не тот был жалостный вид, что у Плещеевых на постройке. Двое здоровых, сильных взялись за дело. Пилили ли они, работал ли Шалагин рубанком, подносила ли ему Полина готовую оконную раму — все у них получалось ловко, споро, им на радость. И вырастал дом.
Светил месяц на белые стружки, на брошенный топор. Шалагин и Полина сели передохнуть. Он нарезал хлеб складным ножом. Пили молоко, передавая друг другу бидончик. И Жук был тут же.
— Была ты Алешиной женой, — говорил Шалагин, — не то что сказать что-нибудь, — сам перед собой старался делать вид, что ничего у меня нет к тебе…
Полина смотрела на месяц.
— Ты, конечно, Алешей на все сто процентов была занята, иной раз встретимся — даже не заметишь меня…
Она повернула голову и серьезно, внимательно оглядела его лунно-светлым взглядом.
— А то улыбнешься, поздороваешься — хожу и тоже улыбаюсь, как малахольный…
— Надо же! — шепнула Полина. — У меня и мысли не было… Ты все с девчонками гулял. Не похож был на вздыхателя.
— Еще чего! — сказал Шалагин. — Это уж совсем было бы ни к чему.
— Я… — начала она, глотнула воздуху и замолчала.
— Что?
— Да нет, так… Ты, наверно, про меня чего ни наслышался…
Она говорила с трудом, запинаясь:
— Это им ничего не стоит — разобрать человека по косточкам… Никто не подумает, что нужно женщине… Женщине основа жизни нужна. Если она взялась за руку, то чтоб в уверенности была, что — крепко…
Он взял ее за руку:
— Все будет хорошо, Поля.
— Разве может быть, как было? Как было — никогда уже не будет. Молоденькие мы были…
— Погоди, может лучше будет, — сказал Шалагин.
— Тогда у нас за плечами, — сказал он, — ничего, кроме юности, не было, а сейчас оглянешься — ух ты, сколько!..
— Глянь на меня, — сказал он.
Леня Плещеев прибежал в барак, где жила вдова Капустина со своими четырьмя детьми: сыном Павкой и тремя девочками поменьше, похожими друг на друга, как три белых мышонка. Девочки выносили из барака узлы и всякую утварь, а Павка укладывал это имущество в тачку, стоявшую на улице.
— Переезжаешь? — спросил Леня.
— Как видишь, — солидно ответил Павка. Он прилаживал среди вещей небольшую коробку, перевязанную веревочкой.
— Не сомнется? — спросил Леня. — Хочешь, я понесу?
— Не должна смяться.
Павка в их дружбе главенствовал. Он был ловок, крепко сбит. В семье, между погодками-сестрами, держался хозяином и мужчиной. Кроме того, у него имелись высшие интересы. В коробке, перевязанной веревочкой, находилась его коллекция марок.
Из барака вышла Капустина с узлом, за ней гуськом три девочки.
— Поехали! — сказала Капустина. — В добрый час!
Павка покатил тачку. Леня помогал ему руками и животом.
Капустины вселялись в новый пятиэтажный дом. Он только что был отстроен, пока один-единственный — там, где до войны тянулась целая улица высоких домов. Его окна еще забрызганы были мелом, кое-где лишь виднелись занавески.
В одной из квартир Капустиным предоставили хорошую, просторную угловую комнату.
— Мама, мама, — спрашивали девочки, — а где мы будем спать?
— Мы с вами в этой половине будем спать, — отвечала Капустина, — а Павка здесь. Это пускай его будет окно. Вы сюда не касайтесь.
— А почему Павке целое отдельное окно? — спросили девочки.
— Потому что он молодой человек, — ответила Капустина, и видно было, что этот молодой человек — главная в ее жизни любовь и надежда.
А Павка и Леня, небрежно оглянув квартиру, уединились в чистой, еще пустой кухне и занялись коробкой с марками.
— Вот это новая, — сказал Павка, раскладывая марки на плите. Бразилия.
— Вот дьявол! — восхитился Леня: — И откуда ты достаешь?
— Это мне старик дал. Знаешь — который зимой без шапки ходит. Ух, у него коллекция!.. Надо попробовать зимой ходить без шапки.
— А не загнемся?
— Старик не загнулся, а мы загнемся? — сказал Павка.
Они завороженно перебирали пестрые, разноязычные марки, воплощавшие для них весь земной шар.
— Вот, везде побывать, — сказал Павка, — тогда можно умереть спокойно.
— Ясно, тогда и умирать не жалко, — подтвердил Леня.
Они говорили о смерти с беспечностью людей, убежденных в своем бессмертии.
И Сотников привез в новый дом свою семью. Прямо со станции привез жену, двух сыновей и старушку мать. Они поднялись по лестнице, шофер помогал нести чемодан. Вошли в квартиру — там было пустовато, необжито, но уже стояла нужная мебель. Старушка села в кресло и сказала:
— Прямо не верится.
Сотников наклонился, поцеловал ее седую голову, прикрытую старинным черным кружевным шарфом:
— А ты, мама, прекрасно выглядишь.
— Говори громче, — вполголоса сказала жена. — Она слышит неважно.
Жена Сотникова была не первой молодости, судьба трудовая и скитальческая была написана на ее лице, руках, одежде. Она сразу принялась разбирать чемоданы, устраивать детям постели, готовить чай.
Сотников с мальчиками вышел на балкон. Оттуда, с высоты, как на ладони был виден завод, железная дорога, шоссе с бегущими машинами.
— Вот, ребята, — сказал Сотников, — мое хозяйство. Ничего?
— Ничего, — застенчиво откликнулся старший сын. Оба сына немножко стеснялись отца — отвыкли.
— А вон, — сказал Сотников, — самолет летит.
— Мы видали самолеты, — сказал младший сын.
— А вон там, — сказал Сотников, — это еще следы бомбежки.
— Мы видали бомбежку, — сказал младший сын.
Потом оба мальчика крепко уснули вдвоем на одной кровати, а для Сотникова с женой настал час тихого душевного разговора.
— Как я устала, — сказала жена. — Если бы ты знал.
— Теперь отдохнешь, — сказал Сотников.
Наступила ночь. Публика расходилась с последнего киносеанса. Гасли окна.
По шоссе по направлению к поселку шла машина.
Последние парочки исчезли с улиц. Закрылся магазин, сторож уселся возле него на ночное дежурство. Машина тихо въехала в поселок, заскользила по улицам и пустырям, остановилась перед новым домом.
Резко прозвучал в тишине звонок. Позвонившие неподвижно ждали на лестничной площадке. Отворил Сотников, в пижаме.
— Что такое? — спросил он недовольно.
— Сотников, Александр Васильевич? — спросил один из ночных гостей.
— Ну?..
Ночной гость сказал скороговоркой:
— Ознакомьтесь — ордер на производство у вас обыска с последующим вашим арестом.
Сотников не взял бумажку. Лицо его стало тяжелым, старым…
На обратном пути машина прошла, ныряя по колдобинам, мимо плещеевской хибарки. Плещеев как раз выходил из дому, стоял на пороге. Невидящими глазами проводил он прошумевшую мимо машину.
Арест директора был, само собой, предметом раздумий и волнений. Перешептывались боязливо на заводском дворе, в курилках, в кабинетах заводоуправления. Перешептывались женщины с ведрами у водоразборных кранов. И, пронзительно озираясь, безмолвный и загадочный проходил по заводу Мошкин, весь как бы изнутри светящийся бдительностью. Что-то в нем вдруг проступило в высшей степени сурово-государственное.
Старик Прохоров, придя с работы, спросил у Ульяны:
— Слышала?
Она ответила вопросом:
— А тебе ничего быть не может? Он к нам заходил…
— А!.. — с тоской и отвращением махнул рукой Прохоров и ушел.
А Полина пришла веселая, помолодевшая.
— Ну вот, мамаша, — сказала она. — Не буду вас больше обременять.
— В общежитие уходишь, что ли? — сухо спросила Ульяна.
— Не в общежитие — замуж.
— Это за кого же?
— Угадайте, не трудно.
— За Шалагина? — упавшим голосом спросила Ульяна.
— А что — плохой жених?
— Ты-то больно хороша невеста.
— Чем же это я так уж нехороша?
— И он, змей, — сказала Ульяна, — чуть ли не родным прикинулся, пришел и чужую вдову сманил… И трех лет не прошло!
Полина резко засмеялась.
— Да разве бывают чужие вдовы? Вдовы, мамаша, ничьи… А три года дайте сосчитаю — больше тысячи дней. Тысяча дней, это надо же?
— Ты эту тыщу дней даром не теряла…
Они обменялись ненавистным взглядом.
— Уходи отсюда, — сказала Ульяна. — Забирай свои манатки и уходи, и чтоб Гришки тоже духу здесь не было.
Она отвернулась и не оборачивалась, пока Полина собирала свои вещи. Портрет Алексея и молоденькой Полины смотрел со стены.
— До свиданья, мамаша, — сказала Полина, собравшись.
Ульяна не ответила. Весь ее вид выражал осуждение, непонимание, беспомощность.
— Алешенька! — зарыдала она, когда Полина ушла. — Сыночек! Алеша!
Так, рыдающей перед портретом, застала ее зашедшая Фрося. Быстро сообразила, взяла за плечи ласково:
— Ульяна Федоровна, голубушка, слезами не вернешь, его святая воля…
— Фросенька! — бессвязно жаловалась Ульяна. — Никого не осталось… Хоть бы внук либо внучка… Околевать вдвоем старым…
— Ульяна Федоровна, — сказала Фрося, — вы помолитесь. Молитва горе умягчает. Легче вам будет. И Алеше вашему радость, что за него мать помолится. Давайте вместе: упокой, господи, душу усопшего раба твоего воина Алексея.
— Упокой, господи, — повторила Ульяна.
А Полина жаловалась Шалагину — и так не похожа была на счастливую новобрачную.
— Как я к ним пришла когда-то, когда меня Алеша привел… и как ушла… Как будто я виновата, что его убили…
А Шалагин утешал ее, говоря:
— Ничего. Ничего. Все наладим. Все залечится. Ничего.
Десять лет прошло.
Старый тополь изменился мало, а молодые выросли и окрепли… Не узнать поселка, только река да лес остались на своих вековых местах, да завод стоит где стоял, а остальное все наново. На месте временного клуба появился Дом культуры, большой, по недавним временам — модный, с колоннадой и высокими ступенями, как у паперти. Громадные просторы той части поселка, что покрыта была развалинами, землянками, бараками, — эти просторы застроены аккуратно распланированными большими домами со сквериками и уютом. К реке спускается крыло поселка. Там стоит дом Шалагина. Чем ближе к реке, тем больше похож поселок на деревню с вольно разбросанными домиками, огородами, петушиными криками и лодками на берегу. И так как поселок все стремится расширяться, прихорашиваться, достраиваться и перестраиваться, то вперемежку с местечками благоухоженными и даже вылощенными в нем встречаются местечки вовсе неблагоухоженные, немощеные, разрытые, с кучами песка и щебня, со сваленными строительными блоками и трубами…
В Доме культуры шло собрание. Большой зал был битком набит. С трибуны читали материалы XX съезда партии. Был март 1956 года.
Зал слушал не двигаясь, не перешептываясь, не кашляя — замер, слушая. Тут были и Шалагин с Полиной, и Капустина, и старик Прохоров, и около Плещеева сидели два парня — его сын Леня и Павел Капустин.
Мошкин видел их всех, сидя за столом на эстраде. С одного лица на другое, подолгу задерживаясь, изучая, переводил он взгляд. За эти годы он приобрел начальственную осанку, то есть научился высоко держать подбородок и топорщить плечи, он был теперь на месте Сотникова — директор завода. Но никогда еще не всматривался он в зал так, как сейчас. Потому что привык видеть в зале массу, а сейчас ему важно было увидеть каждого.
При этом, однако, он избегал встречаться глазами с кем бы то ни было, с непроницаемым видом отводил их, едва возникала такая опасность. Так же поступила сидевшая у окна Фрося, когда чуть-чуть было не соприкоснулась с ним взглядом. При этом она потихоньку, незаметно для окружающих, перекрестилась под шарфом.
И Макухин с Ахрамовичем были в зале и слушали, гигант Ахрамович — в изумлении и испуге, Макухин — изобразив на лице благородное негодование.
Чтение закончилось. Выступлений не было. Так же тихо, благообразно расходились, как слушали.
Плещеев пошел с Шалагиным, а Леня с Павлом. Некоторое время парни шли молча.
— Нет! — сказал Павел. — Я знаю, что ты думаешь, — нет!
— Твой отец в бою погиб, — сказал Леня, — мой — зрение потерял… Шли со словами — за Родину, за Сталина…
— Ну, лично я считаю, — сказал Павел, — слова — это на собраниях. Настоящее дело молча делается… Убили отца, да. Но мне это обидно связывать… Не за Сталина он погиб! За жизнь народ боролся, за все, понимаешь, что своими руками сделал и собирался сделать…
— Не персонально за Сталина, — согласился Леня, — но все-таки… как-то… Всегда, наверно, трудно такие вещи узнавать. Спокойней, должно быть, не узнавать… Правда же!
— А еще бы! — воскликнул Павел. — Конечно, растительной жизнью куда спокойней жить! Чтоб ни о чем голова не болела — делай, что тебе велят, и ладно. Слушай, много ли мы с тобой вообще-то думаем? Работа, да учеба, да киношка, да девчата…
— Я, наверно, много пропустил, когда читали, — говорил Павел дальше, — а почему — потому что я слушал-слушал и задумывался, задумаюсь и перестаю слышать… Пусть трудно. Но я все хочу знать. Так лучше.
Потом они говорили о себе.
— У тебя, значит, все решено, счастливый, — сказал Леня.
— Да. Летаем, Ленечка. — Павел легко перескочил через лежащую у них на дороге трубу.
— Полетишь, все повидаешь…
— Жалко, что не вместе, — сказал Павел. — Здорово было бы.
— Ну где мне, — сказал Леня с горечью. — Я и проситься не могу. Я сиделка.
Они замолкли и шли плечо к плечу, как братья. Их дружба стала с годами еще крепче. В этой дружбе Павел по-прежнему держался как старший, хотя они были ровесники, а Леня гордился им и смотрел на него с доверием и любовью.
Плещеевы жили теперь в доме, построенном Шалагиным и Полиной, и, хотя к ним был отдельный вход и жизнь у двух семей была розная, Шалагины присматривали за Плещеевыми и неназойливо их опекали. Когда после собрания Леня ушел с Павлом, Шалагины привели слепого к себе и усадили ужинать. О том, что было прочитано на собрании, почти не разговаривали. Шалагин сказал только:
— Вот так и Сотников, наверно, сгорел.
Но когда Плещеев вдруг заговорил повышенным тоном:
— Что ж это делалось, что делалось?.. — Шалагин положил руку ему на руку, остановил:
— Потом. Не хочу об этом говорить с кондачка. Подумавши хочу говорить. — После молчания добавил: — Думать в основном о чем надо? Чтоб больше не стряслось такое.
— Об этом думай не думай, — сказал Плещеев, — от нас не зависит.
— Ну как не зависит! — возразил Шалагин. — Очень даже зависит. Теперь мы, брат, ученые.
— Дай я нарежу, — сказала Полина, увидев, как Плещеев режет мясо.
— Добрая ты, Поля, — сказал он благодарно. Она грустно пошутила:
— Муж велит быть доброй.
И Шалагин поглядел на нее с выражением ласки и заботы, потому что помимо общих, громадных, вселенских дел у них были свои дела, от которых голова, как говорится, болела только у них двоих, и в этих делах имелась незадача, обида, печаль, мешавшая их счастью: не было детей, и гордая Полина, отложив свою гордость в сторонку, ходила в поликлинику и советовалась с Тоней, которая тем временем выучилась на гинеколога и принимала женщин в кабинете. Поликлиника была новая, отлично оборудованная — того домишки, где Тоня когда-то делала Шалагину перевязку, и след простыл.
— Все ж таки, ну отчего оно может быть? — спрашивала Полина. Сколько лет женаты, уже сколько могло бы детей быть — и ничего. Если уж у нас с ним организмы нездоровые, у кого ж они тогда здоровые? Сказать бы, он много раз ранен был; так доктора признали — это не причина. Неужели во мне причина?
Тоня выписывает рецепт. На ее бесцветном лице боролись разные чувства. Сопернице было плохо, соперница страдала, но соперница была пациентка, а она, Тоня, — врач. Поджатыми бледными губами Тоня сказала:
— Аборты делала, вот и причина.
— Так ведь давно…
— Очень может быть — это результат. Бывает. Попробуешь попринимать вот это.
Полина уныло пошла с рецептом, а Тоня глядела ей вслед — какая она красивая, сильная, привлекательная даже в унынии.
Что это за шаги слышатся, сперва негромкие, потом все ближе — и вот они рядом? Это заживо погребенные выходят из своих безвестных могил, забытые выходят из забвения, это Сотников идет по заводу.
Он шел мимо новых цехов, заходил — смотрел на новые машины, останавливал взгляд на лицах. У фрезерного станка работала Фрося, степенная, как всегда. Пронзительно взглянула на приближавшегося Сотникова, опустила глаза на работу. И он смотрел на нее пристально, вспоминая, — не вспомнил, прошел. Фрося с облегчением подняла взор к потолку.
Во дворе навстречу Сотникову попался Ахрамович. Таким же изумленным стало его лицо, как тогда на собрании.
— Здравствуйте! — сказал он празднично и снял шапку.
— Добрый день, — ответил Сотников.
— С возвращением! — сказал Ахрамович.
— Спасибо. — Сотников прошел. Ахрамовичу стало неловко… Подошел Макухин.
— Видал, Сотников вернулся! — сказал Ахрамович.
— Мда, — сказал Макухин. — Не все ему обрадуются…
Из машинного отделения вышел Прохоров. Не в его характере было ликовать вслух, но сейчас он, широко улыбаясь, шагнул к Сотникову:
— С приездом, Александр Васильич!
— Здравствуйте, Дмитрий Иваныч, — отозвался Сотников, остановившись. Он был приветлив, но какая-то новая появилась в нем сдержанность, почти замкнутость.
— А вы не постарели, Александр Васильич, — сказал Прохоров, желая всячески его приветить. — Ей-богу, если постарели, то самую малость! Заходите к нам, по старой памяти. Милости просим. Мы теперь в новом доме, сейчас вам адрес запишу. — Он торопливо вытащил блокнотик и карандаш, стал писать. Сотников вежливо ждал.
— Вот, — протянул Прохоров листок. — Сегодня же, вечерком!
— Постараюсь, — сказал Сотников.
— Как супруга, детишки, все ли благополучно?
— Спасибо, все в порядке.
И, кивнув, Сотников пошел своей дорогой.
Во втором этаже заводоуправления сквозь стекло смутным пятном глянуло внимательное лицо — Мошкин…
Вечером старики Прохоровы, приодевшись, сидели в своей новой квартире с радиолой и телевизором и ждали.
— Хватит, — решительно сказал Прохоров. — Хватит ждать. Ужинать давай.
— Сколько тебя из-за него таскали, — не выдержала Ульяна, — сколько допрашивали, как ты его выручить старался, а он не пришел. И не предупредил даже. Уж предупредить мог бы. Были когда-то земляки, а теперь, видать, мы для него мелкая сошка.
— Сошка? — возмутился Прохоров. — Это что значит? Что это за слово такое? Сошек нет на свете, это слово, знай, глупые люди придумали, и подлые, да, подлые, а в моем доме чтоб я этого слова не слышал!..
Мошкин обитал в заводоуправлении за обитой дерматином дверью, на которой висела дощечка: «Директор». Он проводил там время до позднего вечера, и с ним бодрствовали в боевой готовности секретарши и телефонистки.
Он сидел под канцелярской лампой, слегка постаревший, научившийся начальственно держать подбородок и плечи, облаченный в штатский костюм, при этом новый пиджак сидел на нем так же нескладно, как в былые времена старый китель, потому что меньше всего интересовало Мошкина, что как на нем сидит.
При виде Сотникова, вошедшего в приемную, секретарша вскочила, побежала в кабинет. Сотников усмехнулся и прошел за нею, не дожидаясь, пока она доложит.
Лицо Мошкина, освещенное лампой, не дрогнуло.
— Это вы, — сказал он равнодушно. — Мы, помнится, договорились, что вы начнете принимать дела с завтрашнего утра.
— Поговорить надо, — сказал Сотников и сел напротив. Взглядом Мошкин услал секретаршу.
— Что ж, поговорим. Курите. — Мошкин придвинул папиросы. Сотников достал свои, зажег спичку, закурил.
— Я слушаю, — сказал Мошкин.
— После реабилитации, — сказал Сотников, — следователь дал мне прочесть мое дело. Я прочел все.
— Да? — уронил Мошкин.
— Да. И скажу тебе так. Простить это — нельзя, а переступить через это — придется. Так что будем считать: не ты меня посадил. Сталин меня посадил.
— Конечно, Сталин, — сказал Мошкин. — Как бы я тебя посадил, смешно. Кто я такой, чтоб кого-то сажать?
— Почему приходится переступить? — продолжал Сотников, не слушая. Потому что работать надо. А если бы не это — судить бы тебя…
— Нет! — сказал Мошкин. — Судить меня не за что. Ведь ты на самом деле говорил те слова — ну, помнишь? Насчет кадров, что должен советоваться? Насчет свежего ветра?.. — Мошкин перечислял, многозначительно прижмурив глаз.
— Да я это где угодно и когда угодно скажу!
— Сейчас-то, конечно. Сейчас это безопасно и даже поощряется… Раз говорил — судить меня нельзя. Я сигнализировал — и каждый обязан сигнализировать, сам знаешь, не маленький. А что тебя посадили — при чем тут я? Ты бы не сигнализировал на моем месте?
Сотников брезгливо сморщился.
— Другое дело, — сказал Мошкин, — что обо мне никто никогда ничего не мог, не может и не сможет сигнализировать!
— Ничего ты не понял, обреченный ты человек, — сказал Сотников.
— Зато ты опять в полном порядке, — сказал Мошкин. — Вернулся, и обратно на старое место, заводом командовать.
— Открой секрет, Мошкин: как это ты им командовал эти годы, с твоим-то багажом?
— Не уязвишь, — сказал Мошкин. — Потому что мне ничего не надо, я солдат. Куда послали, что велели — это дело партии. Я иду, как солдат, сражаюсь, и все!
— Только не это слово! — сказал Сотников. — Не солдат ты, Мошкин, а совсем другое.
— А я не могу, — сказал Мошкин, — а мне противен, нутру моему противен гонор твой, барство, интеллигентский душок твой… Серьезный работник, а брюки сузил! Шестой десяток, в каких переплетах побывал, а брючки сузил, эх!
И вдруг Сотников расхохотался — звонко, по-молодому.
— Десять лет я про вас думал, — сказал он, — про вас, мошкиных, десять лет… а до такого не додумался. Чтоб когда я вернусь, ты бы, сукин сын, в душу мне и не посмотрел, на брюки бы мои посмотрел — до этого не додумался я, нет… Брюки, надо же!.. А впрочем! Что мошкиным душа — чья бы ни было! Что ты о ней, подонок, знаешь! Ты не человеку служишь, так что тебе человек! Я ли, другой ли! Для вас люди материал, материал, не больше!..
— Ругайся, — сказал Мошкин. — Смейся. Веры моей ты не поколеблешь. Ну, материал. И что? Спасибо скажите, что приняли вас на материал для великих целей. Сейчас твоя взяла… И не нервничай, не придется нам вместе работать — принимай дела, а я на другой работе перебуду до пенсии. Работу мне подберут, обязаны, как-никак номенклатура…
— Ну и правильно, — сказал Сотников, вставая. — Вряд ли у нас контакт получится. Об одном подумай: может, если перед судом своей совести ответишь, перед другим судом отвечать не придется. Вот о совести подумай.
— У меня совесть чиста, — твердо ответил Мошкин.
В доме Шалагина, как уже сказано, были две половины, два крыльца. В одной половине комната и кухня и в другой комната и кухня. С одного хода жили супруги Шалагины, с другого Плещеевы, отец и сын. У Шалагиных перед крыльцом росла яблонька, у Плещеевых — куст сирени. У Шалагиных было нарядно, кровать под покрывалом, цветы в горшках, а Плещеевы жили по-холостяцки, уютом не интересовались. Но сора у них не было — Полина следила, обстановка была крепкая и опрятная, и отец, и сын работали на заводе, зарабатывали — на столе стоял хороший, дорогой радиоприемник.
Плещеев-отец сидел у приемника, крутил ручку, перебираясь со станции на станцию. В комнате гремели бессвязные громы, обрывки музыки и иностранной речи. Вдруг врывался голос с аэродрома, передававший сводку погоды: «Видимость пятьсот, ветер одиннадцать, направление северо-северо-восток». Леня рядом, в кухоньке, стоя читал газету, развернув ее на кухонном столе.
— Не только о тебе, — сказал Леня, входя с газетой, и Плещеев выключил приемник. — Не только о тебе, и обо мне упомянули. А называется «Жизнь — подвиг».
— Мне уже в цехе Макухин читал, — сказал Плещеев. — С выражением. Ерунда, сынок. Гриша уговорил меня работать, я попробовал — вроде получается, ну и остался, чтоб не скучать. Так было дело. Житейское дело, а подвиг — это чтоб людям читать было интересней.
— Все равно приятно, — сказал Леня. — Сегодня вообще день хороший. Павка из училища приехал на целых три дня — я с ним в Дом культуры схожу, ничего?
— Ясно, иди, — сказал Плещеев. — Чего тебе со мной сидеть, иди гуляй.
— Павка должен зайти, мы пойдем, — ответил Леня. Он прилег с газетой на оттоманку, а Плещеев вернулся к приемнику, и опять забродили по дому эфирные шумы.
За прошедшие годы, превратившие маленького Леню в молодого мужчину, Плещеев-отец почти не постарел. Он казался старшим братом своего сына. Самоуважение вернулось к нему, истеричность исчезла, осталась только некоторая склонность к рисовке. Он уверенно двигался в своем жилище, уверенно, как зрячий, брал папиросы со стола и закуривал. Движения его пальцев были легки, изящны и точны. Одет был хорошо и чисто, даже очки были новые, в красивой оправе.
— Как думаешь, — спросил он вдруг, — может, и она про нас прочтет?
— Может быть, — сказал Леня.
— Пускай там что угодно, — сказал Плещеев, — пускай новая семья все-таки, наверно, приятно ей будет прочитать.
— Не знаю, — сказал Леня. — Думаю, приятно. — Он говорил холодно, как о чужом человеке. — Там, насколько я понимаю, и не семья. Не получается у нее…
— Раз не получается, — сказал Плещеев, — куда ж ей, как не сюда?..
— Нет, — сказал Леня. — Не приедет. Лично я давно уже не жду.
— Ты можешь не ждать, а я не могу. Мне нельзя не ждать. До сих пор все кажется: вот звонок зазвонит — и голос ее услышу.
Леня закрыл глаза, и мрак обступил его. Во мраке громче стали звуки из эфира, стало слышно, как дышит отец… Оглушительно, как будильник, как боевая тревога, зазвонил дверной звонок.
Плещеев слышал, как прогрохотали шаги Лени, вскочившего с оттоманки. Раздались голоса:
— С трудом выбрался. Семейство никак не отпускало. — Голос Павла Капустина.
— Заходи. — Голос Лени.
Плещеев перевел дух. Звуки стали нормальными, будничными… Он снова занялся приемником. Вошел Павел в курсантской летной форме.
— Добрый вечер, Леонид Антоныч!
— Добрый, — отозвался Плещеев. — С приездом.
— Читал в газете, — сказал Павел. — Очень здорово, поздравляю!
Плещеев ничего не сказал, вертел ручку. Из приемника донеслась мелодия, искаженная джаз-оркестром. Сладкий эстрадный голос пел «Землянку» на непонятном языке.
— Так пошли? — спросил Павел у Лени. — Там что, танцы сегодня? — Он стал мужественней, стройней, настроение у него было отпускное, праздничное.
— Танцы, — ответил Леня. — Дай галстук завязать.
— Идите, ребята, — сказал Плещеев.
Дом культуры был украшением поселка. Чего стоила одна колоннада по фронтону и площадь, обсаженная молоденькими деревьями, окруженная бесчисленными фонарями. Через площадь ко входу тянулись парни и девушки в лучших своих нарядах, отглаженных и начищенных так, как только бывают отглажены и начищены единственные выходные наряды. Небогатые рыцари не так, наверно, наводили лоск на свои скромные доспехи, отправляясь на турнир, как эта молодежь на свои ботинки, брюки, пиджаки, рубашки и платья.
— Настоящие летчики парашюта терпеть не могут, — оживленно рассказывал Павел, подходя с Леней к Дому. — Когда у нас объявляют прыжки, в медпункт выстраивается целая очередь — все находят у себя какие-нибудь болезни…
— А ты как? — спросил Леня, с восторгом глядя на товарища.
— Я не боюсь, но машина, конечно, надежней, чем тряпка.
Они вошли в зал, где играл оркестр и танцевали.
— Разобьем эту пару? — предложил Павел. Он показал на двух девушек, беленькую и черненькую, которые лениво вертелись друг с дружкой в ожидании кавалеров.
Они разбили пару, Павел повел беленькую, Леня — черненькую. Танцуя, Леня и не смотрел на свою даму, он следил за Павлом и не переставал восхищаться им. Павел танцевал отлично и с новшествами, еще не виданными в поселке, — насколько возможны новшества в таком чинном старинном танце, как вальс. Мирная мечтательная музыка, мирная обстановка зала не предвещали ничего недоброго. Поэтому когда раздался свист и громкий голос одного из молодых парней, стоявших у стены, — обернулись все.
— Эй, Наташка! — крикнул парень беленькой девушке, которая танцевала с Павлом. — Танцуй сюда!
Наташа подумала и пошла к парню, Павел с нею, поддерживая под руку. Как раз и музыка кончилась.
— Чего ты кричишь! — сказала Наташа. — Как в лесу!
И Леня вслед за Павлом подошел со своей черненькой.
— А как тебя звать, — спросил парень, — шепотом, что ли? Приятель мой с тобой знакомиться желает. Потанцуй с ним.
— Я уже обещала, — сказала Наташа нерешительно.
— Кому? — Парень вызывающе кивнул на Павла. — Этому шпроту?
— Ну-ну! — миролюбиво остановил Павел.
— Костя! — с укором сказала Наташа. — Его зовут Павел.
— В чем дело? — спросил Костин приятель. — Я подожду, танцуйте, в чем дело?
Оркестр снова заиграл, на этот раз фокстрот.
— А я не подожду! — сказал Костя и подхватил Наташу. Она рванулась, он толкнул ее в спину. Павел, Леня, еще несколько ребят бросились к ним.
— А ну, вон отсюда! — сказал один из парней, энергично выталкивая Костю из круга танцующих.
— Да пошел ты! — отбивался Костя. — Не твое дело!
— Давай, давай отсюда, — сказал другой парень.
Костю вывели из зала. Инцидент был исчерпан, оркестр приударил с новым воодушевлением, танцы продолжались.
К Плещееву тем временем зашел Макухин. Он был неузнаваем: бритый, подстриженный, в новом, из магазина, костюме. При всем том в шалагинский двор он вошел осторожно, с оглядкой, и не позвонил, а тихонько постучал в окно.
— За тобой! — сказал он, когда Плещеев ему отворил. — Уважь, Леонид, — такой день, что отказаться не имеешь права! Даже моя мадам пирогов напекла.
— Ну сколько тебе, ей-богу, говорить! — сказал Плещеев. — Ну бросил я. Соблюдаю норму, а с тобой разве соблюдешь норму?
— Вот честное слово честного человека! — Макухин прижал ладонь к галстуку. — Выпьешь свою норму, и никто ничего тебе не скажет, а мадам даже в восторге будет, она тоже трезвенница. С представителями цехового комитета завтра отмечаю, а сегодня посидим по-домашнему, как старые друзья. Ну? Леонид! Уважь! Не каждый день человеку пятьдесят исполняется! И какие, Леонид, пятьдесят — трудовые! Рабочие! Ну? Леонид!
Из Дома культуры вышли вчетвером: Павел, Леня, Наташа и ее черненькая подруга. Перешли площадь — вдруг из тени им навстречу Костя и с ним человек пять-шесть приятелей.
— Павел, смотрите! — сказала Наташа, прижавшись к его плечу.
Костя стал перед Павлом.
— Ты что за начальник? — сказал он. — Отвечай: кто ты такой, чтоб над нами командовать?
— Иди-иди, парень, — сказал Павел.
— За такие дела, — сказал Костя, — знаешь, что бывает? — Его приятели обступили их стеной. — Мы тебе скажем, что бывает!
— Костя, ты выпил! — сказала Наташа. — Уйди! Ну, я тебя прошу!
Павел улыбнулся открыто и миролюбиво.
— Интересно послушать, — сказал он. — Хором будете рассказывать или по одному?
— Шпрот! — сказал Костя. И поднес те дурацкие слова, какими хулиганье разжигает уличную драку средней руки.
— Ладно! Считаю — достаточно. — Павел начал сердиться. — Пропустите, хватит дурака валять!
— За такие дела глаза тебе выбить мало! — театрально хорохорясь, выкрикнул Костя.
Леню при этом слове как подменили.
— Глаза?! — переспросил он не своим голосом. — Ах сволочь, ах сволочь!
Он бросился на Костю.
— Ну, ну, ну, — сказал Павел. — Разойдись, брейк, ребята. — И встал между Леней и Костей, разводя их.
Никто ничего толком не заметил — все произошло очень быстро. Павел вдруг стал падать, закричала Наташа, метнулись, убегая, приятели. Костя постоял секунду, не сразу поняв, что случилось, потом тоже побежал прочь.
Павел лежал не двигаясь. Леня наклонился над ним, попытался поднять:
— Павка, Павка! — и тряс его в отчаянии, сам не понимая, что делает. Подбегали прохожие. Толпа увеличивалась, грозно плотнея в темноте.
— В спину, — переговаривались в толпе. — Нечисть проклятая. — А кто? — Найдут. — Расстреливать надо гадов. — Парня-то не вернешь. — Чей парень-то? — Курсант какой-то, летчик. — Эх, летчик, долетался…
Подъехала машина скорой помощи и машина с милицией. Люди в белых халатах и форменных кителях прошли через толпу, положили Павла на носилки. Капитан милиции спросил у Лени:
— Вы были при этом?
— Да, — ответил Леня.
— И я была, — сказала Наташа.
— Поедете с нами, — сказал капитан.
Павла понесли, следователь стал писать в блокноте. Леня, Наташа и черненькая пошли за капитаном к машине.
— А зачем к ней сейчас идти, ночью? — сказал капитан. — Утром сходишь. Пускай поспит.
— Она не спит, — сказал Леня. — Она его ждет. Он только вчера приехал.
Разговор происходил в отделении милиции, после того как обо всем было спрошено и записано.
— Ночью — это хуже нет родным сообщать, — настаивал капитан. — Уж ты мне поверь. Опыт имею.
— Ладно, — сказал Леня. — Если света нет у них в окнах, утром схожу.
Огни в окнах гасли один за другим, только улицы оставались светлыми линиями в засыпающем поселке да светлыми полосками висели лестничные клетки в высоких домах. Вдруг разом выключили уличное освещение — спать пора людям. Леня шел по темной улице, и за ним, на расстоянии, Наташа с подругой.
— Леня! — робко окликнула Наташа. — Может, правда, лучше утром?
Леня молчал.
— Леня! Как же вы скажете?..
Леня молчал. Он увидел — окна угловой комнаты Капустиных освещены, там не спят.
Он вошел в подъезд. Беленькая и черненькая, не осмеливаясь ни войти, ни удалиться, сели на каменном крыльце. Ноги их устали от высоких каблуков, и они сняли туфли и поставили рядом. И сидели, не говоря ни слова, подпершись кулачками.
Бодрствовала только мать, дочери спали — все три были еще тут, под материнским крылом.
На столе был прикрыт полотенцем ужин. Капустина стелила постель на диване — аккуратно, любовно — для Павла. Затревожиться она еще не успела, хотя и посматривала на часы — дешевенький будильник. Когда раздался звонок, пошла отворять с счастливым лицом. Увидела Леню, и в первый момент не дошло до нее, что он один. Потом спросила, все еще спокойно:
— А Павка?
Леня молчал — она посмотрела на его лицо, попятилась… Леня медленно пошел за нею — она все пятилась, глядя на него, все отступала от страшной беды…
…Она сидела у стола, ее узловатые, натруженные руки безжизненно лежали на коленях. Дочери проснулись, сидели на своих постелях, еще ничего не понимая. Белела постель, приготовленная для Павла.
— Я пойду, — громко сказала Капустина, вставая.
— Куда? — спросил Леня.
— А вдруг он ранен только? Леня, голубчик мой, вдруг он только ранен!!
Она безумно кинулась к двери. Леня ее перехватил. Дочери, забыв о его присутствии, вскочили, окружили мать:
— Мама, что ты, мама, не надо, мама!
Они усадили ее, гладили. Она стихла в изнеможении.
— Значит, еще и это, — сказала. — Значит, еще и это…
— Леня, ты иди, — сказала старшая из дочерей, увидев, что они в одних рубашках. — Мы с ней будем.
— Иди, Леня, иди, — сказала и Капустина. — Отец беспокоится твой, не надо беспокоить…
Одна из девушек, накинув платок, пошла запереть за Леней.
— Поймают их? — спросила она.
— Уже поймали, наверно.
— Кто же они? — спросила девушка. Она стояла перед ним в передней босая, в рубашке, с вязаным платком на плечах.
— Наши, здешние. Из поселка.
— Свои — своего? — сказала девушка. — Папу нашего — фашисты, а тут?..
Она не досказала, и они только посмотрели с Леней друг другу в глаза, и взгляд этот был мрачный, остро непримиримый.
У Макухина было накурено так, что люди и предметы еле проступали в тумане. Ахрамович лежал на кровати, вытянувшись во весь свой рост, и мутно глядел в потолок. Плещеев стоял у двери, собираясь уходить, а Макухин его уговаривал:
— Ну послушай, не порти друзьям настроение, посиди. Ну мне это прямо обидно, что ты уже уходишь. Это ты загордился, что про тебя в газете напечатали, — ну и что? Про меня тоже в газете печатали — ну и что?
— Про тебя печатали, что ты водку лакаешь без просыпа, вот что про тебя печатали! — прокричала из-за перегородки жена Макухина. Она уже легла, но не могла спать.
— Леонид! — Макухин держал Плещеева за рукав — Ведь пятьдесят лет! А лет было мало, все больше зимы, Леонид, все больше зимы! А Ахрамович рухнул — что ж мне, одному отмечать юбилей?
— Нет, я пошел, — сказал Плещеев, стараясь держаться трезвым, хотя заметно перебрал свою норму.
— И давно пора! — крикнула жена. — Выметайтесь все, юбилейщики!
— Я пошел, пошел, — повторял Плещеев.
— Я тебя провожу, Леня, — сказал Ахрамович и заснул богатырским сном. Плещеев один вышел в темноту.
Шалагин и Леня стучались к Макухину.
— Кого еще черти несут? — провизжала жена.
— Плещеев у вас?
— Нету Плещеева! Домой ушел!
— Как, один, ночью? — яростно спросил Шалагин.
— А ему не все одно, что день, что ночь? — озлобленно спросила женщина. — Провожатых-то нет. Дрыхнут провожатые.
Шалагин и Леня двинулись дальше на поиски.
Плещеев шел, постукивая палкой по тротуару. Палка ударилась о ствол дерева, выпала из рук. Он нагнулся было ее поднять, но закачался, чуть не упал и пошел дальше без палки, с выставленными вперед руками.
Показалось недостроенное большое здание — о его близости Плещеева предупредили исчезновение тротуара, разрытая земля, колеи, проложенные машинами, дощечки, переброшенные через канавы.
— Уже близко, — сказал Плещеев, нащупывая ногой колею.
Колея шла, шла и свернула.
— Эй! — позвал Плещеев. — Люди! Теперь куда?
Но была глубокая ночь, никто не отозвался. Резко светили лампы… Плещеев постоял и побрел дальше. Потеряв направление, забрел в глубь строительного участка и заблудился окончательно. То его вытянутые руки упирались в штабель блоков, то оскользалась нога на мокрой глине, и, стремясь удержаться, он хватался за что-то, и это что-то оказывалось кучей песка, и в сыпучий песок уходили пальцы… Но вот он очутился перед стеной. Его пальцы определили точно — это стена. Они нащупали дверной проем.
— Кто тут есть? — позвал Плещеев. — Эй, хозяева!.. — и, споткнувшись, полетел в глубь дома.
На заводе кончилась первая смена.
Леня Плещеев почти бегом бежал домой. Распахнул калитку и увидел — на крыльце стоит женщина.
Мать. Он узнал ее сразу.
Они друг на друга смотрели и не могли сказать ничего. Наконец она сказала:
— Ленечка…
Он отозвался растерянно:
— Здравствуйте…
— А я звоню-звоню, — сказала она еще растерянней.
Он открыл дверь. Внес ее вещи. Это надо было, он это сделал. Что еще надо — не знал, не соображал. Так неожиданно. И отвык…
Это был совсем, совсем не тот мальчик в ушанке, что ушел от нее когда-то во вьюжную ночь. И жилье было другое. И она, Мария, другая. И по всем этим причинам, и по многим другим, вместе взятым, она горько плакала, сидя на оттоманке, — исходила слезами. И была похожа не на жену, мать, хозяйку, вернувшуюся домой, а на гостью, которой не ждали. Так сиротливо стоял на полу ее багаж: туго набитая авоська и старый чемодан, перевязанный веревкой, чтоб не раскрылся.
— А папа где же? — прошептала она, сморкаясь.
— В больнице.
Она испугалась:
— Что с ним? Опасно?..
— Ничего, — совсем по-шалагински ответил Леня. — Обойдется. Могло быть хуже… Завтра пойдем к нему. Вместе.
— А может, — спросила она, — он не захочет, чтоб я?.. Может, лучше спросить сначала… у него?
— Да нет же! — сказал Леня. — Он рад будет! Честное слово! Он звонки слушал, ждал…
— Господи! — задыхаясь, прошептала Мария.
Лене и жалко было ее, и тягостно, все бы, кажется, отдал, чтоб обошлось без слез, и, конечно, сумбур в его чувствах был полнейший — но ему было некогда, он ужасно спешил и сказал:
— Ты не обижайся, мама, мне уходить надо.
Она вся сжалась и быстро ответила:
— Конечно, иди, куда тебе нужно.
Он увидел, что сделал ее уж окончательно несчастной.
— Ты не думай, я… я на похороны иду. Товарищ мой… Ты его, наверно, помнишь: Павка. Капустин.
И то, что он ей это сказал, как бы поделившись с ней своим горем и так просто, без всякого укора, упомянув об их прежней совместной жизни, облегчило Марию.
— Помню, помню! Отчего ж он?.. Ну потом расскажешь, потом!
Леня наспех переоделся и убежал.
Мария прошлась по квартирке, осматриваясь робко. На вешалке висело пальто, она осмотрела его с особым вниманием, даже понюхала… Села над своим чемоданом, стала развязывать веревку — похоронный марш донесся издалека, глухие удары, словно говорящие: «И не жди, и не надейся, ничего уже не будет хорошего», — опять затосковала Мария, упали руки…
Павла хоронил весь поселок.
Шли старики и старухи, и молодежь, и пионеры, и начальники, и просто жители.
И девушка Наташа шла, и ее черненькая подружка.
И Шалагин с Полиной.
Шли курсанты летной школы, прилетевшие на похороны.
Шла за гробом сына Капустина и три ее дочери.
Медленно двигался грузовик, на котором высоко стоял гроб.
Венками из цветов и свежих веток был завален грузовик.
И ухал, ухал в уши Капустиной похоронный марш.
…В больнице был так называемый впускной день. На людях Мария совладала с собой, даже пыталась весело улыбаться, когда они с Леней, в накинутых казенных халатах, подходили к койке, на которой лежал Плещеев. Из-за своего злосчастного падения он лежал в гипсе. Глубоко в подушки уходила его голова.
— Вот и я, — сказал Леня, стараясь говорить обыкновенным своим голосом. — Молока тебе принес, хочешь не хочешь — пей, доктор велел…
— Кто с тобой? — спросил Плещеев. — Кто с тобой пришел?
Мария, затаив дыхание, стиснула руками горло.
— Да понимаешь, — неестественно развязно сказал Леня, — вчера прихожу домой, открываю калитку…
— Маруся! — тихо позвал Плещеев. — Ты здесь?
— Да, — ответила Мария.
На них смотрели и больные, и посетители. Только Леня отвернулся, он выкладывал из авоськи на тумбочку принесенные гостинцы.
— Здравствуй, Маруся, — тихо сказал Плещеев и протянул здоровую руку.
— Здравствуй, — сказала Мария.
— Сядь сюда.
Она села.
— Какой ты стал! — сказала она. — Красивый… молодой…
— А какая ты? — спросил Плещеев.
Мария потерянно оглянулась на Леню. Тот посмотрел на ее увядшее лицо и твердо сказал:
— Мама тоже очень красивая.
Вдалеке от новых домов, на дальнем конце поселка, на отшибе, окруженный пустырями, с довоенных времен сохранился домишко, весь черный, боком осевший в землю. Там обитала Фрося.
Маленькие кривые окошки были завешены, и по вечерам на занавесках двигались тени и виден был неровный, колеблющийся свет, и слышалось пение.
Открывалась скрипучая дверь, выходили люди. По двое, по трое расходились, тенями пересекая безлюдный пустырь.
В домишке оставалась одна Фрося. Она гасила и прятала тонкие, как спички, темные свечки, горевшие перед иконами. Прибирала в комнате… После этих молений она бывала в состоянии безмолвной исступленности. Глаза ее горели диковато.
Так она жила, пока однажды Капустина не обратилась к Сотникову:
— Александр Васильич, помоги. Нужно одной работнице квартиру срочно. В новом доме.
Капустина была теперь секретарем парткома. Разговор происходил в парткоме, и там находился в то время старик Прохоров.
— Квартирами занимается жилищная комиссия, — сказал Сотников. — Они в этом деле больше хозяева, чем я.
— Комиссия отказалась включить ее в список, — сказал Прохоров. Недопонимают товарищи, что тут надо в первую очередь.
— И обязательно в населенном доме, — сказала Капустина.
— Что за работница? — спросил Сотников.
— Иванова, фрезеровщица.
— Да вы ее, Александр Васильич, знаете, — сказал Прохоров. — Она на заводе давно. Помнится, вы как-то к нам домой заходили и она пришла. Еще в землянке, помните?
Он спохватился, что как бы напоминает Сотникову, что прежде между ними существовали более простые и дружеские отношения, и замолчал. А Сотников сощурился, вспоминая, и вспомнил: как он сидел у Прохоровых, и на ступеньках показались аккуратно ступающие ноги, и какая-то женщина вошла и села в уголку, и он при ней сказал те слова, которые были ему вменены в преступление.
Потом он вспомнил, как, вернувшись из лагеря, обходил завод и в одном цехе женщина смотрела на него очень уж пронзительно, она показалась ему тогда знакомой. Это, должно быть, и есть та самая фрезеровщица Иванова.
— Почему же, — спросил Сотников, — ей нужно в первую очередь и обязательно в большом доме?
— Потому что у нее отсталый элемент молится, — объяснила Капустина.
— А вы что же, товарищ секретарь парткома, — удивился Сотников, хотите им удобства создать? Чтоб в новом доме молились?
— В новом доме они не будут, — сказала Капустина. — Ни в коем случае. Шутите — кругом люди, а им церковное петь. Постесняются. Слышимость в новых домах — сами знаете. Это они к ней бегают, поскольку шито-крыто.
— Точно, — сказал Прохоров. — Им при слышимости неинтересно.
— Может, и интересно, — сказала Капустина, — да неловко перед общественностью.
— Как работает она? — спросил Сотников.
— Да работает старательно, — сказала Капустина — Вот ведь какая проблема.
— Да, проблема, — вздохнул Сотников. — Много у нас проблем… Посидеть бы как-нибудь, поговорить обо всем по душам, откровенно…
Он чувствовал стыд, что незаслуженно сторонился Прохорова, и этими словами как бы просил старика забыть об этом и вернуться к прежним отношениям.
— А я вас, Александр Васильич, давно для разговора жду, — не сдержался Прохоров. — Сказали — постараетесь зайти, и нет вас и нет, а материалу поговорить накопилось — ой-ой!
— Я приду, Дмитрий Иваныч, — ответил Сотников, выслушав виновато. Приду…
Леня уезжал в летное училище. На станции его провожали заводские ребята, родители и три сестры Капустины.
— И пожить не успели вместе, — говорила Мария мужу. — И привыкнуть он не успел ко мне.
— Он давно летать хотел, — сказал Плещеев. — Пусть летает.
Поезд тронулся. Еще раз Леня прощался со всеми из вагонного окна. Плещеев шагнул к вагону, протянул наугад руку — Леня взял ее, сжал… Мария подхватила мужа.
— До свиданья, отец! — сказал Леня.
— Летать тебе счастливо, сынок! — сказал Плещеев.
Поезд набирал скорость. Молодежь расходилась. Плещеевы остались одни на платформе.
Из станционного буфета вышли Макухин и Ахрамович. Макухин засовывал в карман поллитровку.
— Святое семейство, — сказал он, заметив Плещеевых и остановившись. Провожали гармониста в институт.
— Пойдем, — сказал Ахрамович. Он даже испугался.
— Ничего подобного, — сказал Макухин. — Самое время спрыснуть проводы. Пойдем пригласим — по случаю, в честь и так далее. — И свистнул: — Эй!..
И вдруг робкий, спокойный гигант Ахрамович взъярился.
— Ты!.. — сказал он, хватая Макухина за шиворот. — Оставь его, гад, слышишь, оставь его, оставь его, а то я тебя башкой об рельсы — пыль пойдет!..
И зашагал прочь, почти неся Макухина, как котенка.
Мария обернулась, увидела их и вздрогнула.
— Ты что? — спросил Плещеев.
— Старых дружков твоих увидела.
— Не бойся, — сказал он. — Ничего теперь не бойся.
Некоторое время они шли молча.
— Я перед тобой так много виновата, — сказала Мария, — так много.
— Нет, Маруся, — сказал Плещеев. — Это я виноват. Я просто дождаться не мог, когда ты вернешься, чтоб сказать тебе, что это моя во всем вина. Во всем… Просто боялся умереть, не сказав.
Опять шли молча, а потом Мария сказала:
— И как ее, жизнь, прожить, как сорганизовать, чтоб шла она по ровной дорожке от начала до конца, нигде не споткнувшись?..
Мошкин ушел на пенсию и жил в деревне, в небольшом доме. На крыше торчала антенна, у калитки висел почтовый ящик, а Мошкин во дворе возился с цветами, полол и поливал, как заправский пенсионер. Но при этом мрачное и боевое выражение его лица как бы говорило: «Я делал что мог, я поступал единственно правильно, вы меня не оценили — ну что ж, нате вам, я поливаю цветы, вам же хуже!»
К калитке подъехал на велосипеде пожилой мужчина — тот, что когда-то дал Шалагину лес для стройки.
— Доброе утро, Пантелеймон Петрович.
— Что скажешь, председатель? — спросил Мошкин, игнорируя приветствие.
— Прямо сказать, опять с просьбой к вам.
— Доклад вам сделать? О чем?
— Да нет, не доклад на этот раз, — деликатно ответил председатель. Понимаете, какое дело, вы, конечно, человек в годах, и на персональной пенсии, и безусловно имеете право на покой, но мы сейчас все решительно силы мобилизуем на уборку, если б вы были так добры…
— Ну а как же! — сказал Мошкин. — Приду и помогу, не беспокойся. Где мобилизация, там Мошкин всегда, будь уверен. По первому сигналу в битву! Какой может быть покой! Силенка еще есть, вот попробуй. — Он дал председателю пощупать бицепс. Председатель пощупал и пощелкал языком.
— Так на второй бригаде сбор, пожалуйста, — сказал он, уезжая. Мошкин опрокинул лейку и ушел в дом.
Он шел среди полей и увидел Фросю. С чемоданом на плече она шла ему навстречу по пыльной дороге. Оба остановились.
— Здравствуйте, Пантелеймон Петрович, — сказала Фрося вежливо.
— Ты откуда здесь? — спросил Мошкин.
— В совхоз наниматься приехала, — сказала Фрося и вздохнула. — Ушла я с завода-то.
— Что так?
— Да что, Пантелеймон Петрович, — сказала Фрося. — Сами знаете, жила я на краю поселка, на свежем воздухе. Лес в двух шагах. А меня выселили в новый дом, в самом центре. Сажа, копоть. Мне здоровье не позволяет. А вы как живете?
— Вот, — сказал Мошкин, — урожай убирать иду.
— Зачем вам урожай убирать, — изумилась Фрося, — такому человеку выдающемуся…
— Надо убирать! — сказал Мошкин. — С людьми быть надо! Знать, чем они дышат! Все течения жизни улавливать! Призовут меня снова к деятельности чтоб был я готов!
— Ясно, — протяжно сказала Фрося.
— Это ты, понимаешь, на религию всю жизнь просадила, противно смотреть…
— Ну что ж, — сказала Фрося. — И я у господа как бы в запасе. Так я себя понимаю. Придет мой час — и позовет меня господь во славу его на сподвижничество. Прощайте, Пантелеймон Петрович.
Поклонилась и пошла. Облачко пыли тянулось вслед за ней по дороге.
Утром взмывает в небо могучий гудок. Долго плывет над широкой рекой и медленно смолкает, словно спускаясь на землю…
Он смолк, и новый стал слышен звук, идущий с высоты. Шалагин в это время подходил к проходной, пропуская вперед Плещеева. Нахмурившись, Шалагин приостановился невольно, глянул вверх. И Плещеев поднял голову, черные очки его сверкнули на солнце.
В небе быстро вытягивались три белые полосы, венчанные блестящими черточками реактивных самолетов.
Шалагин улыбнулся и вошел в проходную в бесконечном потоке других людей…
1964
СЕСТРЫ (Рассказ)
Посвящается И. С-ой
1
Актриса получила отпуск на месяц, а путевка в санаторий была на двадцать четыре дня, и актриса решила съездить на отцовскую могилу, в места, откуда она уехала десять лет назад. Ее мучило, что она не была на его похоронах, она — его старшая и которую он любил. Когда он умер, она была за границей, ей туда не сообщили, а когда вернулась и увидела эту телеграмму, было уже поздно…
На аэродром актрису провожало несколько человек, мужчины и женщины, все молодые, красивые и нежно заботливые. Они ничего не дали ей нести, даже ее маленькой сумочкой кто-то завладел. И она играла роль, которая им приятна, роль девочки-несмышленыша, опекаемой взрослыми. Слабенький ребенок с задумчивыми глазами. А взрослые наперебой объясняют ребенку, куда идти, кому предъявить билет и вообще как жить.
Она играла эту пустяковую роль до самого расставания, и только в самолете ее лицо приняло свое естественное выражение, стало умным, сосредоточенным, с зорким взглядом небольших, очень светлых, алмазно-светлых глаз.
Это лицо тишайшей, сокровенной русской прелести пассажиры самолета знали, они его видели и в кино, и дома по телевизору, но в жизни не узнали его. Одна стюардесса узнала как будто: вскоре после того как полетели, она подошла и потихоньку сказала — добрый день, как мы себя чувствуем, — и при этом улыбнулась особенно, родственно и заговорщицки… Мало кто узнавал это лицо, на экране оно было юнее, ярче, эффектней, и прическа другая, в жизни актриса просто зачесывала назад свои негустые, соломенного цвета волосы и собирала в узел на затылке. И роста была маленького, и одевалась неприметно — в английские костюмчики, и губ не красила. Надо было очень внимательно всмотреться в легкие линии этого профиля, хрупких скул и бледного детского ротика, чтобы выплыл лик, просиявший на экранах всего мира.
Никто и не всматривался, слава богу. Актриса вольно откинулась в кресле и на всякий случай, как бы дремля, прикрыла глаза рукой. Узкая сильная рука, большая не по росту, была украшена золотыми часами на золотом браслете. Актриса купила их из первого крупного гонорара, она мечтала об этой игрушке с самого-самого своего босоногого детства.
Так полулежала она, и сперва ее не покидали обычные будоражащие мысли: неужели и в предстоящем сезоне ничего не выйдет с постановкой «Униженных и оскорбленных», похоже, что не выйдет, — если б кто знал, как хочет она, как нужно ей сыграть Наташу, — не угнетенную добродетель сыграю я, нет, — яростную битву страсти, гордыни, самоотвержения в женском сердце, все бабы в зале будут у меня ревмя реветь, а мужики кашлянуть не посмеют от благоговения, от смирения перед женской силой!
Если он опять увильнет от «Униженных», уйду в другой театр, подумала она. Что ему искусство, он трясется, как бы успех спектакля не приписали кому-нибудь, кроме него, — ну и оставайся со своей дурацкой амбицией, мне с тобой делать нечего. Он — это был главный режиссер, борьба с которым стоила ей изнуряющего, выматывающего напряжения, мелкий честолюбец, завистник. Принятое решение немного утихомирило ее нервы, она заснула в глубоком кресле, скрестив ноги в простеньких туфлях без каблуков, рукой прикрыв глаза.
Проснувшись, взглянула в окошечко и увидела под крылом самолета молочно-белый океан с застывшими волнами, облачный покров Земли. Так безмятежно было по эту сторону покрова, пустынно-солнечно, отрешенно. Все мучительное — далеко внизу, а здесь покой, пятьдесят градусов ниже нуля, и если смотреть на эти застывшие мелкие волны, то самолет вроде бы и не движется.
2
Самолет описал дугу, соединяющую Москву с Симферополем, и, пробив облачный покров, опустил актрису на землю. И вот она ехала в старом такси через рыжую, серую, спаленную степь.
Десять лет назад она проехала здесь в обратную сторону. То был день ее рождения, ей исполнилось восемнадцать. У них в семье таких нежностей не водилось, чтобы праздновать дни рождения, никто о них и не поминал. С вечера она собралась: вымыла голову дождевой водой и уложила в тяжелый чемодан свои вещи, бедные одежки деревенской Золушки да несколько учебников, кое-что повторить. Восемнадцать ей исполнилось, когда она ехала на райторговском грузовике в раскаленный июльский день и думала наконец-то, вырвалась все-таки, теперь только бы не провалиться на экзаменах. Но она знала, что не провалится.
Некоторые ее осуждали: замахнулась чересчур широко, больше всех ей надо. Другие девочки подали заявления — кто в учительский, кто в технические вузы, какие поближе, некоторые даже в техникумы. Она же ехала поступать в Московский университет. Хотя знала нисколько не больше, чем ее подружки: то, чему учили в десятилетке, да то, чему научает жизнь в поселке, удаленном от больших городов, много пострадавшем в войну, заселенном пришлыми людьми. И они с отцом были пришлые и, как все, трудно приживались к непривычным условиям, к этим голым предгорным местам, где нужно было заново сажать сады, виноградники, каждый куст.
И ничего-то они не посадили, она и ее отец. Так же, когда она уезжала, стоял их дом посреди пустого двора. Трава хотела расти во дворе, но коза ее съедала тотчас же, едва она показывалась. Мачехины дети играли на объеденной, пересохшей, истрескавшейся земле. Они были грязные, вечно дрались и ревели, тоска была на них глядеть. Актриса безропотно выносила за ними, обстирывала их, собирала дождевую воду им на купанье, а глядеть не глядела, отворачивалась.
Тогда она еще не имела понятия, что есть у нее этот странный дар изображать разных женщин с разными их чувствами. Любила книги и думала окончу филологический, буду преподавать литературу, стоять на кафедре и читать лекции строгим голосом, она видела такое в кинохронике.
От тех планов осталась приверженность к английским костюмам и гладкой прическе, так она когда-то воображала себе ученую женщину.
В то утро, десять лет назад, они с отцом вышли на дорогу, где велел им дожидаться шофер. Мачеха, конечно, не пошла. Она и радовалась, что падчерицы не будет в доме, и сердилась, что теперь самой придется стирать и убирать за детьми. А дети побежали было за старшей сестрой, но отец не велел им: он знал, что ей тоска с ними. Он тяготился тем, что она несчастлива в семье. Это портило ему настроение каждый день, но он ничем не мог ей помочь, как и она ему. И он тоже радовался, что она уезжает, что о ней теперь будут заботиться другие люди, которые лучше устроят ее жизнь, чем он устроил.
В то утро он был трезвый — накануне не пил — и весь какой-то окончательно стихший.
Они спустились на шоссе. Актриса поставила чемодан, стояли и ждали молча, терпеливо. Без сожаления смотрела она на низкие каменные домики и голые дворы, раскиданные по рыжему склону между тропинками; на тесно составленные невысокие горы… Раннее утро уже налито было жаром, пахло асфальтом, воздух не дышал. У отца по коричневым морщинам заструился пот, актриса вынула из рукава скомканный платочек и вытерла ему лицо.
— Скажи, пожалуйста, — сказал он, глядя на нее, — и в кого ты такая?
Рукава на том платье были длинные — единственное ее платье, в котором можно было показаться людям, она его надела в Москву — платье из гладкого синего штапельного полотна, и она его вышила у ворота крестиками, чтоб было нарядней.
Зашуршав по асфальту, остановился грузовик. С шофером в кабине уже сидел кто-то. Актриса вскарабкалась в кузов, отец подал ей чемодан. Грузовик покатил. Она не сразу оглянулась, потому что прилаживала чемодан между райторговскими ящиками, а когда приладила и посмотрела назад, отец уже шел по тропинке вверх, к дому, тяжело взмахивая своей искусственной ногой.
3
В Москве она, как жаждущий к воде, припала ко всему, что Москва могла ей дать. В сумерки — дождь ли, мороз, гололедица ли — бежит, бывало, торопится на диспут в Политехнический, на литературный вечер, в Третьяковку, в Колонный зал. Из стипендии можно было выкроить на румынки, можно на билеты в консерваторию и театр. Другие покупали румынки, она билеты. Засыпая, предвкушала — что предстоит завтра увидеть, услышать. И в самодеятельность записалась, испытать: а что такое сцена?
Сначала было просто весело, вроде игры: попробовала — получилось, все довольны, она больше всех. Толик, постановщик, выводит за руку, в зале хлопают — немножко чудно, немножко смущаешься, лестно, легко. Взяла и сыграла, почему бы и нет, не боги обжигают горшки, очень рада, что вам понравилось.
Но вот в первый раз сказано: талант. Это как внезапный свет в глаза.
И какое-то вокруг начинается кружение. Какой-то хоровод. Вдруг она себя почувствовала завербованной. Оказалось, все не на жизнь, а на смерть серьезно, какие там игры. Дала обязательства — выполняй. Так ставили вопрос люди, взявшие ее в это кольцо. Слушайте, что вы, я буду преподавательницей, я так загадала. Нет, говорят они. Нет. Ты актриса. Новая, незагаданная судьба разверзалась под ногами как бездна.
Толик сказал:
— Делаем «Бесприданницу», сыграешь Ларису, ты знаешь какая будешь Лариса!
Она взглянула в зеркало, увидала себя Ларисой, восхитилась, ужаснулась.
Ее вызвали в киностудию, и после недолгой пробы с нею говорил недосягаемо знаменитый, недосягаемо авторитетный товарищ. И другие присутствовали при этом авторитетные, важные, годящиеся ей в деды.
Она подписала договор, рука не дрогнула. Ну и что, пришло ей в голову, ведь что-нибудь в этом роде непременно должно было произойти, я всегда знала, только не знала — что именно. Седые деды с любопытством взглянули, как девчонка в чиненых-перечиненых туфлишках подписывает договор на новую, жуткую свою судьбу.
Из Мосфильма пошла пешком, чтобы в одиночестве пережить этот час сполна, дотла. После большого снегопада грянула оттепель, все потекло. Шаркали метлы, гоня воду с тротуаров, вечерело, спешили люди. Мокрыми ногами актриса медленно шла по громадам улиц и моста. Наедине с собой не нужно было принимать спокойный вид, задыхалась сколько хотела.
Хорошо, когда хорошо, думала она, когда получается и они хлопают. А как не получится почему-нибудь и начнут зевать — срам какой, срамотище, господи, тогда что же, тогда топиться только, и больше ничего!
Этим фильмом разве кончится, думала она, разве они отступятся, вот уже этот сказал — надо переходить в театральный институт. Но это же сумасшествие, изломать весь свой план, такой красивый и солидный, и ринуться неизвестно куда, где тебе, может быть, совсем не место. Где будешь ты ни то ни се. Жалкой будешь. Ничтожной, вот.
Как будто они не могут ошибаться, авторитетные. Им кажется — талант, а вдруг не талант?
Но сладкий ком подступал к горлу, и слова запели в ушах как музыка:
Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне.А вокруг моста пространство было распахнутое, и небо над ним тоже большое, бледно-зеленое, с длинными полосами. В широких пространствах перемигивались светофоры.
…иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью…Огни светофоров растеклись в ее слезах, хлынувших вдруг.
Бесприданницу она тогда не играла. Сыграла уже в профессиональном театре, профессиональной актрисой.
4
Теперь ехала на отцовскую могилу.
В такси еще двое было пассажиров, пожилая женщина с очень загорелым лицом, в платочке в крапушку — виноградарь или животновод, определила актриса, и гражданин с портфелем, как видно, из местных работников, он сидел рядом с шофером, и они всю дорогу разговаривали о том, правильно или неправильно московская газета критиковала каких-то областных начальников. Женщина в платочке прислушивалась со вниманием и раза два вставила слово, а актриса не знала этого ничего и думала о своем, глядя в окошечко.
Дорогу за эти годы проложили новую. Выпрямили, и шире она стала.
Машин стало больше…
Когда-то я думала: вернусь уже не одна — с мужем и с ребенком. Приедем проведать папу и скажем: «Папа, голубчик, тебе ведь здесь плохо. Поедем с нами!»
А еду одна, и папы нет.
Вон сколько стало машин…
Разрослись виноградники…
Как получилось, что я еду одна?
И она вникала в причины, по каким у нее до сих пор нет ни мужа, ни ребенка и нет даже особенного желания их иметь. И так протекла долгая дорога — дольше, чем по воздуху от Москвы до Симферополя.
Уже близко.
Совсем близко.
Проехали мимо здания школы.
Завтра же зайду, подумала актриса, повидаюсь с Елизаветой Андреевной. Если ты еще жива, моя старушка.
Из окошечка такси, издали, поселок — кусочки рафинада, рассыпанные на горном склоне.
Подъезжаешь — куда-то девается сахарная белизна домиков, поселок растягивается и становится некрасивым.
На шоссе выбежали: почта, магазин и аптека, расстояние между ними, должно быть, по полкилометра.
Базар: два длинных стола под навесом, два-три ларька, горсточка людей что-то продает и покупает. Вокруг базара — серо-желтая пустыня, по ней тропки во все стороны. Боже мой, как десять лет назад.
Боже мой, боже мой, а вон в гору та тропка, по которой он подымался, проводив меня.
Те же извивы у тропки.
Так и вижу, как он шагает, взмахивая ногой.
Зачем я приехала, подумала актриса.
Вдруг охватила ее тоска, что сию минуту она высадится на этом асфальте и пойдет.
Его там нет, зачем я туда? Когда был он — не приезжала, а сейчас, здравствуйте, приехала. Что они мне, что я им?..
Вон наш дом. Почему наш? Нас нет там. Их дом. Мачехин.
Сколько раз она плакала, когда он женился.
Жили себе, вдруг является какая-то женщина. Большая, вся широкая, спереди и сзади, брови широкие черные. Повесила жакетку на гвоздь и стала приказывать и рожать детей.
Как-то сразу установились в доме нечистота, чад, ругань, и отец больше стал пить.
Что ни вечер приходил выпивши, а мачеха на него кричала. Однажды она его ударила рубелем для катанья белья. Но тут не своим голосом закричала актриса, и мачеха бросила рубель. Так что когда на детский вопль прибежали соседки, уже было тихо, и мачеха им сказала:
— А вам тут чего, вас кто сюда просил?
И ушли с отцом в свою комнату как ни в чем не бывало. А актриса легла, руки и ноги у нее стали как лед, ей показалось, что она умирает…
Кормя ребенка, мачеха с открытой грудью ходила по двору, выходила на улицу, шла в магазин. Она это делала словно кому-то назло. И на язык была бесстыдна: ей нипочем было произнести страшные, гнусные слова, от которых свет делается не мил. А о курортницах в их красивых купальных костюмах она говорила:
— Такие-сякие, бессовестные, и не постесняются.
Неряха: грязным фартуком вытирает и руки свои, и стол, и ребенку лицо. От нее пахнет луком, салом, потом. И она ненавидит тех приезжих, нарядных, в ярких платьях.
Всех женщин ненавидит, ни одну при ней похвалить нельзя — начнет ругаться и говорить о той женщине мерзости. В злобе своей даже не хочет быть похожей на них: не приоденется, не причешется, гребешок висит сзади, уцепясь за волосы двумя зубьями.
— Да, вот такая, ага, что! — кричит отцу. — А ты только на меня обязан смотреть, на других не смеешь!
Растрепанная, тяжелая, сидит, бывало, на камне в их пустом дворе, у темных больших ее ног ползают детишки, похожие на цыганят, и она на них смотрит без ласки, без интереса. Лузгает семечки и смотрит каменными глазами. Будто не ее дети. Будто и своим кровным она не мать, а мачеха.
И актриса перестала плакать.
Выросла, поумнела и подумала: а ну вас. Еще умирать из-за этого. И не подумаю.
Работая по дому как батрачка, старалась учиться получше да читать побольше. Знакомая библиотекарша давала книги и журналы из санаторской библиотеки. Радио было в доме, репродуктор.
5
Еще бедней и грязней показался отчий дом после разлуки. Галя, сестра, жарила оладьи, чад стоял до потолка, и открытые окошки не помогали. Мачеха завела оладьи и купила пол-литра, потому что была довольна подарками, которые привезла актриса, мачеха не ожидала подарков, да еще таких роскошных, при жизни отца падчерица присылала только деньги. Теперь же на кровати были разложены отрезы шерсти и шелка, заграничные кофты, и богатая скатерть, и свитер для Витьки, и разные красивые мелочи, каких никогда не бывало в доме. Мачеха предвкушала, как будут приходить соседки и рассматривать, и хвалить, и завидовать, а она им будет говорить небрежно:
— Вот, я ее призрела, не побоялась пойти за вдовца с девчонкой, еще и инвалида, теперь она мое доброе вспомнила.
Актриса могла бы сыграть эту сцену во всех подробностях, до малейшей интонации.
В числе мелочей она привезла сережки с искусственными рубинами. Они предназначались для Гали. Но оказалось, что у той не проколоты уши, и надела сережки мачеха. Что-то с ней произошло, когда по сторонам ее лица, коричневого от загара, загорелись два маленьких красных огонька; какая-то перемена — и она ее почувствовала: с тревожно разбежавшимися в стороны глазами, со странной усмешкой на плоских губах подошла к зеркальцу и всмотрелась и, вынув из волос висевший на двух зубьях гребень, причесалась аккуратней.
Вот тогда она и решила угостить гостью и сходила в магазин. Они сели за стол втроем. Витька был в пионерском лагере, актрисе показали фотографию угрюмого лопоухого мальчика, она посмотрела и не ощутила сестринских чувств.
— Помянем покойника, — сказала мачеха, наливая водку. — Какой ни был, а все жалко.
Актриса глотнула из мутного стакана. Галя, сурово наблюдавшая за ней, тоже еле пригубила. Одна мачеха выпила свою порцию до конца, спокойно, как воду пьют. Спросила:
— Вы на сколько же приехали?
Актриса думала, что едет на четыре, пять дней, но теперь сказала:
— До завтра. У меня путевка в санаторий.
Суровые черные Галины глаза исподлобья оглядели ее от лица до рук, двигавшихся над тарелкой.
— Чем же вы больны? — спросила мачеха, с чмоканьем обсасывая селедочный хвост.
Не умея рассказать им о своей нервной усталости, актриса солгала:
— Легкие не в порядке.
— Да, это надо лечиться, — равнодушно согласилась мачеха. — У нас тут от легких помер один в запрошлом году. Пенсионер из Москвы. Рак легких признали.
Она не расспрашивала падчерицу о ее теперешней жизни. Возможно, эта жизнь до того ей далека и чужда, что и узнавать о ней нет интереса. А скорей всего, она сама уже составила об этой жизни полное понятие и осудила ее бесповоротно, и не о чем тут языком трепать.
— Расскажите мне, как умер папа.
— В больнице умер, мы не видали как, — ответила мачеха. — В субботу лег, во вторник ему операция была, а в четверг поехала, говорят — вчера вечером не стало. Запустил, говорят, язву-то. Не запусти, еще бы пожил.
Она отрыгнула.
Галя посмотрела на сестру, на мать и опять на сестру — какая-то мысль прошла, как облако, в черных блестящих глазах, смуглое лицо порозовело, что-то шевельнулось у губ, тоже крупных и плоских, но прелестных нежной свежестью. Она потупилась — стыдится за мать, за ее равнодушие, подумала актриса и сказала ей:
— Сходим с тобой вместе на кладбище?
Стали собираться на кладбище, но пришла Елизавета Андреевна. У нас тут всегда молниеносно разносились новости. Вот уже и Елизавету Андреевну известили, что я приехала.
— Здравствуйте, Елизавета Андреевна!
— Здравствуй, здравствуй, покажись. Что это ты не очень здоровой выглядишь.
— Легкие не в порядке.
— Ну да, жизнь нездоровая, вот и легкие не в порядке.
И эта осудила?
— Ложитесь вы там бог знает когда, встаете поздно, режима нет.
— Какое поздно, Елизавета Андреевна, у нас репетиции начинаются ровно в одиннадцать, минута в минуту, поздно не встанешь…
— Что ж это, по-твоему, рано — в одиннадцать? Это уже не утро — день. В старину в двенадцать люди обедали.
Прежде тоже у нее был этот тон: мол, никто из вас не знает, что к чему, я одна знаю, слушайте меня. И старину любила упоминать для назидания и образца, хотя знала ее только по книгам и сама никогда в двенадцать не обедала, а прожила среди всяческой ломки и перемен многотрудную жизнь сельской учительницы. Как я ее слушалась, подумала актриса, каждое слово ее запоминала, как дорожила ее похвалой… Грустно было смотреть на эту худую шею, длинно торчащую из кружевного воротничка.
— В старину люди с петухами вставали, с петухами ложились, потому и были богатырями.
Актриса приняла вид несмышленыша, кругом зависимого от взрослых.
— Вы правы, Елизавета Андреевна.
— Ну да, права.
— Я иногда думаю: как мы действительно неправильно живем.
Елизавета Андреевна подобрела.
— Ну, ваш брат артист статья особая, что правда, то правда. Такие уж у вас производственные условия. В общем-то ты молодец, что сумела достигнуть своей цели. Имела цель и добилась. Каждый человек обязан иметь цель и добиваться, какие б ни были трудности.
— Елизавета Андреевна, — сказала актриса как могла почтительней и мягче, — я к вам собиралась. Так хотелось повидаться. Я так рада, что вам тоже захотелось и вы пришли.
Она достала из чемодана подарки. Елизавета Андреевна была тронута, но сказала:
— А все-таки первая твоя цель была более высокая. Быть артисткой далеко не то, что преподавать литературу. Согласись.
И не выдержала, спросила:
— Ты замужем?
Потом стала говорить о Гале.
— У нее нет жизненной цели, меня это очень беспокоит. И, не имея цели, хочет ехать поступать в институт. И сама не знает в какой.
— А что, здесь сидеть? — спросила Галя. Голос у нее был низкий, глуховатый.
— Смотря зачем здесь сидеть. Посмотри на Соню.
— Чего мне смотреть на Соню.
— На кого же смотреть, если не на Соню? Соня поступила патриотично: окончила школу и осталась в колхозе. Соня поступила как советский человек.
— А кто в институт поступает — не советский?
— Ты мне скажи, в какой институт ты хочешь? Какая у тебя цель? А раз нет цели, работай в колхозе.
— Что ж, значит, в колхозе тем работать, у кого цели нет?.. Соня эту работу любит, а я не люблю.
— Работу надо любить всякую. Нехорошо так говорить. Получается, что ты колхоз не любишь.
— Что ж мне — говорить, что люблю, когда не люблю?
Они толкли эту воду в ступе упрямо, ни одна не хотела первой выйти из нелепого спора.
— Зато Соня — знатный человек.
— А я не хочу быть знатной.
— А чего ты хочешь?
— Я не знаю.
— Тогда слушай, что я говорю. Вот и мать не хочет, чтоб ты уезжала.
Мачеха вдруг зашевелилась.
— Да я почем знаю, — сказала она. — Хочет — пускай едет, мне что. Красные огоньки тревожно задрожали возле ее щек.
Елизавета Андреевна поднялась с достоинством.
— Ну хорошо, — сказала она, — в конце концов впереди еще целый учебный год. Мы еще об этом поговорим.
Актриса вышла проводить ее.
— Не знаю, что с ними делать, — говорила Елизавета Андреевна, идя через двор. — Району нужны рабочие руки, и они разбегаются. Ты должна на нее повлиять, как старшая сестра.
— Я помню, — сказала актриса, — как вы горячо меня поддерживали, когда я решила ехать в Москву.
— Ну да. Ты очень была способная. И потом в те годы экономика района…
— А Галя неспособная?
— Менее способная. У нее по математике тройки.
— Как узнать заранее, Елизавета Андреевна, кто на что способен. По математике тройки, а вдруг там что-то такое вызревает… А вообще девчатам в здешних местах приходилось трудно, не знаю, как сейчас.
Елизавета Андреевна озабоченно нахмурилась:
— Да и сейчас. Кто не хочет работать в колхозе, тем у нас плохо. Санатории на зиму сокращают штат. Пансионат то же самое. В магазинах, на почте — какие у нас учреждения? — все укомплектовано, люди держатся за свою работу руками и ногами… Ходят девчонки со средним образованием неприкаянные, злые. А мы их каждый год выпускаем еще, еще…
Их догоняла Галя. Они простились.
— Ты же в школу зайдешь, посмотришь, какие у нас перемены? Мы физкультурный зал оборудовали!
— Непременно зайду, Елизавета Андреевна.
6
Те, кто после войны заселил этот край, устроили кладбище для своих мертвых высоко на склоне, обращенном к западу. Солнце, сойдя с зенита, до вечера светило на пирамидки и кресты, торжественно вознесенные над поселениями живых.
Пирамидок и крестов было не много. Мало кто здесь умер за двадцать лет. Люди переселялись сюда в большинстве здоровые, нестарые, и климат их встретил благодатный.
Давно не было дождя, трава на горе сгорела, могильные холмики были изрезаны трещинами.
Актриса упала на землю, охватила холмик руками, прильнула к нему головой. Ей казалось, что у нее разорвется сердце, и в то же время ощутила облегчение, успокоение, будто эта могила долго ждала, пока она придет, и вот дождалась.
Она лежала, без слов прося у могилы прощения, а солнце, спускаясь к закату, палило ей щеку, а земля под ней была вся горячая.
Поцеловала эту землю, поднялась, стряхнула с себя пыль и былинки. Галя стояла поодаль, покусывая сорванный стебелек. Помолчали, потом актриса сказала:
— Надо будет покрасить пирамидку.
— От солнца облупилось, — сказала Галя. — Пройдут дожди, я опять покрашу.
— Жаль, что цветы нельзя посадить.
— Весной тюльпаны цветут, — сказала Галя, — по всей горе.
— Да! — сказала актриса. — Красные! Я помню!
Она медленно пошла по тропинке, Галя рядом.
— Он был добрей и чище всех людей на свете, — сказала актриса. Очень он мучился?
— Да нет, не очень. Только выпьет когда.
— Зачем же ему давали!
— Мама не давала. Он потихоньку пил. У соседей трешку займет и пьет.
— За это нельзя судить сурово, — сказала актриса. — Это болезнь, от нее лечат, и не все вылечиваются.
— Очень плакал, как на операцию ложился.
— Боже мой!
— Ничего, говорит, я в жизни не сделал, ничего и никому.
— Ах, неправда! Он воевал, потерял ногу…
— Ничего, говорит, не дал, кроме ноги. Смеется, а у самого слезы текут.
— Боже мой! — повторила актриса и сама облилась слезами. Остановилась и плакала долго, сморкаясь.
Опять пошли. Покрасневшими глазами она смотрела на темно-синее море, такое большое с высоты, на горы, похожие цветом на львиную шкуру, на разбросанные внизу селения, виноградники, белые здания санаториев в темных садах.
— Как я виновата! Каждый год собиралась приехать повидаться прособиралась…
— А чего вам было приезжать, — сказала Галя, — ну приехали бы, ну напился бы он при вас, какая вам радость? Правильно сделали, что не приезжали.
— Что ты. Ну, пусть напился бы. Нет, я должна, обязана была приехать! И говори мне «ты», пожалуйста, слышишь?
— Хорошо, — сказала Галя, идя рядом, покусывая стебелек.
Какая она прямолинейная, подумала актриса.
Какая она — вдруг увидела актриса — красивая.
Галя была гораздо выше и крупнее старшей сестры: сильные плечи, длинные ноги. Тяжеловатыми чертами напоминала свою мать, но обольстителен, если всмотреться, был румянец сквозь темно-золотую кожу, и овал лица, правильный как яйцо, и стройная круглая шея, и длинные голые темно-золотые руки. Это был тот загар, который дается не курортной путевкой, а постоянной, без отлучек, жизнью под здешним солнцем; та сила, что не достигается гимнастикой, а получена от рождения. Черные ее глаза думали, дышали, поглощали.
Сестра моя, подумала актриса.
Вместо куцего вылинявшего платьишка, в котором она была дома, Галя надела менее куцее и менее вылинявшее — наверно, ее лучшее, принарядилась по случаю моего приезда. Сестра, милая, я тебе пришлю кучу тряпок, половину того, что у меня есть, пришлю тебе!
— Ну, теперь рассказывай про себя, Галочка.
— Что про себя?
— Как ты живешь.
Галя повела плечом:
— Не знаю. Живу…
— Ты действительно не надумала, что после школы?
— Лучше вы расскажите, — сказала Галя.
— Опять «вы».
— Ой, да я не могу, — сказала Галя и засмеялась. Сверкнула белая полоска зубов.
— Что за ерунда.
— Ну хорошо, ты. Расскажи что-нибудь.
— Что же рассказать тебе? Хочешь, расскажу, где я побывала. Я во многих странах побывала. Даже не верится, что была, например, в Индии и на слоне ездила.
— Про это теперь много пишут, — сказала Галя, — во всех журналах. Все описывают, где кто побывал. Вы и в театре играете или только в кино?
— Главным образом в театре. Театр — мое постоянное место, моя служба. В кино я снимаюсь от случая к случаю.
— Интересно, — тихонько сказала Галя, — как это играют? Как это, я не понимаю, изображают то героиню, а то какую-то такую мразь, что ее, наверно, и играть противно… а то королеву — вот я видела в Феодосии «Марию Стюарт»…
— Ты хочешь сказать — как возможны такие переходы из оболочки в оболочку?
— Ну да, из одной оболочки в другую, и все смотрят, волнуются, плачут даже. Это, кажется, называется, я читала: перевоплощение.
— Мне нравится, — сказала актриса, — слово «лицедейство». Очень жаль, что его заменили всякими перевоплощениями. Ничего в нем нет плохого, «лицедей» куда точнее, чем «актер». Я лицедейка в хорошем, профессиональном смысле. Меня лицедейству учили в институте пять лет. Выучили играть и героинь, и мерзавок, и умных, и дур. И королев в том числе. Но это не перевоплощение, я не знаю, что это. Как бы я себя ни ввинчивала в чужую кожу — никогда не отключаюсь от реальной обстановки, от того, что меня окружает в действительности. Вот, говорят, Михаил Чехов, был такой актер, тот играл сумасшедшего и на самом деле сошел с ума, прямо после спектакля в психиатрическую увезли. Может быть, это гениальность, не знаю. Я ни на секунду не забываю, что я на сцене. Все замечаю — и как играют товарищи, и реакцию публики, и каждую накладку… Видишь тот камень, — прервала она себя и рукой показала на соседнюю вершину, — это мой камень! Я туда отдохнуть уходила. Запрячусь за него и посижу с книжкой, почитаю спокойно. Только, по правде говоря, не часто это бывало… А кто сейчас в «Голубой бухте» в библиотеке, все Ольга Ивановна?
— Новая. Ольга Ивановна к сыну уехала. На пенсию вышла.
— Ты берешь там книги?
— Беру. Ольга Ивановна когда уезжала, велела мне давать. Этим сестрам, она сказала, книги на пользу. Нам с вами, — пояснила Галя и глянула исподлобья. — А накладка — это что?
— Это когда должна выехать фурка и не выезжает, заело, или окно повесили криво, или актер забыл реплику и несет от себя… А реакцию публики я так наблюдаю. Выберу два-три лица поближе и слежу, какое на них производит впечатление. Не обязательно самые умные лица, лучше, наоборот, попроще, они воспринимают непосредственней, а еще лучше какое-нибудь сонное, зевающее — уморился, знаешь, на работе, пришел в театр, сел в кресло и чуть не спит… И вот если перестанут зевать, кашлять, вертеться, начнут смотреть и слушать как следует, — значит, все в порядке, ты понимаешь? Понимаешь?! А если еще смеются где нужно, а тем более если плачут, — ну, тогда!.. Тут что говорить. Тут и аплодисментов не нужно Что эти хлопки по сравнению с их слезами. Тут, кажется, жизнь бы им отдала…
— А сами в то же время представляете.
— А сама в то же время представляю. Люблю, интригую, спасаю, убиваю, умираю! А как все оно слито, не могу объяснить. И вряд ли кто-нибудь может объяснить.
Она вдруг испугалась — как смотрит на нее Галя.
Что это я, будто заманиваю.
— А у вас самодеятельности нет? Никогда не участвовала?
— Участвовала. — Галя отвела глаза.
— Где?
— В школе у нас.
— И как?
— Елизавета Андреевна запретила.
— Почему?
— Она сказала — поскольку у тебя по математике тройка, ты не можешь участвовать в самодеятельности.
— А получалось у тебя? Ты что делала?
— Стихи читала.
— Хорошо читала?
— Я не знаю. Говорили — хорошо. У нас много девочек хорошо читает.
— Да, — сказала актриса, — а в общем-то, Галочка, моя профессия — не сахар. Есть ведь и другая сторона. Бывает, устанешь как собака — все равно играй. Недавно зуб у меня болел. Мученье рот открыть, мутится в глазах, а я по роли выбегаю с шаловливым смехом. Понимаешь, в пьесе написано: «выбегает с шаловливым смехом». Шалю, а десна — как орех раскаленный… Кончила сцену, убегаю за кулисы, слышу — хлопают, а я к зеркалу: не раздуло ли щеку… Так ведь это боль физическая, а душевная? Один день мне дали поплакать, когда я приехала и узнала, что папа умер. А на другой вечер играла как миленькая. Такая наша работа.
— А если б вам предложили другую, — спросила Галя, — вы бы перешли?
— И вот, — продолжала актриса, — ты видишь, я до сих пор не замужем, и нет у меня человека, чтоб любил меня по-настоящему, хотя друзей-приятелей хоть отбавляй, — почему это? Я думаю, потому, что профессия забирает без остатка всю меня. А если женщина не замужем, то чего-то очень важного не хватает в ее жизни, многие считают — самого важного…
— Я вас спросила, — сказала Галя, — если б вам другую дали работу, тоже очень интересную, вы бы бросили сцену?
— Опять «вы».
— Ты бы бросила сцену?
— Я об этом не думала, — сказала актриса.
— Ни за что бы не бросила, — сказала Галя.
Внизу под ними шли курортники. Мужчины в шортах и пестрых рубашках. Женщины, обожженные до шоколадного цвета, слишком громко говорящие и смеющиеся.
Галя смотрела на них сверху. Они все уедут, как и я, подумала актриса, разлетятся, надышавшись и накупавшись, прежде чем начнутся дожди, а она останется…
А в чем дело, она подумала, кто-то должен, не правда ли, жить в этих краях, и разве тут не рай, особенно весной, когда цветут тюльпаны, тысячи людей сюда рвутся — хоть на двадцать четыре дня, хоть на двенадцать, а некоторые строят себе тут домики и остаются навсегда.
Они зашли к Елизавете Андреевне, посмотрели физкультурный зал и классы. Потом подошли к павильончику автостанции, и актриса заказала на завтрашнее утро такси до симферопольского аэродрома.
7
Ночью в низких комнатах душно невыносимо, а комары жалят не меньше, чем под открытым небом, и потому здешние жители любят летом спать на галерейке, на террасе, а если нет ни того ни другого, то прямо во дворе, устроившись повыше, чтоб не заползла какая-нибудь ядовитая дрянь.
Галя и мачеха вынесли из дома два топчана. Галя постлала постели.
— Вы хорошо приехали, — сказала мачеха, — у нас все лето дачники жили, приедь вы раньше на два дня — ни топчана, ни подушки бы не было, пришлось бы вам на рядне в сарае с нами спать.
Ей стало смешно, что эта москвичка, знаменитость, спала бы в сарае на рядне, и она ушла смеясь.
Забытый запах кислого молока исходил от ситцевой наволочки. И все забытые ощущения этого ночлега охватили актрису, когда она разделась посреди двора и ничем не прегражденный горный ветерок дохнул ей на плечи. Она легла навзничь, покрывшись залатанной простыней. Низко над лицом переливались звезды. Млечный Путь шел через двор, как полоса белого дыма из трубы.
А кроме неба все черным-черно, как только на юге бывает ночью.
Красный огонек плыл между звездами.
Я тоже там побывала сегодня утром. Там тоже распахнуто, не огорожено, как на этом дворе.
В каком распахнутом я живу мире.
Какой странный день — как сон — пролег между высотой, где я побывала, и этим двором. Между утром и ночью.
Что ты дал мне, день?
Скорбную радость — припасть к отцовской могиле.
Туманную, неясную мне радость — почувствовать сестру в девочке, что спит тут за темнотой.
Я люблю ее?
Не могла полюбить, не успела. Но мне не все равно, что с ней будет. Я буду думать — позволяют ей читать стихи или не позволяют.
Да, еще: мне приятно было, когда мачеха надела сережки и заволновалась.
Ее я никогда не полюблю. Но подумать, что совсем бы другой она, возможно, была, и другая была бы у нее жизнь, подари ей кто-нибудь красивые сережки лет двадцать назад.
Возможно — если вовремя угадать, не пропустить, кому что нужно…
— Почему вы улыбаетесь? — спросила Галя.
Она видит в темноте?
— Почему вы улыбаетесь?
— «Вы»?
— Почему ты улыбаешься?
— Своим мыслям.
— Ты не над нами смеешься?
— Ты с ума сошла!
— Над мамой. Нет? Она тебя обижала.
— Пустяки, Галочка.
— Обижала. Мне рассказывали.
— Даже, может быть, мне это пошло на пользу. Серьезно. В «Униженных и оскорбленных» я буду играть Наташу… Ты читала «Униженные и оскорбленные»?
— Да.
— Так вот, я буду играть Наташу. Но я могла бы сыграть и Нелли, понимаешь?
— Да.
Молчание, потом тихо:
— Ты папу жалела. Ее тоже надо пожалеть. У него товарищи были… Я уеду — она совершенно одна. Витька ее терпеть не может. Он тоже уйдет. Как только вырастет немного…
— Уедешь?
— Ну да, уеду.
— Куда?
— Все равно. Куда-нибудь.
— Что там будешь делать-то?
— Что-нибудь. Все равно.
— Надо же обдумать все-таки.
— Здесь не останусь. Ни за что. Пешком уйду.
— Говоришь — она совсем одна.
— Она уже сама хочет. Вы не видели? Вы как привезли подарки, так она и захотела, чтоб я тоже ехала. За счастьем… — Тихий голос улыбнулся.
Ты моя умница, подумала актриса.
— Иди сюда, — сказала она. — Иди ко мне.
Белая рубашка мелькнула во мраке, и Галя села на край ее постели.
— Пешком, надо же, — сказала актриса, — когда не придумала, что с собой делать, когда ничегошеньки о себе не знаешь…
Она взяла Галю за руки и с нежностью, еще не испытанной, чувствовала дрожь и холод этих сильных рук.
— Ты ляг, — сказала она и подвинулась. — Ложись, обсудим с тобой.
И лежа рядом, две головы на одной подушке, они прошептались до глубокой ночи.
— Сейчас я в Молдавию, — говорила актриса, когда передвинулись созвездья и Орион встал над двором в блеске своего золотого пояса, — а потом ты приедешь. Лучше кончать школу в Москве, у меня, раз уж решила здесь не оставаться.
Да ты что, сумасшедшая, сказал ей ее рассудок, какую берешь на себя ответственность и как связываешь свою жизнь.
Молчи, сказала она своему рассудку, не твое дело, ты уж вообразил, что я живу на свете только для лицедейства!
А все же подумай, настаивал он, ты ведь, в сущности, рассудительная, трезвая, подумай, сколько придется отвлекаться, жертвовать своим временем и вниманием, как это будет тебя раздражать и изматывать, с твоей чувствительностью к малейшему раздражению, и что ты ей дашь, кем ты ей будешь, ты, не знавшая материнства?
Буду тем, что я есть, отвечала она, буду старшей сестрой. Дам ей то, что накопилось в душе моей. Мало накопилось? Буду копить дальше. С ней вдвоем будем копить. Ну, буду иногда раздражаться, все матери и старшие сестры, наверно, раздражаются, у каждой ведь есть свое заветное, не только свету в очах, что дети.
— Через месяц будешь у меня, — сказала она Гале. — Я пришлю тебе деньги на дорогу. Живи и думай о том, что через месяц будешь в Москве.
8
К девяти утра — собственно, это был уже полный великолепный день пришло такси. Актриса ждала его на том месте, где когда-то отец ее подсаживал в райторговский грузовик. Галя стояла рядом.
— Вы заказывали? — спросил шофер, высунувшись из кабины.
Он положил чемодан в багажник.
— До свиданья, — сказала актриса.
Галя посмотрела ей в лицо, вскинула руки и обняла за шею.
— До свиданья! — сказала она, и актрису пронзил ее взгляд, полный обожания и веры.
Они поцеловались. Актриса села с шофером. Поехали. Она высунулась из окошечка и смотрела назад.
Пышное облако висело в небе. Когда пойдут дожди, подумала актриса, Гали уже здесь не будет.
Да, а кто же покрасит пирамидку, нужно написать из Молдавии, чтоб кому-нибудь она поручила покрасить пирамидку.
И смотрела назад, пока было видно, на каменные домики — как кусочки сахара, раскиданные по склону, на ту тропинку, навеки врезанную в память, на высоконькую фигурку в полосатом платьице, с поднятой рукой, стоящую у дороги…
1965
КОНСПЕКТ РОМАНА
1
Роман начинается, по славной традиции, с детства героев.
Два мальчика живут в большом сером доме: Костя Прокопенко и Женя Логинов.
Дом старый, в каждой квартире много жильцов. У семьи Логиновых отдельная квартира. Женин папа научный работник, Женина мама научный работник, Женин дедушка профессор, прадедушка академик.
Дедушка-профессор живет тут же с ними, а прадедушка-академик в Москве. Они к нему ездят всей семьей на майские и октябрьские праздники. Женя ездит к нему на зимние каникулы. Опять же всей семьей ездят летом к прадедушке на дачу на какую-то Николину Гору.
От частых исчезновений, оттого, что несколько раз в году по лестнице сносят чемоданы, и хлопают дверцы такси, и Женя укатывает прочь, а по прошествии времени возвращается, и снова хлопают дверцы такси, и чемоданы вносят обратно, — от всего этого Женя кажется другим мальчикам немного таинственным, как бы помеченным особой меткой.
Возможно, это бы их сердило, будь он воображала и жадина. Но в нем ни капли ни того ни другого. Кто хочешь приходи к нему вечером, играй в его шахматы, смотри в его микроскоп, разваливайся на диване, бери с полки книжку почитать. Если засидятся, Женина мать или домработница приносят им чай с ванильными сухарями.
У Жени своя комната, так что никому они не мешают. Одно условие: в коридоре говорить шепотом и ногами не стучать, потому что дедушка-профессор работает в своем кабинете.
Даже непонятно, когда Женя умудряется делать уроки, которые задают в школе. У него, помимо школы, еще музыка, английский, коньки, баскетбол. И ребята по вечерам. Но он очень способный: вроде бы и уроков не делал, а отвечает лучше всех. Редко когда схватит двойку или тройку.
Женина мать говорила кому-то, что дело тут не только в способностях, но и в общем развитии. Если бы все, она сказала, давали своим детям такое развитие, то другая была бы картина общества.
Женя очень воспитанный. Как он вежливо здоровается — причем одинаково со всеми, с учителями и с дворниками. Что ни скажет, что ни сделает, все как-то ладно, умно, кстати. Ни Костя Прокопенко, ни другие мальчики так не умеют.
Женя красивый: высокий, светловолосый, с задумчиво-приветливым выражением светлого лица.
Ни Костя Прокопенко, ни другие мальчики красотой не блещут, вообще ничего в них нет особенного. Но им нравится, что Женя такой, как он есть. Они гордятся своим прекрасным товарищем.
2
У Кости Прокопенко отец убит в войну, дедушка умер в блокаду, а о прадедушке своем Костя никогда ничего не слыхал и никогда не думал.
Только мать у него, она работает вагоновожатой на трамвае.
Комната у них одна, и мать не любит, когда к Косте заходят ребята.
— Я вымою, — говорит, — а они придут и натопчут. Нечего им тут. На дворе играйте.
Постучится кто из ребят, Костя выходит к нему и спрашивает:
— Ну? Тебе что?
И решает дело здесь же в коридоре, а если предлагается что-либо интересное, надевает пальто, берет шапку и отправляется во двор, на улицу или к Жене Логинову.
Но кое-что Костина мать от Логиновых переняла. Костя побывал у Жени на дне рождения. Она сказала:
— А давай и твой справим. Ничем мы их не хуже.
Купила колбасы, конфет и много бутылок лимонада, испекла пироги и велела Косте позвать товарищей. Набилась их полнехонькая комната. В том числе пришел Женя в свитере и белом воротничке, вежливый, задумчивый. Мать стояла в дверях и смотрела, довольная, как они едят пироги и пьют лимонад.
Она и елку хотела сделать, но передумала.
— В школе будет, — сказала, — в Доме культуры будет, и ладно.
О Жене она говорит:
— До чего симпатичный, ну до чего приятный, так бы им и любовалась.
Еще бы. Все им любуются.
Может, и с елкой потому не стала затеваться, что узнала от Кости, что Женя под Новый год уедет в Москву.
А вообще-то мать и сын Прокопенко живут тихо.
Ничего у них не бывает сверх того, что дано большинству людей.
Если мать занята в первой смене, то на работу она идет пешком, хотя трампарк довольно-таки далеко. Хорошо летом: у нас в Ленинграде в пятом часу утра уже вовсю светит солнце. А зимой это темная ночь, до рассвета много часов. А как дождь проливной? Но не на чем матери подъехать на работу, ведь трамваи только тогда пойдут, когда она и другие вагоновожатые выведут их из парка.
Костя встает запереть за ней дверь на крюк. Другие жильцы в квартире обижаются, если такую рань дверь не заперта на крюк.
Потом он опять ложится и досыпает. Сон у него здоровый.
Аппетит тоже. Вообще он парнишка крепкий, ничего. Семь лет ему было, он дрова колол. Мать придет — он уже дров наколол и возле буржуйки сложил, чтоб она затопила сразу. То было после войны. Теперь-то у них центральное отопление исправили, не приходится ни колоть дрова, ни, главное, покупать их, и буржуйку выбросили.
То, что Жене Логинову дается играючи, Костя Прокопенко берет трудом. Подолгу делает он уроки, постелив на столе газету, чтоб не запачкать клеенку чернилами. Мать говорит:
— Кто его знает, сколько здоровье мне позволит тебя тянуть. Поучись как следует, пока есть возможность.
Но Костя не потому старается, что мать велит, а из самолюбия. Чем он, в самом деле, хуже тех, кто учится хорошо? На пятерки у него не получается, сколько он ни сиди; ну, четверки тоже хорошо!
Вот только роста он небольшого, к своему огорчению, — уж так бы ему хотелось быть высоким, как Женя Логинов! Мать считает — это потому, что в войну, в эвакуации, питание было плохое, он и не рос как следует, может, еще подрастет.
3
Этажом ниже Логиновых живет девчонка Майка.
Она совсем маленькая. Ее водят гулять, закутав поверх шубы и шапки в платок, так что видны только два карих серьезных глаза и маленький нос с двумя круглыми дырочками, как у пуговицы.
Маленькая, но страшно вредная. Например. Как-то она стояла, закутанная, на лестничной площадке, а ребята ватагой спускались от Жени и кто-то, проходя, ее задел нечаянно. Чуть-чуть задел, но она сейчас же упала и лежала молча и неподвижно, глядя в сторону серьезными глазами.
Костя шел сзади всех и видел эту сцену. Он поднял вредную девчонку и поставил на ноги.
— Стой прямо! — сказал он. — А то как дам!
Но она опять легла и сопела своей пуговицей с двумя дырочками.
— Ну лежи, если нравится, — сказал Костя и пошел вниз.
Хлопнула дверь — на площадку вышла Майкина бабушка. И сейчас же раздался рев и сквозь рев неразборчивые слова — девчонка жаловалась.
— Вот сволочь! — сказали ребята, удивившись. — Ведь не больно ей ни капельки, гадюке. Надавать бы действительно, будь постарше.
Бабушка нагнулась над пролетом и закричала:
— Хулиганье паршивое, на секунду нельзя оставить ребенка, надо лестницу от вас запирать, от поганцев!
Другой раз — это было в конце учебного года, в ветреный и солнечный майский день — ребята сидели в скверике на скамейке, возле загородки с песком, и разговаривали о своих делах. В загородку пришла Майка и стала играть песком. Она наклонялась и набирала его полный совок, а потом направляла совок так, что ветер нес песок в лицо ребятам, сидевшим на скамейке.
— Слушай, катись отсюда, — сказали они ей миролюбиво.
Она словно не слышала. Зато сейчас же звонко закричала бабушка с ближней скамьи:
— Вот новости, что вздумали — ребенка гнать, сами катитесь, позапирать бы от вас скверики, от хулиганов!
Кроме бабушки, у Майки есть отец.
После войны у него остались на лице большие шрамы. Кто говорит — это шрамы от осколков, а кто — что он в танке горел и это от ожогов такие следы. Когда он возвращается с работы и подходит к дому со своим портфелем, Майка, если она в это время гуляет, бежит ему навстречу. Он наклоняется к ней, а она протягивает руки вверх и спрашивает:
— Что ты мне принес?
4
Все трое они растут в ленинградском сером доме и понемножку вырастают.
Шестнадцати лет Костя Прокопенко пошел работать. Он поступил в таксомоторный парк мыть машины.
Работа нетрудная, и ему нравилось находиться среди машин. Но от Жени Логинова и школьных товарищей он отдалился. Ему стали казаться несущественными, детскими их разговоры и вся их жизнь. Всеобщее увлечение то фотографией, то марками, и даже микроскоп, в который рассматривали мушиное крыло и собственный волос, — это были умные, бесспорно развивающие, но все-таки игрушки.
В гараже люди были взрослые, с взрослыми тревогами, озабоченные и раздражительные.
Сегодня прорабатывали кого-то за аморальное поведение. Завтра собирали деньги семье товарища, погибшего при аварии. Послезавтра провожали на пенсию старого руководителя. Он сидел грустный, не хотел уходить на пенсию, а провожающие говорили положенные прощальные слова, а между собой рассуждали — новый помоложе и более деловой, может быть, порядка будет больше.
Костя старательно делал свое дело мойщика, присматривался к машинам и все реже вспоминал о том, чем жил когда-то.
Не то чтобы он совсем откололся от прежних ребят: по вечерам они частенько вместе стояли у ворот, или лениво брели в кино, или сидели, покуривая, в скверике на скамейке, но это уже не была та общность, когда горели одним и тем же интересом и куда ты с ним, туда и я. И главным образом Костя сидел на скамейке и стоял у ворот с теми парнями из серого дома, кто, подобно ему, пошел работать, не окончив школу. Что-то спаивало их вместе, а от школьников удаляло.
А к Жене Логинову Костя совсем перестал ходить. Не тянуло. Думалось ну чего я там с детишками…
Когда он достиг подходящего возраста, его направили в шоферскую школу без отрыва от производства. И вот какой был случай. Он шел с первого занятия, довольный, и думал, что через полгода будет водить машину по этим улицам, и у дома повстречался с Женей.
— Здоров! — сказал Костя оживленно-приподнято, его все приподымало и радовало в тот день.
— А, Костя, здравствуй! — сказал Женя с обычной своей приветливостью.
Они не видались уже давненько.
— Как живешь? — спросил Костя.
— Да что, неприятности у меня, — ответил Женя с улыбкой. — Ты, может, слышал.
— Ничего не слышал, что такое?
— Обманул надежды предков. Медаль рухнула.
— Что ты! А я всегда был уверен, что кто-кто, а ты кончишь с блеском. Может, еще вытянешь?
— Да нет, уже ясно в общем. Уже не успею вытянуть.
— А в сущности, что за важность, — сказал Костя, — ну без медали, и что?
— Да боже мой! — сказал Женя. — На что она мне? — Он недоуменно повел плечом. — Но предки, понимаешь, прямо с ума посходили. Форменный ад в доме, выдерживаю истерику за истерикой. Что у тебя?
— Да помаленьку. Вот в школу шоферов поступил.
— Вот как, — приветливо сказал Женя. — Очень рад за тебя. Ты ведь этого хотел?
— Хотел.
— Хотел и сделал, молодец. Ну, будь здоров, побежал я.
— Пока.
— Заходи.
— Спасибо.
И весь случай. Но после него окончательно отпала у Кости охота общаться с Женей Логиновым.
Что я тебе, Женя?
Такой ты вежливый, никому никогда резкого слова не скажешь.
А вот тут, смотри-ка, не хватило вежливости — хоть для вида немножко поинтересоваться моими делами.
Хоть бы спросил — с отрывом от производства или без отрыва. Это ведь разница, и нешуточная.
Ладно. Чего там. Каждому свое. У тебя одна дорога, у меня другая.
Все правильно.
5
Пришло время, когда он стал думать о женщинах больше чем надо, и они ему снились.
Он ни с кем не делился этими думами и снами, а себе самому говорил: что за чепуха мне приснилась, тьфу! — но в глубине души знал, что снилось ему нечто прекрасное, от чего потом весь день томится и радуется сердце.
Шли по улице, обнявшись, девчонки в летних платьях, в босоножках. Он шел за ними, смотрел на их шеи, локти и не мог оторваться — спохватывался и говорил себе: вот уж нашел на что рот разевать: у той, крайней, не волосы, а мочалка какая-то, а локти — подумаешь, не видал я локтей, а как безобразно торчат их голые пятки из босоножек!
Но и это ему не помогало.
В гараже была одна женщина, уборщица. По мнению Кости — уже старая: немногим, должно быть, моложе его матери. Поэтому его удивляло, что она со всеми шутит как молоденькая. Мать никогда не шутила, всегда держалась солидно и рассудительно.
И вдруг эта женщина, эта старая уборщица, стала часто подходить к Косте и шутить с ним. И шутки ее были таковы, как будто она его считала взрослым и хотела, чтоб он ею заинтересовался. А он даже не знал, что ей отвечать, только супил брови, опускал глаза и уходил подальше.
— А посмотри-ка, — сказала она однажды, — у меня рука как у мужчины сильная, верно?
И, засучив рукав почти до плеча, показала ему свою руку, совсем не старую, а, наоборот, белую и круглую, женскую, мягкую даже на взгляд. И держала эту руку у него перед глазами, пока он не ушел.
— Ой, — сказала в другой раз, — не смотри на меня, Костичка, я тут возле тебя присяду переобуюсь. Чего-то я, кажется, ногу натерла.
Наверно, и ноги у нее были белые и не старые, если она возле него села переобуваться. Но он и на этот раз ушел, насупив брови.
Тогда она решила идти напрямик и в день получки позвала его в гости.
— Приходи, весело будет, не пожалеешь. — И сказала адрес. — Дай-ка запишу, на случай забудешь. Дай-ка спрячу, чтоб не потерял. — И руками, темными и грубыми в кистях, но выше — он знал уже какими, вложила бумажку в нагрудный карман его куртки. — Водку приносить не вздумай: мой пускай расход. Будет водка, все будет. — И подмигнула бедовым глазом.
Чудачка, ей-богу, думал Костя, неужели она воображает, что я к ней пойду, с водкой или без водки? Вечером, часу уже в одиннадцатом, он вышел из дому: просто пройтись. Улицы полны были нежного сияния — в эти месяцы солнце почти не заходит — и так стройны, так чинно и торжественно прекрасны, что даже у привычного человека становится на душе торжественно и гордо, и как-то он внутренне весь распрямляется.
Он вышел на набережную Мойки. Вода струилась в гранитных берегах, розовая от вечерней зари. Сколько-то он шел вдоль ее лучезарной излучины, потом свернул, вступил в серые, затененные домами переулки, — он не думал, куда идет, но шел все дальше, вошел в ворота, там был двор, а за первым двором второй двор, а за вторым третий, заставленный поленницами дров, и в нем дверь, выкрашенная коричневой краской.
Она находилась в глубине двора, слева, где две стены, сходясь неправильно, образовали острый косой угол. К ней вели три крутые ступени, облицованные цементом. Цемент обился во многих местах, видна была кирпичная кладка. Краска на двери тоже облупилась уродливо. И крыльцо и дверь выглядели потайно, недобро, словно для худого дела они запрятались в темный невидный угол. Впрочем, во всем дворе было темновато и глухо, только вверху далеко нежно светлело небо.
Дверь приоткрыта была, за ней черно. Черная щель.
Над дверью дощечка с номерами квартир. Повыше, выходя из стены, пролегал черный кабель электропроводки. Неподалеку спускалась с крыши суставчатая водосточная труба, и от кабеля к трубе, наискосок, вилась по дому трещина, неряшливо замазанная темно-серым. Вот до каких подробностей запомнилась эта дверь Косте.
Он стоял, смотрел на черную щель, а черная щель на него.
Может, подмигни ему оттуда из черноты знакомый бедовый глаз, он бы взошел по этим ступеням. Кто его знает.
Но проглядела его женщина, не подмигнула, не взошел он по ступеням повернулся и пошел обратно между поленницами.
Что его прогнало? Ведь такие сны ему снились.
Стыд прогнал. За себя, за нее, за все, что готово было свершиться. За водку, которую она ему припасла. За то, что вышел пройтись, а сам притащился сюда.
«Дай-ка запишу, на случай забудешь». А он не забыл. Не заглядывал в бумажку.
Но — не преодолел стыда. Хотел преодолеть — не осилил.
Между поленницами, сквозь дворы, освещенные отсветом далекого неба.
Сквозь серые переулки, к сиянию воды и зари.
Дошел до Мойки и закурил облегченно. Нет. Нельзя. Никак. Человек я.
6
Он окончил школу шоферов и стал водить машину по ленинградским улицам и за город. Ему нравилась эта работа. Она требовала внимания и ловкости, и он с удовольствием щеголял своей ловкостью, так что слабонервные пассажиры пугались.
Такси в Ленинграде стало порядочно, план давали большой, и выполнялся он когда как: в праздники и в плохую погоду перевыполнялся, а иной раз совсем плохие бывали дни. Люди в гараже тоже были всякие, не со всеми отношения складывались так гладко, как в ученические его времена, когда все были главней его и мало его замечали. В общем, разные новые заботы обступили Костю, и женщины стали занимать гораздо меньше места в его мыслях.
Он было влюбился, правда, в одну девчонку из их дома, она его поразила своим стиляжным видом. Всегда все первая надевала, как бы открывая новую моду, и новые прически первая начинала носить — то раскидывала волосы по плечам, как в итальянских фильмах, то стала их завязывать на макушке в виде лошадиного хвоста.
Она жила по той же лестнице, что Костя, он часто ее встречал и решил, что влюблен. Но влюбленность была в самом зародыше, и развиться ей не было суждено, его призвали в армию.
Три года прослужил. Не служба была, а удовольствие — благодаря его специальности. Возил больших начальников, под их благосклонным покровительством, на военной машине, достиг вершин квалификации, стал, можно сказать, виртуозом. Они его любили за лихость и за поведение, дисциплинированное и скромное, — входил в раж только на дороге, за баранкой.
Его отличали и относились к нему отечески. Восьмого марта из части пришло его матери поздравление и благодарность, что она так хорошо воспитала своего сына. И даже после этого другая мать прислала ей письмо, прося поделиться опытом, как это она воспитала сына так прекрасно. Костина мать удивилась и стала думать, как же она его воспитывала, когда и видела-то его мало, находясь на работе. И написала другой матери, что ничего такого особенного не делала, просто жили они с сыном дружно, что бы с ними ни было, доброе или худое, вместе переживали, вот и все, — должно быть, Костя уж сам по себе, от рождения такой хороший.
На втором году службы она его известила, что у нее нашли болезнь сердца, она ложится в больницу. Костю отпустили проведать мать.
Он приехал в Ленинград и, едва свернув на свою улицу, увидел, что у их дома стоит автобус и рядом кучка народа.
Никогда по их улице не ходил автобус.
А, да это газовский автобус, принадлежащий какому-нибудь учреждению. Не из тех, что ходят по городу и возят пассажиров.
Из дома вынесли венок и внесли в автобус, в заднюю дверку.
Костя побежал.
В жизни он еще такого не испытывал, как в эти полминуты, что бежал к своему дому, топая солдатскими сапогами, бежал и на гладком асфальте споткнулся.
Из открытого настежь парадного показался гроб, который выносили, неуклюже топчась, несколько человек. Костя остановился.
Они с матерью не в этом подъезде жили; не с улицы — со двора.
Из соседей кого-то хоронят.
Ну, балда: венок-то ведь тоже из парадного вынесли, не из ворот.
Не сообразил с перепугу.
Фу ты, господи.
Кто ж это? Уж не Женин ли дедушка-профессор?
Но из Логиновых никого не было среди стоявших на улице.
— Кого это? — спросил Костя у незнакомой девицы с лохматой челкой.
— Здравствуйте, Костя, — сказала она, повернувшись к нему.
Неудивительно, что он не узнал ее сразу. Туго повязанный розовый платок закрывал ей щеки, а челка спускалась ниже бровей, и в маленьком треугольнике видны были только заляпанные черным ресницы, нос рулем и рот. Это была та, что открывала новые моды и в которую он почти влюбился перед призывом в армию.
— Майкин отец умер, — сказала она.
— С приездом, Костя, — сказала, подойдя, дворничиха. — Мать телеграмму получила и ключ тебе оставила. А ждать нельзя ей было, место бы заняли в больнице.
Гроб вносили в автобус. Из дома выходили провожающие. Кто-то стал закрывать парадное, стуча молотком.
— Вот, — сказала дворничиха, — в танке горел — не сгорел, а от кровяного давления, надо же…
Костя увидел Майку. Она стояла возле своей бабушки. Бабушку, плачущую, держали под руки две женщины, а Майка стояла одна, без пальто, в школьном платье с помятым вышитым воротничком, даже передник она забыла надеть. Странно белое было лицо у нее, под глазами синие тени.
— Маечка, Маечка! — в слезах заголосила бабушка. — Маечка, а ты что ж неодетая, одеться надо, Маечка…
На Майку надели пальто. Она послушно и торопливо всовывала руки в рукава, а карие ее глаза смотрели темно и испуганно.
Большая какая выросла, подумал Костя, лет тринадцать ей, должно быть, от силы четырнадцать, а выше меня.
Он вспомнил, как бежал только что, без памяти бежал удостовериться, что это не мать его хоронят, — и от души подумал про Майку: бедная.
7
Он пробыл в Ленинграде три дня и два раза проведывал мать в больнице: один раз в общий впускной день, другой — приняв во внимание его обстоятельства, ему дали особое разрешение.
Доктор сказал, что большой опасности нет, только работу ей надо будет полегче.
Мать написала в часть благодарность, что отпустили к ней сына. А из части в ответ написали, что желают ей скорой поправки и доброго здоровья впредь. Словом, целая переписка завязалась между матерью и воинской частью. Это было — все чувствовали — как-то хорошо, это был достойный, благообразный росток нового, и все были довольны этим благообразием, и мать, и Костя, и воинская часть, и уважали друг друга.
Конечно, стоило бы рассказать подробней: вот она лежит на больничной койке и ждет его, и он входит в белом халате поверх гимнастерки, стесняясь стука своих сапог. Приносит ей гостинцы, и она рада — гостинцам и особенно его заботе и что с других коек смотрят глаза и эту заботу видят.
Это ее вознаграждает за многое горе, испытанное в жизни.
Все бы надо было описать более основательно — и первый Костин выезд на работу, и службу в армии, и как новые люди и явления входили в его кругозор, и как он чему-то научался от каждого нового человека.
Но ведь это не роман, а конспект романа. Я и то на каждом шагу поступаюсь конспективностью, то приводя пустяковый разговор, то описывая какую-то некрасивую дверь в третьем дворе.
Во всяком случае, необходимо обрисовать Костину наружность. Обрисовала вроде бы и Женю Логинова, и Майку, и Майкиного отца, который умер, и даже модную девушку, у которой в этой истории совершенно ничтожное место, — а главное действующее лицо без наружности. Так не годится.
Я потому с этим делом медлила, что Костю обрисовать очень трудно. Ну, роста небольшого, это уже сказано. Ну, лицо, глаза, рот, нос — тоже небольшие. Волосы темно-русые, не вьются нисколько. И хотя он здоровый и ловкий, но нет косой сажени в плечах. Встретив его, не запомнишь, как не запомнишь контролера в трамвае и продавщицу у уличного лотка, где купил пачку сигарет.
Хоть бы усики, что ли, отрастил для выразительности. Но он и усиков не отращивает, бреется. Бреется безопасной бритвой, а хотел бы иметь электрическую.
Также хотел бы иметь телевизор, чтоб не ходить к соседям смотреть футбол. У соседей вечно прорва болельщиков соберется, старики займут места перед экраном, а ты сбоку на отшибе сидишь и видишь все криво-косо.
Та, что открывает моды, тоже приходит к соседям смотреть футбол и садится на отшибе, где Костя. Она теперь носит прическу в виде высокой башни. Но Костя больше не думает, что влюблен в нее, ему неприятен ее нос рулем и заляпанные ресницы, и неловко, что она сидит рядом.
Это, вы поняли, происходит уже после того, как Костя вернулся из армии.
Он отслужил без сучка без задоринки и вернулся на прежнюю работу: возит людей в такси. В промежутках он стоит на стоянках. Мимо стоянки проходят красивые девушки. Костя смотрит на них. Редко они к нему садятся, а если садятся, то с кем-нибудь, потому что своих денег у красивых девушек, как правило, не бывает. С кем-нибудь они садятся на заднее сиденье и любезничают, даже сплошь и рядом целуются, а на шофера, само собой, ноль внимания, шофер для них — часть машины, которая их везет, сам по себе он не существует в природе.
8
Но вот идет Таиса. Бесстрашно и трезво глядя на мир, идет Таиса. Ни улыбок, ни хихиканья, ни верченья. Не вертеться приехала. Из Будогощи приехала в богатый, многообещающий город Ленинград жизнь свою строить.
Ей все надо. Туфли на шпильках надо. К толстым ее ногам каблуки-фитюльки не идут, и ходить трудно, — но надо, терпи, Таиса.
Деньги на туфли мама дала, когда Таиса уезжала из Будогощи.
Прописку надо. Знакомая девочка познакомила с милиционером. Погуляла с ним Таиса, он ее через своего начальника прописал. У своей тети прописал, якобы она, Таиса, тетина племянница, сирота.
Пришлось дать тете двадцать пять рублей.
Но за такое дело ничего не жалко.
Прислала мама из Будогощи двадцать пять рублей.
Жить у тети нельзя, так с самого начала было условлено. Только прописана там Таиса, а живет в другом месте, угол сняла.
Приняли Таису в школу торгового ученичества.
Днем учится торговать, а по вечерам ищет мужа.
Мужа надо Таисе.
Идут они со знакомыми девочками в Летний сад, прохаживаются по аллеям среди статуй с отбитыми и приклеенными носами.
Под вековыми липами сидят ребята, задевают, соревнуются в шуточках. Можно познакомиться. В кино сходить вместе. Потрепаться, кому охота. Мужей здесь нет. Какие это мужья. Друг у дружки сигареты стреляют.
Со знакомыми девочками едет Таиса по громадным мостам на Васильевский, на набережную, где стоят корабли. Майский вечер бесконечный, светлый. Стоят на светлой Неве большие корабли. На кораблях матросы. Девочки ходят взад-вперед по набережной, сцепившись под руки, а матросы им кричат с кораблей и щелкают фотоаппаратами.
Некоторые девочки с ними знакомятся, гуляют.
Ну и дуры. Моряк ребенка сделает и уплывет вокруг света, а ты локти кусай. С мрачноватой усмешкой смотрит Таиса, как они там на палубах принимают красивые позы. Фигуряйте, мальчики. Ей мужа надо. Мужа надо Таисе из Будогощи! Древнее, древнее название Будогощь, древней Москвы, древней, должно быть, Новгорода.
9
Она была самой видной продавщицей в магазине «Галантерея, чулки, трикотаж». Носила яркие свитеры и клипсы, волосы укладывала крупными волнами и подцвечивала хной — эффектная девушка, в толпе не затеряется.
Так как она никогда не смеялась, и смотрела холодно-бдительно, и пышная была не по летам, и способность имела сразу запоминать все цены в рублях и копейках, — начальство считало ее очень деловой и отличало среди других.
С Костей Прокопенко она познакомилась на балу во Дворце культуры имени Кирова. Народу тьма была, жарко, музыка громовая. У Таисы щеки как жар разгорелись. Чем дальше они с Костей танцевали, тем сильней разгорались ее щеки, и сильней она дышала, и сильней от нее пахло духами, будто их пролили на раскаленную печь. И Костя все танцевал с ней, не мог отойти.
Танцуя, она на него анкету составляла: сколько лет ему, сколько зарабатывает, сколько у них квадратных метров в комнате. И нашла, что ничего, подходяще.
Не то чтобы ею двигал только расчет. Никакого особенного расчета и быть не могло. Муж прочный, с мало-мальски приличным заработком и какой-никакой площадью, чтоб база была для построения жизни, — такого она ждала, готовая полюбить. Дурацких фантазий, что принц какой-то необыкновенный явится, у нее не бывало.
И не урод же Костя: очень симпатичный, особенно когда костюм наденет с галстуком. Таиса Костю полюбила.
Стали видеться, и все чаще да чаще. Если он работал в ночную смену, то днем заходил к ней в магазин, иногда по два раза. Если же работал с утра, они проводили вместе томный, бессловесный вечер.
Что рассказать об этих вечерах? У него дома была мать, а она снимала угол в комнате, где кроме нее еще жили две студентки фармацевтического института.
Пройдитесь летним вечером по Ленинграду, посмотрите, как стоят на набережной застывшие пары, прижавшись друг к другу и к парапету и уставившись на речные струи, будто увидели там что-то захватывающе интересное, как блуждают пары между колоннами Казанского собора, как целуются в кино, озаренные светом с экрана, как сидят на Марсовом поле, беспомощно глядя на прохожих, пронзаемые неистовыми токами, когда соприкоснутся их колени или мизинцы обессилевших рук…
10
Белой ночью Костя возвращается, проводив Таису, и у своего дома на пустой улице, где каждый шаг слышен далеко, встречает Женю Логинова, тоже откуда-то вернувшегося.
— Здравствуй, Костя!
— Здорово! — кивает Костя и хочет пройти в ворота, но Женя останавливается и заговаривает:
— Тысячу лет тебя не видел. Что ты, как ты?
Неужели может человек притвориться таким дружески участливым? Или он на самом деле полон сочувственного интереса? С чего бы — после того как вот именно тысячу лет ему безразлично было, что Костя и как?
— Ничего, помаленьку.
— Ты в армии был?
— Угу. А ты небось институт кончаешь?
— Университет. Да, кончаю, вот послезавтра последний экзамен.
Он сказал это вяло, без радости.
— Удружили предки, насоветовали филологический, теперь не знаю, куда себя девать.
— Ну как это, — сказал Костя, питавший уважение к высшему образованию, — куда-нибудь же, наверно, уже распределили?
— Да, но более или менее интересная работа — на периферии, а здесь только учителем, а какой я учитель? — Женя пожал плечом. — В биологи надо было идти.
Костя не спросил — а почему тебе не поехать туда, где работа более интересная. Ясно было, что уж кто-кто, а Женя рожден для Ленинграда, для этих улиц и белых ночей. Он стал еще красивей, чем в детстве, прямо на диво был красив с этой грустно-ласковой складочкой у рта, с глазами, задумчиво устремленными вверх.
— А я думаю, из тебя неплохой бы вышел учитель. При твоем развитии.
— Нет, нет. — Женя засмеялся. — Никакой, на практике выяснилось. Мне ребят жалко, а воспитывать скучно, не могу. Не много от меня будет пользы школе.
У Кости к ребятам-школьникам совсем другое было отношение, он присматривал, чтобы они на стоянке, когда он выходит из машины и идет к телефону принимать заказ от диспетчера, не изловчились стянуть его инструменты, и требовал, чтобы они относились к своим поступкам ответственно, как взрослые, сознательные люди.
— Да, — сказал он, — с пацанами трудно. Хулиганья много развелось.
— Пацаны не виноваты, — сказал Женя.
— Ну, это ты мне не говори. Кто хулиганит, тот и виноват. Знает он, что хулиганить нельзя? Знает, будь уверен.
Женя не стал спорить, а сказал:
— В общем, придется все-таки эту лямку тянуть, пока что-нибудь подыщется. Ходить в тунеядцах я, разумеется, не буду… Здравствуйте!
Костя посмотрел, с кем это он здоровается, и в открытом окне третьего этажа увидел девушку. Она сидела на подоконнике вся белая — белое платье, белое лицо. Он узнал Майку и спросил, понизив голос:
— Как она без отца?..
— Она с бабушкой живет, — ответил Женя, продолжая смотреть вверх на окно. — Кажется, в десятый класс перешла… Я, впрочем, точно не знаю, сказал он быстро. — Ну, будь здоров, спокойной ночи!
— Пока!
И опять разошлись на тысячу лет.
11
— Ну, мама, — сказал Костя, — что я тебе скажу.
— Да говори уж, — сказала мать.
— Женюсь, мама.
— А то я не знала, — сказала мать.
— Неужели знала, — удивился Костя, — откуда?
— Да уж знала. Кто ж такая?
— Девушка одна. Таиса зовут. В торговой сети работает.
— Хорошо ее знаешь? Давно знаком?
— С апреля месяца. Из Будогощи приехала, училась здесь. Красивая…
— Красивая, — повторила мать. — Ну что ж, ребята все переженились, женись и ты.
— Стесним мы тебя только.
— Как-нибудь, — сказала мать.
Подали в загс заявку, накупили разных вещей в магазине для новобрачных, зарегистрировались во Дворце бракосочетания, справили свадьбу в ресторане «Нева», и Таиса поселилась с мужем и свекровью.
Кончились бесплодные скитания по городу. Сбылись все Костины сны, и даже куда больше чем сбылись.
Правда, в снах это, пожалуй, было лучше. Нежнее, что ли, волшебней. И счастья, пожалуй, давало больше. Зато наяву была бурная гордая сила, какой нет во сне. Была женщина живая, теплая, шепчущая, силу дающая.
И радостно было и лестно, что она к нему, Косте, стремится, как и он к ней: придя с работы, льнет и целует и готова с ним одним быть весь вечер, никого ей не надо.
— Ох, — говорит, — надоели мне люди. Целый день как муравьи перед глазами. Хорошо дома посидеть.
Правильно, почему же не посидеть дома, как будто обязательно куда-нибудь идти, когда ты вот она и я вот он.
Как-то Косте очень захотелось посмотреть матч с бразильцами, и он уговорил жену пойти к соседям, у которых телевизор. Там было, по обыкновению, много народу, в том числе та девушка, что открывала моды. Под тридцать лет она стала носить коротенькие косички над ушами, завязанные голубыми бантиками. Костя уж и забыл, что когда-то чуть в нее не влюбился; он только на ее косички посмотрел, больно они ему показались чудными, а она на него и вовсе не посмотрела, отвернулась даже, но Таиса приревновала и рассердилась.
— Признайся, — говорила она, — у тебя с ней что-то было. Врешь ты, скрываешь. Вы все такие. А телевизор купим свой, нечего по соседям ходить.
Но пока о телевизоре думать не приходилось, так как они сильно потратились на свадьбу и залезли в долги.
Одно в Таисе смущало Костю, прежде смущало и продолжало смущать: что она не смеется? Никогда он не слышал ее смеха. Разве что усмехнется, кривя красивые губы. Но он это объяснял ее серьезностью и тем, что у нее жизнь была тяжелая, она ему это дала понять.
Спустя какое-то время она сказала:
— Я твоей маме не нравлюсь.
— Из чего ты заключаешь? — спросил Костя.
— Ходит надутая.
— Усталая, — поправил Костя. — Она всегда такая. Сердце у нее неважное.
— Угодить нам не старается нисколько.
— А чего ей нам угождать. Скорей мы ей угождать должны.
— Нам, молодым жить, — возразила Таиса.
И повторила, скривив губы:
— Скажите пожалуйста, не нравлюсь я ей.
12
Молодой красавец рожден для Ленинграда, он ходит по Ленинграду как по собственной квартире, светлый взгляд его полон привета родному городу, они друг другу идут необыкновенно, Ленинград и красавец.
Разве нельзя понять его родителей, приходивших в ужас при одной мысли об его отъезде на периферию? Где еще он был бы так дома, как здесь?
Он не уехал на периферию.
Он спускается по своей лестнице. Перед тем как выйти на улицу, приостановился в тамбуре, закурил.
Поздний вечер, дождь. Пряча сигарету в рукаве плаща, Женя Логинов переходит на другую сторону и останавливается под фонарем. Ночи стали черными, горят фонари.
В освещенном окне третьего этажа явилась женская фигура и исчезла.
Девушка в плаще, в пластикатовой косынке спускается по лестнице, где только что прошел Женя.
У девушки дома старая бабушка, а в кармане английский ключ.
Бабушка и спросить ничего не посмеет, девушка ей не позволит.
Она идет к Жене Логинову, стоящему под фонарем. Они уходят, и дождь постукивает по их плащам и по девушкиной непромокаемой косынке.
Переходят по мостику через Мойку, выходят к церкви.
Черной массой громоздятся купола.
Канал Грибоедова несет мимо церкви черные воды.
Прохожих нет. Нет сумасшедших гулять под дождем.
— Ты здесь? — спрашивает Женя.
— Я здесь, — отвечает она, закрывая глаза при звуке его голоса.
— Где ты? — спрашивает он. И она с закрытыми глазами подставляет ему свое лицо. Белое лицо в каплях дождя, как в слезах.
Завтра бабушка будет заглядывать в это лицо — девушка ничего не скажет, взглянет темно и вызывающе.
Сейчас бабушка лежит, не спит. Час ночи — не спит. Два часа — не спит. Услышит, как ключ в замке царапается, — вернулась Маечка, тогда сделает вид бабушка, будто спит. И Маечка ляжет и сделает вид, будто спит.
Черные воды, черные купола.
То притихнет дождь, то опять по плащам постукивает.
— Ты здесь?
— Я здесь.
— Где ты?
Эти изломы крыш над старыми домами вдоль канала. Эти окошки под крышами, светящие в мокрую ночь и потухающие одно за другим.
13
Снег, вместо плащей надо зимнюю одежду надевать.
Майка из зимнего пальто выросла, рукава короткие, как ни выпускай их.
Снег растаял, улицы потекли, пять градусов выше нуля — можно, слава богу, надеть плащ, который ей к лицу.
Опять пошел снег, идет, идет, дворники не успевают убирать, машины не успевают вывозить.
Задувает метель в короткие рукава, сечет по белому лицу.
Снег идет, время идет…
14
Таиса сказала:
— Соседки не возражают. Будем на ночь в коридоре ставить раскладушку для мамы.
— Как это? — спросил Костя. — Маму в коридор? Из ее комнаты?
— Такая же ее, как наша, — возразила Таиса. — И никто у нее не отнимает, только ночевать будет в коридоре, в чем дело? Она и сама не возражает, разбирается лучше тебя. Если б ты более был чуткий, сам бы сообразил давно.
Мать не возражала. Отводя глаза, она соглашалась спать в коридоре.
— Мне там очень хорошо будет, — сказала даже.
Они купили раскладушку, и на ночь мать ее пристраивала между их дверью и соседской, а утром убирала.
Она вышла на пенсию. Последние годы она работала не вагоновожатой, а табельщицей, пенсия получилась небольшая. Таиса сказала:
— Теперь мы ее, значит, содержи.
— Что значит содержи, — сказал Костя, — что мое, то материно.
— Очень ты высокооплачиваемый — столько иждивенцев содержать. Забыл, что скоро еще иждивенчик прибудет?
Таиса была беременна. Это только что обнаружилось, но она то и дело об этом напоминала и говорила:
— Ты со мной обязан быть чутким. Я не одна теперь, двое нас: я и ребенок.
И Костю это трогало, хоть он и обижался на Таису за мать и ему надоедали напоминания о чуткости.
Что-то заскучал он — сидеть вдвоем и слушать, что она говорит.
Прежде час, проведенный с ней, таким казался коротким: как спичкой чирк — и нет. А сейчас часы тянутся — почему бы?
Она говорит, как они обменяют комнату, как купят чешский гарнитур и телевизор, или критикует своих сослуживцев, а Косте хочется порассуждать об обшегосударственных вопросах, которыми очень интересуются шоферы такси.
Он обрадовался, когда она сказала:
— Надо тебе в вечернюю школу. Так и будешь, что ли, всю жизнь шоферюгой?
Он принялся готовиться — повторять учебники и решать задачки, так как все почти перезабыл, что учил когда-то, и его время стало более содержательным и целеустремленным.
15
Что случилось с психикой предков Жени Логинова? Женина мама, научный работник, сказала кому-то:
— Я простить себе и мужу не могу, что из эгоистического желания не расставаться с единственным сыном удержали его в Ленинграде. Наиболее жизнедеятельная молодежь устремляется на окраины страны, а он, бедняжка, тоскует здесь на учительской должности, не чувствуя к ней призвания.
Женин папа, научный работник, жалуется на маму:
— Недомыслие чудовищное, стала парню поперек дороги, любовь называется! На окраине он бы настоящее применение себе нашел, а здесь таких Женек с университетским образованием полон Невский.
Эти сдвиги в сознании произошли весной.
Через два месяца в школах начнутся экзамены, а там каникулы, но предки даже конца учебного года дождаться не хотят, нервничают и настаивают, чтобы Женя исправил их ошибку немедленно.
— Я ночью просыпаюсь и не в состоянии уснуть, пока ты здесь, говорит мама.
Она не в состоянии уснуть потому, что этажом ниже сидит девушка и пишет Жене безумные письма, что она без него не будет жить.
Девушка с темным, опасным взглядом, без родителей, без братьев и сестер, удержать ее некому. Если она что-нибудь над собой сделает — а с нее станется, — это будет ужасно. Тем более что она школьница, а Женя учитель. И хотя он не ее учитель, другая школа, другой район, но это ЧП, Чрезвычайное Происшествие, вмешательство двух школ и двух районо, комиссии, разбирательство, огласка на весь Ленинград, и в Москве узнают знакомые и родственники, возможно — о трижды ужас! — фельетон в газете, в фельетоне она будет не названа или названа инициалами, а Женя полным именем, и люди будут стоять кучками и читать, и папа с мамой будут упомянуты, научные работники, и никто не примет во внимание его восприимчивую, поэтическую душу, щедро дарящую из своих прекрасных запасов нежности, никто не вспомнит, что молодость имеет право на увлечение, никто не подумает о нем, живом, если она будет лежать мертвая!
— Пусть этот удар упадет на нас, — говорит мама, — но по крайней мере пусть Жени при этом не будет, для мальчика это слишком большая травма. Да она, я думаю, успокоится, если он исчезнет с ее горизонта.
— Ты должна пойти к ней! — говорит папа. — Ты обязана пойти и объяснить, что у нее все впереди и что это в конце концов ненормально!
Но мама слишком горда и интеллигентна, чтоб идти объясняться со школьницей, влюбленной в ее сына. Влезать в его интимную жизнь… Сколько их было, этих школьниц, студенток, бегавших за ним… А главное — маме в глубине души страшно говорить с девушкой, которая вдруг после этого разговора будет лежать мертвая.
— Женя, уезжай, я тебя умоляю!
Пока он здесь, он не смеет не уступать безумным письмам — плетется на свидания, и бродит с нею, и говорит вялым голосом. Нельзя же целоваться, детка, когда на улице светло как днем. Я тебя люблю, но кроме любви в жизни человека есть то-то и то-то. Голова болит, каждый вечер болит голова. Как ты можешь учиться, когда не высыпаешься систематически.
А она отвечает, что нет, он разлюбил, она отдает себе отчет во всем и рада бы задушить свою любовь, но не может, не может. И так уж мы устроены, что, даже отдавая себе отчет во всем, она на него смотрит с надеждой и ждет — вдруг это не конец, вдруг свершится чудо. Когда он рядом, ей начинает казаться, что чудо возможно. Вот почему так отчаянно она его зовет на свидания: чтобы хоть на миг вернуть себе надежду.
И подумать, что это весна, на Невском продают пучочки синих и белых цветов, пахнущих талым снегом, — а она вспоминает холодные черные ночи, дожди и метели, как райский свой сад, полный блаженства.
Но довольно! Пора кончать. В одно прекрасное утро к дому подкатывает такси. Лучший час, чтоб исчезнуть с горизонта, — она в школе. Женя сходит по лестнице с чемоданом. Хлопают дверцы, машина запела, ушла.
Прощай, серый дом! Прощай, Ленинград! Надолго ли? Кто знает! Прощай, полночных стран краса и диво, любовь моя — Ленинград!
На вокзале Женю провожает молодая балерина. Он с ней познакомился минувшей зимой. Это ярко восходящая звезда, некоторые на нее оглядываются, и Женя говорит счастливо:
— Тебя узнают!
Они тоже то и дело оглядываются, Женя давно все рассказал балерине, пожимая плечом и жалея Майку, и ругая себя, и они боятся, как бы Майка не приехала на вокзал. Но Майка сидит на уроке.
Без всяких помех Женя целует ладошку балерины, отвернув перчатку, и она еще раз обещает известить его, где она будет отдыхать этим летом, и поезд благополучно трогается, увозя Женю в Москву, откуда он намерен ехать в Новосибирск, а затем куда-нибудь, может быть, еще — там видно будет.
16
Все хуже обращалась Таиса с Костиной матерью.
Поест, что мать наготовила, и говорит:
— Какой-то вы дрянью нас обкормили. Старый человек, а готовить не умеете.
Костя скажет, повысив голос, — ну, нечего замечания делать, готовь сама, когда так. Мать начнет оправдываться, что никакой не дрянью, продукты свежие и мясо парное, — Таиса оборвет:
— Ну хватит. Разворчались. Я в моем положении целый день работала, мне поспать надо.
И они затихнут. Он уткнется в книгу или в газету, а мать в кухню уйдет и там возится или так сидит.
Костя пробовал говорить с женой по-хорошему:
— Ну зачем ты так? Ну некрасиво же. С кем хочешь некрасиво, а тем более с матерью. Она же мать моя. Мне неприятно. Я тебя меньше буду любить и уважать.
Но Таиса начинала всхлипывать и отвечала:
— Ты мою нервную систему не щадишь. В консультации сказали, что мне нельзя волноваться.
17
Майка в тот же день узнала, что Женя уехал, но пережила это тихо, никто не видел даже слез ее. На другое утро, как всегда, пошла в школу и ходила довольно много дней, и в сумочке у нее лежали тетради, учебники и вечка.
А потом возле серого дома остановилась машина скорой помощи. Выскочили санитары в белых халатах поверх пальто и побежали наверх, и оттуда на носилках вынесли Майку и повезли в Куйбышевскую больницу.
Конечно, серый дом гудит об этом происшествии, а как же иначе? Жила у нас девочка на третьем этаже, мы ее крохой помним, и вот она перерезала себе вены — как не гудеть дому?
Нехорошие вещи говорят о Логиновых, почему-то не столько о самом Жене, сколько о папе и маме, о маме особенно. Не соверши Майка свой жуткий поступок, не заяви она так отчетливо и окончательно, что плевать ей на все и идите вы со своими суждениями, — досталось бы и Майке, будьте уверены, но перед этим поступком дом отступил, не хочет судить ту, что повисла над могилой на ниточке, за чью угасающую жизнь борются в Куйбышевской больнице.
Даже в семействе Прокопенко, где атмосфера накалена собственными неприятностями, в тот вечер говорят главным образом о Майке. Костя почему-то поражен, и почему-то не верится ему, что у Майки была любовь с Женей:
— Да ну, не может быть!
— Было, — вздыхает мать.
— Да ну, она же маленькая!
— Хороша маленькая, дылда такая, школу кончала.
Это говорит Таиса.
— Еще не кончала, — спорит Костя. — Она в десятом классе была.
Сегодня о Майке — в прошедшем времени: кончала, была.
— Тебе откуда известно? — спрашивает Таиса.
— Женька сказал как-то.
— Все вы таковские, — говорит Таиса, подозрительно глядя на мужа.
Уже все обсуждено и осуждено, когда новое сообщение: Майкину бабушку разбил паралич! Вся правая сторона отнялась, и языком не владеет.
— Довели старуху.
— Довели. Обеспечили спокойную старость.
— Всё Логиновы!
— Логиновы!!
Опять гудит дом. И только один человек в нем не знает ничего — Женин дедушка-профессор.
Он до вечера писал мемуары в своем кабинете. Потом послушал по радио последние известия. В них не говорилось о Майке и ее бабушке, и дедушка вышел к чаю спокойный и благодушный.
— Что слышно о Жене? — спросил он, садясь на свое место между Жениными папой и мамой. — Он еще в Москве?
— Я говорила с ним по телефону, — ответила заплаканная и запудренная мама, подавая дедушке его чашку. — Просил передать вам привет. Завтра уезжает в Новосибирск.
— Очень хорошо, — проворковал дедушка. И принялся излагать известия, услышанные по радио. Его не посвящали в домашние дела. Он думал, что внук отправился искать свою дорогу, и хвалил его, говоря:
— Пора, пора доброму молодцу помериться силами с жизнью.
На другой день он вышел прогуляться. Неизвестно, кто его просветил, но он вернулся больной и желтый. Посмотрел на маму, отворившую ему, и сказал слабым голосом:
— Вы подонки.
Мама пошла за ним и, ломая руки, стала говорить о Жениной восприимчивой душе и о праве молодости на увлечение. Но дедушка стоял на пороге своей комнаты и держался желтой худой рукой за дверь, показывая, что желает затвориться и быть в одиночестве. Мама плача воскликнула:
— Почему вы не хотите даже выслушать?
— Потому что вы все мне омерзительны, — сказал дедушка.
18
Майку спасли, и она вернулась из больницы.
Ничего не произошло, чего страшились Женины мама и папа, — ни фельетона, ни широкой огласки. Поволновались Майкина школа и Майкино районо, пошевелилась милиция, но так как Майка отказалась объяснить, по какой причине она посягнула на свою жизнь, и так как подошли экзамены, то школа и районо переключили внимание на другие события, а милиция и подавно.
Логиновы отделались недолгим гуденьем в доме. Так что мама даже сказала папе, что она боится, как бы Женя там от скуки не приучился пить, и что зря они его услали куда-то в Сибирь, как какого-то преступника.
19
Кости не было дома, а к Таисе пришла та девочка, что когда-то познакомила ее с милиционером. Они шептались, и вдруг Таиса сказала:
— А вам, мама, не надоело отсвечивать? Не имеете тактичности выйти из комнаты, где людям надо между собой поговорить.
Мать даже задрожала от оскорбления и гнева, так бы и хлопнула по гладкому наглому лицу, так бы и крикнула: сама убирайся отсюда! Но ведь Костина жена, но — ребенка ждет, но — не привыкла мать скандалить, совестно. Ушла в кухню и расплакалась. И не выдержала — пожаловалась соседке. Соседка пожаловалась Косте. Костя на Таису закричал страшным голосом. Таиса выскочила в коридор и тоже закричала:
— Товарищи, помоги, старая ведьма портит нашу семейную жизнь, она Косте на меня наговорила, она его бить меня учит, заступитесь за женщину в положении!
Небывалая в квартире вышла сцена, казалось бы — как после того жить им вместе? Но поди ж ты — живут.
Уже все зная про Таису, ест с ней Костя за одним столом, спит в одной постели, и ждут они от их союза ребенка.
И мать тут, — а куда ей деваться?
Купили телевизор и смотрят совместно.
Но друг на друга Костя и мать не смотрят.
Ему стыдно и мучительно, и что делать — не знает.
И матери мучительно и стыдно за него, и не может ему помочь.
Одна Таиса говорит, за что-то выговаривает, на что-то жалуется, кого-то критикует, а Костя ей ответит изредка, когда уж нельзя не ответить, а то молчит. А матери и дыхания не слышно.
Таиса уйдет — и вдвоем они молчат или говорят о постороннем.
Костя уйдет, Таиса останется — это уж вовсе ложись да помирай: сплошная ядовитая злоба, словно одно только у нее на уме — как еще побольней укусить свекровь. Словно поселилось в доме кусачее злое животное и нет от него спасения.
Даже когда они оба уходят, Таиса и Костя, мать не чувствует себя, как бывало, хозяйкой, не может ходить вольно из комнаты в кухню и из кухни в комнату, никого не боясь. В кухне и коридоре соседи, одни держат сторону Таисы, другие жалеют мать, расспрашивают, советуют, ругают Костю, что допустил такое, — все это матери невыносимо.
И стала сама уходить: переделает что от нее требуется, уйдет в скверик и сидит там до того часа, когда уже можно приладить в коридоре раскладушку и лечь.
Дети играют на песке, она думает: будет у Кости сыночек или дочечка, мой внучек или внучечка, я нянчить буду, общая будет у нас любовь, общая забота, — может, смягчится Таиса.
Но тут же подумает: нет, еще хуже будет, не угодишь тогда ничем ей, живьем съест.
И так душно, так безнадежно станет на сердце у матери, и сидит она вся понурая среди играющих детишек и цветущих цветов.
20
Легче всего Косте было на работе: все правильно — тебе нужно ехать по твоему делу, а я тебя везу, это мое дело, и мне до лампочки, что кто-то назовет неуважительно и грубо — шоферюгой.
Пассажир, конечно, разный, попадется такой склочник, что не дай бог, бывает, что и пьяный ввалится в машину и потом с ним возись, и в гараже мало ли какие случались споры и неприятности, но так или иначе за баранкой Костя чувствовал себя человеком. А дома, сидя на новом чешском стуле перед новым телевизором, он не чувствовал себя человеком.
Он думал о том, что это дурное, скандальное, длинное лето пройдет, и наступит осень, и осенью он начнет посещать вечернюю школу. Она займет много времени, если заниматься как следует (а уж он постарается заниматься как следует); меньше придется быть дома и думать о доме, что так тяжело и делает его старым, и прививает ему дрянные черты, каких у него не было, трусость, например, покорность, например.
Вроде все было сделано по-хорошему, думал он, без аморальности, с установкой на крепкую семью, во Дворце культуры познакомились, во Дворце бракосочетания регистрировались, сплошные дворцы, и даже у нее фата была, а жизни нет.
Как я мог на ней жениться, думал он, когда она сидела с ним перед телевизором на другом чешском стуле и рядом был профиль ее всегда раздраженного лица с большой щекой и висячей серьгой в ухе. Главное, вечно это выражение, будто ей чего-то недодали и норовят еще недодать, но ведь это выражение и раньше было, оно всегда было, как же я не замечал?! Он слышал ее сопенье, а потом она открывала рот и что-нибудь говорила, и при этом у нее жабы сыпались изо рта, как в какой-то сказке, которую он читал в детстве.
Она грузно вставала и вытесняла своей расплывшейся фигурой эти бунтарские мысли, и он опять и опять сознавал, что прикован к ней цепью крепче всяких регистрации во всяких дворцах.
В школу, думал, в школу! Далеко идущие планы рисовали ему, что он кончает вечернюю школу и заочный институт и становится, ну, скажем, геологом (геология его не привлекала, но это уже другой вопрос), и круглый год проводит в командировках где-то у черта на куличках, а Таиса сердится и ревнует, но не препятствует, потому что ему платят большие командировочные.
Форменным каким-то мечтателем стал.
А почему, собственно, мечтателем? Другие кончают же и школы, и институты. Чем он хуже? Геологами становятся, учителями, кем хочешь.
Долговато этого добиваться. Трудновато — особенно работая и имея семью.
Он добьется тем не менее.
На пятерки не потянет, но на тройки и четверки — вполне.
Будет ли Майка учиться после всех событий?
Костя спросил у матери:
— Что там о Майке слышно?
— С бабкой мучается.
— Болеет бабка?
— Да поднялась, но плоха. Как малое дитя. Ничего не понимает, всего требует. То лимончика к чаю, то курочку, то конфет ей каких-то. Ну, Майка старается: сама не поест, а старухе несет.
— Бедная Майка, — сказал Костя.
И в тот же день, надо же, встретил Майку на своей лестнице. На груди у нее была почтальонская сумка, а в руках кипа газет. Она остановилась у соседней двери и стала рассовывать газеты по ящикам. Ничего в ней такого не замечалось, чтоб сказать — вот эта однажды не захотела жить и перерезала себе вены. Только платье на ней было с длинными рукавами, несмотря на жаркий день.
— Здравствуй, Майка! — сказал Костя, почему-то обрадовавшись. — Что, почтальоном заделалась?
— Да, — ответила она.
— И сколько платят?
— Пятьдесят пять рублей.
— Ну что ж, — сказал он, — тоже деньги.
Она не ответила и побежала наверх. А он себя ругнул, что не так поговорил с ней: теплоты не выказал, и, наверно, ее обидел его глупо-шутливый тон, когда он сказал — тоже деньги. И опять-таки глупым кривляньем было некультурное слово «заделалась», когда он знает отлично, что надо говорить «сделалась».
21
В скверике, где как беспризорная сиживала мать, каждый вечер гулял чистенький пожилой гражданин с чистенькой собачкой на цепочке.
Собачка бегала, увлекая его за собой, нюхала землю и поднимала ножку, и он ее уговаривал:
— Тузишка, Тузишка, на цветы нельзя!
Уморившись, садился на скамейку и вытирал полное лицо и шею чистым платком, а собачка сидела у его ног и весело дышала, высунув язык.
Мать так привыкла видеть их в скверике, что если они появлялись позже обычного, она их искала глазами, а увидев, говорила себе: а, вот они!
И пожилой гражданин, видя ее всегда на том же месте, стал с ней здороваться очень вежливо. А однажды подошел и, держась левой рукой за собачкину цепочку, а правой приподняв над лысиной чистенькую кепку, отрекомендовался:
— Разрешите представиться, персональный пенсионер такой-то.
Мать ответила, смутившись:
— Очень приятно.
Он спросил:
— Вы позволите присесть?
Она ответила:
— Пожалуйста.
Он поклонился и шаркнул ногой и только после этого присел на приличном расстоянии.
— Извините, гражданка, — сказал он, — но я замечаю, что у вас какое-то несчастье, не могу ли я как-нибудь помочь в ваших обстоятельствах?
— Ах, — вздохнула мать, — никто мне, товарищ, не поможет в моих обстоятельствах.
— Конечно, — сказал пожилой гражданин, — если речь идет о потере дорогого человека, то эту рану в состоянии исцелить лишь время, я на себе испытал. Но от всего прочего существуют лекарства, из них самое лучшее помощь коллектива.
— Не со всякой бедой пойдешь к коллективу, — возразила мать. — С иной бедой идти — только срамиться, а пользы не будет. Да у меня и коллектива нет: я пенсионерка.
— Помилуйте! — воскликнул пожилой гражданин. — Вы что же, считаете, что, уйдя на пенсию, мы выпали из коллектива? А жилтоварищество с его народонаселением, зачастую равным населению среднего западноевропейского города, с его домовым комитетом, с его товарищескими судами и художественной самодеятельностью, — разве это не превосходный коллектив?! Гражданка, поверьте, ваша беда в том, что вы себя вообразили оторванной от коллектива!
Мать понимала, что никакой товарищеский суд не вразумит Таису, а только ушаты оскорблений и клеветы выльются публично на нее — на мать, изгнанную из дома, а художественная самодеятельность тут и вовсе ни при чем, но все же упоминание о существовании всего этого было отрадно, оно расширяло ее мир, чересчур в последнее время ограниченный. А еще приятней было, что сидит рядом симпатичный, высококультурный человек и хочет прийти ей на помощь.
— Кстати, — сказал он, — я бы не подумал, что вы на пенсии, вы смотрите моложаво, если б не следы глубокой удрученности…
И он сострадательно взглянул на ее бледное лицо с запавшими щеками.
— Где там молодо, — сказала мать, — живу и думаю: умереть бы, что ли…
Она заплакала и в слезах рассказала свое горе. Пожилой гражданин слушал со вниманием, опустив подбородок на грудь. Когда же она закончила свой рассказ, он сказал:
— Все это грустно и печально, как все родимые пятна капитализма, и мы еще вернемся к этому разговору, а пока, гражданка, — разрешите ваше имя-отчество?.. — пока не пройтись ли нам с вами, что ж все сидеть, моцион улучшает кровообращение.
Они вышли из скверика и пошли по улице. Тузишка бежала впереди, мелко перебирая ножками, и на сердце у матери отлегло капельку. А на другой вечер пожилой гражданин пришел без Тузишки и принес два билета в кино, они сидели на хороших местах, и он угостил мать пломбиром в стаканчике.
22
Заказное письмо принесла Майка в квартиру, где жил Костя. Сосед расписывался в получении, и в это время Костя проходил по коридору и сказал:
— Здравствуй, Майка.
Таиса услышала. С искривленным лицом — Костя не сообразил остановить ее — вышла за Майкой и сказала громко:
— Ты за одним бегала, дрянь, не вышло твое дело, теперь за мужа моего взялась, чтоб я тебя на нашей лестнице не видела, а то я на тебя в школу заявлю!
Костя выскочил на площадку. Майка стояла с почтальонской сумкой на груди, обернувшись к Таисе. Она не сразу поняла, зачем ее остановила эта женщина, чего от нее хочет. Но вдруг кровь хлынула в белое лицо, Майка рванулась и побежала вниз.
— Майка, — крикнул Костя, — Майка, подожди! — и бросился за ней. Она мчалась, едва касаясь ступенек, ситцевая юбка взметывалась на поворотах. Только внизу он ее догнал, у выхода.
— Майка, постой. Слушай, ты не придавай значения. Она ребенка ждет, ты же видишь. Ну и говорит, что придет в голову, ерунду всякую. Не придавай значения. Успокойся.
Слезы у нее так и лились и капали на почтальонскую сумку. Потому, должно быть, и остановилась здесь у выхода в темноватом закутке, не побежала дальше во двор, где люди.
— Ну-ну. Хватит, слушай. Ну, Майка, ей-богу. Мало кто чего вякнет.
У нее сквозь сжатые губы вырвался стон, и прямо ударил его этот стон — чего б не дал, кажется, чтоб она так не стонала.
— Наплюй, и все. Нашла на что обращать внимание. Ну Майка, Майка. Ты ж молодчина.
Ну хотя бы снять с нее эту сумку и самому всё разнести, а она чтоб посидела тихо дома и выплакала до конца обиду.
— Я помню, какой ты боевой девчонкой маленькая была, совсем маленькая. Мальчишек вдвое старше не боялась, войну нам объявляла.
Она ведь и сейчас была маленькая, хоть и выше него. Хотелось погладить ее по голове. Но не посмел. Особенно после того, что наговорила злобная дура.
— Жутко была смешная, так, бывало, и смотришь, как бы нам насолить.
Она продолжала плакать, но обратила на него свои темно-карие глаза, и в них появилось наивно-внимательное выражение, словно своим напоминанием он возвращал ее к детству, и что-то затеплилось в ней от той девчонки. У него от этого выражения задрожало сердце, и он обрадовался, что нашел-таки, что сказать ей человеческого, что она смотрит на него. И заторопился по найденной дорожке:
— Жутко смешная. Закутает тебя бабушка в платки, как матрешку. Мы проходим по лестнице, а ты ляжешь и лежишь, как будто мы тебя сбили. Чтоб потом бабушке на нас наябедничать. Жутко вредная. А мы тебя и не трогали даже.
Она смотрела все доверчивей, и он торопился, стараясь, чтоб голос не дрогнул:
— А то сидим на лавочке в скверике, а ты придешь и песок нам в глаза… Не помнишь? Ну как же! Станешь с полным совком и стоишь, а ветер нам прямо в глаза… Мы тебе сделаем замечание, а бабушка нас хулиганами обзовет, тем дело и кончится… И папу твоего я хорошо знал, мы его очень уважали, не знаю, правда или нет, но у нас было мнение, что он в танке горел… Надо же, в танке горел, вроде легко выговаривается, а пережить это… Он, бывало, придет, а ты ему навстречу бежишь и спрашиваешь: «Что ты мне принес?»
Майка перестала плакать и слушала, как слушают интересное разумные, серьезные дети. Но он уже иссяк и не мог придумать, что же еще сказать ей. Она вытерла лицо, детское выражение исчезло, чуть улыбнулась ему губами, опухшими от плача, и, не сказав ни слова, ушла по двору, залитому звонким асфальтом и солнцем.
23
Пожилой гражданин сделал матери предложение! Они гуляли вместе, и он ей рассказывал содержание газет, которые он читал в большом количестве, о неграх в Америке и неграх в Африке, и кто убил Кеннеди, и о полетах в космос, и несколько раз он ее водил в кино, а один раз даже в цирк, куда она надела свою выходную вязаную кофточку и прозрачный шарфик. Она стеснялась, что он не соглашается брать ее долю за билеты, она привыкла платить за себя сама, но он говорил:
— Даме платить не полагается.
А по дороге из цирка, где были дрессированные львы, акробаты, лошади, и женщины плавали в воде как рыбы, и мотоциклист ездил по стенке вверх колесами, вниз головой, — по дороге из цирка он почтительно, но энергичным голосом сделал ей предложение выйти за него замуж: не как-нибудь, а зарегистрировавшись в загсе и поселившись с ним, как полагается супруге.
— Да ну что вы, — смеясь, сказала мать, когда разобрала, о чем он говорит, — что вы, на самом деле.
Но он сказал:
— Мы еще вернемся к этому разговору.
Разговор возобновился на скамейке в скверике. Тузишка сидела у их ног и радостно дышала, высунув язык.
— Сейчас, — говорил пожилой гражданин, — у меня условия довольно неважные: комнатка в коммунальной квартире, весьма запущенной. Но поскольку жилищный вопрос Неизмеримо улучшился, мои личные перспективы тоже оптимистические.
Мать смеялась, что он говорит о перспективах, как молодой, но это ей нравилось. Легкий, думала, человек, не стал бы ворчать, бубнить как дурак: бу-бу-бу.
— Наш дом, — с удовольствием слушала она дальше, — ставят на капитальный ремонт, а жильцов расселяют. Мне, как персональному пенсионеру, обещали отдельную однокомнатную квартиру в районе парка Победы.
— Отсюда далеко, — сказала мать.
— Но какое сообщение! — воскликнул пожилой гражданин. — Вы садитесь в метро, и через пятнадцать минут вы в центре!
Может, подумала мать, оно и неплохо, что далеко. Может, мне и не захочется садиться в метро и ехать, чтоб повидать их. Вот не захочу и не поеду, пусть как хотят себе. Ах, что я, а внучек-то или внучечка, общая любовь! Ах, о чем я, глупая, рассуждаю, куда в мои годы замуж!
— На Московском проспекте, — продолжал пожилой гражданин, — все магазины, какие угодно. От мебельного до пирожковой. Хотя лично я, грешник, люблю пирожок домашний с пылу с жару к утреннему кофейку.
Да, это неплохо, подумала мать, к кофейку горячий пирожок с капустой. Или с яичком и зеленым луком.
— Не каждый день, конечно, — сказал пожилой гражданин. — Если нет настроения или, скажем, недомогание, поясница болит, — мы с Тузишкой сходим купим в пирожковой. Горячие пышки тоже очень хорошо, и возни меньше.
Начинался дождь, скверик опустел, а они сидели, не уходили.
— Вам плохо, — говорил пожилой гражданин, — и мне одному плохо. И что ни говорите — старость приближается. Разве не логично объединить два неустроенных существования в одно устроенное и годы заката озарить светом?
Замечательно говорил, очень умный человек и с душой, даже о пояснице ее позаботился заранее. Мать, слушая, то смеялась, качая головой, то вздыхала, то утирала слезинку, но решиться не могла никак.
— Я подумаю, — отвечала она.
24
Таиса сказала:
— Когда я рожу, надо выписать мою маму из Будогощи.
— Что ж, — сказал Костя, — пусть приедет погостит.
— Не погостит, а кто с ребенком будет, ты думал?
— Как кто? Моя мама будет.
— Никому, — сказала Таиса, — я не доверю ребенка, кроме моей мамы. Твоя и не интересуется нами, чтоб ты знал. Каждый вечер уходить повадилась.
Костя отвел взрывчатую тему.
— С пропиской, — сказал он, — трудно.
— С пропиской уладится. Ты только ее предупреди, чтоб не возражала.
Мать пришла намокшая под дождем, с розовыми пятнышками на скулах.
— Мама, — спросил Костя, — ты не будешь возражать, если мы выпишем Таину маму из Будогощи ходить за ребенком?
Стоя у порога, мать развязывала мокрый платок, и Костя на нее смотрел тревожно, боясь, что она что-нибудь скажет против и опять разразится безобразный, постыдный скандал.
— Так, — сказала мать. — Ну, выписывайте.
— Прописать надо, — пробурчала Таиса.
— Прописать надо, — сказал Костя, довольный, что все обходится мирно.
— Выписывайте, прописывайте, — сказала мать, тихо задыхаясь, — меня здесь не будет, я замуж выхожу. — И пошла в кухню повесить платок на веревку.
— Что она сказала? — спросил Костя.
— Черт те что, — сказала Таиса, вытаращив глаза. — Замуж, говорит, выходит.
— Ну да.
— Сказала: замуж.
Костя взял сигареты и закурил, чтоб освоить новость, и услышал хихиканье. Таиса хихикала, прикрыв рот пухлой рукой с наманикюренными ногтями.
— Перестань, — попросил Костя.
Она прыснула и закатилась смехом, первый раз он услышал, как она смеется:
— Га-га-га-га!
А он вдруг света не взвидел от ненависти. Схватил эту руку выше кисти и бешено сдавил:
— Замолчи, Будогощь!
Но сейчас же: что я делаю!.. Брезгливо оттолкнул ее, так что она села на кровать, и вышел из квартиры быстрым шагом.
25
Таврический сад засыпан коричневыми и желтыми листьями: осень пришла.
В ясный воскресный день молодые отцы катят по саду коляски с младенцами. Шины шуршат по листьям. Младенцы спят на воздухе, как загипнотизированные. Встречаясь, молодые отцы обмениваются взглядами не без юмора.
Одни отцы с непокрытыми головами, другие в кепках или беретах; все, кроме Кости Прокопенко, счастливые.
Как же произошло все-таки, думает Костя, катя коляску, что я, неплохой вроде парень, во всяком случае не подлец, здоровый, с хорошей профессией, любящий порядок и справедливость, позволил родную мать выставить из дома — да, выставить, да, позволил, хоть она это и называет другими словами, моя бедная.
Как происходит, что они хотят тебя сделать скотом и ты становишься скотом, совершенно того не желая и чувствуя к скотству отвращение?
Они — это Таиса и ее мама, которая благополучно у них поселилась и состоит при Таисе как бы премьер-министром при монархе.
Почему я никого не могу защитить от них? Почему моя защита бессильна? Что ни скажу я, что ни скажут другие, все отскакивает от этой брони наглости, хамства и вранья.
И тебя защитить не смогу, думает он, глядя на розовое зажмуренное личико под пологом коляски. Будут тебя уродовать по своей выкройке, как захотят.
А если мы с тобой объявление дадим? Он с удовольствием представляет себе страницу «Вечернего Ленинграда»: такой-то, проживающий там-то, возбуждает дело о разводе с такой-то, проживающей там же. Но представляя, знает, что это не выход — ребенка оставят Таисе, а у него окончательно отнимется возможность хоть как-то влиять на воспитание дочки.
Сбежим давай! Подрастешь — сядем с тобой рядышком в кабину и укатим в дальний рейс. Такой дальний, такой дальний, что никто нас и не найдет.
И он думает о длинных широких дорогах, разбегающихся по необъятной стране, о не виданных им местах, о науке геологии, к которой у него, увы, нет склонности и до которой если добираться, то надо потратить годы и годы — как, впрочем, и на любую другую науку, он это осознал с жестокой ясностью, начав заниматься в вечерней школе.
О многом думает Костя, катя коляску по Таврическому саду.
О том, кого надо любить, а кого не надо.
С кем надо детей заводить, а с кем не надо.
И как любить.
И как жить.
Что вообще хорошо, а что плохо.
И как плохое отличать от хорошего.
Очень досадно ему, что он раньше думал об этих вещах так мало и невнимательно.
Но кто это идет навстречу, кивая головой?
Его мать, приехавшая погулять с сыном и внучкой в Таврическом саду. С ней ее муж, и Тузишка бежит впереди.
— Ну как, ну что? — спрашивает мать. — Животик как? Ну слава богу.
Она берется за коляску, и с этого мгновения все перестает для нее существовать, кроме розового личика с круглой соской в губках. Костя и его отчим идут рядом, разговаривая о делах союзного и международного значения.
Потом настает время старикам ехать к себе на Московский проспект, а Косте катить коляску домой.
Неподалеку от своего дома он встречает девушку, открывающую моды. Она в итальянском плащике, волосы у нее подстриженные и гладкие и лоб открыт наверно, так модно в данный момент. Она взглядывает на коляску и говорит с кроткой укоризной:
— Здравствуйте, Костя.
Может быть, он увидит и Майку, разносящую газеты и письма. Майка учится в одиннадцатом классе, но продолжает работать на почте — по вечерам и в выходные — на курочку, на лимончик к чаю и прочее, чего там спросит бабушка.
Майка пробегает, не глядя на Костю, ей, конечно, тошно вспомнить ту историю с его женой, и что он ей? Она пробегает, а он перекатывает коляску через порог калитки, и темный туннель ворот смыкается над ним.
1965
ПРО МИТЮ И НАСТЮ Попытка заглянуть в сердцевину бутона
Мите и Насте
МИТИНА НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Папа встал раньше всех, отодвинул занавески на окне и ушел на кухню. Лежа в своей кроватке, Митя услышал стук посуды, ему захотелось есть, он стал кричать:
— Полина! Полина! — чтобы мама встала. Но она поднялась только тогда, когда он закричал: «Мама!»
Наконец, ее коса сползла с подушки и легла на коврик около кровати, а затем на коврик стали ее ноги и наконец она вся встала и подошла к Мите.
— Ты кушать хочешь? — спросила она.
— Да, — ответил Митя. И добавил: — Ав, ав.
— Ему снилась собака, — сказала мама.
— Та-та, — сказал Митя.
— Ему снилась машина, — сказала мама.
Но прежде чем есть, надо одеться, а это очень долго и скучно. Сперва с тебя снимают пижаму, потом надевают рубашку с кружевцем, трусики, лифчик, чулки, ботинки. Мите ничего этого не надо, как и пижамы по ночам, он бы с удовольствием жил без всего этого. Но они никогда ничего не пропустят, все напялят и застегнут на все пуговицы.
Покончив с последней пуговицей, мама спросила:
— Холодной водой будем умываться.
— Не-не-не, — ответил Митя.
— Теплой? — спросила она.
— Да, — ответил он.
Она вынула его из кроватки и поставила на пол. Он взял ее за руку и пошел в ванную. Там из блестящего крана уже текла вода.
— Только не смей брызгаться, — сказала мама. Но Митя не послушался и немного побрызгался, ударяя руками по текущей из крана струйке. После этого мама вымыла ему лицо и руки и вытерла шершавым полотенцем. Митя хотел бы, чтобы она ему почистила зубы щеткой, как чистила себе. Но этого она никогда еще ему не делала.
Когда она расчесывала гребешком его намокшие волосы, в комнатах громко зазвонил телефон. Митя сказал:
— Донн!
И его отнесли в кухню, где папа пил кофе, и усадили за стол. А на столе стояли в ряд тарелки, блюдца и чашки с разной едой. Мама прочла в какой-то книжке, что ребенок сам должен выбирать себе еду, потому что он лучше знает, что требуется его организму. Она это прочла и много раз об этом говорила, и Митя слушал со вниманием, потому что речь шла о еде. В этот понедельник перед ним поставили очень много вкусного: на одном краю было молоко, а на другом ломтик лимона, который Митя очень любил, а посредине была и каша, и сосиска, очищенная от кожицы, и картошка с соленым огурцом, и кефир, и кусочек хлеба.
— Выбирай, что хочешь, — сказал папа, и Митя выбрал все и всего поел, сколько мог.
— Мяу, мяу, — сказал он, покончив с этим делом.
Папа понял, что он хочет поздороваться с кошками, и поставил его на пол. Прежде всего Митя пошел посмотреть, что будут есть кошки. В кошачьей миске около холодильника лежало красивое красное мясо. Митя уже протянул к нему руку, желая попробовать кусочек, как вдруг рядом очутилась мама и шлепнула его по руке.
— Не смей! — сказала она. — Лучше иди разбуди кошек.
Кошки, Аська и Кнопка, еще спали в ногах бабушкиной постели, их уши торчали из-под одеяла. Митя поцеловал Аську между ушами, но ей это не понравилось, она высунула лапу с когтями и зашипела, и Митя убежал.
— А, это ты, — сказала бабушка, услышав топот его ног. — Ну, что будем делать?
— А-ах! — сказал Митя, это означало, что будем нюхать цветы. На бабушкином окне очень много цветов, и некоторые пахнут очень хорошо. И занавески у бабушки очень красивые, а за занавесками и цветами по железу ходят голуби, топоча ножками не хуже Мити. Митя протянул бабушке руку и сказал:
— Ам!
В руке у него был кусочек хлеба. Он его принес, чтобы покормить голубей. Бабушка раскрошила хлеб и высыпала крошки голубям. Там одна толстая белая голубка была очень жадная, у всех отнимала крошки.
— Наш Митя хороший человек? — спросила бабушка, и Митя радостно закричал:
— Да! — и пошел за руку с бабушкой осматривать ее комнату.
Ни в чьей комнате нет такого множества прекрасных вещей, как в бабушкиной. Чего стоит один рояль. Если сесть перед ним и ударить по его клавишам, он издает такие громкие веселые звуки.
А кроме рояля есть еще разные коробочки, в которых лежат блестящие украшения, цветные тряпочки и катушки со всякими нитками. В этой же комнате стоит телевизор, перед которым по вечерам усаживаются все, даже кошки, и лежит альбом, в котором есть лица папы, мамы, дедушки, бабушки, другого дедушки и самого Мити.
Митиных лиц там больше всего, его там можно увидеть и в пижаме, и в рубашечке, и в свитере, и завернутого в простыню, и совсем без ничего.
Митя может очень долго сидеть тихо, рассматривая себя во всех видах. При этом он говорит совсем так же, как когда нюхает цветы:
— А-ах! — потому что — что скрывать! — он себе нравится.
Бабушка добрая, она позволяет Мите все высыпать из ее коробочек на пол, только один раз рассердилась, когда он высыпал пудру.
И в этот понедельник Митя играл с ее коробочками потом взял карандаш и продел в ниточную катушку, и катушка завертелась на карандаше, как вертятся колеса машин, что бегают по улице.
Вошел папа и спросил:
— А не пора ли нам гулять?
— Да, — сказал Митя, и опять на него стали накручивать всякие одежки. А когда накрутили, сколько им хотелось, папа взял Митю на руки, снес его вниз по лестнице, и они вышли на улицу.
Там летали белые снежинки, бегали машины, и в колясочках ехали туда и сюда укутанные дети. Пробежало нечто куда более прекрасное, чем машины, пробежала большая собака с высунутым красным языком. Она сказала: «Ав-ав!» — и Митя ответил ей тем же.
В Таврическом саду было много детей. Одна девочка в красной куртке возила на веревке большой деревянный грузовик. Митя как увидел этот грузовик, так уже не мог отвести от него глаза. Девочкина мама это заметила и сказала ей:
— Дай этому мальчику покатать немножко.
Девочка послушалась, и Митя стал катать грузовик по дорожке.
Он делал это с восторгом и только иногда подходил к папе, сидевшему на скамейке, и брался за его колено.
Если бы еще пришла та большая собака, то было бы совсем уж прекрасно, но она не пришла. Она не пришла, и на какое-то время Мите даже показалось, что все прекрасное кончилось, потому что папа вдруг встал со скамейки и сказал:
— Ну, теперь отдай грузовик девочке и пошли домой.
Митя не хотел отдавать грузовик, папе пришлось это сделать самому. При этом папа что-то долго говорил про грузовик и про девочку, но Митя ничего не понял, и только горевал, что грузовик отобрали.
Как весело стало ему зато, когда они с папой зашли в магазин и папа купил ему такой же грузовик, даже еще лучше. Потому что в Митином грузовике были кубики с картинками, а в девочкином не было.
— Посмотри, что мы купили, — сказал папа маме, вернувшись домой.
А потом он стал с Митей играть. Сначала играли в индейцев.
— Как мы кричим, когда выходим на тропу войны? — спрашивал папа, и Митя громко кричал в ответ.
— А как дрожат наши враги? — спрашивал папа, и Митя отвечал:
— Брр! Брр! — и от этого в самом деле начинал дрожать.
Потом, сидя на полу, строили из кубиков высокие дома, а построив, раскидывали их ногами, и Митя говорил при этом:
— Бам!
А бабушка прибегала и спрашивала:
— Что творится в доме?
Вдруг над Митиной головой, на дедушкином столе, зазвонил телефон.
— Поговори с другим дедушкой, — сказал папа, послушав. Он приложил трубку к Митиному уху.
В трубке пощелкало, и голос другого дедушки спросил:
— Что делает мой внук?
Митя не понял и покричал в трубку, как кричат индейцы, выходя на тропу войны. Но другой дедушка, должно быть, его понял, потому что сказал:
— Ну, играй, милый, я приду вечером тебя купать.
Он жил на другой квартире, они с Митей ходили друг к другу в гости.
И в этот вечер он пришел, как обещал, и в ванну налили много воды, и другой дедушка нагрел на батарее купальную простынку, и Митя радовался, глядя на эти приготовления, он не знал, какой ему предстоит внезапный испуг.
Когда уже намылили его от шеи до пяток душистым мылом, сверху на него вдруг шумно упал дождь. Разве дождь идет в комнатах? Дождь идет на улице, там его место, а не в доме.
Никогда еще Митя этого не испытывал. Шум от упавшего дождя был такой, что он с трудом слышал, что говорили кругом.
— Напрасно ты, — сказал маме другой дедушка. — Надо было, как всегда, полить из кувшина.
— Да неужели наш сын испугался душа! — сказала мама. — Не может быть, тебе кажется.
— Ты испугался, милый? — спросил другой дедушка.
Не зная, что сказать, Митя ответил на всякий случай:
— Да.
— Разве ты трусишка? — спросил папа, но это было уж вовсе непонятно, так что Митя не сказал ничего.
— Ладно, — сказал другой дедушка. — Вынимай его, Поля. Испортили ему все удовольствие этим душем.
Мама вытащила Митю из ванны и подала другому дедушке в нагретую простыню. И все перешли в бабушкину комнату пить чай. Митя тоже пил — с лимоном и вареньем — после купанья это было очень приятно.
Потом его уложили спать, укрыли одеялом и потушили свет. В комнате стало очень темно, только белело окно в блестящих узорах. Вдруг на этом окне появилась большая черная собака. С одной стороны у нее свисал хвост, а с другой язык, она громко сказала: «Ав, ав». Ей навстречу помчался грузовик на высоких колесах, он освещал своими фонарями собакины глаза и зубы, стало страшно, Митя позвал:
— Мама!
ВТОРНИК
— Ав-ав, — сказал Митя утром, когда к нему подошли. — Та-та!
— Все те же сны, — сказал папа.
Гулять в этот день Митя пошел с мамой.
Она везла его в колясочке, но посадили ему туда медвежонка и зайца, так что ехать было интересно.
Приехали к какому-то дому, прошли по белому коридору, вошли в белую комнату. Там тоже было много маленьких, как в Таврическом саду, и ходили белые тети, и стояли маленькие белые стульчики. Мама посадила Митю на маленький стульчик, а сама села на большой.
Подошли две белые тети. Одна подняла рукав Митиной кофточки и помазала ему руку чем-то мокрым, а другая по мокрому поцарапала, не очень больно, кошки царапаются больнее. Но так как было непонятно, к чему эта боль, хоть и маленькая, то Митя заплакал, но мама сказала:
— Стыд и срам, никто не плачет, только наш Митя плачет, — и он перестал.
Маленькие сидели у стенки на стульчиках, и Мите неожиданно подумалось, как хорошо бы из этих стульчиков построить дом, а потом этот дом развалить.
Он взял один стульчик, на котором никто не сидел, и приставил к своему. Маленькие сразу угадали, что он затеял, и стали нести стульчики и складывать вместе.
Когда сложили порядочную кучу, Митя ударил в нее ногой, и другие стали бить ногами и получилось прекрасное «бам!».
Мама сказала:
— Ты с ума, Митька, сошел, нас выгонят с позором.
Но никто их не выгнал, они ушли сами.
Дома мама сказала папе, что Митя у нас растет организатором и коноводом, и папа сказал, что если при этом Митя будет умен, то это хорошо.
Рука поболела недолго, скоро прошла, только остались ямки там, где тетя поцарапала, и когда кто-нибудь спрашивал:
— А где у Мити привита оспа? — Митя показывал эти ямки.
СРЕДА
В это утро папа не ушел, а занимался с Митей и учил его разным вещам.
Сначала читал ему «Муху-цокотуху», «Бармалея» и толстую книгу из дедушкиного шкафа. Митя эту книгу уже немного знал и когда услышал слова: «Прибежали в избу», то договорил: «деди». Надо было сказать: «дети», но «деди» было легче, этим словом Митя называл своих дедушек.
Потом они с папой сложили из кубиков картинку — кошку с мячиком.
Потом делали «ладушки», как они были у бабушки, ели кашку и пили бражку, как кашка сладенька, бражка пьяненька, бабушка добренька, как они попили-поели, спать захотели, шу! — полетели и на головку сели. Делали и сороку, как она на припечке сидела, кашку варила, деток кормила. От частых упоминаний о кашке Мите и самому ее захотелось, но до обеда надо было подождать.
Еще ему захотелось подмести пол. Он принес из кухни веник и совок, подмел чисто и собрал в совок бумажки и пыль. Но только дошел до самого интересного — запустил в этот сор руки, как вошла бабушка и все отобрала.
— Ты что, сквозь стену видишь, что ли? — спросил ее папа.
— Я же слышу, — сказала она, — слышу, что вы вдруг притихли. То орали-орали, а то вдруг тишина. Ясно, что началось какое-то безобразие.
Митя на нее рассердился, лег на пол и стал колотить по полу ногами. Но папа сказал:
— Разве мужчины так сердятся? Глупые дети так сердятся, а не мужчины. Мужчины сердятся так: он стукнул кулаком по столу так, что кубики запрыгали, а один даже свалился.
Мите понравилось, он тоже стукнул кулачком по сиденью стула.
— Вот теперь так, — сказал папа.
Пришла мама и надела на Митю новую кофточку, желтую и пушистую. Бабушка сказала:
— Ты в ней похож на цыпленка, который только что вылупился из яйца.
И поставила Митю перед своим высоким зеркалом.
И ему так понравилось то, что он увидел в зеркале, что он вздохнул громко:
— Аах! — и не понял, почему они все бросились его обнимать и целовать. И показал бабушке и маме то, чему его сегодня научил папа, а бабушка и мама говорили:
— Он у нас не только красивый, но и умный.
Вечером пришел другой дедушка и с ним другая бабушка. Другой дедушка спросил:
— Митя у нас хороший человек?
— Да! — ответил Митя.
— Я с ним не гулял чуть не две недели! — сказал другой дедушка. — Не погулять ли нам сейчас?
Но мама не позволила.
— Уже поздно, — сказала она, — и дождь начинается, лучше завтра прогуляетесь с утра пораньше.
— Что ни говори, Поля, — сказал другой дедушка, — а надо еще внуков. На двух дедов одного внука никак не хватает. На мою долю какие-то выпадают крохи. И ему будет веселей, если рядом будет расти брат или сестра. Тем более что у тебя так славно получается, — и другой дедушка погладил Митю по желтой кофточке.
Пришли еще гости. Они уговорили бабушку петь, она села за рояль и запела. Митю она усадила к себе на колени, он тоже спел — очень похоже «Чижика», а гости им делали «ладушки».
ЧЕТВЕРГ
Наутро другой дедушка пришел, когда все еще спали, и велел:
— Одевайте его, мы пойдем гулять.
— Я выйду с вами, — сказала мама, — проводите меня до рынка, мне картошки надо купить.
Пошли по лужам. И там, куда пришли, были лужи, а кругом ходили серые и розовые голуби, такие же, как у бабушки на окне.
Ходили голуби, ходили, а потом что сделали: вдруг вошли своими ножками прямо в лужу и стали плескаться и брызгаться. И при этом радостно гулькали, так им было хорошо.
Мог ли Митя все это оставить без внимания? Конечно, не мог. И не оставил. Посмотрел-посмотрел и сам вошел в лужу в своих маленьких валенках с маленькими калошами, про которые дедушка как-то сказал, что не видел ничего смешней.
Подошла мама с сумкой и сказала:
— Как ты его пустил, он же простудится.
— Да, попробуй его не пустить, — сказал другой дедушка.
— Ладно, вылезай, — сказала мама. — Хорошенького понемножку.
Другой дедушка взял Митю на руки, а мама с сумкой пошла впереди.
— Я купила хорошую картошку, — похвалилась она.
Дома из Митиных калош вылили воду, сняли с него мокрые валенки и надели сухие чулки и ботинки. И он пошел в кухню, надеясь найти там мамину сумку.
Сумка стояла у холодильника, за кошачьей миской. Митя достал картофелину и попробовал. Картошка вправду была хорошая, Митя съел ее с кожей.
Прощаясь, другой дедушка сказал:
— Рекомендуют для него опытную няню, я ее, может быть, на днях приведу. А Поля пусть занимается.
Вечером папа учил Митю, где у него ушки, где глазки, где носик. И так как Митя запоминал трудно, папа стал учить его на мамином лице. Это было легче, и Митя очень быстро научился показывать ушки, и носик, и глазки. Он сам радовался, как это он все так хорошо выучил, но мама вышла из комнаты. Она вышла, а папа возьми и спроси:
— Где носик?
Митя показал рукой на дверь, напоминая, что носик ушел и спрашивать о нем бессмысленно, и над Митей все засмеялись. Тогда он догадался и тем же пальцем показал на свой собственный нос, и они опять сказали: «Какой наш Митя умный».
ПЯТНИЦА
Перед обедом вместе с другим дедушкой пришла какая-то совсем новая бабушка с белыми волосами под белым платочком.
— Знакомься, — сказал другой дедушка. — Это няня.
И Митя подумал — какая еще такая няня, это бабушки бывают с такими белыми волосами, — и сказал решительно:
— Баба-няня.
— Ах ты, мой миленький, — сказала она, а другие сказали:
— Хорошо, пусть баба-няня, раз тебе так больше нравится.
— Покажи бабе-няне, где ты спишь, кроватку и твой шкафчик, — сказала мама, и Митя все показал.
Баба-няня усадила его на стул и покормила очень интересно — котлету размяла в супе, ему это показалось очень вкусно, потом уложила спать. Он ее понюхал, она пахла хорошо — горячими котлетами и душистым мылом. Понравилось ему и то, что она не надела на него пижаму, а сказала:
— Днем можно спать и в рубашонке, вольнее тельцу.
СУББОТА
— Сегодня, — сказал папа, — мы поедем к прабабушке — прабабе.
Митя обрадовался, потому что к прабабушке надо ехать на трамвае и потому что у нее всегда дают что-нибудь вкусное и интересное. Один раз даже давали разноцветные яички, их надо было стукать друг об дружку. А другой раз давали даже сладкое вино, какого дома никогда не бывает.
Прабабушка сидела, как всегда, в своем кресле. На столе перед нею лежали апельсины и яблоки. Митю не заставили ждать нисколечко, сразу дали ему апельсин, и он стал играть в футбол.
Прабабушку он раньше называл просто «баба», пока она не сказала:
— Я не баба. Бабушки у тебя другие. Я — прабаба.
Кроме яблок и апельсинов, на столе было много карточек. На одной карточке Митя увидел себя с мамой и папой. Он сказал:
— Мама, папа, Тата.
— Скажи «Митя», — сказала прабабушка, но он не сказал.
— Он всех детей называет Татами, — объяснил папа. — В том числе и себя. И машины у него тоже «таты».
— Значит, ты его не понимаешь? — спросила прабабушка.
— Почему же, — сказал папа. — Понимаю все.
У прабабушки много вещей, каких больше нет ни у кого. И кресло на колесиках, и высокие подсвечники, куда вставляется много свечек, и в углу — красная баночка, в которой горит огонек. И в футбол апельсином у нее можно играть, и подметать она позволяет сколько угодно, и вынимать из тумбочки пузырьки с лекарствами. И если ей говорят: «Ты его совсем разбалуешь», — она отвечает:
— Детей надо баловать, это доказано наукой.
— Какой же это наукой доказано? — спрашивают у нее, а она говорит:
— Иначе они вырастают тупыми и черствыми.
— На мои именины вы приедете? — спрашивает прабабушка.
— Конечно, — говорит дедушка.
Именины — это Митя знает, что такое. На именинах у прабабушки бывают пироги, и гостей очень много — и маленьких, и больших. Бывает девочка Настя, почему-то Мите велят ее называть тетя Настя, а она не хочет.
— Какая я тетя, — говорит она. — Я Настенька.
Прабабушка смотрит на них и говорит:
— Когда вы вдвоем, вы особенно милые.
Настя поет песню: «Во саду ли в огороде Настенька гуляла, невеличка, круглоличка, румяное личико».
«За ней ходит, за ней бродит удалой молодчик», — поет она, и Митя думает, что это про него. Молодчик — это он.
«За ней носит, за ней носит Дороги подарки — поет Настенька. Дорогие те подарки — Кумачи, китайки. Кумачу я не хочу, Китайки не надо. Подари, моя надежда, Алого атласу На две шубки, на две юбки, На две душегрейки».Так поет Настенька, девочка с черными глазками, и в ее песни идет Митя большой, и сильный, и красивый, и умный, он ничего не боится, все может, он подарит Настеньке все, чего она хочет, — прекрасной девочке, знающей прекрасные песни.
МИТЯ НА ДАЧЕ
СБОРЫ
— Завтра едем на дачу, — однажды сказал дедушка. — Я закажу такси.
— Лучше в электричке, — сказала мама. — Не укачало бы его в такси.
— С чего это его укачает, — сказал папа. — И троллейбус, и автобус он переносит отлично, перенесет и такси.
И они стали брать Митины вещи и укладывать в чемодан. Уложили и одежу, и книжки, и игрушки. Танк сначала не лез в чемодан, но потом влез, когда баба-няня села на крышку чемодана.
— Никогда бы не подумала, — сказала мама, — что у него столько барахла.
— Больше, чем у нас с тобой, — сказал папа.
— Да ему больше и требуется, — сказала мама.
Хотели впихнуть в чемодан и стеганое одеяло, но оно никак не хотело впихнуться. Решили положить его прямо в кроватку, а кроватку поставить на грузовик.
В ПУТИ
С утра все говорили о том, что сразу после обеда поедем.
Дедушка, придя к обеду, сказал:
— Выбирайтесь, там внизу две машины, и легковая, и грузовая. А спать он будет уже на даче.
Баба-няня сказала:
— Присесть полагается и помолиться.
Все сели, Митя на коленях у бабушки, а потом спустились вниз.
За воротами на улице стояли две машины. Папа взял Митину кроватку и чемодан и поднял на грузовик.
Митя подумал, что и его посадят туда же, но ему пришлось вместе со всеми сесть в легковую машину. Это было жалко, потому что на грузовике он не ездил еще никогда.
— Ну, прощайся с городом, — сказал папа. — Не скоро его увидишь. — И Митя помахал в окошко рукой.
Долго ехали по улицам, потом мимо какого-то очень большого зеленого сада. Бабушка сказала, что это лес.
В лесу Митю ненадолго высадили из машины и показали ему гриб. До этого он видел гриб только на картинке, тут он был непохожий — на тонкой гнилой ножке, и из него вылезали маленькие черные муравьи. Дедушка сказал, чтобы Митя не смел брать его в рот, потому что это поганка.
Но кроме запретной поганки в лесу оказались маленькие белые цветочки, они росли прямо из зеленой травки. Мите позволили их рвать, только, к его огорчению, они ничем не пахли. Зато маленькая шишка, валявшаяся среди них, прекрасно пахла новогодней елкой и подарками.
— Ты у нас, оказывается, любитель природы, — сказал папа.
Бабушка сказала:
— Я это давно поняла. Разве ты не видел, как он относится к цветам и голубям. Его надо окружать прекрасными вещами.
— Кажется, достаточно окружен, — сказал папа.
— Я хочу сказать, — объяснила бабушка, — красивыми вещами. У него очень развито чувство прекрасного.
— Ничего еще в нем не развито, — сказал папа. — Только развивается пока что.
— А мы должны помочь этому развитию, — сказала бабушка.
— А я в детстве был такой же? — спросил папа.
— Да, — сказала бабушка. — Но немножко в другом роде. Ты был спокойнее. Не лез пальцами в дверные щели и не лопал сырую картошку.
— А сырая картошка — полезна, — сказал папа. — У Джека Лондона сырой картошкой спасаются от цинги.
— Какая цинга может быть, — сказал дедушка. — Не говорите всуе, терпеть не могу. Откуда цинга в наше время у нашего ребенка?
— Ты, кажется, засыпаешь, наш ребенок, — сказала мама. — Потерпи, скоро приедем.
И правда, скоро они остановились у зеленой лужайки, за нею стоял маленький домик, а на лужайке катались какие-то желтые шарики.
— Смотри, Митька, — сказал папа, — это цыплята, а с ними курочка ряба.
— Баба, — сказал Митя, «ряба» он не мог сказать, хотя узнал ее по хвосту и гребешку, такому же, как в книжке.
— Хочешь с ними погулять? — спросил дедушка, и Митя побежал по зеленой лужайке.
В домике были маленькие комнатки с большими окнами, в них светило солнце. Бабушка и баба-няня повесили занавески и уложили Митю в его кроватку, он заснул сразу и видел во сне курочку рябу с цыплятами.
САШКА
— А кто к тебе пришел! — сказала мама, когда он проснулся, и позвала:
— Саша!
И в комнату, топая сандалиями, вошел мальчик. Он был чуть-чуть побольше Мити и с такой же светлой растрепанной головой. И сразу очень понравился Мите.
За ним вошла какая-то женщина и спросила:
— А не помешает он вам?
— Ну что вы, — ответила мама, и женщина сказала:
— Ну, Сашка, ты же смотри, не обижай маленького, а я за тобой приду.
— А чего у тебя есть? — спросил мальчик у Мити. — Какие игрушки?
В ответ мама открыла чемодан, чтобы Саша рассмотрел игрушки. Он рассматривал, а Митя сквозь сетку кроватки смотрел на него с любовью.
Утром, едва проснувшись, он позвал:
— Сашка!
Это имя было какое-то веселое, Мите больше нравилось, чем «Саша».
И играть стало веселей, когда появился Сашка. У него были для игры какие-то камушки и деревянные брусочки, и даже маленькие цветные стеклышки, и иногда он дарил Мите какую-нибудь из этих прекрасных вещей.
— Не порезал бы он ручки этими стекляшками, — говорила няня, но папа и мама отвечали:
— Ничего, пусть пользуется всем, что ему перепадает от жизни.
Вначале Митя побаивался курочки рябы и не очень охотно выходил на лужайку перед домом. Но увидев, что Сашка не боится, стал выходить смелее.
КОРОВА
По вечерам теперь Мите стали давать молоко, не такое, как в городе, а гораздо вкуснее. Он его полюбил и, едва начинало темнеть, говорил:
— Молока!
Няня брала кувшинчик и куда-то уходила, и когда возвращалась, кувшинчик до краев был полон пенистым белым молоком.
Однажды няня сказала:
— Пойдем посмотрим коровку, которая нам дает молочко.
Они пошли по улице и вошли в какой-то двор. Там был сарай, а в сарае Мите показали что-то большое коричневое с белыми пятнами:
— Вот коровка, — сказала няня. — А вот у нее рога.
Вошла Сашкина мама с ведром, поставила около коровы скамеечку, села на нее, а ведро подставила под корову. И стала давить корову пальцами, и из коровы в ведро потекло белое молоко. Когда его набралось полведра, Сашкина мама перелила его в баночки и в Митин кувшинчик.
— Вот видишь, — сказала няня, — откуда берется молоко.
И Сашка представился Мите еще более счастливым: ведь у него были и чурочки, и цветные стеклышки, и эта большая корова с рогами, а у Мити только игрушки. Никогда еще Митя не встречал такого важного человека, как Сашка. Он с каждым днем любил Сашку все больше. Когда его теперь спрашивали:
— Как тебя зовут? — он отвечал:
— Сашка.
И если ему говорили: «Нет, тебя зовут Митя», — он сердился, как сердятся мужчины, и кричал:
— Сашка, Сашка! — пока с ним не соглашались:
— Ну хорошо, пусть Сашка!
БОЖЬЯ КОРОВКА
Приехал в гости другой дедушка и подарил Мите большого железного жука с веревочкой и с черными пятнышками на красной спинке. Если потянуть за веревочку, жук весело бегал по полу. Мама сказала Мите:
— Это — божья коровка.
А няня сказала:
— Жук!
Но Митя уже знал, как это называется, и ответил:
— Не-не! Божья коровка.
И подумав, добавил:
— Божья коровка — божье молоко.
— Посмотри-ка, — сказала мама папе. — Сообразил.
— Да он уже все соображает, — сказал папа. — Кроме того, что он — не Сашка.
ПУТАНИЦА С БАБАМИ
Что-то много у Мити получилось баб. Кроме той бабушки, что дома, бабы Ирины, есть еще другая бабушка, есть баба-прабаба, есть баба-няня, а теперь и курочку рябу Митя стал звать «баба». И сам заметил, что запутался с этими бабами и не всегда знает, какую как назвать. Чтобы облегчить себе это дело, стал курочку называть «апа», а заодно стал называть так и яйца, потому что няня сказала, что их дает курочка. И теперь, когда у него спрашивают, что ему дать на завтрак, он отвечает: «Апа».
ЛЕС
— Сегодня пойдем в лес по грибы, — сказали Мите утром.
Он обрадовался, потому что помнил, как побывал в лесу по дороге на дачу и потому что Сашка ходит по грибы каждый день, а Митя ни разу еще не ходил.
На веранде поставили ведро с водой и сказали:
— Сюда мы будем класть горькушки.
После обеда мама взяла свою большую сумку, а папа взял плетеную корзинку, а Мите дали его игрушечную корзиночку, и все пошли в лес.
Мите очень понравилось, когда между деревьев и кустов закраснелось нянино платье и по зеленой траве стали ступать мамины красные туфли, ему это показалось очень красиво. Первый гриб нашел папа, второй няня, третий мама. Митя уж думал, что он ничего не найдет, как вдруг увидел под деревом желтоватую шляпку. Он бросился туда и сломил красивый гриб на белой ножке, запачканный землей. Поднял его над головой и прокричал:
— Гриб!
Оглянулся и увидел еще много таких же грибов. И принялся собирать их обеими руками.
— Это грибы маслята, — сказала няня. — А этот — горькушка, что с ним надо сделать?
Митя к своему удовольствию, тотчас вспомнил, что надо делать с горькушками, взял гриб из няниных рук и побежал обратно домой.
— Интересно, — сказала няня. — А про ведро он вспомнит?
— Не беспокойтесь, — сказал папа, — вспомнит.
И правда, Митя прямиком побежал к ведру с водой и утопил в нем горькушку. И когда его похвалили и назвали умником, он понимал, что заработал эти похвалы. Недаром же про него даже в песне пели, что он молодчик.
Кроме грибов, они принесли из лесу много шишек. Большими Митя поделился с Сашкой, а маленькие мама убрала, сказав:
— Мы их зимой повесим на елочку.
КАК МИТЯ СПАС ЗАЙЧИКА
Хороший человек Митина баба-няня, но однажды она сделала ужасную вещь: рассказала Мите историю, из которой он узнал, что где-то близко от него творится что-то такое страшное и непонятное, чего даже во сне Митя не хотел видеть.
Начиналась эта нянина история как будто даже весело:
Раз, два, три, четыре, пять, Вышел зайчик погулять.Тут пока все было благополучно: гулял себе зайчик с длинными ушами и куцым круглым хвостиком, белый и мягкий, как тот, который днем лежит на полке в шкафчике с игрушками, а ночью — с Митей в его кроватке.
Гулял зайчик, смотрел на машины, дома и снежинки, может быть, заходил лапками в лужи, может быть, перепадало ему что-нибудь из еды — яблоко или морковка. Игрушечного зайца Митя кормит морковкой. Веселился зайчик, дышал воздухом — и…
— Вдруг, — сказала баба-няня, — охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой.
Митя понятия не имел, что значат слова «стреляет», «умирает», но почему-то понял, что с зайчиком случилась страшная беда, и горько заплакал. И когда баба-няня опять начинала «Раз, два, три», он говорил: «Не-не-не», и даже дрался, чтобы ему больше не рассказывали про эти ужасы. А с игрушечным зайцем стал еще ласковей.
Про все это узнали мама и папа, они обо всем узнавали, и мама спросила:
— Тебе не нравится, что зайчик умирает?
— Да, — сказал Митя.
— А он и не умирает вовсе, — сказала мама. — Баба-няня не так рассказывает. Вот послушай, как было дело:
«Пиф-паф, ой-ой-ой, Убегает зайчик мой».Вот как надо правильно, — закончила мама.
— Правильно, — сказал Митя, — теперь правильно.
— Конечно, — сказала мама. — Так и только так. А теперь ты сам мне это расскажи.
И Митя рассказал.
И все в его рассказе было правильно, и баба-няня от него научилась рассказывать как надо, и зайчик никогда уже не умирал больше.
У ПРАБАБУШКИ
Одно жалко: что все, даже самое хорошее, когда-нибудь кончается. Вот и дача кончилась, приехали оба дедушки и повезли Митю обратно в город вместе с мамой, папой, няней, игрушками и с ведром соленых грибов.
Дома ждала их бабушка, она очень им обрадовалась, особенно Мите и грибам.
Дедушка сейчас же позвонил по телефону прабабе и сказал ей так:
— Зря ты волновалась, мы уже дома и на именинах твоих будем всей ротой.
Митя обрадовался, услышав слово «именины», он ожидал от этих именин много вкусного и приятного. Весь день он повторял: «абабе», что означало: «к прабабе», а его утешали, что обязательно к ней поедут, только сначала Митя должен пообедать и поспать.
Он все это проделал добросовестно, а потом они нарядились и поехали на трамвае к прабабе.
После долгой разлуки Митя опять увидел ее окно, огоньки в окне и сказал:
— Наш дом.
— Наш, наш! — сказал дедушка и, показав пальцем вверх, спросил: — А звездочки ты видишь?
Митя посмотрел вверх и там тоже увидел маленькие огоньки. Он догадался, что это и есть звездочки, и ответил:
— Да.
— Там тоже наш дом, — сказал дедушка. — Везде, везде наш дом. Ну, пошли пирог есть. — И они все вошли в лифт.
В передней уже было тесно от пальто и шапок, и из комнаты были слышны голоса. Прабаба сидела в кресле нарядная, и посреди комнаты на длинном столе горело много свечек и стояли блюда с какой-то едой. Митя стал на цыпочки и заглянул, что там есть. Настя в розовом платьице подбежала к нему и заглянула тоже. Митя взял с тарелки кусок колбасы и дал ей.
Потом прабаба, как всегда, целовала им ручки и каждую ямочку на ручках отдельно. А они ей подарили цветы.
— Как выросли, милые вы мои, — говорила прабаба и почему-то плакала. И Настя у нее спросила:
— Ты видишь мое новое платье?
— Вижу, вижу, — сказала прабаба, — а вы были у дедушки?
В ее квартире, за одной из дверей, есть еще один дедушка. Митя и Настя побежали к нему. Митя открыл его шкаф и увидел много интересного. Дедушка подарил Мите сахар, завернутый в бумагу. Митя сказал:
— Еще, — и дедушка дал еще, а Митя позвал:
— Настя! — и когда она прибежала на его зов, он подарил ей сахар.
— Что это вы едите? — спросила прабаба, когда они к ней вернулись. Папа посмотрел и сказал:
— Это сахар, какой дают в ресторанах и поездах. Должно быть, дед вывез из какого-нибудь путешествия.
Митя вспомнил, как много разных вещей у дедушки в шкафу и решил побывать у него еще раз. Он показал дедушке на проигрыватель и пластинки, давая понять, что хочет музыки. Дедушка понял и завел ему музыку. Митя полизал кучку пластинок, лежавшую на столике. Это было не особенно вкусно, но очень необычайно, и Митя позвал опять:
— Настя! — Он любил делиться с другими всем, что имел.
Настя прибежала на его голос и тоже немножко полизала пластинки. Но ей, должно быть, они совсем не понравились, она поскорей стала заедать их колбасой.
— Где вы с Митей пропадали? — спросила у нее прабаба, увидев ее опять. — Нам без вас скучно.
И Митя с Настей стали бегать и танцевать, и танцевали до тех пор, пока их мамы не сказали, что пора по домам.
В ту ночь Митя совсем не спал. Только он начинал дремать, как видел Настю с ее черными глазками и с торчащим из зубов сахаром. Ему хотелось бегать с нею, и он громко звал:
— Настя! — и тянулся к ее розовому платьицу, но она убегала от него.
ПЛОХОЙ ГОГА
Митя — хороший, это всем известно. Мама, папа, бабушки, дедушки, баба-няня, прабаба — тоже хорошие. Очень хорошим был Сашка. Но вот появился нехороший человек, совсем даже плохой — мальчик Гога.
Этого мальчика придумал дедушка. Почти каждый день он рассказывает хорошему Мите про плохого Гогу.
Этот Гога всего боится.
Этот Гога не хочет одеваться.
Он вечно плачет, так что всем на него противно смотреть.
Он вырвал лист из дедушкиной книги.
Он лезет в кошачью миску и в мусорное ведро.
Он дергает кошек за хвосты и за уши.
Хороший Митя ничего подобного не делает.
Если какая-нибудь игрушка оказывается сломанной, это дело рук плохого Гоги.
Когда однажды в комнату через открытую форточку залетел воробей, плохой Гога стал хватать его руками, чтобы сделать ему больно, а хороший Митя отогнал плохого Гогу и дал воробью крошек.
И Мите нравится слушать про то, как безобразничает плохой Гога. Слушая эти истории, он лучше понимает, до чего хорош хороший мальчик Митя.
НАСТЯ У СЕБЯ ДОМА
Когда Митя ушел с именин, он, прежде чем сесть в трамвай, долго стоял на остановке. То есть, конечно, стояли папа, мама, дедушка и бабушка, а Митю они по очереди держали за руку, иногда поднимая его, чтобы он смотрел в ту сторону, откуда шли трамваи. Еще много народу стояло на остановке, и, присмотревшись, Митя увидел, что недалеко от него стоит и Настя со своим папой. Настю Митя узнал по ее капору, а папу ее — по большой бороде, Митя этой бороды немножко боится, а Настя — ни капельки.
Далеко над рельсами завиднелись огни — подходил трамвай. Он подошел, светя всеми своими окнами, но еще раньше него подошел большой косолапый автобус, и Митя увидел, что Настя со своим папой, с капором и папиной бородой вошли в автобус и уехали, и понял, что теперь он, должно быть, не скоро ее увидит: она жила где-то в совсем другой стороне, откуда приезжают на автобусе.
Это он угадал правильно, она жила на той стороне, которая называется Выборгской и куда ехать надо по мосту через реку.
Там жила Настя с папой, мамой, бабушкой Марией Михайловной, сестрой Машей и игрушками, которых у нее было очень много. В том числе были два больших мохнатых медведя, один коричневый, а другой был когда-то белый, а теперь стал серый. На серой его мордочке чернели только глаза и нос. Однажды он потерял свои глаза, и бабушка Мария Михайловна срезала со старых Настиных туфелек пуговки и пришила их белому медведю вместо глаз, и он опять стал медведь хоть куда.
Была еще коричневая обезьяна по имени Макака, которую Настя особенно любила.
Очень много было разных кукол, и девочек и мальчиков, и мебель, и посуда, и плита с кастрюльками, и разные одежки, которые сшила Маша своим куклам. У одной куклы было даже пальто с воротником из меха.
Были игрушки, которые папа вырезал Насте из бумаги или слепил из пластилина, Настя и сама любила лепить из пластилина, но ей это не всегда позволяли, потому что после этого пол во всей квартире начинал прилипать к подошвам, а Настины рукава были измазаны почти до плеч.
Иногда папа расставлял эти вылепленные и вырезанные фигурки на сиденье большого кресла и говорил, что это театр, и Настя садилась перед креслом на маленькой скамеечке или просто на полу и смотрела представления про Красную шапочку, Серого волка и бабушку, или про Кота в сапогах, а потом сама показывала эти представления маме и Маше.
В куклы папа тоже очень интересно играл — и купали их они с Настей, и спать укладывали, и поили чаем. Папа насыпал в сахарницу настоящий сахарный песок и на игрушечных тарелках раскладывал кусочки настоящей колбасы, а бабушка Мария Михайловна сердилась, зачем переводят добро.
Бабушка Мария Михайловна была украинка и говорила как-то особенно, и Настя перенимала этот говор. Когда какая-нибудь кукла ей надоедала, Настя отсаживала ее в сторону и говорила:
— А иди ты к бiсу.
А когда у нее что-нибудь не получалось, она говорила:
— Не буде дiла.
Она пела по-украински: «Як бы я була цыганкой» и «Йихалы цыганы з ярмарки домой». Бабушка Мария Михайловна этих песен не пела, откуда же Настя их узнала? Они словно по воздуху прилетели к ней неизвестно откуда.
Такие истории, как про зайчика и охотника, Настя уже позабыла, она была старше Мити и читала наизусть:
У лукоморья дуб зеленый. Златая цепь на дубе томи дальше до самого конца.
Ей много раз это читали, вот она и запомнила. Она и сама уже знала буквы, знала, что Н — это ее буква, а М — Машина, и даже могла эти буквы нарисовать карандашом.
Папа, укладывая ее спать, пел над нею те песни, которые пели ему, когда он был маленьким. Чаще всего он пел песню про мальчика Юрочку, хотя Настя девочка. Пел он и про то, как у сороконожки народились крошки, и про кота-воркота, и другие песни, тоже очень хорошие. Он их все помнил и говорил, что эти же песни Настя будет петь своим деткам.
И за все это Настя любила своего бородатого папу больше всех.
— Что ты видела во сне? — спрашивали у нее утром.
— Папу, — отвечала она.
— А что он делал? — спрашивали.
И она отвечала иногда:
— Делал подарки.
А чаще отвечала:
— Играл.
А когда на лето Настя с бабушкой Марией Михайловной улетала в Омск к тете Нине, то с мамой и Машей Настя прощалась дома, а папа провожал их и сажал в самолет и не уходил, пока самолет не улетал в небо.
Когда прилетели к тете Нине, Настя сначала ей все рассказывала, но скоро заскучала и сказала бабушке Марии Михайловне:
— Теперь поедем в Ленинград. Надоело в Омске.
И бабушке с тетей Ниной пришлось ее уговаривать, чтобы она согласилась остаться в Омске.
У тети Нины была для Насти приготовлена грядка, на грядке росла редиска. Настя копала грядку маленькой лопатой и выдергивала из земли редиску с длинными хвостиками, а потом за завтраком они эту редиску съедали.
Это было очень интересно, а еще интересней было ходить с тетей Ниной в баню. Ванны у тети Нины не было, и Насте казалось, что в бане мыться куда веселей. Клубился теплый пар, из всех стен торчали краны, из них шумно хлестала вода. Перед Настей ставили полную шайку, и она плескала из нее воду, куда хотела и сколько хотела. А помывшись, они с тетей Ниной повязывали головы платочками и шли домой пить чай с вареньем.
Прекрасней же всего было, когда тетя Нина давала Насте большой зеленый веник и приказывала себя шлепать.
Все лето прожила так Настя, а потом они с бабушкой Марией Михайловной полетели обратно в Ленинград.
Только самолет сел на землю, как к ним вбежал папа и схватил Настю на руки. Он ее целовал, а она трепала ему бороду, она эту бороду за лето почти забыла, а сейчас вспомнила опять.
Дома были мама и Маша, и все игрушки, и ванночка. Мама посадила Настю в ванночку и сказала:
— А ты из нее выросла.
Потом уложила Настю в кроватку и сказала:
— И из кроватки выросла. Знаешь, что? Сложим-ка мы ее и поставим на антресоли.
— А на чем я буду спать? — спросила Настя.
— А тебе новую купим, — ответила мама.
— А на этой кто будет спать? — спросила Настя.
— Пока никто, — сказала мама, — а потом, может быть, у тебя будет братец или новая сестра, и они будут спать на этой кроватке.
— Нет, — сказала Настя, — не надо.
— Как не надо? — спросила мама.
— Не надо их здесь, — сказала Настя решительно.
— А куда же их девать? — спросила мама.
— А мы их пошлем в Омск, — сказала Настя.
Должно быть, ей подумалось: чем оставаться тут и завладеть ее кроваткой и игрушками, пусть лучше в Омске тянут редиску из грядки.
— Вот послушай, как она рассудила, — сказала мама папе.
— Детская ревность, — сказал папа. — Очень естественно.
— Думаешь, ревность? — спросила мама. — А не жадность?
— Ревность, — сказал папа. — Ребенок любит свой мирок и дорожит им и не хочет, чтобы его разрушали. И пусть дорожит, это очень даже хорошо. Если хочешь, это первые зачатки патриотизма.
— Может быть, ты и прав, — сказала мама.
— Конечно, прав, — сказал папа, — как всегда. Вдумайся, ведь патриотизм — это наша привязанность к тому, что нас окружает.
— Только ли? — спросила мама.
— Ну, у взрослого над этой привязанностью еще всякие духовные надстройки, но у нее пока что основное — любовь. И лично мне, как хочешь, это очень даже нравится.
— Нет, — сказала мама, — надстройки нужны обязательно.
— Придут, — сказал папа.
— Да, вероятно, — сказала мама.
— Ну, конечно, — сказал папа. — Уже приходят. «У лукоморья дуб зеленый» и «иди к бiсу» — чем тебе не надстройки?
1972
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ И ТАНЯ Быль
В одном из научных институтов Ленинграда работают Сергей Иванович и Таня. У Сергея Ивановича волосы, особенно над ушами, почти совсем белые, а у Тани голова красная, как морковка, и вообще они очень разные.
Сергей Иванович — ученый. Он написал много научных книг, в том числе толстый учебник, по которому учатся молодые специалисты. А Таня занимается в институте тем, что присматривает за белыми мышами, которые содержатся в лаборатории для опытов. Она надзирает, чтобы мыши вовремя были накормлены, не кусали друг друга и чтобы их не тронул кот Зайка, который тоже служит в институте и даже получает зарплату. Он получает ее за то, чтобы отпугивать противных крыс от маленьких беленьких мышек с красными глазками.
Впрочем, Зайка — лентяй и трус, он сам боится серых крыс, — может быть, потому, что, когда он был еще подростком, какая-то нахальная крыса откусила ему хвост. С тех пор Зайка ходит с куцым хвостом и, почуяв крысу, жмется к человеческим ногам. Однако его не увольняют, потому что он тут положен по штату, и каждый день он получает в лаборатории свой обед половинку сосиски и молоко.
Сергей Иванович носит на груди колодочки с орденскими ленточками. Таня носит на груди кусок янтаря, оправленный в серебро.
Если Сергею Ивановичу скажут, что вышла новая интересная книга, он бежит ее искать и не успокоится, пока не купит. Таня книг читает не очень много, ее больше интересуют журналы мод.
Вот такие они непохожие люди, Сергей Иванович и Таня. И потому все сотрудники удивились, увидев, что они дружат между собой. И как дружат!
Вот, например.
До обеденного перерыва еще почти час, а Таня уже бежит в магазин, чтобы купить для Сергея Ивановича все, что он любит.
Или вот еще, например: приходит Сергей Иванович утром на работу, а в руках у него, кроме портфеля, еще букетик ландышей: это значит, что у выхода из метро сегодня продавали ландыши. И сейчас же этот букетик оказывается на Танином столе в баночке из-под майонеза.
Другой раз приходит на работу Сергей Иванович — в руках у него пионы. И сейчас же они оказываются на Танином столе в казенном графине. Третий раз приходит Сергей Иванович с букетом черемухи. Тут уж Таня бежит к уборщице Ивановне и выпрашивает у нее большой глиняный кувшин. И потом весь день черемуха сыплет на Танин стол крошечные, как брызги, лепестки. И в мороженом, которое ест Сергей Иванович, тоже черемуховые лепестки. И мнительная машинистка Евгения Петровна, заходя в Танину комнату, говорит:
— Дай мне пирамидону, Танечка. Как у тебя не разболится голова от этого аромата?
В четвертый раз Сергей Иванович приносит Тане целый сноп полевых цветов. И так почти каждый день.
— Вот оно какое дело, — сказала Евгения Петровна старшему бухгалтеру Розе Романовне, а Роза Романовна спросила у Тани:
— Когда же, Танечка, вы с Сергеем Ивановичем нас на свадьбу пригласите?
Но Таня сказала:
— Вы с ума сошли. Этого никогда не будет.
— Но ведь вы друг друга любите, — сказала Роза Романовна.
— Конечно, — сказала Таня, — еще бы нам друг друга не любить. Он мне был когда-то как мама и папа и все на свете.
— Ничего это не объясняет, — сказала еще одна сотрудница. — Если он тебе был как мама и папа, тогда понятно, почему ты в знак благодарности ему пирожки таскаешь. Но чего ради он тебе цветы таскает, вот ты что объясни.
— Как! — сказала Таня. — Неужели вы не знаете, что человек особенно любит тех, кому он сделал что-нибудь хорошее. А он мне сделал самое большое, что может быть: от смерти меня спас.
— Как же это было? — спросили сотрудники. — Расскажи.
И Таня рассказала:
О ЗИМЕ
Это была самая холодная зима. Выйдешь на улицу, глотнешь воздуха сразу у тебя в животе как будто кусок льда. Я сказала об этом маме, она сказала:
— Ну, не ходи гулять, деточка, ты слишком слабенькая стала.
О ЛУНЕ
И все от этого холода окоченело. Окоченели замороженные окна. Окоченели и белые крыши; похоже было, что луна тоже окоченела, — такая она стала белая и таким от нее несло холодом. Ее свет был похож на полотнища белой марли, спускавшейся с неба на землю. Поднимался грохот, завывала воздушная тревога, бомбы пробивали белую марлю и падали на наш проспект. В соседней квартире пробило крышу, мы с мамой ходили смотреть. Там паркет был разбит на узенькие щепочки, и железные брусья кровати были скручены как проволочки, и по крышке рояля шла трещина, похожая на молнию, но вот чудо — зеркало на стене было целехонько, только запорошено, как пудрой, штукатуркой от разбитой стены.
О ХЛЕБЕ
Я была маленькая и глупая и не понимала, почему так плохо стало все. Почему не стало ничего вкусного и даже хлеба не хватало, чтобы наесться. Почему папа нас оставил тут, а сам уехал. Мама мне объяснила, и по радио говорили, но я все равно понимала плохо. Мама шла в булочную и покупала хлеб по карточкам: мне, ей и Эльзе Августовне, соседке, доставалось по маленькому кусочку. Свой кусочек мама отдавала мне.
— Оставь его на вечер, — сказала ока как-то, — а то ты стала очень плохо спать.
Я сказала:
— Я плохо сплю, потому что холодно.
Тогда мама сделала вот что: истопила в кухне плиту и, когда дрова прогорели, устроила мне постель на плите.
Топила плиту она папиными книгами и щепочками из разбитой квартиры. В эту ночь мне было тепло и я спала хорошо. И она стала каждый вечер укладывать меня на плите. А возле меня ставила большой чайник, чтобы согреть воды к утру, потому что я разлюбила умыванья холодной водой, я очень зябла.
— Не вредно ли ей все это? — сказала Эльза Августовна.
— Она такая слабенькая, — ответила мама.
Эльза Августовна была очень добрая. Она тоже отдавала мне свою еду и по утрам учила меня русскому языку и арифметике. Арифметика была скучная, у меня от нее болела голова. Мама сказала:
— Она такая слабенькая, куда ей сейчас учиться, успеет.
Эльза Августовна послушалась, и я была очень рада.
О СОСНОВЫХ ВЕТОЧКАХ
Эльза Августовна съездила куда-то и привезла сосновых веточек. Мама их заваривала, как чай, и мы этот чай пили.
О ЛУКОВИЦЕ
Однажды мама нашла на улице луковицу — настоящую луковицу. Мы ее съели с подсолнечным маслом, это было так вкусно, что мы смеялись от радости.
— Вот бы каждый день находить луковицы, — сказала мама.
О СТОЛЯРНОМ КЛЕЕ
Один сосед, столяр, подарил нам плитку столярного клея и научил, как сварить из него студень. Студня получилось очень много, несколько глубоких тарелок.
— Хочешь еще? — спросила мама.
Но я не захотела, потому что от этого студня было как-то очень странно во рту и в животе.
КАК УМЕРЛА МАМА
Сосед вскоре после этого умер, это было перед Новым годом, а после Нового года умерла Эльза Августовна. А за нею стала умирать мама. Она сделалась сначала очень худая и черная, а потом как будто опухла, и лицо у нее стало желтое и блестящее. Я понимала, что она, должно быть, умирает, и думала: «Как же я тогда буду, мне одной не дотащить санки на кладбище, да и на санки мне ее не положить и некого попросить помочь, все умерли, а папа на войне». И все стало совсем уже страшно, особенно белое окно по ночам, все замерзшее, а за окном замерзшая луна.
Рядом с кухней спала мама. Я слезала с плиты и шла посмотреть, шевелится она или уже нет. Потому что я видела, как умирала Эльза Августовна, и знала, как это бывает. Мы с мамой так же подходили к ней ночью, и мама брала ее, спящую, за руку и однажды она уронила эту руку и сказала: «Все» — а наутро мы положили Эльзу Августовну на мои санки и отвезли на кладбище, и там какие-то дядьки закопали ее в яму, а мама отдала дядькам наш хлеб. Я и теперь, — сказала Таня, — хожу на Охтинское кладбище на ту братскую могилу, где лежит Эльза Августовна. А летом сажаю там цветочки и вспоминаю, как она всем со мной делилась, а ведь ей самой каждая крошка была так нужна! Мы вот сейчас насыпаем в чай сахарный песок и даже не думаем, что три ложки песку — это, может быть, чересчур много, хватило бы двух. Нам просто смешно об этом думать, да и луковицу мы бы не подняли с земли.
Той ночи я никогда не забуду, хотя бы прожила девяносто лет. Я лежала на плите и смотрела на белое окно и на луну, как она волочит по черному небу свои марлевые полотнища, и вдруг мне показалось, что в квартире невероятно, небывало тихо. Мамочка никогда не храпела, и когда она засыпала, всегда было тихо, но эта тишина была совсем особенная, и я вдруг догадалась, что мама умерла. Я спустилась на пол, наступила на кочергу, кочерга стукнула о железо на полу. Холодными ногами по холодному полу я прошла к маминому дивану. Мама лежала на спине, руки были протянуты вдоль тела, в одной руке зажат мой лифчик, который она собралась надеть на меня утром. Я позвала ее, она не шевельнулась. Я вспомнила, как это делается, взяла ее руку, рука сама упала на диван. Я вспомнила и то, что надо делать дальше, и потихоньку надвинула ей веки на глаза. И глаза были еще холоднее, чем рука.
— И кто же вам помог ее отвезти? — спросили слушавшие.
— Много людей пришло, — ответила Таня. — Женщины и мужчины и даже дети пришли. Так что было кому и на санки уложить, и свезти на кладбище.
— И Сергей Иванович пришел, должно быть? — спросили слушавшие.
— Нет, — ответила Таня. — Сергей Иванович был еще далеко. Он был на своем месте, в детском доме, которым он заведовал. И в этот самый детдом через несколько дней после маминых похорон поступила я.
Меня привел к нему доктор.
— Вот что, товарищ начальник, случай сомнительный, — сказал доктор. Очень сильное истощение.
Сергей Иванович сидел за письменным столом и писал. У него и тогда уже были седые волосы и орденские колодочки на пиджаке.
Он спросил:
— Почему это ты так истощилась?
— Потому что фашисты морят нас голодом, — сказала я.
— О, да ты грамотная, — сказал он. — Ну, ничего, у нас поправишься.
Он позвал воспитательницу, ее звали тетя Оля, и сказал:
— Эта девочка очень любит пшенную кашу, дайте ей побольше.
Она принесла на подносе миску с кашей. Я сказала:
— Оставьте мне, пожалуйста, немножко каши на потом.
— На какое это потом? — спросил Сергей Иванович. — Ты поешь и сразу ляжешь спать.
— Я не засну, — сказала я, — если не поем перед сном.
— Еще как заснешь, — сказал он. — Заснешь и будешь видеть замечательные сны. А утром придешь сюда и расскажешь мне, что ты видела.
Но утром, когда я хотела исполнить его приказ, тетя Оля сказала:
— Куда же ты пойдешь со сна, растрепанная и немытая. Сначала прибраться надо как следует.
Она провела меня в умывальную, где над длинной белой раковиной бежала из кранов вода, дала мне жесткую губку и велела обтереться с головы до ног. Вода была холодная, как лед. Я сказала:
— Я люблю умываться теплой.
— А где я ее тебе возьму? — спросила тетя Оля.
— Надо нагреть на плите, — сказала я.
— Конечно, — сказала тетя Оля. — Вот сейчас побегу греть. Обожди, в четверг будет баня, тогда получишь теплую воду, как все.
Она расчесала мне волосы, помогла надеть детдомовское платье из жесткой зеленой ткани и построила нас в пары, чтобы идти гулять.
— Я не хочу гулять, — сказала я. — Холодно.
— Подожди весны, — сказала тетя Оля, — тогда будет тепло. А пока зима, конечно, холодно. В саду побегаешь, разогреешься.
Был сильный мороз, и я подумала, что мы все заболеем, но когда поиграла с ребятами в снежки, действительно стало тепло.
Вернувшись с гулянья, мы должны были, по расписанию, учиться. Заниматься с нами пришел Сергей Иванович. Он сказал мне:
— Говорят, ты отказывалась идти гулять и требовала теплой воды для умыванья. Имей в виду, эти номера здесь не пройдут. Тебя и так довели до того, что ты еле дышишь.
— Да, — сказала я, — и учиться мне тоже трудно, потому что я слабенькая.
— Ты такая, как все ребята, — сказал он, — только в тебе убита воля, ты разучилась говорить себе: я должна. Ты должна ужинать один раз, а не два. Должна мыться холодной водой. Должна учиться, чтоб назло фашистам стать грамотной и умной. Должна дышать свежим воздухом. А все остальное насчет слабости и прочего — мы пошлем к черту, ладно? Не обращай внимания на слабость, вот ее и не будет. И ничего ты не слабенькая, я сам видел, как ты миску каши уплела.
Вот так он меня с моей дистрофией сразу взял в оборот. И удивительно — я стала делать все, чего, казалось мне, не могла делать дома, при маме. Даже принимала рыбий жир.
Говоря по правде, делала я это все, чтобы Сергей Иванович меня похвалил. Уж очень мы все его уважали. Маму я, конечно, тоже уважала, но она была привычная, своя, она была все равно что я сама, а от человека чужого, важного, который всем распоряжается, сидя в кабинете за письменным столом, очень бывало приятно услышать похвалу. И к тому же он подкупил меня бабочками.
На стене его кабинета, между двумя книжными шкапчиками, висел ящик со стеклянной крышкой. Под стеклом на булавках сидели разноцветные бабочки. Некоторых я до войны видела на даче, как они летали, махая крылышками, некоторых даже знала по имени — капустница, крапивница, — но по большей части были такие, каких я никогда не видала, в том числе была одна с фиолетовыми глазками на крыльях и один толстый жук с рогами. Я спросила Сергея Ивановича:
— Откуда у вас столько много бабочек?
— Я их наловил, — ответил он. — Всю жизнь ловлю и наловил. Я был меньше тебя, когда начал ловить. А некоторых мне прислали из других стран. Вот эту белую с зеленым отливом, например, мне прислали из Южной Америки. Я тому человеку послал нашу капустницу, а он мне эту красавицу. Ведь красавица, правда?
— Красавица, — повторила я, и мне стало ужасно интересно.
— Будешь пить рыбий жир, — сказал он, — я тебе ее отдам в вечное владение.
— Он противный, — сказала я.
— Зато она-то какова, — сказал он. — А насчет того, что он противный, это опять-таки кажется. Многое нам кажется, а разберешься хорошенько ничего нет страшного, просто померещилось. Побольше соли на кусочек хлеба, закусила — и порядок.
И что вы думаете, он мне эту бабочку действительно подарил, она у меня дома до сих пор цела в коробочке от зубного порошка. И я цела до сих пор — выходили меня в детдоме. А вы бог знает что про нас с ним навыдумывали.
Тут открылась дверь — и вошел Сергей Иванович.
— Что это у вас, товарищи? — спросил ом. — Вечер воспоминаний?
— Да, — сказала Таня, — вспомнила, какая я дохлая к вам в детдом поступила.
— Да уж, — сказал Сергей Иванович. — Привели девчонку с расшатанной волей, на все твердит «не могу», всего боится: холодной воды боится, рыбьего жира боится, арифметики боится, спать на кровати боится, подайте ей плиту. Гулять она слабенькая, заниматься слабенькая, от всего дельного отучена. Доктор твердит: осторожно, истощение. Ну, вернули ей человеческие навыки, укрепили волю, она и потопала дальше по жизни, и вот видите, какая тут сидит — никак опять новое платье, Танюша? Молодчина, тебе к лицу.
1972
ПРИМЕЧАНИЯ
В третьем томе собраны произведения «малой прозы» Пановой — ее повести и рассказы разных лет (1949–1972 гг.). Несколько выделяется по объему лишь «Ясный берег», «многонаселенная» повесть, продолжающая по форме сюжетно-композиционные принципы ее первых крупных произведений.
С начала пятидесятых годов Панова все чаще локализует содержание своих повестей и рассказов, сжимая их до истории одного-двух главных действующих лиц («Сережа», «Валя», «Володя», «Мальчик и девочка», «Про Митю и Настю» и др.). На первое место выдвигаются задачи портретно-психологического плана, требующие концентрации жизненного материала и углубления во внутреннюю духовную жизнь отдельного человека, чаще всего ребенка или подростка.
Важное место среди произведений этого плана занимает проза для кино киноповести и кинорассказы, которые требовали от автора особой сжатости повествования. После успешной экранизации нескольких рассказов и повестей («Сережа», «Евдокия», «Вступление») Панова создала ряд произведений, предназначенных одновременно и для воплощения на экране, и для литературного чтения. Таковы ее киноповести «Рабочий поселок» (1964), «Рано утром» (1964), «Саша» (1965), изданные отдельной книгой (Вера Панова. Рано утром. Повести. Л., 1966). Так же читается «Мальчик и девочка» — полнометражный сценарий, развернутый из короткого рассказа.
«В этих повестях, — сообщает Панова в авторском предуведомлении к книге, — описаны некоторые судьбы, встречавшиеся мне в жизни, судьбы трудовых людей. Две повести Вы, читатель, возможно, видели на экране — по ним сделаны фильмы: „Рабочий поселок“ и „Рано утром“. А если не видели, то, читая, сами создадите в своем воображении облики действующих лиц, придадите им те черты и оттенки, какие Вам подскажет Ваш собственный опыт, собственные знакомства, симпатии и антипатии. Лично для меня такое создание всегда было одной из самых привлекательных сторон моих взаимоотношений с читаемой книгой».
ЯСНЫЙ БЕРЕГ
Впервые — Звезда. 1949, № 9; отрывки: Сережа // Веч. Ленинград. 1948, 4 апр.; Так начинается самостоятельность // Смена. 1948, 3 нояб.; Нюша // Смена. 1949, № 18; Коростелев и Горельченко // Сов. воин. 1949, № 19; Ясный берег // Огонек. 1949, № 37; Л.: Сов. писатель, 1949.
Первоначальное авторское название повести — «Марьяна»; главной ее героиней должна была стать молодая, овдовевшая в годы войны женщина, которая заново строит семью и овладевает профессией учительницы. О замысле этой повести Панова упомянула в кратком газетном интервью весной 1948 года: «Мне хочется в своей новой повести правдиво рассказать о молодой советской девушке. Героиня повести — учительница, которая делает первые шаги на трудном и благородном поприще воспитания подрастающего поколения» (Панова В. Моя героиня — молодая учительница // Комс. правда. 1948, 3 апр.).
Первый вариант повести, законченной к середине октября 1948 года, не удовлетворил писательницу.
О своих намерениях в этой связи Панова писала А. К. Тарасенкову: «Сейчас я успокоилась, мобилизовалась на коренную переработку рукописи (вернее, на написание совсем другой повести) и чувствую себя довольной и счастливой.
Очень много уроков извлекла для себя из этого „несчастного случая“: не браться за то, к чему не лежит душа, — все равно ни черта не выйдет; не слушать советчиков, а слушать только себя до тех пор, пока цыпленок не вылупится; не оглядываться на редакторов и критиков и т. д., и т. д.
В новой (неудавшейся) работе есть (для меня лично, начинающего литератора) только одно достижение: кажется, мне удался пейзаж. Для меня это открытие, я считала, что никогда не сумею писать пейзаж.
Сейчас немного соберусь с силами и начну работать заново» (Панова В. Письмо А. К. Тарасенкову 12 нояб. 1948 г. // ЦГАЛИ. Ф. 2587, оп. 1, ед. хр. 597).
К концу 1948 года работа была далека от завершения: «…Повесть мне очень не нравится… Все получилось не так, как мне хотелось; все переписываю заново» (Панова В. Письмо В. Вишневскому 3 дек. 1948 г. // ЦГАЛИ. Ф. 1038, оп. 1, ед. хр. 3014).
Установка на «коренную переработку» или даже написание новой повести совпало с неожиданным приглашением из Вологды от директора республиканского треста молочных совхозов И. А. Порохина, который пригласил автора «Спутников» и «Кружилихи» приехать в Вологодскую область и написать о современном передовом совхозе. Перед И. А. Порохиным Панова была в долгу: ведь именно он был описан в «Спутниках» как комиссар Данилов, он командовал ВСП-312, а после окончания войны демобилизовался и вернулся на старую должность в трест молочных совхозов Вологодской области.
Панова решила откликнуться на предложение своего фронтового комиссара — замысел «Марьяны» в этой связи должен был претерпеть серьезные изменения, а в первую редакцию повести войти новые лица и новый жизненный материал. 3 декабря 1948 года Панова подтвердила в письме к И. А. Порохину: «Очень верю в Ваш опыт. Уверена, что получу с Вашей помощью такой же великолепный материал, какой получила в сан. поезде. Одно скажу: ни по чьему другому зову я бы не поехала» (Нева. 1984, № 5. С. 193).
Зимой 1949 года Панова побывала в Вологде и совхозах этой северной русской области. Во время поездки она узнала и услышала много интересного из жизни сельских жителей, с которыми ей удалось встретиться и поговорить о деле. Некоторые рассказы были записаны тут же, по живому впечатлению, и эти живые интонации Панова ввела в свою новую книгу. Особое впечатление на нее произвел рассказ старой доярки из вологодского совхоза о том, как она поехала в 1941 году со своими коровами в Москву на Сельскохозяйственную выставку и как добиралась потом оттуда со стадом в родные края, когда грянула война.
«Я тут же записала ее рассказ, почти дословно, — вспоминала Панова, я люблю так записывать. И этой записью был заложен фундамент повести „Ясный берег“. Это было название и книжки, и совхоза, в котором происходит действие. Там, в этом совхозе, поселились и молодой его директор Коростелев, и юная доярка Нюша, и эта самая Настасья Петровна, воспитательница и оберегательница совхозных телят, и учительница Марьяна, и бухгалтер Лукьяныч, и разные другие люди. Но главное для меня, что там поселился пятилетний мальчик, Сережа, сын Марьяны» (Панова В. О моей жизни… С. 234).
Весной 1949 года Панова повторила свой маршрут по совхозам Ленинградской области — ей хотелось конкретней представить своих героев в летней обстановке и летних трудах и перейти от единичных наблюдений к более широким и обобщенным. Однако, чтобы поднять глубинные проблемы жизни истощенной послевоенной деревни северо-западных русских областей, одних только эпизодических наблюдений, ориентированных на казовую сторону действительности, было явно недостаточно, и сама писательница не очень заблуждалась на этот счет.
Новая, переработанная редакция повести также далеко не во всем удовлетворила Панову, хотя некоторые эпизоды и главы «Ясного берега» стали жизненнее и крепче. 3 августа 1949 года Панова писала А. К. Тарасенкову: «Не отвечала Вам на милое Ваше товарищеское письмо не потому, что черно-неблагодарна, а потому, что усердно работала все это время над своей рукописью — очищала от плевел, вставляла новые эпизоды (кстати — по Вашему правильному совету — и об Иконникове). Вчера закончила и отправила в „Звезду“, а сегодня Вам пишу.
Рукопись, конечно, хуже, чем „Кружилиха“. Но что делать — будем надеяться, что с горсоветской темой (будущего романа „Времена года“. А. Н.) получится лучше. Та тема — непочатая, а тут — с сельским хозяйством — столько уже протоптано стежек-дорожек» (ЦГАЛИ. Ф. 2587, оп. 1, ед. хр. 597).
Время действия новой повести Панова передвинула с конца сороковых годов на первые послевоенные годы — это дало ей возможность, как и в «Кружилихе», теснее связать разные времена и передать чувство душевного облегчения, испытанного и народом, и ее героями с наступлением долгожданного мира. Об этой особенности «Ясного берега» Панова тогда же написала И. А. Порохину: «Я закончила маленькую повесть из жизни людей, работающих в совхозе. Для Вас эта повесть не представляет интереса, т. к. в ней описан прошедший период — действие происходит в 1946 — 47 гг. Вологда там не названа. Напечатана повесть будет в номере 9-м журнала „Звезда“ — целиком» (Панова В. Письмо И. А. Порохину // Нева. 1984, № 5. С. 194).
Главные слабости «Ясного берега» были связаны не с отдельными подробностями и деталями, которые Панова всегда умела подать, а с инерцией общего заданного решения. Некоторые схемы первоначального замысла ей так и не удалось преодолеть, как не были изжиты ею и некоторые иллюзии, характерные для литературной и общественной ситуации того времени. Перечитав в корректуре написанное, Панова еще суровее оценила свою работу: «…Повесть вышла хуже „Кружилихи“.[…] Слишком лучезарно, слишком мало серьеза жизненного. Природа ли, душа ли человеческая — все пейзажики, пейзажики, не только до крови не доходит, но и под кожу не углубляется» (Панова В. Письмо А. К. Тарасенкову 2 окт. 1949 г. // ЦГАЛИ. Ф. 2587, оп. 1, ед. хр. 597).
При всех недостатках «Ясного берега» внутренние уроки этой литературной работы имели для Пановой большое значение. Государственная премия 1950 года за «Ясный берег» не изменила самокритичной оценки, которой она придерживалась по отношению к этому произведению.
Из всех героев «Ясного берега» самый маленький — Сережа — оказался самым живым и способным к естественному развитию. «Это Сережа, подтверждает в своих воспоминаниях Панова, — шел по берегу перед серебристыми осинами и ловил бабочку. Это он чуть не утонул, когда, плывя в челне, услышал призывный крик своей ручной галки Гали-Гали. Это его добрым и заботливым отчимом стал Коростелев… И хотя в „Сереже“ совсем другой материал, так сказать, суммированный, скопленный за много лет наблюдений над детьми, в том числе собственными, но, конечно, из „Ясного берега“ вышли и Сережа, и его верный симпатичный товарищ Скверный Васька» (Панова В. О моей жизни… С. 234–235).
Стремление к большей глубине и правдивости, пристрастие к «серьезу жизненному» позволили Пановой переосмыслить освоенный за много лет материал и создать в продолжение вполне законченного сюжета и с некоторыми главными лицами «Ясного берега» ее лучшее произведение пятидесятых годов повесть «Сережа».
СЕРЕЖА
Впервые — Новый мир. 1955, № 9; отрывки: Отчим и пасынок // ЛГ. 1954, 9 дек.; Сережа (отрывки из повести) // Сов. женщина. 1955, № 7; Сережа. Л., 1955.
Замысел отдельного произведения о Сереже созревал у Пановой параллельно с работой над романом «Времена года», и по первоначальному плану это должна была быть целая трилогия о детстве, отрочестве и юности человека, родившегося в дни войны. Писательницу поддерживал пример классических произведений русской литературы, сходных по мысли и построению, и свои общие планы трилогии о судьбе Сережи Панова достаточно подробно изложила в письме к директору издательства «Детская литература» Д. И. Чевычелову от 26 января 1953 года: «В моей повести „Ясный берег“ в числе действующих лиц имеется маленький мальчик Сережа Лавров. У меня есть замысел — написать дальнейшую жизнь Сережи, его детство и юность. В 1947 году Сереже пять лет. Я предполагаю начать задуманную книжку с 1949 года, когда семилетний Сережа идет в первый класс школы. Вторая книга — Сережа в восьмом классе — может быть написана года через четыре, и третья — Сережа кончает школу — естественно, может быть выдана тогда, когда и герой, и автор доживут до этого дня.
Такое построение произведения — отдельными книжками, с большими разрывами между ними во времени — узаконено традицией русской литературы. Не говоря о великих классических образцах (Л. Толстой), в дореволюционной детской литературе существует Тёма Гарина, вспоминаю также книги Аверьяновой (трилогия о девочке Иринке), Желиховской („Как я была маленькой“, „Мое отрочество“), Новицкой-Махцевич (трилогия о девочке Мусе), о сестрах Кате и Варе Солнцевых — автора не помню. […]
Первую книжку — Сережа Лавров в первом классе — предполагаю закончить в конце текущего года.
Предлагаю эту работу Детиздату — с оговоркой: книжку эту я не представляю себе как узкопедагогическую, но как поэтическое (по мере авторских возможностей) произведение о детстве советского ребенка. Написано должно быть так, чтобы читать могли дети не только младшего возраста; иначе работа не представляет для автора интереса» (ЦГАЛИ. Ф. 2223, оп. 1, ед. хр. 77).
Обширные планы повествования о Сереже осуществились на практике далеко не так, как это замышлялось поначалу автором. Весь 1953 год весьма драматичный и в истории страны, и в биографии писательницы оказался занятым переработкой романа «Времена года». К замыслу повести о Сереже Панова вернулась лишь в 1954 году после тяжелой болезни и пережитого кризиса. Новый опыт жизни и бурные перемены, происходившие в литературе, повлияли на характер и общее направление ее работы. План первой же книги был решительно изменен. Панова отказалась от мысли писать повесть о первокласснике — не «школьная повесть» интересовала ее больше всего в это время. Сережа был оставлен в своем нежном дошкольном возрасте, в каком он пребывает на последних страницах «Ясного берега», а вся проблематика повести, как этого и хотелось Пановой, сосредоточена на вопросах нравственных и психологических внутри семьи. Повесть получила характерный подзаголовок («Несколько историй из жизни очень маленького мальчика»), ограничивающий рамки художественного повествования во времени. В этих нескольких «историях», освещенных в повести, Панова пошла не вширь, а вглубь, к тайне рождения и воспитания человеческой индивидуальности — к одной из самых больших и «вечных» загадок человеческого существования.
Написанная о дошкольнике и во многих подробностях интересная детям, повесть Пановой остается, конечно, явлением литературы для взрослых, для учителей и родителей, которым она помогает лучше и глубже узнать своих детей, понять их с наиболее гуманной точки зрения. В этом смысле исходный замысел Пановой написать не «узкопедагогическую», а «поэтическую» книжку о детстве советского ребенка был в полной мере и с блеском осуществлен.
В одном из очередных изданий своей знаменитой книги «От двух до пяти» К. Чуковский с полным основанием отнес повесть Пановой «Сережа» к числу лучших произведений советских писателей, избравших маленького ребенка своим центральным героем. Эту традицию в советской прозе начинали Борис Житков, Аркадий Гайдар, Антон Макаренко, Андрей Платонов, Л. Пантелеев, Евгений Шварц. Сам Чуковский был так восхищен «Сережей», может быть, еще и потому, что в психологическом и языковом юморе этой повести он нашел самобытное и оригинальное подтверждение своей давней идеи, своей концепции становления личности маленького человека от двух до пяти.
«Особенно показательна для наступившей эпохи ребенка книга Веры Пановой „Сережа“, — писал Чуковский. — Кто из прежних писателей, и великих, и малых, решился бы посвятить целую повесть — не рассказ, не очерк, а именно повесть — изображению чувств и мыслей самого обыкновенного малолетнего мальчика, и притом сделать его центральной фигурой? Этого в нашей литературе еще никогда не бывало. Это стало возможным лишь нынче, при том страстном интересе к ребенку, которым в последнее время охвачены в нашей стране широчайшие слои населения.
Так как я не меньше полувека пристально наблюдаю детей и всю жизнь нахожусь в постоянном общении с ними, я считаю себя вправе засвидетельствовать на основании очень долгого опыта, что детская психология изображается в этой повести правдиво и верно, с непревзойденной точностью» (Чуковский К. Собр. соч. в 6 т. М., 1965. Т. 1. С. 516).
Высоко оцененная критикой, повесть Пановой «Сережа» много раз переиздавалась на родном языке и языках народов СССР, а также за рубежом, где она насчитывает несколько десятков изданий в разных странах мира.
В 1960 году по повести Пановой молодыми тогда режиссерами Г. Данелия и И. Таланкиным был снят фильм «Сережа», признанный одним из шедевров мирового кино. «Сценарий мы писали втроем, вместе с режиссерами, подтвердила Панова, — и многое было вложено в сценарий и подсказано моими соавторами» (Брусянин В. Я рада за «Сережу» (Беседа с В. Пановой) // Лен. правда, 1960, 5 авг.). В роли Сережи снимался московский шестилетний мальчик Боря Бархатов, роль Коростелева исполнил С. Бондарчук, а его жену, учительницу Марьяну, сыграла И. Скобцева. Хотя в фильме были заняты самые обыкновенные дети, младшие школьники и подростки, никогда до того не снимавшиеся в кино, их поведение перед съемочной камерой оказалось удивительно непосредственным и достоверным. «И Боря, и другие юные киноактеры создали милые образы, над которыми много потрудились и режиссеры, — отметила Панова. — Помимо режиссерской, это была и большая воспитательная работа» (там же).
На XII Международном кинофестивале в Карловых Варах, где в 1960 году конкурировало сто четыре фильма из сорока семи стран, советский фильм «Сережа» получил главную премию — Хрустальный Глобус. Это была сенсация мирового кино начала шестидесятых годов («Сережа» получает Хрустальный Глобус // ЛГ. 1960, 26 июля).
«Сережа» с успехом прошел по экранам многих стран мира. Его показали на III Международном фестивале премированных фильмов в мексиканском городе Акапулько; вести из Нью-Йорка, Стокгольма, Копенгагена, Осло, Берлина, Дели, Гаваны удостоверяли необыкновенную популярность фильма у кинозрителей за рубежом. В разгар «холодной войны» крупнейшая американская газета «Нью-Йорк-таймс» приглашала зрителей посмотреть новый советский фильм «Сережа» (в США он демонстрировался под названием «Незабываемое лето») и не без оснований доказывала, что этот «прочувствованный и очаровательный маленький фильм» о простой психологии нормального ребенка «проливает больше света на характер русского народа, чем все яростные вспышки в атмосфере ядерных бомб». На втором году кубинской революции, выступая перед трудящимися Гаваны, Фидель Кастро сказал: «Мы недавно видели несколько советских кинокартин, в том числе фильмы „Судьба человека“ и „Сережа“ — о жизни одного мальчика. И откровенно можем заявить, что никогда раньше не видели столь глубоко человечных и проникновенных кинофильмов, в которых так полно выражены чувства братства и гуманности…» (Правда. 1960, 19 дек.).
Большой читательский и зрительский успех «Сережи», книги и фильма, утвердил Панову в избранных ею замыслах и манере и бесспорно повлиял на общее направление ее творчества второй половины пятидесятых и шестидесятых годов.
ВАЛЯ
Впервые — Октябрь. 1959, № 10; отрывок: Первое путешествие Вали // Лен. правда. 1959, 21, 23, 24 июня; Валя. Володя. Рассказы. М, 1960.
Первые наблюдения, послужившие основой двух сопряженных рассказов «Валя» и «Володя», восходят к августовским дням 1941 года, когда Панова прошла вдоль бесконечной очереди на Лиговке у Московского вокзала — там столпились люди, стремившиеся любой ценой эвакуироваться из Ленинграда, когда на дальних подступах к городу уже шли ожесточенные бои. «Сразу после Лиговки, — вспоминает Панова, — я, в своем азартном желании повидать как можно больше, поехала на Витебский вокзал. Там я видела тот митинг ленинградских ополченцев и сцены прощания их с родными, которые описаны в „Вале“. Вернулась домой с сердцем, измученным тоской, и с твердым решением не уезжать» (Панова В. О моей жизни… С. 237).
Впечатления этих первых месяцев войны, связанные с Ленинградом, а затем будни тыловой жизни в Перми на Каме и обстоятельства возвращения в свой город в художественных планах Пановой долго составляли один сюжет. Сначала писательница намеревалась развить его в форме большого романа. В заметке «Мои планы» Панова очертила контуры романа «Сестры Брянцевы», в котором она предполагала рассказать о судьбах молодежи военного поколения, то есть разработать подробно тему, намеченную эскизно еще в пьесе «Девочки» (1945). Лица романа уже довольно отчетливо представлялись автору: «Главные героини его — две сестры, молоденькие девушки, работающие на ткацкой фабрике. Они осиротели в годы Великой Отечественной войны и рано начали самостоятельную трудовую жизнь. Их детство и юность, формирование молодых душ, заботы, радости и разочарования — и попутно с этим жизнь большого коллектива, в котором они живут и трудятся, судьбы их сверстников — являются содержанием романа» (Панова В. Мои планы // Работница. 1956, № 1. С. 2).
План романа о двух сестрах не был осуществлен Пановой, но некоторые наблюдения и подробности, связанные с этим замыслом, эпизоды и сцены, вчерне набросанные, послужили ядром рассказов «Валя» и «Володя». Перерабатывая наброски к роману в два отдельных рассказа, Панова безжалостно выбрасывала из текста все лишнее, в сжатом повествовании она оставляла лишь то, что было действительно прочувствовано и пережито. Вместо последовательных жизнеописаний, которых требовал роман, в прозе Пановой преобладает принцип свободного ассоциативного монтажа, подсказанного отчасти приемами кино, но этот ассоциативный ряд строго организован. Сюжеты двух рассказов строятся по контрасту и соотносятся друг с другом по внутренней логике как отъезд («Валя») и возвращение («Володя»).
«Правда, пришлось ввести много новых действующих лиц: Олега с его матерью, тетю Дусю, Ромку с его женой Зиной и других, иногда даже не имеющих имен, например, мать Василька или детдомовскую кухарку — жену дяди Феди, колхозницу, правящую лошадьми. Зато я до сих пор помню ту радость, пишет Панова, — которую испытывала за этой работой, в которую можно было уложить все запомнившиеся черты военных дней, вплоть до висящей в небе серебряной колбасы и девочки, несущей в авоське капустный кочан.
Как я радовалась, когда у меня написалась Большая Девочка, которую уводит из очереди ее любимый, или пейзаж, сопутствующий отъезду Вали и Люськи из детского дома. Вообще великая вещь — сокращение, сжимание написанного, превращение материала из жидкого месива в твердые сгустки» (Панова В. О моей жизни… С. 238).
ВОЛОДЯ
Впервые — Октябрь. 1959, № 10; Валя. — Володя. Рассказы. М., 1960.
Хотя сюжеты двух рассказов пересекаются и перекликаются между собой, они не повторяют, а дополняют друг друга. По сравнению с «Валей», в «Володе» отчасти меняется угол зрения, тон и стиль повествования. От массовых жанровых сцен, густонаселенных, многоголосых, передающих эмоциональные токи народной драмы, Панова переходит к подчеркнуто психологическому рассказу, где все сосредоточено на внутренней биографии героя, нелегких обстоятельствах частной жизни давно распавшейся семьи. Рассказ о Володе позволяет сделать подробный экскурс в эвакуационный быт, затронуть такие стороны его, которые в литературе до того почти не освещались. Панова ведет своего героя через сложные, иногда мучительные положения, и Володя проходит через них, взрослея раньше времени, мужая, обретая твердость. Он возвращается в Ленинград другим человеком, не таким, как в начале рассказа. Этот замкнутый во времени цикл между отъездом и возвращением писательница определяет как вступление молодых героев в жизнь, как часть большого жизненного маршрута целого поколения. Не случайно именно «Вступление» назван кинофильм по мотивам рассказов «Валя» и «Володя», поставленный режиссером И. Таланкиным.
Как и «Сережа», этот фильм получил заслуженное международное признание и был отмечен специальной премией на Международном кинофестивале в Венеции в 1963 году. Фильм привлек внимание зрителей и специалистов не только как талантливое произведение киноискусства, но и как страстное общественное выступление против войны, в защиту человека и его прав, главным среди которых остается право на жизнь. Фильм «Вступление» по рассказам Пановой получил и самую почетную неофициальную награду фестиваля — приз Сан-Джорджио, учрежденный Венецианским центром цивилизации и культуры.
ЛИСТОК С ПОДПИСЬЮ ЛЕНИНА
Впервые — Веч. Ленинград. 1962, 6 нояб. и «Звезда». 1962, № 11; Трое мальчишек у ворот и другие рассказы и повести. Л., 1964. Рассказ был написан к 90-летней годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
ТРОЕ МАЛЬЧИШЕК У ВОРОТ
Впервые — Лит. и жизнь. 1961, 25 июня и Костер. 1961, № 10; Трое мальчишек у ворот и другие рассказы и повести. Л., 1964.
Старинный дом на Марсовом поле в Ленинграде, «желтый, с белыми колоннами», входит в архитектурный ансамбль, занимающий целый квартал и выходящий одной стороной на улицу Халтурина, а другой на набережную реки Мойки. Здесь на углу Мойки и Марсова поля (бывший дом Адамини), в квартире на высоком третьем этаже с конца 1948 по 1970 год жила В. Ф. Панова.
«Этот рассказ, — сообщает Панова в воспоминаниях, — просто не мог не написаться, потому что все нужное для него несколько лет подряд было под рукой. Мы жили тогда на углу Марсова поля и Мойки, из моего окна были видны Марсово и шпиль Михайловского замка, я видела из своей комнаты, как проезжали по Марсову полю милицейские мотоциклы и большие машины, покрытые блестящим черным лаком и похожие на огромных черных жуков.
И праздничная иллюминация была видна из этого окна, и золотые, малиновые и зеленые вспышки праздничных салютов за нашим Кировским мостом, и памятник Жертвам Революции, и даже вечный огонь у входа в маленькое кладбище этого памятника, и сделанные по старинному образцу красивые фонари, электрический свет которых так не подходил к их благородной форме» (Панова В. О моей жизни… С. 256)
Монументальный памятник павшим Борцам Революции в центре Марсова поля был построен в 1917–1919 годах по проекту архитектора Л. В. Руднева. 23 марта 1917 года здесь были похоронены участники Февральской революции. 1 мая 1917 года на митинге у братских могил выступил В. И. Ленин с речью о значении Первого мая и задачах русской революции. Среди борцов революции, рядом с первыми ее жертвами, похоронены также некоторые герои гражданской войны, защищавшие революционный Петроград.
В исторической части своего рассказа при первой публикации Панова допустила неточность, полагая, что в давние времена, когда на Марсовом поле устраивались военные парады и смотры Петербургского гарнизона, это поле было вымощено булыжником. В письме от 29 июня 1961 года к писателю Л. И. Борисову, указавшему на эту неточность, Панова ответила: «…Я полагаюсь на Вас и исторически, и эстетически: то пыльное, убитое ногами поле, о котором Вы пишете, — гораздо лучше» (ЦГАЛИ. Ф. 2831, оп. 1, ед. хр. 166). В отдельных изданиях рассказа эта и некоторые другие небольшие неточности исторического порядка были исправлены.
МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА Кинорассказ
Впервые — Искусство кино. 1962, № 7, с подзаголовком «кинорассказ»; Трое мальчишек у ворот и другие рассказы и повести. Л., 1964. Написан на основе короткого рассказа Пановой под тем же названием и с той же фабулой, изложенной, однако, без многих конкретных подробностей, включенных в сценарий. По кинорассказу Пановой режиссер Ю. Файт поставил полнометражный художественный фильм «Мальчик и девочка» (Ленфильм, 1966).
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК Киноповесть
Впервые — Новый мир. 1964, № 9; Трое мальчишек у ворот и другие рассказы и повести. Л., 1964.
Киноповесть «Рабочий поселок» является одним из наиболее характерных произведений прозы Пановой, написанных специально для кино. Создавая это произведение, Панова внимательно изучила историю Ижорского завода под Ленинградом, где в годы Отечественной войны проходила линия фронта, много раз бывала там, общалась с рабочими завода и их семьями. Однако «Рабочий поселок» был задуман и написан автором не как документальная хроника одного конкретного завода, а как обобщенная художественная история множества таких же заводских поселков, поднявшихся из руин и пепла после войны. Судьбы людей повторялись, и Панова стремилась проникнуть в суть сложных социальных процессов, определявших трудное послевоенное жизнеустройство. Проявления беззакония и произвола времен культа личности Сталина в ее киноповести показаны точно и объективно. Вместе с тем писательница задалась целью объединить поэтически свои давние и заветные темы, представить в лицах возвращение и возрождение как определяющий, типичный сюжет послевоенной литературы и кинематографа конца пятидесятых начала шестидесятых годов. Это качество «Рабочего поселка» верно отметил А. Твардовский, принявший сценарий Пановой для публикации в «Новом мире». «И хотя Твардовский не был любителем этого жанра, — свидетельствует А. Кондратович, — он напечатал сценарий с большой охотой: „Вот она и сценарий сделала прозой, его читать можно как настоящую прозу, а не полуфабрикат. Посмотрите самое начало: „Река течет широко, медленно и серебряно.“ Это поэзия! Чувство слова настоящему писателю никогда не изменят, за что бы он ни брался“». (Кондратович А. «Ровесник любому поколению». Документальная повесть. М., 1984. С. 330).
Достоинства «Рабочего поселка» как настоящей художественной прозы в полной мере оценили и режиссер В. Я. Венгеров, завершивший в 1965 году постановку этой картины на Ленфильме, и многие замечательные артисты, занятые в фильме. Рассказывая о работе над сложной драматической ролью Марии, жены ослепшего фронтовика Григория Плещеева, Людмила Гурченко писала, что рядом с ней был режиссер, которому она глубоко доверяла. «А у нас обоих — прекрасный литературный сценарий, в котором можно было найти убедительные психологические мотивировки, бытовые подробности, тонкие наблюдения. Честно говоря, я впервые встретилась со сценарием, где не была изменена ни одна реплика, ни одно авторское слово и над которым все работали с огромным увлечением». (Гурченко Л. Желанная роль // Работница. 1966, № 2. С. 15).
Исполнителями основных ролей в «Рабочем поселке» были Н. Симонов (Сотников), В. Чекмарев (Мошкин), О. Борисов (Плещеев), Л. Соколова (Капустина), Т. Доронина (Полина) и др. Через весь фильм проходят песни Н. Шпаликова на музыку И. Шварца «Ты одна, одна на всех, моя Россия…», «Спойте мне про войну, про солдатскую вдову…», в музыке, как и в сюжете фильма, звучит время военное и послевоенное, возникает своеобразная хроника народной жизни, переданная сменой мелодий и настроений.
СЕСТРЫ
Впервые — Правда. 1965, 24 янв., а также — Нева. 1965, № 4; Сестры. Рассказы. М., 1965.
Рассказ посвящен известной артистке Ие Саввиной, снимавшейся в середине шестидесятых годов в фильме И. Хейфица «Дама с собачкой». О ее знакомстве и встречах с писательницей см.: Саввина И. Две встречи с Верой Пановой // Аврора. 1985, № 3. По свидетельству Пановой, сюжет рассказа «Сестры» был навеян житейским разговором с пожилой сотрудницей почты в поселке Коктебель — собеседница жаловалась, что молодым людям после средней школы в этом курортном крымском поселке негде устроиться на работу. «От этого немудрящего, как будто даже не впервые услышанного рассказа и пошел расти рассказ „Сестры“. Сперва я ввела младшую — Галю, как представительницу самого юного поколения, перед которым так остро встали вдруг проблемы работы и образования — в сущности, главные проблемы человеческой жизни. Потом, вследствие того, что скучно было писать вторую такую героиню, придумалась старшая, с виду такая благополучная сестра, окончившая Московский университет, овладевшая профессией, которую любит и которую ни на что не променяет, как сразу и очень остро ощущает умненькая Галя» (Панова В. О моей жизни… С. 258).
КОНСПЕКТ РОМАНА
Впервые — Лит. Россия, 1965, 4, 12 марта; Сестры. Рассказы. М., 1965.
Вспоминая о поводе создания «Конспекта романа», Панова писала: «Литературная Россия» просила меня написать для нее что-нибудь небольшое, по ее территориальным возможностям. Я подумала: «Напишу-ка ей роман в форме конспекта. Нужен был прежде всего сюжет. Я бросилась к уличному фольклору» (О моей жизни… С. 259). К уличному фольклору восходит история матери главного героя повести Кости Прокопенко, которая терпит притеснения от своей невестки Таисьи, а затем уходит от молодых, приняв неожиданное предложение руки и сердца от знакомого пенсионера. Сходный мотив, решенный в комедийном ключе, использован в пьесе Пановой «Свадьба как свадьба». «Я ввела эту историю в мой „Конспект романа“, — подтверждает Панова, — далее использовала в пьесе, которую недавно закончила. И тут, и там я рядом с этой историей о стариках написала ряд историй о молодых» (Панова В. О моей жизни… С. 260).
ПРО МИТЮ И НАСТЮ
Впервые — Семья и школа. 1972, № 6–7, с подзаголовком «Попытка заглянуть в сердцевину бутона». Этот очерковый рассказ — одна из последних по времени творческих попыток Пановой заглянуть в «завязь» человеческого характера; подневные записи из жизни Мити и Насти приоткрывают особенности формирования психологии ребенка, развитие его мышления и языка. В рассказе описана еще более ранняя стадия меняющегося детского сознания, чем в «Сереже», причем писательница сопоставляет по контрасту оттенки поведения и психологии мальчика и девочки, которые воспитываются в условиях заботливой и любящей современной семьи. Двойная линия рассказа, возникшего из реальных наблюдений над собственными внуками, соответствовала стремлению автора представить общие законы формирования человеческой индивидуальности с необходимой отчетливостью и полнотой.
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ И ТАНЯ Быль
Впервые — Панова В. Наши дети. Рассказы, повести и пьеса. Л., 1973. В своем позднем рассказе «Сергей Иванович и Таня» Панова продолжила тему, начатую рассказами «Валя», «Володя» и пьесой «Проводы белых ночей». Герои этих произведений также пережили трудное военное детство, сиротство и были воспитаны в детских домах. Сама Панова не жила в Ленинграде во время блокады, но, как пишет она в своих воспоминаниях, уже с 1945 года «по возвращении моем в Ленинград, когда я вплотную столкнулась с людьми, пережившими блокаду, и приняла в себя их пронзительные рассказы, сама жила жизнью реэвакуированных», память о блокаде не оставляла ее. Рассказ Тани почерпнут из реальных устных рассказов ленинградских блокадников и определен автором как «быль».


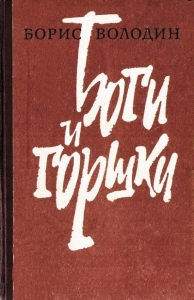


Комментарии к книге «Собрание сочинений. Том 3», Вера Федоровна Панова
Всего 0 комментариев