Евгений Пермяк ГОРБАТЫЙ МЕДВЕДЬ Роман
КНИГА ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПЕРВАЯ ГЛАВА
I
В Мильве никто, пожалуй, не назовет октябрь осенним месяцем. Да и вообще мильвенская осень очень коротка. Начинается она в сентябре и после считанных теплых дней, грустно названных «бабьим летом», вскоре переходит в зиму без всяких теплых поблажек.
Первым настоящим признаком мильвенской зимы считается замерзание пруда. Кама еще течет и борется, не желая покрываться льдом, а мильвенский пруд уже готов.
Так было и в этом, тысяча девятьсот семнадцатом году. По Каме дохаживали последние пароходы, а пруд уже превратился в огромный зеркальный каток. Таким он будет недолго. До первого снега. Поэтому конькобежцы всех возрастов боятся упустить время и дорожат каждым часом. А вдруг снег выпадет завтра, вот тебе и покатался.
У берегов катаются маленькие, чуть дальше от них — храбрецы постарше. А через весь пруд отваживаются мчаться совсем смелые молодые люди. Лед еще тонок. Он растрескивается множеством ломаных линий, убегающих вправо и влево от стремительно мчащегося конькобежца. И все же прелесть катания по сверкающей глади побеждает все страхи.
В эти короткие бесснежные дни конькобежцы устремляются в далекие прогулки по рекам Мильве, Медвежке, Омутихе, образующим при впадении в пруд заливы. На шестнадцать верст тянется Медвеженский залив. Почти такой же протяженности Мильвенский залив, местами превышающий по ширине Каму.
Маврикий Толлин весь во власти скольжения над царством рыб, над глубиной, где в старые годы жила холодная красавица Мильва, умыкавшая в свой подводный дворец пловцов-молодцов для потехи…
Ходкие коньки у Маврикия, хотя и очень верткие, зато высокие. На них труднее кататься и легче падать. Но чем не поплатишься за дюйм добавленного роста.
Эти коньки вчера подарила тетя Катя. Только лишь она могла догадаться, что ему нужны высокие коньки. «Нурмис». Беговые. А не какие-то «снегурочки». Вчера вообще был знаменательный день. Вчера праздновалось пятнадцатилетие со дня рождения Толлина. Подумать только… Он прожил полтора десятка лет… Если помножить триста шестьдесят пять на пятнадцать, получится огромное количество дней. Более пяти, а может быть, шести тысяч. Это нетрудно подсчитать точнее, но не хочется останавливаться и портить лед химическим карандашом ради никому не нужной цифры. Что же касается месяцев, то он их прожил сто восемьдесят. Это можно подсчитать без карандаша и остановки. А недель… Пятьсот двадцать плюс двести шестьдесят… Семьсот восемьдесят недель. Не так уж много. Зато сколько их впереди. Ведь чем меньше прожито, тем больше жить… Хотя… Ну да зачем думать об этом. Вчера столько было подарков и поздравительных писем. И даже две телеграммы.
«В пятнадцать лет хотя еще и не наступает зрелость, но детство уже уходит», — телеграфировал из Петрограда милый Иван Макарович Бархатов, которого никак не хотелось называть его настоящим именем — Иван Матвеевич Прохоров.
Прислал поздравительную телеграмму и отчим. Он тоже теперь в Петрограде. В ГАУ. В Главном артиллерийском управлении. На Литейном проспекте. Внушительное здание. С пушками у входа. Маврикий надеялся, что ему в этот день будет разрешено взять томящийся в сундуке фотографический аппарат фирмы «Ернеман». Об аппарате ничего не было сказано. Отчим наказывал успешно закончить шестой класс гимназии и перейти в седьмой. Как будто Маврикий сидел в каком-то классе два года.
Ну и хорошо. Не так долго осталось выслушивать наставления. Будь бы у него посильней характер, он бы бросил гимназию и пошел бы работать на завод. А потом было бы видно, каким пойти путем.
Зато вчера был очень хороший и совершенно неожиданный подарок. Его принесла Сонечка Краснобаева. Она так повзрослела, по сравнению с весной. И такая стала какая-то не как раньше, что было бы правильнее называть ее не Соня, а Софи. С ударением на последнем слоге. Этот подарок был новостью, сказанной на ушко.
Оказывается, в гимназии не будут учиться по крайней мере две недели. Что можно подарить лучше этой новости. Неожиданные осенние каникулы, каких не бывает нигде.
Оказывается, старое паровое отопление гимназии окончательно вышло из строя. Оно и в прошлом году напоминало о себе — то тут, то там пробивался пар. Директор гимназии Всеволод Владимирович Тихомиров надеялся, что отопление прослужит до весны. Но лопнула труба в учительской. Пришлось погасить котлы. А затем предстоит замена хлопотливого и небезопасного парового отопления на спокойное новейшее водяное отопление. А на это потребуется немалое время.
Оказывается, радости жизни иногда возникают из ничего. Из лопнувшей трубы… Из маленькой, движущейся навстречу точки, которая, все вырастая и вырастая, становится Сонечкой Краснобаевой. Она еще вчера хотела посмотреть, каковы на ходу его новые коньки.
— Здравствуй, Со… — крикнул, падая, Маврикий. — Так мне и надо, — признался он смеясь. — Хвастливые всегда должны наказываться.
Поднявшись, он еще раз сказал «здравствуй» и пригласил:
— Хочешь, побежим вместе?
— Конечно!
— Куда?
— Хоть на край света.
— Ну уж и…
— Правда, Мавруша, правда.
— Руку!
— Вон она.
И они, взявшись за руки, помчались к Омутихинскому заливу.
— Я так рад. Соня, что лопнуло паровое отопление.
— И я рада, Мавруша.
— А ты-то почему?
— Мне всегда радостно, если тебе хорошо.
Маврик замедлил бег.
— Не надо так, Соня. Это принижает тебя. Ты всегда как-то очень откровенна… И у тебя все на виду. А нужно скрывать.
— А зачем?
— Ну, все-таки… Как можно говорить «хоть на край света?» Даже полыньи опасны, — кивнул он в сторону незастывшей воды, — а уж край-то…
Соня заглянула в глаза Маврикия.
— Уж кому-кому, а мне-то известно, что ты знаешь, где край, и никогда не упадешь, если тебя не толкнут… Вот так… — Тут она повернулась на своих «снегурочках», оказавшись лицом к лицу Маврика, поцеловала его. Это произошло так неожиданно, что тот не сразу нашел нужные слова.
— Не торопимся ли мы, Софи?
— Нет! Впрочем, да! Потому что я боюсь опоздать. Я хочу, чтобы ты помнил, кто первая поцеловала тебя. И ты этого никогда не забудешь и никогда не сумеешь сказать другой, что она тебя целует первой. Теперь первой всегда буду я, Софья Африкановна Краснобаева. Не так ли?
— Да, Соня… Да… И это очень хорошо. Пусть же и ты будешь поцелована первым не кем-то, а мною.
Маврик нежно поцеловал Соню…
II
Он поцеловал Сонечку Краснобаеву второй и третий раз… А потом сбился со счета. Но это уже было не на пруду, они уже не катались по льду, а летали за облаками не так далеко от звезд. Иногда они присаживались на тучку, и Соня заглядывала ему в глаза. А он ей. И в ее глазах он видел еще больше, чем за облаками, в пространстве вселенной темно-синего цвета. А потом они начали спускаться над Петроградом. На улицах стреляли, и снова, как этим летом в июле, рикошетом скользнула пуля, и снова текла из его руки кровь. Только руку на этот раз перевязывала не сестра милосердия, а Соня.
— Уже пора, Мавруша, расставаться со снами и перестать благодарить за что-то Соню… Пора собираться. Посмотри, что я приготовила тебе. Отбери и уложи в саквояж нужное.
— Хорошо, мама. Я сейчас…
Вскоре начались торопливые сборы. До отъезда оставалось менее часа. Воспользуемся этим временем и расскажем, что было после катания на коньках и как возникла неожиданнейшая поездка Маврикия в Петроград.
В жизни Маврикия Толлина случалось не раз, что события, не имевшие к нему отношения, неожиданно касались его. Будто какая-то скрытая сила вспоминала о нем и делала невозможное возможным. Кому бы пришло в голову, что в октябре, перед ледоставом Камы, учась в шестом трудном классе, где нужно дорожить каждым учебным часом, Маврикий отправится в Петроград. Второй раз в этом году. Он бы считал эту поездку невероятной еще два дня тому назад. А теперь невозможно представить, что могло быть как-то по-другому.
Всему нашлись свои объяснения. Даже лопнувшая в учительской труба парового отопления и та подала свой голос в общем хоре причинностей. Но все началось с Турчанино-Турчаковского.
Этот старый лис по-прежнему управлял Мильвенским заводом. Веря, что в России восторжествует монархия на западный образец, ограниченная болтливым и безопасным парламентом, он считал, что этому как нельзя лучше способствует глава Временного правительства Керенский.
— Никто другой, господа, как этот самовлюбленный выскочка, — говорил о нем Турчаковский в узком кругу заводских воротил, — не может наделать столько глупостей и уронить престиж без того непопулярного Временного правительства до его полного самонизложения. И тогда, — предсказывал управляющий, — один из главнокомандующих или просто кто-то из толковых военачальников более удачно, нежели поторопившийся генерал Корнилов, возьмет в свои сильные руки государственную власть — и конец!
Запершись в своем домашнем кабинете на бывшей Бариновой, ныне Революционной набережной, Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский утверждал, что помогать разрушительной деятельности обреченного на гибель правительства — значит облегчать захват власти достойным ее. И такой помощью Турчаковский, в частности, находил временное закрытие Мильвенского завода, кроме цехов, выполняющих заказы для фронта. Закрытие завода неизбежно вызовет недовольство рабочих и населения властями, а может быть, и волнения… А он, Андрей Константинович Турчаковский, опять ни при чем. Потому что не кто-то, а он поедет в Петроград якобы отстаивать сохранение завода, но… правительство, хотя оно и временное, не согласится с ним.
Вскоре о намерениях управляющего стало известно Мильвенскому комитету большевиков. Известно стало потому, что и в тесном кружке Турчаковского находились люди, которые на всякий случай и впрогляд на будущее оказывали услуги большевикам. А вдруг да они, а не какие-то гадательные генералы окажутся у власти, тогда не забудутся и эти тайные предупреждения.
Теперь предусмотрительнее стали заводские начальники. Случалось уже всякое. И ждать было можно всего. Один слух исключал другой. Говорили, что Керенский арестовал Ленина, а он оказался неуловим. А ведь как искали и как ищут. Даже в Мильве. А почему бы и нет? Ленин мог скрываться именно в далекой Мильве, где он нашел бы пристанище в семьях знакомых ему людей. У Тихомировых, например. У Емельяна Матушкина, дочь которого, Елена, выйдя замуж за тихомировского сына, встречалась с Лениным за границей. Ленин мог попросить убежища и у Екатерины Матвеевны Зашеиной. Ведь ее муж Прохоров-Бархатов, куда-то исчезнувший опять, выполнял в свое время ленинские поручения и поручения ЦК, касавшиеся Ленина.
В эти дни октября семнадцатого года Ленина искали повсеместно. Какому агенту охранки не хотелось выслужиться перед Временным правительством, да еще получить неслыханную награду за поимку человека, от которого зависело направление истории. Провизор Мерцаев трое суток следил за приехавшим к гробовщику Судьбину господином в парике.
Однако не всякий слух — досужая сплетня. Когда в Мильве узнали о возможности закрытия большинства мильвенских цехов, то началось невообразимое. Слух подтверждался тем, что главная продукция завода — суда и котлы — не была в спросе.
До пароходов ли теперь пароходчикам, до котлов ли и машин заводчикам, когда неизвестно, чем кончится смута; начавшаяся весной этого года.
Суда не нужны и оскудевшей казне, не поспевающей печатать падающие в цене «керенки» двадцати- и сорокарублевого достоинства. Снова воскресла памятная многим в Мильве угроза остаться без работы. Вспомнился старик Матвей Зашеин, нашедший тогда хотя и тяжелый, обидный, но все же выход. А кто его найдет теперь? Разве только тот, кто в те годы внял голосу Зашеина и упросил царя. Теперь ему проще упросить Керенского.
Вскоре в передней квартиры управляющего появилась делегация. Из добровольцев. Пришли диким образом. Турчаковский выслушал встревоженных стариков, сказав, что он принимает и будет принимать все меры, чтобы в заводе не был закрыт ни один цех.
— Однако, — доверительно сообщил, разводя руками, изолгавшийся плут, — все зависит от того, как взглянет на это Александр Федорович Керенский. Теперь все в его руках. Но будем надеяться.
Старикам хотелось верить, но не верилось.
III
После отъезда Бархатова-Прохорова вожаком мильвенских большевиков остался Артемий Гаврилович Кулемин. Узнав о поездке Турчаковского в Петроград, обсудив «ситуацию» на комитете, он тоже готовился к отъезду в Питер, чтобы не дать Турчаковскому сделать злое дело. Перед отъездом Артемий Гаврилович пришел к Зашеиной.
— Не пожелаете, Екатерина Матвеевна, послать посылочку благоверному? В Петрограде, как вы понимаете, с продовольствием… весьма и не очень.
Пока Екатерина Матвеевна советовалась, что лучше послать и сколько можно взять, Любови Матвеевне Непреловой, оказавшейся в этот час у сестры, тоже захотелось послать кое-что своему мужу. И она неожиданно для всех сказала пришедшему вместе с ней сыну:
— Мавруша, а почему бы тебе не съездить с Артемием Гавриловичем в Петроград? Ты же теперь там как дома… И свез бы сливочное масло, мед, окорок и все, чего теперь нет там.
Маврикий не верил своим ушам. Неужели он снова увидит сказочный город Петроград. Он не знал, что не сливочное масло, не мед и не окорок были причинами его второй поездки в столицу. Как он мог предположить, что его мать съедают мучительные подозрения. Герасим Петрович, служа теперь в ГАУ — Главном артиллерийском управлении в Петрограде, где столько соблазнов… Короче говоря, Любови Матвеевне хотелось, чтобы Маврикий появился в Петрограде неожиданно.
Ко всему этому в Петроград ехал и Всеволод Владимирович Тихомиров. Он не хотел далее оставлять там своего самого младшего внука. Об этом рассказал тот же Кулемин.
— Так чего же раздумывать, — поддержала сестру Екатерина Матвеевна. — Что ему делать в Мильве, пока переделывается отопление? Пусть едет. Пусть непременно едет.
Неужели это правда? Уж очень как-то все просто. Словно во сне. Так не бывает в жизни… Впрочем, почему же не бывает. Весной этого года тоже произошло то, чего и не ожидал Маврикий. Он, окончательно убедившись, что гимназия ему не нужна, решил поступить на завод. Желание работать и зарабатывать было так настойчиво, что мать упросила Герасима Петровича пригласить Маврикия в Петроград и этим оттянуть поступление на завод. «А потом я приму другие меры», — писала она мужу. И тот согласился. И написал пасынку письмо, в котором, приглашая его, писал, что будет неплохо, если он, провинциальный гимназист, побывает в столичных музеях и картинных галереях и наберется ума-разума. И…
И вскоре свершилось первое чудо в жизни Маврикия Толлина. Он без провожатых появился в Петрограде. Город оглушил его, ослепил, принизил. Он и раньше представлял его громадным, красивым, шумным и беспокойным. Но не таким. От первого знакомства почему-то особенно запечатлелись нелепые выкрики продавцов, предлагавших маленькие золотистые жетоны на ленточках:
— А вот сын русской революции Александр Федорович Керенский, цена жетона пятьдесят копеек. А вот бабушка русской революции Брешко-Брешковская. Тоже пятьдесят. Оба — восемьдесят.
Там же шла бойкая торговля небольшими книжечками, о которых оповещалось: «А вот книжка о Распутине Гришке… О царе-балде, о царице-блуднице». Далее называлась цена. Платились пятаки, вычеканенные при царе-балде, при царице-блуднице, которые жили теперь в Царском Селе, куда потом несколько раз ездил Маврикий, чтобы хоть в щель увидеть живого последнего русского царя. Этого ему не удалось. А другие, говорят, видели. Видели, как будто бы царь самолично окучивал картошку.
Живя у отчима в офицерской комнате при казармах на Литейном проспекте, Маврикий был предоставлен самому себе. Скоро уже пятнадцать. Не заблудится. Ну, а если что и случится, то не он, не Герасим Петрович придумал эту поездку в Питер. Не ему и отвечать.
Распоряжаясь собой и своим временем, Маврикий тайно встречался с Прохоровым, который снова стал после возвращения из Мильвы в Петроград Иваном Макаровичем Бархатовым.
— Так нужно пока, Кудрикий, — объяснил он тогда, ничего не объясняя.
Маврик не пытался узнавать больше, чем ему говорили. Валерий Всеволодович Тихомиров, с которым тоже несколько раз виделся Маврикий, рассказывал об очень многом, но далеко не обо всем. Тот и другой говорили о Владимире Ильиче, но говорили с какой-то осторожностью, будто даже от Маврика нужно было что-то скрывать. И это обижало его. Ведь еще до войны, с того дня, когда Валерий Всеволодович бежал из Омутихи за границу, Маврикий стал почти подпольщиком. Если не почти, то до некоторой или в какой-то степени. Потом Маврикий встречался с Бархатовым на горе Благодать в Верхотурье, и разве можно остерегаться его. Разве он выболтал хоть одну чужую тайну! И однажды Маврик не выдержал:
— Иван Макарович, я, наверно, скоро уеду. Но как я могу приехать домой, ни разу даже издали не увидев Владимира Ильича Ульянова-Ленина? Ведь меня же спросят, какой он. Спросят все. Даже Васильевна-Кумыниха.
— Хорошо, — пообещал Иван Макарович, — ты увидишь Владимира Ильича до отъезда, а пока, если хочешь, поедем вместе.
Маврик с радостью согласился, и они отправились к ближайшей трамвайной остановке.
— Я знаю, что ты настоящий молчальник. Но иногда бывает трудно и даже невозможно промолчать. Поэтому, пожалуйста, не запоминай дорогу, названия улиц, по которым мы едем, и уж, конечно, номер дома и квартиры, куда мы войдем. Ты понял?
— Да!
— Обещаешь?
— Еще спрашиваете.
Маврику показалось, что Иван Макарович нарочно запутывал дорогу, пересаживаясь с одного трамвая на другой. Затем они шли дворами. Потом через какой-то сад. Маврик шел подчеркнуто потупившись. И вот они остановились у дверей. Иван Макарович позвонил.
— Здравствуйте, Иван Макарович, — встретила их немолодая женщина. — Проходите. Проходите, — повторила она, закрыв входную дверь. — Очень приятно. Здравствуйте, молодой человек.
Когда Иван Макарович ушел в глубь квартиры, до Маврика донеслось:
— Пусть они поговорят там, а мы — здесь.
Незнакомая женщина, оказывается, знала не только Маврика, но и Всеволода Владимировича Тихомирова, и печальную историю показа туманных картин в нагорной школе, и даже его тетю Катю…
Прошло минут двадцать или более. Послышались торопливые шаги. Открылась дверь. На пороге появился невысокий человек с добрыми смеющимися глазами.
— Здравствуйте, товарищ Толлин! Теперь вы можете смотреть на меня сколько угодно, чтобы вам было что рассказать своей тетушке Екатерине Матвеевне и, в первую очередь, Ильюше и Санчику… Смотрите же, — повторил он, — смотрите со всех сторон. — Звонко расхохотался незнакомый человек, и Маврикий окончательно понял, кто с ним разговаривает.
Маврик не помнит, как он вышел, на чем они возвращались на улицу Пятая рота в квартиру, где иногда ночевал Иван Макарович, что было тоже как-то непонятно. Кругом свобода, а они вынуждены жить не то что подпольно, но все же как-то настороженно. Царь свергнут, а скрываться приходится почти как при царе…
IV
Какой бы прекрасной-распрекрасной, величавой-развеличавой ни была Нева, все же она не похожа ни на одну из тех рек, которые знал и любил Маврик. У Невы нет тех привычных берегов, которые позволяют завязывать отношения с рекой. Рыболовные. Купальные. Лодочные. Нева, заключенная в гранитные берега, не позволяет даже пристать к берегу или отчалить от него в лодке. Да и не справиться, наверно, веслу с ее течением. Несомненно, и у Невы есть нормальные берега и отмели. Но где искать? Отправиться вверх по течению? Не такое время. Говорят, против Керенского поднялся пулеметный полк. Интересно бы посмотреть, как это бывает.
Облокотившись на гранитное окаймление берега, Маврикий разглядывал Петропавловскую крепость, смотрел, как переламываются пароходные трубы перед тем как судну пройти под мостом, думал, как хорошо бы стать чайкой с сильными крыльями, слетать в Мильву, искупаться в пруду и вернуться в Петроград.
«Взвейтесь, соколы, орлами», — услышал мечтатель. Оглянувшись, он увидел женщин в солдатской форме с винтовками на плечах. Непривычное зрелище. Стриженные наголо. В фуражках. Какое-то чрезмерное размахивание руками и не пение, а кричанье: «Полно горе горевать. То ли дело под шатрами в поле лагерем стоять…»
Маврик подбежал, чтобы рассмотреть лица. Одна из женщин, мигнув Маврику, сделала такое охальное движение, что тот испуганно отвернулся. Расстроенный поплелся он к остановке и снова встретился с ротой солдат-женщин. Они также размахивали руками «вперед до приклада, назад до отказа» и пели:
Пошли девки на работу, Пошли девки на работу, На работу, кума, на работу… На работе припотели, Искупаться захотели… Захотели, кума, захотели… Рубашонки поскидали, Сами в воду поскакали, Поскакали, кума, поскакали…Поющие взвизгивали, подсвистывали, опошляя и без того пошлую песню. Маврикий недоуменно смотрел на женщин, «печатающих шаг» так шумно, будто приглашая всякого встречного обратить на них внимание.
Не сразу Толлин узнал в приземистой, коротконогой женщине, в тесной солдатской одежде, свою бывшую учительницу Манефу Мокеевну из Нагорной церковноприходской школы. Неужели это та самая Манефа, которая избивала учеников, с которой связан такой тяжелый второй класс… Она! Сомнения нет. Какое же может быть сомнение, когда, увидев своего давнего ученика, Манефа чуть не подавилась разухабистым словом песни.
Но почему ей стыдно? Если женские батальоны созданы во имя высоких патриотических идей защиты отечества, то почему стыдно Манефе быть солдатом?
Стоит ли задумываться, Маврикий Толлин, почему Манефа решила вычернить свои стриженые волосы, подрумянить пухлые щеки и горланить: «Да здравствует душка Керенский».
Есть в жизни явления, над которыми не следует задумываться. Они не стоят этого. И даже презрительное упоминание об этих явлениях делает им честь…
Вернувшись в комнату при казармах ГАУ, Маврикий услышал:
— Для Керенского это предупреждение об отставке.
— Как вы можете так, Степан Петрович, — заметно волнуясь, возразил отчим. — У них же полк. Хотя и пулеметный, но всего только полк. А у правительства — армия. Понимаете, армия. Множество полков.
— А сколько из них надежных? — не унимался их сосед по комнате, военный инженер Суворов.
— Поживем — увидим, — хотел прекратить спор Непрелов.
— Думаю, что жить осталось не так долго, Герасим Петрович, чтобы многое понять и увидеть.
Суворов не ошибался. Ночь в городе была беспокойная, а день и того более…
V
Казалось, весь Петроград, все жители, все солдаты и матросы вышли на главные улицы города. Выскочив из своего двора на Литейный проспект, Маврик пытался проникнуть в ряды демонстрантов, но каждый раз его оттесняли: «Ты куда?», «Ты зачем?», «Это еще что?»
Протискиваясь стороной меж зевак, толпящихся на панелях, он увидел знакомое лицо и знакомое название корабля на бескозырке. Это же кумынинский зять Василий Токмаков!
— Вася! Васюта! — закричал Маврик, надеясь, что знакомый матрос возьмет его в свои ряды и он пройдет с демонстрантами по Невскому. Пройдет, как когда-то в Мильве шел он через плотину с рабочими и пел «Отречемся». Но Токмаков не слышал Маврика. Не может быть, чтоб похожее лицо совпало с названием корабля. Маврик собрал все силы, приложил на манер рупора руки к губам и…
И раздался выстрел. Маврик видел, как из верхнего окна сверкнул огонек. Он даже видел лицо и погоны стреляющего. Выстрел повторился. Перед Маврикием упала девочка, он нагнулся к ней, но почувствовал боль в плече. Кто-то схватил и поволок его в подъезд. Ему что-то говорили, но ничего нельзя было разобрать. Началась беспорядочная стрельба, падали демонстранты…
Маврик лишился чувств не от потери крови, не потому что ранение было серьезным. Он испугался. Очнулся в аптеке, неподалеку от подъезда, где его ранили. Там же сидела девочка с перевязанной рукой. Она, как и Маврик, могла идти. Но их задержали. Ждали экипажа из какой-то редакции. Наконец экипаж пришел. Девочку и Маврика провели дворами и в незнакомом переулке усадили в экипаж.
— Несчастные жертвы варваров! Маленькие герои, — не то восхищался, не то горевал провожатый. — Ах, ах! — но в сочувствии сквозила радость.
— Куда вы нас везете?
— Прежде в редакцию, а потом, когда утихнет это Мамаево побоище, доставлю домой.
Это уже не устраивало Маврика — отчим предупреждал не совать свой нос куда не надо. Боязно было показаться ему в таком виде.
Карета остановилась у очень красивых дверей с зеркальными стеклами. Его и девочку понесли на руках. Буквально на руках.
— Мы так беспокоились, успеете ли вы к верстке номера, — пристал толстяк с фотографическим аппаратом.
— Я пойду сам, — потребовал Маврик, и его провели в кабинет с огромным письменным столом и множеством кресел и стульев вдоль стен. На стульях мужчины с записными книжками.
— Вот они, жертвы большевицкого террора, большевицкого расстрела мирного населения, — напирая на букву «ц», произнес стоявший за столом господин с бакенбардами.
Защелкали аппараты. Очень солидные и очень почтенные на вид и, кажется, не все русские люди присаживались перед Мавриком и незнакомой девочкой, становились на колени, торопясь сделать как можно больше снимков.
Маврик долго не понимал, куда он попал и что от него хотят. Но большой ростовой портрет Керенского, французская и какая-то еще речь фотографирующих его, наконец, вымысел о большевиках, которые якобы стреляли в него и в маленькую девочку, подсказали, как надо вести себя.
— Как вас звать, молодой человек? — спросил господин с бакенбардами.
Маврикий замялся. А потом нашелся и ответил:
— Калужников.
— Прелестно, а как ваше имя?
Имя придумать было легче.
— Матвей.
— Очаровательно, — похвалил важный господин и обратился к девочке — А ваше имя?
— Я хочу домой, — и незнакомка громко заплакала.
Ей подкатили кресло. В такое же усадили «Матвея Калужникова». И человек с бакенбардами принялся лихо, увлеченно врать. Оказывается, вооруженные большевики, запугивая мирное население, преданное законному Временному правительству, стреляли и в детей. Так, господин Калугин… простите, Калужников…
— Нет. В меня стрелял с верхнего этажа юнкер.
— Как юнкер? Какой юнкер? Позвольте, молодой человек, вы этого не могли видеть.
— Не могли, — присоединился тот, кто привез их в дорогом экипаже.
— Я видел фуражку и юнкерские погоны, — твердо повторил Маврик.
— Позвольте, позвольте, как вы могли различить их, стоя внизу?
— Юнкерские погоны нельзя спутать ни с какими другими, — не отступал от своего Толлин. Потому что он на самом деле видел погоны и кокарду стрелявшего.
Девочка ничего не видела. Но и она сказала, что стреляли сверху.
Наступили те самые неловкие минуты тишины, которые говорят выразительнее слов. И, словно спасая положение, в открывшихся дверях появились солдаты с красными крестами на белых нарукавниках. Они внесли на носилках раненого казака, повторившего несусветную чепуху о большевиках, «стрелявших на все стороны и куда ни попадя».
Снова защелкали затворами фотографических аппаратов.
— Вы свободны, господин Калугин, — теперь уже нарочно переврал фамилию господин-лжец, — и вы, девушка, забывшая свою фамилию. Жаль, очень жаль, что вы не так дальнозорки. Слава, молодой человек, уже завтра могла бы поднять вас на свой гребень и вами гордилась бы вся Россия и ее союзники…
Плечо болело недолго. Пуля хотя и прочертила длинную, но поверхностную царапину. Фельдшер при казармах ГАУ заменил перевязку клейкой «заплаткой», велел, однако, руку держать на перевязи.
Куда теперь? Иван Макарович не мог не быть на демонстрации. Жив ли он? А вдруг и его?..
И Маврик побежал к дворцу Кшесинской, надеясь если не увидеть Ивана Макаровича, так хотя бы спросить матроса у входа, что теперь будет дальше?
Ни Ивана Макаровича, ни матроса, который мог бы что-то ему сказать, не было. За них ответили юнкера и какие-то особенно упитанные солдаты, занимающие сейчас особняк Кшесинской.
— Теперича им пришел каюк, — внушал один фельдфебель другому, тоже переобувавшемуся тут же на панели у дворца. — Нынче они все в бегах. А Ленина-то, в случае чего, приказано без суда. На месте.
Маврикий отправился на Пятую роту. Куда же еще. Тихомировых наверняка не было на прежней квартире. Коли идут аресты большевиков, так уж Валерия Всеволодовича не оставят в покое. Только не таков он, чтоб попасться в ловушку.
Добравшись до Пятой роты, Маврикий пошел медленнее. Проходя мимо окон комнаты Ивана Макаровича, он ничем не показал, что имеет отношение к этому дому, к этим окнам. Но решил ходить туда и сюда до тех пор, пока это будет возможно. А если кто спросит, зачем он тут прогуливается, — ответ простой. Он ждет одну гимназистку. А какую, кто она, это уж, извините, никому нет дела. Ему достаточно лет, и он имеет право назначать свидания где ему вздумается.
Пройдя так раз пять или шесть, Маврик услышал:
— Погодьте тут. Я выйду.
Вскоре вышла та самая старушка, которая окликнула его из открытого окна.
— Ён сказал, ежели ты придешь к нему, так вот записка. Здесь ему жить больше не с руки.
На клочке бумаги было записано каракулями: «У Казанского собора. Нечетные дни. Семь вечера».
День был нечетный, а времени только пять.
В садике неподалеку от памятника Барклаю-де-Толли Маврикий облюбовал скамеечку и решил ждать. А что делать? Не может же он уйти от своего нетерпения и торопливости. И чем плохо прийти раньше. Хуже, когда опаздывают.
Рядом сел пожилой человек в форме швейцара. Уставившись в газету, заговорил полушепотом:
— Теперь опять нужно прятаться. Поэтому я как незнакомый с незнакомым начну с тобой разговор. — И тем же знакомым голосом громко спросил, указывая в газету: — Молодой человек, как понять это слово — коалиция?
Маврик принялся объяснять. Завязался «естественный» разговор. Иван Макарович сообщил адрес Елены Емельяновны. Теперь она жила одна с четырехлетним Владиком и няней.
Найдя Ивана Макаровича, а затем Елену Емельяновну, Маврик почувствовал себя тверже на земле. Наверно, так же и Владимир Ильич переменил адрес и надел другую одежду, может быть, ходит по улицам и его никто не узнает. Спрашивать о Владимире Ильиче Маврик считал бестактным. А то, что он был жив и здоров, было ясно по каким-то словам, вовсе даже и не имевшим отношения к Владимиру Ильичу. Маврик ни на минуту не сомневался, что Иван Макарович и неизвестно где теперь живущий Валерий Всеволодович встречаются с Владимиром Ильичем. И однажды ему подсказало это, кажется, само сердце.
VI
Незадолго перед возвращением в Мильву Ивана Макаровича потянуло за город.
— А здесь ведь тоже есть знатная рыбалка. И озера, брат, не хуже мильвенского пруда.
Начав разговор как бы между прочим, Иван Макарович предложил завтра же попытать рыбачью удачу. И как-то вдруг нашлись сачки, удилища и многое другое. На этот раз они встретятся на Невском, у знаменитого дома Зингера, компании швейных машин.
Подумать только, какой дом, с таким куполом, а на куполе земной шар. Весь земной шар шьет на машинах Зингера. Он теперь не унывает, надеясь, что в России будут прежние порядки, по-прежнему торгует машинами в рассрочку.
Иван Макарович пришел точно. Как всегда начались пересадки с трамвая на трамвай и там, где они совершенно не нужны. Вокзал. Поезд подан.
— Нам в пятый вагон от хвоста, Маврик.
В пятый так в пятый. Сели. Пассажиров мало. Перед самым отходом вошел Валерий Всеволодович. Небритый, в каких-то допотопных очках, он походил на тех, кто живет ловлей и продажей птиц, добывает деньги рыболовным крючком, а иногда торгует собранными грибами. При нем было небольшое складное удилище и охотничья сумка.
Разговор с Иваном Макаровичем он начал как посторонний, но как рыбак с рыбаком. Оказалось, что им по пути.
— Чуть не проехали наше озеро, — указал за окно Иван Макарович.
Маврик прочитал название станции. «Разлив». Странное какое-то название, совсем не железнодорожное, а — речное.
К озеру шли тоже как-то не по прямой. Наконец добрались до места. Там оказался еще один. Тоже из «незнакомых». Видимо, из таких же незнакомых, каким был Валерий Всеволодович.
Началось торопливое разматывание лесок. Нетерпеливое насаживание червей. Клева никакого. Еще бы. Полдень же. Но как скажешь об этом, если рыбная ловля напомнила давнюю рыбалку на реке Омутихе, когда Валерий Всеволодович покидал Мильву, уезжая к Владимиру Ильичу.
Вот и теперь, кажется, та же старая маскировка.
Третий, неизвестный Маврикию рыбак, предложил, показывая неизвестно куда:
— А не попытать ли нам счастья там?
— Я готов, — согласился Валерий Всеволодович. — А вы тут не пропускайте рыбу. И если начнется клев, дайте знать. Дальше берега не уйдем.
У Маврика радостно заколотилось сердце. Он почему-то покраснел.
— Не зевай, не зевай, — крикнул Иван Макарович. — Нет, это мне показалось…
Клева окончательно не было. Но рыбаки настойчиво следили за поплавками. Часа два. Наконец вернулся Валерий Всеволодович.
— А где тот?
— Остался ждать вечернего клева. Пошли.
Возвращались молча, будто боясь, что их услышит трава, кусты или дорога.
Значит, жизнь идет, борьба продолжается, надежды не потеряны! Хотелось только спросить об одном — зачем брали его. Как зачем? Неужели непонятно. Для большей маскировки. Все правильно. И если будет нужно, он готов снова отправиться ловить рыбу на озеро Разлив и ничего не поймать в нем.
На станции Валерий Всеволодович сел в другой вагон. Так, видимо, было нужно.
А Маврику не терпелось успокоить Елену Емельяновну. И зайдя к ним проститься, Толлин многозначительно произнес:
— Уверяю вас, Владик ни за что на свете не узнал бы сегодня своего отца.
— Ты неисправим, Маврик, — рассмеялась Елена Емельяновна, — спасибо тебе, родной.
Обиженного Владика увела няня. И тут Маврик решился.
— Елена Емельяновна, — начал он, — когда будет прогнано Временное правительство и когда Владимиру Ильичу не нужно будет скрываться?
Елена Емельяновна ответила не сразу, но определенно:
— Скоро. Очень скоро.
«Очень скоро», — повторял про себя Маврикий. Но минул месяц, другой, третий… Теперь уже на исходе октябрь, а правят все те же министры-капиталисты.
Маврикию необходимо снова задать прямой вопрос:
— Когда же все это кончится?..
И он задаст этот вопрос. Он разыщет своих. Он их найдет, как бы ни был велик город…
VII
А пока:
Здравствуй, дорогой Петроград! Здравствуй, милый Невский! Здравствуй, Литейный! Здравствуйте, Степан Петрович!
— Вот вы говорили, что мы не увидимся, а мы увиделись! Как я рад встрече с вами, — говорил Маврикий, здороваясь со Степаном Петровичем Суворовым, жившим в той же комнате при казармах ГАУ, что и отчим Маврикия.
— И я рад встрече с тобою в такое счастливое время, дружище. Ты не узнаешь Петрограда. Раздевайся… Подсаживайся к столу. Герасим Петрович сейчас придет. Какой тяжеленный тючище!
Так встретил Маврикия военный инженер Суворов. По-иному отнесся к приезду пасынка вернувшийся из военной лавки Герасим Петрович:
— В такое время, когда все начинено порохом, приехать в Питер — надо иметь голову. Как только Люба пустила тебя…
— Маме очень хотелось, — оправдывался Маврик, — очень хотелось знать, как ты… И потом же, окорок, мед и масло… Разве можно было все это послать по почте.
Герасим Петрович заметно помягчел, когда Маврикий положил перед ним отформованные кружки масла, а на кружках долгожданное рельефное изображение упитанной, с большим выменем коровы, а вокруг коровы красивыми, так же рельефными отчетливыми буквами значилось: «МОЛОЧНАЯ ФЕРМА БР. НЕПРЕЛОВЫХ».
Сбылась мечта. Молодец Сидор. Наверно, ему Григорий Киршбаум по старой памяти вычеканил форму. Так славно получилась корова. Она, как и медведь на плотине, будто тоже улыбается, глядя с кремоватых аппетитных кружков сливочного масла.
— И уже есть в продаже? — спросил Непрелов пасынка, указывая на кружки.
— Да, — живо принялся отвечать Маврик и спохватился, — только не в кружках. Чтобы скрыть фамилию. Одного били в Мильве за масло. Туесова. Помнишь лавчонку у собора?
— За что же его и кто?
— Женщины. За то, что взвинтил цену.
— А-га-га… Ну да… Несомненно, — изменял направление неудобного разговора Герасим Петрович. — И правильно сделали. Не обдирай. В Петрограде тоже наказывают подобных обдирал. А это, — указывая на кружки масла, сказал Непрелов, — я снесу в ГАУ и покажу друзьям. Устраивайся и располагайся.
Непрелов жил в комнате, рассчитанной на четверых офицеров, но жили только двое. Маврикий занял ту же койку, на которой спал летом. Жарким памятным летом тысяча девятьсот семнадцатого года.
Дождавшись, когда отчим дочитает письмо от матери, Маврикий сказал, что ему нужно сделать множество покупок для товарищей, просил не беспокоиться, если он задержится.
— Только не лезь в каждую свалку. Теперь схлопотать пулю стало еще проще, чем два-три месяца тому назад, — предупредил Герасим Петрович. — Учти, что я возвращаюсь поздно вечером. Много работы. Большая работа. Огромная работа. Вот такие кипы бумаг. Страниц по четыреста. Иногда приходится засиживаться чуть ли не до утра, — говорил Герасим Петрович, будто боясь, что пасынок не поверит сказанному. — Приходится сидеть не только в Главном управлении, но проводить ночные ревизии на складах… Очень-очень трудной стала теперь работа.
Чуткий пасынок, стараясь думать об отчиме как можно лучше, все же смутно догадывался о том, чего так нескрываемо боялась его мать. И не зря — отчим очень красив. При такой выправке и при таком росте нельзя оставаться незамеченным тоскующими женщинами, каких много в Петрограде. У отчима так ослепительно белы зубы. А у мамы вставные. Они тоже сверкают, но это не ее зубы. Ах, мама, мама, ведь ты знала тогда, выходя замуж, что он моложе тебя на семь лет… Впрочем, как можно судить мать. У нее же были с ним счастливые годы…
— Ключ там, Андреич, — сказал Непрелов, застегивая новую, очень хорошо сшитую офицерскую шинель.
Ничего не скажет Маврикий о своих догадках матери. Зачем ей знать о том, что лучше всего скрыть. Скрыть — то есть солгать. А что же делать, если ложь тоже иногда бывает святой.
VIII
Рассуждения недолго занимали Маврикия. Манил город. Звали улицы. Тянуло на Неву.
Нет, грех тебе, Маврик, жаловаться на жизнь. Ты счастливец. Ты снова увидишь, как неистощимая Нева щедро дарит свои могучие воды Балтийскому морю, будто у нее круглый год половодье. На Неву нельзя насмотреться. Можно устать, стоя на берегу, но наглядеться на нее невозможно, как и на город, по улицам которого чуть ли не каждый раз проходишь заново.
Проспекты, мосты, знакомые и дорогие сердцу дома воскрешают июльские дни. Вот она, аптека, где перевязывали его. А вот окно, из которого стрелял юнкер. Ну, а уж Исаакий-то, Невский, Гостиный двор — куда они денутся. На торцовых шестигранниках нет пятен крови, пролитой безвестно похороненными петроградцами. Дожди и метлы дворников уничтожили следы июльского расстрела. Но все равно эти пятна крови, эти мертвые тела рабочих, матросов, солдат, женщин — в глазах Маврика. Мог бы и он быть похороненным на каком-нибудь из кладбищ, если бы пуля попала чуть ниже и немножечко правее.
Нужно поскорее найти Ивана Макаровича. Нашел ли его Кулемин? Наверно, нашел. Кулемин взрослый, стойкий, проверенный товарищ. На него можно положиться. Наверно, у него более подробные сведения о том, кто и где. Хотя сейчас не то что в июле. Все время встречаются вооруженные отряды рабочих. Наверно, это и есть отряды Красной гвардии.
Самое правильное — отправиться на квартиру к Елене Емельяновне. Там он наверняка узнает об Иване Макаровиче.
Пришел. Позвонил. Придумал, на случай провала, спросить, где живут Агафоновы, или Кривоноговы, или Сергеевы. Не все ли равно, кого спросить. Дверь открыла Елена Емельяновна. Она раскрыла объятия и радостно сообщила, не поздоровавшись с Мавриком, как будто они виделись сегодня:
— Теперь уже скоро. Иван Макарович и Валерий в Смольном.
— А где Всеволод Владимирович?
— Он уехал в день приезда. Потому что сейчас… Сейчас небезопасно и ему и Володьке находиться в Петрограде.
Елене Емельяновне разговаривать с Маврикием было некогда.
— Ты извини меня. У нас совещание… А в Смольный попасть отсюда очень просто… — И она назвала номера трамваев.
Маврикий направился в Смольный. Он слышал о нем, но не представлял его. Смольный — это же чуть ли не город, где можно разместить множество народа.
— Ба-а! Мильва! Здравствуй! — услышал позади себя Маврикий и увидел матроса в черном бушлате. — Не узнаешь?
— Нет, — смущенно признался Маврик и тут же вспомнил веселого связного береговой службы. — Узнал!
— То-то же… А я теперь тут. В наряде.
— Я очень рад. Значит, вы мне поможете…
— Он еще спрашивает. Говори.
Говорить много не пришлось. Не пришлось и долго искать Ивана Макаровича. И теперь Маврикий, очутившись в объятиях Бархатова, как бы вводился этим в Смольный, становясь парнем, заслуживающим доверия.
— Куда теперь я тебя… — забеспокоился Бархатов. — И отпустить, глядя на ночь, не могу. И здесь оставаться тоже не просто, хотя и надежнее.
В эту минуту проходил мимо парень в стеганке.
— Сима, — окликнул его Иван Макарович, — где отец?
— Ушел с отрядом.
— А ты что?
— А я ни что. Кипяток кипячу в кипятильнике.
— Тогда вот тебе еще один кипятитель. Знакомься.
Сима с радостью протянул руку своему сверстнику. Маврикий узнал, что Сима Лопухин — сын командира большого красногвардейского отряда. Его мать с младшим братом и сестрой в деревне. Дома пусто. И Сима перебрался к отцу в Смольный.
— Ты уж извини, Кудрикий. Сегодня такой день. Не теряйся.
Сказав так, Иван Макарович поспешил на зов рабочего в кожаной тужурке.
— Съезд! — сказал Сима. — Ты понимаешь, съезд рабочих и крестьянских депутатов. Второй съезд. Видишь, сколько уже понаехало.
— Вижу.
Население Смольного было и без того пестрым по своей одежде. А прибывающие на съезд вносили новые краски. Здесь можно было услышать говор всех губерний и национальностей, представляющих собою будущий, начинающийся здесь Союз Советских Социалистических Республик.
В эти дни, в этих стенах зарождалось все, что потрясет мир и станет славой и гордостью народов первой страны социализма.
IX
Все как перед взрывом…
В руках Маврикия газета «Рабочий путь». В ней он трижды перечитал о том, что Временное правительство должно быть свергнуто и власть должна перейти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Говорят, что на помощь идут корабли Балтийского флота. А матрос, находившийся там же, в коридоре Смольного, назвал крейсер «Аврору».
У Маврикия готово выскочить сердце. Нигде не обходится без мильвенцев. Он вспомнил, что на бескозырке мужа старшей дочери Кумынина Василия Токмакова было написано «АВРОРА». Не может же быть какая-то другая «Аврора».
Было уже очень поздно, когда Сима Лопухин дернул Маврика за рукав и, волнуясь, сказал:
— Смотри, смотри… Владимир Ильич…
Маврикий увидел Ленина в спину, но все равно узнал и… И все смолкло для него. Все куда-то кануло. Он видел только уходящего Ленина. Нестерпимо хотелось крикнуть: «С приездом, дорогой Владимир Ильич…» Но что-то, какие-то мускулы так сжали его горло, что Маврикий сумел выдохнуть только одно слово:
— Наконец-то…
Не услышав сказанного им, он снова оказался в море людей, в море шумном и волнующемся.
Владимир Ильич уходил дальше и дальше, куда-то в глубь коридора. За ним замыкалась толпа, как бурлящая вода за кораблем. Толлин снова ушел в свои мысли, не слыша и не видя окружающих.
Если Владимир Ильич здесь — значит, все страшное позади. Значит, настает такое время, когда люди будут жить в мире и дружбе. Как братья. Как Санчик, Ильюша и он — Маврикий Толлин. И наступит царство труда. Социализм. Наступит сразу же. Не позднее того месяца. Ноября. В это он свято верил. И ничто не могло поколебать эту веру и помешать его торопливому романтическому воображению видеть и ощущать всем своим существом этот мир труда, мир равных.
Он не мог, да и не захотел допустить, что революции, которая уже началась в эти октябрьские дни, нужно будет пройти через тяжелейшие годы, преодолеть чудовищное сопротивление извне и внутри страны.
В его пылкой душе и наивно-восторженном мышлении не могла появиться даже тень сомнения: а не ошибается ли он, не слишком ли упрощенно-радужно рисует себе картину переустройства жизни? И уж конечно ему невозможно было предвидеть, что за это упрощенное видение ему придется очень дорого заплатить.
А пока он счастлив, окрашивая окружающее в розовые и голубые цвета. И он совершенно убежден, что теперь будет все не просто хорошо, а изумительно хорошо и никакая тучка не омрачит безоблачное благополучие.
Придя в себя, Маврикий снова услышал шум. Может быть, он не умолкал. Маврикий опять слышал обрывки фраз. И из этих обрывков можно было понять, что восстание уже давно началось. Уже взяты Центральный телеграф, вокзалы и банк.
Это очень хорошо, что взяты вокзалы и банк. Керенский, значит, не удерет по железной дороге и не украдет из банка деньги. Неплохо бы сейчас Маврикию тоже участвовать в каком-нибудь взятии. Но разве возможно нарушить слово, данное Ивану Макаровичу.
Как хочется спать и как это глупо. Ведь можно проспать все. И Маврик проспал, если не все, то многое.
Они прикорнули с Симой на дровах в теплой комнатушке, где стояли кипятильники. Его разбудили слова молитвы.
— Слава тебе, пресвятая богородица, слава тебе, — молилась пожилая женщина, которая пустила молодых людей прилечь на дрова. — Тартар им и преисподняя, — провозглашала она, крестясь на темный угол, в котором Маврикий и проснувшийся Сима заметили маленькую эмалевую иконку богородицы.
— Это правда? — осторожно спросил Маврик, когда женщина кончила молиться.
— Как же не правда, мальчишечки, — с охотой отвечала она. — Теперь везде наши и повсюду свои.
Так Маврикий из уст молящейся женщины услышал первую весть о победе революции. Вскоре ему посчастливилось услышать подтверждение о победе, которое потом повторилось тысячами телеграфных аппаратов.
X
— Сима Лопухин будто родился в Смольном. Здесь он чувствовал себя как в родном доме. Маврик восхищался его способностью все знать и повсюду проникать. Он показывал Толлину и называл имена сподвижников Ленина, которые потом вошли в историю и которых тогда невозможно было запомнить.
Утром 25 октября воззвание, написанное Лениным, о чем совершенно твердо знал Сима Лопухин, извещало:
«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Петроградского Совета Рабочих, и Солдатских депутатов Военно-Революционного Комитета,? стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона».
— Сбереги, — сказал Сима, подавая листовку-воззвание Маврикию, и тут же сообщил: — Сейчас побежим слушать Ленина.
Сказано было это Симой так твердо, что Маврикий не стал переспрашивать, куда нужно бежать и где будет выступать Владимир Ильич.
Сима провел Маврикия обходными путями в большой зал, переполненный народом, и шепнул:
— Давай притаимся тут. Не бойся. Не выгонят…
Сказав так, они услышали: «Ленин, Ленин…» — и тут же увидели его. У Маврикия, кажется, снова остановилось сердце, и снова стало трудно дышать, а потом сердце стало биться ровно-ровно и дышалось легко.
Маврикий и Сима Лопухин, хотя и очень внимательно слушали Владимира Ильича, говорившего о задачах власти Советов, но все же не понимали и половины сказанного. Не понимали не только потому, что им были даже неизвестны некоторые слова доклада, но главным образом потому, что желание видеть Владимира Ильича, наблюдать за каждым его жестом, движением, поворотом головы было для них важнее всего остального. И, слушая Ленина, они слышали главным образом самый голос, его тембр, звучание, а не слова, произносимые этим голосом.
Маврикий не помнит, сколько времени он простоял здесь в углу зала, зажатый солдатами и красноармейцами. Его нашел и вывел отсюда Иван Макарович.
— Ну, вот, — сказал он, — ты и получил ответ на свой вопрос. И тебе ответил не кто-нибудь, а сам Ленин.
— Да-а, — рассеянно подтвердил Маврикий, все еще находясь под впечатлением виденного и слышанного.
Тогда, в этот день, 25 октября 1917 года, Маврикий не сумел бы повторить ленинские слова, прозвучавшие на весь мир:
«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась».
Зато потом, когда сказанное Владимиром Ильичем стало достоянием миллионов, Маврикий был убежден, что эти слова запечатлелись в его сердце там, в Смольном.
Свидание с Иваном Макаровичем было опять коротким. Оно и не могло быть иным. До Маврикия ли ему, когда еще не взят Зимний дворец, когда еще революция в самом разгаре. Все же Бархатов улучил минуту и проводил Маврикия.
— Смотри, — наказывал он, — юнкера еще не разоружились. Чуть что — в подъезд. Если понадоблюсь, найдешь меня здесь. А теперь беги. Будь счастлив, — Иван Макарович чмокнул племянника в щеку. — Теперь все будет хорошо. Не сразу, но будет… Беги!..
На улицах почти не было слышно стрельбы. Часто встречались патрули. Задерживали встречных. Проверяли документы. На Маврика никто не обратил внимания. А жаль. Он бы мог сказать, откуда он идет и кого сегодня слышал. Но его никто и ни о чем не спрашивал. Зато дома его не спрашивали, а допрашивали. И он рассказал все как было.
— Иван Макарович не позволил мне идти вчера ночью под пулями. И я ночевал в Смольном. А потом я пошел слушать Владимира Ильича Лени… — «на» ему договорить не пришлось. Отчим ударил его по лицу.
— Недоносок! — крикнул он своим и без того высоким голосом, который при крике переходил в клич какой-то ночной птицы. — Я покажу тебе… — Далее он произнес похабные слова, которые не раз приходилось слышать Маврику от чужих и незнакомых людей. Слышать же их из уст человека, которого он называл «папа», было невыносимо больно и невыразимо стыдно.
А отчим, распаляясь, избивал пасынка, что называется, «за старое, за новое и за три года вперед». Теперь он ему был ненавистен, как примыкающий к тем, кто рушит все, что так долго лелеялось, накоплялось и создавалось.
Непрелов бил пасынка и за ферму, которая, кажется, тоже подвергалась опасности вместе с Зимним дворцом.
Маврикий задыхался от неожиданности и обиды. Герасим Петрович, испугавшись, что нервный мальчишка может кончиться, кинулся к кувшину с водой и плеснул из него на посиневшее лицо пасынка.
— Вы подлец, Герасим Петрович, — послышался голос за спиной Непрелова. Он увидел своего сожителя по комнате Суворова. — Я щажу вас при пасынке, не называю вас худшими словами, которых вы стоите.
Степан Петрович, говоря так, был уже возле Маврика. Он утирал его мокрое от воды лицо и внушал:
— Взять себя в руки, взять… Сейчас нельзя падать духом… Нельзя… Окружен Зимний дворец… Окружен, ты слышишь…
— Да-а, слышу, — начал часто, глубоко дышать Маврикий.
— И очень хорошо… Твой старый друг Александр Федорович Керенский в ловушке.
Герасим Петрович молчал. Ему тоже было трудно дышать. Неужели рухнет последнее… Неужели не успеют подоспеть в Питер надежные войска, пока еще держится в Зимнем дворце Временное правительство.
XI
Снова наступал вечер. Снова наступала тревожная ночь. «Аврора» вошла в Неву, это уже теперь точно. Об этом сказал Степан Петрович Суворов.
Вася! Василий Токмаков! Выручай! Не подведи миль-венцев! Пальни по Керенскому!
И матрос Василий Токмаков не подвел. Пусть не он, а другие произвели выстрел с «Авроры», но Маврикий видел «Аврору» через кумынинского зятя Василия.
Еще не было десяти, как грянул выстрел совсем близко от Литейного проспекта. Это был выстрел не разрушения, а созидания. Выстрел-сигнал, выстрел-призыв. Ему не отзвучать в поколениях. Священным он будет в веках потому, что этим выстрелом-символом начался новый счет годам.
Откуда обо всем этом мог знать Маврикий, да и многие другие. Великое чаще всего бывает простым и обыкновенным…
Однако в грандиозные исторические свершения нередко вкрапливаются комические подробности. В эту ночь «сын русской революции», нарядившись чьей-то дочерью, путаясь в юбках, покинул свое Временное правительство и дунул в Псков, чтобы оттуда начать возвращение невозвратимого.
Об этом люди узнают позднее, а теперь визжат побросавшие оружие стриженые искательницы острых ощущений и похождений из батальона, верного неверному Керенскому. Поднявшие руки женщины в гимнастерках обещают вознаградить победителей, если они пощадят их жизнь. А до их жизни теперь мало кому дела. Их никто не трогает: они никому не нужны.
Юнкера еще пытаются сопротивляться, но те, что поумнее, давно валяются в ногах у солдат и матросов. И кому, спрашивается, они верили. Как можно было ничто принять за что-то.
Хмурый полулежит на своей койке Герасим Петрович Непрелов. Он уже сумел объяснить пасынку свое поведение нервным возбуждением. Теперь со всеми нужно быть если не в миру, то хотя бы не в ссоре. И такой щенок может отправить Герасима Петровича в могилевскую. Если уж посторонний человек Суворов так защищал пасынка, то что можно ждать от Бархатова.
Маврикий не простил и не простит отчиму побоев, но ведь он муж его матери. С этим приходится считаться. Да и не так уж много дней остается жить вместе. Вернется он в Мильву, поступит работать на завод. Переедет жить к тете Кате, и у них будет та самая семья, которая виделась ему в первый приезд Ивана Макаровича в старом дедушкином доме.
Утром, когда на отрывном календаре в комнате казармы еще не был оторван листок 25 октября, а было уже 26-е, пришел Степан Петрович и сказал:
— Временное правительство арестовано…
— Этого и следовало бы ожидать, — сказал с какой-то угодливостью Герасим Петрович.
Суворов зашел ненадолго. Он взял свой чемодан, заплечный мешок и сказал:
— Прощай, товарищ Толлин. Желаю тебе расти в том же направлении. А вам, — обратился он к Герасиму Петровичу, — желаю правильно понять и оценить то, что произошло вчера и сегодня. Прощайте. Ухожу командовать артиллерийским дивизионом.
Долго было тихо в комнате после ухода Суворова. Ни Маврикию, ни Герасиму Петровичу не хотелось начинать разговор. Да и не о чем было разговаривать. Все сказано и в этой комнате, и за ее стенами.
Что было, того уже нет, а что будет, никто не скажет. Значит, не о чем и говорить. Однако же нельзя было все время сидеть молча.
— Вот что, товарищ Толлин, — не своим голосом заговорил Герасим Петрович, — здесь нам делать больше нечего. Мы уезжаем отсюда сегодня. Сейчас же.
И сейчас же, не медля ни минуты, он поднялся, снял с вешалки свою шинель, не спеша, но как-то очень быстро, будто он уже не раз это делал, срезал свои погоны. Затем сорвал с фуражки кокарду и тоже, как и Степан Петрович, взял свой такой же чемодан. Машинально открыл его, потом так же машинально закрыл, а затем сказал:
— Одевайся! Гимназическая шинель останется здесь. Товарищам. Наденешь этот ватник.
И в комнате казармы остались ненужные теперь вещи. Зеркало. Ремень для правки бритв. Несколько книг на полке. Стаканы и чашки. Две тарелки. И кошка. Она была неизвестно чья, но чаще всего находилась в этой комнате.
Кошка хитро прищурилась, глядя на одевавшегося Герасима Петровича. Прищурилась и мяукнула что-то недоброе. Наверно, это все показалось Маврикию, у которого, как он теперь знал и сам, кое-что было сдвинуто, кое-что недовинчено, а некоторое, наоборот, перевинчено в его голове. И тут удивляться нечего. Герасим Петрович, у которого было все на месте и все довинчено, крикнул кошке:
— Брысь ты, окаянная! Все равно не сбудется твое мярганье.
Кошка получила за недобрые предсказания хороший пинок.
XII
Герасим Петрович предупредил дорогой Маврикия:
— Мы зайдем к швее, которая обшивала офицеров ГАУ. Белье и все такое. Там я приведу себя в дорожный вид, а ты поговоришь с ее матерью. Очень образованная женщина. Женщина-фельдшер.
Если принять во внимание, что природа, обделив Толлина ростом, не была скаредна во всем остальном, то нетрудно понять, почему Маврикий заподозрил, что эта женщина не шила белья офицерам ГАУ. Белье выдавалось господам офицерам в сшитом, и хорошо сшитом, виде. Не шила она и «все такое». Не было его. Если платки, так они продавались дюжинами.
Швея жила не близко. На Пятой роте. Когда они подошли к дому, навстречу им выбежала молоденькая, прехорошенькая женщина и хотела, как показалось Маврику, выразить свою радость совсем не теми словами, какими она выразила после того, как опередивший ее Герасим Петрович сказал:
— Знакомьтесь. Мой сын. Маврикий.
— Очень приятно… Очень приятно, — зазвенела она тоненьким голосочком. И Маврик услышал в этом звоне, что ей вовсе не приятно, а даже очень неприятно знакомиться с ним.
Они вошли в маленькую уютную квартиру с ковриками, салфеточками, пуфиками, слониками, кошечками, свинками, куколками, пасхальными яичками и венчальными свечами под стеклом в киотах икон в переднем углу.
— Я очень скоро, — сказал Герасим Петрович, проходя в комнаты следом за швеей.
— Сюда, прошу сюда, молодой человек, — пригласила не очень еще старая женщина, видимо, мама молоденькой швеи.
Оказавшись на кухне, Маврикий очутился в такой блистательной чистоте, что едва удержался, чтобы не раскрыть от удивления рот. Таких кухонь он не видывал никогда и нигде. Здесь будто был парад мисок, кастрюль, сковород, ножей, поварешек, каких-то неизвестных ему инструментов и всего, что составляет, видимо, радость жизни обитателей этой квартиры.
Не очень старая женщина старалась быть приветливой, но по всему было видно, что ей трудно достается это старание.
— Да, да, — вздыхала она, — такое несчастье. Сначала царя, потом и этих очень приличных господ. Такое несчастье.
Маврику было непонятно, почему для нее-то вдруг оказывается несчастьем свержение царя, а потом свержение правительства Керенского. Но вскоре недоумение рассеялось.
— Я и Наточка шили только богатым и высокопоставленным, а не всякому встречному. А теперь что? — спросила она. Спросила и объяснила — Сначала свергли высокопоставленных, а вчера полетели и богатые. Как же жить? Кому шить?
Она всячески занимала разговорами Маврика, и он теперь, на шестнадцатом году, точно знал, что его отчим пришел сюда не за белошвейным заказом. И все же в незлопамятной душе Маврика находилось оправдание и в этом непростительном случае. Война. Одиночество. А она удивительно хороша собой. Как мотылек. Невысокого роста. И такой голосок. Как флейта. А может быть, лучше сказать — свирель. А может быть, просто пикулька, но пикулька, которая может перепищать оркестр…
— А шили мы, — продолжает Наточкина мама, — и на великих княжон и на княгинь. А однажды… Однажды шили мы самой государыне императрице, — теперь уже явно привирала Наточкина мама, найдя молчаливого слушателя, не смеющего показать, что ему вовсе не интересна эта белошвейная болтовня.
— Ну вот я и готов!
Появившегося в дверях Герасима Петровича было трудно узнать. Он был одет совсем как омутихинский дядя Сидор. Только не в лаптях. Сейчас Маврикию бросилась в глаза рыжеватая щетина несколько дней не брившегося отчима.
Он, значит, давно готовился к побегу.
Чемодана при нем не было. Его заменил из грубой ряднины, какую ткут в примильвенских деревнях, большой мешок.
— Прощайте, Наталья Николаевна. Да хранит вас бог за помощь в такую трудную минуту. Маврик, попрощайся с тетей Наташей.
— Всего хорошего, — поклонился Маврикий и заглянул в ее глаза. А в глазах омут. Бездонный, еще незнаемый, но уже манящий… Нет, еще не манящий, но поманивший его в эту минуту омут. И что очень приятно, она не выше его ростом.
— Можно поцеловать вашего мальчика? — вдруг спросила Наточка.
— Конечно, конечно, — почему-то обрадовался Герасим Петрович.
Маврику тоже было приятно, хотя и не вполне понятно это желание.
Еще раз поблагодарив за выручку в трудную минуту, Герасим Петрович вместе с пасынком отправился на вокзал.
ВТОРАЯ ГЛАВА
I
Тот же самый телеграфист Василий Васильевич Стуколкин, что первый узнал о падении монархии, теперь читал и перечитывал противоречивые ленты. Одни говорили о переходе власти Советам, об аресте Временного правительства, другие — об окружении Петрограда войсками, верными Временному правительству.
Снова наступили дни загадочных известий. То и дело аппарат выстукивал ставшую за последнее время привычной на слух фамилию — Ленин. Сегодня передали, что Ленин обнародовал декрет о земле. Невозможно было верить точкам и тире, так определенно сообщавшим об отмене частной собственности на землю. У Василия Васильевича дрожали руки. Он не знал, чему верить. Случалось, что по телеграфу приходили хулиганские депеши. Например, телеграфировал кайзер Вильгельм о скором прилете на аэроплане Блерио в Мильву. Приходили обманные телеграммы и от Керенского, который приказывал арестовать всех мильвенских большевиков и повесить главарей. Затем следовал список подлежащих повешению.
Но сейчас телеграфировал не кто-то неизвестный «сбивчивым стуком», а знакомые телеграфисты, «почерк» которых был привычен уху Василия Васильевича.
Декрет о мире. Декрет, принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Конец войне. Возвращение сына Василия Васильевича с передовой. Как можно не радоваться. А нужно ли показывать радость? Как взглянет на это почтовое начальство? И опять же «верные Временному правительству войска подходят к Петрограду».
Переписать телеграммы, сложить стопочкой и передать начальству. Как хочет, так пусть и решает. Но сказать все же кому-то надо. Нельзя держать в тайне такие новости.
И Василий Васильевич пересказывает новости одному, другому, третьему. Узнает их и Любовь Матвеевна. Новости, узнанные по секрету, обычно распространяются с большей быстротой, чем те, что говорятся во всеуслышание. Достаточно было поделиться с Васильевной-Кумынихой, чтобы через несколько часов сотни людей знали о первых декретах и о неизбежных предстоящих переменах в Мильве. Кумыниха заверяла:
— Уж теперь-то, когда власть перешла в рабочие руки, никто не может закрыть наш завод.
И эта уверенность Васильевны убеждала всякого слышавшего о провозглашении в Петрограде власти рабочих и крестьян. Теперь уже не так важно было, когда приедет Турчанино-Турчаковский и что скажет он. Если власть перешла в Питере Советам рабочих, солдат и крестьян, то не может она оставаться неизвестно чьей в Мильве. Так рассуждала не одна Кумыниха, но и подавляющее большинство населения, которому при всей отрезанности Мильвы становились известны подробности событий в столице. И людям казалось, что придет бумага из губернии или приедет кто-то, соберутся на площади, и вся власть будет передана Советам.
Однако никакой бумаги не приходило, никто не приезжал, а мильвенских большевиков зажали так, что хоть не выходи на улицу. Распоясавшиеся меньшевики, эсеры и блокирующиеся с ними готовы были пересажать всех большевистских главарей, начиная со стариков Емельяна Матушкина и Терентия Лосева и кончая «большевичатами», такими, как Илька Киршбаум и Санчик Денисов.
И это было бы сделано, если б не увещевания доктора Комарова и управляющего Турчанино-Турчаковского. Он, едва унеся ноги из Петрограда, многое повидавший своими глазами там, знал, что такое отряды Красной гвардии, как возникают они на заводах в течение нескольких часов.
Турчаковский обладал немалым умом и достаточной дальновидностью. Он в узком кругу, рисуя перспективы возмездия за притеснения, чинимые мильвенским «последователям учения Ульянова-Ленина», призывал действовать разумно и осмотрительно.
Это в первую очередь было понято такими, как зауряд-техник Краснобаев и доктор Комаров.
Турчаковского хотя и никто в Мильве не считал сторонником Советской власти, однако же называли лояльным, не в пример многим другим «из того мира». Во всяком случае, не кто-то, а именно он предупредил возможные кровавые расправы эсеров с большевиками за своего Керенского, за свержение Временного правительства. Эти головорезы пугали «Варфоломеевой ночью», отмщением и смертью всем ленинцам, как состоящим в партии большевиков, так и сочувствующим ей.
В то же время озлобленные меньшевики и эсеры с каждым часом, с каждым новым известием понимали, что почва уходит из-под их ног, что декрет о мире, декрет о земле ходят в списках в Мильве и встречают восторженные отклики.
Блаженненький Тишенька Дударин пророчествует без обиняков о скором заключении мира, о возвращении сынов матерям, отцов детям, мужей женам и, как соборный диакон, провозглашает премудрому Ленину славу и многая лета.
Иди заткни рот полоумному трубадуру, заставь замолчать соборных нищих на паперти, особенно Санчикову бабушку. Теперь и самая последняя старушонка, толкующая о земле и мире, оказывается самым популярным оратором.
Тоскливо на душе у Игнатия Краснобаева. Неужели в самом деле произошел переворот и больше нет того, на кого он так стремился походить и так хотел им быть в Мильвенском заводе? Неужели возьмет верх его ненавистный брат Африкан? Не прикончить ли его, пока он не у власти?
Но разве это возможно, и какой прок в его смерти? Нужно быть умным, как Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский, и сказать брату:
— Ваша правда правдой оказалась. Ничего не скажешь. Против мира не пойдешь. И за оставление земли богатеям может ратовать только дурак. А у меня есть кое-что в голове…
С такими словами он и пошел на мировую с братом Африканом. И брат поверил ему.
II
Молчалива да картинна прикамская зима. Не узнаешь и родного леса в новой заячьей шубе. Та же ель выглядит не той. И старые избы, крытые поверх бурой соломы алмазными хлопьями, милее для глаза. Они, как и запущенные омутихинские дворы, белым-белы-белехоньки.
Поздней ночью из закамского лесного починка Талый ключ Сидор Петрович Непрелов вез своего беглого брата. Он и Маврик, измученные бессонной дорогой, поехали из Перми на лошадях до Талого ключа, где приютил их старик смолокур, доводившийся дальней родней Непреловым. Отсюда Маврикий поехал в Мильву один. С письмом отчима матери. В письме точно указывалось, что нужно и чего нельзя.
О приезде Герасима Петровича нельзя было говорить никому. Даже дочери Ирише. Взболтнет: «А у меня папа приехал» — и конец.
Предусмотрено было все. И какую кошевку запрячь, и какое оружие захватить. Сидор благополучно провез по зимней ночной светлыни надежду и опору рода Непреловых и главу фермы. Через деревню Омутиху тоже решили не ехать, как и через Мильву. Махнули по полям.
Герасим Петрович оброс за эти недели. Мужик мужиком. Ставни в обжитом теперь «енераловом» доме закрыты наглухо. Ни щелочки. Да и кому глядеть.
Здесь можно будет надежно укрыться от чужих глаз. Не выходи только днем. А если кто и зайдет в дом, не по всем же горницам его водить. Да и есть такие закутки в доме, что и старый урядник сто раз мимо пройдет — не заметит.
Семья Сидора Петровича теперь: он, жена, два сына, две дочери и бабка. Детям не просто наказано молчать, а обещано: «Ежели что, то за ноги и об угол головой, как пакостливую кошку». Дети знали, что отец зря не говорит. Может быть, головой об угол и не трахнет, но веку убавит.
Бабка Ирина с плачем бросилась на грудь сына.
— Герасик ты мой, карасик, — добыла она из давних детских лет никем не знаемые слова, говариваемые ею только младшему сыну, которого она еще в зыбке видела не мужиком, а большим хозяином.
— Ну будет, ну будет, мамаша, зачем это, право, — успокаивал Герасим Петрович.
Потом он поздоровался с остальными. Переоделся в доставленное из Мильвы. Умылся. Бриться не стал. Кто знает, как пойдет дальше.
— Любоньку для тебя завтра привезут. По льду. Вечером, — сообщила повеселевшая бабка. — Днем-то боязно на след навести. Не бывала здесь столько месяцев, — между прочим пожаловалась на сноху, — и вдруг явилась. Всякому в глаза бросится, — показывая этими словами, что она вовсе не жалуется на сноху, а заботится о сохранении тайны.
— Да кому я теперь нужен, — махнул рукой Герасим Петрович, давая понять этим племянникам, что дела обстоят не так серьезно. — Армии больше нет. Есть шайки. Побольше, поменьше… Какие бы они ни были, а я в шайках не служака. — Этим он снова дал понять племянникам, что он, их дядя, скрывается чуть ли не от разбойников. — Я им присяги не давал и никогда не дам, — заключил он косвенное объяснение своего скрытного появления.
III
Тем временем жена Сидора Петровича уставляла большой стол, перешедший от Тихомировых. Не та была теперь еда у Непреловых, что раньше. И красная икра, и пироги из белой самарской крупчатки Малюшкиных. Колбасы пяти сортов. Шпроты, сардинки. Хоть они и один перевод денег, но брат же. Хозяин. В таком разе и дорогая семга — не расход.
В Мильве выстаивали в очередях за вяленой воблой, за съеденным солью бросовым рыбцом, а у Сидора Петровича осетрина и нельма, доставленные по первому морозцу в обмен на сладкое масло, изготовленное по вологодским тайным премудростям вологодской солдаткой, мыкающей вдовье горе при молочном заводе.
Старуха сварила пиво и брагу. Они не считались непьющими братьями Непреловыми хмельным питьем, хотя после пятка стаканов кружили голову. Но это кружение не от винных градусов, а от веселого солодового и медового брожения старинных питий. Это не проклятый алкоголь и не сивуха, которую гонит рогатый винокур Чемор.
Все было подано сразу. Скопом. И десерт, и закуска. Так теснее на столе и веселее за столом.
После третьего стакана медовухи Герасиму Петровичу не казалось, что Россия будет поделена между немцами, австрийцами и турками. А если и будет поделена, то не дальше Вятки-реки. Не любит немчура холода.
Сидора Петровича беспокоил декрет о земле. Он, умевший только расписываться, заполучил этот декрет, переписанный волостным писарем.
— В декрете, Герася, говорится о помещичьей земле. А какая земля, Герася, у нас? И кто мы? — спрашивает Сидор Петрович.
Герасим Петрович Непрелов теперь сам не знает, кто он такой. С одной стороны, крестьянин. С другой — военный чиновник с двумя звездочками. С третьей — землевладелец и хозяин фермы. Следовательно — буржуй. Но не Савва Морозов. Не Рябушинский… Но и не мелкий лавочник, торгующий в лавчонке, сдаваемой собором. За таких могут взяться. Могут, но успеют ли?
— Зимой землю не переделишь под снегом.
— В Мильве все прочие партии не хотят ихней партии передавать власть. Требуют поголовного голосования с восемнадцати годов, окромя девок и баб.
— Сидор, — прерывает брата Герасим Петрович, — в Мильве будет установлена Советская власть. Сегодня, завтра, через неделю… Не важно когда. Дураки покричат, помахают руками, а умные промолчат.
— Неужели ж молчать и глядеть, как переходит к ним власть?!
— Пусть переходит. Пусть они берут ее вместе с нуждой, с дороговизной, с проголодью, с заводами без материалов, без дров, с землей без семян, без бога, которого боялись и слушались мужики… Пусть берут и подавятся, захлебнутся…
Герасим Петрович, не сговариваясь с Турчанино-Турчаковским и тем более с Керенским, говорил то же самое. Какие бы заманчивые идеи ни проповедовали Советы и большевики, коли народу нечего есть, не во что обуться, одеться, он свернет шею самому Христу.
— Вот так, Сидор. Будем терпеть, молчать да кланяться и не соваться до поры до времени в драчку. Понял ли?
— Понял, Герася. Как не понять, — ответил Сидор Петрович, уставившись на рыбный пирог, к которому пока никто еще не притронулся.
Мало хорошего впереди. На мельницу косятся мужики. Не бросить ли собаке кость, пока она не кинулась на тебя? Не отдать ли миру мельницу, сказав, что с ней много хлопот и еще больше убытков?
Волки меняли шкуру.
IV
В церковноприходской школе верили Толлину, когда он, рассказывая явные небылицы, придумывал невероятные истории о заблудившейся телеграмме, о маленьких человечках, о собаке, которую научили говорить… А теперь он, ничего не выдумывая, говорил правду, даже несколько ослабляя ее, чтобы не выглядеть героем и не попасть в хвастуны. Вызывал улыбки. Его никто не называл вралем, но по глазам товарищей было так ясно, что ему не верят.
Не верят, что Зимний дворец — это обыкновенный большой дом, окна которого выходят на улицу. Нет, Зимний дворец, оказывается, должен быть замком на горе, и Нева должна преграждать путь к нему. Оказывается, Временное правительство заперлось в главной высоченной башне дворца-замка и било из крепостных пушек.
И получалось, что не он, Маврикий Толлин, видел все это своими глазами, а они, никогда не бывавшие в Петрограде, рассказывали ему и рисовали не виденные ими картины переворота.
Смольного, оказалось, вообще нет как такового. И слова такого нет. Толлин просто-напросто не расслышал. Есть Смоленский дворец.
Выходило, что торопыга Толлин недослышал и перевирает теперь слова. И когда его спросил Коля Сперанский, а затем Воля Пламенев, что, может быть, он еще скажет, что видел Ленина, Маврик промолчал. Ему никто не поверит. А если он еще скажет, что слышал, как Владимир Ильич объявил о свершившейся рабоче-крестьянской революции, — его подымут на смех и, чего доброго, отвернутся от него.
Мите Байкалову, описывавшему внешность Ленина, верили. Верили и солдатам в вагоне, когда они рассказывали, какой из себя Ленин. Владимир Ильич во всех слышанных Маврикием описаниях выглядел по-разному и всегда не таким, как есть.
И почему только так поступают многие? Они прежде придумают что-то. Потом поверят в выдуманное, как действительное. И в конце концов отрицают действительное, называя им выдуманное.
Надо сказать, что и старые друзья Ильюша с Санчиком верили не всему, что рассказывал им Маврикий. Они не считали своего товарища лгунишкой, но находили, что Толлин не может не преувеличивать. И он не виноват в этом. Такое уж у него воображение.
Да и не тем были заняты их головы. Союз рабочей молодежи снимал комнатушку на окраине Мильвы. А теперь, когда взят Зимний дворец, взяты все дворцы, можно подумать и о «дворце» бывшей пароходчицы Соскиной. Пусть так не называется соскинский особняк, но такое множество комнат не должен занимать Шульгин, купивший за бесценок этот дом с садом. Здесь вполне разместится комитет и клуб рабочей молодежи.
До Маврикия ли теперь двум юным передовым рабочим, когда Мильва стоит накануне свержения власти соглашателей и прихвостней буржуазии? До рассказов ли им восторженного Маврикия?..
Только тетя, милая тетя Катя, верила каждому слову своего питомца. И он по нескольку раз пересказывал ей о виденном в Петрограде, повторяя каждый раз подробности, мелочи, будто боясь, что они могут затеряться в его памяти, которой так много нужно запомнить и сохранить.
Верил и Всеволод Владимирович Тихомиров всему, что рассказывал его исключительно правдивый ученик Толлин. Слушая его Всеволод Владимирович думал о своем. Ему теперь показалось вполне своевременным произвести коренные изменения в гимназии, которые должны начаться с изменения названия учебного заведения, что он считал далеко не второстепенным. На совместном заседании учителей, родителей и ученического совета Всеволод Владимирович предложил назвать гимназию средним политехническим училищем.
Кто-то попробовал возразить, не желая терять общепринятое название, но большинство присоединилось к проекту Всеволода Владимировича.
Инженеры завода вызвались помочь станками, инструментами и оборудовать настоящие мастерские при политехническом училище, а приспосабливающийся к новым ветрам Турчанино-Турчаковский посоветовал проходить техническое обучение в цехах завода.
— Выдать ученикам настоящие заводские номера, — предлагал он, — сшить настоящую рабочую одежду и, может быть, тем, кто, обучаясь в мастерских, будет производить полезную работу, — платить настоящие деньги.
Это произвело на всех самое хорошее впечатление. Обучаться на заводе. Ходить в рабочих куртках. Даже получать оплату. Что можно придумать лучше.
Из мильвенских хамелеонов Турчаковский был вправе называться способнейшим. Он куда быстрее других приспособлялся к окружающей обстановке. Комитет большевиков все еще ютился в Замильвье, и Турчанино-Турчаковский освободил для него двенадцатикомнатный кирпичный дом на Красной улице. Он так и скажет Кулемину, что комитет победившей партии будет расти и ему невозможно далее находиться в деревянном домишке, где-то на окраине.
И участие в орабочивании гимназии характеризовало Турчаковского с самой лучшей стороны. Такой отзывчивый человек. Им же было сказано на училищном совещании:
— Политехнизм, граждане, это не только ознакомление с промышленностью, но и познание агрономических основ. И так жаль, что вы, Всеволод Владимирович, — обратился к нему Турчаковский, — продали такую прелестную усадьбу с мельницей. Там можно бы создать учебное земледелие, садоводство, огородничество, учебное разведение животных и птицы…
Всеволод Владимирович впервые пожалел свою землю, проданную Непреловым. Но думать сейчас об этом беспочвенно. Да и не маниловщиной ли окажется предлагаемое Турчаковским? Можно ли браться за все сразу? Осуществить бы техническое обучение на заводе. А вдруг возникнут какие-то новые обстоятельства, и Турчаковский любезнейше увильнет, что он делает с изумительным блеском?
V
Но управляющий не увильнул. Назвавшись шефом, он заказал модельному цеху накладные буквы для вывески переименованной гимназии. Приказал выбить учебные номера для входа на завод. В гимназии низвергнута и растоптана ни в чем не повинная старая вывеска. Должно же свержение Временного правительства найти какой-то отклик.
К возвращению Кулемина на фасаде гимназии буквами, куда более крупными, чем на магазинных вывесках, красовалось новое название нового учебного заведения: «МИЛЬВЕНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ».
При такой вывеске неудобна стала и гимназическая форма. Многие посрывали с фуражек значки, поотрывали пуговицы.
Кулемина в Мильве ждали с нетерпением. С приездом Артемия Гавриловича должно многое решиться. Он, возможно, разговаривал с председателем Совета Народных Комиссаров Ульяновым-Лениным. А уж с Прохоровым-то говорил наверняка.
Кулемин приехал вооруженным. С наганом. Как это понимать? Да никак. Он, оказавшись участником Октябрьских дней в Петрограде, не снимал оружия.
Что-то скажет он теперь? Как поведет себя в Совете, состоявшем на три четверти из меньшевиков, эсеров, которые и не собирались сдавать своих позиций? Петроград и Москва это одно, а Мильва — совсем другое дело.
Наконец собрался Совет. Собрался в большом зале управления завода. На повестке один вопрос: «Доклад депутата Кулемина о последних событиях в Петрограде».
Кулемину было предоставлено слово. Он выглядел и внешне каким-то другим, хотя на нем была та же тужурка, и те же сапоги, и все то же. Не то за ним, не то в нем чувствовалась какая-то новая сила и спокойствие. Положим, Кулемин никогда не был крикуном. Он и самые страшные слова произносил ровным голосом. И теперь он свою речь начал так:
— То, что произошло в России и что в этой повестке дня нейтрально и глухо поименовано «Последние события в Петрограде», называется рабоче-крестьянской социалистической революцией. То есть такой революцией, которая свергает власть капиталистов, помещиков, банкиров и прочих крупных собственников в лице их правительства, в данном случае насквозь буржуазного правительства Керенского.
Послышались недовольные голоса, а затем предупреждающий звон председательского колокольчика, а за ним председательское:
— Тсс! Дайте информировать…
— Мне, я думаю, не надо повторять о первых ленинских декретах, которые напечатаны в газетах, — продолжал Кулемин. — Но я думаю, что мне следует сказать о нашем заводе. Наш завод, как и всякое другое большое промышленное предприятие, не может быть закрыт без ведома Совета Народных Комиссаров.
В зале раздались немногочисленные, но громкие хлопки.
— Правда это, Гаврилыч? — послышалось из дальнего угла. — Кто тебе сказал это?
— Ленин, — ответил Кулемин. — Ленин, Владимир Ильич Ульянов.
— Неужели беседовал? — опять спросил тот же голос из затемненного угла.
— Да, — не чванясь, ответил Артемий Гаврилович. — Я ведь за этим и ездил по поручению комитета. И поручение выполнил. Мы не только не будем закрывать заводы, не только будем расширять их, но и строить новые.
В дальнем углу захлопали смелее, и хлопки передались депутатам-меньшевикам, сидящим за большим столом, застланным тонким зеленым сукном.
— Вот, пожалуй, и все. Остальное в газетах. Если есть вопросы, пожалуйста.
— А какая теперь будет власть? — спросил председательствующий меньшевик Карасев, плотинный надзиратель. — Какая, товарищ Кулемин?
Кулемин ответил:
— Во-первых, справедливая…
— Что значит справедливая? — спросил тот же Карасев, заметно волнуясь.
И Кулемин снова принялся отвечать не спеша.
— Ну, например, большинство избирателей хотело, чтобы Африкан Тимофеевич Краснобаев назывался председателем Совета депутатов, и он получил самое большое n количество голосов. Он избран чуть ли не единогласно. А председателем оказались вы. Это называется несправедливым.
— Ну, если так, — вспылил Карасев, — я могу освободить свое место. Садитесь на него, товарищ большевик Краснобаев.
Карасев надеялся, что его начнут уговаривать остаться на председательском месте, а этого не произошло. И уж конечно Карасев не предполагал, что Африкан Краснобаев займет председательское место. А он занял его. Взял колокольчик, позвонил им и попросил внимания, затем обратился ко всем:
— Какие будут еще вопросы?
— Что же делается?..
— Что происходит?
— Кому прикажете теперь подчиняться?
— Мы не голосовали за эти декреты!
Начался шум. Один перебивал другого. Наконец докладчик, дождавшись, когда крикуны устанут, обратился к сидящим за столом и поодаль:
— Вы спрашиваете, что делается, что происходит? Происходит, товарищи, передача власти Советам.
Начался снова галдеж. Снова послышался выкрик:
— Кому прикажете теперь подчиняться?
— Власти Советов, провозглашенной съездом, — произнес выслуживающийся Игнатий Краснобаев, приглашая этим согласиться с ним остальных из круга лиц, связанных с ним.
А на улицы Мильвы в этот час вышли отряды Красной гвардии под командой Матушкина, Самовольникова, Киршбаума, Лосева. Они заняли почту, казначейство, разоружили хиленькую и пьяненькую милицию, поставили караулы в проходных завода.
Крикуны смолкли. Пугавшие Варфоломеевской ночью стихли. Власть была взята без убитых и раненых.
VI
Ильюша Киршбаум на общем собрании Союза рабочей молодежи, происходившем на дворе, объявил:
— Дальше так, товарищи, нельзя. А что будет, когда начнутся настоящие морозы? Мы должны занять дом пароходчицы Соскиной, пока его не заняли другие.
Возросшая более чем втрое за несколько дней рабочая молодежная организация готова была отправиться и занять бывший соскинский дом, принадлежащий теперь тоже бывшему нотариусу Шульгину. Но благоразумные голоса остановили слишком решительную молодежь и посоветовали направить прежде к Шульгину делегацию, а потом, если переговоры с ним не дадут никаких результатов, действовать через Совет.
Избрали тройку: Илью Киршбаума, Санчика Денисова и Матушкина Емельяна Кузьмича. Как шефа.
Виктор Самсонович Шульгин знал, о чем говорилось на дворе дома, где ютился комитет Союза молодежи. Хозяин отличнейшего особняка с двусветным залом, зимним садом нервничал. Он, конечно, понимал, что принадлежащий ему дом не вполне принадлежит ему. Он слишком удачно купил эти хоромы, не заплатив Соскиной и десятой части стоимости. Тогда катастрофически падали бумажные деньги. И высоко ценили золотые. Шульгин уплатил за дом золотом.
И не только это мешало Шульгину называться законным хозяином дома. Законным в том буржуазном понимании права, которое должен был блюсти и скреплять нотариус. Немало противозаконных сделок, обходных путей принесли те тысячи, которых не должно быть у добросовестного провинциального нотариуса. И все это могло всплыть теперь при власти, которая во имя торжества истины не щадит никого.
Ильюша Киршбаум пришел к Шульгину в кожаной тужурке. Ему ушили в плечах отцовскую. В другой одежде, как думал он, нельзя было наносить столь серьезный визит.
У Санчика не было кожаной тужурки, и он не мог походить на Артемия Гавриловича Кулемина. Зато у Павлика Кулемина была лишняя офицерская папаха из серого каракуля. И Санчик надел ее и тоже ушитую солдатскую шинель.
Начал разговор сам Шульгин:
— Чем могу быть полезен, господин Киршбаум Илья Григорьевич?
Илью это обидело. Зачем же называть его по имени и отчеству? И еще господином. Поэтому он повел разговор не столь мягко, как было задумано.
— У вас пустует так много комнат, Виктор Самсонович. И пустует двухэтажный флигель. А нам… А нам, комитету Союза рабочей молодежи, негде проводить собрания.
— И что же? — спросил, заметно багровея, Шульгин.
— Может быть, вы уступите или сдадите комнаты, в которых вы не живете?
— Я не живу в них, потому что мне, при данных порядках, или, говоря прямее, беспорядках, нечем отоплять.
— А мы найдем отопление, — вставил свое слово Санчик Денисов и поправил сползающую на глаза папаху.
— Если вы считаете, что можно врываться в чужой дом, тогда врывайтесь. Вам ничего не стоит сломать двери. Они не так прочно заперты. И располагайтесь. А я сам своими руками не отдам то, что принадлежит мне.
На это Ильюша, продолжая вместе с Санчиком стоять у порога передней, сказал:
— Нам никто не поручал занимать, ломать и тем более врываться. Если бы нам поручили так поступить, мы не стояли бы у порога. Решения по вашему дому нет. И мы просто-напросто, боясь, что его займут другие, решили опередить…
В это время вошел Емельян Кузьмич Матушкин и сказал:
— С морозцем, Виктор Самсонович. Здравствуйте! Как изволите поживать?
— Благодарю вас, Емельян Кузьмич. Прошу!
Шульгин не мог не провести в комнаты почтеннейшего в Мильве мастера и знатного большевика.
Разговор продолжился в малой гостиной. Эта малая гостиная могла уместить две-три средних мильвенских квартиры. Поэтому Илья Киршбаум еле справился со своим ртом, чтобы не дать ему открыться от удивления. А Санчик бывал в этих хоромах, когда его мать стирала на Соскину. И он уже прикидывал, где и что можно расположить.
Матушкину тоже не приходилось бывать в роскошных апартаментах пароходчицы, которые и его поразили своим великолепием.
— Так вы порешили, Виктор Самсонович?
— Вы, простите, о чем, Емельян Кузьмич?
— О доме. Об обоюдной договоренности.
— Послушайте, Емельян Кузьмич, неужели и вы вместе с этими мальчиками допускаете, что я раскрою залы и скажу: «Милости прошу, молодые люди, располагайтесь».
На это Матушкин, ничуть не иронизируя, ответил:
— Я именно так и думал. Потому что я всегда видел в вас разумника и не допускал, что мне, человеку, куда менее образованному по сравнению с вами, придется объяснять, почему не могут пустовать такие громадные палаты, когда такая нужда в помещениях.
— Но ведь нет же еще такого декрета или хотя бы постановления. Собственность на дома, насколько я понимаю, не упраздняется.
— Виктор Самсонович, вы все понимаете. Дом дому рознь. Я хотел вам предоставить возможность подарить свой дворец молодежи, не дожидаясь, когда…
— Когда что?
— Ну, что вы, право, Виктор Самсонович… Мы столько лет с вами знакомы. Неужели вы в самом деле считаете нормальным, когда два человека занимают в общей сложности около полдесятины жилой площади… Неужели вы думаете, что окружающие останутся равнодушны к такому чудовищному неравноправию в смысле жилья.
— Не-ет! — закричал и затопал Шульгин. — Этому не бывать!
— Тогда примите самые лучшие пожелания, — сказал, подымаясь, Матушкин. — Я подсказывал вам разумнейшее, желая помочь вам… А теперь как вам угодно…
Матушкин и Санчик с Ильюшей направились в переднюю. Снова раздался крик:
— Остановитесь! Извольте! Я согласен! Я нахожу правильным подарить мой дом рабочей молодежи.
Илья, Санчик и Емельян Кузьмич вернулись на свои места в малую гостиную. Разговор продолжился. Шульгин, кусая губы, сказал, что ему не хотелось бы переезжать во флигель, чтобы не видеть отданный дом.
Матушкин это понял и сочувственно сказал:
— Вам лучше всего переехать в хорошую квартиру на бывшую Баринову набережную. Я помогу…
Слова не разошлись с делом. Любезнейший Турчанино-Турчаковский предоставил казенную квартиру щедрому Виктору Самсоновичу, подарившему свой громадный дом с садом и флигелем рабочей молодежи. Турчанино-Турчаковский и Шульгин, не говоря друг с другом, понимали, что такой маневр необходим. Пройдет не так много времени, и Советская власть сгинет так же неожиданно, как неожиданно она появилась.
А молодежь тем временем обживала новый дом. Это были счастливые дни для множества подручных, нагревальщиков заклепок, рассыльных, учеников токарей, для молодых рабочих, которым впервые и по-настоящему, не на словах, открылось все.
Особенно счастливы были Ильюша и Санчик. Они гладили стены, протирали ручки, любовались хрусталем люстр, затейливостью резьбы потолков и всем, что составляло теперь дворец молодежи. Домом как-то не хотелось называть такое чудо, созданное руками каменщиков, лепщиков, резчиков, столяров, мраморщиков, чеканщиков, мастеров росписи…
Пришел в этот дом и Маврикий Толлин. Он тоже никогда не бывал здесь, и ему хотелось посмотреть, как жила Соскина, а потом Шульгин.
В большом зале, оборудуемом под зал заседаний, Маврикий встретил Ильюшу:
— Ну как, — спросил тот, — ловко мы его выкурили?
Маврикий сначала не хотел отвечать, а потом сказал:
— Вообще-то дворцы должны принадлежать всем людям… Но делать нужно как-то не так…
— А как?
— Не захватывать… Не принуждать дарить…
Илья на это сказал довольно прямо и довольно обидно:
— Ты, Мавр, много видел в Петрограде, да мало понял. Ты, видимо, и ленинские речи слушал одним ухом, а другим кого-то другого…
Маврикий промолчал. Он не хотел ссориться с Ильюшей, хотя и понимал, что сказанное им не просто слова, а начало размолвки. И не малой размолвки.
VII
С наступлением зимы в Мильве всегда становилось тише. Глубокие снега как бы отдаляли ее от больших городов и заглушали все, что происходило в огромной клокочущей стране.
Где-то далеко на Дону поднялся Каледин. Тоже не так близко, на Южном Урале, под Оренбургом, начал шуметь казачий атаман Дутов. На борьбу с белыми из Мильвы уезжали добровольцы.
Жилось трудно. Дни были заполнены хлопотами о щах да каше. О возе дров. Сменять, продать, купить, как никогда, стало всеобщей необходимостью. Толчок, или толкучий рынок, был теперь тесным, большим и ежедневным. Продавали и покупали все. Совершенно все. Одежду, обувь, хлеб, крупу, горшки, корыта, гусей, поросят, пустые бутылки, папиросы своей набивки, махорку наперстками на одну закурку. Старые чищеные писчие перья. Ученические тетрадки. Учебники. Часы. Граммофоны. Столы. Стулья. Иконы. Половики. Пустые коробки. Самодельные спички. Экономные лампы с тоненьким фитильком.
Здесь, на рынке, обнажились трудности времени, потребности жизни, последствия лишений и смертей.
Здесь, на рынке, обнажалось все, что еще недавно прикрывалось. Никому не стыдно стало появляться там, где раньше бывали только старьевщики, «шурум-бурумщики» да босяки-«зимогоры» и женщины, которым никто не подавал руки.
Толчок стал теперь и главной ареной свежих слухов. И некоторые сюда ходили не столько продать или купить, сколько узнать, что происходит там, за глубокими снегами. Главным поставщиком новостей был теперь новый вид торговца-спекулянта, товар которого умещался в заплечном мешке или в небольшом ящике с полозьями. Где подвезут такой ящик, где сам катишь. В таких ящиках умещается немало емкого и дорогого товару. Папиросы. Махорка. Сахар. Чай. Леденцы. Нитки. Перец… Что попадет, то и перекупает спекулянт на мелочах. Немало таких оказалось теперь. Из заводских мелких служащих, из рабочих, которых не кормит работа.
Как никогда, много появилось рыбаков-удильщиков на пруду и его заливах. Там и при малом улове выручишь на рыбе больше, чем заработаешь в заводе.
Деньги значили все меньше и меньше. Деньгами становились продукты, товары, вещи. Есть у тебя пачка стеариновых свечей, ты всегда можешь купить на нее необходимое. А если у тебя табак, махорка, папиросы — ты главный покупатель на толчке. Ну, а если у тебя масло, настоящее коровье масло, ты можешь не беспокоиться за свою жизнь. Перебьешься. И те, у кого в Мильве были свои коровы, перебивались. Но, перебиваясь, они не могли продать и фунта масла на сторону. Северные коровы не столь молоконосны. И тем, кто не держал своей коровы, а таких теперь было множество, приходилось очень трудно. Деревня придерживала молочные продукты. Зимой хранить масло нетрудно. Весной оно будет в другой цене.
Сидор Петрович Непрелов рассуждал так же. Масло у него хранилось в небольших бочатах. Припорошенные снегом в холодном амбаре масляные запасы, дорожая с каждым днем, сулили большие доходы.
Герасим Петрович Непрелов не касался масла. И вообще якобы ему не было дела до старшего брата. Младший старшему не указ. Он даже в чем-то осуждал его для видимости при людях.
— Много ли нужно человеку? — повторял он в миллионный раз ветшайшую из пошлостей.
VIII
Доктор Комаров, обследуя Герасима Петровича, установил, что он страдает множеством недугов. От язвы желудка до коварной болезни печени. И ко всему этому истощение нервной системы, не позволяющее Герасиму Петровичу служить в армии.
Масло действовало куда сильнее денег. Пусть бочку масла не мог съесть бездетный Николай Никодимович Комаров, но масляные излишки можно было превратить во что угодно.
Второй бочонок масла помог установить, что, ненавидя Керенского и его режим, Герасим Петрович бежал от этого режима, не зная, что через несколько дней прозвучит на весь мир выстрел «Авроры».
Склоняющийся сейчас к сочувствию большевикам, доктор Комаров убедил третьих лиц, что масло в рационе стола имеет множество преимуществ, обеспечив Непрелова остальными документами, переводящими его в разряд негодных к мобилизации.
Масло спасло доху и штучное «петровское» ружье с гравировкой и золотыми насечками.
Молчаливый, улыбчивый и любезный Герасим Петрович теперь работал в казначействе. Он занял место одного из чиновников, участвовавших в саботаже. Это был смешной, очень провинциальный и самый непродолжительный саботаж.
Милые и в общем-то несчастные чиновники казначейства, и в прежние годы перебивавшиеся с редьки на квас, от жалованья до жалованья, вдруг вообразили себя незаменимыми специалистами в области финансов. Услыхав краем уха о саботаже чиновников в Питере, они решили обратить на себя внимание. И в одно прекрасное утро эти господа, сидящие в казначействе за сеткой, не открыли окошечек, через которые производятся денежные операции. На недоуменные вопросы явившихся в казначейство чиновники не захотели отвечать, сидя отделенными от клиентов проволочной перегородкой в небрежных позах. Некоторые, щеголяя перед своими коллегами, положили ноги на стол. На раскрытые конторские книги.
Узнав об этом, управляющий заводом Турчаковский позвонил Кулемину. Теперь он имел дело только с комитетом большевиков и принимал на ответственные должности завода или устранял от оных только по согласованию с Артемием Гавриловичем или с Емельяном Кузьмичом Матушкиным. С кем же еще, когда Ленин на вопрос сомневающихся, что в России нет такой партии, которая может взять власть в свои руки, ясно ответил: «Есть такая партия». А если это так, то кому же звонить, как не дальновиднейшему Артемию Гавриловичу Кулемину.
Кулемин поблагодарил Турчаковского и послал в казначейство Терентия Николаевича Лосева привести в чувство чиновников.
Лосев вошел в главный зал казначейства с метлой, подвернувшейся ему под руку при входе в казначейство. Старик не искал в метле никаких аллегорий, ему нужно было что-то держать в руках. Не винтовку же. Не с оружием же приходить в банк.
— Вот что, почтенные, — обратился он к сидящим за сеткой, — которым нежелательно служить народу, то прошу к… — Тут он, пользуясь тем, что чиновниками казначейства были только мужчины, сказал, куда именно он их просит убираться, затем предупредил: — А обратного же ходу сюда не будет никому. Выход отперт. — Он указал метлой на открытую дверь.
Нашлись двое. Место одного-то из них занял Герасим Петрович.
Занято было и второе место. Тоже человеком из военных, и тоже нестроевым и не опасным, служившим чуть ли не картографом. То есть тем, кто составляет военные карты. Высокий, сухощавый, видимо от природы, а не от недоедания. На редкость приятный, располагающий к себе. Вдов. Жена убита немцами под Варшавой. И такая знакомая всем букварная фамилия Вахтеров, Геннадий Павлович Вахтеров.
О нем когда-то нужно будет рассказать более подробно. Может быть, это уместнее сделать сейчас, пока в Мильве сравнительно тихо течет жизнь.
IX
Про Вахтерова было известно в Мильве, что после гибели семьи он решил воспользоваться гостеприимством жены убитого друга и ее сестер. И он поселился в доме старого барина-филантропа, прозванного «Золотая милостынька».
Прозвище «Золотая милостынька» могло бы стать заглавием самостоятельной повести о господах Тюриных и принадлежащем им доме, заселенном теперь потомками и привидениями.
«Золотой милостынькой» называли последнего отпрыска из опального рода Тюриных, богача и красавца Ивана Степановича. Его скандально провалившийся роман с какой-то из придворных дам угрожал ему гибелью. Однако же оскорбленный муж согласился взять деньги, оставить в покое Тюрина при условии, если он навсегда покинет столицу и уедет в добровольную пожизненную ссылку. Был назван дальний город в Сибири. Тут-то и вспомнился наследственный дом в Мильве. Этот дом возвел дед Тюрина, некогда вместе с тихомировским предком расширявший Мильвенский завод. Любя Мильву, дед Тюрина не бросил ее, уходя на покой. Старик построил большой дом посредине заложенного им парка.
После его смерти наследники не захотели жить в глухой Мильве, в старом хмуром доме. Только изредка приезжал сюда Иван Степанович Тюрин. Теперь забытый дом был как нельзя кстати. Прикамье по тем временам та же Сибирь. Тюрин упросил своего соперника согласиться на Мильву. И тот, будучи циничным еще более, чем оскорбленным, попросил прибавку за облегчение участи обидчика и согласился на Мильву.
Тюрин был долго предметом пересудов в Мильве. Наконец он стал привычен. Его уже не замечали. Барин опростился, водился с рабочим людом, охотно соглашался стать крестным отцом, еще охотнее гулял на свадьбах, одаривая невест так, что те чуть не лишались рассудка, принимая из рук Тюрина деньги, на которые можно было обзавестись и домком, и коньком, да еще лисьей шубой — мечтой мильвенских модниц. И на одной из рабочих свадеб Тюрин, заглядевшись на семнадцатилетнюю сестру невесты, тоже сироту, вскоре женился на ней. Все думали, что барин потешит душеньку год-другой, а потом, как водится у господ, одарит красавицу за любовь, за ласку, построит брошенной каменные палаты и прощай. Ошиблись люди. В барыни вывел Иван Степанович сироту. Нощно и денно учил ее. Двоих «гувернантов» выписал. И особо даму по танцам. За три года такая Офелия из рабочей девахи получилась, что и родная сестра ей «выкать» начала.
Несказанно счастлив был Иван Степанович. Надышаться не мог на свою Дашеньку. Тремя дочерями-красавицами одарила она его, да ни одну до венца не довела.
Запил сначала Иван Степанович, а потом ударился в подаяния. Занедужил, как говорили в Мильве, щедротами. Никому меньше золотого не подавал. Поэтому-то и прозвали его «Золотая милостынька».
Дом и парк тронутого Ивана Степановича был окружен тайнами. Туда после смерти Даши он никого не пускал, чтобы не спугнуть ее тень, бродившую по аллеям.
После кончины «Золотой милостыньки» дочери совершенно серьезно утверждали, что с наступлением темноты по парку бродили обнявшись отец и мать. Поэтому мильвенцы старались не ходить мимо тюринского дома.
С годами парк зарос, потемнел, стал пристанищем сов и ежей. Дочерям было не до парка. Старшая вышла замуж за кадрового офицера. Его убили в первые месяцы войны. Овдовевшая Ольга вернулась в Мильву. Вторая, Надежда, стала женой пленного чеха Мирослава Томашека. Младшая, Галина, была долго влюблена в Валерия Всеволодовича Тихомирова. А потом, узнав, что его сердце принадлежит Елене Матушкиной, пыталась уйти из жизни, но все же предпочла жить. И не раскаивается.
Приехавший к Тюриным друг мужа старшей сестры Ольги оживил дом. Галина была уже в том возрасте, когда девичество тяготит и торопит расстаться с ним. Пусть Геннадию Павловичу Вахтерову за тридцать, но еще нет сорока. Хорошо образованному Вахтерову не дали засидеться в казначействе. Его вскоре после приезда пригласили преподавать историю в политехническом училище. Зачем же откладывать и чего ждать? В доме Тюриных была отпразднована тихая свадьба. Даже две. Средняя сестра. Надежда, скрывала свои отношения с белокурым кудреватым музыкантом Мирославом Томашеком. Что там ни говори, а пленный офицер в общественном мнении Мильвы числился человеком из стана врагов. И назваться женой такового было довольно рискованно. Дело не в боязни за вымазанные ворота. Их вымазали сразу же, как музыкант Томашек стал появляться со своим оркестром в тюринском доме. Могли оскорбить действием. Ударить на улице. От вдов-солдаток можно было ожидать и не этого. У них полегли на поле брани мужья, в которых стреляли солдаты Франца-Иосифа. И вдруг один из них, изволите ли видеть, оказался под крылышком русской барышни… Как не обратить на это внимания?
Ну, а теперь, после революции, после братания, уже не страшно было назваться женой Мирослава Томашека. Чеха. Славянина. Узурпированного императором Францем-Иосифом вместе с чехословацким народом. Мирослав Томашек даже пользовался симпатиями. И уж, во всяком случае, в Мильве любили слушать созданный им оркестр и сочиняемые им вальсы, марши, галопы.
Оркестр Томашека объединил до ста человек чехов и словаков. Тем, кто не был способен играть на каком-либо музыкальном инструменте из основных, Томашек давал барабан, тарелки и даже палку, натертую канифолью. Она издавала низкие звуки, если ею водить по указательному пальцу руки, положенному на стол.
Мильвенцы привыкли к оркестру Томашека, и как-то не хотелось думать, что слух услаждают пленные солдаты, у которых есть родина, семьи, профессии. И как-то никому не приходило в голову, что наступит такое время, когда оркестру надоест быть оркестром. И люди захотят стать снова теми, кем они были до войны. Об этом, кажется, не задумывалась и счастливая Надежда Ивановна Томашек-Тюрина, ставшая недавно матерью белокурого, очень похожего на отца мальчика. И не она одна, но и другие мильвенские женщины, связавшие свою жизнь с пленными, тоже не задумывались о неизбежных развязках. Да и что думать о них, пока зима, пока глухое белое безмолвие…
X
С приходом в бывшую гимназию, ныне политехническое училище, Геннадия Павловича Вахтерова появились еще два новых преподавателя. Это Мирослав Томашек, владеющий в совершенстве немецким языком и любезно согласившийся преподавать его, и взявший на себя русский язык и литературу Алякринский. Тот самый болтун из учебного округа Алякринский, который произносил высокопарные речи во время гимназической забастовки. Оставшись не у дел, он прибыл с Нинель Шульгиной в дом ее отца, Шульгина, тоже оказавшегося не у дел. Вахтеров стал преподавать историю по новейшему курсу без царей и учебников.
Три новых преподавателя очень скоро расположили к себе своих учеников. Оказавшись с ними, что называется, на дружеской ноге, но не опускаясь до них, они влюбляли в себя юные души, тянувшиеся к отзывчивым наставникам. К наставникам, у которых можно было спросить обо всем, доверить тайны и не оказаться в неловком положении.
Особое впечатление производил на старшеклассников Вахтеров. Его почему-то прозвали «лишним человеком». Или он так вел себя. Или кому-то на язык пришли эти слова, понравившиеся остальным… Только многим хотелось подражать Геннадию Павловичу Вахтерову. Он был скромен в одежде. Глухой китель. Узкие брюки. Простые башмаки. Всегда чисто выбрит. Всегда ровен в обращении со всеми. Как старшими, так и младшими. Немногословен, но красноречив. Экономен и точен в выражениях. Учтив с каждым и ни с кем особенно. Равнодушный к политическим течениям, он в самом деле казался каким-то «лишним человеком». Приглядываясь к нему, Толлин находил его милым и приятным во всех отношениях. Был только один малюсенький недостаток, который можно было бы и не замечать… У Вахтерова мелкими чешуйками шелушилась кожа, и его лицо казалось припорошенным пудрой. Говорят, что это было у него на нервной почве. А в остальном, не считая этой мелочи, не имеющей никакого отношения к внутренним качествам Геннадия Павловича, он был близок к тому идеалу мужчины, какой рисовался Маврикию. И ничего не было удивительного в том, что Вахтеров Толлину вскоре стал почти таким же близким, как Валерий Всеволодович. И самое приятное в Вахтерове было то, что он никогда не поучал, не навязывал своих взглядов. Он, рассказывая о чем-либо, оставался посторонним человеком. Он всегда давал объективно-фотографическое отображение чего-либо, не привнося своих красок, линий, теней…
И это было чрезвычайно дорого Маврикию. Особенно ценил он высокое отношение Вахтерова к Ленину, чуть ли не преклонение перед ним. Он считал Владимира Ильича величайшим человеком современности. Так же думал и Маврикий.
— Ленинское учение, — говорил на уроках преподаватель истории, — вобрало и преобразовало все лучшее, что было на земле. — И ученики затаив дыхание слушали Вахтерова. А он, будто разговаривая сам с собой, приглашал их рассуждать так же с самими собой. — Иногда мне кажется, — делился он с учениками, — что Ленин так грандиозен, так громаден, что это мешает ему видеть, что делается его именем на земле. И делается иногда такое, чего бы не допустил он.
Тут каждый из учеников вспоминает свое. Мерцаев думает о доме Шульгина, который заставили его добровольно подарить рабочей молодежи. Так могут и его отца заставить подарить свою аптеку. Юрий Вишневецкий думает о своем отце приставе. Если говорят об отмене сословий, если его превосходительство Турчанино-Турчаковский сотрудничает с большевиками, почему же его отец, всего лишь его благородие, вынужден скитаться, опасаясь лишний раз попадаться на глаза?
Думают и остальные, и всякий свое. Тощенький Сухариков тоже думает о своем отце и его сельской лавке, кормившей всю семью Сухариковых. Легко ли ему петь с товарищами: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем»? А кто станет всем? Исключенный из гимназии Илька Киршбаум и его подручный Сашка Денисов вместе с их оравой? А кем будет он, Сухариков, и его товарищи, бывшие гимназисты?
Тут есть над чем задуматься некоторым молодым людям, теряющим опору в жизни.
А Вахтеров между тем овладевает умами своих учеников, проповедуя помощь солдаткам, красноармейкам, вдовам, старухам. И творится неслыханное…
Учитель истории, по старым нормам — барин, ведет в лес своих учеников. Отряды-классы с топорами и пилами валят деревья, распиливают их на дрова, а потом доставляют по списку в те рабочие дома, где нет мужчины-работника.
Союз учащихся становится уважаемым союзом в Мильве. Объединившиеся в нем не говорят, а делают. Молча, как скауты.
— Почему нам не брать лучшее и от скаутов? — спрашивает своих учеников Вахтеров. — Разве помощь человека человеку унизила когда-нибудь кого-нибудь из людей? Разве образованной девушке постыдно взять на себя часть черной работы многодетной, оставшейся без кормильца матери?
И происходит чудо. Чопорные барышни, все еще числящиеся в гимназистках, отдают два-три часа ежедневно солдаткам и вдовам. Нянчатся с их детьми, помогают по хозяйству, домовничают. И это делают даже такие, как Лера Тихомирова.
Оказалось, и бывшим гимназистам не зазорно наколоть дрова, натаскать из колодца воду, вычистить в коровнике.
В Союзе рабочей молодежи не знали, как следует отнестись к подобного рода активности бывших гимназистов и гимназисток. С одной стороны, ничего плохого они не делают, а с другой — есть что-то припахивающее чем-то барским. Пошли в партийный комитет к Емельяну Матушкину. И он сказал:
— Это ни больше ни меньше как запоздалое хождение в народ. Поиграют в добрые дела — и бросят.
Матушкин не сказал, что в этой «народнической» игре есть некие намерения стать над Союзом рабочей молодежи. Потому что Матушкину пока не хотелось сталкивать два молодежных союза.
Пусть «народничают» пока. Потом видно будет.
А Геннадию Павловичу Вахтерову теперь кланяются и незнакомые ему люди. И он смущенно, не ища будто бы популярности, краснея, отвечает на поклоны.
XI
Как мог такого человека не полюбить Толлин и его новый товарищ Виктор Гоголев? Каждый из учеников взял на себя двор, а Маврикий и Виктор обслуживают по два двора. И жизнь их от этого становится полнее, интереснее, осмысленнее. Не хватает времени, дня. Молодые люди видят, что их руки нужны, полезны. От этого на душе становится радостнее, светлее.
Геннадий Павлович Вахтеров предостерегает, чтобы добрые дела не были движимы тщеславием, хвастливой буржуазной благотворительностью. Н-на, мол, посмотри, мол, какой я добродетельный человек. И особенно такая филантропия оскорбительна, когда она касается близкого товарища. А товарищам по классу, по училищу тоже нужно помогать. И гуманнейший Геннадий Павлович сказал, что не так-то уж трудно помогать брату своему, чтобы он этого не знал. Чтобы об этом забыл и сам помогающий и уж конечно не знал никто другой, даже родители. Принесла незнаемая Синяя птица в своем клюве деньги, положила их в ранец нуждающегося товарища и улетела в страну по имени Неизвестность.
— Мне иногда хочется поцеловать вашу руку, — признался Маврикий в любви Вахтерову.
— Ты бы обидел этим меня, Толлин. Лучше пусть твои руки будут стоить тысячи поцелуев и об этом никто не будет знать. Это и станет твоим выражением добрых чувств к своему учителю.
Многие из нуждающихся учеников стали находить в своих школьных сумках, в карманах пальто деньги, вещи со значками, изображающими летящую Синюю птицу.
Толлин понимал, что помогать нужно всем, вне зависимости от личных отношений. И Юрка Вишневецкий обнаружил в своем кармане деньги в конверте с Синей птицей. Белье и три аршина сукна получил ненавистный Маврикию Сухариков. Что делать? Маврикий должен помогать не по своим симпатиям, а по нужде. У Юрки отец влачит жалкое существование в какой-то охотничьей артели. А у Сухариковых больше нет лавки, и его отец вынужден перепродавать чужое на комиссионных началах.
Маврикий выпрашивал у тетки, у матери ненужные вещи и дарил их с этикетками, на которых синим карандашом изображалась летящая птица.
В Мильве чуть ли не все знали об удивительном учителе истории и даже поговаривали, не он ли составил знаменитый вахтеровский букварь. Во многие дома залетала Синяя птица то подарком малышу, то принесенной ночью рождественской елкой, переброшенной через забор, то хорошим платком вдове, то фунтиком сахара старухе бобылке.
И чем больше находился в тени Вахтеров, тем больше росла о нем слава.
Вахтеров не противопоставлял Союз учащейся молодежи, иногда называвшийся Союзом синих птиц. Союзу рабочей молодежи, он не сравнивал тот и другой, а их, несмотря на это, сравнивали. В одном союзе, обставленном в доме Шульгина, ставшем Дворцом молодежи, произносились речи, пелись песни, обучались танцам, а здесь учащиеся огребали снег во вдовьих дворах, носили воду, топили печи, гимназистки доили коров, баюкали младенцев, не чурались самой черной работы, делая ее скрытно, не напоказ. Так учил Вахтеров.
Эмблема Синей птицы появилась на шляпах бывших гимназисток, иногда ее, вырезанную лобзиком из фанеры и покрашенную синей эмалью, прикалывали к ученическим фартукам.
Носил эмблему Синей птицы и Маврикий. На фуражке вместо значка. По этому поводу Ильюша Киршбаум сказал:
— Не завлекла бы тебя в дебри эта птица да не погубила бы там. Бросил бы ты эту буржуазную благотворительность…
— Не просвещал бы ты меня. Иль…
— А кто тебя будет просвещать, мелкая буржуазия? — задиристо спросил Ильюша. — Кто должен вести за собой молодежь, как не мы?
— Ну, знаешь, — раздраженно возразил Маврикий. — Не тебе водить нас. Не тебе диктатурить, ты ведь тоже не пролетарий, а сын кустаря-штемпелыцика, имевшего свою фирму.
— Как тебе не стыдно, Мавр? — возвысил голос Ильюша. — Ведь ты же знаешь, что мой отец был подпольщиком и его штемпельная мастерская была ширмой подпольной типографии. Но я не злопамятен. И если что, я всегда протяну тебе руку помощи…
— Я знаю, Иль. Но думаю, скорее тебе придется воспользоваться помощью моей руки, — ответил Маврикий и запел:
Мы дружной вереницей Идем за Синей птицей…Вахтеров, проповедуя мир, сеял раздоры. Дошло до того, что две молодежные организации Мильвы стали врагами. Были случаи стычек. Об этом знал Кулемин и остальные в комитете. Но вмешаться активно, закрыть Союз учащейся молодежи, запретить носить значок «Синяя птица» было невозможно. Это значило бы уронить себя в глазах многих мильвенцев.
Полюбив Геннадия Павловича, Толлин стал бывать в доме Тюриных, где вскоре оказался своим человеком. Там впервые Маврикий стал понимать, а потом любить музыку. Мирослав Томашек заставлял разговаривать рояль, исполняя Дворжака. Особенно его Десятый славянский танец. И музыка, существовавшая для Толлина только мелодическим сочетанием звуков, услаждающих слух, вдруг стала приобретать краски, затем выражать мысли и, наконец, рассказывать необыкновенные истории и рисовать невиданные картины.
Вслед за Дворжаком и Сметаной, которых, можно сказать, чуть не впервые привез в Мильву Томашек, он открыл для Маврикия, да и для других, гениального Чайковского. И Маврикий увидел, что музыка — это новый для него волшебный мир волшебного искусства, очарование которого невозможно объяснить, как и любовь.
В дом Тюриных Маврикий приходил обычно днем, в праздничные дни. Он там почти не бывал по вечерам, потому что там появлялся его отчим, как знакомый Вахтерова по казначейству и как отличный преферансист. Там за картами проводили время и другие мастера этой игры. Например, Игнатий Краснобаев. Захаживал сюда и провизор Аверкий Трофимович Мерцаев. Разумеется, Алякринский со своей Нинель были преобязательными шумными посетителями Тюриных. Карты, музыка, стряпня помогали этому дому быть нескучным, отрезанным от жизни островком.
XII
Новое все время оповещало о себе. Отменялись старые суды и возникали народные. Избираемые Советами. Уничтожались сословия, чины, звания, титулы. Устанавливалось гражданское равноправие.
Множество пересудов вызвало отделение церкви от государства и вместе с этим провозглашение свободы верований. Отец Петр, недавний законоучитель земской школы, выступил с проповедью, в которой провозглашал учение Христа социалистическим и на этом основании во всеуслышание молился о Советской власти и даровании ей победы над всеми посягающими на нее.
Отца Петра хотели расстричь. Протоиерей Калужников предложил ему оставить приход, но молящиеся, обожавшие своего на редкость демократичного попа, отправились к дому протоиерея с требованиями не трогать отца Петра.
Рухнули облигации военных займов. Купца Чуракова в этот день вынули из петли. Опять событие.
Предприятия, принадлежащие капиталистам, переходили в ведение государства. Мильвенский завод принадлежал казне, и он стал государственным после простого переименования, но на Урале и в Прикамье было немало заводов, фабрик, приисков, принадлежащих акционерным компаниям, товариществам, состоящим из частных лиц.
С приближением весны братья Непреловы чувствовали, что их земли, их ферму с мельницей, прудом, лесными угодьями отберут. Отберут и разделят омутихинские мужики и заставят Сидора вернуться в прежнюю избу. Не оставят же ему старый барский дом Тихомировых.
Плохо спится Сидору Петровичу. Невесело и Герасиму Петровичу улыбаться встречным, шутить с сослуживцами и приветливо раскланиваться с теми, кому хочется всех несчастий и скорой гибели.
А солнышко жарче и жарче. Нет надежд, что до весны что-то изменится. Напротив, большевики пока набирают силы. Тут и там возникают партийные ячейки.
Совет добился переименования поселка Мильвы в город. Городской комитет большевиков переехал в большой дом, отремонтированный за счет завода Турчанино-Турчаковским.
Штемпелыцик Киршбаум расширил типографию, принадлежавшую Халдееву, и редактирует газету «Рабочая Мильва». Газета многое разъясняет и ослабляет трудности, недовольство и помогает людям бороться с лишениями.
Мало надежд у Непреловых на лучшее. Готовясь к худшему, нужно кое-что продать, спрятать, чтобы не доставалось другим, если в самом деле начнут отбирать и делить землю.
Как жалко пруд, где до пятидесяти пар уток выводят утят. А чищеный лес, где по пояс растут травы, от которых коровы набавляют удои. А теплые помещения для коров с наклонным полом и желобом для стока. Ради чего они строились? Неужели ради того, чтобы их голытьба растащила по бревну?
А завод? На полном ходу молочный завод. Два больших сепаратора. Ледник для сливок. Бочки для сбивания масла. И какие бочки! А всякая прочая нужная снасть…
Сидору Петровичу хочется грохнуться на землю и завыть на всю округу, чтобы волкам и тем стало жалко его, вложившего всю душу, все силы в эту еще не ставшую на твердые ноги молочную, а впоследствии, может, и сыроваренную ферму. На что также прикармливается пленный австриец-сыродел и учит сыновей Сидора Петровича варить сыры на разный вкус.
И всему этому — аминь!
XIII
Веселая душа Васильевна-Кумыниха не унывала бы, наверно, и повстречавшись со своей смертью. Наверно бы, развеселив старую каргу, она уговорила бы ее повременить с уводом на тот свет бабушки, у которой столько внучек, еще не выданных замуж. А то, что всего вернее, — поднесла своей бы смертоньке ковш стоялого меда, и та — ни тпру ни ну. В голове светло, а ноги — по сто пудов каждая.
— Чесночком, Любонька, я своим девкам хлеб натираю. Защурят глаза и непросеянную аржанину, как вареную колбасу, едят. Хорошо. Надо бы Гиршу-Киршу в газетке пропечатать, как можно брюхо обманывать. В картошку я теперь гусиного или утиного сальца кроху добавляю. Тоже защурившись, как утятину с гусятиной едим. Главное, Любонька, — говорила она Любови Матвеевне Непреловой, — головы вешать не надо. Вешай теперь не вешай ее — солнышко все равно как ходило вокруг земли, так и будет ходить. Луна только разве другой раз с пути собьется. И что ты там ни колдуй, ни мудруй, а масленицу справлять надо. Все справлять будут. После масленицы хоть по миру пойдут, а настоящий мильвенский мастеровой человек без блинов-оладьев не останется. Мы два лишних хомута да старую сбрую на толчок снесли, а горшок масла купили. По локтям текчи оно нынче не будет, а блеск блину даст. И за то спасибо Артемию Кулемину да милому зятьюшке Васеньке Токмакову. Приехал из Питера бесповоротно партийным товарищем. Пронумерованным большевиком. С билетом. Не сочувствующим, как наш Яков, когда против, когда за, а полностью им свою душу отдал и «да здравствует…», что-то там такое во всю грудь синей краской наколол. Не все слова, какие ему нужно, на его грудь влезли. Остатние, Симка говорит, на животе ему моряк докалывал. Не высчитали буквы. Это бывает, Любонька, — не останавливаясь стрекотала Васильевна. — Если все посулы, которые совдепщики наши выдают, записывать самыми махонькими буковками на самой широкой Емельяновой спине, то Матушкину скоро бы штаны снимать довелось.
Смеется Васильевна, довольная собой, своим добрым смешком и принимается опять рассказывать, что приходит ей на ум, касаясь самых неожиданных сторон жизни, говоря не столько от своего имени, сколько обобщая слышанное и переплавляя его в свои слова.
И о чем бы она ни рассуждала в этот день, как бы далеко ни уходила в своих обзорах, она возвращалась все к той же масленице:
— И никуда ты не денешься от нее, Любонька. У нас в Мильве три главных просвета в году: рождество, масленица и пасха. Малые просветы не в счет. Рождество нынче так себе было. Ну, а на масленице, я думаю, наверстает народ. Кто знает — останутся лошади или нет. Яков смотнуть свою хочет. Боится, сожрет с головой она его. Да и другие лошадники тоже от себя кусок урывают, коня кормят. А конь перестал кормить хозяина. Кого куда возить? Пешком и то начетисто стало нынче ходить. Обутки кусаются. А на лошади вовсе разор. Думаю, что Яков на масленой покатает своих девок навалом в розвальнях. Да сам прокатится со своей царицей-перепелицей и на конный базар Буланиху сведет. Мужики теперь по хорошей цене будут брать коней. Прибавка земли им выйдет. Сказывают, заводские покосы будут отбирать. Тогда вовсе лазаря запевай. Форменная труба, — вздыхает Васильевна. — Неужели Ленин, такой лобастый комиссар, не знает, что без покосу нашему брату — конец. Не только без лошадей останемся, а без кормилиц-коровушек. Тут-то уж всем хором-миром собором «Со святыми упокой» запевать можно. А пока да что — масленицу надо справлять… И-их ты, ехидная жизнь! Веселая масленица!..
XIV
Сказала так Васильевна, и от ее слов в эту минуту, как показалось Маврикию, сидевшему за перегородкой, началась в Мильве масленица.
Пришли так давно не заходившие Ильюша и Санчик.
— Мавр! Масленица началась!
— Пошли, — приглашает вслед за Ильюшей Санчик. — Мы с лотком.
Наверно, с тем длинным лотком, на котором они катались втроем не одну масленицу. Удобный это лоток. Не мелкий и не глубокий. С хорошо заостренным носом и красивой закругленной «кормой». Подмазывали друзья свой лоток не парным коровяком, как все, а золой, разведенной водой. Хорошо держится красивая сероватая поверхность подмазки. Застынет подмазка, как зеркало, и мчись от Мертвой горы через всю Мильву к пруду.
Казалось, что все это минуло и кончилось в семнадцатом году. Оказывается, нет. Идет тысяча девятьсот восемнадцатый. А масленичное катанье от них не ушло. О, как оно прекрасно! Как можно забыть его? Знаете ли вы, что такое мильвенская катушка?
Мильвенская катушка — это желоб уличной конной дороги. Желоб чистится от навоза, подметается, а иногда и поливается. По нему-то и бегут подмазанные скользкие лотки. Катушка начинается где-то в концах улицы, на горе, и заканчивается выездом на пруд.
Милое кончившееся детство, ты опять, улыбнувшись, свистишь в ушах масленичным, потеплевшим ветром. Три друга, вы опять мчитесь на одном лотке по длинному желобу уличной дороги, минуя квартал за кварталом, не успевая разглядеть встречных. А лоток все быстрее и быстрее летит к самому крутому уклону берега пруда, как в пропасть.
Мильва, родная, милая, только за этот миг тебя нельзя никогда разлюбить и уж конечно невозможно забыть.
Друзья в этом году катаются не только с горы. К их услугам пара лошадей. Пара — это почти тройка. Братья Непреловы пришли к твердому заключению расстаться со всем, что можно продать. И, продавая, перегнать в то, что не падает или падает не столь много в цене. Это золото. Золото не в монетах, а в изделиях. И серебро тоже не так много занимает места.
Лошади, которые были даны Маврикию, тоже готовились покинуть Омутиху. Почему же напоследок не дать потешиться ими пасынку. Да и нужно незаметно заглаживать нанесенные ему обиды. Теперь такое время, что необходимо держать хвост по ветру, глядеть в оба, слушать в десять ушей и как можно меньше говорить.
Звенят колокольцы, подзвякивают бубенчики, развеваются ленты, вплетенные в конские гривы. Маврикий на облучке, в кошевке Ильюша и Санчик, Фанечка Киршбаум и Сонечка Краснобаева. Они в одинаковых шубках, отороченных заячьим мехом. Дешевле и не бывает отделки в этом краю, где заяц сам лезет в петлю или бежит на ружье. Зато как обрамляет белый мех их личики.
И что за тайна девичье лицо. Видишь его год, второй, третий… Оно тебе известно давным-давно, с первого класса, и вдруг случается, что оно, оставаясь таким же, поражает тебя. Что стало с личиком Сонечки Краснобаевой? Почему оно так необыкновенно прелестно? Прелестно до головокружения. Может быть, от того, что разрумянились ее щечки? А может быть, посеребренные морозцем кончики ресниц делают его не простым, а фарфоровым лицом феи из книжки-сказки «Спящая красавица»? А вдруг да луна, которая мертвит одни лица и оживляет другие, так изменила Сонечкино личико?
Сонечка, твое личико прекрасно, но Маврикий любит Леру Тихомирову. Он в ней любит все. Не только лицо, но и все, из чего состоит она, вплоть до бессердечия и насмешливости, которую она, хорошо воспитанная барышня, прячет глубоко на дне души, но Маврик видит и дно. Видит и все равно любит, потому что любовь — это и прощение. Так говорит не только тетя Катя. Так говорят лучшие люди, с которыми ему довелось встречаться в жизни и в книгах.
Поэтому не следует поддаваться Сонечке Краснобаевой, хотя ему и очень хочется поддаться ей. Ведь она всех добрее к нему и, наверно, любит его больше, чем даже тетя Катя. Ведь в тети Катином сердце теперь не только он, но и Иван Макарович. А в ее сердце, кроме него, — никого нет, не было и, наверно, не может быть.
— Эге-гей, лошади! — кричит Маврикий, намахивая концом вожжей. — Дайте ходу пароходу!
А лошади и без того как на крыльях. Что им легкая кошевка, скользящая стальными полозьями по укатанной дороге!
— Маврикий, безумец, — предупреждает Сонечка, — тише! Ты сумасшедший ямщик. Пожалей лошадей! — Потом, обращаясь к Фанечке, она, жалуясь, пожимает плечиками: — Я, право, не знаю, что мне с ним делать.
Фанечка Киршбаум все понимает. Она уже взрослая девушка. Ей так ясно, что влюбленная Сонечка хочет показать, что они не просто знакомы с Толлиным, но и близки и что ей, Сонечке, не легко приходится с этим бесшабашным человеком.
Фанечка ничуть не осуждает бескорыстную хвастливость Сонечки. Пусть она будет такой, какая есть, — хорошая, добрая, трудолюбивая и очень постоянная девочка.
Вот уже замильвенский берег. Маврик останавливает свою пару, поворачивает на главную дорогу пруда, где несчитанно много лошадей с лентами, колокольцами. Песни, гиканье, выкрики. Гармоники хотят перекричать одна другую. Они то умолкают, то снова выговаривают знакомые песенные строки.
— Давай, Мавр, теперь по плотине. Мимо медведя, — попросил Ильюша Киршбаум и почему-то, не зная сам почему, сказал: — Может быть, у нас последняя такая масленица.
И тоже почему-то, не зная почему, на это не отозвался никто в кошевке. Разумеется, они не отозвались вовсе не потому, что предчувствовали, догадывались, что на самом деле это для них последняя такая масленица. Будут, конечно, масленичные дни, но не такие. Совсем не такие. И все будет совсем не такое, другое, непохожее.
Масленица, и ты тоже не приходишь и не уходишь одинаково дважды.
— И-эх! Ехидная жизнь, — повторяет Маврикий слова Васильевны. — Дайте ходу пароходу!
На плотине теснота. Не разгонишься. Множество ряженых. Здесь это любят. Закрыл лицо лоскутом старой вязаной скатерти — и маска. Надела мужнину пару — и ряженая. А разве не интересно рабочему парню нарядиться барыней? А уж девушке-то вырядиться цыганкой-ворожеей, танцовщицей, плясать, изгибать спину, как не изогнешь ее ни в одной общепринятой пляске, — такая красота.
Завтра всеобщий бал-маскарад.
XV
Балов-маскарадов, агитмаскарадов и просто маскарадов было очень много. Люди будто на самом деле боялись, что такой масленицы уже не будет, и праздновали «во всю ивановскую».
На маскарадах не один раз появлялся Керенский в юбке, бегая по залам, он искал, где бы ему спрятаться. Беднягу лупцевали. Изображавший Керенского техник Григоров героически сносил побои.
По улицам ходили на костылях перевязанные, с нашлепками, наклейками, с шишками и синяками атаманы Дутов и Каледин. Ну, а уж капиталисты, помещики, лавочники-живодеры, царские генералы, министры из Временного правительства, Григории Распутины, Анны Вырубовы, цари и царицы ходили по улице дюжинами. Их было так много, что в последний день масленицы был объявлен в афише «СМОТР ЦАРЕЙ, ЦАРИЦ И РАСПУТИНЫХ». Затем объявлялись призы. Первым призом была голова сахара, вторым — двенадцать коробок папирос высшего сорта и третьим — две пачки чая. Тоже высшего сорта.
Вечером в последний день масленицы, выдавшимся теплым, на освещенной плотине началось гулянье претендующих на призы. Маскарад, назначенный в Общественном собрании, теперь клубе металлистов, сам по себе вылился в представление на пруду. Потому что здесь — тысячи зрителей и есть перед кем показываться изобретательным участникам.
Чаще всего цари, царицы и Распутины шли под руку тройками, лихо распевая. У большинства царей Николаев Вторых в руках была четвертная бутыль. Николаи Вторые одиночки шли то с водочной четвертной бутылью, то с виселицей-глаголем или с нагайкой, которой они, лихо размахивая, пугали стоящих вдоль плотины, требуя вернуть обратно престол. Один из царей сел верхом на монумент горбатого медведя и, устрашая мильвенцев, под общий хохот требовал подчинения.
Были цари и восседающие на тронах. Один трон несли капиталисты, помещики и генералы. Другой трон, поднятый на носилках, несли министры-капиталисты и два Керенских.
Самый заметный Николай Второй, которого изображал местный парикмахер и гример Общества любителей драматического искусства Чашкин, был загримирован с большим сходством. Чашкин, изображавший царя, сидел на золоченом кресле с двуглавым орлом на спинке. Кресло было установлено на черном катафалке под белым балдахином, залитым кровью. И этот черный катафалк везли не какие-то малоизвестные или просто неизвестные купцы, генералы. Катафалк с пением везли ряженые, которые так недвусмысленно напоминали мильвенскую «знать». Зрители легко узнавали купцов Чуракова и Куропаткина, провизора Мерцаева, Шульгина, протоиерея Калужникова, пристава Вишневецкого. Узнавались и лавочники, церковный староста собора, мильвенские чиновники… И многие другие, попавшие сюда, может быть, и несправедливо. Дотошными зрителями настойчиво искался в этой упряжке и не находился Турчанино-Турчаковский. Значит, он не из тех. Значит, и среди них есть такие, которые за Советы.
Тянущие и толкающие катафалк пели все, что приходило на ум. И веселое, и унылое, и погребальное.
Умеренно завистливый Маврикий Толлин огорчался, что ему ничего не пришло и не приходит в голову в этот последний день. Он тоже мог нарядиться и загримироваться кем-нибудь. На это Сонечка сказала:
— Замаскируйся, Мавруша, принцем, а я замаскируюсь Золушкой.
— Уже поздно. Не успеть. Да и где взять костюмы? Их же нужно шить.
— Нет, нет, нет… Ничего не нужно, — убеждала она как никогда певучим голосом. — Стоит только закрыть нам глаза и представить, что ты принц, а я — счастливая Золушка, и мы будем ими.
Лицо Сони опять было удивительно сияющим, и опять неизвестно почему. Кончики ресниц не были белы от мороза, и щеки тоже не были румяны. И полоска заячьего меха капюшона-капора не обрамляла ее лицо. Она была в материном белом пуховом платке с зубчиками. Может быть, зубчики делали таким невиданным ее лицо и глаза, удивительно похожие на глаза тети Кати. Не по цвету, а по теплу.
Идя кромкой плотины, Маврикий и Соня очутились в дальнем ее конце, где над тихим, спящим городом с улицами и переулками высятся поленницы саженных дров, запасаемых для котлов завода.
Соня подошла к Толлину совсем близко и стала лицом к лицу и снова назвала его Маврушей, как называли только тетя Катя да мать, и снова спросила, хочет ли он на одну минуточку стать принцем, и она тогда станет Золушкой.
Ее лицо теперь было так близко к его лицу, что мелкие падающие снежинки, оказавшись между лиц, тотчас же таяли и, высыхая на щеках, тонко пахли весенней оттепелью.
Сонечка закрывала глаза и оказывалась Золушкой, она чувствовала, что ее серенькие валенки становятся хрустальными туфельками, а мамин белый платок — тонким вуалем, и шубка, перешитая из бабушкиной шубы, превращается в воздушное платье с открытыми плечами.
А Маврикий боялся закрыть глаза. Боялся и шептал Соне, касаясь своими губами ее губ:
— Так может закружиться у тебя голова… И у меня тоже… Закружится так, что потом нам их уже не раскружить…
Соня открыла глаза. Они, сверкнув, погасли. Хрустальные туфельки стали валенками, а тонкое и пышное платье — шубой…
На улицах Мильвы еще долго шумела масленица, хотя уже наступил великий пост, начавшийся чистым понедельником.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
I
Великий пост всегда тянулся долго. Не коротким был он и на этот раз для тех, кто ждал весны, солнышка, тепла. Но для тех, кого пугали первые проталины, время неслось на полных рысях. Сидор Петрович Непрелов боялся пасхи. Он знал уже точно, что светлое Христово воскресение для него будет тяжким испытанием.
— Дума съедает думу, — жалуется он брату. — На стену готов лезть. Присоветуй хоть ты что-то, Герасим. Лапотники-однокашники, как грачи, ходят уже по полям, прикидывают, примеривают, как располосовать, раскромсать по клиньям нашу землю. Ухоженную. Унавоженную. — Сидор не сдерживает слез, капающих на бороду, начавшую седеть прошлой осенью.
— Я ничего не могу, — признается Герасим Петрович. — И никто ничего не может. Дело конченое. Мы не можем и не должны противиться…
— Конченое?.. — злобно переспрашивает Сидор. — Не должны?.. Не можем?.. Нет, можем! Должны!
— Как хочешь, а я умываю руки. Мне нужно думать о себе. Обещают пересмотр всех непригодных к воинской службе. Так ты уж смекай сам… А меня не впутывай.
Первый раз зло посмотрел Сидор Петрович на младшего брата.
— Буду смекать сам. И смекну. Мужик он хоть и сер, а на кривой его не объедешь.
Расстались братья холодно. Сидор Петрович стал прикидывать, примерять, взвешивать хитрость, которая пришла к нему вешним сном, божьей заботой, ангельским подсказом.
Как наяву пришел он во сне в «енералов» дом. Поклонился ему в пояс и сказал:
— Восподин енерал, или, как бы сказать, ваше гражданское превосходительство, слыхал я, что в вашем училище хотят учить по-ученому землю пахать, а земли нет.
— Нет, — отвечает Тихомиров. — Была, да тебе продал. А ты за нее все еще не все деньги выплатил.
— Об этом и речь, гражданин енерал. Слыхал я, что это больно вам. Что трёкнулись вы… И как бы промашкой почли продажу земель и мельницы.
— Снявши голову, по волосам не плачут, — говорит Всеволод Владимирович Тихомиров. И говорит уже не во сне, а в живой яви у себя дома, куда пришел Сидор Петрович Непрелов повторить свой сон и довести его до конца по божьему веленью, по вещему сновиденью.
— Это чистая правда. Только я пришел предложить вам возвернуть не одни волосья, но и всю голову.
— Как же так… Зачем вдруг… Да мне и нечем уплатить вам, — говорит Тихомиров, не понимая еще, что хочет предложить Непрелов.
А Непрелов выкладывает все, умалчивая об одной мелочишке:
— Декреты вы, конечно, читаете. Наверно, ваш сынок эти декреты набело переписывает и товарищу Ленину на подпись носит, — ищет он перехода к сути дела, испытующе следя за лицом Всеволода Владимировича. — А по земельному, стало быть, декрету положен отбор земель у нашего брата и подушный раздел их промежду малоземельными и вовсе безземельными. Это правильно. Пахарь должен пахать, а не у всякого пахаря есть пашня. Я за раздел. И руку могу поднять! И голос подать! Но только…
— Что только? — спрашивает Тихомиров, всматриваясь в лицо Непрелова, по которому не прочтешь, так ли думает этот бородач, как он говорит.
А говорит он резонно:
— Только хочу я спросить — все ли земли надо делить? И надо ли делить те земли, что слитно больше пользы Совдепу могут давать, а порознь лоскутья, и всё. К примеру, наше ферменное хозяйство взять, ваши бывшие примельничные угодья… Они стали хозяйством. Слитным. Цельным. Неделимым. Оно конечно, разделить можно. Мужики даже избы распиливали. Одну половину одному наследному сыну, вторую — второму. Все правильно. Только какая жизнь в полуизбе о трех стенах?
Всеволоду Владимировичу хочется скорее узнать, что нужно Непрелову. И он его спрашивает об этом.
— А нужно мне, — отвечает он, — чтобы мое хозяйство в неделимости служило вашему училищу, а не пласталось по клину и не растаскивалось по крохам. Кому польза от этого? Или, может быть, я не то?
— Нет, то. Совершенно то самое. Только скажите мне, как посмотрят на это крестьяне из Омутихи?
— Как они ни смотри на это, а у них в волости партейные головы есть. Сразу поймут, что губить ферму не резон. А что касаемо прибавки наделов мужикам, так мильвенских покосов не на одну Омутиху хватит. Не по сто же десятин на рыло будут наделять мужиков.
— Разве заводские покосы будут передаваться крестьянам? — спросил Тихомиров.
— А как же. Фабрики — рабочим, землю — мужикам. Товарищ Ленин ясно сказал. Нельзя же рабочему и завод и пашню. Это же хаповство.
Тихомиров задумался. Он понимал, что Непреловы, теряя налаженную ферму, не хотят, чтобы она перестала существовать единым хозяйством. Всеволоду Владимировичу невольно вспомнился чеховский «Вишневый сад». Вспомнился стук топоров. Вырубка деревьев и раздел большого сада на мелкие дачные участки. Сравнение несоизмеримо, но, кажется, сходство есть.
— Хорошо, Сидор Петрович, я посоветуюсь. А где вы будете жить?
— Так изба-то у меня цела. А землицы-то мне тоже, думаю, дадут. Ну, а ежели вам на первое время верный человек нужен будет, так я рад служить. При мне колоска не пропадет. Всё училищево будет. Нынче не до жиру. Быть бы живу. А вас-то все знают — каковы вы. С голоду не дадите умереть, и всё. А ежели, видючи мои старания, дадите требушинкой попользоваться или в лесу дожать недокошенное — так бóльшего-то и не надо…
— Конечно, конечно, конечно…
Сидор, видя, что Тихомиров пошел на приваду, пугнул его на прощанье:
— Желательно бы получить ответ до пасхи, а то тут ко мне ходит один доморощенный «куманек» небольшого росточку. Слыхали, наверно, Никифора Истомина, который меня вместе с землей в кумынию подбивает. Тоже стоящее дело эта кумыния… Так что, значит, покедова, ваша честь, гражданин енерал…
Выйдя на улицу, Сидор торопливо шептал:
— Слава тебе восподи, пресвятой угодник Миколай, оплел-охмурил, по всем статьям обошел. Целой будет ферма. Макового зерна не унесут. Клинышка земли не отрежут. Всё сберегу до последнего бревнышка.
II
Не сразу понял Герасим Петрович Непрелов, что его брат спас ферму, отдав ее задолго до шумного передела примильвенских земель. Младший брат и не думал, что так дальновиден и практичен Сидор.
— Как толички придет им конец, когда заступит настоящая власть, — говорил он, — мне не надо будет бегать с плантами, с землемерными вычертками и, вертая себе свое, доказывать, где наши форменные земли. Они как были огороженными, так и будут. Мне только останется дать коленом под енералову честь, и тютечки. Всё отберу до вершка. И долга платить ему не надо… Хо-хо!
Говоря о долге Тихомирову, Сидор Петрович имел в виду векселя. Отдавая ферму мильвенскому политехническому училищу, Непрелов сказал тогда:
— Гражданин енерал, за не нашу-то землю теперич поди-кось не надо платить вам по векселям?
— Ну что вы, право, — ответил тогда Тихомиров и порвал векселя.
А теперь Сидор Петрович радовался, что он не только не останется в убытке от этой передачи земли, но и получит прибыток. И получит его вместе с «ферменной землей» не позднее осени, когда «куманьки откомиссарятся» и сядет править Керенский, который, как слышно, жив-живёхонек и невредим. Он-то и положит всему конец. А конец начнется этой весной, как только мужики схлестнутся с мильвенской мастеровщиной на покосных землях.
Предсказания Непрелова сбывались. На межволостном совещании о примильвенских покосных землях трудно, да и невозможно отказать крестьянам в их претензиях.
— Лес — это одна статья, — говорили представители волостей. — Лес дает дрова. Заводу нельзя без дров. А покосы зачем заводу? Травой не топят.
— Казенные лошади есть у завода! — оспаривал Терентий Николаевич Лосев.
— Ну и что? — возражал представитель Омутихи. — А сколько им надо? Сто десятин? Пускай двести! Не против и триста оставить! А остальные земли куда? Мастеровым? По какому такому праву? В декрете этого нет.
Большинством голосов было решено передать покосы крестьянам, за исключением пятиста десятин, предусматриваемых на расширение города, а пока остающихся для внутренних нужд хозяйства завода.
Кулемин, Матушкин, Киршбаум, Африкан Краснобаев, Лосев и многие другие, зная особенности жизни мильвенских рабочих, остались при своем мнении, изложив его в обстоятельном объяснении, отосланном в губернию. А тем временем, чтобы не упустить пахоту и сев, крестьяне примильвенских деревень выехали межевать и распределять рабочие покосы.
Те же провокаторы из меньшевиков и эсеров, притворившиеся лояльными, действовали теперь в рабочей среде. А для этого не нужно было многих слов.
Прадеды эти покосы косили. Цари не подымали на них руку. У Керенского хватило ума не касаться рабочих покосов, принадлежащих казне. Как же коренная рабочая Советская власть в Мильве не отстояла рабочие интересы?!
О покосах заговорили не одни только рабочие, у которых были коровы и лошади. Если не всем, то большинству миль-венцев невозможно было представить, как можно лишиться покосов, а за ними и коров рабочим, которых теперь почти не кормит завод. Этого допустить нельзя.
От слов переходили к делу. В концах Песчаной улицы, где многие держали своих коров, сама собой возникла демонстрация. Откуда-то появилось красное полотнище, а на нем надпись: «НЕ ОТДАДИМ МОЛОКО НАШИХ ДЕТЕЙ!»
Лозунг был понятен всем. К демонстрантам присоединились и бескоровные. К Мильвенскому городскому комитету РКП (б) пришло более пятисот человек.
Емельян Матушкин, успокаивая демонстрантов, рассказал о бумаге, посланной в губернию и в центр, а потом по требованию прибывающих демонстрантов с других улиц прочитал копию посланного письма.
Прочитанное было встречено шумным одобрением, но кто-то выкрикнул:
— Пока бумага ходит туда-сюда, они распашут и засеют наши покосы.
— Не отдадим! — послышался пронзительный женский голос.
— Гнать их!
— Гнать!
— Не допустим!
Началось невообразимое. Матушкину теперь невозможно было угомонить кричавших. Кто-то выкрикнул:
— Умные не болтают, а не пускают на свои покосы. Не пустим и мы… Не пустим!
Послышались женские голоса, и среди них один пронзительный позвал:
— На покосы, бабоньки! На покосы!
Молодая женщина, которой принадлежал этот сильный голос, подняла над головой деревянные трехрогие вилы, какими обычно мечут сено, скомандовала:
— За мной!
III
Вокруг Мильвы, где лес не подходил к ее окраинам, простирались покосные земли. Они занимали немалые пространства, измеряемые десятками квадратных километров. И особенно хороши были земли на южном и юго-восточном склонах отлогой горы, скат которой тянулся к речке Медвежке версты на четыре.
Здесь были главные заводские покосы живущих по эту сторону пруда.
С высоты Мертвой горы в этот ясный день ранней мильвенской весны, короткой, но щедрой теплом и светом, было видно, как на склонах горы, еще не освободившихся полностью от снега, крестьяне перемеряли землю, вбивали колья, процарапывая межи концом лемехов сох на неоттаявшей поверхности земли.
Мужики, и бабы, и, конечно, счастливая детвора радовались весне, солнцу и земле, за которую никому не нужно платить выкупа. Они не заметили густую цепь движущихся на них мильвенцев.
Это были мужчины, женщины, молодежь и подростки.
Все они как бы вытекали из концов улиц и образовали широкий ряд, движущийся на покосы.
По мере продвижения ряд ширился, но не редел. Его пополняли догоняющие. Многие были вооружены берданками, шомполками, двуствольными дробовиками, деревянными и железными вилами.
В широком ряду оказался и Маврикий и Санчик. А как могло обойтись без них, когда у тети Лары корова, а у Денисовых своя дойная коза.
Крестьяне, заметив приближающуюся цепь наступающих, сначала не поняли, что это значит. А потом, поняв, не поверили своим глазам. Но провокаторы разъяснили, что это идут заводские головорезы, которые не хотят отдавать законную крестьянскую землю по священному ленинскому указу…
Мужики схватились было за топоры и колья, которых немало было привезено для застолбления размежевываемых земель.
Все было подготовлено к тому, чтобы началась небывалая в Мильве драка и пролилась кровь. Подстрекатели давно уже ушли в кусты. Ушли в буквальном смысле. Вдоль берегов Медвежки густые заросли.
Теперь уже не было силы, которая могла бы остановить позорную демонстрацию. Голоса считанных большевиков, пытавшихся утихомирить покосный конфликт, не были услышаны.
Кумынин Яков Евсеевич не посоветовал пришедшим комитетчикам встревать в покосные разногласия.
— Остановить не остановите нас, — сказал он, — а разъярить можете. Мы ведь не против кого-то там, а за свои покосы… И если уж вы в комитете не предотвратили, так тут-то уж не предотвращайте.
Когда наступающие увидели поднятые мужицкие топоры, они ускорили шаг, хотя до этого было сказано, что наступать нужно тихо и молча. Ни выстрела. Ни крика. Ничего. Действовать на испуг, чтобы ни перед кем и ни за что не отвечать.
Крестьяне из примильвенских деревень, помахав топорами и кольями, скоро одумались, видя, что наступающих было не счесть сколько. К тому же на гриве горы зачернел новый ряд.
И чем ближе был молчаливый первый ряд, тем становилось страшнее. Первыми, побросав колья, побежали женщины. За ними дети.
Мужики попробовали было: «Не отдадим, умрем…», «Постоим за нашу землю…» — да тоже, наскоро запрягая лошадей, поворотили оглобли в свои деревни.
А мильвенский передний ряд шел и шел, что называется, держа равнение и сдерживая волнение.
Один только остался на заводских покосах. Старик. Он, упав на землю, распластав руки, ноги, вздрагивая и рыдая, просил:
— Пройдите по мне! Пройдите по мне!
Молчащий ряд расступился, обходя старика, продвигался к берегу Медвежки, по которому шла граница заводских покосов. И, дойдя до берега, начали шумное ликование. Победители обнимались друг с другом, радовались, а потом чокались. В воскресный день всегда откуда-то появлялись запретные бутылки. Потом стали подбирать колья и вбивать их вдоль берега. Знай, мужики — это граница. Попробуй перейди ее теперь. Вынь или урони хоть один кол.
Победители опять шумели, радовались, будто за кольями, за рекой была чужая страна.
IV
Всему этому несколько лет спустя не хотели верить мильвенцы, пытаясь представить покосный конфликт досадным недоразумением.
Это несколько лет спустя, когда выяснилась истинная подоплека стравливания крестьян и рабочих, но не теперь. А теперь дежурили по суткам от каждого двора, где была корова, конные сторожа, разъезжавшие вдоль границ мильвенских покосов. Подобное самоуправство можно было изобличать в газетах. Что и делалось. Григорий Киршбаум опубликовал под псевдонимом «Иван Бескоровный» злую, осуждающую статью. Но статья не ослабила борьбу за покосы, а усилила ее. Ко всему этому на письмо городского комитета, написанное Кулеминым, пришел ответ, защищавший крестьян примильвенских деревень, претендующих на покосные земли. В ответе ясно говорилось «не чинить препятствий» и «не давать повода контрреволюционным элементам ссорить деревню с Советами».
Мильвенские комитетчики читали и перечитывали нелепый ответ. Как можно было называть огульно контрреволюционными элементами тысячи тружеников. Не оставалось сомнения, что сила, действующая внутри Мильвы, поддерживается кем-то в губернии. Комитет, не дав хода полученному предписанию, категорически потребовал ознакомления с положением дел на месте.
Приехавшая для расследования комиссия не захотела внять голосу Мильвенского комитета, который доказывал, что заводские земли не подлежат передаче крестьянам. Комитет предупреждал комиссию, что ее упорство может быть расценено Центральным Комитетом как нежелание разобраться в особенностях жизни рабочих Мильвенского завода.
Комиссия решила созвать митинг и разъяснить мильвенским жителям, почему нужно передать покосные земли крестьянам. Но после того как стала известна цель созыва митинга, произошло то, чего никто не ожидал.
Митинг не состоялся. Пришло несколько десятков человек да Марфенька-дурочка, которая передала организаторам митинга пакет. А в пакете на хорошей ватманской бумаге крупно, с каллиграфическим изыском, было написано:
«Если вы хотите крови, она будет. Покосы отобрать невозможно. Иваны Коронные».
В комитете допоздна были освещены окна. Комиссия виновато и трусливо искала теперь компромиссных решений. Хотели отдать крестьянам часть покосных земель. Меньше половины. Но и это оказалось невозможным. Согласились с тем, что до этого предлагал Мильвенский городской комитет. Подсчитав площади, увидели, что только соскинские земли, пустующие после вырубленных лесов, покрывают более половины потребностей примильвенских деревень. А монастырские пустоши, брошенные выпасы… Разглядывая карту, комиссия вынуждена была согласиться, что каша, заваренная вокруг заводских покосов, была не случайной и не стихийной, а кем-то организованной и…
— До удивления странно поддержанной комиссией, действия которой я лично считаю подлежащими расследованию в партийном порядке, — заключил свою речь Артемий Кулемин.
Члены комиссии, чувствуя, что дело может повернуться очень серьезно, перепугались, пошли на попятную, принялись смягчать свои действия, называя их просчетами, недодуманной торопливостью… И может быть, комиссия отделалась бы выговором, если бы не события, разыгравшиеся за окнами на темной улице.
Жители Мильвы не знали, что больше не существует покосного вопроса, продолжали протестовать.
На улице появилось множество коров. Они, встревоженные ночным подъемом, а может быть, и нарочно не кормленные или не поенные, не переставая мычали. Когда мычат две-три коровы — это одно. Когда ревет несколько сот коров — то никакие, даже самые спокойные люди, не могут выдержать этого рева.
Темнота усиливала коровий рев. Приехавшие члены комиссии сидели, сгрудившись, в дальнем углу комнаты, боясь, что за ревом коров последует выполнение «кровавого обещания». И оно последовало. Кто-то в темноте стал резать коров. Стадо, почуяв запах крови и услышав предсмертный храп животных, затрубило на невыносимых нотах смертельного ужаса. Коровы, разбегаясь, мчались по улицам, неистово трубя, словно извещая об опасности спящую Мильву.
Когда улица опустела и стало светать, на ней можно было увидеть трех зарезанных коров и прочесть черную надпись на белом коленкоре: «Угощайтесь мясцом, товарищи!»
Кулемин подвел членов комиссии к лежащим на дороге коровам и сказал:
— Этого вам, господа, мы не простим…
V
Притаившиеся враги Советов торжествовали. «Коровий бунт» обнадеживал и таких, как Непрелов, и таких, как Турчанино-Турчаковский. Если какие-то покосы наделали столько шуму, то что произойдет, когда остановится Мильвенский завод, к чему прилагается теперь немало усилий теми же лицами, что так искусно организовали покосные распри, не оставляя следов своих преступных рук.
Эсеры, примыкающие левым крылом к большевикам и правым смыкающиеся чуть ли не с монархистами и во всяком случае с кулачеством, оставались все еще силой. Среди них было наибольшее число одаренных авантюристов и талантливых провокаторов, умеющих играть на темноте душ, на отсталости и той части населения, которая по своей классовой принадлежности обязана быть передовой. Разве не живое доказательство этому покосная история в Мильве?
Кому бы пришло в голову, что постановщиком ночной коровьей демонстрации был Антонин Всесвятский. Тот самый Антонин Всесвятский, урожденный Гуляев, который, будучи семинаристом, начал свой жизненный путь с вымогательства и обмана пожилых дам, потом продолжил свою деятельность в ведомстве жандармов и, наконец, женившись на миллионерше Соскиной, затеял похищение арестованного царя и потерпел крах.
Антонин Всесвятский, пройдя через все тяжкие преступления, наконец нашел себя, назвавшись эсером, которым, оказывается, он был всегда, с первого убийства любимой кошки своей матери за то, что та не мирилась с кражей им денег из отцовской шкатулки.
Нет, никто бы не подумал, что режиссером последних событий в Мильве был Антонин Всесвятский. Этот наш старый знакомый, появившись теперь в Мильве, врал каждому свое. Григорию Киршбауму, например, он рассказывал:
— Ты же знаешь лучше других, как мне, бежавшему с каторги, пришлось скрываться в Мильве. А потом эта злополучная женитьба на женщине, чуждой мне классово… Потом керенщина… Корниловщина… Интриги… Измены… И я устал. Мне так хочется отсидеться, отоспаться, оглядеться, понять и принять революцию рабочих и крестьян, а затем уйти с головой в дело, в работу, в созидание царства равных.
Герасиму Непрелову он говорил другое:
— Россия кончилась. Ее невозможно будет воскресить, если все это продлится хотя бы год. Останется пепелище, населенное зверями, отдаленно напоминающими своей внешностью людей.
Доктору Комарову Всесвятский врал:
— В Петрограде революция разбудила во мне стихотворца. И я печатался под различными псевдонимами.
Тут он, не стесняясь, называл имена поэтов, ставших известными в читательских кругах.
Едва ли нам следует пересказывать вранье появившегося в Мильве Всесвятского. Не правильнее ли хотя бы кратко узнать, чем занимался он до появления в Мильве. Эта цепь авантюрных похождений, характерная для Всесвятского, характерна и для времени и нравов, породивших его.
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
I
Если вы помните, мы расстались с Всесвятским в день его отъезда в Петроград, где он, одержимый идеей спасения царя, надеялся выкрасть его при помощи денег миллионерши Натальи Соскиной, ставшей его женой.
Всесвятскому предствлялось, что царя можно выкрасть простейшим из всех самых простых способов. На него будет накинут мешок из плотной и прочной ткани, затем, принимая во внимание, что царь невысок ростом и не тяжел весом, двое легко унесут его в автомобиль, приобретенный для этой цели. И, наконец, царь будет доставлен в подвал дачи, купленной Всесвятским под Выборгом.
И тогда царю будет сказано:
— Николай Александрович, не волнуйтесь и не отчаивайтесь! Я вас не гублю, а спасаю. Но я не могу делать это из патриотических или каких-то других высоких побуждений. Мне нужны большие деньги. Поэтому я продам вас той державе, которая дороже заплатит.
А пока нужно было терпеливо искать способы проникновения за ограду царскосельского дворца.
Отрастив усики и бородку, Всесвятский наведывался в Царское Село, вскоре потерял, а затем обрел новые надежды.
Керенский почел за благо отправить царя и царскую семью в далекий Тобольск.
Только лишь одна Лидия Чарская в своей повести «Сибирочка» могла так подробно описать тобольский вокзал, вокзальный колокол, кондуктора и поезд, на котором уезжали персонажи ее книги. Однако и полвека спустя железная дорога не появилась в Тобольске. Поэтому Всесвятскому пришлось воспользоваться поездом только до Тюмени, а оттуда направиться в Тобольск на лошадях, что было куда скорее, чем на пароходе по Туре и Тоболу.
Село Покровское, где высился двухэтажный бревенчатый, без особых претензий дом, в котором жила работящая, невысокого росточка вдова Григория Распутина, стоило того, чтобы побывать в нем. И он не раскаялся в этом заезде.
Артист по природе, не один год отдавший театру, Всесвятский быстро находил маску, отвечающую обстановке. Здесь, в большом селе Покровском, походившем более на сибирское, нежели уральское село, скоро нашлись мастера, умеющие доставать самогон и тем более умеющие его пить.
Всесвятский сказал, что ему, как историку, хочется знать правду о Григории Ефимовиче Распутине, о котором он пишет такую книгу, где не будет и половины лживого слова.
За время войны многие выучились гнать отличный самогон, уступающий водке разве только в легком запахе гари. «Сухой закон» военного времени породил массу мелких заводишек по самогоноварению. И там, где густ лес и глухи дороги, завод по выгону спиртного зелья существовал безданно, беспошлинно, а также и безбоязненно. Сунься блюститель законов в необжитые зеленые чащобы! Сначала оглоушат дубиной, а потом прирежут.
Веселое пиршество на опушке за выгоном. Славно развязались языки у бородатых дружков-приятелей, знававших близко Распутина. Никто из мужиков не осуждает своего земляка.
— Хвалить я не стану, — говорит один, — но и хулить не могу. Повидал все ж таки он виды. Помылся в царских банях. Поспал на пуховых лебяжьих перинках. Поводил своей пятерней по шелковистым спинкам. Пощупал счастье обеими руками… Вот оно что.
— Для него и умирать было не так тягостно, — рассуждает второй такой же угрюмый мужик. — Потому что было попито, поедено, положено в карман… А что мы? Хучь бы и я — дальше Тобольска не бывал, больше Тюмени не видел города.
Внимательно слушая рассказы мужиков, Всесвятский искал близкого, совсем близкого к Распутину человека, который бы мог проникнуть к царю и поведать о видении, допустим, или объявлении причисленного к лику святых великомученика Григория, который велел царю искать спасения в тобольском лесу. Царь может клюнуть на это. Может оказаться в лесу. Тобольск — не Царское Село. Мешок на голову, кляп в рот, потом лови пропажу в прииртышской тайге.
Ищущий чаще всего находит. Нашел и Всесвятский близкую родню — зятя Распутина, поручика Соловьева. Без нажима, эластично выведывая о Соловьеве, Всесвятский узнал, что человек он денежный и что вхож он к высоким знакомым своего покойного тестя.
II
В Тобольск приехал Всесвятский с большими надеждами. Он и его компаньон, Антон Кимарев, сразу же принялись осуществлять план маскировки, объявив себя в управе скупщиками старинных книг. В нагорной части города, неподалеку от дома, где жил губернатор и где будет жить низвергнутый император, была снята квартира и вывешена выгравированная в Тюмени медная вывесочка о скупке древних книг.
Хозяйка квартиры Паша и ее сестра, потерявшие на фронте мужей, сразу же оценили широту приезжих и не захотели сдавать своих комнат какой-то из высокопоставленных особ. Квартирьеры подобного рода особ давно уже рыскали по Тобольску. И через них жителям города стало известно множество подробностей о приезде царя и его свиты.
Подорожали номера в гостиницах и меблированные комнаты. Еще нет наплыва в Тобольске, а мясо стало стоить чуть ли не вдвое. Рыба, которой здесь всегда было невпроед, и та давала знать о себе.
Недалекие солдатские вдовы, не предполагая, оказывали неоценимые услуги своим постояльцам. За новости, которые они приносили, стоило бы платить особо, а эти истомившиеся в одиночестве щебетуньи были благодарны за то, что их есть кому слушать.
И наконец, стало известно, что царь близко, что прибудет в Тобольск в день преображения господня, шестого августа.
У Всесвятского хороший морской бинокль, у Кимарева маленькая подзорная труба. Теперь это нужные вещи. Близко к губернаторскому дому могут и не подпустить, а через восемнадцатикратный бинокль издалека можно заглянуть даже вовнутрь дома.
Не думал Антонин Всесвятский, что когда-нибудь он будет охотиться за русским царем, выслеживать его и так волноваться при виде всего лишь дымов приближающихся пароходов.
Они ближе и ближе. Можно прочитать их названия на спасательных кругах. «Русь» и «Кормилец» с баржой «Тюмень». Кто это на палубе? Неужели это он? Не может быть. Он, он… Бинокль не лжет. Царь стоит на палубе «Руси» и показывает дочерям город.
У Всесвятского дрожат руки. Царь то и дело исчезает из поля зрения бинокля. Скачет то вверх, то вниз, но пароход уже близко. Царя можно разглядеть и простым глазом. Пароход подходит к пристани, царь уходит с палубы. Оказывается, он не сойдет в город. Не готов дом.
Неторопливые дни сменяются тоскливыми, тягучими ночами. И каждый день убеждает Всесвятского, что выкрасть Николая Романова вовсе не так-то уж сложно.
Сузгун совсем рядом с Тобольском. Густой хвойный лес. Здесь, покидая пароход, появлялись Романовы. Прячась в ельнике, Всесвятский так близко находился от прогуливающегося царя, что останавливалось сердце. «Цап, кляп и амба», как говорил Антон Кимарев.
Но цапа не получалось. Высоченный полковник Кобылинский и его преображенцы только делают вид, что не оберегают царя. Каждый шорох, шишка, уроненная белкой — а их здесь пропасть, — обращают внимание стражи. Если бы купить кого-то из них? Не магнаты же они. Мужицкие сыны. Дай такому сто «Петров», он и царенка приволочет. Тоже товар. Претендент на престол как-никак. Хиловат только. Может от страху скапуститься. А царь ничего себе, крепкий боровичок. Вынесет и дальний переход по тайге.
Сидит Антонин Всесвятский со своим напарником в густом ельнике, а царь — рядом. Рукой подать. Миллиард ходит в легких сапогах. Пусть меньше. Полмиллиарда. Даже четверть. Шут с ним. Лишь бы наличными.
Сидит Антонин Всесвятский со своим напарником и прислушивается. Царь песни солдатские поет, марши своим голосом вытрамбонивает. С чего, спрашивается, веселиться царю на Сузгуне? Чему радоваться? Ссылке в далекий город? А ссылка ли?
Не верит Всесвятский Керенскому. Керенский тоже знает цену живому царю. Из Питера царя не переправишь через фронт. А тут садись и катись до самого Лондона. Ни одного заградительного поста. Граница открыта всем ветрам и судам. Еще в прошлом веке прибывали сюда из Лондона морские пароходы. А теперь ходить через Карское море не такое уж мудреное дело.
Едва ли ошибался Всесвятский, подозревая увоз царя. Неуемный царь сам выбалтывал тайны своим поведением.
На шестой день по приезде в Тобольск Романовых Всесвятский совсем близко видел царя. Он пешим отправился с пристани через базар. Царица, жаловавшаяся на болезнь ног, поехала с дочерью Ольгой в экипаже. А этот — без никаких. Будто и не был царем. Полсотни бы верховых озорных соколов — и отдай кормовую… Что могут сделать тридцать три пеших преображенца?
И снова прошел царь, мельком взглянув на Всесвятского, и ушел в белый губернаторский дом, вокруг которого начала собираться толпа.
Теперь предстояла длительная работа по завязыванию знакомств и поисков способов похищения Николая Романова.
III
Сумасбродная и неотвязная идея была на грани психического заболевания Всесвятского. И чем безнадежнее становилось тобольское похищение, тем настойчивее работала мысль и головокружительнее строились планы.
Соучастник несостоявшегося похищения Николая Романова Антон Кимарев уехал в Омск с последним пароходом, пожелав удачи одержимому Всесвятскому. И тот даже был рад этому, потому что возникали новые проекты умыкания и появились более перспективные кандидаты в соучастники.
Паша и Грушенька, у которых продолжал снимать квартиру Всесвятский, любили развлечения. Грушенька после отъезда Кимарева чувствовала себя одинокой. Хорошие и откровенные отношения с Пашей и Грушей давали полную возможность Всесвятскому пригласить кого-либо из царских слуг. Их свыше сорока. Кто-то из них мог позариться на деньги.
Боязно было начинать разговор с комиссаром охраны эсером Панкратовым. К нему весьма расположен царь. И говорят, что предложил ему место учителя своих детей. Панкратов мог бы подсказать царю побег.
Но Панкратов «палка о двух концах», как и доктор Боткин, состоящий при царской семье. Если бы доктор Боткин согласился сделать нужный укол, дать снотворное, а потом…
Всесвятский сочиняет сложнейшие комбинации со множеством хитрейших сюжетов похищения, не понимая того, что теперь не столько царь, а само придумывание комбинаций умыкания царя занимают все его существо профессионального афериста.
Например, он верит, что если бы тобольский епископ Гермоген мог войти с ним в пай, тогда бы можно было в одном из церковных тайников надежно спрятать царя и вести торг о размерах выкупа.
Да что Гермоген. И рядовой поп отец Алексей, встречающийся с царем, мог войти в сговор. Но, кажется, оба духовных отца готовят побег государю-императору в другом сообществе. Жаль, но ничего не поделаешь. Можно раскрыть их замыслы анонимным доносом. Но тогда усилят надзор, и ему же, Всесвятскому, будет хуже. Да и многое ли изменится, если устранят отца Алексея и преосвященного Гермогена. Остальные-то останутся. Не просто же так забиты все гостиницы свитой, неизвестными лицами, которые вхожи в дома тобольских богачей, рыбопромышленников. Не просто же так все они торчат здесь. Едва ли среди них найдется хотя бы один, кто не желает пожать лавры спасителя бывшего самодержца всея Руси, а вместе с лаврами получить и награды.
Зачем-то зимует в Тобольске шхуна «Святая Мария», и откуда-то возник слух, что с наступлением весны она поможет Романовым очутиться в Англии.
Нужно опередить всех.
И снова дни сменяют ночи. Задумываемое днем досматривается во сне. Всесвятский видел обоз с рыбой. Это его обоз. Он и доктор Боткин одеты возчиками. Полушубки, тулупы, валенки. В санях — мороженая рыба насыпью. Рыба, упакованная сверху рогожами. А в рыбе Николай Романов. Он, укутанный в меха, спит под наркозом. Кто вздумает обыскивать идущие через Тобольск сани с рыбой? И все было бы хорошо. Царя свезли бы в надежный самогонный завод в дремучей тайге, где, как оказывается, ждет зять Распутина поручик Соловьев. Но вдруг слышится голос Николая Романова: «Я хочу пить». Доктор Боткин пожалел наркоза. Царь проснулся. Обоз обступают преображенцы с полковником Кобылинским во главе. Просыпается и Всесвятский в тяжелом угаре. Он ищет в темноте жбан с квасом. Ему хочется пить. К нему приходит участливая, добрая Паша.
— Ты опять бредил, Тоня, — говорит она, приникая к нему.
Ее тепло, мягкий голос, знакомый запах репейного масла, которое она пользует для укрепления волос, и, наконец, ласковые руки, обвившие шею Всесвятского, гонят назойливый сон, который он видит третий раз подряд.
Через час он, усталый, засыпает. И опять скрипят полозья, скользя по стылому снежному накату дороги, ведущей в тайгу, где ждет поручик Соловьев. Но на этот раз просит пить, а затем выскакивает из воза епископ Гермоген. Он кричит на всю тайгу: «Моя пожива! Моя добыча!» Затем вытаскивает из воза завернутого в меха, а потом в бинты Романова, чем-то напоминающего теперь мумию, и вместе с командой шхуны «Святая Мария» уносят его, как плащаницу, подняв над головами. Гермоген с хоругвью в руках идет впереди, провозглашает: «В Лондон, в Лондон. Лед прошел. Губа чиста!»
Паша крестит, а потом будит бормочущего во сне: «Нет, мой царь. Мой… Мой…»
На улице уже светает. Паша советует позвать бабку. Паша боится за своего Тоню. Она верит, что Антонин нашел наконец в большом белом свете ее, а она нашла его. И любит его первого, а того, Василия, которого прибрал бог на фронте… За него она просто вышла замуж шестнадцати годов, когда он приезжал с фронта на побывку. А сейчас ей девятнадцать лет, и все в ней живет Антонином.
Рано топится русская печь. Мастерски печет Паша блины. Жар зарумянил ее щеки. И вся она как зоренька ранней весной. Тонечка не жалел для нее ситцев и сатинов, бархатов, плюша, кружева. С утра она в обтяжном-обливном, туго скроенном, плотно пригнанном платье. Любуйся, Тонечка. И он глядит. И думает, зачем ей дано столько редкостных чар. Кто их поймет и оценит здесь, в Тобольске. Думая, он слышит через двойные рамы, как скрипит обоз. Оторвавшись от печи, смотрит в окно. За окном обоз с рыбой. Точь-в-точь что во сне. И те же рогожи, укрывающие мороженую рыбу, уложенную в сани. Становится страшно. Слегка знобит. Так и кажется, что в одном из возов увозят царя.
А вдруг это так и есть? Ведь должны же похитить его и отправить в надежное место до того, как тронется лед и очистится Обская губа.
— Пашенька, родная моя, — просит Всесвятский, — вчера, кажется, что-то оставалось в графинчике…
IV
Антонин Всесвятский не заблуждался, и слухи не лгали. Николая Романова предполагалось отправить на шхуне «Святая Мария», а до этого спрятать в надежное место. Об этом давно стало известно Уральскому Совету и Комитету партии. Давно сюда прибыли под разными предлогами одиночками, группами те, кто доставит Романовых в Екатеринбург и тем самым отрежет всякие пути к побегу.
Немало дней прошло, когда приехавшие во главе с молодым большевиком Павлом Хохряковым, прошедшим революционную закалку на Балтике, осели в городе. Он и его группа должны были прежде всего вырвать Тобольск из рук меньшевиков и эсеров. Полгода тому назад свершился Октябрьский переворот, а здесь, в Тобольске, все оставалось, как при Керенском. Совет был переизбран. Павел Данилович Хохряков стал его председателем.
В эти дни Всесвятский обратил внимание на приехавшую из Екатеринбурга Татьяну Наумову. Активная, молодая, смелая, вхожая всюду, она, не желая того, заставила Всесвятского снова взвешивать, прикидывать, строить новые авантюрные комбинации и снова разрушать их. Ему невольно вспоминается его рухнувшая попытка наладить отношения с фрейлиной Маргаритой Сергеевной Хитрово. Эта кругломорденькая, короткошеяя, большеротая сомиха могла схватить золотую жерлицу, да не оправдала свою фамилию. Попалась. Ее арестовали и выслали из Тобольска.
Появились было еще надежды с приездом Яковлева-Мячина. У него полномочия из Москвы. Из ВЦИКа. Он сразу же оказался в натянутых отношениях с группой Хохрякова и в благоприятных отношениях с арестованным царем, обменялся с ним рукопожатием, а царевны, любезно присев, приветствовали представителя ВЦИКа товарища Яковлева реверансом. И царица удостоила приезжего монашьей улыбкой.
В лице Яковлева-Мячина было что-то позволяющее Всесвятскому идти ва-банк. Но он тогда испугался собственной мании, не верил и самому себе после снов-галлюцинаций. А вдруг все это перешло в явь? Но преступное чутье Всесвятского не обманывало его. Через несколько лет он узнал, что Яковлев переметнулся к белым. Если бы он знал тогда, то кто скажет, куда бы он с Яковлевым увез Романовых. А теперь все кончено. К бывшему губернаторскому дому не подступись. Охрана в руках большевиков.
Весна пугает вскрытием рек. Уральцы требуют отъезда царя. Яковлев медлит. Пашеньке откуда-то все известно. Не кто-то, а она шепнула Всесвятскому:
— Тонечка, завтра в четыре они увезут царя и царицу.
И это оказалось правдой. Всесвятский видел, как уезжали Романовы из Тобольска. Одиннадцать троек и пять пар запряженных в большие дорожные кошевки.
Конец апреля. Солнце подымается рано. Всесвятский видит усаживание царской семьи и погрузку багажа. Кажется, все идет тихо и беспрекословно. Антонин узнает князя Долгорукова, графиню Гендрикову, графа Татищева, доктора Боткина, фрейлину Демидову и некоторых слуг. Кажется, теперь все, только трогаться. Уже более пяти утра, но в последнюю минуту царица требует вместо двух слуг трех. Услужливый и боязливый Яковлев суетится. Успокаивает Александру Федоровну. Ищет место для третьего слуги. Идут перемещения в кошевах. Опять можно трогаться, но Алиса желает ехать вместе с Николаем, а ее усадили вместе с дочерью Марией. Наконец ее убеждают. Она умолкает. С Николаем остается Яковлев-Мячин. Окончательно расселись князья и графья.
Поезд трогается. Первыми идут экипажи с тремя пулеметами. Перед ними кавалерийская разведка. Красногвардейская кавалерия замыкает «обоз» с живым царем, увозимым среди бела дня.
Прощай, царь. Прощайте, несбывшиеся надежды, укравшие почти год жизни Всесвятского.
В губернаторском доме еще остается царевич Алексей и три дочери. Можно бы подумать и о них, да какая им цена. Кто и какой даст за них выкуп.
Нагонять поезд с арестованным царем, летящим на галопе, — нелепо. Правда, еще есть надежда, что в Покровском, на родине Распутина, можно вспенить народ и… Но кто будет там отвоевывать царя, когда он для них давно слывет за дурака, которого водил за нос, на которого кричал и топал мужик из их села Гришка.
V
Оставалось еще раз обмануть доверчивую Пашу и уехать из Тобольска.
— Облачко ты мое, я должен показаться в своей московской квартире и уплатить за нее. Теперь так все сложно. А через месяц, когда пойдут пароходы, я увезу тебя в белокаменную.
Родившейся здесь Пашеньке не хотелось покидать Тобольск. Тут все мило и близко. Здесь знакомы и незнакомые люди. Свой дом, своя живность и такой ненаглядный Иртыш. Каково-то будет ей там, в Москве? Однако же муж — это муж. Она, разумеется, не могла допустить, что никакой квартиры у Всесвятского в Москве нет и не было. И если бы ей кто-то сказал, что ее Тоня, бессовестнейший из прохвостов, никогда сюда не вернется и что его совершенно не трогает, кого ожидает она, готовясь стать матерью — мальчика или девочку, Пашенька не поверила бы. Не поверила бы, потому что в ее понятиях не мог уместиться обман, которому нет прощения. И она, ожидая своего Тоню и не дождавшись, будет думать, что случилось несчастье, произошло крушение, умер от оспы и что-то еще самое невероятное — только не измена. Да еще такая наглая.
На душе Пашеньки было светлее, чем на улице. Яркое солнышко сильно поторапливало снег. Как-то доберется до Тюмени ее Тонечка. Теперь не на санях, не на телеге. Только верхом.
С трудом, но добрался Всесвятский до железной дороги, а потом по железной дороге до Перми. В Перми Всесвятский встретил своего шефа по жандармскому управлению, воскресшего из мертвых Саженцева.
— Здравствуйте, Павел Иванович, — первым заговорил Всесвятский. — Так вы, значит, не утонули в ту ночь, когда я вас выбросил за борт парохода.
— Как видите, — любезно улыбаясь, сказал Саженцев, как будто они говорили не о поединке на палубе парохода, желая друг другу гибели, а о милой шутке.
Впрочем, они и не могли поступить по-иному. Они не могли взаимно предать друг друга. Им ничего не оставалось, как вступить в блок. И у них начались новые отношения. Павел Иванович Саженцев открыл Всесвятскому, что на свете оставалась единственная перспективная партия. Это партия эсеров. И объяснил почему.
И Всесвятский признался:
— Я нашел то, что так долго искал.
Через несколько дней Всесвятский уехал на связь с мильвенскими эсерами. И ему была названа фамилия главаря эсеровского заговора — Геннадия Павловича Вахтерова.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ГЛАВА
I
В Омутиху Тихомировы решили отправиться пешком. Столько лет прошло с тех пор, как Валерий Всеволодович шел через эти поля, покидая Мильву, а дорога все та же, если не считать, что местами поредел лес.
На полях уже выстроились ржаные суслоны. Жали и в воскресенье, Всеволоду Владимировичу хотелось убедиться своими глазами, как справляются с уборкой урожая учащиеся. И Валерию Всеволодовичу не терпелось увидеть учебно-опытное хозяйство. Так называлась теперь ферма братьев Непреловых.
За последним поворотом дороги появился самый младший из Тихомировых, Володя. Он заметно подрос и окреп после переезда в Мильву. Его с матерью Еленой Емельяновной доставил сюда все тот же Яков Евсеич Кумынин, на той же Буланихе, которую по старости лет никто не захотел купить. А куда деть такую заслуженную лошадь? Не на живодерню же. Ведь она и ходит, можно сказать, в бабушках. Вот и приходится додерживать ее до самой смерти и прикармливать в учебном хозяйстве, где она теперь и живет как бы на пенсии по инвалидности.
Учебно-опытным хозяйством заведовал старик агроном Михаил Иванович Шадрин, отслуживший свое в вятском земстве и вышедший сейчас в отставку. Практически же управлял хозяйством Непрелов, числясь старшим рабочим. В этот воскресный день на ферме было пусто, и агроном Шадрин с удовольствием показывал приезжим учебное хозяйство.
— Хотя нам и полугода не минуло, — начал он, — а мы уже можем похвалиться по всем статьям. — И старик принялся перечислять эти статьи.
Начиная с полей и севооборота, он переходил к животным, затем к птице, рыбе, показывал подготавливаемую к закладу сада землю, водил на пасеку, где колоды-чурки были заменены ульями. Показывал он также добытые им конные уборочные машины. Чувствовалось, что старый агроном счастлив, сколачивая учебное хозяйство, в котором он не забыл и рыбоводство. Он видел во всем этом проблески будущих больших хозяйств, которые, может быть, будут создаваться и его учениками-практикантами.
Сидора Петровича злили эти шадринские «прогляды в будущее». Он ненавидел эти хозяйства, рисуемые Шадриным. Ненавидел и его. И эту ненависть в глазах Непрелова заметил Валерий Всеволодович.
— Как вы думаете, возможно ли это?
— А откуда мне знать, — ответил он. — Я ведь не бахарь, а пахарь.
— А вы как думаете, Яков Евсеевич? — спросил Валерий Всеволодович своего давнего знакомого.
— Как я думаю, после скажу. Не утаю. Мне от вас, Валерий Всеволодович, прятать нечего.
Кумынину не хотелось говорить при Непрелове. Зачем доверять ему то, в чем сам не очень уверен. Выждав, когда не оказалось лишних ушей, Кумынин заговорил первым:
— Я, Валерий Всеволодович, думаю, что вы и ваша партия желают народу только хорошего. Я думаю, что в вашей партии хорошие и честные люди. По нашим мильвенским большевикам сужу. Они тоже не только желают, но бьются-колотятся, чтобы всем было лучше. А что получается?
— Что?
— Ничего не получается. Да и не может получиться.
— Почему же не может, Яков Евсеевич?
— Потому что слова даже не ветер и не вода, они даже малую мельницу работать не заставят, — сказал Кумынин, указывая на бездвижное колесо мельницы. — А недавно оно крутилось. А теперь — нет. Кому польза? Никому. Всем убыток. А на словах не только мельницы в Омутихе крутятся-вертятся, Каму перегораживают.
— Вы о чем. Яков Евсеевич?
— Агитатор приезжал, Валерий Всеволодович. Из немолодых. Голова с проседью, а заливает, как молоденький. Даже захлебывается от слов. Как соловей глаза закрывает, когда себя заслушивается. Говорил он, что придет то время, когда запрудят Каму и ниже перемычки поставят водяную электрическую станцию, на манер мельницы, только в тысячу раз больше. И эта станция начнет давать столько дешевого току, что не только в каждой избе лампочки гореть будут, но и руду добывать, землю копать, сталь варить этого току достанет… И еще что-то плел…
— Плел?
— Плел, Валерий Всеволодович. Его Заливайлом Вралевичем прямо в глаза назвали. У него даже язык запал, когда спросили, а где столько проволоки взять, чтобы ко всякой избе провод подвести. Молчит. Тогда его вторым вопросом Макар Сумцов из заводского обоза оглоушил. Найдется ли, говорит, во всем свете столько лошадей да столько телег, чтобы на плотину землю навозить, Каму перегородить. «В своем ты, старик?» — спросил он его и плюнул в его сторону ото всего чистого своего сердца. Не мути народ. Не считай за дураков умных людей. В заводе вторая электрическая машина остановилась. В школах свет отключили. Керосину нет. В деревнях лучину вспомнили, а он про Каму врет, каждому дому лампочку сулит. По очкам бы его, Валерий Всеволодович, мазануть, окаянного, да в шею… Чтобы знал, чтобы не провокаторствовал…
— Вот что, Яков Евсеевич, — неожиданно оборвал его Валерий Всеволодович, — ты, вместо него, и мазани меня по очкам…
— А вас-то зачем, Валерий Всеволодович?
— Чтобы знал, чтобы помнил, как желать дать каждому дому электрический свет…
— Неужели и вы верите, что можно перегородить Каму?
— Да чего там Каму… И Волгу… И Обь… И Лену… Сто, двести рек… Чтобы не только было светло всем, но и легко работалось.
Яков Евсеевич не верил своим ушам, слушая взволнованного Валерия Всеволодовича. Он всматривался в его лицо, вслушивался в его речь — не шутит ли? Он ведь такой. Нет, не шутит. Тогда Кумынин решил еще проверить.
— Неужели там, наверху, у вас еще кто-то так же думает?
— Очень многие, если не все.
— И… и Ленин тоже?
— Не тоже, а в первую очередь и главным образом.
Кумынин, побледнев еще более, твердо сказал:
— Тогда плохи ваши дела, Валерий Всеволодович… Плохи до невозможности…
II
В тот день на мельнице у Валерия Всеволодовича произошла размолвка не с одним только Кумыниным. Старик Тихомиров, так долго ждавший сына, не вступал с ним в полемику. Он не хотел омрачать без того считанные дни, которые они проведут вместе. Всеволод Владимирович, желая отдыха сыну, придумывал грибные походы, охоту на уток, поездки с ночевкой на рыбные речушки… И сюда, в Омутиху, они приехали с этой же целью — отвлечься. Поэтому выбирались самые глухие места. Однако и здесь почти каждый раз обстоятельства складывались так, что Валерий Всеволодович не мог предпочесть щук или уток и, сославшись на предписанный режим отдыха, не мог сказать — я не ловлю рыбу, а лечусь, когда обращались к нему с вопросом.
В камышах омутихинского пруда по-прежнему селилось много уток. Уток, которых Герасим Петрович Непрелов считал своими, потому что они выведены на его пруду. Там-то и бродили в высоких сапогах отец и сын Тихомировы. Отец, ссылаясь на глаза, подставлял добычу Валерию. И сын, якобы не замечая этого, бил одну за другой тяжелых, отъевшихся уток. Когда он готовился подстрелить последнюю, двенадцатую, из камышей вышел охотник с берданкой. Судя по внешности, это был мильвенский рабочий. Вспугнутая утка шумно взлетела.
— Ничего, товарищ Тихомиров. Найдется другая. А я к вам, — сказал появившийся.
— Ко мне? Пожалуйста! С кем имею честь…
— Это не важно. Я не по личному вопросу, хотя и лично к вам.
При этих словах отцу ничего не оставалось, как уйти.
— Валерий, я буду ждать тебя на берегу у той сосны… Только, пожалуйста, не задерживайте долго сына. Ему предписан отдых, — попросил он незнакомого человека.
— Это уж как придется, — не очень любезно ответил он. — Разговор пойдет о заводе… Прошу! Здесь суше и есть где сесть.
Разговор начался сразу же.
— Я беспартийный. Сочувствовал меньшевикам, а теперь никому не сочувствую. Хотел говорить с Кулеминым. Раздумал. Вы ближе к главной власти. Дело в том, что завод наш висит на ниточке. Суда никому не нужны, как и котлы, как и машины. То есть, может, и нужны, но платить некому. Один за другим останавливаются заводы. Наш завод в долгу, как в шелку. Второй месяц не платят жалованья. Управляющий Турчаковский и совет завода хотя и не столь отчетливо, но достаточно понятно говорят, что они не виновны во всем этом, и тем более не виновны рабочие, которые дорожат своим заводом. И дорожили им еще в старые времена, когда старый мастер Матвей Зашеин позвал добровольно снизить плату за труд и наши отцы снизили ее. Теперь снижать нечего. Потому что нет платы. Не станет и железа. Если не будет железа, то вы сами понимаете, что не станет того, из чего делает завод суда, котлы и все прочее. Значит, завод станет, хотя его как будто и никто не останавливал. И как будто нет никого виноватых. Только так не бывает. Марксизм учит во всем искать и находить причину. И я опасаюсь, что найдет народ причину, а найдя, свернет ей шею. Я желаю здравствовать вам и вашим товарищам. Прошу извинить за нарушение охоты…
Проговорив свою речь, которая, как показалась Тихомирову, была заучена, неизвестный скрылся в камышах. На разводье опять появилась серая тяжелая утка, может быть та, что была вспугнута. Она, словно просясь в ягдташ, подплыла еще ближе. Валерий Всеволодович направился на берег, где его ждал отец. Отцу был пересказан разговор с неизвестным охотником. Всеволод Владимирович на этот раз не сдержался.
— Валерий, мне очень трудно делиться с тобой своими мыслями. Но, видимо, я должен. Я обязан. Революция, друг мой, это не переворот, свершающийся за одну ночь. Это лишь начало. Революция — это нарастающий, прибывающий поток, состоящий из множества взаимосвязанных перемен. Всюду. В техническом оборудовании заводов. В убыстрении добычи руд, углей, нефти. В совершенствовании нравственности. В укреплении взаимного уважения. В потребности знаний. Внутренних потребностей. Потребностей необоримых. В любви к труду. К труду не порабощающему, не даже как добросовестно осознанной необходимости, а созидающему труду, труду-наслаждению. Извини за личный пример. Таким трудом был и остался для меня труд по созданию политехнического училища, для Шадрина — организация опытного хозяйства… Для этого нужны десятилетия, а не месяцы. Валерий, я с большим вниманием читал все написанное Владимиром Ильичом. И то, что ты мне посылал, и то, что мне удавалось доставать. Это великий человек. Это гений… И тем не менее…
— Тем не менее, папа, — помог Валерий Всеволодович отцу продолжить его мысли, — этот гений заблуждается? Да, папа, да?
— Кто тебя отучил выслушивать собеседника?
— Я хотел помочь тебе досказать слышанное мною не однажды.
— Ленин не заблуждается, он спешит. Он так отчетливо видит, каким будет мир через… Во всяком случае, не менее, чем через два-три столетия… Я говорю, видит настолько исчерпывающе до подробностей, что не только верит сам, но и гипнотически заставляет верить других, будто это все начинается сегодня…
— Не начинается, папа, а уже началось. Да и как же не началось, когда забитый начальством земский агроном Шадрин, мечтавший о пенсии, о покое, создает хозяйство нового типа, пусть карликовое, смешноватое, но принципиально социалистическое хозяйство. За что же так ненавидит его Непрелов?
— За землю, которую ему пришлось отдать.
— Нет, папа. Он отдал ее не Шадрину, а государству. Шадрина он ненавидит за идею нового земледельческого хозяйства. За идею, проповедуемую им, Шадриным. И эта идея, становясь известной другим, организует их. А выгодно ли это Сидору Петровичу…
— Ты ушел и увел меня куда-то в сторону, Валерий…
— Да нет, папа, мы идем в том же русле того же нарастающего потока взаимосвязанных мириад перемен и сейчас задержались на одной из них.
Решивший не спорить с сыном Всеволод Владимирович стал снова отстаивать свое.
— Разве я, Валерий, не разделяю конечных целей вашей партии? Разве я говорю, что социализм, а потом коммунизм не самые совершенные общественные формации? Но как можно говорить о них теперь, когда неграмотность чуть ли не в крови народа, когда техническое невежество оказывается чуть ли не доблестью мастерового человека, когда в школах нет тетрадей и газеты выходят на оберточной бумаге. Валерий, я с горечью говорю об этом… И мне больно видеть тебя в партии одержимых благородными иллюзиями…
Слушая отца, Валерий Всеволодович не хотел думать о Якове Кумынине, а мысли о нем и сравнения с ним оскорбительно лезли в голову.
III
Все явления и обстоятельства жизни, будто сговорясь или управляясь какой-то сильной и недоброй рукой, складывались так, чтобы противоречить, а иногда и полностью опровергать то, что провозглашали, за что боролись, на чем настаивали и чего хотели большевики.
Говорилось:
— Мы навсегда покончим с проклятым наследием капитализма — безработицей…
А оказывалось, что ежедневно кто-то уходил с завода или потому, что ему надоело работать, не получая заработную плату, а лишь надеясь на нее… Или потому, что в цехе нечего было и не из чего делать.
На митингах и собраниях утверждалось, что рабочие и крестьяне, работая теперь на самих себя, а не на капиталистов и помещиков, будут лучше вознаграждаться за свой труд, больше получать материальных благ от общества.
На самом же деле все было наоборот. И ораторы достигали обратных целей. Они восстанавливали против себя и тех, кто всем сердцем хотел быть за них.
Агитаторы ратовали за просвещение.
Из-за нехватки учителей пустовали школы.
В песнях пелось одно, в жизни свершалось совершенно другое.
В газете «Мильвенский рабочий» писалось о раскрепощении революцией трудящихся и особенно женщин. Трудящиеся и особенно женщины неопровержимо доказывали, что жизнь стала труднее, что женщине приходится работать больше.
Это все видел и слышал приехавший из Москвы Валерий Всеволодович. Пытаясь противостоять слышанному, он всячески старался найти слова и объяснить, что провозглашаемое и утверждаемое большевиками не всегда можно осуществить тотчас же. Многое требует времени, усилий народа. Он терпеливо доказывал, что не кто-то, а война — мать нужды и нехваток, что и теперь находятся люди внутри страны, которые мешают Республике Советов бороться с трудностями и строить новую жизнь.
На это говорилось:
— Может, оно и так, только нам не в год, а в рот.
— Керенский тоже журавлей-лебедей в небесах сулил, да воробья в руки не дал.
Было ясно, что сегодняшние невзгоды закрывают завтрашнее благополучие. Ближние неполадки заволакивали все горизонты. Валерий Всеволодович понимал бесполезность спора, разъяснений, когда человек никого не слышит и не хочет слышать, кроме себя. Настроение этих людей могло бы тотчас же измениться, появись в продаже дешевая мука, сахар, мясо, ситец, сапоги… И они могли бы появиться на рынке. Их есть на что купить Советской Республике в буржуазных странах, да на замке граница. Запрещена торговля с большевиками. Капиталистические государства используют все, чтобы уронить престиж Советского правительства внутри страны. И они достигают этого. Колеблются и те, кто был бесконечно предан.
Тяжелое впечатление на Валерия Тихомирова произвел разговор с Маврикием Толлиным. Он сначала удивил, а потом огорчил его своими суждениями.
Был жаркий день. Тянуло на пруд. Валерий Всеволодович встретился с Мавриком на берегу Песчаной улицы, где у мальчишек за спички, за махорку, за школьную тетрадку, наконец, всегда можно взять напрокат долбленку с нашитыми дощатыми бортами.
Валерий Всеволодович предложил босоногому эксплуататору лодки богатый набор рыболовных крючков, и тот с радостью вытолкнул свое суденышко на воду.
Мильвенским прудом невозможно не восхищаться. Он каждый раз иной. В осеннюю непогодь пруд грозен и коварен. Залить и перевернуть обычную мильвенскую ладью не составит труда для крутых лающих волн. Весной он жалок, грязен и синь от задержавшегося льда. И когда повсюду на берегах сходит снег и лес оглашается щебетом возвратившихся птиц, лед плавает громадными синими пластинами, обдавая холодом залитое золотом света пространство.
Ну, а в тихие вечера начала лета пруд иногда бывает так идеально зеркален и тих, что по воде слышится, как разговаривает гармоника за три, а то и больше версты.
Бесподобен мильвенский пруд перед восходом солнца, когда крадучись скользят по нему смоленые «душегубки», бесшумно движимые веслом рыбака, когда без всплеска опускается камень или кованый якорек на длинной бечевке и начинается священнодействие ужения. Красные от зари воды постепенно розовеют, потом голубеют и становятся золотистыми, как сталь в мартеновской печи, если день солнечен и тих.
Солнечен и тих пруд в этот жаркий полдень. Маврикий старается не булькнуть, не брызнуть, легко и изящно взмахивая веслами, прикрепленными к бортам лодки «ухватиками» распространенных в Мильве уключин. В гребле тоже есть особый, мильвенский шик, как и в плавании «по саженке». Нужно плыть легко, долго и далеко, не уставая. Для этого не обязательно быть очень сильным. Может устать и силач, если он не постиг сноровки экономности движений.
Внимательно разглядывает Валерий Всеволодович своего юного друга. Что-то новое появилось в нем. Еще не так давно он был виден насквозь. Теперь почему-то сторонится или что-то скрывает. Куда делась его главная черта-любознательность. Он задавал сотни вопросов. А теперь ему будто известно все, и он почти ни о чем не спрашивает.
IV
— Ну, вот, — прервал молчание Валерий Всеволодович, — мы, кажется, достигли экватора. Здесь, я думаю, можно бросить весла и поговорить, не боясь, что нас подслушают рыбы. Мы очень давно не разговаривали с тобой, Маврентус-Мавренти… Почти год.
— Да. Год. Последний раз мы разговаривали в том июле.
— И на чем мы тогда остановились, Маврини де Толлини?
— Мы тогда, возвращаясь из Разлива, остановились на том, что власть должна быть отнята у буржуазии, свергнута ее диктатура, после чего начнется подлинная свобода.
— Твоя память, Маврицио, поражает меня.
— Она мне часто мешает жить, Валерий Всеволодович. Я слишком много запоминаю. И то, что лучше всего забыть.
— Что же?
— Сегодня такой хороший день, Валерий Всеволодович, а у вас все еще такой усталый вид… Давайте лучше скатаем на мыс к Каменным Сотам. Там, говорят, нынче много лисьих нор…
— Что бы тебе хотелось забыть, Маврик? — спросил Валерий Всеволодович так, что невозможно было не ответить ему.
— Некоторые обещания.
— Какие?
— Например, обещание созвать Учредительное собрание, о котором больше не говорит никто. Ни вы, ни дядя Иван… Ни, конечно, Артемий Гаврилович.
Повернувшийся так разговор растревожил Валерия Всеволодовича. И он спросил:
— А для какого черта тебе Учредительное собрание?
— Не мне, а — всем.
— Ну, хорошо — всем. Зачем оно всем?
— Предполагалось, что Учредительное собрание установит, какой должна быть власть…
— А какой она должна быть?
— Равноправной, Валерий Всеволодович. И хотя бы справедливой. И конечно уж не жестокой.
— К кому?
— Ко всем. К доктору Комарову, которого я не уважаю. У него отняли половину квартиры. Зачем у Шульгина, которого я не просто не уважаю, а ненавижу… Зачем у него без копейки денег отобрали дом?
— Он занимал бездну комнат. Вдвоем. Дом нужен был под клуб молодежи.
— Это правильно, но беззаконно. Нет же утвержденного народом закона, кому и в скольких комнатах жить. Не было закона и о рабочих покосах. Я очень внимательно читал декрет.
— Ты прав, это ужасная история, подброшенная врагами.
— Но разве дело только в покосах? Зачем нужно было громить магазины Чуракова и Куропаткина? Это тоже ужасная история, которую подбросили враги? Тогда почему же не найдены и не осуждены враги? Это же грабеж. По какому праву грабители ходят безнаказанно по улицам?
— Маврик, чьи слова повторяешь ты?
— Я не могу сказать, какие и чьи слова повторяю. Наверно, многих. Я теперь как губка. Как вата. Не хочу, а впитываю все. Впитываю и не могу отжать из себя впитанное. Хочу и ношу в себе эту тяжесть.
— Тяжесть?
— Не легкостью же мне называть такую жизнь, Валерий Всеволодович? Все ломается, и ничего не создается. Ничего, кроме воздушных замков, да и те в будущем. Как рай. А пока: борись, страдай, нуждайся, да еще защищай с винтовкой в руках свою нужду и страдания.
Сомнений далее не оставалось. Толлин находился под чьим-то сильным и злым влиянием. И наверно, не один Толлин. Валерий Всеволодович нашел, что нужно дать выговориться Маврикию и проверить свои догадки. А догадки были. И он взял тон спокойного собеседника, будто речь шла не о самом сокровенном и первородном, а о чем-то спорном, подлежащем проверке и уточнению.
— Продвигаться в нехоженое и прокладывать, продвигаясь, дорогу, конечно, труднее, чем шагать по проторенному большаку. Поэтому неизбежны издержки в пути, просчеты и даже ошибки… Но никто не может сказать, что коммунисты не хотят счастья трудящимся. Не так ли, Мавреций-Мудреций?
— Так, безусловно так. И я готов ручаться за это головой. Но ведь Роберт Оуэн и другие утописты тоже хотели счастья людям. А что получилось? Не меньшая катастрофа, чем теперь. И могло ли что-то получиться, когда оуэнские утопии вздумали претворять в жизнь?
Валерий Всеволодович протер свое пенсне и посмотрел на Маврикия.
— Откуда тебе известен Оуэн?
— Я, если считать по старому счету, перешел в шестой класс гимназии. У нас хороший учитель истории. Он преподает нам кое-что и сверх программы.
— Это мило с его стороны. Но как у него поворачивается язык, как хватает дерзости сравнивать великого Ленина с Оуэном?! — не удержавшись, вспылил Валерий Всеволодович, и снова закачалась лодка.
— Он и не сравнивает, Валерий Всеволодович. Он говорит, что Оуэн всего лишь одаренный фантазер, а Ленин гений, владеющий умами. Поэтому все гораздо сложнее и трагичнее.
— Вот как? Он бывает у моего отца?
— Да, конечно. И Всеволод Владимирович заходит к нему. Геннадий Павлович женился на Галине Тюриной. На Галине Ивановне, которая была влюблена в вас, Валерий Всеволодович.
— Ты очень прямолинеен.
— За это меня всегда любила и любит Елена Емельяновна. И я, кажется, никогда не разочарую ее.
— Значит, тебе нравится твой учитель истории?
— Геннадий Павлович Вахтеров — удивительный человек.
— Чем же?
— Даже не знаю. Но если бы вы, Валерий Всеволодович, познакомились с ним, он бы очень и очень понравился вам.
— Чем же? — повторил Тихомиров.
— Он так любит людей. Он хочет счастья всем людям. Всем, всем. Не какому-то определенному слою или классу, но и даже разной-всякой… мелкой буржуазии.
— Кому, кому? — спросил Валерий Всеволодович, сделав резкое движение, отчего снова сильно качнулась лодка.
Маврикий, довольный собой, не без юмора сказал:
— Мне. Я же мелкая буржуазия. Мещанин. Сын служащей.
— И каким же способом можно добиться всеобщего счастья? — спросил Валерий Всеволодович.
— Я не знаю, как в точности, Валерий Всеволодович. Но, наверно, прежде всего нужна свобода для всех.
— И для царя и его прислужников?
— Может быть, — немного подумав, ответил Маврикий. — Разве кому-то страшен бывший царь на свободе? Он же не лев и не крокодил. Скажите, чем страшен прислужник царя пристав Вишневецкий, если он больше не пристав? А чем страшен фабрикант, если он больше не фабрикант? Как он может порабощать, недоплачивать, жить за счет пота, если на него никто не хочет потеть. Я не прав?
— Говори, говори… Я слушаю.
— Нам, Валерий Всеволодович, нужно государство без насилия, без принуждения, преследований… Государство, оберегающее свободу каждого и наказывающее человека только в одном случае: если он посягает на свободу другого человека.
— Так думает Вахтеров?
— Не только он, но и Виктор Гоголев. Он учится на класс старше меня. Так же думает и его отец, Петр Алексеевич Гоголев. Он инженер. У него очень красивые глаза, как у Ивана Крестителя. Как у вас.
— Спасибо, мой друг. Я не знал об этом сходстве. Ну, и как же построить такое не утопическое государство, при котором смирившиеся капиталисты и помещики отказываются порабощать, превращаясь в воркующих голубков, а господа Вишневецкие, Турчаковские, Шишигины, раскаявшись в своей прошлой деятельности, становятся к станку, или начинают обрабатывать землю, или ловить рыбу? Так, что ли, Маврикий?
— Я не знаю.
— А какую партию предпочитает всем другим ваш учитель истории Вахтеров?
Маврикий ответил без запинки:
— Самую большую — беспартийную партию.
— А такая может быть?
— Она есть. Это народ.
— Ах, мальчик, милый мой мальчик… Как же случилось так, что тебя увели и обманули? Отравили.
— Да что вы, Валерий Всеволодович… Это невозможно. Я не из тех, кого можно провести. Я никогда не шел и не пойду против своей совести… Я всегда буду верен правде…
— Дорогой мой, совесть и правда тоже не бесклассовы, не беспартийны. Ты поймешь это когда-нибудь. Непременно поймешь. Поймешь потому, что все чистое, все здоровое, мыслящее, ищущее, несмотря ни на какие отклонения, колебания, неизбежно приходит к коммунистам, под ленинское знамя.
V
Начавшийся в лодке разговор не был закончен. Потому что разволновавшийся Валерий Всеволодович почувствовал себя плохо, и пришлось вернуться, не побывав на мысу в Каменных Сотах.
Отлежавшись, он на другой же день отправился к Тюриным. В этом доме Валерий Всеволодович бывал во время ссылки под гласный надзор и до нее, приезжая к отцу на каникулы. Сохраняя добрые чувства к дому «Золотой милостыньки», Валерий Всеволодович не мог не побывать там, и, придя туда, он сразу же оказался в атмосфере приветливой вежливости.
Внешне все было как прежде, а кто знает, что внутри?
В доме не чувствовалось, что за его стенами ограничивают себя в куске хлеба. Здесь как всегда. И даже знакомые исчезнувшие вина в знакомых бутылках. Видимо, наследницы «Золотой милостыньки», а теперь еще и двое мужчин, пришедших в этот дом, умело распоряжаются золотыми запасами. А то, что они были и есть, в этом невозможно усомниться, как, впрочем, и невозможно доказать.
На Валерия Всеволодовича очень хорошее впечатление произвел муж Надежды Мирослав Томашек. Мягкий, любезный, в чем-то женственный, он никак не походил на главаря, который должен был поднять пленных чехов и словаков против Советской власти. Он так нежно касался клавишей рояля, заставляя его шелестеть лесом, журчать веселым ручейком и славить солнце, что его можно было скорее заподозрить в инфантильности, но не в воинственности.
Не таким, как предполагал Валерий Всеволодович, выглядел и Вахтеров. Он как будто пришел в этот дом из какого-то тургеневского романа и составил здесь тихое счастье Галины Тюриной и отчасти — свое.
Разговорившись с Вахтеровым, Валерий Всеволодович увидел в нем недалекого идеалиста, слегка тронутого искателя общечеловеческой правды и уж во всяком случае не обнаружил и не заподозрил в нем матерого врага, каким он ему казался до знакомства.
— Зачем же вы все-таки, Геннадий Павлович, преподавая историю, может быть и не желая того, ведете подрывную работу в головах учащихся? — спросил без обиняков Валерий Всеволодович.
— Разве уже нельзя размышлять? — кротко спросил Вахтеров.
— Ну, что вы, право, Геннадий Павлович… Размышляйте, сделайте одолжение, но не во вред себе и другим.
— Почему же «себе»? Разве мне что-то может угрожать?..
— Ну, опять вы, право, берете крайности… Разве я говорю об угрозах? Но согласитесь, Геннадий Павлович, не всем может понравиться, когда вы науку о развитии общества, учение о коммунизме, приравниваете к оуэновским утопиям… Может кого-то и не устроить ваша проповедь о беспартийной партии. Это похоже на лозунг: «Да здравствует Советская власть без большевиков!»
— Вы правы, Валерий Всеволодович… Я нередко говорю обо всем, что приходит в голову. Учитель должен быть строже к себе… И требовательнее к выбору тем и направлений в разговорах с учениками. Спасибо, я учту.
Вахтеров покорно, как школьник, наклонил голову, показывая этим, что он человек, не лишенный юмора, раскаивается в грехах, которым он не придает никакого значения, и что он вообще далек от политики так же, как и Томашек. Как бы подтверждая сказанное, Вахтеров предложил концерт с коньяком и портвейном. Томашек, не дожидаясь согласия, стал играть наизусть «Аппассионату», будто зная, что она дорога для Тихомирова. Могучая, зовущая, протестующая, провозглашающая борьбу бетховенская музыка наполнила двусветную гостиную. Галина Ивановна принесла на подносе вино и десерт, будто понимая, что звукам тесно в гостиной, открыла окна, и аккорды устремились в парк, чтобы звучать вместе с шелестом листвы и порывами ветра.
Томашек, выборочно сыграв из «Аппассионаты» то, что наиболее нравится большинству, провозгласил тост за благополучие пьющих и непьющих, перешел на романсы. Пели по очереди. Пел и Валерий Всеволодович:
Горные вершины Спят во тьме ночной, Тихие долины Полны свежей мглой.Приятный вечер. Милые разговоры. В конце вечера за мужем зашла Елена Емельяновна с сестрой Варварой и Маврикием. И опять задушевная болтовня. И никто, глядя со стороны, не сказал бы, что все это происходит в логове злейших врагов, готовящихся к нападению.
VI
Дом Тюриных стал их штаб-квартирой. Окончательно сформировался и сам штаб, это: Вахтеров, Томашек, Игнатий Краснобаев, провизор Мерцаев, Алякринский и Антонин Всесвятский.
Эта компания, собиравшаяся за карточным столом, объединялась якобы увлечением преферансом. Там же бывал и Герасим Петрович. Этому единомышленнику не доверялись все же самые сокровенные тайны. После учреждения ЧК приходило в голову всякое. Появлявшийся изредка в доме Тюриных Шульгин тоже не пользовался абсолютным доверием. Черт их знает.
Ядро заговорщиков получило название ШОР, что значит в расшифровке штаб освобождения России. Штаб отказался от мелких гадостей: слухов в очередях, провокаций в цехах, анонимных угроз и всего, что называлось на языке штаба «сеять чирьи».
Главарь штаба Вахтеров сказал со всей определенностью:
— Чирьи теперь вскакивают сами по себе, без нашего вмешательства. Мы должны заниматься двумя главными нарывами. Первый из них — это остановка завода и второй — это покосы и дома. Мы должны держать население в неослабеваемой боязни, что покосы в конце концов отберут, как и дома, как и огороды. И если подтвердится из всего этого только одно — остановка завода, тогда достаточно спички и…
Вахтеров не договорил. Он любил, не договаривая, останавливаться на «и…». Не договаривал он потому, что не знал и сам, во что может вылиться и как повернуться их подрывная работа.
Поделиться планами, которые он вынашивал. Вахтеров не хотел, боясь уронить себя в глазах заговорщиков, если течение жизни внесет существенные коррективы, и тогда ему не удастся выглядеть прозорливцем, хитрым организатором. Каждый из штаба, кроме разве провизора Мерцаева, хотел бы оказаться удачливым Керенским мильвенского масштаба. Да и Мерцаев тоже был не прочь стать городским головой или мэром города — смотря по тому, каков будет образ правления после нового переворота. Мечтая о первом месте, заговорщики все же понимали, что Вахтеров, и только штабс-капитан Вахтеров, личный знакомый бесстрашного кумира эсеров Савинкова, может руководить восстанием и стать военным диктатором. От Вахтерова тянутся нити связей в могущественные центры. Так он не говорит, а лишь намекает, но все равно ясно, что на первое время его нужно подымать, а потом… А потом ему можно свернуть шею.
Штаб действовал через третьих лиц.
Игнатий Краснобаев, бывая у брата Африкана на правах раскаявшегося меньшевика, а ныне якобы сочувствующего большевикам, сокрушался, что крестьяне мстят мильвенцам поджогами за покосы. А поджогами занимался тот же вахтеровский штаб. Находились «верные» люди из Союза фронтовиков, которые за два штофа водки поджигали рабочий дом. А на другой или на третий день после пожара погорельцу приходило письмо с отпечатками красного петуха, машущего крыльями, с горящей спичкой в клюве. И подпись: «Покосы — крестьянам!» Листовка читалась всей улицей. Устанавливались ночные дежурства. Боязнь быть сожженным, лишиться крова пугала каждого. А дома поджигались и при охране, потому что и в голову не приходило, что поджигатели жили на тех же улицах, где возникали пожары.
Поиски преступников и авторов подметных писем с красным петухом не только не давали никаких результатов, но и озлобляли ни в чем не повинных крестьян из ближайших деревень. Мало того, что им не отдали покосы, так еще хотят оклеветать их, обвиняя в поджогах.
Всесвятский знал Мильву и мильвенцев лучше Вахтерова. Ему не нужно было слишком долго уговаривать гробовщика Судьбина, чтобы тот отправился в деревню сеять смуту под видом смиренного добытчика харчей, отдающего последние исподники в обмен на масло, яйца.
И Судьбин действовал:
— Зря на Советскую власть ропщут. Правильная это власть. Наша. Только она другой раз в неправильные руки попадает.
Судьбин не называл эти «неправильные руки». Он не раскрывал, кто именно плохие люди, которые «обезживотили народ». И если кто-то придирался, припирал его, он живехонько вывертывался и уклончиво говорил — мало ли от старого режима, от черного прижима всяких перекрашенных в Советы проникло. И точка.
Не нужна Судьбину Советская власть. Из его рук уходит дело. У него остался только один работник. Да и тот старик.
Всесвятскому совсем не трудно было командировать даровым агентом Шитикова — Саламандру. Всесвятский заставил его ночью поджигать дома, где живут коммунисты, а днем заниматься товарообменом в деревне.
Провокатор со стажем. Шитиков тоже находил, что мильвенский Совдеп несколько засорен. Он же пускал сочувственную слезу о непаханой земле, тоскующей в покосных девках. Ему тоже не нужна была Советская власть. Скрывая это от всех и, кажется, от самого себя, Шитиков обожал царя. Только он, «господом данный царь-государь», мог править народом. Один из немногих идейно преданный своему делу сыска, провокатор Саламандра надеялся на скорое восшествие на престол «царя-усмирителя». Именно такими словами нарекут его верные древнему русскому престолу люди. Шитиков боролся, не щадя себя. Он за день успевал поговорить с добрым десятком крестьян.
Не нужна была Советская власть и Непрелову. Она его, хозяина, державшего работников, заставила служить на его же ферме, где он должен воровать принадлежавшее ему. Этот агитатор не искал обходных путей. На его знамени значилось два слова: Я и МОЕ.
И это «МОЕ» и это «Я» были понятными и близкими многим, даже бедным мужикам, не способным еще поверить, что слово «НАШЕ» и слово «МЫ» сильнее множества слов, кажущихся непоколебимыми. И кое у кого из них были запрятаны про запас винтовки, пистолеты, гранаты, клинки.
Кто знает, как пойдет жизнь дальше. Винтовка пить-есть не просит, лежит себе в стогу. А если найдут, тоже потеря не велика, и никаких опасностей. Откуда знать мужику, кто в его стог спрятал оружие?
Агенты ШОР, слоняясь по деревням в поисках масла, яиц, муки, где прямо, где намеками утверждали, что виной всему большевики, что Советская власть сама по себе хорошая власть, и она была бы настоящей властью, если изгнать из нее большевиков.
Говорилось это все осторожно, без нажима. Никого никуда не вовлекали, не звали, ничего не предлагали. Сам думай, сам решай. Слова эти жалили мужиков в самые больные места, и яд давал себя знать. Отравленный один заражал второго, третьего…
Всесвятский подстрекал деревни через своих агентов на мирную демонстрацию к мильвенскому Совдепу. Многочисленная демонстрация должна спокойно просить вернуться к вопросу о покосах.
Агенты всячески уверяли, что все обойдется хорошо, и предрешенный вопрос будет решен окончательно. Только надо знать, когда выступить.
VII
Рабочим теперь было не до покосов. Сено скошено и свожено. А через год видно будет. Тем же, у кого не было своих коров, не было дела до покосов. Надвигалось более важное и страшное.
Третий месяц рабочие не получали денег. Их не было и не предвиделось в кассе завода, потому что не было и не предвиделось заказов и сбыта.
В цехах все громче и смелее развязывались языки. Во всем обвинялись большевики. И когда остановились еще два цеха — листопрокатный и мартеновский, стало невозможным доказывать, что виной этому является общая разруха, порожденная саботажем, разрушительными действиями тех, в чьих руках еще недавно была промышленность.
Снова убавилась, несмотря на большой прирост, мильвенская партийная организация. За последние недели вступило восемьдесят два человека, а ушло на фронт девяносто четыре. Угрозу ждали извне — за пределами Мильвы, где поднялись против Советской власти чехословацкие воинские части, где-то там возникали различные директории, филиалы Временного правительства… И туда отдавала Мильва верных своих сынов, не предполагая, что опасность зреет внутри.
Мильвенцу, еще не способному видеть дальше своего завода, не объяснишь, что на свете нет завода, работающего независимо от других предприятий, что не одна Мильва переживает тяжелые дни, а вся страна борется с надвигающейся разрухой. И не нападки на большевиков, а организованная борьба во главе с большевиками может облегчить участь завода.
Так говорили на митинге Кулемин, Киршбаум, Матушкин. Но их призывы не достигали цели. Потому что коварные обстоятельства опрокидывали и то, чему нельзя было не верить.
Притаившемуся штабу мятежников пришло время действовать открыто. Вахтеров и его штаб готовились покинуть берлогу. Началось стремительное объединение связей с контрреволюционными группками, каких было в Мильве немало и какие были на учете штаба. Некоторые из этих разрозненных группок тоже мнили себя различными штабами, центрами и вершителями истории России. Неулегшееся брожение, начатое Керенским, не могло не породить множества местных наполеонов, Корниловых, Савинковых и прочих микроглавковерхов, ультравеликих вождей одного села и бессмертных полководцев армий численностью в сто сабель. И все это отлично понимал Геннадий Павлович Вахтеров, потому что и он был таким же искателем, как и они. Штабс-капитан Вахтеров видел себя сначала главарем мильвенского восстания, затем восстаний окрест лежащих заводов и, наконец, верховным правителем Урала и Приуралья — земель, простиравшихся за Тюмень по ту сторону хребта и до Вятки и Казани — по эту. И когда эти пространства будут ему подчинены, он, сформировав армию, двинется на Москву и Питер. Освободив древнюю и новую столицы, Геннадий Павлович не исключает стать на первое время регентом Империи Свободы. Или… Свободной Империи… Он еще не знает, как лучше назвать страну после истребления большевизма, может быть, Северо-Европейские Штаты. Сокращенно СЕШ. Об этом еще будет время подумать, а сейчас необходимо расположить к себе, а затем привести к покорности всех размечтавшихся главарей маленьких мятежных групп. И это делает верная Всесвятскому агентура, насчитывающая теперь до двадцати «рыцарей темноты». Они не знают, что эти звучные слова взяты из старого обихода жандармских управлений, которые подыскивали своим ищейкам романтические названия.
Всесвятский многому научился в царской внутренней разведке, где служили не одни простофили и болваны, подобные следователю Саженцеву, но и одаренные люди, такие же хитрейшие деятели, как и Турчанино-Турчаковский в царской промышленности. И не мудрено, что в течение полутора суток мятежной мелкоте стало известно о прибытии в Мильву одного из учредителей верховного штаба «Свободной России».
Так было сказано гробовщиком Судьбиным бывшему мильвенскому приставу Вишневецкому. Укрывшийся от глаз, он ударился в старательство и охотничий промысел, образовал из подобных себе артель «Тайга». Ростислав Робертович Вишневецкий тоже носил в себе тайные надежды стать хотя бы начальником губернии. И его артель тоже была вооруженным отрядом готовых примкнуть, если будет к кому примыкать.
Вишневецкий не стал спрашивать имени прибывшего. Он лишь осведомился:
— Когда?
И Судьбин ответил:
— Скоро. Держите связного в Мильве.
Они договорились о месте встречи со связным. Так один никем и ни в чем не подозреваемый гробовщик сумел повидать и воодушевить тех, кто готов был разоружиться и оставить борьбу с Советами.
Было бы несправедливым с нашей стороны забыть печально известную урядничиху Манефу Мокеевну. Она, потерпев последнюю катастрофу в незабываемую Октябрьскую ночь возле Зимнего дворца, не может простить позора капитуляции женского батальона. Она свято хранит солдатское обмундирование, надеясь, что час пробьет и снова польется песня «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать…». И этот час близился.
Шипящей гадюкой ползала Манефа по мильвенским улицам. Ее неутомимость восхищала штаб. На такую он мог положиться.
Был и в политехническом училище тайный кружок заговорщиков, именовавший себя ОВС — отчизны верные сыны. Его создали Игорь Мерцаев и Юрий Вишневецкий, поклявшиеся на крови быть верными друзьями, готовыми на смерть во имя жизни другого. На эти слова следует обратить особое внимание и припомнить их через несколько месяцев, когда один убьет другого, чтобы спасти свою шкуру. А пока они думают о самих себе как о благородных спасителях своей отчизны. В политехническом училище появилось оружие. Жалкое, но все же оружие. Кружок ОВС перестал стесняться, и говорилось во всеуслышание, даже при Толлине, считавшемся «промежуточной балаболкой», что хватит играть в молчанки.
Близились страшные дни…
Близились дни, которых потом будут стыдиться мильвенцы, которые проклянет каждый честный человек. Дни, которые изменят течение многих жизней, искалечив их у одних и отняв у других.
VIII
Мог ли рассчитывать на успех Вахтеров, опираясь всего лишь на разномастную публику, составлявшую ядро зачинщиков готовящегося мятежа?
Нет, это был бы гибельный расчет. Мятеж захлебнулся бы, едва начавшись. Вахтеров надеялся, что ему удастся вовлечь куда более широкие слои населения Мильвы, особенно после того, как будет пущен слух о закрытии завода по решению Совдепа. Это вызовет волнения в цехах и…
И тогда приходи, обещай, свергай и веди. А когда вовлеченные в ряды восставших окажутся в частях, тогда ими можно будет повелевать как угодно.
Были ли среди коренных мильвенцев такие, на чью поддержку мог рассчитывать Вахтеров?
Были! Послушайте, например, что говорит Яков Евсеевич Кумынин, почувствовавший, что за его спиной стоит тень Матвея Романовича Зашеина, в свое время из самых добрых побуждений поднявшего рабочих на добровольное снижение заработков, чтобы не дать закрыться убыточному казенному заводу.
Теперь Яков Евсеевич чувствует себя спасителем завода, преемником Зашеина. Кумынину кажется, что его устами говорит сама мудрость. Не отвергая Советскую власть, находит, что вся вина не в ней, а в том, что она состоит из людей, не видящих корней жизни Мильвенского завода. И он повторяет слова Матвея Зашеина:
— Товарищи, мы не какая-нибудь пролетария, мы коренной рабочий класс, на котором держится всё.
У Кумынина, рассуждающего на завалинке, находятся слушатели. В первую очередь слушают его выученики молотобойцы Семен Дятлов и Тихон Забавин. Они не только поддакивают своему мастеру-кузнецу, но и повторяют слышанное, беседуя с другими.
Яков Кумынин воскрешает давнее, почти забытое заблуждение.
— Ежели разобраться, — говорит он, — то Мильвенский завод наш, построенный отцами нашими от первого кирпича до последней стрелки на трубе. А ежели он кровный наш и каждая стена или там ферма состоит из нашего труда, так мы его и должны взять в свои руки. Зря, что ли, сам Ленин велел отдать фабрики рабочим, а землю — крестьянам?
Рассуждая так, добросовестно и благонамеренно заблуждающийся Кумынин уводит в дебри не только своих подручных, но и многих на заводе.
В цехах начинает бытовать теория, отредактированная не без провокационного умысла, о том, что завод должен принадлежать коллективу рабочих на артельных началах. Это значило, что заработал, то и разделил между работающими по цехам. Что ни цех, то артель. И даже в одном цехе может быть несколько артелей. А сам завод должен представлять из себя свободный союз свободных артелей.
Вахтеров великолепно понимал, насколько нелепа и практически невозможна идея превращения большого единого завода в конгломерат кустарных артелей. Однако же его агенты всячески муссировали затею Якова Кумынина и считали это единственным способом спасения завода, стоящего накануне неизбежного самозакрытия. И конечно, вахтеровские подстрекатели подсказали инициаторам превращения завода в союз артелей объявить об этом Совдепу и Кулемину, зная, что там решительно не примут подобную затею.
Так и произошло. В Совдепе прямо сказали о невозможности дробить неделимый завод на маленькие мастерские и назвали затею неслыханной глупостью.
Разъяренные инициаторы союза артелей, негодуя, кричали, что с ними не хотят считаться, что их называют глупцами, что большевики предпочитают видеть завод закрытым, но не работающим на святых кооперативных началах.
Недовольство облетело цеха. В цехах начались шумные споры и даже драки.
Ночью был созван штаб заговорщиков. Вахтеров произнес речь:
— Товарищи, настает наше время… Вчера опять ушел отряд добровольцев на фронт. Большевиков в Мильве горстка. На заводе разлад. Пленные чехи и словаки готовы поддержать нас. Необходимо умно и доказательно пустить слух о закрытии завода.
А на завалинках Кумынин и подобные ему рассуждали:
— Покосы не отобрали. Это верно. Не дали отобрать. Но могут отобрать и, пожалуй что, отберут. Не на тот год, так через год. Что тогда? Как быть с коровой?
Да, в самом деле, как быть с коровой, а корова теперь главная кормилица.
— Покосы покосами, — рассуждает Яков Евсеевич, — но ведь могут отобрать и дома. У нотариуса же отобрали. Положим, у него не дом, а терем. Но ведь могут потом взяться и за теремки, поскольку они тоже собственность, как, и огород. Так что есть над чем нам задуматься и чего бояться…
Яков Евсеевич, не предполагая, как и другие, похожие на него, готовил почву для вахтеровской авантюры.
Мильва, доверчивая, малограмотная и отсталая Мильва, захлестывалась мелкобуржуазной, мелкособственнической волной, тонула в пучине добронамеренных заблуждений.
И одна ли Мильва?.. В одной ли Мильве действовали умело маскирующиеся враги, носившие другие имена, но такие же в своем подлом существе.
В каких-то других заводах события были гуще, в каких-то бледнее, но все они, разные по деталям и оттенкам, были схожи очарованием честных тружеников лживыми посулами мнимых свобод и благополучий.
ВТОРАЯ ГЛАВА
I
С колокольни мильвенского собора Игорю Мерцаеву и Юрию Вишневецкому видно, как по лучам дорог, ведущих в Мильву, идут крестьяне с красными флагами. Они идут к Совдепу, занявшему теперь часть дома управления завода на Соборной площади.
Отпрыски, достойные своих отцов, ждут сигнала для набата.
Сигнальщик на площади. Он в синем нитяном зипунишке и в лаптях. Кто узнает в нем мятежного офицера?
В городском комитете РКП (б) и в Совдепе узнали о событиях, когда они начались. На Соборной площади уже появились «мирные» демонстранты деревень с флагами и винтовками. Агенты Всесвятского в последний час предупредили их, что для острастки не помешает оружие. Ими же был пущен слух, что Мильву окружают многочисленные войска армии «Свободной России».
Такой же слух был пущен и на Соборной площади. Говорилось, что прибыли гонцы народной армии «Свободная Россия». Что многие видели их. Что они просят соблюдать спокойствие и помочь разделаться с теми, кто захватил власть, принадлежащую всем.
Артемий Гаврилович Кулемин, узнав, что творится неладное, наскоро оповестил своих и отправился в Совдеп. На площади было пестрым-пестро. Пестрыми были и требования на полотнищах. Кулемин, не медля, решил вмешаться. Он появился на трибуне и, подняв руку, обратился ко всем:
— Товарищи! Нельзя же такие серьезные и такие разные вопросы решать скопом!..
В ответ на это раздался выстрел. Затем другой. Взвилась ракета. Где-то на Мертвой горе застучал пулемет. За прудом застучал другой, а затем загрохотали разрывы гранат.
— Наступают! — оповестил голос.
— Наступает армия «Свободной России»! — послышался второй, женский голос. Это кричала Манефа.
Раздалась команда:
— Полыхни по окнам!
Загремели винтовочные выстрелы, зазвенели стекла окон дома заводоуправления. Взлетела вторая ракета — сигнал к набату. И набат начался на соборной колокольне. Набатом ответили и другие колокольни. Всесвятский и на этот раз продумал все необходимое, чтобы оглушить, ошарашить, поразить.
Певучая звонкая труба, еще так недавно звучавшая в оркестре Мирослава Томашека, теперь что-то провозглашала, куда-то тревожно звала. Все повернули голову в сторону крикливой трубы и увидели трубача, а затем барабанщиков, идущих перед большим воинским соединением в шинелях австро-венгерской армии.
Это Мирослав Томашек поднял пленных под лозунгом возвращения на родину. Поэтому на красном полотнище было каллиграфически выведено белой краской: «Долой большевиков, мешающих нам вернуться на родину».
Томашек в офицерской форме шел во главе своего отряда. На его лице была написана решимость драться до последней капли крови, пробиваясь на родину. Тут же был и милый школьный столяр Ян — чех. Он покинул свою столярную мастерскую политехнического училища, тоже хотел вернуться домой, прихватив с собой бывшую сторожиху гимназии, а теперь его жену и мать двоих сыновей.
Продефилировали по Соборной площади и «отчизны верные сыны» в гимназических шинелях. Человек сорок. Среди них был предводительствовавший на молитвах Сухариков. В его глазах тоже сверкало негодование. Он тоже готов был пройти от Урала до Москвы и дальше.
Пока все это происходило на площади, был занят телеграф, оцеплен дом городского комитета партии, арестованы Кулемин, Матушкин, Киршбаум, Африкан Краснобаев. Мятежники разоружили взвод красногвардейцев, оставшийся после ухода отрядов добровольцев на открывшиеся фронты гражданской войны.
Не дав прийти в себя, мятежники действовали все теми же театральными, сильно впечатляющими средствами.
На белом коне с красным знаменем на пике появился Вахтеров. Его внешность и к тому же конь чем-то напоминали иконописного Александра Невского.
Затрубили фанфары, призывающие к вниманию. И Вахтеров, такой стройный и такой затянутый ремнями, приподнялся на стременах и провозгласил:
— Свобода и неприкосновенность всем. Всем слоям общества. Всем гражданам, независимо от сословий, рода занятий, вероисповедания и политических убеждений. Свобода всем, — повторил он, простирая руку, — кроме посягающих на свободу и душащих ее диктатурой.
План хорошо продуманных действий развивался. С колокольни собора была сброшена бечева, к которой было прикреплено алое знамя, а на знамени слова: «СВОБОДА ВСЕМ».
Флаг, поднятый с подветренной стороны, был виден и на окраинах Мильвы. Он как бы утверждал, что это не белогвардейский мятеж, а восстановление доподлинных революционных свобод, попранных большевиками. На груди восставших развевались красные банты. Чтобы изложить в кратких и ясных словах программу действия, Вахтеров сказал о главном:
— У завода достаточно земель, кроме рабочих покосов. Крестьяне в этом же месяце получат земельные наделы, превышающие их желания.
Мужики заорали, затопали, захлопали.
Их, таких доверчивых и забитых, было совсем нетрудно обмануть. Обманутыми оказались и некоторые рабочие Мильвы. Им было сказано:
— Уже на той неделе начнутся выплаты заработанных денег. Типография завтра же начнет печатание кредитных билетов, имеющих хождение наравне со всеми остальными валютами.
Штабс-капитан входил в роль. Выстрелив в самое яблочко, он оказался в сердцевине чаяний мильвенцев. И ему ничего не стоило пообещать обеспечить завод железом, задуть свою доменную печь и разведать свои руды, о которых гласят легенды. А если товарищам рабочим будет угодно, то перевести завод на кооперативно-артельные начала. Теперь власть над заводом принадлежит только рабочим завода, решающим все вопросы голосованием открытым или тайным, по их собственному желанию.
Вахтеров не говорил, а пел.
Ему вторила новая мильвенская газета — «Свобода и народ», первый номер которой был отпечатан красной краской. Газета развивала сказанное Вахтеровым. Ее редактор Алякринский. Он, пряча свои зубы, спрашивал читателей, нужна ли им Советская власть без большевиков, или они предпочитают коалиционные думы, составленные в городах из представителей всех сословий… Или они предложат что-то свое. Самоуправлению всех слоев населения было представлено неограниченное поле деятельности, а пока устанавливалась военная власть командующего МРГ. Буквы МРГ вначале, как говорил Яков Кумынин и близкие к нему, означают: мильвенский рабочий гарнизон. Однако же из газеты со звонким заголовком «Свобода и народ» узнали, что МРГ означает — мильвенская революционная гвардия. Когда же будет провозглашена Мильвенская республика, то МРГ будет означать мильвенская республиканская гвардия. МРГ было отпечатано и на красных нарукавных повязках солдат и командиров.
На красной повязке был изображен горбатый медведь с якорем на спине. Только на повязке медведь находился не на вершине камня, а шел по сравнительно крупным буквам МРГ. И шел на фоне огня, осколков, искр какого-то символического взрыва.
Не все понимали, как они могли нацепить на свои рукава эти повязки и очутиться под ружьем. Вечером того же дня мятежники поставили в строй более тысячи человек. Появилась особая крикливая мальчишечья команда, также с красной повязкой и с тем же якорем, но без медведя и с буквами ОВС — отчизны верные сыны.
Маврикий прибежал к тетке возбужденный. Он безудержно и неподдельно восхищался Геннадием Павловичем Вахтеровым.
— Ты знаешь, тетя Катя, — не ища слов, говорил торопливый Маврик, — за ним может пойти вся Россия.
Екатерина Матвеевна, бледная и напуганная случившимся, не спорила с племянником, прося его об одном — не торопиться.
II
— Как же так случилось, Маврик милый, что все прожитые тобой годы, все твои встречи, начиная с подвала Ивана Макаровича Бархатова и кончая Смольным, где ты видел и слушал Владимира Ильича Ленина, прошли просто так, не утвердив в тебе того, кем ты так страстно хотел быть?
Так спрашивала своего ученика Елена Емельяновна, усадив его рядом с собой в кресло, спрашивала, как очень близкого и родного человека и в какой-то мере «партийного» мальчишку.
— Не знаю, как это случилось, — со всей чистосердечностью принялся отвечать Маврикий. — Я преклоняюсь перед Владимиром Ильичем. Таких, как он, больше нет. Он только один на всей земле. Но ведь и Христос тоже был один.
— А при чем тут, Маврикий, Христос? — недоуменно спросила она Маврика.
— При том, что Владимира Ильича больше не с кем сравнить по величине. Христос, правда, легенда, но ведь и Владимир Ильич тоже Мессия, который навеял человечеству сон золотой…
Елена Емельяновна вздрогнула так, что скрипнуло старое тихомировское кресло.
— Кто тебе, родной мой, подсказал эти слова?
— Вахтеров, — сказал Маврик. — Геннадий Павлович Вахтеров. Он очень высоко ставит Владимира Ильича и сожалеет, что у него, как великого человека, чересчур великие заблуждения.
— Какие же?
Маврикий отвечал пространно, рассуждая, как видно, подготовленно и вооруженно. Вернее — перевооруженно. Неужели так скоро этот Вахтеров мог перевооружить Маврикия? И одного ли его, увы? Учащаяся молодежь, составлявшая теперь отряд ОВС, была восхищена Вахтеровым. Неужели и он, этот милый юноша, не переставший быть мальчиком, станет в белогвардейские ряды ОВС с красными повязками? Неужели он должен пасть от пули или штыка Красной Армии, которая сметет с этого прикамского клочка советской земли эсеровских выродков, воображающих себя спасителями России?
Как жаль мальчишку, а что можно сделать? Как можно заставить видеть ослепленного? Наверно, только Екатерина Матвеевна способна образумить его, подумала Елена Емельяновна, вспомнив о тетке Маврикия, не зная, что и она в списке подлежащих аресту и расстрелу. Тогда еще Елена Емельяновна не допускала, что муж ее знакомой, почти подруги Гали Тюриной, пойдет на аресты большевиков. Ей не было известно, что ядро мильвенской партийной организации находится в подвале соскинской богадельни. И она, конечно, не могла представить себе, что Вахтеров осмелится поднять руку на ее мужа.
На другой день, ни с кем не советуясь, никому ни о чем не сообщая, Толлин пришел в штаб МРГ, чтобы вступить в отряд верных сынов России, где его совсем неожиданно и походя ужалили в самое больное.
— Месье, — сказал товарищ взводный, — вам не хватает примерно половины штыка роста, чтобы не выглядеть знаком препинания в строчке гвардейского строя.
Это был просмешник из недоучек технического училища, махнувший в школу прапорщиков.
Маврикий ничего не ответил взводному Голощекову и отправился в штаб МРГ к самому командующему.
У дверей кабинета командующего стояли двое знакомых с тесаками, носимыми, как кавказские кинжалы, у пряжки поясного ремня.
Товарищ командующий (в МРГ все назывались товарищами — командиры рот, взводов, проектируемых полков и дивизий) принял Маврикия Толлина с подчеркнутым уважением к нему. Он продиктовал адъютанту:
— Объявить выговор перед строем командиру взвода ОВС Голощекову за неумение разговаривать с истинными сынами отчизны.
Однако командующий нашел, что рост Маврикия Толлина, к сожалению, пока действительно затрудняет носить длинную и тяжелую винтовку.
— Но есть и другие рода войск, — сказал он, — и когда они будут сформированы, я записываю моего верного друга первым.
Окрыленный Маврикий простился, приложив руку к козырьку старой гимназической фуражки. Счастливый направился домой. В дверях его остановил Игорь Мерцаев. Он знал, что произошло, и сказал:
— Мавр, у меня в коллекции есть великолепная, легкая как перо, проверенная в боях казацкая винтовка-берданка. Приходи.
Вечером Маврикию была подарена в самом деле великолепная, очень легкая и удивительно короткая винтовка. К сожалению, к этой винтовке у Игоря не было ни одного патрона. И он сомневался, есть ли где они на свете. Зато винтовка была как винтовка, и Маврик мог теперь с повязкой ОВС появляться в городе, дожидаясь особого назначения в особую часть, пригодную для его роста.
III
Даже скептически относящиеся к личности Вахтерова не могли отказать ему в военно-тактических способностях. Зная, что главная опасность может угрожать только с Камы, он вслед за Мильвой овладел ее Камской пристанью. На первый случай были остановлены и разоружены два пассажирских парохода и три буксирных. Экспроприированные пароходы составили Камско-Мильвенскую и опять же «революционную» флотилию. Нос и корма пароходов были забронированы мешками с песком. Пулеметы и легкие пушки стали вооружением пароходов. Нашелся и командир флотилии из анархистов с линкора «Император Александр II».
Теперь суда флотилии могли останавливать проходящие мимо редкие пароходы или пропускать их, запрещая причаливать к пристани, или возвращать их. Во всех случаях налагалась контрибуция. Какой бы смешной ни выглядела флотилия, все же она владела немалым участком реки, надеясь в недалеком будущем взять всю Каму. Подобные надежды подкреплялись мятежами, похожими на мильвенский.
Вахтеров заявлял, что восставшие районы, соединясь, образуют великую Империю Свободы.
Полагавшие, что мятеж продлится несколько дней, ошибались. Завод, где прежде изготовлялись лишь некоторые части винтовок, изготовлял теперь их полностью. Точились пули и перезаряжались старые гильзы патронов. Богатый взрывчатыми материалами край рудников, край горных разработок, которые велись взрывным способом, позволил мятежникам изготовлять и свои гранаты. Холодное оружие поставлялось без затруднений.
Не так сложно было начать печатание денег. К этому в первый же день был приставлен Герасим Петрович Непрелов, получивший должность главного казначея местностей, занятых мильвенской революционной гвардией. Длинно, зато исчерпывающе. И с запасом на будущее расширение территорий.
Странно было видеть Маврикию знакомую подпись отчима на новых мильвенских кредитных билетах. Все четко, из буковки в буковку: «Г. Непрелов». А на обороте опять же горбатый медведь с якорем. Не придумывать же новую эмблему. Не до того, да и нетрудно ошибиться. Медведь стар и привычен. И опять же — якорь. Надежда. Удобная аллегория. Кто на что хочет, тот на то и надейся.
Объявленная свобода политических убеждений вынужденно охраняла первое время и большевиков. Арестованные члены комитета и Совдепа — их было не много — назывались открытыми врагами демократии, выразителями диктатуры и пособниками ее ЧК. Массовые аресты большевиков означали бы утрату веры в «беспартийность» и «всепартийность» мятежного командования. Поэтому нужны были веские шумные улики против неразоружившихся большевиков. А большевики и в самом деле не разоружились. Они формировали отряды добровольцев, уводили их в леса, разъясняли населению гибельность авантюрного мятежа и неизбежность его подавления.
Всесвятский, занимавший при штабе командования пост начальника внутренней службы, получил от своего недавнего партнера по преферансу приказ изобрести улики и начать осторожные и обоснованные аресты большевиков.
Не нужно быть великим режиссером, чтобы схватить двух большевиков, пытавшихся будто бы взорвать заводскую плотину, на месте преступления.
Следом была «раскрыта» тайная большевистская мастерская по выработке удушливых бомб для истребления всего живого в Мильве.
Газета «Свобода и народ» описывала это со всеми подробностями, смакуя каждое измышление и, кажется, веря своей собственной клевете.
Когда же был придуман тайный большевистский отряд по отравлению колодцев, можно было продолжить аресты открытую и арестовывать сочувствующих и подозреваемых. Их оказалось так много, что пришлось задуматься над помещением.
До этого заключенных держали в подвале соскинской богадельни. Теперь там стало тесно. Да и держать «фондовых», «валютных» большевиков, как их называл Всесвятский, на окраине города, рядом с лесом, неосмотрительно. Налетел отряд, снял часовых — и «вуаля». Поэтому было решено учредить «стратегические камеры временной изоляции» в здании ныне бездействующего политехнического училища.
Самовлюбленный фразер, бесстыдный лжец и восторженный демагог, Алякринский разразился в своей газете статьей «Гуманизм изоляции». В ней он сначала оклеветал большевиков, не пожелавших добросовестно воспользоваться свободой, а потом перешел на похвалы гуманнейшим мерам вынужденной временной изоляции. Оказывалось, что великодушное командование хочет заключением в камерах спасти жизнь большевикам, оберегая их от самосуда населения. Подобного рода арест сохранял жизнь таким, как Валерий Всеволодович Тихомиров и Елена Емельяновна и другим, готовившим покушение на командующего МРГ и его супругу. Далее описывалась граната с часовым механизмом, которая должна была погубить горячо любимого населением Мильвы командующего всеми родами войск Геннадия Павловича Вахтерова.
Не так было трудно парты заменить нарами, в окна вставить решетки и превратить училище в тюрьму с изящнейшим названием «стратегические камеры временной изоляции». Не очень долго пришлось ждать заполнения «временно» изолируемыми классов первого этажа, а затем и второго. Газета изощрялась в выдумках поводов для арестов, добиралась теперь до молодежи и просто мальчиков. Был оклеветан даже мальчишка Сеня Краснобаев. Он якобы украл церковную кружку с деньгами. Вскоре Сеню Краснобаева арестовали.
IV
Тщетно искали Ильюшу Киршбаума и Санчика Денисова. Тот и другой скрывались за прудом в Каменных Сотах после ареста Сени Краснобаева. Там теперь был боевой лесной штаб коммунистической молодежи. Но избежавшие ареста и камер боялись за тех, кто остался в Мильве, за родителей членов Союза молодежи. В доме Шульгина остались списки и анкеты с адресами. Они хранились в стенном шкафу, незаметном для постороннего глаза. Шкаф, как сообщала Соня Краснобаева, все еще не был обнаружен. Илья и Санчик решили пробраться в дом и взять документы.
В бывшем соскинском доме полным ходом шел ремонт. Его готовили для штаба командования МРГ. Ильюша и Санчик легко попали внутрь, открыли шкаф и взяли списки. Они безнаказанно вышли через сад, но в последнюю минуту их заметили. Документы были у Санчика. Ильюша помог ему скрыться и оказался в руках своих недавних соучеников, ныне отрядников ОВС.
— Аг-га! Попался! — радовался Сухариков, прячась за спины наиболее смелых.
— Ты арестован! — крикнул Юрка Вишневецкий. — Руки вверх или пуля в лоб!
Такой знакомый голос и памятные с детства слова. Они играли в казаков и разбойников. И когда Юрка Вишневецкий со своими казаками ловил разбойника, он всегда говорил: «Ты арестован! Руки вверх или пуля в лоб!»
Но тогда арест пойманного был веселой забавой, а теперь? Как невероятно и странно повторилась та же самая фраза. Только теперь она звучала всерьез. Неужели его гак же серьезно поведут в камеры, и он будет сидеть…
Нет, нет. Он не будет сидеть. Он никогда не сидел у казаков и всегда вырывался из рук их атамана Юрки Вишневецкого. Не попробовать ли? Но как? Тогда у них были деревянные ружья, вытесанные из досок, а теперь они вооружены настоящими винтовками. Им нетрудно послать пулю вслед, и тогда все…
Думая так, Ильюша только сейчас заметил, что его ведут по знакомой улице, мимо дома, где жили когда-то Краснобаевы. Невольно вспомнился тайный лаз через заросли огородов, по которым он полз за Санчиком Денисовым к пароходу на зашеинском дворе. И он молниеносно сбил с ног Вишневецкого, вырвал у него винтовку и юркнул в отверстие забора, проделанное когда-то для стока дождевых вод.
Обезоруженный Вишневецкий так оробел, что метнулся прочь, боясь, что Киршбаум выстрелит в него. Мерцаев же кинулся за беглецом, но не через отверстие в заборе, а, жалея новую форму, через забор. И он потерял время, а с ним и Киршбаума. Искать вооруженного Киршбаума в темном огороде Мерцаев не решился.
Когда же была поднята тревога, Ильюша подходил к лесу. Опасность осталась позади.
Выйдя к лесу, он пошел вдоль берега, к Медвеженскому мысу, где причудливое нагромождение громадных каменных плит образовало множество ходов, гротов, служивших убежищем зверям, птицам и людям, рыбакам и грибникам. Здесь было лучшее укрытие. Особенно любили его ребята. Они знали ходы и выходы этого нагромождения, названного еще дедами Каменными Сотами. В нем-то и скрывалась теперь вооруженная молодежь. Ходы тянутся так далеко, что по ним не осмеливались заходить вглубь.
Сердце у Ильюши еще постукивало, ему еще чудилось, что за ним кто-то крадется, но все это было только страхом. Никто из овсюков не рискует показаться ночью в этом лесу. Да и как им знать, что Илью нужно искать именно здесь.
Хватит придумывать опасности. Сядь, Иль, под сосну. Дай успокоиться сердцу. Соберись с силами и мыслями. Ты жив, ты жив! Посмотри на Мильву с этого берега. Какой тихой выглядит она. Какая благодатная темно-синяя ночь обняла ее. И не подумаешь, что эта бархатная темнота скрывает подлые дела.
Неизвестно, что скрывает и лес за спиной Ильюши. Все-таки кто-то следит за ним. Может быть, ночная хищная мелочь, которой не следует бояться, но все же, как говорит бабушка Эстер, и от укуса комара можно ожидать лихорадку.
В путь, Илья! До Каменных Сот не так далеко. Не позволяй ногам привыкать к отдыху.
V
Рвавшийся к власти и жаждущий мести, Игнатий Краснобаев хотел убрать со своего пути Всесвятского. Насторожить против него Вахтерова было не так трудно. Всесвятский бывал в камерах, беседовал с Кулеминым, заигрывал с Тихомировым и вел себя так, будто они на самом деле временно изолированы, а не смертники, приговоренные к расстрелу.
Сюда же Игнатий Краснобаев решил приплести выкраденные документы в доме молодежи, исчезновение зловредного выродка Денисова, а потом побег Ильи Киршбаума. Придя к командующему. Краснобаев обосновал свое недоверие Всесвятскому.
— Это человек момента. Он может предать и продать. — Говоря так. Краснобаев рассказал Вахтерову некоторые подробности из прошлого Всесвятского.
Слушая Краснобаева, Вахтеров вспомнил, как рассказывал Всесвятский за карточным столом о своих похождениях, и решил про себя, что от этого артиста можно ожидать всего, вплоть до побега в трудную минуту вместе с арестованными к большевикам. Верить этому партнеру явно было нельзя, но и невозможно начальнику внутренней службы дать отставку и тем самым озлобить его и вызвать на действия, которые и не предположишь. Поэтому нужно было найти ложный ход.
— Друг мой, — начал врать Вахтеров, — я не могу совмещать в себе полководца и гражданскую власть. Необходим какой-то комитет, который бы ведал главным: продовольствием, финансами, промышленностью, сельским хозяйством…
— Да. Это совершенно необходимо, — охотно шел на приманку Всесвятский. — Я бы мог заняться этим…
И тут же Вахтеров просил назвать человека, которому можно доверить тюрьму. Бандиты не подыскивали благозвучных слов, когда разговаривали между собой.
Всесвятский назвал Краснобаева. Вахтеров, продолжая хитрить, с минуту колебался, а потом продиктовал адъютанту приказ.
В приказе Всесвятский был назван генеральным инспектором по финансам, продовольствию, промышленности и сельскому хозяйству. А Игнатий Краснобаев стал попечителем «стратегических камер».
Так был назначен главный и никем не контролируемый, кроме командующего, палач мильвенских большевиков. Этому можно было верить, как себе.
Вступление в должность попечителя камер началось встречей с братом Африканом.
— Н-ну, единоутробный, теперь поговорим начистоту и для первоначала получи от имени меня, от нашей не боящейся крови партии в зубы. — И он ударил рукоятью нагана своего старшего брата по виску.
Африкан Тимофеевич, застонав, упал без чувств. Затрясшийся от испуга конвоир получил затрещину.
— Смелее будешь, — объяснил удар Игнатий Краснобаев и пошел по этажу «давать себя знать арестованным».
Не так легко Игнатию Краснобаеву было найти подручных. Бывшие урядники, полицейские и те, занимаясь ранее «чистой» работой, отказались идти в заплечные мастера. Урядник Ериков прямо заявил:
— Проследить, донести, — это одно. От этого руки не мараются. А что же касательно этого самого… — не захотел он назвать своим словом убийства людей. — Для этого мы недостаточны.
Саламандра-Шитиков сам явился в камеры.
— Если вы, Игнатий Тимофеевич, нуждаетесь в твердой руке, так вот она. И еще могу твердого человека присоветовать, — совсем тихо, будто побаиваясь стен, сказал он, — хотя она и женщина, но в сапогах.
Вскоре пришла в камеру эта «женщина в сапогах».
— Очень рад, Манефа Мокеевна, — приветствовал ее Игнатий Краснобаев и предложил ей на первое время должность младшего надзирателя. — Действуй, Манефа Мокеевна. Если что, так в ответе ни за кого не будешь! Все они здесь конченые. Кроме «валютных» и заложников.
С этого дня Манефа принялась действовать с ожесточением и ненавистью, которая пылала в ней не столько к большевикам, сколько к мужчинам, лишившим ее житейских радостей. И пусть из сидевших никто не был виноват в ее застарелом девичестве, все равно подобные им обошли ее.
Началась новая волна ночных арестов большевиков и причастных к ним. Решено было посадить оставшуюся на свободе Варвару Емельяновну Матушкину. За ней пришла Манефа.
— Не хотели мы брать, кого можно не трогать, — начала она, — да фронт пугает. Пашка Кулемин с леса заходит. Поэтому в целях, — она сделала ударение на «я», — предупредительно-оборонительных прошу захватить самое необходимое…
VI
Усилившиеся аресты большевиков вызвали раздумия Сидора Непрелова, и он пришел к брату.
Герасим Петрович жил все там же, хотя и мог бы по своему новому чину занять лучшую квартиру из конфискованных. Герасима Петровича предполагали назначить министром финансов Мильвенской революционной республики, которую намеревались провозгласить на местном предучредительном собрании. Но изменившиеся обстоятельства на фронте заставили повременить с провозглашением новой державы. Мало кем знаемый, мало заметный брат Артемия Кулемина, подпрапорщик Павел Кулемин, избежавший ареста, формирует второй добровольческий полк Красной Армии, образовав фронт с противоположной Каме стороны. Со стороны глухого и бездорожного леса, вдоль речки Медвежки, потому и получивший название — Медвеженский фронт.
С возникновением Медвеженского фронта мятежникам приходится обороняться с двух сторон. О наступлении, расширении территорий больше уже не говорили. Удержаться бы на занятых рубежах и дождаться подмоги из Сибири. О ней говорили многие, и особенно Тишенька Дударин ободрял пророчествами о скором приходе сибирских войск. А они пока не шли. Поэтому предполагаемый министр финансов Мильвенской республики пока сидел в типографии, печатал и распределял деньги. От него многое и многие зависели. Облеченному таким доверием и такой властью было не до фермы.
— Неужели ты не понимаешь, — внушал он брату, — что нам нужно думать обо всем нашем крае, а не о своих десятинах.
Сидор не желал понимать этого. Край краем, а свои десятины своими десятинами. Одно другому не помеха. И если агроном Шадрин пересядет из учебно-опытного хозяйства в камеры, хуже от этого ему, Сидору, не будет. Ничего не добившись у брата, со зла Сидор направился к Игнатию Краснобаеву. Ему не нужно было долго объяснять.
— Доставь его, чтоб лошадь не гонять, — сказал попечитель.
Сидор Петрович, вернувшись в Омутиху, приказал Шадрину:
— Оболокайся. Тебя велели доставить в тюрьму. И сказали, что ежели ты не пойдешь туда сам, тебя пригонят шомполами конные.
Старик поднял глаза и кротко спросил:
— За что же?
— Там разберут. Если не за что, так и выпустят, — обнадежил он.
Михаил Иванович послушно собрался, и Сидор сдал его в камеры, вернувшись хозяином фермы. Теперь, когда не стало Шадрина, Сидор Петрович мог распорядиться и зерном и скотом. Этим он и занялся.
Тем временем в камерах устанавливалась своя жизнь.
Не трогали только «фондовых». Берегли на случай обмена. Вахтеров очень строго предупредил Игнатия Краснобаева не буйствовать, после того как узнал об избиении им брата Африкана.
— Возможно всякое. И такие, как твой брат, как Артемий Кулемин, как Матушкин и тем более Тихомиров, могут спасти нам наши жизни. На войне возможно всякое, — повторил командующий и подал список подлежащих расстрелу только по распоряжению лично командующего.
Вахтеров не раскрывал своих карт и, как настоящий шулер-аристократ, вел двойную игру. За Медвежкой пока было тихо, но нельзя надеяться, что так будет всегда. Павел Кулемин, став командиром бригады, видимо, выжидал удобный момент, чтобы ударить наверняка и одним маршем занять Мильву. На всякий случай Вахтеров побывал у Всеволода Владимировича Тихомирова, лично заверив, что его сын и невестка находятся в полной безопасности и что он, Вахтеров, головой отвечает за их полную сохранность.
Старику Тихомирову ничего не оставалось, как поблагодарить за внимание и выразить уверенность, что сказанное Вахтеровым не подлежит сомнению. В этот день Всеволоду Владимировичу показалось, что Вахтеров боится сына Валерия. Выходит, Валерий и теперь, находясь в заключении, был страшен им. Не просто же так мятежный атаман заигрывал с отцом большевика.
Все же Вахтерову нельзя верить. Нельзя надеяться, что при иных обстоятельствах он не покончит со всеми сидящими в камерах.
Если б была возможность спасти их! Если бы Павел Кулемин неожиданно ворвался в Мильву, не дав опомниться тюремщикам…
Только под утро засыпал Всеволод Владимирович, прислушиваясь к каждому шуму на улице. Ему чудился приход избавителей. Он верил в самое немыслимое, он не допускал, что Валерий может быть расстрелян. А Игнатий Краснобаев эту давно лелеемую возможность ждал как самую большую радость возмездия за все свои обиды и неудачи.
Игнатий Краснобаев окончательно терял человеческий облик.
VII
Артемию Гавриловичу Кулемину приходилось сидеть в различных тюрьмах, — и в каторжных, и в обычных. И ни в одной из них не было так невыносимо тяжело, как в этих камерах, никогда так мучительно длинно не тянулось время, как здесь.
Столько лет идти к победе через подполье, через годы реакции, уцелеть в окружении жандармского сыска — и попасться в руки предателя Игнатия Краснобаева, по которому давно тоскует могильная яма. А он будет жить и успеет еще прикончить партийный актив Мильвы, и ничего нельзя сделать. Ничего.
Так же примерно думает и Валерий Всеволодович Тихомиров. Прожить и остаться целым в годы эмиграции, неуловимым переходить границу, спастись после июльской демонстрации в месяцы разгула террора Керенского — и здесь, в Мильве, стать жертвой шарлатанов.
Думая о себе и о своих товарищах, Тихомиров приходит к выводу, что выхода никакого нет, что при ухудшении дел у мятежников они покончат с сидящими в камерах. Об этом недвусмысленно говорил Игнатий Краснобаев.
Не ждут ничего хорошего и остальные. Только старик Емельян Кузьмич Матушкин подбадривает товарищей. Особенно Киршбаума. Он не знает ничего о жене и детях. Ему не известно, что Анна Семеновна и Фанечка вовремя покинули Мильву и теперь находятся за Медвежкой. Он не знает и об Ильюше.
— А я скажу вам, — твердит свое Матушкин, — что в жизни всегда нужно надеяться на жизнь. Уж одно то, что нас в один класс, в одну камеру перевели, говорит о многом.
Все слушают, и все молчат. Утешительство Матушкина никого не убеждает. На свободе остались единицы, да и те вроде Самовольникова, считавшегося не столь решительным и предприимчивым человеком. А Матушкин говорит и о нем.
— Такие тихони, как Ефимко Самовольников, в трудные минуты жизни самою смерть, случается, вокруг пальца за нос водят. Я верю в Ефима Самовольникова.
— Ты еще в него поверь, — сказал Кулемин, указывая глазами на проходящего Толлина. — Тоже может вызволить нас.
Матушкин опустил голову. Ему больно было видеть зашеинского внука с нарукавником ОВС. Маврикий часто проходил теперь мимо окон «стратегических камер», потому что он был единственным человеком, кому было разрешено бывать на третьем этаже училища, где находились документы, библиотека и все поднятое туда из нижних этажей и подвала, занятых камерами.
— А я и в Маврика верю, — сказал Матушкин. — Раскусит он их, разглядит рано или поздно. Яшка Кумынин уже одумался.
— Да откуда вам это все знать, — не утерпел Киршбаум, — умным быть хорошо, а хотеть выглядеть…
— Но-но-но, Григорий, — остановил Терентий Николаевич Лосев. — Не надо быть большим умником, чтобы разглядеть понурого Яшку Кумынина. Я даже по спине его читаю, что дело у него неважнец и глаза на наши окна стыдится поднять, когда домой ходит.
Поговорив так, заключенные возвращаются к своим мыслям. На этот раз молчание длилось недолго. В класс-камеру вошел Игнатий Краснобаев. Ухмыльнулся. Посмотрел на каждого из сидящих своими маленькими глазками, как удав на кроликов, и сказал:
— Так что скоро освобождать от вас училище будем. Которых на волю, которых в настоящую тюрьму, а которых без суда либо на каторгу, либо на свидание с Манефой Мокеевной, в подвальное помещение. Кто что заслужил. По достоинству. Полным рублем. Как вы думаете на этот счет, Валерий Всеволодович? Куда вас определят?
Тихомиров ничего не ответил. Он сидел повернувшись к окну. Игнатию Краснобаеву очень хотелось ударить его и заставить разговаривать. Нельзя. Будет известно Вахтерову. Кто-то сообщает ему обо всем, что происходит в камерах. Поэтому приходится издеваться только словесно.
— Я думаю, таких, как их коммунистическое сиятельство, — показал Игнатий на Тихомирова, — кончать сразу не станут. Сначала отправят в Москву, а потом со всей Цекой на скамью подсудимых, а потом уже… Нет, стрелять, я думаю, тоже не будут. Повесят. На кремлевских зубцах. Как Петр Великий стрельцов. Почет как-никак. А тебя, штемпелыцик, — перевел он глаза на Киршбаума, — наверно, не будут судить. Маловат чин у тебя. Шлепнут — и будь здоров, вместе с Артемием Гавриловичем. Ничего не поделаешь. Никто не толкал. Сами рвались.
Перебрав каждого из сидящих в камере, насладившись своим глумлением, палач сказал:
— Товарищем командующим приказано ввести в камерах политическую информацию. Так что информирую. Сибирские войска и чехословацкие части подходят к Каме. Москва окружается надежно. Теперь уж немного ждать. У всех глаза откроются. Надолго запомнят, что такое Советская власть… Прошу прощения… Вызывают к штабному телефону.
Он побежал на звонок. В классе-камере по-прежнему молчали. Находившиеся здесь не верили сказанному, но не исключали, что из сказанного что-то было правдой.
VIII
Чем дальше, тем больше задумывался Маврикий Толлин над возрастающей разницей между тем, что провозглашается и что происходило. Ему не хотелось и на секунду пускать в свою голову сомнения, что командование МРГ делает все это умышленно, а не вынужденно. Между тем, как ни хотел Маврикий обелить Вахтерова, — не получалось. Все складывалось так, что далее стало невозможно самообманываться. Произошло событие, позволившее Маврикию увидеть подлинного Вахтерова.
Газета «Свобода и народ» известила о гибели шестерых кавалеристов из отряда, подчиненного лично командующему армией.
Было это так… Шестеро кавалеристов из штабного отряда отправились в прибрежную камскую деревню Гуляевку вербовать добровольцев в МРГ. Вербовка проходила слишком энергично, и «добровольцы» оказались настолько воинственными, что по дороге в Мильву прикончили вербовщиков, которые конвоировали их, и тут же ушли дальним путем за Медвежку к Павлу Кулемину.
Через эту же газету были объявлены торжественные похороны шестерых героев, павших за народ и свободу, за революцию и отчизну.
Никогда Судьбину не заказывали таких дорогих и затейливых гробов, обитых парчой, с точеными латунными ножками, с посеребренными ручками. Никогда в Мильве не было похорон при таком стечении духовенства. Отцу протоиерею Калужникову сослужили священники и диаконы из всех приходов, находившихся на территории, занятой МРГ.
Гробы утопали в цветах. Прибыл штаб во главе с командующим на отпевание убитых… Соборная площадь заполнена народом.
Был на площади и Маврикий. Он и не предполагал, что в этот день будет зрителем однажды уже виденной пьесы. Виденной в столичной постановке, а теперь повторяемой в Мильве, куда слабее, хотя суть оставалась тою же, настолько тою же, что становилось страшно.
Он до мелочей помнит похороны в Петрограде. Их видел Маврикий в свой первый приезд. Это было вскоре после июльской демонстрации. Газеты приглашали отдать последний долг убитым.
Тогда Маврикий рано появился у Исаакиевского собора, и было уже немало людей. Он решил проникнуть внутрь собора, и это ему удалось без труда. Какой-то юнкер даже сказал, козырнув, «прошу вас». Может быть, его приняли за кого-то другого. А может быть, его внешность и гимназическая, хорошо сшитая форма располагали к доверию.
Он никогда еще не бывал в таком громадном храме. Не раз проходя мимо Исаакиевского собора, он не замечал, что это такой большой храм. Видимо, в соседстве с огромными домами, скрадывались его размеры. А теперь внутри храма масштабным сравнением остаются только люди да гробы, утопающие в цветах и венках.
Как величественно его пространство. И как ничтожно малы металлические гробы, хотя они куда больше обычных.
Но почему их семь, только семь? Разве только семерых убили тогда? Он же видел множество тел на мостовой. И Маврик тогда тихонечко спросил об этом старика в полинялом, будто поржавевшем, пиджачке. И старик неторопливо и наставительно ответил:
— Так те-то мертвые погубители Временного правительства, а это его защитители. Защитителям честь и злачное место в раю, а погубителям — ад и забвение. — Под усами старика горькая усмешка.
Прибывали цветы и венки. Их приносили очень важные военные и не менее важные господа в черном и женщины в трауре, которых нельзя было не назвать барынями.
Сколько почестей. И каких почестей. Сколько лжи. И какой лжи. Маврикий читает надписи на венках:
«Честно исполнившим свой долг и погибшим от рук немецких наемников». Это венок от командования казачьих войск.
«Верным сынам «Свободной России», павшим в борьбе с предателями родины». Это венок от партии Народной свободы. Партии кадетов. Партии этих господ в черных длинных сюртуках. Они защитники свободы, сыны революции?
Не хватит ли? Не слишком ли заиграна граммофонная пластинка? Не охрип ли сам граммофон?
Нет еще — не охрип. Во время торжественного отпевания слышится за стенами собора громогласное «ура». По рядам стоящих в соборе пробегает сообщение:
«Керенский… Приехал Александр Федорович Керенский. Приехал министр-председатель…»
Боже, боже, сколько постов занимал он за считанные месяцы. И министр юстиции, и военный министр, и морской, а теперь председатель совета министров. Глава правительства России. Тсс… Он идет. Какое деланно скорбное лицо, как манерно подламываются в коленях ноги. Ах, какой демократический френч с четырьмя накладными карманами. Краги… Франтоватые краги. Маврик внимательно разглядывал краги Керенского.
Торжественное отпевание между тем закончилось. Отзвучали всегда волновавшие Маврика обрядные слова: «Надгробное рыдание…» и «Вечная память». Начался вынос гробов. Нарядные они, на точеных ножках каждый. С блестящими ручками.
Но что это? Первый гроб выносит Керенский. Да, это он, вместе с другими министрами. Маврик не знает их фамилий.
Зато он узнает Милюкова и Родзянко, они помогают нести второй гроб. Смотрите, здесь в самой знаменитой и, наверно, в самой большой церкви России происходит бесстыдная комедия.
А в самом большом мильвенском храме эта чудовищная комедия превращена в миниатюру и разыгрывается теперь по силам театральных возможностей, однако не упускающих выигрышных явлений.
Там первый гроб выносил Керенский с министрами. Здесь первый гроб выносят Вахтеров и Мерцаев.
Там Милюков и Родзянко выносили второй гроб. Здесь его выносят Чураков и Куропаткин.
Гробы там и гробы тут устанавливают на белые катафалки. На катафалках никогда не хоронили в Мильве. Их и не было здесь. Сделали. Реконструировали дроги. Наскоро покрасили белой клеевой краской.
У Маврикия слегка кружится голова. Его приташнивает.
Там Керенский, стоя на паперти, искал позу. И здесь… Этому трудно поверить… И здесь Вахтеров тоже, поднявшись на паперть собора, ищет позу. На нем френч… Ну, это пусть… В них ходят многие. Но на нем и краги! Краги! Теперь ему только остается призвать к клятве, как это сделал Керенский. И Вахтеров это делает:
— Открыто перед всеми заявляю, что всякие попытки к анархии и беспорядкам, откуда бы они ни исходили, будут беспощадно пресекаться…
Далее он, как и Керенский, меняет интонацию, не угрожая, а призывая, как проповедник, поклясться перед прахом погибших.
Теперь для Маврикия бесспорно, что Вахтеров видел петроградские похороны и не случайно, а сознательно повторяет хорошо разыгранный спектакль. Там участвовали в похоронах не менее двух рот священнослужителей. Они шли, как солдаты, рядами по четыре.
Маврикий уже не удивлялся, когда за каждым из катафалков вели лошадей убитых кавалеристов. Вахтеров не мог не позаимствовать из петроградских похорон карателей этой эффектной сцены.
Теперь он должен опустить скорбно голову, продеть два пальца правой руки между второй и верхней пуговицами френча.
Далее сравнивать не хотелось. Было вполне достаточно этого. На кладбище Маврикий не пошел. Нечего там делать, и некого туда провожать. Разве только Геннадия Павловича Вахтерова, уходившего на кладбище живым покойником…
IX
Маврикий остался со своими сомнениями один. Ему не с кем было теперь поделиться. Он бы мог, но не хотел довериться Виктору Гоголеву. Да и с тетей Катей тоже не много выяснишь. Маврикий, кажется, перерос свою милую тетушку.
То, что похороны были искусной игрой, хотя и не оригинальной, в этом нет сомнений. Но как отнестись ко всему остальному? Ведь человек не просто так подражает кому-то или повторяет кого-то. Значит, мир подражателя близок к миру того, кому он подражает.
Неужели все сказанное Вахтеровым тоже ложь… Нет, нет, нет, Маврикий Андреевич, не торопитесь с выводами. Если учитель истории или математики оказался дрянью, от этого не изменяется история и уж конечно законы алгебры и геометрии, которые преподавал фигляр.
Развенчать попа еще не означает низвергнуть религию — старая поговорка Ивана Макаровича. Пусть Вахтеров ничто, но сказанные и не исповедуемые им истины от этого не меркнут. Хорошее вино и в плохой посуде не становится водой. Тоже, кажется, слова Ивана Макаровича.
Размышляя о Вахтерове, Маврикий подходил к дому, где жила Екатерина Матвеевна Зашеина. Возле дома он увидел Сонечку Краснобаеву. Она обрадованно побежала навстречу.
— Мавруша!
— Сонечка! — радостно откликнулся, подбегая к ней, Маврикий. — Я тебя совсем не вижу. Разве что-то изменилось?
— Да нет… Но все же многое произошло за это время. — Она посмотрела на красную повязку с якорем и буквами ОВС. — Ты вступил в отряд?
— Не вступил, — почему-то покраснев, ответил Маврикий. — Я не дорос. А повязку ношу просто так, чтобы не думали, будто я не дорос. И вообще, Соня, мне стало не с кем говорить.
— Поговори со мной!
— Ты девочка. Тебе не скажешь всего… А остальных не стало.
— Почему же не стало? Они все пока есть. Только теперь многое разделяет вас.
— Что?
— Стены тюрьмы, например, которую они деликатно назвали «стратегическими камерами».
— Ты ненавидишь их? — спросил Маврикий в упор.
— Нет, я обожаю их. Я благодарна им за то, что они посадили моего отца и старшего брата Сеню. Я…
— Сеню? За что?
— Мне бы лучше об этом спросить у тебя. Ведь ты же бываешь там.
— Не там, Соня, а на третьем этаже. В училищной библиотеке. Я заведую теперь ею. Потому что библиотекарше не доверяют.
— Не сердись. Я же просто так. От обиды. Нам очень не легко теперь. Мама плачет ночью. Толя не находит места. И ждет, что его тоже.
— Его-то вовсе не за что.
— Ильюша так же думал, пока его…
— Неужели это правда, Соня?.. Пройдем сюда, здесь глуше, — Маврикий потянул ее за руку в переулок, куда выходили огороды.
— Мавруша, ты спроси об этом не меня, а сына пристава Вишневецкого и сына провизора Мерцаева. Они вели в камеры Ильюшу Киршбаума. Им лучше знать, за что его арестовали.
Бледный Маврикий едва выговорил:
— Неужели Илья там?
— Нет. Успокойся. Он на свободе. У них коротки руки…
Эти слова Соней были сказаны слишком громко, Маврик, оглядевшись по сторонам, предупредил:
— Так и ты окажешься в камерах.
— А я приготовилась к этому перед встречей с тобой.
— Как ты можешь так. Соня?
— Но ведь ты же… — тут она снова посмотрела на повязку ОВС. — Я не имею права быть наивной. Ну да, впрочем, этот разговор ни к чему. Скажи, что бы ты ответил, если бы с тобой захотели повидаться два твоих друга, с которыми тебя связывает клятва на деревянных мечах?
— Я бы встретился с ними. А они хотят этого?
— Да, они просят тебя.
— Когда?
— Сейчас. И только сейчас, никуда не заходя и ни с кем не встречаясь, — предупредила Соня. — Так мне было сказано.
— Они боятся, что я все-таки могу их…
— Не боятся, Мавруша, но всякий скрывающийся в лесу не доверяет и кусту. Идем же…
— Идем…
Они направились к лесу.
Лес от конца Замильвья не далее полуверсты. В крапиве за последним огородом Соней были спрятаны две большие корзины.
— Это твоя, это моя. Мы идем за грибами, Мавруша. За грибами, — с сердечной назидательностью сказала она, припомнив пословицу: — Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.
Осень нынче не торопила первые заморозки, в лесу стоял густой грибной аромат. Пахло коренными мильвенскими грибами — груздями. Грузди там и сям выглядывали из-под земли. Пришлось набрать их, чтобы не идти с пустыми корзинками. Фронт хотя и далеко, верст тридцать отсюда, а разъезды рыскают и по этим близким к Мильве лесам.
Пройдя версты полторы-две по лесу, Сонечка вдруг сказала шепотом:
— Я верю тебе, Мавруша… Но я теперь не я, а они. Поклянись, что ты не изменишь своему слову.
— Клянусь! Я клянусь, Сонечка! — громко сказал Маврик и поднял руку.
— Нет, мой маленький потерянный жених, ты поклянись, как в детстве. Тут нет меча, но есть кинжал, похожий на меч.
Сонечка вынула откуда-то из-за подкладки своего жакетика нож, похожий на уменьшенный морской кортик. Она, держа его за лезвие, протянула Маврику рукоять, чтобы он положил на нее руку. И Маврик, сделав это, стал произносить все еще не забытые забавные слова детской присяги на мече:
— «Меч, меч, тебе голову сечь тому, кто клятву нарушит, на море, на суше, на земле, и под землей, на воде, и под водой, и всюду, и везде, даже во сне».
— Теперь целуй, — потребовала Соня, — как тогда.
Маврикий, ничуть не стесняясь мальчишечьего ритуала, поцеловал уменьшенный кортик, а потом Соню.
— Это тоже клятва.
— Да. И самая главная.
X
Затем они спустились в густые заросли оврага, и вскоре Соня трижды просвистела по-снегириному. Все мильвенские мальчишки и девчонки умеют подражать свисту зимующей здесь птицы. Послышался ответный свист, и сразу же появились Ильюша и Санчик. Они молча поздоровались с Мавриком, протянув ему руки. Илья начал первым:
— Поговорим.
— Поговорим, — ответил Маврик.
— Сядем. Тут сухо. Соня, не уходи, — попросил Санчик. — От тебя нам скрывать нечего.
— Мавр, я не хочу спрашивать тебя, что случилось с тобой. Я не хочу выяснять то, чего нельзя выяснить просто так, на ходу, — сказал Ильюша.
— Да, Иль, лучше не говорить об этом, потому что я и сам себе теперь не могу ответить на очень многое.
— На этом и закроем первый вопрос, — повторил Илья знакомое выражение Терентия Николаевича Лосева и утеплил этим начавшийся разговор. — Ты, конечно, знаешь, во что превратили гимназию, где мы учились, место, на котором стоял дом твоего деда, в котором ты родился. Ты знаешь, что там сидят люди, которых мы все любили, любим и не можем разлюбить.
Ильюша принялся перечислять. Маврикий слышал известные имена сидевших там и молчал. Когда же Ильюшей были названы имена Елены Емельяновны Тихомировой, Варвары Емельяновны Матушкиной, Женечки Денисовой, ныне Кулеминой, жены Павла Кулемина, учителя рисования Аркадия Викентьевича Грачева — Маврикию стало душно.
— Остановись, Иль, — сказал он. — Я не знал этого.
— Ты многого не знаешь, Мавр, — сказал Санчик, — но скоро узнаешь.
Дав отдышаться Толлину, Илья принялся называть новые знакомые имена.
— Каждому из них мы чем-то обязаны, Мавр. И ни одного из них, Мавр, мы не можем назвать плохим человеком. И ты не можешь не желать им добра, какие бы политические убеждения ни были у тебя теперь.
— Да, Иль, да… Я никого из них не могу назвать плохим, какие бы политические убеждения ни были у них. Я за свободу политических убеждений. Я против, когда преследуют за то, что человек иначе думает. И если бы я мог что-то сделать для них, я бы… Я бы, наверно, ни перед чем не остановился. И ты бы. Иль, и ты бы, Санчик, и ты, Соня, увидели бы, что я никому не хочу зла…
— Мы верим этому. Мы знаем тебя. Мавр, — за всех сказал Ильюша Киршбаум. — Но можно ли не хотеть зла тем, кто приносит зло, кто живет и дышит этим злом. Можно ли?
— Нет. Зло не прощается никому. Зло за зло.
— Если б ты это понял не на одну минуту, — сказал Санчик, — а хотя бы неделю был убежден в этом. Тогда бы тебя благодарили многие…
— За что?
Санчик не ответил, зато Иль уклончиво сказал:
— Человек может сделать все.
— Всякий ли? — опустив голову, спросил Маврик.
— Всякий. И даже такой, которому не под силу стрелять из винтовки, может оказаться сильнее и больше многих пустоголовых силачей. Мускулы — превосходство быка, но не человека, — повторил Ильюша любимое Мавриком изречение.
— Тогда говорите, что вы хотите? Зачем-то Сонечка же привела меня сюда к вам.
— Мы хотим от тебя гораздо меньше, чем ты можешь сделать, умный и добрый человек.
— А что же? Говорите! Я не умею ждать…
— Тогда скажи нам так же прямо, как ты говорил когда-то. Скажи, хотел ли бы ты, чтобы все эти хорошие люди, просто хорошие люди, были на свободе? Ведь ты же сказал, что среди них нет плохих.
— Как я могу не хотеть, чтобы они были на свободе?!
— Тогда освободи!
— Мне не до шуток, Иль!
— А я и не шучу. Ни один человек в Мильве… Ни один человек не может спасти их. Только ты.
— Это правда?!
— Правда. Только ты… И это не так трудно, если не торопиться…
— Клянусь, сделаю, что могу!
— Тогда слушай. Мавр… Но помни, что ты клялся, и знай, что ждет тебя за предательство, хотя бы и вынужденное.
Теперь они вчетвером уселись в тесный кружок, и Киршбаум неторопливо и негромко стал излагать план освобождения арестованных из камер. Маврик, как никогда, терпеливо и внимательно выслушал все, не перебивая Илью. А когда он кончил, Толлин сказал:
— Это мне кажется не таким трудным, только кто предупредит их?
— Мавр! Пусть каждый заботится о своем. Соня наш связной. И всякий наш связной, кто скажет тебе условное слово «Аппендикс».
— «Аппендикс»? Зачем же такое гадкое слово?
— Ты его никогда не забудешь. До свидания. Мавр. Вы вернетесь в Мильву с полными корзинами. Санчик, где грибы?
Иль и Маврик наполнили отборными груздями корзины. Маврик, теряя только что внушенную Ильюшей власть над собой, торопился в Мильву, как будто он придет и по мановению волшебной палочки арестованные окажутся на свободе.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
I
Через телеграфные донесения Павла Кулемина, бежавшего из Мильвы, стало известно в Москве об эсеровском мятеже, а позднее об аресте мильвенских большевиков и приехавших из Москвы Валерия Тихомирова и Елены Матушкиной.
В тревожный 1918 год, когда каждое боевое подразделение было на учете, не представлялось возможным послать в далекую Мильву и малые воинские части на подавление мятежа. Мильва и другие заводы, где эсеры праздновали недолгое торжество, были тогда не самыми опасными и большими очагами контрреволюции.
В Москве нашли, что поездка в Мильву Прохорова-Бархатова будет настоящей помощью воинским частям молодого военачальника Павла Кулемина. И Прохоров выехал.
Ему, переходившему государственные границы, не составило труда перейти фронт. Труднее было найти пристанище. Явок больше не было. Мильвенский актив партии в тюрьме. Явиться в чью-либо семью безрассудно.
Прохоров, проболтавшись день на толкучке, меняя мыло на масло, узнал, что управляющий заводом Турчанино-Турчаковский не очень верит в вахтеровскую авантюру. Он только делает вид, что находится в тесном контакте с командующим МРГ.
Зная управляющего Турчаковского как человека хитрого и умного, заботящегося о своей шкуре, Иван Макарович решил побывать у него и получить наиболее полную и верную информацию по всем интересующим его вопросам.
Явившись к Турчаковскому не совсем обычным способом — через окно, выходящее в сад, Прохоров сказал:
— Не извольте беспокоиться, Андрей Константинович. Мы теперь, как никогда, нужны друг другу. Вы мне помогаете сегодня, а завтра я вам. Здравствуйте!
И Турчаковский ответил:
— Здравствуйте, Иван Макарович. Какими судьбами и зачем?
Прохоров улыбнулся.
— Судьбами все теми же — нелегальными, а вот зачем — догадайтесь сами.
Прохоров надеялся на лучшее, но трудно было предполагать, что начнется такая удивительно непринужденная беседа. Турчаковский между прочим спросил;
— Вы, конечно, нуждаетесь в убежище?
— Да нет. Я менее смел и более осмотрителен, чем это кажется.
— Не обижайте меня. У нас иногда ночует один из ваших…
— Кто?
— Прокатчик Самовольников.
— Как объяснить, Андрей Константинович, ваше такое, ну, что ли, покровительство?
— Объясните, Иван Макарович, как вам хочется. Самовольников человек дела. И если он сказал мне: «Добро даже врагу не забывают. Спрячьте меня», — я знаю, что такие, как он, даром слов не бросают. А теперь вы. Да я в бывшей людской переночую, а вас к Матильде Ивановне в спальню упрячу… Ха-ха…
— Неужели вы не шутите, Андрей Константинович?
— Да какие же шутки, батенька мой, когда кругом такой цинизм, и я на фоне этих господ выгляжу очень умеренным пошляком. Снимайте шляпу. Не угодно ли отужинать отбивными а-ля кобыле. С говядиной плохо, — пояснил он самым деловым образом. — И по единой самогоне де-натюре.
— С удовольствием, Андрей Константинович. Если бы вы знали, как я измотался в дороге.
Турчаковский позвонил. Вошла Матильда Ивановна. Она сбавила в весе по крайней мере пуда на два.
— Знакомься, моя милая. Мой старый знакомый, князь курляндский.
Матильда принесла рюмки и графин с мутной жидкостью. И когда эта дурно пахнущая гарью жидкость была разлита, Турчаковский предложил тост:
— Выпьем за разумное единение противоречий!
— Выпьем, — сказал, чокаясь, Прохоров.
II
От Турчаковского, а потом и Самовольникова Прохоров узнал больше, чем ожидал. Скорый в решениях, он поставил первой задачей освобождение арестованных и второй — освобождение Мильвы. Так же думали и в штабе Медвеженского фронта. И Павел Кулемин, и Самовольников, и, конечно, Прохоров ни на минуту не сомневались, что при отступлении Игонька Краснобаев уничтожит до последнего человека, сидящих в камерах.
Способ освобождения родился сразу же, как только Иван Макарович узнал о племяннике. Прохоров куда меньше, нежели Валерий Всеволодович, был удивлен поведением Маврикия. Он считал вполне закономерным, что мальчишка, выросший в религиозной среде, воспитанный на сентиментальном всепрощении, не мог не попасть под влияние такого многоопытнейшего политического дельца, как Вахтеров. Но Прохоров также был уверен, что не очень много нужно, чтобы правдивый мальчишка понял, что происходит вокруг, и извлек урок из своего прекраснодушия.
Узнав, что Маврикий ведает библиотекой училища и что ему разрешен доступ в верхний этаж, куда свалено все принадлежащее училищу, Бархатов решил было встретиться с ним и начать прямой разговор:
— Как же это ты заблудился, бараша-кудряша, в трех соснах?
Подумав же, Иван Макарович побоялся испортить дело, обидев самолюбивого парня. Поэтому был найден путь окольный, через Соню Краснобаеву и ребят, поселившихся в Каменных Сотах. Этому помог Ефим Петрович Самовольников, оказавшийся редким смельчаком и мастером конспирации. Он легко переходил Медвеженский фронт. Отсыпался там, потом возвращался в Мильву для связи с боевыми тройками, пятерками, которых с каждым днем становилось больше и больше. По плану Самовольникова эти-то группы, соединясь в одну из ночей, должны были напасть на камеры и освободить заключенных.
Прохоров-Бархатов нашел это предприятие обреченным на гибель. Охрана сразу же подняла бы на ноги гарнизон. И все бы кончилось в лучшем случае спасением нескольких человек. Остальные были бы перебиты по приказу попечителя камер Игнатия Краснобаева. Прохоров хотел действовать только наверняка. И когда Самовольников узнал о задумываемом Иваном Макаровичем, он понял его, что называется, с полуслова и сказал:
— Только бы не струхнул мальчонка…
— Об этом думаю и я, Ефим Петрович, — сказал Прохоров, когда они возвращались в Каменные Соты.
Вскоре после встречи с Сонечкой Краснобаевой, Ильюшей и Санчиком решили действовать.
Сначала нужно было достать поэтажный план дома бывшей гимназии. И Соня достала его у Всеволода Владимировича Тихомирова. Ведь он строил этот дом.
Все классы, коридоры, дымоходы, вентиляционные колодцы, дверные проемы были нанесены на кальку самым тщательным образом. Теперь все упиралось в Маврикия Толлина.
Долго инструктировал Соню и ребят Иван Макарович. Предусматривалось все. И самый худший вариант, если Толлин откажется выполнять поручение. В этом случае он не вернется из леса. Его переправят через фронт к Павлу Кулемину. Там он будет в безопасности. Его никто не тронет. Но не будет угрожать и другая опасность: Маврикий не сумеет проболтаться о плане освобождения большевиков. Опасения, как мы знаем, не подтвердились. Иван Макарович находился в кустах, слышал, как разговаривали Илья и Санчик с Мавриком. Он видел лицо своего племянника. Слышал его голос, в котором чувствовалась решимость. Иван Макарович, зная давно, еще с детства, все закоулочки души своего любимца, был совершенно уверен в твердости его клятвы. Иван Макарович теперь был доволен, что благоразумие остановило его и он не встретился с Маврикием и на этот раз в лесу, когда ничто не мешало этой встрече.
Эта встреча была не нужна. Она бы в значительной степени умалила в его глазах подвиг освобождения. Он тогда бы чувствовал, что им руководят взрослые и что не он и его сверстники затевают такое, что никогда и никому из штаба МРГ не придет в голову.
Маврикий, кажется впервые, почувствовал себя взрослым человеком. И уж во всяком случае, становящимся взрослым.
Ему так хотелось тогда поделиться с тетей Катей, — нельзя изменять клятве. Нельзя рисковать жизнью стольких хороших людей. И пусть эти хорошие люди узнают потом, когда они очутятся на свободе, что он, Маврикий Толлин, верен себе и своим убеждениям. Он выше партийных и всяких других предрассудков. Он против произвола и насилия, от кого бы они ни исходили — от штаба МРГ или комитета РКП (б).
Уж если свобода всем, так пусть она будет свободой всем.
Если б знал об этих завихрениях в голове своего племянника Прохоров, ему было бы над чем задуматься…
III
Торопливость и нетерпение чуть ли не с колыбели были беспокойными спутниками Толлина. А план освобождения арестованных требовал большого терпения. Маврикий должен был постепенно и осторожно заполнить взрывчатыми веществами вентиляционный канал брандмауэрной стены. Для этого ему приходилось опускать приносимый Соней динамит небольшими порциями на дно канала стены, наравне с полом нижнего этажа. Толлину каждый раз приходилось подыматься на библиотечной переносной лестничке, вынимать вентиляционную решетку, ставить ее на пол, затем снова подыматься и опускать на нитке очередную дозу.
Маврикий знал, что всякая взрывчатка, начиная с обычного пороха и кончая пироксилиновыми шашками, взрывается тем сильнее, чем теснее взрыву. После семнадцатого года, когда можно было запросто купить или выменять оружие вплоть до пулемета «максим», Илька и Санчик без труда доставали на каменоломне, на вскрыше нового рудника динамит, капсюли и бикфордов шнур. Вставив, бывало, капсюль со шнуром в динамитную «колбаску», поджигали шнур и бросали динамит в омут. Шнур замедленного действия горел не так быстро. Ребята успевали на всякий случай лечь, потому что силой взрыва подымалась не одна вода, но и речные гальки, коряги… И вообще предосторожность не была лишней.
Чем больше заполнялся канал взрывчатыми веществами, тем беспокойнее становилось на душе Маврикия. Ему казалось, что этого мало, что сила взрыва окажется недостаточной, чтобы образовать большую брешь в стене, через которую можно будет освобожденным выбежать не толпясь. И он вспомнил о порохе, припрятанном в Омутихе на дальней пасеке. Там же в заброшенном муравейнике лежали цинковые банки с патронами. Сидор Петрович в свое время скупал всё. Трудно представить и понять, почему Сидор Петрович не передал патроны армии, сражавшейся за него, за его ферму. МРГ очень нуждалась в патронах. И Сидор Петрович знает это. Но ведь патроны принадлежат ему. Они его собственность. Как он может отдать просто так. А их не купят в штабе. Отберут, и всё.
Маврикий решил разрядить патроны, взять хороший бездымный порох и высыпать его в вентиляционный колодец для полной гарантии взрыва.
Это было не под силу сделать одному. Соня позвала на помощь Ильюшу и Санчика.
Быстро опустела муравьиная куча. Они легко перетаскали банки с патронами в камыши. Спрятавшись там, все четверо вдруг почувствовали себя в детстве. Не столь далеком, но уже бесповоротно ушедшем. В этих камышах друзья играли когда-то в разбойников.
— Ильюша! — первым заговорил Маврикий. — Иногда мне кажется, что мы все еще играем в войну.
— Ты знаешь, и мне временами кажется, что все происходит не очень всерьез… Кроме пуль… Пуль, которыми мальчики, вроде Юрки Вишневецкого, убивают на самом деле… И наступает настоящая смерть… Я убегал тогда через тайные лазы краснобаевского огорода, которые мне в детстве показал Санчик. Я так же, как и в детстве, продирался через заросли репьев… И все было, как в игре, кроме смерти, которую несли те, с кем мы сидели вместе за партами.
Маврик, слушая Ильюшу, тяжело вздохнул и вспомнил о своем:
— В Петрограде в начале июля прошлого года, когда чуть ли не все вышли на улицы, побежал и я. Где-то постреливали. И это казалось даже забавно. Какие-то хлопки чуть не из елочных рождественских хлопушек. Пуля тогда царапнула мне плечо. Я был очень легко ранен. Очень легко, но пуля все же скользнула по спине не так далеко от сердца.
— Это правда, Мавр?
— Нет, я это выдумал, Иль! Я ведь всегда выдумываю. Но на этот раз выдумка оставила след. Извини, Соня.
Маврикий снял рубашку и показал красную черту, идущую наискось по спине от левого плеча.
— Почему же ты не рассказал нам тогда об этом?
— Я многое скрыл. Особенно после второй поездки в Петроград прошлой осенью. С меня хватит и того, что меня Назвали вралем за то, что я рассказал, как был в Смольном. Меня бил за это отчим. И пусть, он все равно не мог выбить того, что произошло в Смольном и во мне. Это ли я готов был перенести. В моих ушах звучали ленинские слова. Я чувствовал себя большевиком. И я так верил, что началось счастье народа, а началась… — тут Маврикий перевел дыхание и повернул лицо к камышам, — началась диктатура и… И кровь. И вскоре все померкло для меня.
Маврикий умолк и принялся для чего-то пересчитывать полуфунтовые коробки с охотничьим порохом. Молчали и остальные. Ильюша понимал, что лучше не продолжать разговор на эту, как видно, не легкую для Маврикия тему, но все же не удержался и спросил:
— Пусть так. Но неужели Вахтеров зажег для тебя свет?
Маврикий ответил не раздумывая, не ища слов:
— Да, он многое зажег… Но недавно он сам угас для меня.
— Значит, угасло и то, что проповедовал он. Не так ли, Мавр? — спросил Ильюша. Глаза Санчика и Сони будто повторяли этот же вопрос.
Ответ последовал сразу же. Видимо, Маврикий, разговаривая с самим собой, задавал себе этот вопрос и отвечал на него:
— Видишь ли. Иль, от того, что Мирослав Томашек оказался не очень хорошим человеком и, пожалуй, даже плохим человеком, от этого не стали хуже произведения Дворжака и Сметаны, с которыми он познакомил нас. И если мне скажут, что Мирослав Томашек не любит ни Дворжака, ни Сметаны, их музыка не перестанет быть великой музыкой.
Маврикий не стал рассказывать о том внепартийном государстве равных, где отношения людей-братьев и законы строятся на взаимном уважении людей и доверии всех классов.
Как невозможно было Ильюше Киршбауму внушить возможность создания такого идеального государства, так же и Маврикию нельзя было доказать, что нет абстрактного, отвлеченно существующего благородства. Он бы не сумел, да и не захотел разрушить построенное внутри себя иллюзорное общество равных, основанное только на высоких законах нравственности.
И это призрачное общество равных, представлявшееся в разное время по-разному, было так дорого Маврикию, что, ничуть не преувеличивая, он мог пожертвовать для него всем. Но рассказывать об этой самой сокровенной мечте не хотелось даже тете Кате. Она тоже не поняла бы и, как знать, неосторожным суждением оскорбила бы самое дорогое. Ну, а уж открывать это все Ильюше с Санчиком было просто неосмотрительно. Поэтому Маврикий сказал:
— Больше не будем об этом. Давайте разряжать патроны.
Санчик, Ильюша и Сонечка переглянулись. Им очень не хотелось разряжать хорошие винтовочные патроны. В них так нуждались за Медвежкой части Павлика Кулемина. Нуждались и в Каменных Сотах. Поэтому Санчик сказал:
— Павлик за каждый бы такой патрон по три спасибо сказал тебе, Маврик.
На это было отвечено так:
— Я, Санчик, сегодня в первый раз нарушил заповедь «Не укради». Я украл эти патроны не для смерти людей, даже такого… Такой дряни, — поправился он, посмотрев на Сонечку, — как Игнатий Краснобаев. Эти патроны украдены для жизни… Разряжайте и высыпайте порох в эти пивные бутылки. Мы их с Сонечкой легко перетаскаем на третий этаж.
Спорить было нельзя. Поссориться из-за патронов тем более было невозможно. Ильюша, Санчик и Соня принялись, осторожно расшатывая пули, вынимать их из шейки гильз и высыпать порох в бутылки.
Ильюша и Санчик надеялись, что, не разрывая шеек гильз, они зарядят патроны другим порохом, и патроны будут пригодны к стрельбе.
IV
По Мильве прошел слух, что кто-то видел Прохорова-Бархатова в офицерской форме без погон. Больше всех этот слух встревожил Игнатия Краснобаева. Встревожил настолько, что, храбрый в камерах и при арестах, теперь он панически боялся появляться без охраны на улицах Мильвы. Он знал силу, храбрость, умение владеть собой этого подпольщика, бежавшего с каторги, переходившего из страны в страну, большевика, охранявшего Ленина и выполнявшего его труднейшие поручения.
Он даже допускал, что Прохоров мог появиться в одежде попа, торговки, а то и командира МРГ. Придет в камеры и прикончит Игнатия Краснобаева или, того страшнее, выкрадет его.
Этот может сделать все, и никто теперь не поручится, что его люди не работают в камерах. Такой может оказаться и сама Манефа, которая спокойно, как связанному барану, перерезает горло не желающему отвечать.
Теперь нужно повременить с расстрелами. И особенно беречь «фондовых» коммунистов. Заключенные не понимали, почему проявляется такая забота. Почему вместо нар поставили кровати? Почему родным разрешили принести матрацы, простыни, одеяла и подушки? Почему появился шкаф с книгами? Шкаф с обеденной и чайной посудой? Что это? Игра? Какая? Во имя чего?
Очень странно. И совсем странно, что некоторые из второстепенных арестованных были выпущены без всяких подписок.
В городе прекратились аресты, если не считать, что за решеткой оказалась тетка Маврикия, Екатерина Матвеевна Зашеина. Арестовать ее пришла Манефа и конвоир. Манефа сказала:
— Я подневольный солдат, Екатерина Матвеевна. Но верьте мне, с вами ничего не произойдет. Будете сидеть в учительской с сестрами Матушкиными. Кроватки честь честью, и никакого плохого обращения.
— А за что? — спросила Екатерина Матвеевна. — Я ведь не состояла в партии.
— И я так же объясняла, а они другое. Ну, да там вам сразу объяснят, почему и как. Давайте я вам помогу одеться…
Манефа привезла Зашеину в закрытой карете и поселила ее в учительской с Еленой и Варварой Матушкиными. У них теперь, как и у «фондовых», тоже были нормальные кровати и зеркальный шкаф для платьев.
На любезном допросе Екатерина Матвеевна сказала Игнатию Краснобаеву, что она не только все эти дни не встречалась со своим мужем Иваном Макаровичем, не только не получала от него каких-либо известий, но и впервые слышит, что Иван Макарович в Мильве.
Игнатий, зная Зашеину как свою давнюю соседку, верил ее словам и теперь раскаивался, что Екатерину Матвеевну не оставил на свободе. Тогда бы ее квартира могла стать ловушкой. А вдруг явится Прохоров к своей жене?
Но и в этом его разубедила Екатерина Матвеевна.
— Едва ли, — сказала она, — такой осмотрительный Иван Макарович мог пренебречь моим покоем и впутывать меня в политические дела.
Попечитель «камер изоляции» с каждой минутой убеждался, что совершил ошибку, исправить которую было не легко. Выпустить Зашеину, не боящуюся говорить правду, значило совершить вторую ошибку. И без того мильвенская молва раскрывала истинные цели мятежа и тайны «стратегических камер». Женщины в этом отношении всегда были смелее мужчин. Екатерина Матвеевна, запомнившаяся своим мужеством в единоборстве с кладбищенским попом и мильвенским протоиереем, возмущенная оскорбительным арестом, могла поднять такое недовольство, что Вахтеров во имя торжества справедливости и наказания бесчинствующих не пожалел бы головы попечителя камер. Этот артист почище Всесвятского. Игнатий Краснобаев понимал, что Вахтеров не пощадит и родной матери, лишь бы обелить себя.
Екатерину Матвеевну решено было задержать в камерах до лучшей обстановки на фронтах и в Мильве. Так, наверно бы, и произошло, но из Екатерининской часовни ушла икона великомученицы Екатерины. Не исчезла, а ушла. Об этом недвусмысленно говорил не только блаженненький Тишенька Дударин. Так говорили сотни женщин.
После двух революций 1917 года, после отделения церкви от государства стало светлее во множестве человеческих душ. Во множестве, но едва ли в большинстве. Особенно применительно к Мильве.
Все в Мильве знали, что Тишенька Дударин безобидный умалишенный, болтающий, бегая по улицам, всякую чепуху. Но можно ли не обращать внимания, когда Тишенька Дударин, привязав к палке линялый, выгоревший сатиновый, некогда красный платок, носится по улицам, как со знаменем, и устрашающе кричит:
— Белеет, белеет, белеет оно, почтенные! Свят-свят-рассыпься! Матушка пресвятая Екатерина-великомученица, пощади, пожалей раба дьяволова Игнатия, помяни его во царствии твоем…
И снова, потрясая палкой с линялой бело-розовой тряпкой:
— Белеет, белеет оно, почтенные!
И так неутомимо с утра до вечера. Есть простой способ заткнуть рот Тишеньке — выстрелить в дурачка, и все. А простой ли это способ? Не побелеет ли еще более знамя, притворяющееся красным?
Для Тишеньки нашли способ. Изловили. Дали снотворного. Предупредили мать не выпускать его из дому, но на месте Тишеньки появился другой — образованный и уважаемый ревнитель правды, веры, проповедник христианского социализма отец Петр. Он твердо был убежден, что святое Евангелие и есть учение о социализме и коммунизме, искаженное при последующих переписках в угоду светским владыкам богословами и толкователями. Доказательств немало. Апостол Павел до Маркса сказал: «Неработающий да не ест». А заповеди разве не являются первоисточниками учения о коммунизме?
V
Отец Петр не верил в общепринятого православной церковью бога. Для него бог был усложнен и упрощен — это царствие божие и все светлое, высокое, чистое внутри нас, изгоняющее все низменное, человеконенавистническое и жестокое, также порождаемое нами.
Образованный богослов не мог верить, что великомученица Екатерина, протестуя, ушла из Екатерининской часовни, называвшейся в народе Зашеинской часовней. Но если этому верят многие — значит, таков их внутренний свет, их правда, их нравственное величие. Опровергать это — значит низвергать царствие божие внутри них.
А если это так, то может ли их пастырь остаться в стороне?
Возникло стихийное шествие женщин, которое походило одновременно и на демонстрацию и на крестный ход. Рядом с хоругвью нерукотворного спаса несли такое же подобие хоругви, на котором определенно требовалось: «Свободу невинным узникам».
Крестный ход-демонстрация, увеличивающаяся с каждым кварталом, достигла пятисот и более человек. Была тут и Кумыниха-Васильевна, и Санчикова бабка-нищенка, и Маврикова мать. Она не могла не пойти. Тогда бы сказали, что Любка Непрелова пошла против своей старшей сестры.
Участники хода-демонстрации, остановившись перед зданием бывшей гимназии, неизвестно почему запели «Символ веры» — «Верую во единого бога-отца, вседержителя, творца…». Запели, может быть, потому, что это одна из самых длинных и всем известных молитв.
Испуганный и трясущийся Игнатий Краснобаев метался от окна к телефону, не зная, что предпринять. Звонить командующему — значит навести на себя гнев. Решать самому? Как? А события нарастают.
Отец Петр, в белом холщовом подряснике, в епитрахили и камилавке, в простых солдатских сапогах, с горящими глазами, направился с поднятым над головой, сверкающим позолотой крестом к главному входу.
Часовые:
— Стой!
Глуховатый отец Петр не слышит. Да если бы и слышал, то кому «стой»? Христу — «стой»?
Часовые спрашивают:
— Ваш пропуск!
Отец Петр слышит и не слышит.
Часовые взяли на изготовку и направили штыки на священника. Пение оборвалось. Послышался истошный визг сотен голосов. Юродивые забились в истерике у входа. Кликушествующая нищенка из кладбищенской церкви, роняя пену изо рта, завопила:
— Разверзнись, небо! Разверзнись… разверзнись… — требовала она от небес, потрясая рябиновым посохом.
Отец Петр вошел внутрь дома в открывшуюся и тут же захлопнувшуюся дверь.
Разъяренный, теряющий человеческий облик попечитель-палач кинулся к отцу Петру, вырвал из его рук тяжелый крест и с размаху ударил им плашмя по лицу священника.
Кровь на лице. Кровь на кресте.
Но на этом не остановился теряющий рассудок Игнатий Тимофеевич Краснобаев. Он выскочил из главного входа и принялся стрелять из нагана в женщин.
— Я покажу вам, гадины… Я научу вас…
Его голос был заглушен конским топотом. Командующий МРГ примчался с конным отрядом, еле остановив свою лошадь. Ему донесли о демонстрации с хоругвями. И он готов был произнести пламенную речь, освободить, а затем преклонить колено перед безвинно арестованной Зашеиной и публично наказать анархиствующего попечителя пятнадцатью сутками гауптвахты. И все было бы улажено. А теперь…
Окровавлено лицо священнослужителя, окровавлен и крест. Ранены две старухи. Плач женщин.
Медлить, выяснять и спрашивать невозможно. Оправдываться нужно только сильными и решительными мерами. По приказу Вахтерова скручивают руки шефу «стратегических камер». Его подводят к командующему. И Вахтеров хорошо поставленным голосом произносит:
— Именем свободы и народа…
Прогремел выстрел. Пуля размозжила череп. Бездыханного Игнатия Краснобаева уволакивают за ноги во двор соседнего дома. Командующий сказал еще не все. Он завершил речь, осеняя себя крестным знамением, забыв, что на осеняющей правой руке висит нагайка.
— Так будет со всяким надругавшимся над святыми принципами «Свободной России».
Затем он приказал с почестями освободить дочь потомственного рабочего и прославленного мастера Екатерину Матвеевну Зашеину и пострадавшего за Христа революционного священника-социалиста преславнейшего отца Петра.
Обманутые демонстранты облегченно вздохнули. Раненых унесли на носилках. Зашеиной и отцу Петру подали открытые кареты. Женщины-«победительницы» ликовали, благодарили, крестились.
Много ли надо, чтобы обмануть доверчивых людей.
Труднее обмануть тех, кто сидел в камерах и видел происходившее на улице. Освобождение Екатерины Матвеевны из камеры, спекулятивное убийство попечителя камер говорили не о силе мятежников, а о распаде их сил.
Для Маврикия должно бы стать убийство попечителя заслуженным наказанием за оскорбительный арест его тетки. Но Маврикий понимал, что Вахтеров не наказывал выстрелом близкого ему человека, а, выгораживая себя, желая укрепить остатки своей репутации, совершил предательское убийство.
Убив ненавистного палача Игнатия, Вахтеров, не подозревая того, убил себя. Убил в глазах не одного Маврикия Толлина.
VI
Наутро икона великомученицы Екатерины вернулась в свою часовню, и на всех улицах говорили об этом. И никто не знал, что ее выкрала просвирня Дударина и она же вернула ее в часовню.
Несчастная любовница безбожного кладбищенского попа Михаила на склоне лет до самоистязания принялась замаливать свои и чужие грехи.
Покойный поп умер не прощенным Екатериной Матвеевной за надругание над ней и над ее племянником Маврикием. И теперь по наущению самого бога Дударина унесла из часовни икону великомученицы и по его же наущению вернула ее обратно.
Ангелина Дударина свято верила, что не кто-то, а она помогла освободиться Екатерине Матвеевне. Грешной просвирне очень хотелось верить, что не без ее помощи был наказан смертью попечитель камер, но лучше не приписывать себе и оставить богу то, за что можно понести наказание.
Временно исполняющим обязанности попечителя камер была назначена Манефа. Ей приказали не допускать ничего унижающего «временно изолированных по стратегическим соображениям».
В камерах стало тихо. Никого не допрашивали и не пытали.
Командующий вспомнил и о племяннике Екатерины Матвеевны Маврикии Толлине. За ним прискакал ординарец командующего.
— Друг мой юный и верный, — обратился Вахтеров к Маврикию, выходя из-за своего стола в ставке. — Кажется, нашлась такая часть, в которой ничто не помешает тебе служить. Я формирую полевую почту. Хочешь?
Толлин очень вежливо поклонился и еще вежливее сказал:
— Мне очень приятно, Геннадий Павлович, быть приглашенным в полевую почту. Это так подходит для моего роста. Но, Геннадий Павлович, мне надо прийти в себя после того, что случилось…
— А что именно, мой дружок? — спросил необыкновенно участливо, будто и не зная, что произошло.
— Екатерина Матвеевна моя тетя. Та самая тетя Катя, о которой я так много рассказывал вам…
— Ах! — схватился за голову Вахтеров. — Как затуманила мне голову война… Да, да, да… Теперь тебе нужно быть с тетушкой, успокоить ее. И забыть самому эту подлую историю, которой нет названия.
Толлину был подарен небольшой браунинг и коробка патронов к нему. Маврикий не отказался. Как можно было отказаться от подарка командующего, да еще от такого, который может пригодиться в трудную минуту.
Сонечка, не выпускавшая из виду Маврикия, встретила его на плотине, и он рассказал ей о встрече с Вахтеровым. Это обрадовало Соню.
— А я боялась, что тебя не будут больше пускать на третий этаж.
— Напротив. Я теперь могу считаться награжденным оружием самим командующим. — Он показал ей браунинг и спросил: — Долго ли?
Соня и на этот раз ответила уклончиво:
— Я думаю, на этих днях.
Она не могла сказать, что еще нужно было предупредить Валерия Всеволодовича, или Кулемина, или хотя бы Лосева о дне и часе взрыва, чтобы они в последний час перед взрывом отошли как можно дальше от брандмауэрной стены и отвели других, а потом объявили побег.
Соня не могла сказать, что Ефим Петрович Самовольников давно уже принимает меры, чтоб предупредить арестованных. Самовольников должен был осуществить один из трех способов предупреждения заключенных.
Первый, менее надежный, но вполне осуществимый способ — это передача через доктора Комарова, проверявшего для видимости состояние здоровья заключенных в камерах. Он должен передать шифрованную записку Тихомирову.
Второй способ состоял в том, что престарелая Матушкина, находясь в крайне тяжелом состоянии, хочет увидеться с любимой дочерью Еленой. Что тоже вероятно, хотя и сомнительно. В этом случае Сонечка Краснобаева, ухаживающая за больной, передаст ей о дне и часе взрыва.
И наконец, третий способ — это подвыпивший Самовольников попадет в камеры.
Сверх ожидания удались все три способа.
Ефим Петрович Самовольников в крестьянской одежде, с лукошком яиц явился к доктору Комарову и, оставшись с ним наедине, сказал:
— Николай Никодимович, вы меня можете и не знать, но Ивана Макаровича Прохорова вы, надеюсь, хорошо знаете. Так вот я от него. Сам он не мог пожаловать по недостатку времени. Прибыли новые шестидюймовые пушки. Так что ему, как комиссару Медвеженского фронта, приходится сильно помогать молодому командиру Павлу Кулемину. И он поручил мне…
Самовольников внимательнейше смотрел за бегающими глазами Комарова, за вздрагивающей челюстью и побелевшим лицом. Это было хорошим признаком, и Самовольников приступил к сути:
— Вам, Николай Никодимович, не составит труда передать лично Валерию Всеволодовичу вот эти зашифрованные приветы от друзей и товарищей.
— Хорошо, — не колеблясь согласился Комаров.
— Благодарю от имени… И от себя лично. Иван Макарович сказал, что не забудет вам услуги. Ну, а если… Николай Никодимович, по какой-либо случайности вы не сдержите своего обещания, это нам будет известно, и тогда не извольте обижаться…
— Напрасно вы так… Я никогда не был трусом. Я передам это потому, что, вне зависимости от политических убеждений, Валерий Всеволодович всегда был человеком, которым я восхищался.
— Ну, вот и полная договоренность. Счастливо. А яички я оставлю для маскирации, — сказал Самовольников и ушел.
Записка, состоящая из цифр, была передана доктором в тот же день.
VII
На другой день «подобревший» командующий разрешил Елене Емельяновне Матушкиной навестить мать. Ей стало лучше на прошлой неделе, и теперь она чувствовала себя здоровой, но Соня объяснила ей, почему нельзя подыматься с постели.
Елену Емельяновну привезла в закрытом экипаже Манефа.
— Какие узоры вышивает судьба, только подумать, — начала она разговор в экипаже. — Давно ли на этой улице замирялась наша школа с вашей земской и потом ваша школа была у нас на елке и наша у вашей. А что теперь?
— Удивительно. Очень удивительно, — так же непринужденно разговаривала Матушкина, будто разговор шел в перерыве учительского совещания или за чайным столом. Будто в экипаже находились не палач и арестованная.
Прошли через кухню. Дверь открыла Сонечка Краснобаева. Манефа не пошла в комнату к больной и осталась за перегородкой. Но так как через тонкую тесовую перегородку слышен и шепот, Соня не могла сообщить о взрыве. Елена Емельяновна, заметив это, спросила Сонечку:
— Н-ну, нерадивая ученица, как у тебя с французским?
И та, просияв, ответила — стала читать без запинки хрестоматийное французское стихотворение «Маленький трубочист». А потом она, зная, что Манефе неизвестно по-французски ничего, кроме «пальто», трижды сообщила о дне и часе взрыва глухой стены дома гимназии.
— Очень хорошо, — сказала по-русски Елена Емельяновна. — Я тебе ставлю пятерку. Только ты должна работать над произношением. И потом, когда говорят, что часы пробили столько-то, всегда добавляют утра или вечера.
— Вечера, конечно, вечера. Разве я не сказала? Извините, пожалуйста.
Прощаясь с матерью и Соней, Елена Емельяновна успокоила мать:
— Не надо волноваться, мамочка. Нельзя обижаться на стратегический арест. В таких случаях всегда берут заложников. Нас содержат очень хорошо. И даже выдают папиросы. Выздоравливай, родная моя.
— Твои слова лучше всякого лекарства. Скажи спасибо Манефе Мокеевне за добрую ее душу и заботу о вас. Екатерина Матвеевна очень хвалила вашу надзирательницу.
Манефа готова была растаять, слыша эти слова. Жестокость, а теперь кровожадность уживались в ней с сентиментальностью. Она была до того польщена отзывами, что на обратном пути шепнула Елене Емельяновне:
— Хотите, я вас освобожу…
— Да что вы, дорогая моя… Куда? Зачем? Это же верная гибель. Нет уж, Манефа Мокеевна, от вас я ни на шаг.
Размякшей Манефе хотелось сказать, как ошибается Матушкина, как напрасно она, смертница, считает себя заложницей. Но разве можно раскрывать ей это? Вот когда дело дойдет до расстрела, она вытолкнет Матушкину за двери черного хода и шепнет: «Спасайтесь!»
Удался и третий способ. Арестовали пьяного Самовольникова, задиравшего часовых камер. Он сел накануне взрыва, и, узнав, что Тихомирову все известно, Самовольников стал морочить голову надзирателю. Он попросил у него «опохмелиться» и принялся давать ему «ценные» сведения.
Из разговоров допрашивающий Шитиков понял, что Самовольников будет верно служить ему внутри камер и сообщать о каждом из сидящих. Пообещав его наградить, Шитиков потребовал дать подписку служить секретной службе МРГ. И Самовольников дал примерно такую же подписку, какую давал Шитиков-Саламандра, вербуясь агентом жандармского управления.
В первый же день надзиратель Шитиков получил от Самовольникова «ценные сведения» о возможной голодовке заключенных, которым не дают прогулок и плохо проветривают их помещения.
VIII
Осень все настойчивее и громче заявляла о себе шумом ветра, противным шелестом дождей и прощальными криками улетающих птиц.
Маврикий, ночевавший у тетки, проснулся поздно. Пришла Соня. Улучив минуту, когда Екатерина Матвеевна вышла на кухню, она шепнула:
— Это будет сегодня…
У Маврика снова сильно забилось сердце, и он опять начал немножечко заикаться, а затем, как это бывало, почувствовал себя сильным, смелым, ничего и никого не боящимся человеком.
Как медленно стали двигаться стрелки двух часов, которые принесла ему Соня и сказала:
— Остановятся одни — не подведут вторые.
Нужно быть очень точным. Очень. Сонечка сказала, что шнуры нужно поджигать ровно в шесть. Точно в шесть. Ни на минуту раньше. Нужно убедиться, что подожженные шнуры горят. Закрыть все двери на ключ. Проверить, что они закрыты. Каждую дверь дернуть. Забить скважину последней двери глиной. Не оглядываясь, выйти во двор, потом через калитку на Большой Кривуль. И, не ожидая взрыва, отправиться к Сперанским. Просто так. Давно не виделись. Времени хватит. Шнуры замедленного действия будут гореть шесть минут. Ровно шесть.
Кто-то очень умный, предвидящий все, инструктировал его через Соню. Не Санчик, не Иль. Так мог только Иван Макарович или Кулемин. Но один — в камерах, а другой — в Москве. Не поверил бы Маврикий, если бы кто-то сказал ему, что Иван Макарович с небольшим отрядом проводников залег в огороде Кулеминых за старой баней и тоже сейчас, волнуясь, следил за стрелками часов. Следили за стрелками дважды перепроверенных часов и Артемий Гаврилович Кулемин, Григорий Савельевич Киршбаум и Валерий Всеволодович Тихомиров. Они уже обезоружили и связали Шитикова, заперев его в стенном шкафу, где хранились географические карты. Закрыты изнутри входные двери. Кулемин с отобранным наганом стоит у главного входа на случай, если кто-нибудь будет ломиться.
Медленно ползшие стрелки часов пошли быстрее, когда время приблизилось к шести. Они пошли совсем быстро, когда до шести оставалось пять минут. За две минуты из камер, близких к брандмауэрной стене, были выведены заключенные.
Спички наготове. Обе коробки. Неужели что-то помешает? Удивительно, но именно в этот вечер разбегались крысы. Спокойно, Маврикий. Он вынул вентиляционную решетку. Если бы кто-то постучал, он все равно успел бы вытянуть оттуда и поджечь бикфордовы шнуры, и ничто их уже не погасило бы.
Спички в руках. В руках зажигалка. Это ничуть не смешная предосторожность. Он смотрел на секундные стрелки часов. Одна обгоняла другую. И пусть. Секунды не играли роли. Успокойся, сердце. Тверже, руки. Чирк! Зажег один шнур. Зажег второй. Спокойно пошел к дверям. Открыл и закрыл одну дверь. Потом вторую. У нее всегда заедало ключ. Теперь он как по маслу. И вот она, третья. Закрыл. Вот ком глины. Замазал скважину. Вот двор.
Дорогу перебежала кошка. Ничего. Она не черная. И не чья-то, а добрый сторожихин, теперь бездомный кот Клякса.
Вот и Большой Кривуль. Прошло только полторы минуты. Еще полторы или меньше, и он у Сперанских.
— Здравствуйте! Мальчики дома?..
— Да, проходи, Маврик… Они пьют чай.
Послышались выстрелы и взрывы.
Нет, это не там. Это совсем в другой стороне. Там, где фронт!
— Куда вы? — остановила сыновей мать.
— Тревога! — крикнул старший. — За мной!
Все выбежали на улицу. А там мчались верховые. Бежали солдаты в сторону пальбы и взрывов.
Маврикий мельком посмотрел на часы. И минута в минуту, как сказала Сонечка, послышался рев. Глухой рев. Это и порох, и динамит, и гранаты, взрываясь внутри стены, дали такой протяжный гул.
— Наверно, на заводе взлетел на воздух котел, — высказал подозрение старший Сперанский.
— Наверно, наверно, — обрадованно согласился Маврик, не желая ни при каких обстоятельствах идти к зданию бывшей гимназии, куда так тянуло и так хотелось узнать, какова брешь в стене, спаслись ли узники и кто снял часовых.
Но на это сейчас отвечала всеобщая паника. Слышались крики:
— Спасайтесь! Пашка Кулемин прорвал фронт!
— Окружают…
Кто бы поверил, что эта паника была обязана рабочим парням из Каменных Сот. Они заставили стрелять все — и дедовские шомполки, и шурфы в каменоломнях, и динамит, зарытый в землю цепочками гнезд.
Илья Киршбаум, Санчик Денисов с товарищами подняли пальбу, чтобы привлечь внимание к лесу и тем самым обезопасить побег из камер.
И это им удалось.
Одни действовали за городом, другие в городе. У самых камер они кричали о прорыве на фронте, о спасении бегством. Поэтому часовые у главного входа и под окнами бывшей гимназии покинули посты до взрыва стены.
Маврику очень хотелось увидеться с Соней. Но ему строго-настрого было наказано не отлучаться от Сперанских. Чтобы никакой тени подозрения. Сейчас Маврикию становилось ясно, зачем нужна была такая точность взрыва. Нет, нет, не Иль с Санчиком затеяли это все. И не одна молодежь произвела такую невероятную операцию.
Сперанские вызвались проводить Толлина до дому. Все-таки ночь тревожна. Когда они проходили мимо торговых рядов, им встретился бежавший на сумасшедшей рыси Тишенька Дударин. Он возвещал:
— Гуль-гуль-гуль… Все голуби под крыло к Ленину полетели… Гуль-гуль-гуль… Одна только бабушка осталась. Гуль-гуль-гуль, — размахивал он руками, как крыльями.
Значит, спаслись. У Маврика от счастья подкашивались ноги.
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
I
Наутро все узнали о побеге заключенных. Хотя здание «стратегических камер» было оцеплено, но многие уже видели большой пролом в стене после взрыва.
Газета «Свобода и народ», вышедшая рано утром, рассказывая о ночных беспорядках, говорила о банде совдеповских анархистов, которые полностью пойманы, как и подавляющее большинство заключенных.
На самом же деле из освобожденных была задержана, как вчера ночью исчерпывающе точно сообщала «бегающая газета» Тишенька Дударин, только одна старуха Анна Зарубина, мать токаря Зарубина, спрятавшего у нее дома пулемет. Старухе отказали ноги. Остальные же группами были уведены проводниками Прохорова-Бархатова окольным путем через прикамский лес в штаб Медвеженского фронта. И все добрались благополучно.
Всесвятский первым увидел, что мильвенская афера дала самую страшную трещину в настроении людей. Для него пулька была сыграна, и он, не желая дожидаться утомительного и позорного доигрывания, бежал в Тобольск до лучших времен. Когда об исчезновении Всесвятского узнал Вахтеров, его впервые оставила уверенность в себе. И он впервые трезво оценил создавшееся положение. В этот же день Вахтеров тайно советовался с инженерами завода, в частности с талантливым и универсальным инженером Петром Алексеевичем Гоголевым, о переправе через Каму. Отступать можно было только в закамскую пермскую дремучую парму, где если и была Советская власть, то ее представляли два-три человека на волость. При отступлении за Каму появлялась надежда встретиться с войсками сибирской директории и силами восставшего чехословацкого корпуса. Инженерам же было сказано, что переправа необходима для скорейшего перехода через Каму приближающихся сибирских и чехословацких войск. Инженеры сделали вид, что они верят, и занялись изыскиванием способов возведения переправы через Каму.
Чем больше темнил Вахтеров и его приближенные, тем отчетливее проступало истинное положение вещей. Не очень-то хотелось мильвенцам, оказавшимся под ружьем по мобилизации или по добровольной дурости, уходить куда-то за Каму. Когда фронт был под Мильвой, да еще такой тихий, это еще туда-сюда. Можно было иногда попроситься домой и выпариться в бане, выпить-закусить, переночевать, а что там?..
И ко всему этому началась агитация, и появились листовки. Ожил Киршбаум. Призывные оттиски его штемпелей появлялись на афишах, которые расклеивались на заборах, просто отдельными билетиками разбрасывались на толчке, на улицах. Говорилось кратко: «пришедшему к нам с оружием — ПОЛНОЕ ПРОЩЕНИЕ» — и мелким шрифтом подпись: «Мильвенский Совдеп».
Павел Кулемин и комиссар Медвеженского фронта Прохоров не расходились во мнениях. Тот и другой считали, что каждый новый день работает на них, открывая глаза доверчивым и заблуждающимся мильвенцам. Тот и другой считали, что Мильве непрестанно нужно напоминать о Красной Армии, закрепившейся в тридцати, а местами и в двадцати верстах от города. Красная Армия и сама непрестанно напоминала о себе кавалерийскими разведками, артиллерийской стрельбой, вылазками в тыл мятежников.
Закрепившись в лесу, Кулемин успешно формировал и по мере возможности вооружал части своего фронта. Нужно было дождаться, когда вахтеровская авантюра станет понятной и ненавистной большинству, и тогда малыми потерями легко будет одержать победу.
После взрыва стены камер в штаб Павла Кулемина прибыли первые солдаты с раскаяниями и признаниями, с воплями и обещаниями загладить, свои ошибки с оружием в руках.
Вопрос об очищении Мильвы был предрешен, и Валерий Всеволодович Тихомиров и Елена Емельяновна решили вернуться в Москву к своим обязанностям. Прощаясь с Прохоровым, Тихомиров спросил, а кто все-таки конкретно учинил взрыв, кого они должны благодарить. Прохоров на это ответил:
— Пока герой взрыва находится среди врагов, я бы не должен называть его имени. Но вам мне даже хочется его назвать. Это мой племянник Маврикий. Маврикий Толлин… И Сонечка Краснобаева, как, так сказать, комиссар взрыва.
— Я никогда бы не поверил, если бы мне об этом сказал кто-то другой. Маврик так верил им…
— Он и сейчас еще не разуверился в них… Не в них, а в мелкобуржуазных надеждах на благополучие без какой-либо диктатуры.
— А почему бы его не переправить сюда, за линию фронта, и не обезопасить нашего друга от возможных подозрений?
— Соня предлагала ему. Его друзья Денисов и Киршбаум обещали перевести его через фронт.
— И что же он?
— Он ей сказал, Валерий Всеволодович, нечто поразившее и меня. Я знаю Маврика с восьмилетнего возраста, когда он приходил ко мне в пермскую мастерскую. Маврикий сказал Соне, что он спасал не большевиков, а хороших и любимых им людей. И то, что они большевики, сказал он, дело их совести.
Это не понравилось Тихомирову. Ему очень не хотелось винить Маврика, любимого им и особенно его женой. Маврик не мог быть виноватым в том, что он такой. Должен быть повинен кто-то. И Валерий Всеволодович раздраженно сказал:
— Как же так могло случиться, что вы, по сути дела, для него больше, чем отец, не сумели уберечь от враждебных влияний такого редкого, такого, я бы сказал, редчайшего по своим нравственным достоинствам мальчишку. Конечно, мальчишку. Ему еще нет и шестнадцати… Как это могло случиться?
— Я ни в чем не оправдываю себя. Но много ли я был с ним? И потом, так необычно формировались его взгляды. Бабки, тетка, религия, сказки, жизнь с отчимом, поиски идеального… Я, кажется, повторяюсь… Но что скажешь нового, коли бесспорно старое. Нет, я не берусь объяснить, почему он оказался там, — говорил тоже взволнованно Прохоров, чувствуя в чем-то виноватым и себя.
II
Как бы отвечая Ивану Макаровичу, Маврикий говорил Соне, когда они встретились на плотине возле зубастого знакомца с якорем на хребте.
— Я и сам не знаю, с кем я. Соня, — слегка, совсем немного рисуясь и любуясь собой, отвечал Маврик. — Я, кажется, остался один, и мне теперь, кроме тебя, не с кем поговорить откровенно. Ведь я даже тете Кате не могу сказать о взрыве. Я теперь совсем один.
— А я?
— Ты? Ты же уйдешь к своим. Арестованные на свободе, и тебе здесь нечего делать.
— Могу ли я бросить тебя после всего, что случилось… Это хуже измены.
— А разве мне грозит опасность?
— Ну, все-таки, Мавруша… Ты же не умеешь ничего скрывать. Тебя тетка не научила этому необходимому искусству.
Тут мнительное воображение Маврика неожиданно быстро стало рисовать картины, как его схватывают, подводят к брандмауэрной стене и спрашивают: «Ты?»
И он выдает себя своим испугом, а потом «камеры», пытки разъяренного Шитикова и расстрел в подвале.
Мнительность шептала ему, что нет секрета, который был бы известен хотя бы только двоим. Конечно, Соня никогда, даже на кресте, не назовет его имени. На нее Маврик надеялся больше, чем на себя. Но ведь о взрыве знали Иль, Санчик и еще несколько неизвестных ему человек. А может быть, и все убежавшие знали теперь, что это он помог им убежать из камер. И может быть, они из самых лучших чувств предали его, хваля и благодаря. А Медвеженский фронт не сплошная стена. Туда и сюда ходили, как из огорода в огород. И кто-то мог оттуда принести смертельную весть.
Думая так, он вдруг вспомнил, что в последний раз, когда он видел Леру Тихомирову, она ни с того ни с сего поцеловала его.
А вдруг она сделала это за дядю и за теток? Если это правда, то — Лера не Соня — она может предать его, не желая этого, восхищаясь им, рассказывая какой-либо верной подруге, которая может рассказать, так же восхищаясь им, другой своей верной.
У Маврика похолодел лоб и, кажется, застыл мозг. Он так радовался, так ждал дня, когда прогремит взрыв, совсем не думая, что ему потом будет невыносимо страшно.
— Сонечка, — осторожно спросил он, — я думаю, она поцеловала неспроста… Я думаю, она знает… Но кто мог сказать ей?
Тут Сонечка вспомнила, что, желая облегчить страдания старухи Матушкиной, за которой она ухаживала, и веря ей, как жене самого коренного подпольщика, она рассказала о взрыве и спасении ее дочерей, зятя и мужа. Теперь Сонечке понятно, откуда могла знать об этом Лера. Ее бабушка навещала Матушкину. И Матушкина не могла не поделиться с Тихомировыми радостным секретом. Ведь в камерах их сын.
Кусай, кусай. Соня, локти. Опасайся теперь за него. И не думай, что одна только мнительность пугает его. Нет, нет… Его рассуждения верны. Мнительность всего лишь преувеличивает опасность, а опасность существует. Не выдумывает же Маврикий, рассказывая Соне, как вчера подошел к нему Юрка Вишневецкий и спросил, не нужен ли Маврикию настоящий винчестер с патронами. А потом спросил, где Маврик находился во время взрыва. И Маврик ответил, что он был в гостях у Сперанских.
Маврик не знал, просто ли так спросил его Юрка Вишневецкий или его подослали спросить. Нужно предполагать в таких случаях худшее. Нельзя спокойно ждать, убьют тебя или ты останешься жив и невредим.
— Мавруша, теперь и я думаю, что тебе нужно исчезнуть из Мильвы.
— И я сейчас подумал о том же, — проговорил он дрогнувшим голосом. — Но куда? Не посоветоваться ли с тетей Катей?
— Но тогда ей нужно рассказать все, — предупредила Соня.
— Нет, зачем же… Можно спросить о том, что если кто-то сделал что-то… И в этом роде…
И они, не медля и минуты, пошли к Кумыниным, где после оживления на Медвеженском фронте скрывалась Екатерина Матвеевна.
— При убеге все может быть, — наставляла ее Васильевна-Кумыниха. — Хоть ты и беспартийная, а большевикова жена. Надо тебе схорониться. Наша Симка тоже схоронилась у дальней родни. Проткнут штыком — и доказывай тогда свою правду.
Забегая опять вперед, скажем, что Васильевна не ошибалась. До того не ошибалась, что спасла жизнь Екатерине Матвеевне. Об этом станет известно потом, а теперь Соня и Маврикий пришли огородами к Кумыниным.
Маврикий начал издалека. Каков он хитрец и дипломат, знали все, а уж Екатерина-то Матвеевна тем более. Наконец, нагромождая придуманное, он спросил:
— Тетя Катя, как ты думаешь, найдут того, кто взорвал стену камер?
Екатерина Матвеевна, ужасаясь своему открытию и опасаясь теперь за жизнь своего сокровища, решила проверить себя и пристально посмотрела в глаза племянника. «Это — он».
— Если твой знакомый останется в Мильве, — спокойно ответила тетя Катя, — то рано или поздно эти собаки дознаются и могут допросить его. А если этот человек не очень тверд, то его заставят сознаться на первом же допросе.
— Значит, ты думаешь, тетя Катя, что нужно бежать… этому человеку?
— Думаю — да.
— А куда?
— Мало ли городов и глухих мест. Верхотурье, например… Елабуга.
Маврик и Соня переглянулись. Потом переглянулись Екатерина Матвеевна и Соня. После этого Екатерине Матвеевне можно было ни о чем не спрашивать. Она сказала:
— А есть ближе место, если бы этот человек был нашей родней или твоим товарищем. Дымовка.
— Какая Дымовка?
— Разве ты забыл Дарью Семеновну, родную сестру твоей бабушки?
— Нет. Я помню. Помню и дедушку Василия Кукуева.
И он вспомнил бабушкины похороны. Вспомнил стариков Кукуевых, приезжавших из Дымовки. Тогда Дарья Семеновна сказала, что теперь она осталась его последней бабушкой. Хотя и двоюродной, но бабушкой. Чего же раздумывать? Но где искать далекую закамскую деревню Дымовку? Да и живы ли старики? Прошло с тех пор около восьми лет.
Об этом же думает тетя Катя. Последнее письмо от них она получила года два тому назад.
— Тетя Катя, я тебя очень, очень люблю и никогда не разлюблял. Если не считать этой осени. Да и то совсем немного.
За неожиданным признанием следуют объятия. Маврикий на минуточку становится маленьким Маврушечкой, а потом тут же взрослеет. И, повзрослев, говорит:
— Наверно, этому человеку не следует медлить.
И тетка отвечает:
— Промедление смерти подобно.
В тот же день Маврикий стал собираться на рыбалку. И мать не обратила на это никакого внимания. А отчиму, занятому падающими в цене деньгами, вовсе было не до пасынка.
Теперь, когда все было готово, Маврикий задумался, а что будет с матерью и главным образом с тетей Катей, когда узнают о побеге и окончательно заподозрят его во взрыве стены.
Умненькая Сонечка подсказала ему:
— Мавруша, ведь ты же бежишь к казакам, в оренбургские степи, где тебя никто не упрекнет в росте и дадут тебе коня, саблю и пику по твоим силам. Так и напиши своей тете Кате.
Так и было написано:
«Милая тетечка Катечка! Мне надоело быть виноватым за мой рост. Меня не приняли в МРГ, которую я люблю всей душой. Зная, что ты и мама не отпустите меня в оренбургские степи и не захотите, чтобы я стал оренбургским казаком, я вынужден теперь бежать тайком. Скажи об этом маме и попроси прощения за то, что взял без спроса немного денег царских и керенских и других, — я не знаю, какие там ходят. Прости меня, моя родная тетечка Катечка. Поцелуй за меня маму. Я еще прискачу с казацкой сотней помочь нашей непобедимой и великой мильвенской гвардии. Твой М. Толлин».
— Очень хорошо. Не надо и переписывать. Ошибки и пропущенные слова показывают, что ты волновался. Я сама снесу его Екатерине Матвеевне, а ты жди меня в семь утра у столба на второй версте, как условились.
III
Размышления старой жандармской ищейки Саламандры и совсем юного полицейского щенка Юрия Вишневецкого заставили заподозрить в участии во взрыве Толлина, имевшего доступ на третий этаж дома бывшей гимназии. Так как бесспорных доказательств у них не было и так как Маврикий Толлин пользовался личным покровительством командующего (теперь уже главнокомандующего, как будто что-то изменилось) Вахтерова, то, посоветовавшись с чинами пониже. Шитиков и Вишневецкий решили пригласить подозреваемого на место преступления, в библиотеку третьего этажа, и, смотря по тому, каков вид будет у этого не очень испытанного подрывника, повести дело дальше.
Шитиков и не сомневался, что желторотый герой тут же расплачется и начнет просить прощения.
Было уже поздно, когда план привода и начала допроса Толлина окончательно созрели. Шитиков не стал беспокоить ночью уважаемого начальника мильвенских финансов Непрелова, решил дождаться утра следующего дня.
И следующий день настал. Счастливые сны снились Саламандре. Он, предвкушая радость благополучного исхода дела, поднялся рано и стал прогуливаться по Купеческой, ныне Революционной улице.
Маврикий не выходил из дому. Уже все разошлись по делам, и уже сестру Маврика нянька вывела на прогулку, а он не показывался.
Тогда Шитиков спросил о нем у молодайки, которая ради пропитания нанялась в няньки к Непреловым.
— А они у нас с потемок еще ушли. На рыбалку, — ответила она.
— На какую такую рыбалку? — спросил Шитиков.
— На разную: кто попадет.
— А куда? — чуть не крикнул Шитиков.
— А вы не очень. Я к ним нанялась, а не к вам.
Шитиков ссутулился, улыбнулся, попросил прощения и ласково-ласково спросил:
— Куда?
— Известно куда! У них свой пруд, своя рыба на ферме.
Это соответствовало логике вещей. Шитиков тотчас помчался на конный двор за лошадью.
Простоватая нянька и не предполагала, какую услугу оказала она Маврикию, направив Шитикова в Омутиху, в противоположную от Камы сторону, куда лесами пробирался Маврик в сопровождении верной Сонечки.
Не знали они, что всего лишь несколько минут помогли им не встретиться с Саламандрой, который весь день будет рыскать по омутихинским лесам и болотам в поисках Толлина.
Не любя осень как осень, как время года, Маврикий каждый раз убеждался, что цветущая весна беднее красками. Она, как невеста, только в белом. А осень, как женщина средних лет, в самом бесцеремонно-ярком. В малиновом. В рябиновом. В пунцово-осиновом. Или в солнечно-желто-березовом. И откуда у осени столько цветов. Все, кроме белого. Будто она боится накликать им ранний снег, который приносит конец всем цветам и оттенкам лесов и полей.
Все страшное позади. А что впереди? Может быть, лучше пока не думать об этом и радоваться, что с ними ничего не случилось, что столько людей теперь на свободе. Конечно, не плохо бы сказать тете Кате, что это он и она… Не для хвастовства. Ничуть. А для того, чтобы она гордилась Маврикием. Ведь спасать от смерти людей — общечеловеческий подвиг.
А Соня думала о другом. Она думала о том, что никогда не следует отрицать то, в чем ты не уверен или не очень уверен. Одни говорят, что люди чувствуют приближение своей смерти, считая, что если животные предчувствуют свой конец и уходят умирать, то почему высшее существо — человек — должен быть лишен этого качества. Другие, отметая все это начисто, считают предчувствие смерти чистой мистикой.
Сонечке казалось, что ее очень скоро не будет на свете. Предчувствие ли это или результат какого-то самовнушения, вызванного напряжением всех сил и потрясением последних дней, она не знала, но вела себя с Мавриком так, как будто, прощаясь с ним навсегда, хотела испить всю радость жизни, которая вот-вот должна оборваться.
IV
Маврик заметил, что Соня сегодня, да и все эти дни, тоже как осень. Какая-то многоцветная и яркая. Не по одежде и лицу, а по тому, как она смотрит, как говорит, как ведет себя с ним. Она всегда была старше его, будучи моложе почти на год, а сегодня она совсем взрослая и властная. Прикажи она ему «плыви через холодную Каму» — и он поплывет.
— Мавруша, — шепчет она, глядя ему в глаза. — Ты мой первый и мой последний, — она не сказала «кто». Не нашлось слово. — Ты такой хороший, хороший до того, что тебе самому невозможно понять, какой ты…
— Соня, — взмолился Маврикий. — Зачем так?
— Но ты не гордись этим, — предупредила Соня.
Маврикий не захотел поддерживать этого разговора. И Соня умолкла. Они вышли к логу, спускающемуся к Каме между двух яров. Маврикий помнит этот лог с заброшенной избушкой бакенщика. И Соня бывала здесь с братьями.
— Тут и заночуем, — сказала она. — Смеркается. Куда же ты ночью по незнакомому закамскому лесу?
— Да, — поежился Маврикий.
— Тебе холодно, Мавруша?
— Да нет.
Они вошли в пустующую избушку бакенщика, поселившегося теперь двумя верстами выше.
— Давай готовить ночлег, пока не совсем стемнело.
А темнело очень быстро. Небо заволакивало тучами. Когда Соня натаскала сухой травы на тесные нары бобыля бакенщика, стало совсем темно и еще глуше.
Пугающая осенняя тишина. Только редкий всплеск рыбы да еле слышимый заунывный плач филина в закамской парме подтверждали, что на земле продолжается жизнь.
После больших страхов всегда приходит бесстрашие. Они, обсидевшись в темноте, радовались этому мрачному и холодному пристанищу, ставшему таким гостеприимным.
Разводить огонь, конечно, было нельзя, а не плохо бы затопить очажок, нагреть избушку. К утру она здорово выстынет.
— Ничего, Мавруша, ничего… Ночь, наверно, будет теплой. Облака же. Ложись, завтра встанем чуть свет.
И они легли на сухую траву, укрывшись Мавриковой шинелью, и не слышали, как пошел дождь, как прошла какая-то пьяная ватага по берегу. Они очутились далеко от этого берега и высоко над землей, за облаками, где солнце и где никогда не бывает ненастной погоды…
Утром, целуя его. Соня сказала вычитанные где-то ею слова:
— Война, как смерть, торопит жизнь.
А потом они вышли на берег. Светало.
Перебраться за Каму в обычное время не составляло никакого труда. Теперь же, когда шныряли конники разведки МРГ, рискованно было просить рыбака или бакенщика перевезти на тот берег. Но ищущий чаще всего обретает. Близ берега сверху вниз в легкой лодчонке возвращался, видимо после лова, парень.
— Будь другом, остановись, — окликнула его Соня.
— А кто вы? — спросил он, подплывая к берегу.
— А мы никто. Капканчики да ловушки у брата за Камой поставлены, — ответила Соня, показывая глазами на Маврикия. — Наверно, уж много попалось.
Это заинтересовало простоватого парня, и он спросил:
— А сколь заплатишь?
— Пачку «Кузьмы». — Сказав, Маврикий показал пачку папирос с портретом знаменитого казака Кузьмы Крючкова.
— Давай!
Маврикий прыгнул в лодку.
Парень приналег на весла. Когда лодка миновала средину, раздался выстрел, затем второй и третий. Соня отошла в береговые кусты. Стрельба прекратилась. Соня так и не узнала, что это была за стрельба. Хотели ли стрельбой остановить лодку или били зверя в лесу?
Увидев, что Маврикий благополучно сошел на берег, Соня махнула ему из кустов платком. Махнул и Маврикий. Кама в этом месте была не так широка, и Соня видела, как, простившись с парнем, он пошел в лес. В чужой, незнакомый лес.
Что-то ждет тебя, Маврик, в таинственном закамском лесу?
А что ждет тебя, Сонечка, на этом мятежном берегу?
ПЯТАЯ ГЛАВА
I
— Плохо, Любочка, когда падают деньги, — делился с женой Герасим Петрович. — С падением денег падает и доверие к тем, кто их выпустил. Из армии бегут. Удерживать фронт дальше едва ли хватит силенок. Наверно, Вахтеров отступит за Каму.
— А ты?
— Придется и мне. Я же мобилизованный и не могу…
— А я как же, когда придут красные? — спросила раскрасневшаяся от волнения Любовь Матвеевна.
— А тебе-то что? Ты-то при чем? Да и красные-то ведь не какие-то, а знакомые люди.
— Но я же, Герася, жена белого офицера…
— Во-первых, не белого и не офицера, а чиновника военного времени, которого мобилизовали, — подчеркнул он, — понимаешь, мобилизовали как специалиста по финансам и заставили печатать деньги.
— Но других-то не заставили, Герася.
— Другие воры, а я зарекомендовал себя честным человеком. В этом мое несчастье. Но может быть, — стал говорить он, явно не веря своим словам, — как знать, подойдут сибирские войска, и тогда не о чем будет беспокоиться.
— Ты утешаешь меня?
— Да нет, Люба, я не утешаю. Сибирские войска рано или поздно придут, коли они идут. Не нужно было торопиться сумасбродному Вахтерову с переворотом. Переворот был бы своевременен через месяц, через два, когда белые будут ближе. Вахтеров думал только о себе, — рассуждал Непрелов, — а не о нас. Ему хотелось прогреметь на весь мир. А что получилось? Недавно сбежал Всесвятский. Это верный признак скорого крушения…
Герасим Петрович строил правильные догадки. Вахтеров оставил бы Мильву, но его задерживало возведение переправы через Каму. До ледостава было не столь далеко, но вдруг Павел Кулемин и его штаб не дадут улизнуть поредевшей МРГ.
Мильвенская газета «Свобода и народ» прославляла строителей переправы, так необходимой приближающейся на помощь Мильве сибирской армии, а вместе с нею и обозам с продовольствием, снаряжением и товарами.
Вахтеров, скрывая отступление, маскировал его переписью домов, изъявлявших согласие приютить на день или два доблестных сибиряков, продвигающихся через Вятку, Вологду в Петроград и через Казань, Нижний Новгород на Москву.
А тем временем завершалась переправа. У берегов сплачивались и закреплялись плоты. Далее ставились на якоря шаланды, промежутки между ними перекрывались хлыстами лиственниц и елей с накатом из досок и подтоварника.
Об отступлении стало известно за час. В полночь Мильву покинуло командование и учреждения, связанные с ним.
Герасим Петрович наскоро поцеловал спящую дочь и сказал жене:
— Любочка, не бойся. Ну кому ты нужна…
Сказал так и умчался на большом выносливом Карьке.
Первым, если не считать конной разведки, перешел Каму третий чехословацкий полк. Почему он был третьим, коли не было первого и второго, знал только Вахтеров, а почему отряд, не превышающий роты, назывался полком, — знали все. Многие малочисленные отряды и соединения назывались полками и бригадами. Иначе невозможно считать МРГ армией, коли в ней всего один, да и то неполный полк.
Вслед за чехами за Каму переправились обозы первого и второго разряда, военный госпиталь с прехорошенькими барышнями, ставшими сестрами милосердия. Под охраной почетных всадников двигался за Каму особый обоз Чураковых, Шишигиных, Мерцаевых, Шульгиных и прочих, кому было страшно встречаться с Красной Армией. В этом же обозе уходили за Каму семьи наиболее выдающихся бандитов МРГ.
В полночь части мятежников тихо и стремительно отступили. Братья Кулемины и Прохоров видели, как не очень обученные и очень запуганные и того больше обманутые мильвенцы, кто в ватниках, кто в обычных пальтишках, убегали к Каме, минуя город.
— Я не знаю, Иван Макарович, — сказал Павел Кулемин Прохорову, когда они в молодом соснячке, не спешиваясь, наблюдали за отступлением. — Не знаю, что мне мешает нагнать их и раскрошить… Неужели жалость?
— Жалость, — не раздумывая, сказал Иван Макарович. — И мне жаль их. Убить человека не так уж трудно. Особенно убегающего. Не так трудно взорвать переправу, до которой едва ли захочет добраться половина из них. И те, что перейдут Каму, едва ли долго будут ходить под вахтеровским гипнозом. Пусть я ошибаюсь, но уничтожать раскаивающихся и колеблющихся, каких теперь немало, мне кажется бесчестным.
Молчавший Артемий Кулемин сказал:
— С военной точки зрения мы, конечно, не правы. Но есть и другая точка… Пусть бегут. Жизнь накажет тех, кто не успел раскаяться.
— А я успел, — послышался совсем рядом знакомый всем голос.
Этот голос принадлежал спрятавшемуся в сосняке Якову Кумынину.
— Я тут не один. Нас трое. За них я тоже ручаюсь. Они тоже поняли, как и я. Кому сдать винтовки и патроны, Иван Макарович?
— Кому? — переспросил Прохоров. — А зачем же их сдавать?
— Мы же сдались, как мы можем не сдать оружие?
— Значит, Яков Евсеевич, вы не очень много поняли. А может быть, и ничего не поняли.
Прохоров тронул коня. За ним мелкой рысцой затрусил Артемий Кулемин. А задержавшийся в соснячке Павел сказал Кумынину:
— Идите в село и спросите коменданта Мухачева. Скажите ему, чтобы он вас зачислил в формируемый резервный батальон. А если это для вас не подходит, догоняйте своих…
Кумынин попытался продолжать разговор с Павлом Кулеминым, но тот, повернув коня, поскакал догонять брата и Прохорова.
До утра пролежал Кумынин с товарищами в сосняке, а утром сказал:
— Я лично винтовку сдавать не стану, если такое доверие…
Тем временем части под командованием Павла Кулемина походным маршем стекались на Старомильвенскую дорогу, надеясь в полдень войти в Мильву.
Конные квартирьеры, выехавшие с рассветом, писали мелом на воротах, какая часть и сколько красноармейцев расквартируется в данном доме.
А на Каме догорала переправа. Вооруженный сброд понурых разношерстных людей разбрелся по лесу в поисках убежища.
Холоден в эти дни закамский лес. Того и гляди выпадет снег. А в чем отступать дальше? В чем идти на встречу с сибирскими войсками?
Командиры подбадривали. Впереди деревни, а в деревнях и валенки и полушубки. Война. Ничего не поделаешь. Придется разувать, раздевать мужичков, брать коней, резать свиней, а потом, когда кончится война и установится настоящая власть, она за все уплатит до последней копеечки.
Берегитесь, тихие прикамские деревни! К вам жалуют голодные, раздетые и ожесточенные шайки разбойников, которые все еще называют себя борцами за революцию. У них красные повязки на рукавах. У них множество звонких слов и щедрых обещаний. Они будут выдавать векселя и обязательства и сулить вместо пуда зерна вернуть два, взамен угнанного коня вознаградить парой лошадей. Но их расписки, как и кредитные билеты «мильвенки», — бумага. Нарядно расцвеченная, солидно выглядящая обманная бумага. В брошенных деревнях и Мильве этот бумажный обман оставлен чуть ли не в каждом доме.
II
— И как только мы могли им поверить? — спрашивала себя и других не одна Васильевна-Кумыниха.
Теперь все удивлялись, как могло случиться, что столько народу оказалось на поводу у шайки откровенных мерзавцев. Теперь многим было стыдно смотреть друг другу в глаза и уж совсем невозможно поднять опущенную голову и встретиться лицом к лицу с теми, кто хотел добра и не щадя своей жизни действительно боролся за счастье для всех тружеников и тех, кто так легкомысленно оказался в рядах врага.
Передовые части Красной Армии вошли в город. Их уже встретила детвора. Теперь встречали представители от уличных комитетов с красными флагами и полотнищами, со словами приветствия. А были и не совсем обычные надписи. Например, группа в десять человек стояла у дороги и держала в руках кусок обоев, на обратной стороне которого было написано: «Простите нас, братья и товарищи».
Артемий Кулемин, знавший почти всех из этого десятка, понимал, что не трусость, не боязнь быть наказанными заставила их выйти с этой надписью на куске обоев. Это было безусловно смелым и чистосердечным раскаянием. Артемию Гавриловичу очень хотелось повернуть свою лошадь к ним, затем взять из их рук плакат и, порвав его, сказать: «Что было, то было. Будем думать о завтрашнем дне». И он уже потянул правый повод, но тут же выровнял лошадь, и стоящие с куском обоев остались позади.
Пусть стоят и пусть думают над тем, что произошло. Комитет партии и Совдеп не будут наказывать тех, кто искренне заблуждался и кто не от большого ума, а от малой политической грамоты оказался в эсеровских сетях.
В рядах резервного батальона браво шел Кумынин и два его молотобойца. На рукаве Якова Евсеевича еще торчали концы ниток, которыми была пришита повязка МРГ с медведем.
Знавшие Якова Кумынина, позавчера видевшие его в караульной роте МРГ, не хотели верить своим глазам.
Трудно было поверить и в то, что навстречу красным выедет Турчанино-Турчаковский. Все знали, что его превосходительство удрало за Каму. Некоторые собственными глазами видели, как нагружались телеги с имуществом управляющего. А другие даже слышали, как он разговаривал по телефону с командующим, обещая выехать вместе с доктором Комаровым с наступлением темноты, чтобы не вызывать кривотолков у населения.
С наступлением темноты Комаров и Турчаковский действительно выехали, только в другом направлении. В охотничий домик к лесничеству заводских дач. Для Турчаковского слишком очевидна была гибельность бегства за Каму. Зачем ему, нигде не оставившему своих пальцев, не обронившему против себя никаких улик, бежать с каким-то штабс-капитанишкой и находиться в обозе беженцев вместе с Чураковыми, Мерцаевыми, Вишневецкими и мелюзгой, подобной им? Зачем, когда у него здесь квартира, двое верных слуг и оставшийся живым и невредимым скрывавшийся у него друг из РКП.
Турчаковский в полнейшей безопасности, как и доктор Комаров, передавший шифрованную записку Валерию Всеволодовичу Тихомирову. Как может доктор не выехать вслед за управляющим навстречу законной власти рабочих и крестьян, возвращающейся в город.
Другое дело, что Комаров и Турчаковский не будут кричать вместе со всеми, выражая восторги, подбегать, протягивать руки. Это выглядело бы слишком назойливым. Но стоять в толпе, приветствовать Красную Армию поднятой рукой, быть замеченным вполне достаточно и благопристойно.
Вышла навстречу войскам и Екатерина Матвеевна. Ей радостно и тягостно видеть такими счастливыми людей, обреченных на смерть и спасенных ее Маврушей, дороже которого для нее нет никого на земле.
— Нельзя, Екатерина Матвеевна, плакать в такой день, — говорит ей Елена Степановна Кулемина. — Уж лучше бы вам не выходить навстречу.
— А вдруг Мавруша тут? С ними? Вы же знаете, какой он быстрый и решительный во всем.
Однако надежды ее были напрасны. Она увидела Ильюшу и Санчика. Они, сияющие, с красными бантами и пулеметными лентами на груди, восседали в немудрых седлах на старых клячах. Не видя себя со стороны, они, конечно, думали о себе немножечко больше, чем следовало бы. Впрочем, тот и другой и весь молодежный отряд, ставший теперь конной разведкой, заслуженно торжествовали победу.
Если бы Мавруша был здесь, то она увидела бы его с Ильюшей и Санчиком.
Екатерина Матвеевна старалась, чтобы в ней замолчал злой голос, заговоривший с уходом племянника. А голос не только не желал умолкать, но говорил громче. Говорил так, что его, кажется, слышали стоящие рядом. Голос спрашивал, почему, в самом деле, ему, ни в чем не повинному мальчишке, жизнь придумала столько козней. Мучительная зима в Перми, когда ему было всего восемь лет. Длинные сумерки. Холод. Мыши. Одиночество. Потом избиение в церковноприходской школе. Тяжелые годы в семье отчима. Оскорбленная детская любовь к Лере. Злополучный фотографический аппарат, подаренный и отнятый. Ранение в Петрограде. Избиение отчимом. Встреча с подлым из подлых удавов Вахтеровым. Увлечение его «возвышенными» идеями и крушение их, оказавшихся жестоким обманом. И наконец, взрыв стены, освобождение заключенных из камеры и побег. Они все живы и счастливы, а он, может быть, найденный тем же Юркой Вишневецким или Мерцаевым, лежит теперь непохороненным в закамском лесу.
Положим, он вырос не таким уже беспомощным, чтобы даться им в руки. Он, может быть, успел добраться до железной дороги или хотя бы до Дымовки. Не надо рисовать самое страшное и прибегать к крайностям. Когда все уляжется, она поедет разыщет и убедит Маврика вернуться в Мильву.
Успокоив себя, Екатерина Матвеевна отправилась к сестре. Любовь Матвеевна сидела запершись, с закрытыми шторами, ожидая, что красные придут за ней и маленькая Ириша останется круглой сиротой.
Когда Любовь Матвеевна оплакивала себя как расстрелянную, раздался стук в дверь. Ну, ясно. Это они. Стук повторился, в окно послышался голос:
— Люба! Неужели ты не слышишь?
Никогда Любовь Матвеевна не радовалась так приходу сестры, как сейчас. Ведь это же жена самого главного в Мильве большевика Прохорова-Бархатова. Кто при ней тронет ее. И она принялась рассказывать и смеяться над своими страхами.
— Мне всю ночь казалось, Катя, что красноармейцы сорвут с петель двери, ворвутся, а потом прикончат меня тут же в постели.
Слушая сестру, Екатерина Матвеевна хотела, чтобы она где-то между слов вспомнила о Маврике. А она говорила только о себе да о своих страхах. И наконец Екатерина Матвеевна без обиняков сказала:
— Ты бы хоть из приличия вспомнила о сыне, вместо того чтобы придумывать себе казни египетские. Кому ты нужна? — повторила она слова, сказанные перед уходом Герасимом Петровичем.
III
Прошли считанные дни. И будто и не было страшного мятежа. Будто все это привиделось в черном сне.
Давно ли хоронили на Соборной, ныне Красногвардейской площади павших в борьбе с мятежниками. Давно ли весь город говорил о Сонечке Краснобаевой, убитой сыном пристава Вишневецким. В ночь бегства за Каму он проткнул ее штыком и сказал: «За взрыв».
В ту же ночь Саламандра-Шитиков и Вишневецкий должны были прикончить Екатерину Матвеевну, но ее не оказалось дома. Ей было достаточно первого посещения Саламандры. Тогда, в день ухода Маврикия из Мильвы, Шитиков нашел Екатерину Матвеевну у Кумыниных и несколько раз перечитывал письмо Маврикия об уходе к казакам.
Екатерина Матвеевна не стала дожидаться второго визита Шитикова и укрылась с помощью татарина Рамазанова в доме муллы.
Сонечку Краснобаеву тоже хоронили в братской могиле. Ее именем была названа Ходовая улица. На этой улице стоял дом Краснобаевых, дом, в котором она родилась.
Речи отзвучали. Смолкли ружейные салюты.
После побелки потолков и покраски стен классов, после снятия решеток с окон политехнического училища ничто не напоминало, что здесь была тюрьма, что здесь удавилась забытая командованием и Саламандрой Манефа. Она покончила с собой, когда город был уже пуст. У нее была еще возможность нагнать своих. Но своих теперь у нее не было. Какие они свои, когда никто не захотел вспомнить о ней, не подали даже простой подводы. Так даже плохие хозяева не поступают и с собакой. Ей больше ничего не оставалось, как повеситься.
Все вошло в свое русло. Доктор Комаров взволнованно и убежденно говорит, что всемирная история не знала больших прохвостов, нежели штабс-капитан Вахтеров и его шайка. А Яков Евсеевич Кумынин клял на все корки охвостья царизма, которые хотели сбить с главной линии трудовой народ, а он и лучшие граждане передового Мильвенского завода раскусили этих слуг мирового империализма и повернули свои штыки против них.
Турчаковский, войдя в коллегию по управлению заводом, проявлял теперь необыкновенную активность, чтобы не дать остановиться заводу, чтобы придумать работы хотя бы половине цехов. Но завод был обескровлен, и никто не мог уберечь его от всеобщего бедствия страны — разрухи.
Работало только снарядное отделение механического цеха, да и то используя последние запасы металла. Работал электрический цех, давая свет городу. Все еще по утрам будил громкий свисток завода. Но скоро умолкнет и он.
Снова начались шепотки, а потом и разговоры погромче и, наконец, прямые нападки на большевиков, не способных справляться с затруднениями. Действовали все те же меньшевики, участвовавшие в мятеже и теперь убедившиеся, что их никто не тронет. Пускался в путаные рассуждения и Яков Кумынин. Вернее, яковы кумынины.
…Прохоров предложил поговорить с болтунами начистоту, лицом к лицу. И встреча эта состоялась в самом большом помещении Мильвы. В бывшем Общественном собрании, ныне — клубе металлистов.
IV
Зрительный зал не вместил всех желающих услышать, что будет сказано. Партер, балкон, галереи были переполнены как никогда. Стояли в проходах, сидели перед первыми рядами, на подоконниках, открыли двери в фойе. Забили всю сцену, оставив небольшое место для стола президиума.
Встречу открыл Емельян Кузьмич Матушкин. Он сказал:
— Нам есть о чем поговорить, товарищи, после вынужденной и затянувшейся разлуки. Нам придется здесь сказать прямые слова и выяснить наши отношения на дальнейшее. Предоставляю слово представителю центра товарищу Прохорову.
Иван Макарович, сидевший за столом президиума, поднялся и пошел к трибуне. С этой трибуны совсем недавно выступали мятежные заправилы. И Прохоров, брезгливо посмотрев на трибуну, стал рядом с ней. Он начал так:
— Один мой старый знакомый, оказавшийся в банде эсера Вахтерова, сказал, что виной всему этому была корова. Не он, а его корова.
В зале послышалось легкое оживление.
— И он сослался при этом на слова старейшего мильвенского большевика, организатора первого революционного кружка «Исток», на Виктора Ивановича Родионова.
Назвав это имя, Иван Макарович повернулся в сторону президиума и посмотрел на сидящего там, с повязкой на голове, Родионова, затем продолжил свою речь:
— Да, Виктор Иванович, в давние годы мильвенские рабочие, испугавшись, что завод будет остановлен, поверили добросовестным и благонамеренным заблуждениям старого судового мастера Матвея Зашеина и сами себе добровольно снизили плату. Вот тогда-то Виктор Иванович и сказал, что не Матвей Зашеин ведет рабочих на уступки и не кто-то другой, а госпожа корова. Так, Виктор Иванович? — спросил Прохоров.
— Так, — отозвался тот из президиума и негромко пояснил: — И это было в какой-то степени понятно в те темные времена, до девятьсот пятого года, когда еле-еле начинало светать.
— А теперь? — спросил Прохоров. — Неужели и теперь, когда все дороги открыты к свету и знаниям, неужели и теперь трудящиеся Мильвы сделали своим авангардом коровье стадо?
— Не надо передергивать, товарищ Прохоров, — подал реплику мастер из судового цеха Малюгин.
— Я передергиваю? Я что-то говорю не так? А разве не коровы в прямом смысле вышли на ночную демонстрацию перед городским комитетом партии, разве не они дико мычали от имени молчащих и прячущихся в темноте их хозяев? Наверно, и вы были на этом позорном коровьем мятеже, товарищ, подавший реплику.
Малюгин молчал. Прохоров повторил вопрос и сказал:
— Если мы будем отмалчиваться, у нас не получится прямого и откровенного разговора.
— Был! — промычал под нос Малюгин.
— Я так и думал. Значит, я не передергиваю. Значит, многие, и в том числе вы, — снова обратился Прохоров к Малюгину, — оказались при корове. Не корова при вас, а вы при корове.
— Не все ли равно — кто при ком… — пробасил голос с галерки.
— И очень даже не все равно. Одно дело — блоха при барине, другое дело — барин при блохе. Разные взаимоотношения между блохой и барином. Вот об этих-то взаимоотношениях между тружеником и мелкой собственностью мы говорили, говорим и будем говорить до полного ее отмирания. Что в том плохого, если рабочей семье служит корова, овца или боров? Пусть служит. Они улучшают продовольственные запасы страны. Рабочий не требует у государства того, что у него есть. Но как назвать, когда трудовой народ, поддавшись провокационным слухам, во имя своей коровы объявляет покосную войну?
— Так ведь и теперь неизвестно, за кем останутся покосы, — опять вмешался Малюгин. И Прохоров ответил:
— Такого вопроса не возникало бы, если бы вы читали ленинский декрет о земле своими, а не чужими глазами подстрекателей и проходимцев, глазами жандармских агентов и провокаторов, верных помещикам и капиталистам. Покосная земля всегда принадлежала казенному, а после Октября семнадцатого года государственному Мильвенскому заводу и не подлежала никакой передаче крестьянам. Покосные земли как были, так и остаются в арендном пользовании рабочих, имеющих скот.
— Раньше нужно было об этом говорить, тогда бы ничего не случилось, — послышался опять голос с галерки.
— Ах вот как! Значит, все произошло потому, что коммунисты скрыли от вас ленинский декрет о земле?! Не хватит ли врать, милостивый государь, прячущийся на галерке. Спускайтесь сюда на сцену и назовите, кто вас ввел в заблуждение? Кто из партийного комитета или Совдепа хотел лишить вас покосов? Назовите!
Голос с галерки ответил Прохорову:
— А откуда мы знали, что Шитиков, Судьбин и прочие подосланы заговорщиками?
— Бедняжки, они не знали, что гробовщик Судьбин ненавидит Советскую власть, — иронизировал Прохоров и, не закончив фразы, услышал:
— Я никогда ее не ненавидел и по своей трудовой сути не могу ненавидеть Советскую власть!
Прохоров не верил глазам и ушам. Какая встреча!
— Вы и есть Судьбин?! Может быть, вы теперь уже ходите в сочувствующих коммунистам?
— А я всегда сочувствовал, — заявил гробовщик.
Ничто так не разоружает, как наглость. Прохоров опешил. Он не нашел слов для ответа. Зато Терентий Николаевич Лосев подошел к Судьбину и что-то сказал ему на ухо.
Раздался громкий хохот зала.
Судьбин, не выдержав, юркнул к выходу.
V
После ухода Судьбина и утихшего смеха зала наступили минуты молчания, за которыми последовал главный разговор о мятеже. Иван Макарович после короткой паузы так и сказал:
— Теперь о мятеже. Я постараюсь с наибольшей доброжелательностью высказать свои суждения. Наверно, можно и на этот раз обвинить корову, и я, представьте, склонен думать, что она была соучастником зачинщиков мятежа. Говорю я это без всяких преувеличений. Можно обвинить и мальцов из союза «Синяя птица», лавочников и чиновников, будто эти постыдные дни обязаны им и будто они держали в страхе тысячи людей, составляющих население Мильвы и окрестных деревень. И я опять скажу, что они оказали какое-то влияние и на остальных. Но, товарищи, могла ли бы горстка эсеров в три, пусть в пять десятков горлопанов назваться революционной гвардией и взять власть в свои руки, если бы этому воспротивились вы, тысячи мужчин и женщин? Тысячи тружеников. Неужели только гимназисты, чиновники и торговцы так шумно одобряли речи Вахтерова и его сатрапов? Неужели только они составили пресловутую МРГ? Где же были вы? Где? Где?
С каждым словом Прохорова тишина становилась напряженнее и тяжелее. И чем смягченнее говорил Иван Макарович, тем труднее было слушать его, особенно виновным в случившемся. И даже непричастность теперь выглядела преступной.
Прохоров говорил иногда так, как будто он рассуждал сам с собой и сам для себя хотел выяснить подробности.
— Появившиеся на покосах склона Мертвой горы землемеры и крестьяне тотчас же нашли отпор. Когда же на глазах у всех арестовывали коммунистов, где же были вы? Неужели можно было верить, что так называемые «стратегические камеры» были чем-то вроде пансиона для временной и притом деликатной изоляции большевиков? Разве вы не знали о тайных расстрелах? Разве не кто-то из вас ковал решетки на окна бывшей мильвенской гимназии? Не кто-то из вас стоял часовым возле тюрьмы и стерег ни в чем не повинных людей?
Тут Прохоров обернулся и стал называть фамилии заключенных, сидевших теперь в президиуме, и фамилии замученных в камерах.
Называя, он перечислял заслуги каждого, говоря о нем гораздо меньше, чем можно было сказать. И это понял всякий сидящий в зале, сознавая также, что их, остававшихся в Мильве, собрали вовсе не для того, чтобы отхлестать по щекам и назвать обидными словами, которых многие заслужили. С ними шел честный и откровенный разговор. Так мог говорить только брат со своими родными братьями.
— Разве мятеж не захлебнулся бы на второй или на третий день, если бы одни из вас не участвовали в нем, а другие не оставались пассивными? Каждый из вас мог противостоять не такому уж сильному противнику. И если пятнадцатилетняя девочка Сонечка Краснобаева, по сути дела, была организатором взрыва стены гимназии, если она вместе со своими сверстниками не только освободила обреченных на смерть, но и подорвала веру в говорунов, не жалеющих ни фразы, ни жеста, ни любых заверений и обещаний ради достижения своих гнусных целей, то как много можно было ждать от взрослых, сильных, умудренных опытом людей.
В зале стояла невыносимая тишина.
Не так-то легко было понять и осознать случившееся во всей его трагической глубине.
— Теперь не трудно представить себе, что вахтеровы были засланы не в одну Мильву. Эсеровские мятежи, более или менее похожие на мильвенский, мутными волнами прокатились по Уралу и Прикамью, по Средней России и югу страны. Суть их была одна — установить в нашей стране капитализм, без которого будто бы невозможен рост и благополучие страны. А мы, большевики — коммунисты-ленинцы, говорили и говорим, что наиболее успешно и быстро будет расти та страна, народу которой принадлежат все средства и орудия производства. То есть фабрики, заводы, шахты, рудники и, конечно, земля. И ничто не поколеблет, не изменит этого никому не подвластного закона общественного развития. Может быть, нас ждут новые испытания, лишения и беды, но теперь уже никто и никогда не закроет глаза народу, познавшему свет…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПЕРВАЯ ГЛАВА
I
Странствуя по закамским деревням, Толлин с каждым днем убеждался, что добрых и сердечных людей не так-то уж мало на земле. И особенно много их среди бедных людей. Видимо, бедность учит людей сочувствию, взаимопомощи, в надежде, что старая хлеб-соль не забывается и что кусок хлеба, который ты не пожалел голодному, возвращается к тебе двумя кусками.
Маврикий как мог, так и возвращал съеденные куски. Не чураясь никакой работы, он брался за все, что было ему под силу. Особенно ценили Маврикия, когда узнавали о его умении рассказывать были-небыли и всякую всячину про злые колдовские дела и волшебные чудеса, так что от его слов и в темной горнице светлело и в холодные ночи теплело.
Кормило и поило наследство двух бабушек. Как такому славному бахарю в плошку щец не плеснешь, лепешку не испечешь, тулуп на ночь укрыться не дашь.
А еще Маврикий рассказывал про разные города. Хотя и не всему верили его слушатели этой глухой пермяцкой пармы, из которых многие не бывали даже в Перми и знали только понаслышке о «чугунке», все же с удовольствием слушали питерские небыли о том, что жители там по улицам ездят в вагонах с чужеземным названием «транвай», что дома там чаще всего о шести этажах, а каменные мосты не рассыпаясь подымаются или разводятся на ночь, что твоя карусель.
Надо же придумать такое. Вот голова у парня. Шестнадцать лет от роду, а знает — будто всю землю объехал. Учителем бы такого взять, да школы нет.
Про себя же Маврикий рассказывал одно и то же:
— В Чердыни я остался круглым сиротой. Задумал к тетке в Верхотурье пробраться. Сел зайцем на пароход. Ссадили на берег. Теперь к железной дороге иду.
Верили. А почему бы и не верить?
Читал Маврикий и перечитывал вдовам-солдаткам письма убитых солдат. За это наплакавшиеся вволю женщины платили особо. Рукавичками. Носками. Маврикий сначала стеснялся. Не брал. Это походило на нищенство. А потом, когда побелела земля, не пришлось чваниться.
Дымовка оказалась вовсе не такой близкой. Когда жива была бабушка, она любила пересказывать старую историю о себе и о своей сестрице Дарьюшке.
Бабушка Маврика Екатерина Семеновна родилась во Владимирской губернии. В эти края бабушка приехала на заработки вместе с теткой и с младшей сестрой, которую не на кого было оставить в деревне. В Мильве в Екатерину Семеновну без памяти влюбился дед Маврикия и, женившись на ней, взял ее в дом вместе с сестрой Дашей девяти лет. Даша выросла в семье сестры и шестнадцати годов от роду на мильвенской зимней ярмарке встретила молодого охотника из-за Камы Василия Кукуева. Кукуев, увидев Дашу, не отстал от нее до зашеинского дома, а потом, как закончилась ярмарка, пал на колени перед Мавриковым дедом и просил отдать за него Дашеньку.
Бабушка Маврика об этом рассказывала длинно и подробно. Описывалась и свадьба в деревне Дымовке, куда вышла замуж Даша за охотника по зверю Кукуева.
Много раз спрашивал Маврикий: далеко ли до Дымовки? И каждый раз обнадеживающе говорили, что до нее рукой подать.
Далеко уйдешь, много ли пройдешь в короткий день. Но как ни длинна дорога — и она кончается.
— Сколько еще до Дымовки? — спросил Маврикий добродушного старика, повстречавшегося на дороге.
— Да вон она, за речкой дымит, — ответил он.
Какое счастье. Он дошел. Теперь ему нужно было узнать, живы ли Кукуевы, и он задал наводящий вопрос:
— Говорят, дедушка, в этой деревне охотников много.
— Да нет, брешут. Охотников там двое. Кукуев да Денежкин. А теперь один остался.
У Маврика захолонуло сердце. А старик, явно любивший поговорить пространно, продолжал свой рассказ:
— Второго медведь задавил. Ранил он его. Ну, тот, конечно, на дыбы, и не долго потом пожил Филипп Денежкин.
— Это очень жалко, — посочувствовал Маврикий, — но что поделаешь…
Больше Маврикий не стал спрашивать. Ему хотелось сейчас помчаться в Дымовку и узнать, жива ли бабушка Дарья. А старик сам сказал:
— Старуха у него, Дарья Семеновна, такая мастерица чучела чучелить, что в разные города их развозят и хорошие деньги платят. Славно они живут. В достатке.
Далее Маврикий не слушал старика. Лучшего уже не скажешь. Он смотрел на дымы Дымовки и на светлое, освещенное закатом облачко над ней. Неужели бабушка и дедушка все еще заботятся о нем? Как это невероятно, зато как прекрасно, если бы хоть на одну минуточку он мог вернуться в те дни, когда дедушка с бабушкой сидели на облачке и помогали ему жить на земле.
II
Глаза не ноги, им и далекое близким кажется. Казалось, что до Дымовки версты три, а оказалось полных семь. Ясный день и чистый воздух скрадывали расстояние.
Удача дарила Маврикия до изумления щедро. Подходя к Дымовке, он встретил девушку в шубке, отороченной заячьим мехом, и невольно посмотрел на нее и задержался на считанные секунды. Шубка, отделанная заячьим мехом, живо напомнила Соню и масленичное катанье.
Остановилась и девушка. Будто и ей он кого-то напомнил. Остановившись, она как-то не по-девичьи быстро разглядела его лицо и беззвучно прошевелила губами:
— Мавруша…
А потом, когда он пошагал дальше к деревне, она крикнула:
— Не из Мильвы ли вы случаем?
Маврикий, вздрогнув, остановился и повернул лицо к незнакомой девушке. Кто его может знать здесь? Еще этого не хватало. А девушка, просияв, подбежала к нему и, взвизгнув, схватила за руку:
— Братец… Ей-богу, право, ты мой сродный братец… А я твоя сродная сестрица Дуня Кукуева.
На небе опять стояло золотистое облачко. И Маврик опять улыбнулся ему и сказал:
— Как же ты меня могла узнать, Дунечка?
— А у нас, Мавруша, вы все под стеклом… И ты, и тетечка Катечка, и бабушкина старшая сестра, твоя бабушка в гробу… Все, все… А ты так даже на трех карточках. Как ты покрасивел против них…
— Дома ли, Дунечка, дедушка с бабушкой?
— Да где же и быть, Мавруша, в эту пору. Ты прямо к пирогам…
— А почему ты, Дуня, не спрашиваешь, как я и откуда… И зачем…
— Да я и так чувствоваю… В Мильве, сказывают, живьем в могилы закапывают… Ну да ты не больно об этом. У нас в Дымовке тоже всякие злыдни есть.
Они подошли к воротам. Миновали темноватый крытый двор и очутились в добротной пятистенной избе.
— Ково я, бабушка, привела… Не падай только с лавки.
А Дарья Семеновна еще в окно разглядела и узнала Маврикия.
— Да кто же это такой может быть? — явно притворялась она. — Был у меня кудрявый сродственничек, так он ведь вот эконький был, а этот смотри какой Еруслан Лазаревич, — явно льстила старуха. — Дунюшка, подай-кося дедовы сильные очки…
Дунечка только по полу не каталась от смеха, побежала за очками, а Дарья Семеновна, не дожидаясь, обняла Маврикия и запричитала:
— Ягодка ты моя, виноградинка-ненаглядинка… Зашеинская кровушка, дедушкина головушка, бабушкины глаза, — повторяла она до слез знакомые слова.
И Маврикий, подрывник, шестнадцатилетний парень, бесстрашно прошедший длинный путь по дремучей парме от мильвенского берега, вдруг пустил слезу, приникнув к Дарье Семеновне.
Дарья Семеновна, гладя его по спине, спросила:
— Живы ли ваши-то там?..
— Живы, бабушка Дарья… Все живы. Ты не обращай внимания… Я опять немножечко стал хлипким… Это пройдет, — говорил он, утирая рукой слезы.
— Пройдет, Маврушенька, пройдет… А не пройдет, так мы с дедом прогоним. Вон он, легкий на помине.
Дуняша, по всей видимости, предупредила старика Кукуева, и он, не замечая ни красных глаз Маврикия, ни самого его:
— Дарья, что это такое делается?.. Следы. Незнакомые следы у ворот и от ворот к сеням. Для зайца великоваты. Для лося мелковаты, а для нежданного-негаданного внука в самый раз.
И снова тепло и ласка. А на столе веселый начищенный медный самовар. У стола хлопочет бабушка Дарья. За эти годы она, постарев, так стала походить на родную бабушку Екатерину Семеновну, что будто и в самом деле вернулось неворотимо ушедшее.
Подробности и частности нередко действуют на нас сильнее «общностей» и «главностей». Талабанки были такими же, как в дедушкином доме. А потом рыбный глухой пирог с двумя продухами в верхней корке. Он — точный бабушкин пирог. И вкус и запах.
Ах, тетя Катя, тетя Катя, спасибо тебе за Дымовку: здесь живут такие родные, такие близкие, может быть, самые близкие из всех родных люди.
III
В лесных местах верхнего Прикамья нередки светлые, теплые, просторные избы с высокими потолками. Лесу здесь — тьма, дров тоже. Такими были избы в Дымовке, и такой была ухоженная кукуевская изба. Василий Адрианович Кукуев, бывая в городах, начинил свою избу городским обзаведением. В избе, кроме обычных лавок, сомкнутых под прямым углом, были стулья, широкий диван со спинкой, на котором спала Дуняша, железная кровать со светлыми маковками, горка для посуды, застекленная с трех сторон, комод с зеркалом, шкаф для белья и одежи… Так что изба хоть и называлась избой, а походила она больше на мильвенское жилье мастерового. И главное — просторно. Чистота. Ни пылинки, ни соринки. Через холодные сенцы можно было попасть в теплый прируб. Это мастерская. Ружья, лыжи, ловушки, капканы, охотничья и рыболовная снасть… Особо старухин большой верстак, где она «чучелит чучела». Их тут не мало. До трех десятков. Филины, сороки, зайцы, белки, ежи, глухари… Теперь Дарья Семеновна оставила свое мастерство. Не ходкий товар. Не до чучелов людям, когда, того гляди, как бы самому не стать чьим-нибудь чучелом.
У Кукуевых был сын Андрей. Неотделенный. Жил с отцом и матерью. Погиб на войне. Осталась жена. Василиса. Не Прекрасная, как говорит Дарья Семеновна, а красоты не частой.
— Сбежала, — сообщает Маврикию бабушка Дарья и показывает фотографический снимок снохи, красавицы Василисы. — Сбежала с заезжим пароходным машинистом. Не виню. И то, что Дуняшу на деда с бабкой бросила, тоже не виню. Каково бы ей, пташке, по пароходным каютам маяться, а тут Дуняшка в родном гнезде. В неге.
Внимательно рассматривает Маврикий фотографические снимки, собранные под стеклом в большой раме, повешенной справа от божницы. Это коренная кукуевская родня. А справа в такой же, но чуть поменьше раме родня по сестрам Дарьи Семеновны и по братьям Василия Адриановича. Много тут дорогих Маврику лиц. Тетя Катя, бабушка, дедушка, мать, сестра Ириша, тетя Лара и ее три дочери, дядя Леша и опять три дочери… Ну прямо почти как в старом дедушкином доме.
Маврикий скоро освоился в Дымовке. Нашлись занятия и знакомые. Он и внешне стал походить на дымовских ребят. В желтом полушубке с шерстяной опояской, в заячьей с длинными-предлинными ушами шапке, в серых легких валенках, Маврикий выглядел совсем здешним. И если, не приведи господь, мильвенская орда пойдет через Дымовку, Мавруша в глаза не бросится. А пока да что — парма велика, дорог по ней нет, а лыжи куда хочешь уведут.
Кукуевы, кроме Дунечки, знали, что произошло с Маврикием в Мильве. Пришлось только обойти взрыв стены. Зачем им знать об этом. Василий Адрианович Кукуев, поразмыслив о положении дел, сразу предложил перебраться ему и Мавруше на Дальний ток, в охотничье зимовье. Там и самому черту не легко найти зимовщиков.
— Зачем от добра худа искать, — увещевал он. — Пока снега мелкие, и корову перегоним туда и лошадь спасем.
Слухи, доходившие до Дымовки, предупреждали о близости мильвенских живодеров. Иначе не называли отступающие вахтеровские части. Они, как говорили, приходя в деревню, опустошали ее. Дымовцы, побаиваясь прихода мильвенских солдат, утешали себя тем, что Вахтеров не пойдет в глубь леса, а свернет на среднюю Каму для соединения с такими же, как и он сам.
На это и надеялись дымовцы, не перегоняя скот и лошадей в леса. Надежды, однако, не оправдались. Близость бандитов сказалась разбоем в соседних деревнях. Резали и увозили свиней. Раздевали. Но случилось и худшее. Возле Дымовки нашли убитым молодого парня Андрея Шерстобитова, двоюродного племянника Кукуевых. Убили, как оказалось, только для того, чтобы снять полушубок и валенки.
На похоронах Андрея была вся Дымовка. Были, конечно, и Кукуевы. Был и Маврик. Мать убитого еле живую увезли с погоста. Страшно горевал отец Фока Лукич Шерстобитов и старший брат Андрея.
По возвращении с похорон Василий Адрианович объявил:
— Говорить, я думаю, не о чем… Надо подаваться на Дальний ток.
Дарья Семеновна больше не спорила. Понимал и Маврикий, что как ни хорошо в Дымовке, а рисковать нельзя.
Отъезд был назначен на завтрашний вечер. Дарья Семеновна и Дунечка должны были подсобрать в сундук все, что могло быть отобранным. Готовился запас того провианта, который не добыть ружьем в лесу. Маврикию делать дома было нечего.
— Пробежался бы, Мавруша, к речке, — посоветовала бабушка Дарья, — там в прорубке чуть не руками рыбу можно брать, а уж острожкой-то за мое почтение.
И он пошел на речку с маленькой острогой на еловой палке и легкой пешней, чтобы пробить там и сям лунки в нетолстом еще льду, попытать счастья и вспомнить, как они с Тишей Непреловым ловили рыбу так давно и почти вчера.
VI
Размышляя о рыбной ловле в Омутихе, потом о Дальнем токе, где у него будет легкое ружье и он впервые в жизни увидит настоящую охоту, Маврикий услышал писклявый окрик:
— Стой, парень, или буду стрелять!
Маврикий подумал, что кто-то из дымовских мальчишек заводит с ним таким образом знакомство. Оглянулся и увидел тощую фигурку в гимназической шинели, в старенькой, явно не по голове шапчонке, в подшитых женских валенках. Гимназист довольно смело шел на Толлина, угрожая ему карабином.
Теперь в тщедушненьком вояке нетрудно было узнать Сухарикова. Вооруженный храбрец требовал у невооруженного и еще не узнанного им Маврикия бросить на дорогу полушубок и убираться прочь. Он явно боялся сближения. Однако же Маврикий понимал, что Сухариков может выстрелить в него, а потом снять полушубок. Так уже было с Андреем.
— Ну же! — крикнул Сухариков. — Снимай! — и стал целиться.
Ища выход из положения и боясь терять секунды, Маврикий поднял вверх руки и крикнул:
— Сухариков! Что ты делаешь! Я — Толлин!
— Толлин? А зачем ты здесь? — спросил Сухариков.
Теперь нужно было придумать, что сказать дальше. Заминка могла сослужить плохую службу.
— Я в конной разведке сибирской армии. Мы здесь на дневке. Здравствуй! — Он пошел навстречу Сухарикову.
— Прости, Толлин, а я думал… — замялся Сухариков. — Я совсем окоченеваю.
— О чем ты, право, когда вопрос касается жизни, — сказал Толлин, — церемониться не приходится. Прости и ты меня.
Произнося эти слова, он вырвал у Сухарикова карабин.
— Вот ты как?
— Так же, как ты! А как же я еще могу!
— Я же не знал, что это ты…
— Какая разница, кого бы ты убил из-за полушубка. За такой разбой знаешь как наказывают…
Сухариков тоненько заскулил, утирая слезы вышитыми девичьими рукавичками, которые, как подумал Маврикий, наверно, тоже добыты по-разбойничьи.
Долго видеть чужие слезы Толлин не мог. Не мог он и задерживаться на лесной дороге. А вдруг появится кто-то еще.
— Беги, беги, я не трону… Я не буду грязнить свои руки…
— А как я могу вернуться без карабина…
— Да ты что, Сухариков, совсем считаешь меня за дурака, — вспылил Маврикий, — я тебе отдам карабин, а потом ты опять…
— Меня могут приговорить за карабин… У нас уже расстреляли татарина за потерю оружия, — не переставал лить слезы Сухариков. — Разряди его и отдай…
— Тогда вот что, — сказал Толлин, — мне твой карабин не нужен. Возьми его без затвора. За затвор не засудят. И беги. Выкрадешь у кого-нибудь. Н-на, вонючка, и беги.
Сухариков схватил далеко брошенный в снег карабин и припустил по дороге. Толлину тоже не следовало задерживаться здесь. «Скула», «ханжа», «ябедник» Сухариков может оказаться верным себе и предать Толлина.
Не скрывая испуга, Маврикий рассказал Кукуевым о встрече на лесной дороге со своим школьным товарищем.
Василий Адрианович принял очень близко к сердцу рассказанное.
— Сколько дён я твержу о Дальнем токе! — крикнул он вдруг. — Ведь он же от смерти ушел. Понимаешь ли ты это?..
Дарья Семеновна поняла все.
Через час была запряжена лошадь в дровни, на дровни поставлен сундук с добром — и прощай Дымовка. Домовничай, Дарья Семеновна. Мужики лесовать уехали. Корова-то авось уцелеет. И спасительная хитрость найдется. Язвой занедужит она, если что. А как язвенную корову в солдатский котел класть? Всех погубишь.
Не успел Василий Адрианович прошептать и половины заговоров против лесной нечисти, как потерялась извилистая дровяная дорожка, будто ее веселый леший украл из-под ног шустренькой сивой лошадки.
— Теперь, милый внук, на лыжах двинем. Лошадке тяжеленько будет по снегу сани тянуть.
Василий Адрианович вытянул из-под сундука короткие и широкие охотничьи лыжи.
— Давай покажу, как в них наши лесовики обуваются. А потом сам будешь обуваться.
Став на лыжи, Маврикий, легко шагая, заскользил по снегу. Хороши охотничьи лыжи. Наверно, при такой ширине эти коротышки непригодны для катания с гор, зато ходить на них — такая красота.
Вожжи были брошены на сундук. Лошадь не хуже хозяина знала бездорожный путь на Дальний ток. Василий Адрианович только изредка проверял старые засечки и другие приметы, чтобы не сбиться с дороги. Лошадь у него хотя и «невозможно умная животина, а все ж не человек».
Выяснивало на мороз. Не одна луна, а кажется, и звезды давали свет. Да и сам сине-белый снег, слепящий алмазной игрой, добавлял света в лесу, делая его куда более веселым, чем в осенние ночи. Легко различались следы. Зайцев тут пропасть. Есть и лисы. Кажется, и волки.
— Чуешь, — как бы подтверждая, что увиденные следы и есть волчьи, Василий Адрианович обратил внимание на дальний, еле слышимый вой, — это они, серые.
В эту минуту Маврику стало жаль возвращенного карабина. Из карабина можно и за версту бить по волку. А потом, подумав, решил, что поступил правильно. Попадись им сейчас солдаты: «Кто такие? Куда?» — а они ответят: «Охотники», и все. А если при охотнике военный карабин, то охотник ли он?
После полуночи лошаденка заржала. Видимо, и она была довольна, что наконец-то путь окончен.
V
Дальний ток — это небольшая лесная полянка. На полянке срублена охотничья избушка с бревенчатым приделом для лошади.
— Бревно и есть бревно. И в стужу тепло лошадушке и от волков заслон, — говорил Василий Адрианович, помогая Маврикию распрягать лошадь.
Наверху бревенчатой конюшенки виднелся хороший стожок сена, о котором было так же пояснено Маврикию:
— Дальше положишь — ближе возьмешь. Здесь и на сено хитники есть. Вот приходил уж его лосиное благородие. Придется, видно, поставить браслет в его след.
Кажется, Василий Адрианович был доволен своим убегом из Дымовки. Он нескрываемо любил свою избушку в этой лесной глуши. Видимо, ему здесь не скучно было проводить время в полном одиночестве. А теперь у него хороший напарник. Есть кому порассказать о том и о сем.
Избушка была заперта на замок только для видимости. Только для того, чтобы замком, отпирающимся без ключа, было сказано: «Дома никого нет». Сразу же нашлись спички. Дрова еще с осени были положены в небольшую, но сложенную по всем правилам русскую печь. Оставалось только чиркнуть спичку, поджечь бересту — и пошла пластать лучина, а за нею уложенные клеткой дрова, как любила укладывать их тетя Катя.
Как-то там милая тетечка Катечка? Маврик ничего. Ему совсем не плохо. Даже свет в избушке. Сальная плошка. Есть и керосиновая лампа. Фитилек не велик, а даже читать можно страницы из газет и журналов, которыми для красы-басы и чтобы не дуло в пазы оклеены стены избушки.
— По маленькой, — предлагает Василий Адрианович, — с морозцу для сердечного согревания и для испуга нечистиков.
Затем Кукуев объяснил, что лесные нечистики, кроме старух Ягишен, боятся русского водочного духа. Разлив остаток из бутылки, стоявшей в голбце, обнадежил Маврикия, что жалеть ее нечего, что будет сварено и выгнано еще. Есть из чего.
Нашлась и еда. Соленые рыжики. Редька ломтиками и вяленая козлятина. Маврикий пробовал это самодельное зелье, воняющее гарью. На этот раз самогонка была просто-напросто вкусна.
Наверно, было около трех ночи, когда дедушка Василий поднял доски нар, вынул лежащие под ними как в сундуке немудрые, но теплые постельные принадлежности, затем добыл из охотничьего мешка резного божка, отдаленно напоминающего Николая-угодника, наскоро перекрестился, затем перекрестил задремавшего Маврикия и растянулся на нарах, не покрываясь лоскутным стеганым одеялом.
Страхи за двести тысяч верст.
Утром проснулись, когда было совсем светло. Шел снег. Значит, охотничий божок помог. Если снег будет так сыпать до вечера, то прощай вчерашние следы.
У Василия Адриановича внуком была Дуня. Хороший внук. В смысле — по зверю стрелять, на лыжах ходить, следы читать, не хуже бабушки Дарьи. Но, что вы там ни говорите, а девушка она и есть девушка. А тут парень. Не кровный хоть, а свой. И как для такого парня наизнанку не вывернешь себя, лишь бы ему, мученику с самых ранних лет, хорошо пожить в этом зеленом царстве, без царей, без председателей, без никакой тебе власти, как до потопа в бывшем раю, только погоды другие. А так чем не рай этот край. Если мешок-два муки у тебя, так все остальное по лесу бегает, по-над лесом летает.
Лось — не корова, козел — не баран, а глухарь — не курица. Но если с умом, если суметь как надо приготовить их мясо до варки или жарки, так до косточек огложешь. А грибы, орехи, ягоды? Разве это не самый что ни на есть провиант самолучшей вкусноты и пользительности? Значит, если мука, соль, лук, горчица, перец есть, сто лет здесь можно жить без выезда. Даже чая не надо. Здесь почище травы растут. А мед от диких пчел? Неужели сахар лучше его?
Таков сгущенный пересказ восторженных похвал Дальнему току, воздаваемых Василием Адриановичем за утренним чаепитием.
Восторгался Дальним током и Маврикий. Здесь он увидел в таком множестве зимующих птиц, что зарябило в глазах. Нарядные щеголи — щеглы. Клесты желтоватые, розоватые сильными клювами расправлялись с еловыми шишками, выбирая из них семена. Снегири в красных жупанах и снегирихи-снегурки в беличьих душегрейках тоже безбоязненно шныряли по кустам. Про кузек — больших синиц — нечего и говорить. Они на весь лес оповещали о себе своим звонким и воинственным кличем. Их подкармливал остатками мясной пищи Василий Адрианович. И серенькие скромненькие чечетки, перелетая веселыми стайками, неустанно твердя свое «че-че-че» и «че-че-пи», тоже говорили о жизни пермяцкой пармы, не замираемой и зимой.
Как тут не закружиться голове…
Плохим бы охотником был Василий Адрианович, если бы он не прочел в глазах новоявленного внука то, что нужно было прочесть. И он сказал, чтобы не обидеть его возраст и не уличить его в мальчишечьем желании половить птиц:
— Когда мне тоскливо бывает здесь, я птах ловлю.
— Каких, дедушка Василий? — живехонько заинтересовался Маврикий.
— Всяких.
— Зачем?
— Как все. Для души. Подержу в избе, подкормлю и выпущу. А если певун, зачисляю на продовольствие до весны. У меня западенок этих, ловушек, сеток, садков штук… не знаю сколько. Может, интересуешься?
— Очень, — покраснев, признался Маврикий.
— Тогда лезь наверх…
И он полез. А потом снял бесценное богатство птицелова.
— Ты знаешь, дедушка Василий… Туда я полез взрослым человеком, а слез оттуда, — указал он на чердак, — совсем мальчиком. Лет двенадцати. Тебе не смешно?
— Да отчего же смешно-то, Мавруша?.. Полнокровный и стоящий человек во всех прожитых годах живет и ни из одного года не вырастает, потому как прожитые годки не изношенные портки, их не скинешь, да и зачем скидывать.
При таком толковании можно было не стыдиться своих желаний и заняться тотчас же ловлей птиц. Но, как всегда или как это часто бывало в жизни Маврикия, произошло неожиданное. На поляне появился лось. Появился здоровеннейший лось и неторопливо пошел к приделу, на котором был сметан стог сена.
VI
Лось не столь частая удача охотника. Не накидывая шубенку, Василий Адрианович схватил заряженное пулей ружье, чтобы из сенцев, без промаха, под левую лопатку.
Прогремел выстрел. Лось грохнулся и забился. Маврикий был по ту сторону избы. Он выбежал и увидел картину, которая его потрясла и оскорбила.
Дедушка Василий, такой мягкий, заботливый, жалостливый и добрый, беснуясь, бегал около стонущего лося, стараясь изловчиться и прирезать его большим кинжалом. А лось бил могучими ногами. Он бил ими так неистово, что было страшно находиться поблизости.
Наконец старик изловчился, и нож был всажен, зверь испустил громкий вздох и затих.
Маврикий тоже вздохнул очень громко и оперся на столб с кольцом, служивший, очевидно, коновязью.
— Зачем вы это сделали, Василий Адрианович? — упавшим и недобрым голосом спросил Маврикий, впервые называя своего двоюродного деда по имени-отчеству и говоря ему «вы».
Охотнику Кукуеву вопрос показался таким же несуразным, как если бы его спросили, зачем рубят лес на дрова или ловят рыбу на уху. Но, подумавши, он сделал вид, что не расслышал Маврикия, надеясь поговорить с ним потом, принялся разделывать тушу. Нужно было снять шкуру с теплого зверя и выпотрошить его.
Василий Адрианович делал это удивительно быстро. И понятно. Снимать шкуру для промыслового охотника — обязательное ремесло.
Разрубив стяг мяса надвое по хребту, потом пополам каждую половину, стаскав это все на чердак, сказал:
— Вот что я тебе скажу, Маврикий Андреевич. Жалость — святое чувство. Жалеть могут только хорошие и добрые люди. Но жалость без ума, как и доброта без разума, либо глупость, либо барский наигрыш. Дамочка над ягненочком, потерявшим мать, льет слезы, а котлеты из него жрет. Ты нынче козлятину вяленую с каким смаком уплетал, а я ведь этого козла тоже… — говоря так, он изобразил руками стрельбу из ружья, — бам! — и… мясо. А как иначе? Траву, что ли, есть? Так ведь и она своей жизнью живет. Я это говорю тебе не в обиду. И не о зверях говорю. Об этом с тобой мы всегда договоримся. И ты поймешь, что глупо из-за козла расстраиваться. Так и над пойманным окунем надо горевать. Я о другом. О политике. Я ведь хоть и не столь прытко читаю газеты, но думаю над ними. Погоди, парень, — прервал разговор Кукуев и кинулся закрывать трубу, — совсем забыл про нее.
Закрыв трубу, он открыл заслонку, заглянул в печь и снова закрыл заслонку. Из печи потянуло тонким ароматом томившейся в жаровне утки, сунутой вместе с прочим провиантом бабушкой Дарьей. Маврикию стало неловко за свою истерику по поводу убитого лося. Он, конечно, сумеет загладить это. Но дело, оказывается, не в лосе. Василий Адрианович копал глубже. Он вспомнил разговор Маврикия о том, какими он хочет видеть жизнь и государство. Он говорил об этом, когда они шли на лыжах:
«Жизнь должна быть свободной для всех. Отношения людей должны строиться на взаимном уважении. Нужно создать такое государство, при котором один человек не может лишить жизни другого человека. При котором не будет тюрем, пушек, винтовок, сабель, бомб и останутся только охотничьи ружья».
Повторив смысл сказанного тогда Маврикием, Василий Адрианович мягко заметил:
— И я за такое царство-государство. Да как установить его, когда по дорогам рыскают мальцы с карабинами, которые убивают за шубейку. Куда они денутся из такого царства? Жалость — святое чувство, говорю я опять, а бывает, что жалость страшнее зла. Вот ты пожалел этого Сударикова…
— Сухарикова, — мягко поправил Маврикий.
— Что Сухариков, что Судариков — один пес. Судариков даже лучше. Вот ты пожалел его, а ведь он может в другого выстрелить и убить.
— А что же я мог сделать? Не убивать же…
— Убивать не обязательно, а прикладом дать по зубам, коли карабин был в твоих руках, — надо бы. Помнил бы, стервец, на всю жизнь, за что зубы выбиты.
Маврикий молчал, а старик не останавливался:
— Слов нет, и кошку, бесовскую тварь, жалеть надо, а другой раз и верного друга пса-охотника нужно своими руками удушить, если он, допустим, сбесился бесповоротно и может других покусать. А разве твой Сухариков не бешеный пес? И карабин бы пригодился. Время-то какое…
Слушая, Маврикий сидел за столом, подперев руками голову, и молчал. А Василий Адрианович все на той же струне:
— Сам господь человеку дал чистую душу, доброе сердце, ласковые руки… Но ведь господь и ядовитый желудочный сок тоже не забыл и желчь дал. Как может жить человек без желчи? А ты, парень, безжелчным рожден, безжесточным творением. Вот и маешься, ищешь ангельскую землю, праведное царство. А их нет. И не скоро предвидятся. — Кукуев неожиданно прервал речь. — На первый раз хватит пока. Надо с умом, не торопясь безжесточных ожесточать… Давай вилки, тарелки на стол, а я в печь за жаревом полезу…
VII
«Отчизны верные сыны» сразу же, как только перебрались за Каму, перестали существовать отрядом при главнокомандующем. Выросшие под бочком у маменек и папенек, захныкали после первой морозной ночевки в лесу. Поэтому отряд пришлось расформировать, а их распределить по частям для несения легкой службы. И они были назначены в полевую почту, в походный госпиталь, караульными у денежных ящиков, связными, помощниками каптенармусов, квартирьерами… Мало ли есть и можно придумать должностей, для того чтобы сохранить не приспособленных к военным и ко всяким другим тяготам удальцов на словах.
Сухариков, Вишневецкий и Мерцаев были назначены квартирьерами штаба. Им была предоставлена лошадь, кошевка и карабины. Они предварительно расквартировывали идущих позади и, как положено было, ставили на воротах дворов условные значки штабных должностей, караульной команды и других служб при штабе.
Сухариков вначале скрыл от Вишневецкого и Мерцаева встречу с Толлиным. Когда же Сухариков выкрал затвор в комендантской команде, ему нечего было бояться. И он не мог удержаться и не рассказать, как он встретил пустившегося наутек Толлина.
— Как раз это все случилось тут. — указывал он на место встречи с Толлиным. — Может быть, он и сейчас здесь, где-нибудь в деревне.
Вишневецкий и Мерцаев не верили храбрившемуся Сухарикову, «завоевавшему» женскую шубейку и похожему теперь в украденной женской шубейке на стриженую, рано начавшую вянуть девчонку. Но когда они очутились в Дымовке, где нужно было расквартировать посвободнее семьи штабных, сразу же напали на след Маврикия.
О нем рассказали и, не желая того, предали его деревенские мальчишки, привязавшиеся к сердечному сверстнику из города. Они называли его по имени и указали на избу Кукуевых. Кажется, сыну пристава было суждено прославить себя. И он незамедлительно отправился в указанный дом.
Недолгое пребывание в бандах Вахтерова научило семнадцатилетнего Вишневецкого разговаривать и расправляться с беззащитными и слабыми. Войдя в избу Кукуевых, он закричал:
— Где Толлин, старая гнида? Правду и только правду! Или… — Он замахнулся на Дарью Семеновну прикладом карабина. — Ясно?
Дарья Семеновна слушала не перебивая шелудивого щенка, прикидывая тем временем, как ей вести себя дальше. Считая, что старуха достаточно напугана, Вишневецкий повторил:
— Где он?
Дарья Семеновна на это с мягкой угодливостью ответила:
— Зачем тебе, не знаю, как и назвать тебя, красавец, надо было утруждать свой голос и гневить божью мать, когда и одного слова хватило бы. И я бы сама свела тебя на старую солеварню, где прячется этот змееныш, напуганный тем, что его хотел разуть-раздеть из ваших же храбровитый юнец…
«Выходит, не врал Сухариков», — подумал Вишневецкий и увидел на пороге избы Игоря Мерцаева. Игорь не хотел, чтобы слава досталась одному Вишневецкому. В ОВС никто уже не сомневался, что стену камер взорвал Толлин, что он шпионил еще раньше в доме Тюриных, а потом оставался в Мильве, чтобы вступить в отряд ОВС и передавать военные тайны через Медвеженский фронт.
— Ты что, Игорь? — спросил ревниво Вишневецкий.
— Проверить, как у тебя дела…
Слово «проверить» резнуло ухо самовлюбленного Вишневецкого. Но Мерцаев мог так сказать. Он был старший квартирьер, а Вишневецкий обычный. Без нашивки на рукаве.
— Да ничего, — ответил он, — я нашел следы преступника.
Пока пришедшие разговаривали между собой, Дарья Семеновна, а потом и подоспевшая Дунечка пристально рассматривали желтый дубленый полушубок на Игоре Мерцаеве. Они узнали этот полушубок. В нем бывал у них в доме Андрюша Шерстобитов.
— Одевайся и веди, — приказал Дарье Семеновне Вишневецкий, все еще стараясь удержать за собой первенство в поимке Толлина.
— Это я мигом. Только не рано ли? Его сейчас может там и не быть. А если насторожишь, он, глядишь, и перепрячется в другое место.
— Непременно так и будет, — подтвердил начальнически Мерцаев, побаиваясь идти вдвоем и думая прихватить хотя бы Сухарикова. — А вечером мы его сцапаем, как цыпленка.
— Ну что за разумник… Скушай горяченькую… Да и ты тоже, ретивый офицерик, — польстила она тому и другому, предлагая лепешки.
Они принялись есть и рассматривать стены. Рамы с фотографиями мильвенской родни не было на стене. Она уехала в сундуке на Дальний ток.
Пока юные бандиты ели горячие лепешки, Дарья Семеновна искала пулевой прострел на груди полушубка. Андрей был убит в грудь навылет. Не нашла, но, разглядывая полушубок, окончательно убедилась в его принадлежности Андрюше.
— Так мы придем вечером, — предупредил Мерцаев. — Жди. Да смотри не вздумай…
— Что ты! Что ты! — начала отмахиваться Дарья Семеновна. — Ты лишнего не скажи. А я-то уж не скажу… Возьми еще на дорожку одну. И ты…
Как только Вишневецкий и Мерцаев очутились на улице, Дунечка первая заговорила о полушубке:
— Бабанюшка, значит, он убил Андрюшу.
Не сговариваясь, они решили дать знать отцу Андрея — Фоке Лукичу Шерстобитову. Дунечка через огороды, делая большой круг, на случай, если следят за домом, побежала на другой край села. Фока Лукич оказался в дальней лесосеке. Дунечка — на лыжи и вместе со старшим братом Андрюши — туда. Нельзя было терять время.
Зимний день короток. В сумерках пришли Мерцаев и Вишневецкий. Сухариков решительно отказался ловить Толлина. Он боялся его и пугал их.
Дунечка еще не вернулась, и Дарья Семеновна всячески тянула время, ссылаясь на ранний час.
— Спугнуть лису всегда легче, нежели поймать ее. Особливо живьем. Я и мешок приготовила. Цап его и — в куль, а опосля волоком, — распаляла Дарья Семеновна воображение Мерцаева и Вишневецкого, заранее торжествующих удачу облавы.
Хлопнули двери в сенцах, затем вошла Дунечка.
— Отдадут они, бабонька, долг. Привезут тебе и горох и муку, — сказала умненькая девочка и, повернувшись к Мерцаеву и Вишневецкому, сказала: — Еще раз здравствуйте.
— И в добрый час, — отозвалась на сообщение внучки Кукуева. — Брать-то все умеют, да рассчитываться не торопятся… А у меня только пшена горсть… — обратилась она к Мерцаеву. — Мне вон двоих постояльцев из милосердных сестер поставили. Чем их кормить?
Мерцаеву не терпелось.
— Совсем уж темно.
— Пошли, сокол, пошли. А ты, Дунюшка, запрись. Огня не задувай, — наказала она внучке и быстрехонько накинула платок и легкую кацавейку. — Аида, поехали.
VIII
Идя по дороге на старую солеварню вслед за Мерцаевым, Дарья Семеновна, напрягая глаза, отыскала на спине полушубка, ниже левой лопатки, отверстие, оставленное пулей. Она точно помнит, как мать Андрея не один раз повторяла: «Прямо в сердце и насквозь ниже левой лопатки». Теперь не оставалось никаких сомнений. Это и есть убийца.
Дорога шла берегом речки. Мерцаев и Вишневецкий шагали быстро, и Дарья Семеновна попросила:
— Стара стала я рысью-то бегать…
Убавили шаг. Падал мягкий снежок. Вскоре свернули в молодой сосняк. Дарья Семеновна сказала:
— Теперь тише. Недалеко уж. Не насторожить бы…
Пошли совсем тихо. Где-то пискнула большая синица. Ей ответила другая. И тут же из соснячка вышли четверо мужиков. Трое с топорами, один с шомпольным дробовиком. Мерцаев и Вишневецкий, не успев понять, в чем дело, были сбиты с ног и разоружены.
— Теперь патроны, — приказал вооруженный дробовиком.
Мерцаев услужливо отдал подсумок. Вишневецкий стал шарить в карманах и вынул две неполные обоймы. Тут, будто только что заметив Дарью Семеновну, самый старший из нападающих, это был Фока Шерстобитов, кинулся на нее и закричал:
— Смерть тебе, колдунья!
— Кому служишь, проклятая гадина! — прокричал второй.
И наконец, третий, старший брат Андрюши — Константин вытащил из-за голенища нож:
— Молись, ведьма!
Тут Дарья Семеновна, считая, что все было сыграно очень хорошо и ее в случае чего никто не может обвинить в приверженности к красным, с криком бросилась в обратный путь.
Отец, старший брат Андрюши не стали разглядывать полушубок на Мерцаеве. Они, как и Дунечка, сразу же узнали его. Им незачем было искать места, где прошла пуля. Узнали и валенки. Шерстобитов смотрел в глаза убийцы с такой ненавистью и озлоблением, что этот взгляд Мерцаеву показался страшнее, чем если бы на него навели стволы обоих отобранных у него браунингов.
Нельзя было просто так прикончить этого барчука, не пожалевшего жизни своего сверстника ради овчинного полушубка. Ему нужно было сказать, за что его лишают жизни. И Фока Лукич спросил:
— Где ты взял полушубок моего сына? Только не ври.
Мерцаев никак не ждал, что его будут спрашивать об этом. Бледнея и дрожа, он сказал:
— Я купил его у солдата. Вот при нем. Правда ведь, Юра?
— Не торопись отвечать, — предупредил Вишневецкого Фока Лукич. — А то, не ровен час, соврешь и без головы в свою часть пойдешь. У какого солдата купил он? Вместе с валенками? Или порознь?
Вишневецкий молчал, опустив голову.
— Значит, не хочешь врать и выручать его? — спросил Фока Лукич. — Ну, а если не хочешь врать и выручать его, тогда говори правду. Он убил на опушке парня и снял с него полушубок и валенки?
Не долго раздумывал Вишневецкий. Улучив минуту, когда Мерцаев не смотрел на него, он кивнул головой.
— А ты не мотай головой, как козел, — вступил в разговор брат Шерстобитова, дядя Андрюши, — ты как человек. Да или нет, если хочешь снисхождения.
— Да, — громко сказал Вишневецкий.
— Не-е-ет!.. — истерически завопил Мерцаев. — Н-е-ет!..
— Значит, не хочешь признаться, убивец.
Мерцаев не выдержал, бросился к ногам Шерстобитова и стал просить помиловать его и простить. Фока Лукич поднял над головой убийцы сына лесорубный, с длинным топорищем, топор. А потом бросил его на снег. Такая казнь показалась малой и легкой. Озлобление и месть душили отца. И он стал искать возмездия страшнее.
— Жабеныш, что положено за смерть ни в чем не повинного человека ради мелкой корысти. Что?!
— Смерть! — не моргнув, ответил Вишневецкий.
— Юрий! — умоляюще не то проговорил, не то простонал Мерцаев.
Злоба Шерстобитова не утихала, а закипала с новой страшной силой. И он опять сквозь зубы заговорил с Вишневецким:
— Ежли ты такой праведный судья, так будь ему таким же праведным палачом.
В висках Вишневецкого стучало: «Выжить, любой ценой выжить». Он взял топор и пошел на обезумевшего Мерцаева.
Все отвернулись.
После того как Вишневецкий бросил окровавленный топор на снег, Шерстобитов сказал:
— Если ты так легко убиваешь своего однокорытника, значит, и ты, наверно, убил кого-то ради шубейки, что на тебе. И за это тебя тоже бы надо… Но ты живи и майся. Майся и бойся смерти за смерть… А теперь беги. Утекай, слизень…
Вишневецкий припустил по дороге в Дымовку, не чуя, как говорится, под собою ног. Дорогой в его наследственно-подлой голове созрел план: он расскажет о нападении четырех вооруженных, лица которых ему не удалось запомнить, и о том, как ему счастливо удалось бежать и как был уведен не вырвавшийся из их рук Игорь Мерцаев.
Ведь никто не поверит тому, что было на самом деле, если бы даже эти четыре мужика обвиняли Вишневецкого.
Не замешкались там у солеварни и Шерстобитовы.
— Возьми, сын, улику, — указал на топор Фока Лукич, — и ходу.
За солеварней их ждали розвальни и буланый конь.
И снова пошел снег — прятальщик следов и улик.
ВТОРАЯ ГЛАВА
I
Хорошо сдружились на Дальнем току дед, искавший внука, и внук, у которого не было дедушки. Выяснили спорные точки, расставили главные запятые и, больше не ссорясь, жили душа в душу. Старик радовался хорошему ученику, который с ходу перенимал, крепко запоминал и находил свое.
Дедушка Василий учил и тому, что не вычитаешь ни в одном учебнике, не услышишь ни на одном уроке, что знали только люди, живущие рядом с лесной нечистой силой. Следы — это не вопрос. Много ли их? Три десятка звериных да дюжина птичьих. Не велика азбука. Труднее по нюху, по ветру, по часам и солнышку, а ночью по звездам находить дорогу. Но тоже если учиться, запоминать, то и эту геометрию можно одолеть.
У каждого зверя своя хитрость, свое умение прятаться. С собакой успешнее была бы охота, а пришлось оставить дома верную лаечку Стрелку. Звонко лает охотница. Далеко убегает от избушки в поисках зверя. Не ровен час и наведет на след лиходея из вахтеровской своры. Скучно без нее, но спокойнее.
Василий Адрианович, как мог, укреплял хлипкое сердце жалостливого парня, отвердевал его душу охотой. Не добил ружьем — дорежь ножом. Жизнь это жизнь. А смерть это смерть. И на охоте надо быть как на охоте.
Неизведанные удачные выстрелы, хитро поставленные капканы, умело настороженные ловушки заставляли забывать, что не так-то уж далеко идет гражданская война. Раз только побывал здесь вестник из Дымовки, старший сын Шерстобитова Константин. Он рассказал, что было на старой солеварне и каков змееныш Вишневецкий. Он же оставил на Дальнем току карабины с патронами. А вдруг пригодятся для обороны. Тем же далеким путем в обход, подгадав к снегопаду, ушел Константин, прихватив с собой боровой зимней птицы. С едой в Дымовке стало куда хуже.
С тех пор не приходил никто и неоткуда было знать, что на берега Камы пришла откормленная, обмундированная, хорошо вооруженная колчаковская армия.
Колчаковские батальоны, встретившиеся с мильвенцами, одним лишь своим видом дали понять, что больше нет никакой мильвенской гвардии, да еще революционной, никаких красных повязок на рукавах и красных знамен частей.
Оказывается, все это было только туман, только притворная видимость.
На другой же день началось переформирование. Мильвенские отряды стали даже не полком, а лишь частью полка, не получившего еще номера. А ее главнокомандующий стал обыкновенным командиром стрелкового батальона штабс-капитаном Вахтеровым. И все.
Через несколько дней подвезли обмундирование. Главным образом английское. В продаже появились белые баранки и японские сигареты «Золотой шлем». Командиры надели офицерские погоны и стали господами. Господами подпоручиками, поручиками, штабс-капитанами и выше.
Герасим Петрович Непрелов тоже надел погоны. На одну звезду больше, чем на тех, которые он срезал при бегстве из Петрограда. Непрелова никто не производил в очередной чин. Он сам произвел себя. Кто разберется, да и кому нужно выяснять подробности.
В полку без номера, сформированном из мильвенцев, начался ропот. И вскоре полк был выстроен. Перед строем командиры батальонов объявили, кто такой верховный правитель адмирал Колчак, и что означает солдатский погон, и как смертельно опасны политические разговоры. Затем был обнародован приказ о расстреле бунтовщиков перед строем.
Тут же были названы фамилии. Послышалась команда выйти названным из строя. И наконец, печатая шаг, прибыла особая рота, и послышалась протяжная громкая команда:
— По красным бандитам, немецким шпионам, в назидание не раскаявшимся в своих заблуждениях… рота-а-а-а… Пли!
На снег повалились мильвенские рабочие, крестьяне из примильвенских деревень. Среди них не было большевиков и, кажется, даже не было осознавших предательство Вахтерова. Это были меньшевиствующие и эсерствующие обманутые люди, которым смерть помешала понять, как жестоко посмеялась над ними кучка отъявленных авантюристов.
После расстрела мильвенцев Вахтеров получил подброшенное ему письмо:
«Считай себя мертвым, гад и предатель».
Вскоре Вахтерова не стало в полку. Его откомандировали в распоряжение верховного командования. Все понимали, что ему теперь страшно было появиться перед строем. И еще страшнее оказаться в бою. Узнавай потом, чья пуля размозжила его затылок.
О Мильва, Мильва, как страшны заблуждения и как тяжка расплата за них твоих сынов.
II
После рождества Маврикий заболел неизвестно чем. Ни жара, ни озноба, а бред и слабость. Ночью за ним приходили и Манефа, и Юрка Вишневецкий, и сам Вахтеров. Его уже несколько раз расстреливал Митька Суровцев из Союза молодежи за то, что видел у него на руке повязку с надписью ОВС. Он жаловался:
— И там и тут я, дедушка Василий, преступник… А что я сделал? Разве я не хотел добра всем?
Тут Василий Адрианович, не споривший все это время, вставил несколько словечек:
— Кто, Мавруша, для всех слуга, тот всем враг… Ну да потом об этом, выздоравливай скорей.
Кукуев отпаивал больного сильными травами, и особенно настоем корня валерьяны. Старик нутром чувствовал, что самое лучшее лекарство для хворого и ничем не болеющего — это сон и покой. Поэтому по своему разумению и давал он успокаивающее сонное питье.
Здоровое дедовское наследство тоже помогло справиться с болезнью, которая неизвестно как называлась. Выздоравливающий стал выходить греться на солнышке, которое давно поворотило на лето. И здесь случались теплые дни. Зайцы отыграли весенние игры. Оживились зимующие здесь птицы. Как-никак скоро начнется перекочевка на север, в злачные кормом места.
А потом нежданно-негаданно прикатила на лыжах бабушка Дарья. В избушке совсем повеселело.
Белые, которые теперь назывались белыми, давно уже оставили Дымовку. Они, тесня красных, обещали взять и Казань и Вятку, а потом широким фронтом двинуться на Москву.
Дымовка снова стала глубинной лесной деревней, далекой от фронтов и большой жизни. При колчаковцах избрали старосту. Он и был властью. А какой, не знал и сам. Этих властей перебывало столько, что лучше не выяснять, кто за что. Быть бы живу.
Бояться старосты было нечего, потому что он сам боялся всех, как и единственный богатей Егор Тыловаев. Он и при белых не стукнул, не брякнул. Понимал, что чем длиннее у человека язык, тем короче его век.
В Дымовку отправились, когда в лесу поосел снег и лошадь могла с передышками дотянуть дровни до санной дороги.
Маврикий возвращался с Дарьей Семеновной на тех же широких охотничьих, обитых оленьей шкурой лыжах. Шли легко и дошли скоро. Совсем не тот лес перед началом весны. Сорока и та хочет выстрекотать что-то очень веселое.
Ну, а деревня не лес. Там и проталинки и талые воды, бегущие к рекам, чтобы поднять и прогнать с них лед.
Корова уцелела. Придуманная сибирская язва оберегла не одну ее — и многих других коров в Дымовке. Маврикий опять зажил в холе, как у тети Кати в зашеинском доме. Дунечка только пылинки не сдувала с ненаглядного троюродного братца. Две льняные косоворотки вышила она ему за зиму. Одну васильками, другую — ромашками. Бабушка Дарья одевала внука по деревенской моде. Штаны в сапоги, рубашка с витым шелковым пояском и фуражка с лаковым козырьком.
Очень боялась Дунечка, что вернется «головная болезнь». А ее и в помине не было, хотя всякий новый человек, появлявшийся на улице, пугал Маврикия. И поэтому Василий Адрианович вырыл под полом канавку из голбца. Чуть что, прыгай в подпол, ползком ползи по канавке в огород и — в лес. Старик Кукуев знал, что никакой и ниоткуда опасности ожидать нечего, но успокоить парня, показать ему, что во всех случаях жизни он в безопасности, было необходимо. И Маврикий радовался подземному ходу и даже дважды пробовал совершать побег через голбец. Видимо, остатки мании преследования сказывались и теперь.
Близилась последняя неделя поста, а за ней пасха. Сколько связано с этим праздником у Маврика и как он любит его, став безверным. Для него ничего не заключено в куличах, крашеных яйцах, сырной пасхе — еда, и все. Они милы, как нарядные обновки, веселые качели, песни, гулянья… Праздник, и все. Кажется, и для жителей Дымовки попить-поесть, попеть-поплясать тоже значит больше, чем все остальное.
Маврикию иногда кажется, что многие люди верят только потому, что боятся потерять праздничные обряды. А какой же обряд без того, ради кого его справляют. Вот и приходится не терять старого, не найдя новое.
В Дымовке немногим слышнее, что делается на белом свете, потому что иногда здесь появлялись газеты. Их раздобывали для курева. Японские сигаретки были дороги, поэтому курили самосад. Старики в трубках, а люди средних лет крутили цигарки, козьи ножки.
В одной из газет, название которой было искурено, описывалось, как красные оставили Мильву и как доблестные войска армий Колчака вошли в город. Назывались полки, командиры, описывалась встреча духовенством и верующими бесстрашных, непобедимых, верных отчизне сынов. Невольно вспомнились пресловутые отряды ОВС. Та же песня, только голос другой.
Раздумывая о горестях Мильвы, Маврикий не предполагал, что она так властно позовет его. Маврикий не знал, что так невыразимо велика его любовь к Мильвенскому заводу, где мила и дорога ему каждая улица, каждый переулок, односторонок, пустырь, набережная… Все отчаянно дорого его сердцу, и даже этот паршивый горбатый медведь, которого невозможно теперь переплавить в печи, потому что он прошлое Мильвы. Потому что он ее доподлинный памятник-ренегат, столько раз изменявший свою символику.
Милая плотина больше версты длиною. Пряничная деревянная кладбищенская церковка. Родные могилы. Чистая-пречистая Омутиха. Красавец пруд, то смеющийся тысячами солнечных зайчиков, то зеркально-грустный, то такой озорной и шипящий белыми гребнями, то безмолвная снежная равнина.
Дорог и мил слуху заводской свисток, который приезжие называют гудком. Он низкий и громкий. Он будит не пугая. Он зовет не требуя, а приглашая. Говорят, что тембр свистка искал и нашел хороший музыкант. Говорят, что в голосе свистка слышатся глухие, но чарующие звуки башкирского курая.
Как можно забыть Мертвую гору, с которой никогда, никогда нельзя досыта налюбоваться Мильвенским заводом? А мысы? А Каменные Соты? А заливы? А рябины, под которыми его окликнула Лера и разбудила в нем чувство, которое не усыпила Сонечка.
Но ведь Мильва не только дома, улицы и пруд. Мильва—это самая родная из всех родных тетечка Катечка. Это, конечно, и мама, и некоторые товарищи… Только, конечно, не Ильюша и Санчик. Их не разлюбил Маврикий, но у него нет к ним прежних чувств. Зато есть другие… А кто? Кажется, только Виктор Гоголев, он тоже ни за тех, ни за этих.
Маврикий должен побывать в Мильве. Он должен увидеть тетю Катю. Хотя бы на час. Он должен встретиться с Соней. Теперь они почти повенчаны. И он будет верен ей, хотя и думает, что не поторопилась ли она тогда.
Никакой фронт не преграждает теперь ему путь в Мильву. Добирайся до Камы, садись на пароход, и ты на этой же неделе там. Все так. Но в Мильве знают теперь точно, что не кто-то, а именно он взорвал стену и освободил арестованных коммунистов. Теперь не могут не знать. Зачем же Вишневецкий так искал его в Дымовке? И этот Вишневецкий наверняка жив. И встретить его в Мильве теперь это верная смерть.
Как хорошо взрослым людям. Отрастил бороду, изменил одежду… И все. Но ведь есть же какой-то выход и для безусых юношей.
Конечно, есть, если настойчиво думать, искать, изобретать.
Этим и занялся Толлин. И мы дадим ему перебрать тысячи возможностей и найти лучшую для появления в Мильве, куда мы сейчас снова вернемся.
III
— Дети мои, в канун светлого Христова воскресенья вступила в богохранимый град Мильву христолюбивая белая армия, утверждая законную и нерушимую власть от господа… — так начал свою проповедь соборный протоиерей Калужников.
И не только ему, но и другим хотелось утверждать, что власть на этот раз будет твердой, бесповоротной и вечной.
Думая так, повылезла и торговая чешуя. Чешуя бакалейная, скобяная, посудная, табачная, щепная, молочно-масляная, колбасная, булочная и всякая другая, потому что следом за белой армией шли обозы с товарами. Не столько торгашам, сколько командованию белыми частями нужны были товары, появление которых производило разительное впечатление благополучия, изобилия и полной перемены жизни.
Это понимали и державы, опекавшие правителя Сибири адмирала Колчака. Адмирала серьезного, надежного, показавшего себя в годы испытаний верным династии русских монархов. Джентльмен по духу и воспитанию, он располагал к себе и осторожных, крепко запертых магнатов, не привыкших кредитовать под сколько-либо сомнительные векселя. Достаточно было дутых дутовых, полукрасных, полубелых правителей, старающихся понравиться всем и ненавидимых всеми. Нечего придумывать коалиционную идиллию государственного управления. Ее нет и не может быть. Либо коммунисты, либо капиталисты. Договариваться с коммунистами пока торопиться нечего. Нужно еще раз попробовать покончить с ними в России через таких, как Колчак и Деникин. Эти не будут фиглярствовать, придумывая лево-правый блок монархистов и социалистов. Они не станут строить иллюзий, учредительных или каких-то еще собраний и лгать тем, кто должен быть порабощен.
Раб уважает откровенную плеть больше, нежели пряник на острие крючка. И нечего церемониться. Раба нужно вернуть в свои колодки, разъяснив, что такова неизбежность истории, ход событий, которые не могут быть изменены. Разве в России не достаточно образованных людей, которые могут придумать множество учений, теорий и доказать старую истину: «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Кроме этого, можно обратиться к библейским и евангельским истинам. И если все это не поможет, если надежнейший Колчак и вернейший Деникин окажутся тоже мыльными пузырями, тогда нужно завязывать дипломатические и торговые связи с коммунистами. Это не столь приятно и далеко не приятно… И тем не менее надежнее всех Колчак, когда он так успешно рвется на запад. И ему нужно помогать. И помогали.
В Мильве нет только птичьего молока. Правда, нет и денег. Новых, колчаковских. Тоже очень и очень твердых и устойчивых, как ни одна валюта в мире. Потому что они, хотя и странного вида, продолговатые, как ярмарочные тещины языки, зато обеспечены золотым запасом. А золотой запас в руках адмирала Александра Васильевича Колчака. Вы слышите, как приятно ласкает русский слух—Александр Васильевич. Почти как царское имя. Правда, Колчак, Турчак, стульчак звучат не очень великодержавно. Да будет, будет вам… Был же Рюрик-дурик-болванюрик, и кланялись варяжскому болвану, величали князем, чтили, пронесли через историю Руси, не знавшего по-русски ни «мур-мур»… И ничего. Звучало даже рю-ри-ко-ви-чи. Может, зазвучит и колчаковичи. Конечно же, не колчаковцы. Это не по-русски. А колчаковичи — звучит. И на гербе колчан и стрелы. Можно и шлем. И что-нибудь из «Слова о полку Игореве». Например: «О, Русь!» — и хватит.
Удивительно оживленные и интересные разговоры происходили в воскресшем кружке доктора Комарова. Все, поголовно все считали, что возрождать абсолютную монархию это абсолютно неприемлемо для свободолюбивой и демократической России. Однако же царя или царицу, ограниченную двухпалатным или даже трехпалатным парламентом, это именно то, чего хотят все и даже бабы, торгующие на толкучке пирогами из настоящей крупчатки.
Так много умного, передового и смелого можно было услышать на вечерах в двенадцатикомнатной, освобожденной от вселенных Совдепом красноармеек, квартире.
Наконец-то все стало на свое место. И снова милые, ни к чему не обязывающие, ничто не провозглашающие песенки:
Ах, шарабан мой — Американка, А я девчонка и шарлатанка.Не правда ли, мило? И какой чудесный рефрен:
Ах, шарабан мой, ах, шарабан… Не будет денег, тебя продам.Предельная ясность и такой оптимизм: «Не будет денег, тебя продам».
IV
У рабочих и служащих Мильвенского завода не было денег. В заводе работал только один электрический цех. Пользуясь даровой силой пруда, освещал дома богатых. Но и он грозил остановиться, так как некому и нечем было платить рабочим.
Воровство, порожденное разрухой, постепенно становилось бытовым явлением, которое даже оправдывалось окружающими. Воровали все, что имело сбыт. Появились приезжие скупщики из дальних и близких городов. Были в том числе и оптовые покупатели. Для них крали: электрические провода, олово, инструменты, сортовую сталь, ходовые болты, алюминиевые слитки, телефонный кабель и самое неожиданное, оказавшееся про запас в заводе. Теперь могли отвернуть и продать даже заводской свисток, если бы за него дали мало-мальски приличные деньги.
Сторожа завода стали главными ворами и посредниками воров. Неработающий рабочий, изнывая от безделья, оказывался подверженным всем порокам и, конечно, пьянству. Женщины, оставшиеся вдовами или солдатками, не отставали от мужчин. Появились увеселительные заведения, каких не знала Мильва.
Пересмотр нравственных норм сказался и на модах. Многие гимназистки очень скоро «выросли» из своих платьев. Рукава стали мешать девицам как никогда. И вообще считалось наиболее экономным покупать на платье ткани вдвое меньше, чем раньше.
Говорят, что одежда нередко бывает внутренним содержанием человека, вывернутым наружу. Если это так, то внутреннее содержание очень часто читалось по одежде настолько определенно, что знакомства и отношения укорачивались до нескольких часов.
Никогда Мильва не была такой бездельной, разгульной и пьяной. Случалось в старые годы приходить гулякам на бровях домой, но это масленичные или пасхальные эпизоды, а потом трезвела хмельная голова и руки обретали все свои золотые качества. А теперь каждый день в городском саду танцы-звонцы, как говорят в Мильве, или пляски-тряски.
Веселая Мильва выглядела оскорбительно и унизительно для всякого глаза старого мильвенца. Мильва-труженица, Мильва-семьянинка, блюстительница чистоты и святости супружеских отношений вдруг стала:
Мильва, Мильва, попляши, У тя ножки хороши.Неслыханное дело — появились курящие девки. Нога на ногу и сигаретка в подкрасненных губах. Господи! Да уж лучше твой религиозный опиум, чем этот табак.
Васильевна-Кумыниха, поднаторевшая в определении крепости и долговечности властей, видя все это, сказала:
— До покрова, пожалуй, не продержатся.
— А почему ты так думаешь, Васильевна?
— На износ живут. Нынче гули, завтра гули, глянь — и лапотки обули.
Другого мнения придерживался Сидор Петрович Непрелов. Для него Колчак был крепчак-смельчак, сильная правая царева рука, твердое правление без вывертов и загогулин. Поэтому, не дожидаясь приезда брата Герасима, он решил вернуть себе ферму со всеми земельными угодьями и теми, что раньше не принадлежали к ферме. Лишними не будут. Пойдут как проценты за пользование его добром и уплату за понесенные им потери.
После пасхи распогодилось так, что просто хоть паши. Видно, сам господь вместе с Непреловым радовался приходу белой армии и посылал на землю горячие лучи своего солнца, чтобы земля-матушка вздохнула полной грудью, вернувшись в законные руки своего хозяина.
Ждать нечего. Коли нет Советов, так нет и декретов. Начинать надо с того, чтобы избавиться от больного агронома Мишки Шадрина. Он после побега из камер скрывался где-то, а потом с уходом Вахтерова опять пришел на ферму начальником. Тогда Сидор объяснил ему, что не по своей воле он свез его в камеры, а по приказу. И теперь как-то неловко везти его на расправу вдругорядь. Но и держать у себя как? Куманек ведь.
Придя в комнату, где лежал Михаил Иванович Шадрин, Сидор сказал:
— Долго ты что-то хвораешь, агроном! Пора бы уж и честь знать. Дом-то ведь опять мой.
— Да ты потерпи уж, хозяин, денек-другой. Дольше не протяну. Тогда уж полным царем будешь, на месяцок или на два.
— Мало ты мне, восподин-товарищ, накуковываешь. Видно, не хочешь своей смертью умереть.
— А я и так не своей умираю, а — твоей.
— Это как же моей? У меня она своя, как и жизнь. Ты это что, товарищ Шадрин?
— То, что слышишь. Ты мне через камеры мою жизнь убавил. А я твою после смерти своей укорочу.
— Как же это?
— Являться буду. По горницам ночью буду ходить. Половицами скрипеть. Во ржи мертвяком лежать. В пшенице маревом чудиться.
— Убью! — замахнулся Сидор своим большим, тяжелым, жилистым кулаком. — Прикончу на один вздох.
— Не прикончишь.
— Это почему?
— Слаб ты против меня. Все будут знать, что ты доконал меня. А тебе-то уж никогда не забыть этого, — говорил, напрягая последние силы, Михаил Иванович, силясь улыбнуться. — Себя-то ведь не обманешь. А если обманешь, я напомню. За стол сяду рядом с тобой. Мне, мертвому, делать нечего будет. Я и днем являться могу, особенно суеверным.
Михаил Иванович Шадрин, умирая, видел, как трясется борода Сидора, и хотел простить его в последние минуты, но Сидор огрызнулся:
— Не пужай пуганых, могильная тля!
Шадрин, синея, напряг совсем последние силы и проскрежетал:
— Тогда жди меня сегодня ночью…
Сидор, обессиленный умирающим, выбежал на улицу. А Михаил Иванович Шадрин уже закрыл глаза, засыпая последним сном. И в этом последнем сне он видел Павлика Кулемина на красном коне во главе красной кавалерии, тоже на красных конях вступающей в Мильву.
V
В братских могилах многих уральских городов, заводов, сел покоились павшие в борьбе за революцию. Колчаковцы не щадили коммунистов и в могилах. Озверевшие белые шакалы вырывали мертвых и жгли. Кощунственно дымили черные костры, оставляя черные следы черного временщика Сибири.
Это же повторилось в Мильве. За городом пылал огромный костер. В городе пустела священная могила. Сжигание было публичным. Одних пригнали, другие — пришли сами.
Сидор порешил сжечь тело Михаила Ивановича Шадрина, чтобы он не появлялся ночью. И придурковатый старший сын Непрелова привез покойного, закатанного в соломенные маты.
В безмолвии было слышно, как шипит огонь. Пьяные изуверы привозили на телегах красные гробы. Когда в костер был брошен небольшой узкий розовый гроб, чьи-то голоса назвали имя Сони Краснобаевой.
Дошла очередь и до покойника, привезенного из Омутихи. Соломенные маты сразу вспыхнули на костре и, сгорев, обнажили тело Шадрина. Под влиянием тепла распростерлись до этого сложенные на груди руки покойного. Старший сын Сидора Петровича, заметив это движение рук, толкнул локтем стоявшего рядом солдата:
— Никак, оживает.
— Это уж как полагается, — подтвердил солдат. — Сам видишь.
Вскоре за дымом стало плохо видно, что делается в костре, и можно было ехать в Омутиху, но, памятуя наказ отца, нужно было дождаться, когда сгорит Шадрин дотла. Потому что, если не догорят, скажем, ноги, — они могут приходить в Омутиху. Или руки. Они могут по ночам душить Сидора Петровича. Что ни говори, а он, не убивая, убил агронома. А когда покойник умрет второй смертью и станет пеплом, тогда-то уж нечему будет приходить и даже нечему блазниться.
С нетерпением Сидор ждал сына, чтобы услышать подтверждение о сожженном. А сын приехал поздно. Разговорившись с пьяным солдатом о том, какие бывают на свете огни, он подзадержался.
— Где тебя, дуботол, черти ломали эстоль часов? — набросился отец на сына.
— А я, тятя, — начал тот, — про разные огни солдатскую бывальщину слушал, чтобы и ты послушать мог. Огни, тятя, бывают разные. Сосновые, еловые, болотные, могильные, а бывают, тятя, живые человечьи огни.
— Да что ты мелешь, лешачье мясо, дурово вешало…
— А я не мелю, я правду из словечка в словечко сказываю.
Лишенный и малого ума, старший сын Сидора обладал незаурядной, хотя и чисто механической, памятью. Он в самом деле из слова в слово пересказывал слышанное от пьяного старого солдата, который, судя по всему, тоже говорил с чужого голоса.
Сын, рассказывая про огни, заставлял отца верить в перевоплощение в огонь всего горимого. Сидор тоже слыхал о какой-то птице, сгорающей в огне и возрождающейся из пепла.
Солдат считал, что беляки себе же на шею жгли жертвы, похороненные в братской могиле. В могиле жертвы так бы и остались жертвами, а теперь они, как и старик Шадрин, — вековечные неугасимые огни.
— Да что ты, одер, всякого нетунайного пустобреха слушаешь? — оборвал сына Сидор. — Какими такими вековечными огнями могут стать, да еще куманисты? Ты что, дуролом?
— А я ничто. Я сам видел, как у него спервоначалу руки воскреснули, а потом ноги зашевелились.
И сын рассказал отцу, не жалея слов, о виденном на костре, рассказал, не скупясь на страшные подробности и домыслы.
Сидор не стал дослушивать сына и выбежал из дому. На дворе жена и младший сын Тиша палили боровка, заколотого на случай приезда Герасима Петровича.
Костерок из сухих веток был не более чем огонь, разжигаемый на шестке под таганком. И однако же из этого малого огня выглянуло огненно-красное лицо Михаила Ивановича Шадрина, с горящими и несгораемыми прядями волос.
В этот вечер Непрелов понял, что не будет теперь для него на свете такого огня, из которого не глядел бы Шадрин. И во всем виновато окаянное полудурье, рассказывавшее, как на костре шевелился агроном.
Не исповедаться ли у надежного попа и не причаститься ли из большой соборной чаши?
VI
Все еще не получивший номера мильвенский полк, называемый так только мильвенцами, должен был пройти мимо родного Мильвенского завода. Командование опасалось, что солдаты, попав домой, не вернутся в свои части. Но начавшийся ропот, косые взгляды, массовая симуляция болезней и, наконец, убийство кадрового офицера неизвестно кем напугали начальство. Лучше уж дезертирство, чем бунт.
Полк вошел в Мильву, и к вечеру он почти растаял. Наутро солдат насчитывалось не более батальона. Среди них почти не было мильвенцев. Начать поиски, расправы и неизбежные расстрелы в видавшей виды Мильве было рискованно.
Герасим Петрович, получив месячное увольнение, дал выплакать на своей груди счастливые слезы Любови Матвеевне и, насладившись радостями встречи, отправился с женой и дочерью в освобожденную, возвращенную ферму.
На ферме он встретился с Всеволодом Владимировичем.
Наивность ли, которая не покидает и в старости бескорыстных и честных людей, или присущая им привычка верить слову других, или то и другое оставляли Всеволода Владимировича в неведении. Он полагал, что, как и прежде, с наступлением теплых дней здесь будут работать его практиканты-«аграрники».
— Когда начнем пахать? — поздоровавшись, спросил он Сидора.
— Восподин бывший енерал, разве вы не видели над воротами ферменную вывеску?
— Какую ферменную, может быть, ты хочешь сказать — фирменную?
— А это все равно, — отвечал неторопливо и нагловато Сидор. — Ферма она или фирма, все равно теперь наша. Братьев Непреловых. Декрет-то ведь кончился. Аминь. И чья земля была, тех она и стала.
Только сейчас понял Всеволод Владимирович, о чем говорил Непрелов. Это больно кольнуло его. Он вспомнил, каким жалким червяком приполз к нему Сидор Петрович, прося не дробить землю и передать ее училищу. А теперь червь, извиваясь, превратился в удава.
Обида всегда рождает неожиданные мысли. Тихомиров вспомнил о долге, о невыплаченных деньгах и сказал:
— Хорошо. Твое — это твое. А мое — мое. Значит, половина земли…
— А где же барское генеральское слово, восподин Тихомиров Всеволод Владимирович? Вы же простили долг и порвали векселя.
— Да вы — господин мироед. Я отдал право на землю, но я подарил эту землю не вам, а мильвенскому политехническому училищу…
Как в кинематографе, из ничего и ниоткуда появился Герасим Петрович Непрелов. Английский френч. Серебряные погоны. Мягкие козловые сапоги с маленькими шпорами.
— Прошу прощения, ваше превосходительство. Имею честь приветствовать вас и поздравить с счастливым освобождением.
— Здравствуйте, поручик, — не разглядывая чиновничьих погон, ответил Всеволод Владимирович. — Я надеюсь, вы не поздравляете меня с освобождением от моей земли?
— Ваше превосходительство, — снова, не то издеваясь, не то отдавая должное генералу, вкрадчиво заговорил Непрелов, — нами будет выплачено все. Какими прикажете? Советскими, керенскими или царскими? — Он, звякнув шпорами, поклонился. Он многому научился за эти годы. Теперь уже Непрелов был не тем младшим чином, писарем с тремя лычками, каким знал его Всеволод Владимирович.
— Как у вас хватает смелости, поручик, предлагать деньги, переставшие быть деньгами!
— Однако, ваше превосходительство, — то козыряя, то вытягиваясь в струнку, спорил Герасим Петрович. — Когда вы отказались получить долг, эти деньги еще были деньгами. И если бы мы уплатили их вам, то они перестали бы стоить в вашем кармане, как они перестали стоить в нашем. Какая разница?
Всеволод Владимирович посмотрел в глаза Непрелова, менявшиеся сейчас не только в выражении, но, кажется, и в цвете, резко повернулся спиной и направился к воротам, где ждала его училищная лошадь, запряженная в легкий шарабан.
Непрелов знал, что генералу трудненько будет начать тяжбу. У него сын и невестка служат при Ленине в Москве.
— А кое-что по мелочи надо, Сидор, дать старику, — пораздумав, решил Герасим Петрович. — Все-таки, что ты ни говори, мы поступили не по-коммерчески. А впрочем, черт с ним. Может, его еще прикончат за сына. Адмирал Колчак не любит миндальничать. Подождем. Впрочем, стоит ли об этом думать. Есть множество других дел.
Нужно было взвесить, что продать из добытого за военные годы, а потом прикинуть, что купить. Герасим Петрович знал, что продавать всегда нужно то, что стоит дорого, а покупать — упавшее в цене.
Наступила самая счастливая пора в жизни братьев. Они сбывают, приобретают. Торгуются. Стараются меньше дать, нанимая рабочих. Предпочитали брать женщин и подростков. Герасим Петрович вставал с зарей. Он ходил по своим землям, прикидывал, мечтал. В его воображении, не знающем заскоков и преувеличений, вырастало отличное предприятие, где не руки, а машины превращали молоко в выгоднейший из всех молочных продуктов — сыр. Голландский, швейцарский… непреловский. Будет и такой. Самый дешевый, и самый вкусный, и очень редкий в продаже — рекламный сыр.
Радовалась и Любовь Матвеевна. Только временами черной змеей заползала тоска по единственному сыну. Ему теперь шестнадцать с половиной лет. В разлуке с ним она острее чувствовала, что всегда, всю жизнь, с первого часа его рождения и до того, как он родился, она любит его. Когда же она вышла замуж, ей приходилось скрывать свои чувства к нему и нередко убеждать себя, будто бы он вовсе не так хорош, как ей кажется. А теперь он виделся ей таким необыкновенным, добрым, открытым, правдивым, отзывчивым.
— Пресвятая дева Мария, — шептала она, — я сама готова наполовину сгореть свечой перед твоей пресвятой иконой, лишь бы знать, что он жив, мой мальчик.
— Не плачь, мамулечка, — утешала девятилетняя Ириша, стоя возле пня, на котором сидела, утирая слезы, Любовь Матвеевна. — Я тоже буду молиться, мамочка, и братик найдется.
Девочка стала креститься своей тоненькой, бледной ручкой и, обращаясь к небу, просила:
— Пресвятая дева Мария, найди и верни нам нашего Маврика. — Затем Ириша стала на колени и сложила руки ладонь с ладонью, как это делают на картинках ангелы, уговаривала, обливаясь слезами: — Я всегда тебя буду любить за это, пресвятая дева…
Когда маленькие девочки, сложив руки по-ангельски, молятся пресвятой деве, она не может не услышать детской молитвы и не помочь молящемуся ей ребенку. В этом никто и никогда не разубедит Любовь Матвеевну. Да и кто посмеет сказать, что это не так, когда там же, на старой пасеке, у пня, где плакала мать, а потом ее дочь, послышался женский голос:
— Успокойся, раба божия Любовь. Утри слезы.
Этот женский голос хотя принадлежал старухе Кукуевой, а не пресвятой деве, но прозвучал он явно не без ее всевышнего наущения…
Сейчас мы, забежавшие вперед во времени, как это случалось не раз, снова вернемся в приветливую кукуевскую избу.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
I
Вы, конечно, не забыли, что Толлина мы оставили в Дымовке, когда он решил во что бы то ни стало побывать в Мильве. Маврикия останавливало только то, что он будет узнан и арестован.
Вспоминая, как изменял свой облик Иван Макарович, как его друг-подпольщик появлялся под видом монаха и как, наконец, Владимир Ильич, лицо которого знали очень многие, изменялся во внешности до неузнаваемости, Маврик подумал, не одеться ли ему монашенком. Похожим на того, с которым он познакомился в Верхотурье. И это было не так уж трудно. Он не стригся на Дальнем току. И если к его длинным волосам добавить скуфейку, то его, пожалуй, не опознают.
Не так посоветовал Василий Адрианович.
— Скуфейка, подрясник — эта игра не по времени. Нужно так измениться, чтоб и родная матушка не сразу распознала.
Старик сказал, что если его двоюродный брат красную лису под черно-бурую красит, так неужели он не сумеет изменить человечьи волосы. Скажем, сделать белыми. Брови тоже.
Подсказка была хорошая, но только покраска волос и бровей все-таки не могла сделать лицо неузнаваемым. Нужно было придумать что-то еще. А что? Нужно было прийти в Мильву кем-то. А кем?
Стали перебирать отходников. И плотника, и точильщика ножей, и печника, и каменщика.
— Пустые это слова, мужики, — сказала бабка, — ложитесь спать. Утресь потолкуем.
Плохо спала Дарья Семеновна. Так и этак прикидывала скрытную поездку в родной город, которую она считала беспременной и безотлагательной, потому что никогда зря душа не болит и понапрасну сердце не кипит. Чует что-то.
Утром она поднялась очень рано. Дождавшись, когда дойдет квашня, она стала растоплять печь. Сегодня на утро были задуманы кислые колобы. Это те же творожные преснецы, только из кислого теста.
Когда мужики попили чаю, поели, Дарья Семеновна начала издалека:
— Не зря тебя, Мавруша, бабка с дедом ненаглядинкой-виноградинкой называли. Ангельское у тебя личико.
— Да ну, право, — мягко остановил Маврикий. — Опять… Я уж вырос. И лицо у меня задубело на ветру.
— Оно так, — согласилась старуха, — но ежели тебе в самом деле волосы подбелить, а тебя в девичье платье нарядить, то никто тебя парнем не назовет. Это раз. И проверять не посмеет. Это два.
Старик и Маврикий посмотрели друг на друга. Они как бы сказали этим, что бабка предлагает несусветное. Маврикию показалось не столько невозможным, сколько неудобным и в чем-то оскорбительным для его мужского достоинства переодеваться девчонкой. Почувствовав это, Дарья Семеновна сказала:
— Керенский вон какой павлин был, а когда приспичило, в женском платье убег.
— Но голос же, голос, — стал убеждать Маврикий, — у меня же грубый мужской голос.
Бабка на это сказала:
— Оно так. Голос у тебя труба трубой. Только зачем тебе понадобится рот отворять?
— Как зачем? — вмешался Кукуев. — Билет на пароход купить. Ответить кому. Не станет же вякать по-девичьи: мя-мя-мя. Ты понимаешь это?
— Я-то понимаю, да вы-то, вижу, не больно, — продолжала спор Дарья Семеновна в том же ключе неопровержимого превосходства. — Зачем ему вякать, когда он Марфушка-немтырка, которую бабка лечит из последних сил и возит из города в город от доктора к доктору. Так-то, мужики.
Мужики опять переглянулись и ничего не сказали. Нелепая затея Дарьи Семеновны теперь показалась не такой уж глупой. А потом, немного спустя, Кукуев сказал:
— Пожалуй что, Дарья, верх-то опять твой. Девка и девка. В полушалке. В деревенской одежке. Кому нужна она? Кто ее разглядывать будет, особливо немтырку? И на мильвенских улицах никто внимания не обратит. Мало ли ходят по ним разные деревенские с котомками. И до них никому никакого дела, — размышлял он, перевоплощаясь незаметно для себя в немую девушку Марфушу. — И в дом за милостынькой можно зайти, как заходил один тут монах… М-м-м-ы, — мычал он, протягивая за подаянием руку.
Женская одежда не только оскорбляла мужское достоинство, она была неприемлема и потому, что напоминала побег Керенского в юбке. Однако же, размышляя, Маврикий находил, что этот маскарад был единственным способом появления в Мильве. Это с одной стороны. А с другой — Маврикий, оставаясь мальчишкой, неожиданно для себя решил, что такое рискованное переодевание может оказаться увлекательным приключением.
Вечером было признано, что хитрость Дарьи Семеновны хитрее всех хитрых хитростей и, главное, безопасная.
Маврикий встречался в эту ночь с тетей Катей и улыбался ей во сне. А Дунечка плакала. Она прощалась во сне с троюродным братцем, которого, наверно, никогда не увидит и не встретит похожего на него.
Хорошо, что он пожил у них. Но было бы не хуже, если бы она знала его только по фотографическим карточкам, а не так, как теперь…
II
Пароходы по Каме ходили пока еще без твердого расписания, которое, как обещали пароходчики, будет объявлено после полного очищения Камы и Волги. Не ото льда, а от красных.
На пароход, идущий вверх по Каме, началась посадка, и пассажиры, особенно третьего и четвертого классов, толкаясь, спешили занять ненумерованные места. Билетов в эти классы всегда продавалось больше, чем было мест. В пестрой толпе проходивших по сходням на пароход ничем не выделялась старуха в старомодном порыжевшем пальтеце, похожем на татарский бешмет и на русский зипун. Не выделялась и девочка в плюшевой монарке и в длинной синей сатиновой юбке. Только разве слишком белые ресницы и брови могли привлечь чье-то досужее недолгое внимание. В этих местах дети коренных коми-пермяцких жителей бывают слепяще белокуры.
Бабке и внучке досталось крайнее место на нарах четвертого класса. Ехать им не так далеко и подальше от глаз.
В верхних классах, в первом и втором, ехали два очень опасных знакомых Толлина. Одним из них был все еще чернобородый Аверкий Трофимович Мерцаев. Он возвращался из Перми вместе с двадцатилетней Нелли, нанятой в свое время помогать в аптеке и отвлекать сына от пагубных влияний испорченных донельзя девиц. Теперь, после смерти Игоря, Нелли отвлекала Аверкия Трофимовича от пагубного влияния его жены. Она, постепенно прибрав к рукам владельца аптеки, прибирала и аптекарское заведение. Сейчас они везли большое пополнение товаров оскудевшей в отсутствие Мерцаева аптеки и десять бутылей окрашенного в различные цвета спирта с надписью «смертельно, яд».
Вторым знакомым, которого следовало опасаться пассажирке четвертого класса в плюшевой монарке, был гробовщик Судьбин. Он тоже, возрождая свое дело, ездил в Пермь за позументами, кистями, бумажными кружевами и всяким другим товаром, необходимым для украшения гробов и похорон.
Ехали на пароходе и другие мильвенцы, которых можно было не бояться. Но все равно бояться нужно было всех.
Привыкнув к девичьей одежде, научившись мелко шагать и ходить с опущенными ресницами, Маврикия затрудняли теперь только места общественного пользования. Он не мог дойти до такого бесстыдства, чтобы позволять обманываться женщинам, не знающим, что рядом с ними парень.
Девичья одежда затрудняла его и тем, что при нем женщины говорили такое, чего он и не мог предположить, особенно от девчонок. Ему нередко приходилось краснеть. Дарья Семеновна, замечая это, обычно говорила распоясавшейся болтунье, показывая на Маврика:
— Она у меня хоть и неменькая, а слышит хорошо.
Маврикий очень скоро овладел мычанием и показыванием жестами, что ему было нужно. Он вспомнил милого Яктынку Рамазанова, немого Кегу, и повторял его. И, повторяя, невольно думал о том, что ничего не пропадает в жизни из увиденного и приобретенного.
Вспомнилась налимья способность притворяться прячась. Он-то ведь тоже теперь налим. Да, человек не должен пренебрегать ничем полезным, что дает ему жизнь. Тетя Катя научила когда-то Маврика вязать крючком простейшие кружева из ниток. Зачем это было ему? Разве это могло пригодиться? Ан пригодилось. Сидит он сейчас на нарах и вяжет. Извяжет Маврикий единственный клубок. Распустит кружево и опять вяжет. Ниток-то ведь нет.
Мильвенская пристань на этот раз оказалась ближе к Перми. Наверно, радость ожидания встречи с родным Мильвенским заводом сократила время.
Третий помощник и вахтенные матросы, как это бывало при царе, дали прежде сойти пассажирам первого и второго классов, а потом пустили остальных. Маврик видел чернобородого «факира» и его аптечную служащую Нелли в красивом и, наверно, дорогом пальто. Видел Маврикий и гробовщика. Тот и другой, пройдя на пристань, ожидали, когда матросы вынесут их багаж и грузы.
Маврикий никогда не скажет, вспоминая об этой встрече, что ему не было страшно, что он не был готов, глядя на Судьбина, остаться на пароходе, сойти на следующей пристани, а потом вернуться в Пермь. Правда, такое колебание было минутным, желание побывать в Мильве было сильнее страха. Да и старуха Кукуева, видя, что ее «внучка» дрожит, шепнула ей:
— Марфута, не надо бояться холода, пущай холод нас боится. Пошли…
Пройдя на пристань, они сразу же постарались затеряться в толпе, чтобы, выйдя на берег, отправиться пешком в Мильву. Сойдя с мостков пристани, Маврикий услышал знакомые выкрики, слышанные в далеком детстве: «Домчим-довезем, ястребком порхнем». И тут же среди множества голосов он узнал очень знакомый голос Якова Евсеевича Кумынина. Это чудилось. Его здесь не могло быть. Как же не могло? Вот он. И та же Буланиха. Какая живучесть. Какое умение не умирать.
— Не останавливайся, бабушка, — шепнул Маврикий, — пошли в гору.
Вот он, крутой, родной, красный глинистый берег. Ты все тот же, и все те же сосенки, сосны и соснищи. Есть горы высотой в восемь и девять верст над уровнем моря, но нет выше и краше этой красной горы. Говорят, реликтовые сосны самые красивые из всех сосен. Для кого? Для ботаников? Для любителей природы? А для Маврикия нет и не может быть роднее камской сосны. Да и воздух тоже родной. Он пахнет совсем не так, как в других местах. И за что его разлучили с этим берегом, с Камой в этом верхнем течении, с соснами на этой горе? За что его заставили надеть это унизительное для него платье, красить волосы и брови, изменять походку, приходить крадучись, воровски озираючись в родной и самый лучший на всем свете город? Нет спора, Петроград, Москва — великие города, но Мильва больше их, потому что она сгущенно уместила в себе огромный край. Пусть этого очень простого и очень сложного кто-то не понимает и не поймет, зато это ясно ему. Живя в Мильве, он жил сразу во множестве заводов Урала и Прикамья.
Мильва — это живой заповедник, в котором жизнь так богато собрала все присущее людям, населяющим Урал и Прикамье.
— Здравствуй же, здравствуй, Мильва! — шепчет Маврикий, когда они увидели Мильву с Мертвой горы. — Здравствуй, моя родная родина!..
III
Страх снова был побежден, и Маврикий пошел через Мильву не окольными улочками, а направился по главной улице. При красных она была переименована в Пролетарскую улицу. Теперь единственный в Мильве живописец-вывесочник торопливо возвращал улице ее прежнее название «Купеческая».
Не бейся, пугливое сердце. Не предайте, любознательные глаза, узнавая встречных. Могут узнать и вас, такие запоминающиеся синие, не умеющие хранить тайн глаза. Смотрите вниз, глаза, идут знакомые люди.
Мимо Маврикия, весело болтая, прошли три дочери тети Лары: Аля, Таня и Надя. Поравнявшись, они обратили внимание на Маврикия. Старшая, Аля, заметила:
— А в деревне никогда мода не меняется.
— Им хорошо, Алечка, — поддержала разговор младшая, Надя, — сшил платье — и носи сто лет.
Маврикию хотелось обернуться и сказать ей что-нибудь такое… Вот было бы визгу.
Держи себя в руках, Мавр. Предстоит встреча потруднее, а это что? Пусть проходят мимо возвращающиеся с базара матери твоих товарищей, твои товарищи, у которых хватило ума не опережать возраст, и теперь они при белых чувствуют себя так же хорошо, как и при красных. Эти безразличные к политической жизни общества мальчики будут заслуживающими доверия людьми, не то что ты, которого могут преследовать и те и эти. Иди и любуйся сыном ветеринарного врача Модестиком. Вот он стоит на углу и разговаривает с таким же оболтусом, как и сам. Зато его, как и папу, не в чем упрекнуть. Остроумный папа отшучивался при белых и при красных одним и тем же каламбуром:
— Помилуйте, я же с животными дело имею, а они вне политики.
Хи-хи! Хо-хо! И мое почтение. Недалеко то время, когда сынок острослового дальновидца поедет в Томск. В технологический. Его примут. Обязательно примут. Как же могут не принять, когда уже сшита форма.
Вот как надо жить, Маврикий Андреевич. А потом, когда выяснится, что Советскую власть свергнуть невозможно, Модестик вступит в РКП (б). А почему бы и нет? Анкета надежная. С эсерами не путался, при белых только был, но не служил. Папа дело имел только с животными, а они вне политики. Хи-хи! Хо-хо! Каламбур рассмешит партийное собрание, на котором Модестика примут в кандидаты… А ты, мятущаяся душа, будешь ходить в чужих личинах и отвечать за то, в чем ты не виноват, и оставаться рабом своей совести.
Иди, иди… Держись за бабку, чтобы не упасть. Впереди новая встреча. Впрочем, нет, они повернули в другую сторону.
Не доходя тихомировского дома, Маврикий увидел Леру с бабушкой. И очень хорошо, что они, выйдя из дому, повернули в другую сторону, а не пошли навстречу. Маврикий не мог бы не посмотреть на Леру, а она не могла не узнать его. Пусть хоть зелеными будут брови и лиловыми ресницы, все равно остаются же черты лица. Нос, рот, губы, лоб и, конечно, глаза.
Если ему придется скрываться в дальнейшем, то непременно нужны будут очки.
А теперь, как и было договорено с бабушкой Дарьей, они сели на скамеечку против дома, где жили мать и отчим, разломили пополам горбушечку, как это делают странники, путники, стали неторопливо жевать черствый хлеб, наблюдая за окнами квартиры, в которых, может быть, покажется лицо матери или сестры Ириши.
В это время у крыльца остановился новенький ходок с черным коробком, на беседке которого сидел Тиша Непрелов. Не слезая с козел, удерживая вожжами неспокойную вороную лошадь, он крикнул в окно:
— Дядь Герась, дожидаться или привязывать?
Открылась дверь, и появился отчим. Он появился всего лишь на несколько секунд и сказал всего лишь два слова: «Мы сейчас» — но глазастый Маврикий успел прочитать во внешности отчима довольство, благополучие, уверенность и силу.
Тише не пришлось ждать своих седоков. Видимо, они ждали его. На крыльцо вышла Любовь Матвеевна с Иришей.
— Мама, — прошептали помимо воли Маврика его губы и повторили: — Мамочка!
Дарья Семеновна тяжело вздохнула, прожевывая черствый хлеб. Ей не понравилось, что Маврикова мать была весела и нарядна. Как можно так вести себя? Она скажет ей об этом и не как ее родная тетка, а как сестра ее матери, заменяющая покойную. Найдет что сказать!
Отчим Маврикия закрыл ключом входные двери, помог жене, пополневшей и, кажется, ставшей еще старше своего мужа, сесть в коробок. Потом, подхватив Иришу на руки, молодцевато уселся рядом. Тиша потянул левую вожжу и стал разворачиваться. Резвый жеребец сделал большой круг, так что ходок прошел в сажени-полутора от сидевших на скамейке.
Ясно, что они поехали в свою Омутиху. Впервые Маврикию, столько раз слышавшему и произносившему это слово, оно показалось каким-то аллегорическим, каким-то заключающим в себе двойной смысл. Ну, да не теперь об этом думать. Теперь нужно побывать на родной улице, которая и без того у него в глазах и останется в них навсегда.
Здесь все так же. И те же рябины в господском палисаднике, и та же пыль. Только почему же на углу на жестянке написано: «Ул. Сони Краснобаевой»? Позвольте, а что это за надпись на фасаде старого краснобаевского дома? Маврикий тянет бабушку Дарью к дому. Читает надпись на литой бронзовой дощечке:
«Здесь родилась и прожила детские годы
своей короткой жизни
юная подпольщица, злодейски убитая
СОНЯ КРАСНОБАЕВА»
Маврик зарыдал. Дарья Семеновна, не понимая причины слез, отвела его под рябины.
— Марфушенька, девчушечка моя, ты это что удумала… Народ же кругом… Срам-то какой… — успокаивала она Маврика, прижимая его к своей груди, чтобы заглушить его совсем не девичий голос.
IV
Кто мог представить, чья злая фантазия могла придумать столько мучений, смертей и слез. Как можно было поверить еще год тому назад, что безусые убийцы будут бахвалиться своими преступлениями.
Юрка Вишневецкий и Сухариков разгуливали по Мильве в хорошо сшитой форме, с погонами вольноопределяющихся. Отпущенные из полка, как не достигшие мобилизационного возраста, сами себе нацепили эти погоны.
Теперь Маврикий точно знал, что его тетя Катя спаслась только потому, что скрывалась. Саламандра и Вишневецкий убили бы ее. Хозяйка квартиры, где Екатерина Матвеевна жила, доверительно рассказала Дарье Семеновне Кукуевой о приходе этих двух иродов. Она также рассказала, что оставаться в Мильве Екатерине Матвеевне было никак невозможно и она уехала в Москву до отступления красных.
Дарья Семеновна могла войти в любой дом. Ей ничего не угрожало. Совсем не трудно для нее было встретиться с Любовью Матвеевной. Найдя пристанище у старухи бобылки, где можно было безбоязненно оставить «внучку», она решила наведываться в Омутиху, чтобы уловить возможность встретиться с племянницей без свидетелей. И они встретились.
И такая сверх ожидания, самим богом охраняемая встреча произошла на пасеке, когда Любовь Матвеевна просила пречистую деву о сыне, а пречистая дева устами Дарьи ответила на ее молитву.
Сказав подсказанные свыше слова, Дарья Семеновна принялась говорить свои собственные:
— Думала, уж не свидимся, ягодка моя, Любонька, а богородица-то, владычица по-своему рассудила. Охота у моего охотника нынешнюю зиму была хорошая, а заготовщиков-скупщиков не стало ныне. Вот и пошла-поехала купцов искать… Ну, да что о себе да про себя… Ты-то как, розонька алая…
Пораженная сходством постаревшей Дарьи Семеновны с покойной матерью, Любовь Матвеевна была очень ласкова со своей теткой.
Герасим Петрович едва не вскрикнул, увидев за столом живую покойницу, бабку пасынка. Дословно вспомнилось сказанное ею перед смертью Герасиму Петровичу: «Не дайте моим и дедовским косточкам почернеть против вас». Заметив смущение мужа, Любовь Матвеевна сказала:
— Гостья из Дымовки. Мамочкина родная сестра.
Теперь Герасим Петрович вспомнил ее и старика Кукуева, приезжавших хоронить Екатерину Семеновну, любезно сказал:
— Как хорошо, что вы приехали… Очень рад. — Он хотел сказать: «Вы так напоминаете Екатерину Семеновну», да оставил эти слова при себе.
Герасим Петрович не остался за утренним чайным столом. Не хотелось сидеть со старухой, напоминающей пришелицу с того света…
V
Дарья Семеновна, оставшись вдвоем с племянницей, могла бы перевести разговор на Маврикия, но ей хотелось, чтобы мать сама заговорила о сыне. А Любови Матвеевне незачем было рассказывать в общем-то чужой старухе об уходе Маврикия из дома. Заметив это, Дарья Семеновна спросила прямо:
— А Маврик-то где? Почему ты о нем ни слова, не думаешь, что он живой?
Тут Любовь Матвеевна сразу же завсхлипывала и ответила:
— Не знаю я, тетя Даша, не знаю…
Старуха на минутку призадумалась для порядка, а затем изрекла:
— Плохо, когда мать теряет сына и не ищет его.
— А где мне его искать? Да и зачем? Для верной гит бели. Все же говорят, что и он был замешан в освобождении коммунистов…
— Ась? Что-то не возьму в толк, — притворилась она не понимающей, о чем говорит племянница.
Любови Матвеевне пришлось рассказать все. Рассказав, она снова тихо заплакала, оглядываясь на дверь. Умеющая примечать все, ходя по тайге, как по своему двору, Дарья Семеновна поняла, что племяннице приходится бояться своих слез, своей тоски по сыну.
Проплакавшись, Любовь Матвеевна сказала:
— А ты, тетя Даша, будто знаешь что-то про сына и не хочешь сказать. Думаешь, жив он? А?
Дарье Семеновне очень хотелось сказать «да», но за этим «да» будет спрошено: «А откуда ты знаешь?» Можно, положим, сказать: «Слышала от верных людей», а она спросит: «От каких?» И пойдет-поедет. Разве не случалось на свете, когда добрый, но болтливый язык губил человека?
Задумавшись, как лучше поступить, она увидела на подоконнике колоду карт. Острый и быстрый ум подсказал ей, и она повторила подсказку вслух:
— А не спросить ли нам, Любонька, карты?
— Я уж не верю им больше, тетя Даша.
— А меня они, Любонька, никогда не обманывали. Может быть, потому, что мы в лесах и с богом и с нечистой силой в дружбе живем. И старого лешего, и молоденькую вещерицу привечаем, — говорила она, тасуя карты, а затем, разложив их, как никто и никогда не раскладывает, твердо заявила: — Жив-живехонек, — и показала на даму. — Не возьму только в толк, при чем тут бубновая краля. Не то он при ней, не то она при нем.
Дарья Семеновна, никогда не гадавшая на картах, знала, что на этот раз карты не обманут, как их ни раскинь, «толковала» соотношение одной карты с другой так, как ей было надо.
— Смотри ты, как ни раскидывай, все равно то же на то же. И не только жив-здоров, а где-то ходит-бродит совсем близко. А эти вот четыре винёвые в такой перемежке с крестовыми малыми картами прямо сказывают, что он всех видит, а его никто. А эти вот две червонки, десятка справа, шестерка слева, обозначают «страх». Боится открыться. И по всему видно, боится не этой дамы, не тебя, а которого-то вот из этих двух родных королей.
Любовь Матвеевна, до этого верившая картам, усомнилась в них. Уж очень они были какими-то многознающими и въедливыми. Усомнившись в картах, она усомнилась и в ворожее. Тетка Дарья ни разу после смерти сестры не бывала в Мильве и вдруг… Зачем? Продать шкурки? Сомнительно. Это лучше сделать в Перми. Пермь хотя и дальше от Дымовки, но до нее проще добраться по железной дороге. Любовь Матвеевна помнит, как она и Катя давным-давно, будучи еще девчонками, ездили с матерью в Дымовку за Каму к тетке Дарье и дяде Васе. Не подсказала ли тетка своему племяннику эту закамскую дымовскую родню? Домысел походил на правду. Нужно проверить. И племянница сказала тетке:
— Если карты не знают, кого из этих двух королей надо не бояться, а побаиваться, так вот этого, которого зовут Сидором.
Тетка и племянница снова посмотрели в глаза друг другу.
— А за этого можно ручаться? — спросила тетка, указывая на червонного короля.
— Неужели отец может предать сына, тетя Даша?
— Не сына, а пасынка… Слыхала я, что в Мильве приводили в камеры и родных сыновей. Не пасынков, а родных.
Любовь Матвеевна опять опустила глаза.
— Но матери-то детей не предавали. Меня-то ему зачем бояться? Со мной-то ему что мешает увидеться? Разложи их еще раз.
Старуха Кукуева догадалась, что ее гаданье разгадано, и сказала:
— Карты не любят, когда их мают. Пусть отдохнут. Завтра я их спрошу. Вернее будет.
— Куда же ты? — стала удерживать ее Любовь Матвеевна. — Разве ты не у нас будешь жить?
— Да в заводе-то мне сподручнее. Надо всю родню обойти и на сестриной могилке побывать. Завтра я приду. А этому королю ты тоже ничего не говори, что я тебе, Любонька, нагадала. Карты болтовни не любят. Муж мужем, а сын — сыном. Видела я этой зимой твоего короля в Дымовке. Видела, да не узнала.
— А почему же не узнала?..
— Далеко бы пошло… Ну так покамест, моя Любонька-голубонька — маковый цветок…
Проводив отказавшуюся от лошади тетку за околицу, Любовь Матвеевна стала думать не о найденном Маврике. Он для нее уже нашелся. О засидевшейся в девицах сестре милосердия Музочке Шишигиной. Дочери владельца электротеатра «Прогресс», которой при жизни Шишигин передал наравне с сыном половину всего движимого и недвижимого имущества.
Девица Муза Шишигина, двадцати семи лет, кроме знатного приданого, обладала живописным личиком и завидным сложением. На нее заглядывалась чиновничья мелкота и техники из последних классов училища. Но с ними можно было танцевать, целоваться и даже проводить время на затянувшейся до утра вечеринке, но не закрепляя все это таинством брака.
Муж должен быть мужем, а не нахлебником и тем более не транжиром нажитого отцом, и… И, конечно, с движимым или недвижимым, которое бы позволило ей и ему открыть свой электротеатр в одном из глухих, но многолюдных городков Урала. И чем глуше, тем лучше.
Не найдя достойного мужа. Муза Шишигина, почувствовав первые признаки возраста, решила выйти замуж за Герасима Петровича Непрелова. Он вовсе не стар для нее, а она для него молода. Уверенная в себе, она во время мильвенского мятежа обратила на себя его внимание. А потом, перед уходом мятежников, она, горя высокими чувствами, появилась в госпитале МРГ сестрой милосердия, а за Камой, по воле провидения, рока, судьбы и каких-то еще сил, от которых зависит течение жизни людей, оказалась в кошевке начальника финансов МРГ. Нужно же было как-то передвигаться, отступая с армией. А так как с ночлегом было трудно, сестра милосердия, естественно, не могла быть расквартирована с кем попало. И она останавливалась в избах с Герасимом Петровичем. Надежнее. Военные люди, особенно на войне, иногда слишком настойчивы. А Герасим Петрович, человек не пьющий, не курящий, состоятельный и обязательный, с которым можно поговорить обо всем и о новом электрокинотеатре «Одеон» или «Триумф». Особенно интересными были разговоры в длинные, темные вечера, когда в избе единственным освещением оставалась луна, если она в этот час заглядывала в окна.
Любовь Матвеевна старалась не верить сплетням, но ее тетка обронила новое подтверждение слышанному.
Трудно быть женой красивого и молодого мужа. Приходится многое не знать и прощать. Иного не остается. Если ты уличишь и устроишь семейный скандал, надо делать выводы. А какие выводы может сделать она, обожая своего Герасю, обожая до прощения ему непростимых грехов. И все же, безгранично любя его, она не могла доверить ему судьбу своего сына. Если он мог обманывать ее за Камой, кто может поручиться, что и по эту сторону реки он не… Нет, нет, он не предаст Маврикия. Этого он не сделает, но кто поручится, что он не проговорится случайно…
Нужно скрыть. Сын опора ее жизни, а он… От него можно ждать и того, чего он сам не ожидает от себя.
VI
Пообещав прийти в Омутиху на другой день, Дарья Семеновна решила дать матери собраться с мыслями и подумать, как быть дальше. А сама ходила по мильвенской родне и знакомым, желая узнать как можно больше для Маврикия.
Они, наученные расправами, откровенничали теперь мало, почти не касались политики, положения дел на фронте. Впрочем, о фронтовых делах можно было и не говорить. Газеты больше не хвалились победами. Радовавшиеся приходу белых заметно мрачнели. Они что-то знали и скрывали.
Побывав у старой знакомой Васильевны-Кумынихи, раздавив с ней по три рюмашечки, Дарья Семеновна узнала больше, чем у всех других.
— Фронт остановился, — сказала та. — Бечь еще не начали, но пятки-то уж смазывают. Турчак полностью выехал. В Омск. Верная примета. Этот дородный пес раньше других чует.
От Екатерины Матвеевны, как выяснилось, было получено письмо без подписи и написанное не ее рукой.
— Обещалась до июля приехать в Мильву, — сообщила Кумыниха. — Понимай как хочешь. А я понимаю так, что до июля и духу ихнего тут не будет.
Перескакивая с одного на другое, Васильевна рассказала и об убийстве Сонечки Краснобаевой сыном пристава Юркой Вишневецким, который разгуливает теперь козырем по Мильве. Васильевна несомненно была осведомленнее других. Она, приторговывая на рынке пирогами, шаньгами, квасом, узнавала самые свежие новости. Ей уже несколько раз приходилось слышать о недовольстве в сибирских частях. Она была свидетелем поимки на рынке дезертиров, возвращающихся домой пешим порядком.
Дарья Семеновна пересказывала Маврикию слышанное. Теперь не было никаких сомнений, что тетя Катя находилась в безопасности. Для него это самое главное. Теперь оставалось только увидеться с матерью и уходить. Что тут делать больше? Зачем рисковать? Нужно уходить. И Маврикий ушел бы, но Дарья Семеновна рассказала ему, как была убита Сонечка Краснобаева. И он почувствовал, что уехать из Мильвы, не отомстив убийце, невозможно.
Всякий рассказывающий о ее гибели привносил свое. Иначе и не могло быть. Однако никто не искажал главного. Расскажем и мы, как это было.
В дни, когда мятежники покидали Мильву, отец и сын Киршбаумы организовали печатание и распространение листовок, призывающих растерянных и жалких солдат вахтеровских банд вернуться под родные крыши. Мильвенский Совдеп обещал помилование всякому пришедшему с повинной.
Смятение было столь велико, упадок духа так необратим, что маленькая листовочка останавливала и возвращала почти каждого бегущего, в руках которого оказывался этот спасительный розовый листок с фиолетовым штемпельным оттиском.
Сонечка Краснобаева, распространяя листовки, видела чуть не магическую силу их воздействия. Особенно потрясала последняя фраза листовки: «Теперь ты знаешь, кто желает тебя спасти в эту последнюю минуту самоубийства вахтеровских шаек».
Поэтому Соне хотелось как можно больше разбросать листовок и этим сохранить жизнь таких знакомых людей, из которых она чуть ли не каждого второго знала в лицо. И когда по плотине совсем нестройно и явно понуро шел отступающий отряд ОВС, Сонечка поджидала его с припасенными пачками листовок у монумента горбатого медведя. Он все еще нес на своей спине символ надежды.
И в этом году были заготовлены большие запасы дров. Они, уложенные в высоченные поленницы, образовали множество «улиц», «переулочков», тупичков. Ими-то и хотела воспользоваться Соня на случай преследования.
И когда недавние кичливые храбрецы с осунувшимися лицами и померкшими глазами приблизились, она бросила пачку листовок и скрылась. Это было так неожиданно, что искривленные ряды отряда окончательно смешались. Каждый хотел поймать и прочитать листовку. Напрасно командир отряда подавал не очень уверенные команды. Он только ухудшал дело. На его глазах несколько человек дезертировали в темноту.
Теперь Сонечке нужно было затеряться в узких лабиринтах поленниц. И никто бы не погнался за ней. Потому что даже самый смелый не захотел бы рисковать собой, будучи уверенным, что девчонка действует не одна. Им всюду чудились засады. Стал страшен каждый темный угол. А Соня, видя замешательство отряда и его разлад с командиром, снова появилась и, кидая вторую пачку листовок, крикнула:
— Клянусь жизнью, вас простят. Возвращайтесь!
Она и на этот раз могла бы скрыться в дровах. И никто бы не стал оцеплять огромный дровяной склад на плотине, так как на марш до Камской пристани дано только три часа. Несколько шагов отделяли ее от дров, но она поскользнулась на опавших листьях тополей. Поскользнулась и пала навзничь. Вот тут-то и показал себя озверевший отпрыск пристава Вишневецкого. Он подбежал к упавшей и заколол ее штыком.
Кто-то в ужасе отвернулся. А кто-то кинулся прочь…
Так и сама смерть Сонечки Краснобаевой спасла не одну жизнь покинувшим в этот темный вечер опостылевший отряд ОВС. А Сонечка…
А Сонечка осталась стынуть у подножия монумента безразличного ко всему медведя.
VII
Маврикий бесповоротно решил отомстить за смерть Сони. Но как? Смерть за смерть! Да, только так. А способен ли он? Найдет ли он в себе силы убить убийцу?
— Ты должен их найти, Мавруша, — заговорил где-то в нем знакомый голос Сони.
— И найду, — ответил он голосу. — У меня, Сонечка, не дрогнет рука. Оставлять его живым — значит забыть о твоей любви, значит простить его…
И все было найдено, взвешено, уточнено, предусмотрено. Оставалось, что называется, нажать спусковую скобу. А она не нажалась. И рухнуло все, что так старательно и безупречно подготавливалось.
Он проклинал себя, ненавидел, называл слюнтяем, ничтожеством, мелкой дрянью, жалким эгоистом, трусом, пощадившим убийцу.
Чуткая Дарья Семеновна, видя, что Маврикий не находит себе места, спросила его в тихом, глухом лесу:
— А ну-кось давай-кось ослобоним душеньку от тоски-печали, от горя-кручины… Сказывай, что у тебя на сердечушке.
И Маврикий не стал таиться и признался во всем бабке Дарье.
— Да будет тебе, будет, Маврушок, обзывать себя всякими словами. Самое страшное самому себе для себя упасть. Зачем, спрашивается, надо было тебе душу чернить, руки марать об него, когда у тебя бабка есть, которую еще ни один лесной леший не проманул.
Маврикий поднял голову и будто спросил, неужели она может помочь ему, и увидел в ответ решимость в ее глазах.
Дарья Семеновна в эту минуту еще не знала, как она может вмешаться. Считая, что во внуке бушуют святые чувства, она была все же довольна, что руки его чисты. И пусть остаются такими. Пусть в глазах остается детская синь, не знающая и капли помутнения.
— Не таких зверей видывала да в чучела перерабатывала, — сказала Кукуева. — А уж с этого пакостливого хоренка и шкуру снимать велика для него честь. Его тогда там надо было, у солеварни, вместе с этим…
Вспомнив, какой ценой спас себе жизнь Вишневецкий, вспомнив, как он явился в ее дом и какой бранью осквернил ее и Дунечкин слух, она неожиданно для себя нашла способ расплаты. Находка была так обыкновенна и легка, что в первые секунды она усомнилась в удаче. Но сомнения были недолгими.
— Маврушок, — спросила она, — а этот чернобородый-то с проседью всамделе отец того Мерцаева?
— Да. Это его родной отец.
— Ну, тогда и раздумывать нечего. Пусть теперь отец будет праведным судьей убившему его сына приставенку Юрке.
Маврикий не сразу понял, что замышляет Дарья Семеновна. Он догадался о способе мести, когда та попросила назвать имя, отчество и адрес Мерцаева.
Назвав то и другое, Маврикий спросил:
— Неужели ты, бабушка, хочешь пойти к аптекарю и рассказать, что было у старой солеварни?
— Зачем тебе знать об этом? — не отрицая и не утверждая, ответила Дарья Семеновна. — Доверься бабке. Бабка не даст осечку и за Сонечку, ангельскую душеньку, и за тебя, и за себя с Дунечкой, ни за что ни про что обруганных им…
В добрых глазах Дарьи Семеновны Маврикий увидел недобрый блеск, и ее лицо вдруг стало чернее и сердитее, будто на нем никогда не бывало улыбки.
План Кукуевой был прост. Она купила на почте конверт с маркой, лист почтовой бумаги, а затем не раздумывая принялась писать:
«Всепочтенной и обманутой отец Аверк Трофимович. Да будет вам известно кто порешил вашево единственново сына у старой дымовской солеварни…»
Перечитав написанное и убедившись, что буквы хорошо вывелись и слова складно выписались, что ржавого цвета чернила как нельзя более пригодны для такого письма, принялась далее скрипеть старым, исписанным на один бок пером.
Назвав Юрия Вишневецкого, Дарья Семеновна точно описала, во что были одеты в тот вечер «убивец» и «убиенный», стала приводить подробности, о которых мог знать только очевидец и которые были неумолимыми уликами и обвинением преступника. Она не поскупилась на трудно выводимые слова и пересказала все слышанное от Шерстобитовых. Все, вплоть до мольбы Игоря Мерцаева не выдавать, а потом не убивать его.
«Вам всепочтенной господин Мерцайев совсем легко проверить мои слова. Хватит с нево с убивца и одново вашево намека как он тут же отсыреет и начнет вывертываться. Испытайте один только раз и другова будет не надо».
Закончив длинное письмо, а потом перешептав его, перечитывая, она готова была подписать свое имя — Дарья Кукуева, да однобокое перо, будто предупреждая, скрипнуло и споткнулось о бумагу.
Нельзя давать свою подпись. Если начнется разбор — всю родню перешерстят. И она стала думать, как подписать письмо. Совой ли Совиничной… Вещим ли Филином… И вдруг вспомнила о другой птице. О синей. О ней много рассказывал в Дымовке Маврикий. Кукуева отлично помнила, что именем этой птицы подписывались те, кто хотел скрыть себя. И не долго думая, не представляя, каким особым смыслом окрасятся ее строки, она, как в школьных прописях, выписала: «К сему расписуется Синяя птица».
Внуку Дарья Семеновна решила не показывать письмо, а всего лишь рассказать о нем. Запечатала. Надписала адрес, и все. Теперь оставалось вымыть руки да сказать богу: «Помоги, всевышний судья, покарать его». А потом…
А потом взяло раздумие. Почта — почтой, бог — богом, а провизор — провизором. Вдруг да не поверит чернобородый Аверк. Или вдруг да вывернется змееныш Вишневецкий. Хотелось еще подкрепить чем-то письмо. Задумалась. Потом решила сходить к Кумынихе и узнать о жене Мерцаева. Оказалось, что она жила с аптекарем в разводе и коротала свои опальные дни на мерцаевской пасеке.
Вспомнились карты. Почему бы ей не погадать Мерцаевой? Так и было сделано. Долго ли одной старой женщине разговориться с другой. Слово за слово… Карта за картой… И полная картина на столе.
— Был у тебя, голуба, сын… И убил этого твоего сына лонись зимой в темном лесу его однолеток, молодой подлец по имени Юрий… Вот они, карты-то, смотри… Буква к букве легли, — сказала удивительная ворожея и еще раз повторила: — Юрий!
— Какой же Юрий? — спросила дрогнувшим голосом Мерцаева.
— Карты этого не говорят. Себя спроси, какой у него был однолеток Юрий.
— Вишневецкий? — спросила и задумалась Мерцаева. — Этого не может быть, ведьма! — крикнула она, когда Дарья Семеновна покинула пасеку.
VIII
В Омутихе Дарья Семеновна появилась только на третий день. Любовь Матвеевна, уставшая ее ждать, спросила прямо:
— Где сын?
— Неподалечку, — ответила не таясь Дарья Семеновна. — А как решила насчет королей?
— Зачем им знать то, чего они могут и не знать?
— Тогда можно идти…
Тетка и племянница, будто гуляючи, пошли берегом речки, и вскоре в чащобе на пеньке Любовь Матвеевна увидела девочку в длинной синей сатиновой юбке… Мать не сразу узнала своего сына, а узнав, бросилась к нему.
Кажется, никогда или очень давно так не ласкала мать своего мальчика, называя его неслыханными до этого им словами: «кровь моя», «любовь моя» и «жизнь моя». Она не искала этих слов. Они рождались на ее языке сами собой.
— Мать придумает, где спрятать тебя. Она найдет для тебя деньги. Они есть у нее. Только не попадись, только не вздумай довериться кому-нибудь из товарищей. Теперь нельзя верить и родному брату. Юрка Вишневецкий живо схватит тебя и отправит в комендатуру. Ведь он убил Сонечку Краснобаеву. Я молюсь за нее, и она записана у меня в поминальнике.
Услышав имя Вишневецкого, Маврикий и в эти трогательные минуты встречи с матерью не мог не вспомнить о посланном бабкой письме. Дошло ли?
Дошло, Мавр, дошло, дорогой друг. Дай срок, и письмо сделает то, чем будут довольны все хорошие люди. Только не нужно думать, что это произойдет раз-два.
Сначала Аверкий Трофимович Мерцаев хотел порвать письмо с подписью «Синяя птица», решив, что над ним издевается кто-то из малограмотных рабочих, сочувствующих большевикам. Пораздумав же, он решил, что порвать письмо никогда не поздно, да и зачем рвать улику против клеветника. Письмо перестало волновать Мерцаева, но в аптеку позвонила брошенная и получившая свою долю жена. Она рассказала о посещении странной ворожеи.
Мерцаева говорила по телефону длинно и подробно. Она убеждала Аверкия Трофимовича проверить ее подозрения.
Аверкий Трофимович поставил в связь, что Юрий Вишневецкий, ранее бывавший у них, теперь избегает встреч. И как будто, может быть, это показалось Мерцаеву, Юрий не смотрит в глаза, когда ему приходится разговаривать. Мерцаев снова вернулся к письму. И чем больше вчитывался в кривые строки, тем сильнее его мучили сомнения. Наконец, чтобы избавиться от подозрений, он решился прибегнуть к проверке.
Случай проверки ему представился очень скоро. Зверь сам прибежал на ловца. Юрка Вишневецкий пришел в аптеку за серным цветом для заболевшей чумкой охотничьей собаки. Мерцаев, будто обрадовавшись встрече, стразу же заговорил об охоте, зная, что Вишневецкий давно мечтает о бескурковом ружье.
Начав с ружья, опытный сыщик перевел разговор на охоту.
— Если хочешь составить компанию, то хоть завтра… Я с моей двенадцатикалиберной пушкой, а ты с Игоревым осиротевшим бельгийским бескурковым ружьем. Кстати, если оно придется тебе по руке, я подарю его. Ружье — святая память по товарищу…
Разговаривал и незаметно наблюдал за лицом и бегающими зеленоватыми кошачьими глазками Юрия. Происходил психический поединок неравных.
— Нет, нет, я не могу принять такой подарок! Он всегда мне будет напоминать смерть Игоря.
— Ведь не ты же убил его, Юрик… Просто-напросто ты оказался счастливее. Тебе удалось убежать, а его настигли.
— Да, конечно… Я не виноват, что схватили его, а не меня… Но все же… Я ведь очень любил его… И мне так обидно, что из-за этого проклятого Толлина…
Вишневецкий лгал неумело, притворялся неуклюже, и наконец Мерцаев перестал сомневаться в правдивости полученного им письма, бросил последнюю проверочную фразу:
— Если ты наотрез откажешься от памятного подарка, я буду думать, что ты ощущаешь какую-то тайную вину перед мертвым.
Вишневецкий почувствовал удушье. Продышавшись, он сказал:
— Что вы, что вы, Аверкий Трофимович?.. Я не чувствую никакой вины… Как вы можете так говорить?.. Я всегда хотел, чтобы у меня было такое прекрасное ружье… И я возьму его, если вы так настаиваете, дорогой Аверкий Трофимович.
— Тогда завтра жду. Приходи пораньше, и мы отправимся за комаровские дачи. Надеюсь, вернемся не без удачи. До поры до времени не хвались неубитым медведем, неподаренным ружьем! Плохая примета. Руку!
— Извольте.
Мерцаев почувствовал в своей руке холодную, дрожащую и липкую руку Вишневецкого.
Ночь прошла без сна. Мерцаев проверил и взвесил все до последней мелочи. Все возможные варианты и отклонения.
Давно не лил слез старый аптекарь, так часто заставлявший лить слезы других. Неужели его единственный сын Игорь погиб от руки этого розового прыща?
Утром, выпив натощак из мензурки полуторную порцию спирта с добавлением валерьяновых и ландышевых капель, Мерцаев принялся проверять снаряжение и все приготовленное для себя и для убийцы своего сына.
IX
Все, из чего состояла личность Аверкия Мерцаева, способствовало формированию страшнейших черт ханжи, садиста, предателя, наслаждающегося страданиями своих жертв. Охотник Мерцаев никогда не добивал раненого зверя или птицу. Он с интересом следил за предсмертными агониями.
Он и сегодня думал не столько о мести, сколько о самом процессе мщения, перебирая все его возможные разновидности, начиная от сожжения на костре и кончая принуждением к самоубийству Вишневецкого, пытая его различными кислотами, нестерпимо больно разъедающими кожу.
Юрию Вишневецкому тоже плохо спалось в эту ночь. Но под утро, передумав и переосмыслив свои подозрения, он отбросил их и решил, что его страхи напрасны, что они вызваны трусливостью и малодушием.
— Я здесь, дорогой Аверкий Трофимович, — молодцевато отрапортовал Вишневецкий, появившись под окнами дома Мерцаева.
— И очень хорошо, — послышался из открытого окна голос Мерцаева. — Проходи и садись в тележку.
На дворе ожидал старик кучер Михеич и запряженная серая мерцаевская лошадь.
Аверкий Трофимович вынес ружья и торжественно опоясал патронташем Вишневецкого:
— Посвящаю в славный орден охотников. Вручаю.
Сияющий Вишневецкий любовался безукоризненным бельгийским бескурковым ружьем двадцатого калибра. Такого не бывало и у прожженного взяточника — его отца.
— В путь, Михеич, — приказал Мерцаев.
Старая, но еще сильная лошадь быстро вынесла охотников на знакомую дорогу, проходящую через комаровские дачи.
— Как хорошо кругом, Юрий Ростиславович!
— Да-а… Сегодня, наверно, весь день будет солнечным…
— Наверно, наверно, — сказал Мерцаев и улыбнулся.
Вишневецкий шутил, смеялся, а когда приехали в Комаровку, прицелился и хотел выстрелить в стрекочущую сороку.
— Нельзя, — строго сказал Мерцаев. — Что ты? Это верная неудача на охоте. Первый выстрел — только по хорошей цели.
Михеичу было приказано распрячь Серого и попасти его в лесу до возвращения охотников.
Примильвенские леса не так густы и глухи, как закамские, но и тут есть совсем таежные места. Туда-то и вел Мерцаев Вишневецкого. И когда они отошли довольно далеко, Аверкий Трофимович спросил:
— Скажи, пожалуйста, Юрий Ростиславович, наверно, трудно убивать человека?
— Я… я не знаю, — ответил он и, настороженно посмотрев на Мерцаева, спросил: — А почему это вас интересует, Аверкий Трофимович?
— Чтобы знать на случай, если придется кого-нибудь отправить в лоно Авраамово. Мне еще не приходилось этого делать, — говорил не торопясь, будто рассуждая, Аверкий Трофимович.
— Так и мне не… Не считая этой… Краснобаевой. Ну, так это же не убийство, а военный долг. Убийство — совсем другое…
— Да, ты прав, прикончить большевичку — это не убийство, а выполнение долга, — продолжал рассуждать Мерцаев. — А убийство — это совсем другое. Скажем, если бы ты вдруг ни за что ни про что отправил человека на тот свет. Допустим, моего Игоря.
Вишневецкий остановился.
— Вы, Аверкий Трофимович, приводите какие-то странные примеры. Этим не шутят.
— А я и не шучу, мой мальчик… Я просто проверяю Злую сплетню, пущенную этим… Как его… Сухариковым, твоим завистником.
— За такие сплетни убивают, не выясняя, убийство это или наказание лишением жизни.
— Ты совершенно прав, моя умница. Хочешь несколько унций успокаивающе-тонизирующего? Не следует всякую чушь принимать близко к сердцу. Прошу.
Аверкий Трофимович отвинтил колпачок фляжки, затем налил в него спирт с ландышевыми и валерьяновыми каплями.
— Благодарю вас. Только очень крепкое, — закашлялся Вишневецкий после проглоченного спирта. — Это же почти не разбавленный.
— Чистейший ректификат. Огонь, сгущенный до жидкостного состояния. Блеск! — Налил и выпил Мерцаев трижды. — Теперь можно вести разговоры на любые темы. Ну как я, мой юный коллега, мог поверить этому потомку осла и бакалейной лавки, будто ты, чтобы спасти свою жизнь, убил топором моего мальчика? Какая неумная клевета! Это же десятый век.
— За это поплатится клеветник.
— И ты будешь прав. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой! Не зайчик, а Сухарик. И главное, такие подробности. Убивал лежачего. Какая чушь! Ну, подумай, какая лишенная всякого здравого смысла клевета. Разве мог так поступить один школьный товарищ против другого школьного товарища. Я имею в виду этого Сухаря. Черт бы его не видал!
Любуясь собой и еще более Вишневецким, которого коробило, как бересту на огне, Мерцаев, кажется, видел теперь, как умирал его сын. И ему хотелось как можно дольше изматывать этого приговоренного им к смерти слизняка. И он опять начал оправдывать Вишневецкого, чтобы через несколько минут ввергнуть его в леденящий испуг.
Проделав это с Вишневецким несколько раз, он думал, что Вишневецкий не вытерпит и начнет просить прощения. Тогда ему можно дать покончить с собой. Самому, не мучая его.
Но Вишневецкий крепился. Он еще надеялся, что все обойдется. Что пьяный Мерцаев всего лишь проверяет его. Когда же Мерцаев вручил ему письмо с подписью «Синяя птица» и сказал, что эта крылатая лгунья найдена и задержана и что он, Аверкий Трофимович, не сомневался в ее посрамлении на очной ставке, Вишневецкий понял, что его дело плохо.
Воспаленный ум всегда в последнюю минуту находит способ спасения. Выстрелить из обоих стволов в лицо Мерцаеву и ослепить его дробью, а потом добить.
Молниеносно вскинув ружье и наведя стволы на лицо Мерцаева, Вишневецкий нажал одновременно на обе спусковые скобы, послышались два щелчка и ни одного выстрела.
Тогда, бросив ружье, Вишневецкий сунул руку в карман, но браунинга там не оказалось.
— Это я тоже предусмотрел, мой мальчик, когда мы находились в тележке. Вот он, твой пистолет, — показал Мерцаев на браунинг и, опустив его снова в карман, наслаждаясь своим спокойствием, обратился к Вишневецкому: — Теперь начнем говорить правду. Правду, и только правду до последнего слова.
Вишневецкий пал на колени перед Аверкием Трофимовичем и, рыдая, стал говорить:
— Если бы я не убил его, они убили бы нас обоих… Какая разница, кто его… А я хотел жить…
— И наверно, еще хочешь…
— Да!
— Тогда рассказывай не торопясь, а я налью и выпью. Если ты заслужишь, налью и тебе… Началась новая долгая пытка.
X
Васильевна-Кумыниха получила от Екатерины Матвеевны второе письмо. Судя по штемпелю, оно было опущено в Екатеринбурге. Так сказала младшая внучка. В письме лежало другое письмо, в хорошо запечатанном конверте. На конверте крупно было написано «ГЕРАСИМУ ПЕТРОВИЧУ». Екатерина Матвеевна писала: «Васильевна, дорогая моя, передай это письмо лично Герасиму Петровичу. Из рук в руки. Будь здорова Е. З.».
Получив, переданное Васильевной письмо, Герасим Петрович недоумевал, как могут ходить письма через фронт. Значит, для «них» он не преграда. В письме Екатерина Матвеевна писала:
«Герасим Петрович! Вы знаете: что значит в моей жизни мой племянник и как я боюсь потерять его. Теперь, когда вы не очень уверены в том, в чем не сомневались еще так недавно, должны помнить, что я всегда окажу вам услугу, чего бы она мне ни стоила, если вы убережете от возможных неприятностей моего родного и единственного. Если же, Герасим Петрович, вы не захотите приложить рук и по злой вашей воле или по недостаточной энергии с вашей стороны с ним что-нибудь случится, то не взыщите. Я бога не боялась, защищая его, а теперь не побоюсь любой кары… Не пренебрегите, Герасим Петрович, этим моим письмом. Е. З.».
Если бы это письмо пришло само по себе, то можно бы и не придавать ему значения. Но письмо связывалось с невыносимым сходством старухи Кукуевой с бабкой Зашеиной. Ко всему этому Герасим Петрович знал, что на фронте вовсе не без перемен, как врут в газетах, а, напротив, там большие перемены. Ненадежен и тыл. Это не восемнадцатый год. Каждая улица Мильвы начинена порохом. Разбежавшийся мильвенский полк, так и не получивший ни номера, ни названия, стал силой, растворившейся и попрятавшейся, но готовой в любую минуту подняться и объявить в Мильве Советскую власть.
Екатерина Матвеевна, написав такое письмо, не прибегала к запугиванию, это не в ее характере. Она подтверждала то, во что не хотелось верить Герасиму Петровичу и что стало неотвратимым.
Когда Герасим Петрович получил приказ явиться в формируемый полк под Пермью, он не стал далее играть в прятки и сказал жене:
— Любовь, тебе с Иришей нужно уехать на всякий случай подальше от фронта. Меня вызывают в полк. Без меня может случиться всякое. Тебя на этот раз могут и не помиловать.
Недоговаривая многого, Герасим Петрович сказал все. Любовь Матвеевна поняла, что власть, которую считали непоколебимой, заколебалась. Нужно было только решить, куда ехать. Герасим Петрович назвал Тюмень. Тихий, хороший городок, далеко от фронта. Может быть, под Пермью или где-то на рубежах Европы и Азии Колчак, дождавшись помощи от союзных держав, даст решающее сражение, и Красная Армия покатится за Москву.
Все эти дни мать встречалась с Маврикием и проводила с ним по нескольку часов. Обсуждая, как ему быть дальше, они пришли к заключению, что ему следует перебраться к осени в Томск, доучиться экстерном, получить аттестат зрелости и под фамилией своего деда поступить в технологический институт.
Это, кажется, был единственно верный способ укрыться. Далеко от Мильвы. Не столь сложно выхлопотать у псаломщика-пропойцы, ведущего книгу крещений, метрики на фамилию Зашеина. Это вскоре и было сделано. Маврикий мог уже отправляться, но его задерживало здесь только одно. Ему хотелось знать о результатах письма Мерцаеву. Ему еще не было известно, что вся Мильва говорила об убийстве в лесу на охоте Юрия Вишневецкого.
Виновниками убийства называли неизвестных, скрывающихся в лесах, в отрядах юных мстителей. На груди Вишневецкого был положен придавленный камнем лист, на котором печатными буквами угольным карандашом было написано: «ЗА НАШУ СОНЮ КРАСНОБАЕВУ».
Все совершенно логично: смерть за смерть. Кто найдет теперь убийц? Но следователь, которому было поручено написать заключение, придерживался другого мнения. Он считал, что в мире нет и не может быть преступления, которое нельзя раскрыть.
Так он и сказал во время беседы с Аверкием Трофимовичем Мерцаевым. А не побеседовать с ним он не мог. Было известно, что Юрий Вишневецкий уехал с ним на охоту, обновлять подаренное им ружье.
Аверкий Трофимович, разумеется, не отрицал этого. Да и зачем ему было отрицать, коли он на самом деле подарил ему, как близкому другу погибшего сына, бельгийское ружье, фигурировавшее теперь как улика.
Беседуя с Мерцаевым, запивая отличную семгу чудеснейшей смесью спирта, ландышевых и валерьяновых капель, следователь, «охмелев», незаметно для себя «проболтался». Он спросил:
— Но как, почтеннейший Аверкий Трофимович, я должен расценивать найденное на той же полянке письмо за подписью «Синяя птица», извещающее вас о некоторых подробностях гибели вашего сына?
Мерцаев, предусмотрев тогда если не все, то многое, не заметил оставшегося на полянке анонимного письма Кукуевой. Какой просчет! Но следователь, кажется, не только пьющ, но и мздоимен. И знаток тайн человеческих душ Мерцаев сказал:
— Сколько вы получаете за эту очень трудную и очень черную работу?
— Ах… И не спрашивайте. Едва свожу концы с концами, любезнейший Аверкий Трофимович.
Тогда Аверкий Трофимович, не долго думая, предложил следователю продать найденное письмо, которое может вызвать кривотолки. И следователь, поупиравшись для приличия, согласился.
На другой день Мерцаев получил письмо и вручил деньги. Мерцаев не знал, что с письма была снята фотографическая копия, а вручение денег запротоколировано понятыми. Для следователя, получившего взятку, было совершенно ясно, кто убил сына пристава.
Дело об убийстве вольноопределяющегося Юрия Ростиславовича Вишневецкого передали военно-полевому суду. Там Мерцаев был приговорен к расстрелу.
Маврикий с бабушкой Дарьей последний раз прошли мимо краснобаевского дома. На нем уже не было мемориальной доски. Они прошли мимо политехнического училища, на котором процветающий живописец-вывесочник установил старую вывеску гимназии и сменил жестянку с названием улицы.
Прощай, улица Сонечки Краснобаевой! Прощайте, дома! Может быть, навсегда.
Пыля, они пошли дальше. Нужно было проститься и со второй улицей, с которой тоже так много связано. Вот она, улица. Вот он, тихомировский дом. И как в самой плохо сочиненной пьесе, опять появляется она.
Ему хочется окликнуть Леру, но боязнь… Не боязнь, а стыд быть узнанным в этом оскорбительном для юноши виде остановил его.
«Пусть проходит мимо. Мимо — в прямом и в переносном смысле этого слова», — сказал он самому себе, уходя от Леры тоже в прямом и в переносном смысле…
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
I
Занимая крохотную комнатушку в Кривоарбатском переулке, Екатерина Матвеевна не собиралась основываться в Москве. Иван Макарович снова был послан в опасное дело. В тыл деникинской армии. Екатерину Матвеевну не покидали мысли о неизбежной поимке и гибели мужа. Но изменить течение его жизни, предотвратить поимку и гибель не может никто. И даже сам Владимир Ильич, дорожа Прохоровым, не может запретить ему бороться и побеждать теми способами, которые ему наиболее удаются.
Работая руководительницей курсов кройки и шитья, Екатерина Матвеевна, кажется, нашла себя. Ее любили ученицы, любила и она их. Школа помогала ей забываться и гнать от себя черные мысли.
Видясь изредка с Матушкиной, она знала о положении на Восточном фронте. И, услышав об эвакуации Мильвы, она не могла не вернуться туда вслед за армией.
Маврик должен быть найден. Это ее святая обязанность. Не бывает дня, чтобы она не думала о нем.
И Маврик, думая о своей тетке, зная, как она тоскует по нем, оставил в Мильве несколько писем. Послал их на ее старую квартиру, через Кумыниных, через Тихомировых, написав всего лишь одно слово: «Жив». Она поймет. Ей не надо объяснять. Для нее достаточно одного, только одного слова.
Маврикий оставил и в Дымовке несколько писем для тети Кати. Василий Адрианович пошлет эти письма, когда в Дымовку придут красные. А они, судя по всему, придут. Через Дымовку поползли обозы беженцев. Торговцы. Заводское начальство. Духовенство. Белогвардейские семьи.
Мать и сестра были уже в Тюмени. Он дал слово матери приехать туда. Она убедила и запугала его, что красные не простят ему его беготни по улице с берданкой, хотя к ней не было у него ни одного патрона, хотя он и не был принят в МРГ, но на его руке была повязка ОВС. Он был знаком с самим Геннадием Павловичем Вахтеровым. У него отец офицер. Пусть военный чиновник. Кто будет разбираться в этом.
Мнительный Маврикий, веря материнской боязни за сына, сам придумывал себе вины и преступления, каких не предъявил бы ему никто.
И как только в Дымовке стало известно, что Мильву сдали красным, Маврикий уехал в Тюмень по железной дороге, оставаясь в кукуевской избе фотографическими карточками, а в Дунечкином сердечке живым, вечным, неувядаемым.
И белые и красные оставляли Мильву без боя. И на этот раз колчаковцы отходили без боя, оставляя кровавые следы, громя и убивая попадавших под их пьяную руку.
Походя они убили на улице Тишеньку Дударина. Не пророчествуй неположенное. Прирезали отца Петра. Не мешай в одном корыте религию и социализм. Покончили с Всеволодом Владимировичем, не пожелавшим эвакуироваться.
Последние слова истекающего кровью Всеволода Владимировича были обращены к портрету сына:
— Валерий, я с тобой…
Одним из последних покидал Мильву Сидор Непрелов. Он еще надеялся на чудо, еще верил, что бог услышит его молитвы, а бог не услышал, и он стал жечь поля. Они были слишком зелены и сочны. Не горели. Сидор выл, глядя на затухающий огонь. А из огня смеялся и звал к себе агроном Шадрин, появлявшийся теперь в каждом огне, поэтому ставший привычным привидением.
Сидор Петрович велел запрячь всех лошадей, уложил на телеги все, что можно было уложить, и, взяв с собой обоих сыновей, приказал остающимся женщинам не выть, тронулся в дальнюю последнюю дорогу навстречу смерти, которая могла бы еще помедлить и не приходить на пятом, едва начавшемся десятке его жизни.
И потекли на Восток в одном обозе разные люди, гонимые общей судьбой. И гробовщик Судьбин, и удачливый вывесочник-живописец, фамилию которого никто не помнил. На пяти телегах тронулись Шишигины, покинув свой электротеатр «Прогресс».
Чураков, Комаров и отец протоиерей Калужников образовали особую экипажную корпорацию и отправку багажа в крытых фургонах.
Назовешь разве всех мильвенских беженцев, которым и не нужно было уезжать, но об этом они узнают, только вернувшись чуть ли не в чем мать родила.
Прощай, Мильва…
Молчите, струны моей гитары, А я беженка из-под Самары… А шарабан мой… Мой шарабан…II
На окраине зеленой улочки Тюмени Любовь Матвеевна нашла недорогое и тихое пристанище. Маврикий никогда не думал, что мать так нежно будет любить его и сестра Ириша окажется такой близкой. Разные отцы, а мать-то ведь одна. А этим, оказывается, определяется все остальное.
Никогда, сколько помнит себя Маврикий, не жилось ему с матерью так уютно и так тепло. Даже незнакомая Тюмень стала милым, близким и чуть ли не родным городом.
Может быть, он, истосковавшись и настрадавшись, теперь радовался свободе и возможности безбоязненно появляться на улицах в своей одежде. Здесь не встретишь опасных знакомых. А может быть, слух о закамском романе отчима с Музой Шишигиной приблизил теперь мать к сыну.
В прежние годы, когда шла война с Германией, редкий день мать не вспоминала отчима, а теперь о нем говорили, только когда приходили письма. Письма отчима были осторожные, иносказательные, читать их надо было неторопливо и в каждом слове искать тайное значение. Например, в одном из писем он со слов знакомого офицера восторгался городом Тобольском. И рыбы-то там много, и свинины хоть отбавляй, и квартиры дешевые, и никакой железной дороги. Спокойнейший городок.
Мать и сын, читая похвалы Тобольску, понимали, что Тюмень вовсе не такой уж надежный город. Но пока Красная Армия была все же далеко, хотя слухи о ней опережали ее. Пугали дивизией Азина. Азина рисовали в самых невероятных видах. Он чуть не собственноручно резал младенцев, потому что без крови не мог прожить и дня.
— Попадись ты, Мавруша, такому Азину, он не станет выяснять, кто ты и что ты. Трах, и нет тебя, мое солнышко.
Эти рассказы чем-то напоминали лубочную картину Страшного суда, на котором людей наказывали подвешиванием за языки, сидением на раскаленных углях, вечным кипением в смоле и подвергали другим до того страшным пыткам, что становилось не страшно, а смешно.
Маврикий хотя и не очень верил рассказам об Азине, но кое-что считал правдой. Когда же стали говорить нечто подобное о другом красном атамане, Пашке Кулемине, Маврикий не мог допустить, что ему ежедневно приводят «на потаргание и смерть» самых красивых девушек и женщин тех сел и городов, которые он занял.
Слышать ложь о Павлике Кулемине, добрейшем человеке, нежнейшем муже Женечки Денисовой, Маврику было невыносимо. Он чувствовал, что его заставляют быть как бы соучастником этой оскорбительной лжи. Прямота и честность требовали протеста, отпора. Но разве он мог защитить его?
Разговоры об Азине, Кулемине, появление в Тюмени беженцев омрачали считанные летние недели купания, ловли рыбы в знакомой Туре, пришедшей сюда из далекого Верхотурья теплой, широкой и судоходной рекой. Никогда и нигде не видал Маврикий таких крупных и жирных ершей. Говорят, что они будто бы сюда в Туру приходят из моря через Обь, Иртыш и Тобол метать икру. Наверно, врут. Рыбаки, как и охотники, любят присочинить.
Половину времени Маврикий проводил на реке. Его неразлучным товарищем стал Виктор Гоголев. Они были дружны и в Мильве, а встретясь тут, они будто заново открыли и полюбили один другого. Сначала Маврикий был напуган, увидев мильвенского товарища. А потом все обошлось.
Вера Петровна — мать Виктора Гоголева — в разговоре с Любовью Матвеевной сказала, что ее сын еще за Камой раскусил и возненавидел вахтеровский туман и под предлогом частых головокружений отказался служить в полевой почте.
При встрече с Маврикием прямой и откровенный Виктор Гоголев сказал:
— А я теперь не за тех и не за этих, а других нет. Значит, я сам по себе. Один.
Кажется, сам по себе и один теперь был и Маврикий. Но зачем делиться этим с Виктором? Жизнь учила Маврика быть осторожным.
О взрыве стены дома бывший гимназист Виктор даже не намекал, хотя он и не мог не знать об этом. Может быть, внутренний такт не позволял ему вторгаться в чужие тайны.
Рассказывая о своих взглядах, Виктор повторял мысли Маврикия и, к его удивлению, прочитал строки из хрестоматийного стихотворения, которые тоже были как бы кратко выраженной политической программой. Он вдохновенно прочитал:
О! как бы счастлив был свет этот старый, Да люди друг друга понять не хотят. Сосед к соседу не придет и не скажет, Мы братья — дай руку мне, брат…Пусть эти строки не филигранны, как пушкинские, но в них сказано все исключающее войны, убийства, раздоры… Если бы красные и белые признали это стихотворение законом для всех людей, тогда пришел бы конец раздорам. Конец бесконечным кровопролитным наступлениям, отступлениям. Конец войне.
Виктор, кажется, повторяет слышанное им от отца. Если Виктор действительно такой, каким его теперь видит Маврикий, то ближе и лучше товарища по духу, взглядам, нравственным достоинствам, наверно, и нет на свете.
Ильюша и Санчик были когда-то самыми близкими, но это другая близость. Теперь Маврикий едва ли увидится с ними. Да и незачем им видеться. Спорить? О чем? Ради чего? Разве их можно переубедить? Конечно, нельзя их вычеркнуть из сердца. Их нужно любить за те детские годы, когда их ничто не разделяло. А теперь их, может быть, даже нужно бояться.
В это время Илья Киршбаум и Александр Денисов, сменив своих кляч на хороших коней, отбитых у колчаковцев, покидали освобожденную Пермь, где догорали подожженные белыми пароходы.
Кавалерийский эскадрон, в котором Ильюша и Санчик были испытанными в боях помощниками командира, продвигался теперь почти без боев за стремительно отступающими колчаковцами. Иногда эскадрону приходилось делать марши по тридцати и сорока верст в сутки.
За две недели они прошли от Перми до Екатеринбурга, войдя в него вместе с частями прославленной Двадцать восьмой дивизии Владимира Азина.
Денисов и Киршбаум надеялись, что в каком-то селе, в каком-то освобожденном городе они встретят своего друга Толлина и, встретив, постараются изо всех сил внушить ему, как ошибается он, повторяя давно известные и развенчанные Владимиром Ильичом Лениным заблуждения.
О Толлине много говорилось после освобождения Мильвы, куда вернулись почти все отступившие этой весной. Екатерина Матвеевна получила письма от племянника и советовалась с обоими Кулемиными, с Григорием Савельичем Киршбаумом, и все они, вместе и порознь, говорили примерно одно и то же: был бы он жив, а остальное образуется само собой.
В этих словах Екатерина Матвеевна видела желание утешить ее, а не подсказать ей, что нужно делать. Она знала теперь, что ничего и никогда не образуется само собой. И она должна принимать все меры, чтобы напасть на след Маврика. И стоит ей хотя бы примерно узнать, где он, она разыщет его и сумеет найти сильнейшие из всех сильных слов и вернуть его к Ивану Макаровичу. И это в ее силах.
Только бы напасть ей на след Мавруши…
III
А след Маврика еще вчера исчез за кормой пристанской лодки, на которой он и Виктор отплыли по древнему уш-куйному пути Ермака Тимофеевича. Отплыл он не из любви к путешествиям, хотя и это сыграло какую-то роль, но главной причиной были все те же два брата Непреловы.
Герасим Петрович на этот раз без обиняков телеграфировал из Ирбита:
«На той неделе приедет Сидор и ты должна будешь на его лошадях переехать Тобольск. Герасим».
Маврикию никак не хотелось встречаться с Сидором Петровичем, Любовь Матвеевна находила, что эти опасения не лишены оснований. Задумались мать и сын. Размышлять им пришлось недолго. Пришел Виктор Гоголев и сказал, что и они перебираются в Тобольск со знакомыми отца. Но у знакомых в повозке одно свободное место, и они могут взять только мать, поэтому он решил найти попутчика и отправиться туда на лодке.
Любовь Матвеевна опередила сына:
— Зачем же, Витюша, искать попутчика, когда он перед вами.
— Да, Виктор, да. Нам тоже велят эвакуироваться в Тобольск. Какое счастье!
Сборы начались немедленно. Молодые люди подсчитали, что по реке до Тобольска значительно дальше, но плыть им вниз по течению. И если они не захотят грести, все равно течение понесет со скоростью не менее трех верст в час.
Условились о связи. Способ нашелся простой и старый. Везде есть почта. На всякой почте можно сдать письмо до востребования. Оставалось купить и оборудовать лодку. Пошли на реку. Начали с пристани. Подвыпивший водолив сказал:
— Приходите вечерком, потолкуем. Не позабудьте захватить на пару бутылок живой воды.
Пришли вечером. Водолив мигнул и пригласил следовать за ним.
Выйдя вниз по реке за черту города, водолив указал на большую лодку с деревянными дугами для брезентовой или берестяной крыши.
Маврикий подал деньги.
— Премного благодарен. Все равно теперь она ничья. Вы не возьмете, другие угонят.
Пересчитав деньги, он поблагодарил еще раз. Денег было больше, чем он думал. Когда счастливые обладатели лодки, которую с небольшим преувеличением можно было назвать баркасом, сели в нее, осмотрительный Виктор предложил перепрятать покупку. Они спустились еще ниже по реке. Нашли подобие заливчика, позаросшего кустами, загнали туда лодку. Весла были отнесены в кусты поодаль. Теперь оставалось проститься с матерями, взять приготовленное в дорогу — и в путь, не дожидаясь рассвета.
Матери с легким сердцем расстались с сыновьями. Тура и Тобол были тихими реками.
Когда Тюмень осталась довольно далеко, путешественникам нужно было позаботиться о бересте для укрытия от дождя.
В июле береста с трудом отставала от ствола дерева. Наблюдавший за Виктором и Маврикием старик, убедившись, что их можно не опасаться, вышел из кустов и сказал:
— Зряшное дело это, ребята. У меня надранная береста есть. А у вас чем я поживлюсь?
— Мы заплатим, — предложил Маврикий, оставив «зряшное дело».
Старик добродушно рассмеялся.
— На что мне деньги в лесу! Нет ли жерлиц у вас на большую рыбу?
— Есть, есть. Всякие есть, — сказал обрадованно Виктор, зная, что деньги еще могут очень и очень пригодиться в пути.
— Тогда и не о чем толковать. Вот она, береста-то. Берите, сколько желательно. — Он указал на старый чум. — Не бойтесь, не бойтесь. Мое пристанище. Их у меня многонько по всему берегу наставлено. Где ночь застанет, в том чуме и сплю.
Разговорчивый старик жил в трех верстах вниз по течению Туры, в заброшенном доме, куда в старые годы наезжал его хозяин с господами поохотиться, половить рыбу и попировать.
Рассказывая о себе, старик помог приладить бересту к дугам лодки, боязливо спросил:
— А какая сейчас власть в городе Тюмени?
— Колчака. Адмирала Колчака.
— Ага-га-га-га… — замотал старик головой. — Из магометанов, значит, выбрали. Ну что ж, всякая вера — вера, если она вера.
Когда работа была закончена, Виктор принес дюжину крупных жерлиц.
— Да что ты, сердечный… Куда столько? Разве я похожу на бессовестного?
Он отобрал три жерлицы. Потом соблазнился четвертой. Виктор положил на берег остальные. Старику было стыдно взять столько и жаль потерять такое богатство.
— Тогда, может, хоть морду возьмете в придачу.
Виктор отказался и позвал Маврикия в лодку. Когда лодка была уже на плаву, старик снова спросил:
— А магометан-то этот из белых или из красных?
— Из грязных, — сказал Виктор.
— Ага-га-га, — прошамкал старик и задумался.
Течение на Туре, как и на всех реках, не одинаково. Здесь, в излучине, оно было быстрым. Открылись новые берега. Богатые леса. Малозаселенный край. Не так уж далеко отсюда Тюмень и железная дорога, а кажется, что здесь совсем другая страна, где не все знают, какая теперь власть. Как странно.
А почему странно? Через три дня и наши путешественники не будут знать, какая власть в Тюмени.
Зачем думать об этом? Нужно любоваться бескрайним привольем, радоваться берестяной каюте без единой щелочки, быть благодарным за то, что светит солнце, за то, что воздух чист, за то, что рыба чуть ли не сама заскакивает в лодку.
Вот, Маврикий, и пришло к тебе настоящее речное путешествие. Не беда, что этот «пароход» не дымит, зато он не стоит на месте.
«Ах, тетя Катя, как я помню, как я ценю все, что ты сделала для меня!»
Виктор растянулся на носу и тоже думает о своем. В мыслях он далеко от Туры, где-то на Миссисипи или какой-то далекой другой реке, в стране, о которой он все чаще и чаще размышляет.
Лодка опять пошла медленнее, поворачиваясь то боком, то кормой, то снова носом по течению.
— Я думаю, — говорит, не оборачиваясь, Виктор, — что России больше нет и никогда не будет.
Маврикий не понимает, почему Виктору пришло такое в голову.
— Как может не быть России, когда есть мы? Русские.
Ничего не ответил Виктор и снова уплыл в мыслях за океан.
IV
Много скрипучих телег двигалось по направлению к Тобольску. Двигались и три телеги Сидора Непрелова. «Добро», взятое им, наполовину оказалось смешным грузом. Зачем нужно было в Сибирь везти кадушки для солки огурцов и капусты, куль лаптей, когда здесь ходят только в кожаной обуви? Как могло взбрести в неглупую мужичью голову взять с собой три улья пчел, зашитых в ряднину? А зачем с собой тащить старый ведерный сепаратор?
Алчность была жалка и бесцельна. Он не скоро, но понял, что, теряя ферму, глупо спасать формы для выдавливания фунтовых кружков масла с фирменным названием.
Кое-что ему удалось сбыть за бесценок или отдать за постой, а остальное пришлось бросить.
Теперь он ехал сравнительно налегке. У него нашлось место для матери Виктора — Веры Петровны Гоголевой, очень понравившейся Любови Матвеевне веселостью характера и умением не падать духом в трудные минуты.
Сидор считал Тобольск последним городом, дальше которого отступать не будут. Отсюда после передышки вместе с японской армией Колчак пройдет всю Расею «наскрозь до Дермаии». Так ему говорили не двое, не трое, а множество знающих беженцев из господ и богатых людей.
Двести восемьдесят верст от Тюмени до Тобольска не такое уж большое расстояние, если путник едет на перекладных.
Непреловы ехали на измученных лошадях, прошедших от Мильвы свыше тысячи верст. Дорога с дневками заняла почти десять дней. Плывущие на лодке и ночующие в ней, боясь потерять ее, опередили своих матерей. И если б не сказочные берега Тобола, где можно и теперь охотиться луком и стрелами, где неизвестные, могучие, похожие на тополя деревья образуют в самом прямом смысле волшебные светлые леса, которые манят вглубь и пугают звонким шелестом листьев, которые кажутся вычеканенными из какого-то темно-зеленого металла, то дорога была бы короче.
Не побывать в таком лесу невозможно. Невозможно также не причалить к чистой, по-особому выглядящей татарской деревне с деревянной мечетью, с обычаями и традициями, которые сохранились с времен Кучума и Маметкула. Здесь закрывают платком лицо молодые женщины, не говорят с мужчинами, не потому что они не знают русского языка, а потому что этого не положено. Зато мужчины и старухи гостеприимны и хлебосольны до невозможности. Девушки-татарки хотя и закрывают кромкой платка свои лица, но закрывают так, чтобы ослепить «нечаянным» поворотом головы и деланно пугливым взглядом. Кто знает, что у них на душе. Старик, угощавший чаем Маврикия и всех остальных, сказал:
— Наши девчонки очень любят, когда их воруют.
И ничего в этом нет удивительного. Живя на глухом берегу Тобола, они не могут не знать, что, кроме деревни, где они живут, есть большой мир, города. Мимо их деревни из этого мира проходят пароходы. И на них другие люди, живущие совсем не такой жизнью, как они. Поэтому быть украденной единственная возможность оказаться в большом мире, пока еще закон не сделал тебя одной из жен какого-то неизвестного и, может быть, старого человека.
Так близко и так далеко Тюмень! Над Тюменью летают аэропланы, а здесь еще и не начинался девятнадцатый, а может быть, и восемнадцатый век.
Нет, Иван Макарович, не может Россия прыгнуть за несколько лет через два века в социализм, думает Маврикий. Это розовый самообман, милый и дорогой Иван Макарович.
Лодка снова плывет по широкому Тоболу. Накрапывает дождь. Сюда скорее приходит осень. Дождь сонливо барабанит по бересте. Виктор спит, а Маврикий, лежа рядом с ним, продолжает затянувшийся спор с Иваном Макаровичем.
V
Знатная река Тобол. Много притоков питают его на протяжении тысячи шестисот верст. Не тих его бег, не узки его плесы, а сравнить его с Иртышом нельзя даже по большой любви и хорошему знакомству с Тоболом.
Тобол — теленок, а Иртыш — вол. Упрямый, неустанный, неостановимый…
— Нужно круче держать нос против течения, — предупредил Маврикий. — Нас может снести.
Лодка, вымчав в Иртыш верстах в трех выше Тобольска, уносилась быстрым течением.
Сидя на веслах, путешественники гребли изо всех сил, боясь, что течение протащит их мимо Тобольска до того, как они достигнут противоположного берега.
Опасения, конечно, были преувеличены. Их снесло на самую малость, и можно было, оставив весла, направлять свою ладью по течению и любоваться городом, имя которого рождает в памяти столько различно звучащих имен.
Везде есть добрые старики. Для лодки нашлось надежное пристанище. Теперь можно на почту. Никаких писем. Значит, еще едут. Нужно оставить письма для матерей и отправиться на осмотр города. А может быть, им удастся найти квартиру, чтобы приехавшие сразу получили крышу.
Город поразил обилием церквей и немалым количеством тюрем. Увидели виденный ранее в учебниках истории памятник Ермаку Тимофеевичу. Ничего, но и не ах! Не очень благодарными оказались русские цари к этому простолюдину за его великие подвиги и дары.
Побывали и около дома, где жил последний царь. Внутрь дома не пустили. Было сказано ясно и коротко: «Нечего вам тут делать». Сказано так, как будто тут жил не свергнутый, а царствующий царь.
Для свежего глаза Тобольск и выглядел городом царствующего царя. В городе появилось немало бежавших с Урала, из Прикамья. Красная Армия была вовсе не так далеко, а самоуверенные бородатые, не обиженные размерами животов богатеи, будто отделенные океаном или неодолимыми горами, не допускали мысли, что куражиться им оставалось несколько недель. Колчак проиграл успешно начавшуюся для него кампанию. Ему уже не дают больше в кредит ни пушек, ни сигарет. Он не оправдал надежд, возложенных на него. От него отвернулся и сибирский мужик. Не голытьба, которая никогда не была с ним, не колеблющаяся середка-половина, но и зажиточная часть.
Глазам, видевшим, как лопается радужное ничто, выдутое из ничего, не нужны слова. Сколько их было слышано. Тобольск — город-тупик, из которого можно теперь выбраться только вверх по Иртышу, на Омск, да и то, кажется, с боями. Берега Иртыша неспокойны. Стреляют по судам. Оставаться здесь невозможно. И зачем только понадобилось отчиму послать их в этот город, в этот мешок? Нужно искать какой-то выход.
— А может быть, двинуть через северные моря? — спросил Гоголев не то Маврика, не то себя, а может быть, того и другого.
— Куда?
— Мало ли на свете стран… — сказал уклончиво Виктор, а затем, меняя предмет разговора, предложил отправиться на базар.
Базар всегда место неожиданных встреч. Неожиданной и совсем неприятной для Маврикия была встреча с бежавшим сюда после «расстрела» Аверкием Трофимовичем Мерцаевым. Его трудно было узнать, стриженого и безбородого, но ему легко было узнать Толлина.
Деликатный Виктор, поняв, что его друг встретил в Тобольске человека, которого нужно опасаться, не стал добиваться подробностей. Маврикий вынужден был торчать в подгорной части, где они нашли пристанище у старика паромщика.
Понимал, что воскресшему из мертвых и скрывающемуся здесь Мерцаеву едва ли захочется, предавая Толлина, открыть себя. Однако же не всегда логика бывает логичной.
Скорее бы встретиться с матерью и решить, как быть дальше. Жизнь окончательно стала недоброй. Она вязала такие узлы и петли, что иссякали последние силы и таяли те слабые надежды, которые выдумывали себе люди, чтобы хоть как-то поддержать себя.
Тобольск, где так недавно жили просторно, стал тесным и дорогим городом. За ночевку требовали чуть ли не месячную плату за этот же угол. А беженцы прибывали и прибывали.
Сидор Петрович до приезда в Тобольск еще на что-то надеялся, а приехав сюда, он сказал сыновьям:
— Дальше нам некуда подаваться, надо продавать лошадей и телеги.
Подтвердил это и Герасим Петрович, прибывший сюда на очередное переформирование: готовиться надо к самому плохому.
Услышав такие слова, Сидор начал распродажу. Беженцы из темных, еще надеясь, что куда-то найдется дорога, не очень торгуясь, купили непреловских лошадей.
Сидор, оказавшись при деньгах, теперь мог куда-то передвигаться на пароходе. Сыновья же его должны будут двинуть пешком в обратный путь, в Омутиху. Скажут, угнали с подводами, и вся недолга.
VI
Мать посоветовала Маврикию пока не появляться у них на горе. Герасима Петровича расквартировали с остатками части в пересыльной тюрьме. Отчим все еще не знал, что пасынок нашелся. Маленькая Ириша, как и всякая девочка, была ближе к матери и, любя своего отца, все же считала, что ему совершенно не обязательно сообщать все.
Связь с матерью Маврикий поддерживал через Виктора Гоголева. И как-то Виктор сказал:
— Ты знаешь. Мавр, у твоего отца я встретил того бритого человека, которого мы встретили на рынке.
Это поразило Маврикия. Отчим был знаком с Мерцаевым, но не так близко, чтобы тот мог открыться ему. Может быть, поэтому осторожная мать и скрывает от мужа своего сына. Пришлось Виктору рассказать больше, чем хотелось бы. Виктор на это сказал:
— Давно бы так. Теперь я хоть как-то вооружен и в случае надобности могу защитить тебя. Мне кажется, они о чем-то сговариваются, — сказал Виктор. — Я не верю в предчувствия, но иногда они не обманывают. Я думаю, что теперь, когда белые на краю гибели, многие придумывают, как быть дальше.
Наблюдательный Виктор строил верные догадки, но узнать об их планах было невозможно. То, что они задумали, было неожиданно и для них самих, и они боялись спугнуть мечту о счастливо открытой для них Америке.
А открытие произошло совершенно случайно. Аверкий Трофимович Мерцаев после избавления от смерти бежал в Пермь. Там, видоизменив свое лицо, он встретился с Судьбиным.
Мерцаев не побоялся гробовщика, потому что знал достаточно о его подлостях, за которые наказывают только смертью. Судьбин тайно скупал краденые церковные ценности, думая, что подобного рода коммерция останется тайной. Так бы оно и было, если б Аверкий Трофимович не оказался конкурентом Судьбина по кощунственной скупке.
Встретившись в Перми, старые знакомые уточнили свои отношения. Судьбин пообещал сделать все от него зависящее. И он получил от Мерцаева инструкции и способы убеждения Нелли Чоморовой относительно возвращения не принадлежащего ей.
Нелли, прочитав из рук Судьбина письмо от своего чернобородого факира, сразу же поняла, что ей угрожает и как нужно себя вести. Она показала редкий образец оборотистости по превращению в деньги всего, что в них превращалось. И вскоре Судьбин вместе с письмом-отчетом вручил Аверкию Трофимовичу и деньги и ценности.
Благодаря за операцию, Мерцаев вознаградил гробовщика щедрым процентом и пригласил в загородный кабачок без вывески. Там они ужинали в обществе двух молодых дам, одна из которых любезнейше осведомилась, не интересуются ли господа долларами.
Вот тогда-то в бритой, похожей теперь на огурец голове Мерцаева блеснула мысль о побеге в Америку. И он с этого дня думал только об этом, строя один за другим планы осуществления единственной возможности сохранить купленную у солдата за карманные золотые часы жизнь.
Перебирая вероятные возможности, он пришел к заключению, что ему нужен надежный компаньон. И само провидение, там же в Перми, свело его с Герасимом Петровичем. Сначала Непрелову этот побег показался невозможным и неприемлемым, а потом пришлось согласиться с доводами Мерцаева. Мерцаев утверждал, что быть живым беглецом куда предпочтительнее, чем верным присяге мертвецом.
Дела на фронте, обстановка в армии, суждения лиц, видящих дальше и шире Непрелова, характеризовались избитым, но предельно исчерпывающим словом «крышка». И как-то ночью Герасим Петрович едва проснулся, напрягая последние силы, чтобы поднять крышку гроба, в котором его хотели зарыть живьем.
Сон странный, глупый, необоснованный сон, но почему-то после этого сна Герасим Петрович принялся внушать себе, что для Любови Матвеевны и доченьки Ириночки безразлично — беглец он или мертвец. Они не будут знать, что произойдет с ним. Муза Шишигина, отдавшая ему на сохранение драгоценности, измеряемые каратами, тоже не может быть в претензии на его гибель. А кроме этого, она отдала ему только часть, и, может быть, не большую.
Ну, а брат… Судьба брата не зависит от его судьбы. Если выживет, так выживет, а нет так нет. При чем тут Герасим Петрович?
А об остальных он не должен думать. Жаль только маленькую швейку с питерской улицы Пятая рота. Но ведь кто знает, как потом сложится жизнь, может быть, будет возможно и ей перемахнуть океан. И тогда наступит единственное и настоящее счастье с этой маленькой, миленькой, ласковой кошечкой, искренне и бескорыстно полюбившей его, несмотря на разницу лет.
«Господи владыко! Дай ей счастье не меньшее, чем я мог бы ей дать».
По лицу Герасима Петровича катятся горячие слезы. Оказывается, все за хвостом лошади, на которой он вместе с обозом направлялся в Тобольск на переформирование. Какое там, к черту, переформирование, когда они еле успевают дать отдых коням и прикорнуть сами.
В Тобольске Герасима Петровича ждал Мерцаев. Там они обговорят последнее и…
VII
…и можно трогаться в далекий путь.
Путь в Америку для них лежал по Иртышу через Омск, по железной дороге на Дальний Восток, а там подкуп кого-то из команды какого-то из кораблей, затем тягостные дни в угольном трюме корабля, и, наконец, — здравствуй, Америка! Какая все равно — Южная или Северная. Латинская или Греческая, чертова или дьяволова, или какая-то еще. Что они знают об Америке? Им лишь бы выжить, лишь бы переплыть океан, а там увидят…
Сейчас предстоит одолеть первый этап пути.
Остатки белых полков и дивизий, преимущественно обозные и административно-хозяйственные остатки, погрузили в две огромные деревянные баржи. После погрузки в баржах осталось свободными немало отсеков, поэтому было решено заполнить их беженцами. Чтобы не создать паники среди желающих покинуть Тобольск, была объявлена продажа билетов по самым низким ценам.
Продажа билетов, вернее, выдача разрешения на приобретение билетов была возложена на бывшего полкового казначея, ныне интенданта транспорта специального назначения, то есть двух барж, — Непрелова.
Герасим Петрович сразу же уразумел, что за разрешение на продажу дешевых билетов он может брать самую дорогую цену, какую только способен дать стремящийся оказаться в Омске. Омск был теперь самой близкой от Тобольска железнодорожной станцией. Возвращение в Тюмень было уже невозможно.
Взятку, хотя она и дается интимно, с глазу на глаз, все же спокойнее брать у знакомого. Поэтому мильвенские беженцы были в предпочтительном положении по отношению ко всем другим. Первую взятку в качестве благодарственного подарка от отца протоиерея Калужникова принесла его благоверная Любовь Захарьевна. Вручив некурящему Герасиму Петровичу серебряный портсигар с золотой головой льва и двумя большими изумрудами цвета весенней травы, заменяющими глаза царю зверей, она получила пять билетов. С Калужниковыми эвакуировались три дочери от двадцати трех до тридцати двух лет, из которых только младшую, Лару, можно было упрекнуть в излишней полноте, но и она не была обойдена любезным вниманием и галантным обхождением встречавшихся в пути офицеров. Один даже подарил ей офицерский Георгиевский крест, заменяющий в полевых условиях таинство брака и олицетворяющий одновременно клятву вечной супружеской верности. Таких крестов-клятв у нее хранилось шесть и одна медаль. Тоже клятвенная. Лара не сомневалась, что хотя бы одна из семи георгиевских клятв верности будет сдержана. Не все же они полягут на поле брани, кто-то и останется в живых.
У купцов Чураковых, как у Шишигиных, тоже не пришлось вымогать вознаграждение. Эти уплатили золотыми монетами по десяти рублей за билет. Разумеется, Музочка Шишигина получила бесплатный билет из рук Герасима Петровича в освобожденную для пункта медицинской помощи каюту водоливов.
Для тобольских богатеев, кратковременно покидающих свой город, билеты на баржу приобретал Аверкий Трофимович Мерцаев. Он добросовестнейше отчислял себе четверть вознаграждения, стараясь брать его фунтами, долларами, франками и прочими ценностями, не занимающими много места.
Чем меньше оставалось мест, тем выше назначалось вознаграждение за право покупки билета. И когда все было распродано, наступил час отхода барж.
Счастливцы, получившие места, отгораживались семья от семьи простынями, одеялами, брезентовыми полотнищами, расставляли кровати с тюфяками и перинами или, раздобыв ящики, а то и просто доски, устраивали себе место для ночлега. Путь на барже до Омска против течения долгий. Едва ли они пойдут три-четыре версты в час по прибывающей после осенних дождей реке.
А что делать? Иртыш хотя и трудная, но единственная лазейка из тобольского мешка.
VIII
Не просыхали глаза у Любови Матвеевны. Плакала и дочь. Они должны оставаться в этом чужом городе.
— Любаша, верь мне, — убеждал Герасим Петрович. — Тобольск самое лучшее из того, что можно выбрать. Такое благоустроенное жилье, с двойными рамами. Хорошая печь. Никто не может выгнать. А там… Что ждет тебя там, в Омске, где, наверно, один убивает другого за железнодорожный билет?
— А красные? Они же придут. Они же непременно придут.
— Кто знает? А если и придут… Разве ты виновата, что тебя эвакуировали, как жену мобилизованного чиновника военного времени? Ведь я же не офицер. И у тебя на руках справки, кто я. Вот же читай… Тут же так ясно… И печать…
Успокаиваясь, Любовь Матвеевна снова принималась плакать.
— Но почему же едут другие? И Чураковы, и Шишигины, и протоиерейская семья… Почему, Герася?
— Люба, разве я им могу запретить погибнуть в пути или быть растерзанными в Омске? Разве возможно им говорить то, что я говорю по секрету тебе, моей жене. Меня же предадут военно-полевому суду за пропаганду…
— Да, Герася, это верно, — успокаивалась снова Любовь Матвеевна. Она верила мужу. Верила тем более, что он ей оставил наиболее громоздкие ценности: калужниковский портсигар, дюжину серебряных столовых ложек, дутые золотые браслеты, сомнительного металла броши и, наконец, кошелек с золотыми монетами.
— Я ничего не беру с собой, кроме штатской одежды на случай побега из армии. И как только я где-то обживусь, ты будешь знать. И я перевезу тебя…
Любовь Матвеевна утешалась его словами, каждое из которых было лживым. И только в одном не лгал Непрелов, Любовь Матвеевна должна была остаться в Тобольске, чтобы сохранить себя и дочь. Непрелов не мог везти их на верную гибель. Все же какие-то чувства, и особенно к дочери, мешали ему погубить их.
Перед отходом баржи Непрелов плакал. Он сказал:
— Прощай, Любонька…
А она:
— Почему же, Герася, «прощай»?..
А он:
— На всякий случай. Теперь можно ждать всего…
Любовь Матвеевна думала, что, может быть, в последнюю минуту он вспомнит о пасынке, и тогда она позовет его проститься с отчимом. Маврик стоял на берегу за дровами, наготовленными для пароходов. Но Герасим Петрович так и не спросил о нем. Любящая мужа жена решила, что это произошло потому, что, наверно, он думал, что пасынка нет в живых, не хотел напоминать матери о погибшем сыне.
Думайте так, Любовь Матвеевна! Так вам лучше. И вообще успокоительное заблуждение куда более целительно, нежели даже сильнодействующие лекарства.
Сначала ушла одна баржа, на которую не было продано ни одного билета мильвенским беженцам, чтобы дышалось свободнее Аверкию Трофимовичу. Баржу повел буксирный пароход с колесным трехдюймовым отечественным орудием на носу и двумя скорострельными французскими пушками, установленными на правом и левом борту верхней палубы.
Такой же буксирный пароход, но с пятью пушками потянул вторую баржу. Герасим Петрович долго не уходил с палубы и махал дровам, около которых все еще стояли жена и дочь.
Разговаривая со своей совестью, он убеждал ее, что иного выхода не было и что им оставлено достаточное обеспечение, врученное жене в Тобольске и зарытое в Мильве.
Совесть Герасима Петровича оказалась сговорчивой, и он за первым же поворотом реки пошел в каюту, освобожденную от водоливов, где ждала его сестра милосердия Музочка Шишигина.
ПЯТАЯ ГЛАВА
I
Потеряв мужа, Любовь Матвеевна теряла и сына. Он поделился с ней:
— Мама, тут слишком много осталось понаехавших мильвенцев. Одни при белых, а другие при красных могут разлучить меня с тобою навсегда.
Сын не старался говорить театрально. Так сказалось. И мать, мнительная не меньше своего сына, сказала:
— Да, ты прав. Но на чем и куда бежать…
— Все уже найдено и решено.
Он рассказал матери, что Виктор Гоголев тоже не хочет оставаться в Тобольске и мать согласна с ним.
Виктор, все это время пропадая около пристаней, познакомился с молоденьким штурманом небольшого деревянного парового катера, купленного ирбитским купцом Блаженовым в Тюмени для переезда водой в Тобольск, с тем чтобы вернуться на нем же обратно. Теперь же хозяин с женой и дочерью отбыл на пароходе, бросив катер и штурмана. Штурман вскоре нашел нового хозяина. Оказывается, из Тобольска вынужден был тайно бежать побочный сын царя Николая Второго, Арсений. Он скрывался здесь все это время, боясь белых и красных, которые могли прикончить его как единственного претендента на престол. В доказательство претендент показал сделанные им в Тобольске фотографические снимки, где его августейший отец пилит дрова, метет двор, гуляет с царевнами. Сомнений никаких не оставалось, и наивный, недавно закончивший речное училище штурман Дима Демин согласился доставить претендента на русский престол. Штурману и самому не очень улыбалась зимовка в Тобольске и потеря катера, который в Омске можно было сбыть за хорошую цену.
Получив от претендента хороший задаток, Дима Демин должен был нанять двух благонадежных кочегаров, потому что ему одному топить котел и стоять у штурвала было невозможно. Положим, котел мог топить и побочный сын царя, но ведь рулевому нужно когда-то и спать.
Благонадежнее Виктора Гоголева и его товарища, за которого он ручался, трудно было придумать кочегаров. Предельно загрузившись дровами, закатив как аварийное топливо две бочки керосина, катер ночью должен был покинуть Тобольск.
Снова прощание, снова слезы и снова путь по реке.
«Важный пассажир», как называл его Дима Демин, ставший теперь капитаном, находился в средней каютке величиной со шкаф среднего размера, именовавшийся «дамской», так как там ранее находилась дочь купца Блаженова, оставившая штурману аромат своих духов и несбыточные надежды.
Кочегары, сменяясь, должны были подбрасывать в маленький, но прожорливый котел небольшие поленца и подменять у руля капитана днем, когда по широкому Иртышу катер может вести всякий, отличающий правую сторону от левой.
Утром «важный пассажир» попросил капитана прислать себе в каюту кочегара меньшего роста.
— Кочегар Толлин, — приказал капитан, — вас просят зайти в каюту.
В каюте встретились два старых знакомых. Один из них сказал:
— Я вчера еще услышал твой голос, а потом увидел тебя, мой дружочек, в замочную скважину. Пораздумав, я пришел к выводу, что нам следует не узнавать друг друга. А теперь иди и принеси мне стакан чаю, ради которого я пригласил тебя, мое сокровище.
Сердце Толлина не очень стучало, и губы почти не дрожали по выходе из каютки-шкафа, где произошла у него встреча с Всесвятским. Его можно было не опасаться, так как он сбежал из Мильвы до взрыва стены бывшей гимназии. Он должен был опасаться Маврикия, как дезертир, скрывающийся от военной службы. А это несомненно так. И пусть, жалко, что ли…
Проворный катерок продвигался не столь быстро. Ему, довольно широкому суденышку, трудно было бороться с течением, поэтому старались держаться ближе к берегу. Коли лодка, подаренная в Тобольске старику перевозчику, без напряжения воображения сходила для Маврика за пароход, то этот катер, разрезающий волны, был настоящим пароходом. Владеть бы таким… Невозможно представить, какое было бы это счастье. Иртыш, Обь, притоки… А что стоит, конечно имея деньги, перевезти по железной дороге этот совсем небольшой катер в другой бассейн и побывать на реках, которые не может и представить Маврикий.
Как сладко думается Маврикию Толлину, которому доверено штурвальное колесо, и он видит, что вовсе не трудно вести послушный рулю катер. Может быть, наступит время, когда он своими руками вместе с товарищами, не жалея ни сил, ни трудов, соорудят нечто подобное. Катер очень прост. Обыкновеннейшая паровая машина, каких в Мильве прорва.
Обладая с детства способностью уходить в мечты и забывать окружающее, Толлин верил, что настанет время, и он соорудит такой же милый пароходик, нужно только снять точные чертежи, записав все данные катера. Не боги же в самом деле…
II
Как ни медленно шел катерок, все же он продвигался раза в три быстрее барж, вышедших из Тобольска тремя днями раньше.
Маврикий первым увидел обгоняемые баржи. Он узнал корму второй баржи. Очень хотелось увидеть в бинокль отчима. Не увидел.
Зато часом позже, обгоняя баржу, идущую впереди, Маврикий поймал в поле зрения бинокля четверых знакомых: Мерцаева, Сидора Петровича Непрелова и двух его сыновей.
Значит, для них не опасен Омск. Им найдется место в тесном городе… Ах, мама, ты еще веришь ему. Впрочем, верь. Так тебе легче.
Тут нужно сказать, что Маврикий не прав. Герасим Петрович советовал тогда брату дождаться красных в Тобольске и вернуться домой, убеждая, что он ни в чем не виновен. И мертвый агроном Шадрин в конце концов не улика. Да и кто знает, что он привел его в камеры. А если даже знает, то как мог ослушаться он и не привести.
Это не убеждало Сидора, и он сказал:
— Не будет тебе счастья, если ты, брат, бросишь меня…
Тогда Герасим Петрович сказал:
— Пусть будет по-твоему, — и выдал ему три билета на первую баржу.
Вскоре и эта баржа была обогнана. Теперь не осталось впереди идущих судов. За каждым поворотом можно было ждать конца плаванья. Вечером катер обстреляли с берега. Из дробовиков. Видно было, как дробь, не долетая, ложилась на воду. Здесь не долетает, а где-то и долетит. И не дробь, а пуля. Не везде же так плохо вооружены стреляющие с берега.
Хотели идти только ночью и без огней. Но где отстаиваться днем? И без того приходится с большим риском пополнять запасы дров.
Всесвятский предложил поднять спасительный флаг, и все ухватились за него. Необыкновенно быстро из простыни было вырезано полотнище флага, а из красного флага, припрятанного штурманом на всякий случай, были отрезаны полоски для красного креста.
Катер, идущий под белым флагом с красным крестом, во всех случаях будет подвержен меньшим опасностям. Так и было. С берега им не раз приходилось видеть отряды вооруженных крестьян, но никто из них и не думал стрелять. Флаг так подходил мирному, пузатому, деревянному катеришке. Какую и кому он может нанести опасность? На такой и пулю жалко тратить.
Так они дошли до Усть-Ишима, где шел настоящий бой. Буксирные и пассажирские пароходы, обложенные мешками с песком, стреляли по берегу. Маврикий видел собственными глазами, как снаряд ударил по колокольне, сделав большую пробоину в ее углу, после чего на колокольне замолчал пулемет. Зато на судах неумолкаемо заговорили пулеметы и скорострельные мелкокалиберные пушки. И вскоре пароходы стали подходить к высокому берегу.
Это первый бой, который видели Маврикий и Виктор.
Поднявшись выше Усть-Ишима, никем не задержанный и не окликнутый катер запасся сухими березовыми дровами и двинулся дальше.
Иртышская флотилия осталась позади. На катере не знали, что с барж на пароходы поступали тревожные вести о начавшейся эпидемии тифа.
Первой жертвой эпидемии на барже был отец протоиерей Калужников. Сразу же возник вопрос, где хоронить и как хоронить. Останавливаться, высаживаться на берег и предавать тело земле значило рисковать пассажирами. И без того с берегов грозили дубинами, вилами, а иногда пускали и свинцовую певунью.
Герасим Петрович, начальствуя на барже, объяснил положение дел и приказал прочитать над отцом протоиереем находящемуся на барже семинаристу нужные молитвы, а затем тело, завернутое в белые простыни и обвязанное бечевками, предать воде, как это делают на море.
Моряки, предавая умершего воде, обычно привязывали колосник, и тело сразу же исчезало в пучине моря, а отец протоиерей поплыл, покачиваясь на волнах, вниз по течению.
Не из приятных было провожание протоиерея в последний путь, но все же люди, жадные до зрелищ, стояли на корме баржи, обсуждая, доплывет ли отец протоиерей до Тобольска или станет чьей-нибудь пищей. Если да, то чьей именно.
Выяснявшие этот вопрос, в частности веселый тобольский рыбопромышленник и его молодая супруга, не знали, что и они тоже тем же путем и способом поплывут к родному городу, не достигнув его.
Королева тифозная вошь теперь была страшнее выстрелов с берега. С ней боролись, а она, сидя в густой купеческой бороде или в роскошных волосах красотки, таила в своем укусе опаснейшую из бед этого времени.
III
Давно позади приятный гостеприимный деревянный город Тара. Хороший, уютный, с широкими улицами, он будто создан богиней по имени Тишина.
Маврикий вывез из Тары листовку. Он подобрал ее, валявшуюся на улице. Листовка была озаглавлена:
«ИЗ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ ПО ПОВОДУ ПОБЕДЫ НАД КОЛЧАКОМ».
Листовку Толлин первый раз прочитал еще в Таре на улице. Ее невозможно было не прочитать. Потому что в ней, обращенной к крестьянам, говорилось и о Толлине. И Толлин, читая, будто слышал ленинский голос и видел его лицо, проступающее сквозь строки:
«Чтобы уничтожить Колчака и колчаковщину, чтобы не дать им подняться вновь, надо всем крестьянам без колебаний сделать выбор в пользу рабочего государства. Крестьян пугают (особенно меньшевики и «эсеры», все, даже «левые» из них) пугалом «диктатуры одной партии», партии большевиков-коммунистов.
На примере Колчака крестьяне научились не бояться пугала.
Либо диктатура (т. е. железная власть) помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса».
Эти слова, перечитываемые на катере, обращенные ко всем или ко многим, не имели прямого отношения к Маврикию, но далее говорилось Толлину и о Толлине. Далее говорилось о таких, как он. Будто Владимир Ильич заглянул в него и увидел построенное там идеальное «государство без государства», без диктатуры и принуждения. И об этом в листовке говорилось весьма определенно:
«Средины нет. О средине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире средины нет и быть не может».
«Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее), либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот — безнадежный идиот».
Легко ли Маврикию считать себя заслуживающим этого определения, да еще усиленного словом «безнадежный». Легко ли считать себя «пособником Колчака»? А в листовке Ленин прямо говорит: «Мечтатели о средине — пособники Колчака».
Какой же Маврикий пособник Колчака, если он ненавидит его и радуется гибели его армии, которая откровенно борется за восстановление царизма, а с ним за возвращение капиталистов и помещиков.
Оставаясь с листовкой один на один и перечитывая ее, Маврикий чувствовал, как в нем, внутри него постепенно расшатывались основы представлений и убеждений, основы всего того, что Валерий Всеволодович называл мировоззрением. И это мировоззрение не было придумано или построено искусственно, оно — как зрение, слух, обоняние. Не видит же он голубое зеленым, не путает же он шумы с мелодией, и не принимает же он дурные запахи за хорошие. Он жил в мире незыблемых истин. А теперь вдруг все заколебалось, самое святое в нем подвергалось сомнению, и он неожиданно для себя оказался в разряде идиотов.
Медленно проходили иртышские ступенчатые берега. Не замечал их Маврикий, механически поворачивая штурвал. Ему трудно было отказаться от самого себя, но еще труднее возразить листовке, с которой так недвусмысленно насмешливо смотрел Владимир Ильич. Он, конечно, недоволен Маврикием. Да и Маврикий недоволен собой. Сейчас ему так хотелось, чтобы тифозная вошь насмерть укусила Вахтерова. Он ненавидел всю его банду, но все равно для него невозможно согласиться с этим: «либо—либо», либо диктатура буржуазии, либо — пролетариата. Должно же что-то быть между полюсами, пусть не середина, но какое-то такое нечто, промежуточное.
У Маврикия очень уставала и тяжелела голова. Ему так хотелось быть правым. Хотя бы в чем-то.
Он спрятал листовку в маленький бумажничек вместе с метрической выписью на фамилию деда. Хватит. Время покажет. Скоро уже Омск — конец пути и, наверно, конец многому другому.
Так хотелось вымыться в бане… Вымыться до костей, до позвоночника.
IV
Последние версты пути шли на керосине. Не пропадать же ему. Подливали через медную трубочку и воронку в горящие дрова, и катер, густо дымя, заметно прибавлял ход.
Всесвятский попросил капитана пристать на часок к деревушке перед Омском. Он показал дом, в котором жил друг претендента на русский престол, министр двора его величества короля Георга Четвертого. Уйдя, претендент захватил с собой маленький чемодан, в котором находились ценности, деньги и документы, оставив большой чемодан, в котором не было ничего. Штурман и теперь верил, что покинувший катер вернется. Толлин и Гоголев могли бы объяснить, почему претендент не вернется, но для этого слишком много нужно было рассказывать.
Прождав часа три сбежавшего, Маврикий сказал:
— Наверно, министр ему предложил убежище в Англии, не пожелав сообщить об этом нам.
— Вернее всего, вернее всего, — таинственно произнес простоватенький штурман и дал полный в Омск.
В это время года, когда по реке в самые ближайшие дни должно поплыть сало, трудно продать катер. Но в верховьях Иртыша зима приходит позднее. Может быть, кто-то из беженцев захочет податься в далекие степные места или дальше по Иртышу до Китая.
В Омске кочегары получили расчет и оставили катер. Поселились на окраине города. В континентальном Омске зима наступает осенью. Вспоминая прошлую закамскую зиму, друзья начали свои покупки с полушубков.
Омерзительную картину представлял собою Омск на рубеже осени и зимы 1919 года. Вавилон. Колчак и его правительство словно вывернули все пороки бросаемых здесь верховным правителем, веривших в него и надеявшихся восстановить потерянное в Октябре 1917 года.
Здесь собралась буржуазия всех отраслей, родов и оттенков. И каждый хотел выжить. А выжить можно было, только проскочив по узенькой ниточке железной дороги на Восток, к океану. А как?
Хорошо у кого есть что дать. На бумажные колчаковские деньги и не смотрят. И если берут их, то на текущие, рыночные расходы.
Непрелов и Мерцаев проскочили. У них было что дать. Особенно у Непрелова. Он похоронил Музочку Шишигину и взял у нее остальное, зашитое для маскировки в плюшевого медвежонка, который был ей мил с детства. Простая, наивная, а вместе с тем неожиданная хитрость. Герасим Петрович распорол медвежонка. Не пропадать же золотым золотникам и сверкающим каратам. Его счастье. Такова судьба.
Черным чревом города был теперь рынок. Впрочем, не один. На всех улицах шла купля-продажа.
На барахолке города торговали всем. Положительно всем. Нелепость цен была невероятной. Один и тот же предмет можно было купить и за сто рублей и за десять. Продавали, перепродавали краденое, награбленное, брошенное и найденное или снятое с себя для очередного пития-забытья. Было множество дешевых вещей. Беженцы, распродаваясь, не вымогали цену. Задача Маврикия и Виктора состояла в том, чтобы купить теплые вещи по возможности дешевле и обязательно без вшей. Или уж с меньшей вероятностью их наличия.
На рынке Маврикий увидел человека, с которым так боялся встретиться. А тут Маврикий подошел к нему и сказал:
— Здравствуй, дядя Сидор!
Сидор Петрович, всмотревшись в лицо остановившего его племянника, обрадованно воскликнул:
— Ты?! Андреич!
— Я! А что ты тут делаешь?
— А я чего не надо сбываю… Ложки вот. Сапоги Герасины.
Маврикию очень хотелось спросить, как они, едучи на тихоходной барже, обогнали их катер. Спросить так было нельзя. Вопрос был задан короче и проще:
— Как вы здесь очутились?
— А когда холодать начало, мы бросили баржу с беженцами, на пароход переселились, чтобы в лед не вмерзнуть. Да и боялись, что своих в Омске не застанем. Да что же мы здесь об этом толкуем. Выйдем.
— Выйдем.
Вышли. Вместе с дядей и племянником пошел и Виктор. Было видно, что дядю бояться теперь нечего. Жалкий, несчастный, постаревший Сидор Петрович жаловался на брата, на младшего сына, на бога и на весь мир. О старшем сыне он упомянул вскользь и, кажется, был благодарен богу за то, что сын умер от тифа и уплыл вниз по реке. Младшего, Тишу, он, проклиная, называл перевертышем. Тиша ушел к красным в Усть-Ишиме. Ушел и сказал:
«Хватит!»
— Бросил меня и брат, преисподняя и неворотимая ему, — жаловался, всхлипывая, Сидор Петрович. — Он не схотел меня взять и сбег с бритым аптекарем. Я молил его Христом-богом, а он, Каин, сунул мне пачку этих дохлых денег, и только я его и видел.
Сколько мог, неродной племянник утешил неродного дядю и посоветовал ему осесть где-то под городом в деревне, а потом вернуться в Омутиху.
Эти слова привели в бешенство Сидора Петровича.
— И ты мне велишь вернуться к ним, красная бомба… Да я тебя живьем… — Задыхаясь, он бросился на Маврикия.
Виктор отстранил Сидора Петровича легким ударом и, раскланявшись с ним, увел Толлина.
V
Давно, кажется, еще на Туре, Виктор Гоголев пытался начинать какой-то очень важный разговор и каждый раз откладывал его, или боясь чего-то или считая несвоевременным. А сейчас, видимо, пришло время, и он сказал Толлину:
— Теперь, когда я решил окончательно и бесповоротно, как мне быть дальше, я хочу, спасаясь, спасти и тебя. Но прежде ты должен представить, что ждет тебя здесь. Омску быть белым осталось очень немного дней. Мы должны будем или скрываться, или признаться. То и другое опасно для нас. Поймав, скрывающегося расстреливают. Раскаяньям чаще всего не верят и всегда считают, что раскаявшийся признался в меньшем, чтобы скрыть большее. Ну, кто нам поверит. Мавр, что мы, горя самыми святыми чувствами любви к народу, к России, были обмануты шайкой Вахтерова. Я тоже, как и ты, никого не убил за свою жизнь, но Вахтерова я бы мог убить, зарубить и даже, мне кажется, удушить. Он сломал столько жизней и мою жизнь.
— И уж конечно — мою, — еле слышно прошептал Маврикий, озираючись: не слышит ли кто их здесь, в опустевшем парке.
— Положим, Мавр, если мы вернемся в Мильву, нас могут и простить, потому что вины за нами никакой нет, но мы навсегда останемся с изъянцем. Нам всегда предпочтут других, может быть и менее способных. Это так. Я понял это давно. Меня не приняли в Союз рабочей молодежи. Твой друг, Илья Киршбаум, сказал, что я буржуйский сынок. Сказал он потому, что у моего отца большой двухэтажный дом. И что мой отец барин, потому что он инженер. А инженеры были все господа. Но ведь я-то не господин и не барин. У меня нет и не будет дома. Я почувствовал себя большевиком, пришел в Союз молодежи. Это тогда. До мильвенского восстания. А что будет теперь? Я не хочу, Мавр, быть человеком второго сорта только потому, что я сын барина. Я не хочу, чтобы меня наказывали всю жизнь за то, что я однажды ошибся и сам исправил свою ошибку, исправил, когда другие углубляли свои заблуждения.
— И что же ты думаешь делать теперь?
— Здесь нам не жить. Мавр.
— А где же нам жить?
— Мало ли стран на земном шаре?
— А как же матери? Как же родные? — Он хотел сказать, «как же тетя Катя», но постеснялся быть сентиментальным.
Было видно, что Виктором продумано все и нет вопроса, на который у него не найдется ответа.
— Матерям будет трудно. И особенно трудно будет твоей тете Кате. Но легче ли будет им видеть нас несчастными?.. Я не говорю худшего. Легче ли им будет потерять нас?.. Или представим лучшее… Легче ли будет им видеть нас полусчастливыми?.. А если легче, если им легче будет видеть нас зажатыми, ущемленными, но при себе… Значит, они эгоисты, собственники, значит, они не стоят того, чтобы мы считались с ними. Ты видишь. Мавр, — сердечно и просто сказал Виктор, — у тебя нет и не может найтись и бесконечно малой доли логического возражения.
— А Мильва?
— Что Мильва? Какую она играет роль?
— Ты что? Как можно, Виктор, покинуть землю, на которой стоит Мильва! Понимаешь, Мильва!
— Ну, зачем же, Мавр, так драматически… Так возвышенно. В мире тысячи Мильв…
— Но у каждого — своя. И одна.
— Это верно, Мавр. Но можно ли жертвовать собой ради… Я тебя, впрочем, не уговариваю. Ты сам хозяин своей жизни. Только я тебя прошу подумать серьезно. Я ведь не просто так приглашаю тебя за компанию. Я хочу тебе самого хорошего… Потому что еще тогда, во втором классе церковной школы, когда ты рассказывал сказку про пьяного чижика и про заблудившуюся во множестве проводов телеграмму, я почувствовал, что ты очень хороший, очень, ну… ну, что ли, одаренный, хотя и очень разболтанный человек, и тебе нельзя погубить себя, ты не имеешь на это права… Я сказал все, что хотел. Все, что я был обязан тебе сказать. Думай и решай.
И Маврикий стал думать.
В парке было так холодно и так пустынно. Пустел и шумный Омск. Все это сгущало картины предстоящего одиночества. Положим, везде люди, но какие? Виктор-то свой человек, а остальные-то просто люди.
Бежать вовсе не так трудно. Даже совсем просто. Это верная жизнь. А оставаясь тут…
— Виктор, давай купим маленькую бутылку водки…
VI
Жизнь в Мильве с трудом, но восстанавливалась. Жили впроголодь, но каждый день приносил если не улучшения, то новые надежды на улучшение. Мятежная авантюра Вахтерова, месяцы колчаковщины вспоминались как страшное видение, которое никогда, ни при каких обстоятельствах не повторится в Мильве. Через страдания и унижения, по ножам и терниям вернулись многие мильвенцы к тому же, от чего ушли.
Завод не работал, но начинал работать. Небывалый энтузиазм рабочих, непрекращающиеся субботники восстанавливали и преображали цехи. Расширенный электрический цех позволил хотя и весьма ограниченно, но все же дать свет в дома рабочих. Это были первые ласточки, первые лампочки грядущей электрификации страны.
Фронты гражданской войны требовали снарядов и патронов. Заработал старый снарядный цех и новое патронное отделение. Неполную неделю, но все же начинал действовать цех, еще не получивший названия, в котором производились металлические изделия для скорого сбыта в самой Мильве. Завод управлялся тройкой, в которую вошли Артемий Гаврилович Кулемин, Григорий Савельевич Киршбаум и вернувшийся на завод отец Виктора — Петр Алексеевич Гоголев.
Если бы знал Виктор, кем назначен его отец, как отнеслись к его чистосердечному признанию заблуждений и к его обещанию отдать всего себя восстановлению родного завода… Инженер-универсал Гоголев, уважаемый в заводе человек, не скрыл в разговоре с Кулеминым о своем былом намерении покинуть родину и бежать за границу.
— И когда оставалось сказать «да», я понял, как это невозможно, дорогой Артемий Гаврилович, — признавался Гоголев. — Я не обеляю себя в том, что клюнул на эсеровскую наживку. Но разве мог я за это наказывать себя изгнанием, потерей родины? Ведь я же самостоятельно разглядел вахтеровский крючок и освободился от него.
Если бы эти слова слышал его сын Виктор, разве бы он тотчас же не выбил из себя им же придуманные страхи? Но что теперь говорить об этом, когда ломоть отрезан от своего каравая. Он простился с Маврикием на станции Татарская и в последний раз предупредил его: «Смотри не раскайся!» И Маврикий в последний раз, пытаясь удержать товарища, сказал:
— Как же ты будешь один, совсем один, ни языка, ни специальности?
Виктор не успел ответить. Поезд тронулся.
Маврикий, пугая товарища одиночеством, остался одинок сам. Не зная, что будет дальше, как повернется его жизнь, он решил никуда не трогаться из Татарска. Здесь он дождется Красной Армии. У него хорошая метрическая выпись на Маврикия Матвеевича Зашеина, рожденного на год позднее. Значит, теперь ему по метрикам не семнадцать лет, а только шестнадцать. Заботливая мать хотела уберечь сына и от мобилизации.
Бояться нечего. Лишь бы не встретить мильвенских знакомых. И самое страшное — встреча с Ильюшей Киршбаумом или с Санчиком. Он не найдет что сказать своим товарищам и не сумеет объяснить все, что с ним произошло, как он оказался в таком положении.
Он не хотел встречи с ними, а они все эти месяцы искали ее. И сейчас Ильюша Киршбаум, подходя к Татарску, не терял надежды увидеть Толлина. И Санчик думал о нем. Санчик Денисов был возвращен из армии по ранению и оставлен в Мильве, как не достигший призывного возраста. Он теперь ходил по дорогим, незабываемым тропинкам своего детства, вспоминая милые дни, живя в них ускоренной повторной жизнью, похожей чем-то на картины электротеатра «Прогресс».
Здесь на лужке стоял пароход. Его нет. Но стоит зажмуриться — и он тут. Улицы, которые видели столько за эти годы, кажется, все еще хранят следы босых ног его друзей. А здесь жила девочка Сонечка, которую в семь лет назвали Мавриковой невестой, и она, не перестав называться ею… Об этом лучше не вспоминать и не смотреть на восстановленную мемориальную доску на старом краснобаевском доме.
На плотине все еще чугунный медведь держит на своем горбу якорь, а на дне пруда, конечно, все еще лежит медная корона, сброшенная Мавриком, Ильюшей, Санчиком и Терентием Николаевичем.
Так мало прожил ты, Санчик, и уже столько воспоминаний.
А заделанная стена дома гимназии… спасительный взрыв… тоже становятся воспоминаниями.
Как быстро сегодняшнее оказывается вчерашним, насущное, животрепещущее уходит в историю. Но все равно без этой истории, без этого минувшего не понять завтра, порожденного в героическом тревожном вчера.
Невольно вспоминается Толлин и все, что было с ним. Как же так случилось, что Маврик оказался по ту сторону… Но разве ты виноват, Санчик, что твой товарищ не понял самого главного? Наверно, в этом повинны бабки, и сказки, религия, и любящая тетка, и добрые люди, подменившие в его сознании мир борьбы миром иллюзий, заставившие поверить, что доброе начало само по себе, бескровно, победит зло. Не вини себя, Санчик: мог ли ты и твой друг Илья Киршбаум сломать в Маврикии то, что формировалось с колыбели? Если Иван Макарович и сам Валерий Всеволодович не оберегли его от обмана и самообмана, то как могли вы, меньше видевшие и знающие, нежели они, переубедить его?
— Ты и не переживай, Санчик, — убеждала его Екатерина Матвеевна. — Уж если виноват кто по-настоящему, так это я. Но теперь бессмысленно казнить себя… Теперь я хочу только одного, хочу, чтобы он был жив… А я верю, я так хочу верить, что Маврушенька жив.
— И я тоже верю, — сказал, опуская голову, Санчик, видевший много таких «Мавриков», убитых, замерзших, сваленных тифом. Он так боялся в ком-то из них узнать товарища своего детства. И то, что это были другие, обманутые насмерть мальчики, позволяло еще надеяться и верить, хотя…
Хотя, если бы Екатерина Матвеевна видела последствия колчаковщины, она бы не так громко произносила слово «верю».
VII
В уездном небольшом городе Татарске, находящемся на великом сибирском железнодорожном пути между Омском и Ново-Николаевском, впоследствии ставшим Новосибирском, Маврикий благополучно встретил Красную Армию, прилично вооруженную и не так уж плохо обмундированную за счет богатых трофеев заграничного происхождения.
На третий же день Маврикий зарегистрировался в ревкоме, предъявив метрики и сказав, что его отец удрал в неизвестном направлении и бросил его на произвол судьбы. Зарегистрированному беженцу в ревкоме выдали временное удостоверение личности.
Прибегая к фразе, от которой еще никому не удавалось избавиться, скажем — судьбе было угодно, чтобы Ильюша и Маврик разминулись на главной улице Татарска. Они шли навстречу друг другу. Один из ревкома, другой — в ревком. Оставалась едва ли минута до счастливого события в жизни Маврикия, как маленькая собачонка изменила все. Собачонка была так похожа на Маврикова Мальчика, от хвоста крючком до белых отметин на лбу и груди, что нельзя было не свернуть за ней в переулок. Ильюша в это время прошел по улице, и друзья не встретились.
Как обидно, что какая-то собачонка изменила направление человеческой жизни. Ведь Илья Киршбаум ни при каких обстоятельствах не дал бы больше ускользнуть, потеряться своему другу. Он, может быть, даже поднял бы тревогу, стреляя в воздух, если бы Маврикий не захотел понять и поверить, что ему ничто и нигде не угрожает.
Но зачем говорить об этом, коли собачка, похожая на Мальчика, оказалась сильнее судьбы. Зато в этот день произошла другая встреча на окраине города, у железной дороги.
Возле дороги шел в американских ботинках не по ноге, в продуваемой изжелта-зеленоватенькой французской шине-лишке, в ватном треушке человечек с посиневшим девичьим лицом. Толлин узнал его в ту же минуту. Теперь он не был страшен, как тогда, на развилке лесных дорог за Камой. И Маврикий хотел пройти мимо по другой стороне улицы. Но почему-то, не зная почему, какое-то недоброе чувство, напоминающее жестокость, поселившееся в нем, кажется, еще в Мильве, теперь заговорило довольно громко его голосом:
— Здравствуй, Сухариков! Ты, кажется, без карабина, и мне не надо бояться за… За свою теплую одежду.
Это говорил не Маврик, а кто-то другой, уперевший руки в боки, насмешливо уставившись на несчастного.
— Бог наказал меня за тебя и за все, — ответил еле слышно Сухариков.
— Поздно до него дошли молитвы обездоленных такими, как ты… Ну, да ладно. Лежачих не бьют. Не бойся! Я и пальцем не трону тебя. Коли выжил — живи.
А Сухариков, по глупости ли, по трусости ли, а может, притворяясь, трижды перекрестился синей коченеющей рукой и забормотал:
— Да спасет тебя Христос, пресвятая богородица… Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его, — вспомнил гимназическую молитву, которую нужно было прошептать трижды перед экзаменом или вызовом к доске.
Знакомые слова молитвы перекинули какой-то мостик от Сухарикова к Маврику, и чувство, похожее на жестокость, чуточку потеснилось и позволило принять участие в разговоре старожилке Мавриковой души — жалости.
— А полк-то твой где?
— Давно уже его нет… Одних убили, другие сдались.
— Так куда же ты?
— Сам не знаю.
— Так и замерзнуть можно.
— Я уж почти…
— Вот что, Сухариков… Я, пожалуй, скажу тебе, где большой выбор бесплатной зимней одежды. Иди туда, — Маврикий указал за линию железной дороги. — Там достаточно ее. Любых размеров. И убивать никого не надо. Они уже…
Эти последние слова сказала не жалость, а то новое недоброе чувство, которое уживалось со всеми остальными. И не только уживалось, но, как теперь казалось Маврикию, было необходимо ему, чтобы облегчить страдания, разлуку и неслыханное одиночество.
— А ты кто теперь, Маврик? — спросил робко Сухариков.
— Я кто? Я в штабе армии, — ответил Толлин, прикладывая руку в добротной варежке к виску, простился по-военному: — Имею честь.
Сухариков постоял в раздумье, постучал ботинком о ботинок, затем, убедившись, что никто не смотрит на него, воровато побежал за линию железной дороги. Ему очень хотелось остаться живым. Очень. И ему, столько повидавшему, теперь ничего не стоило раздеть мертвого, которому не нужна одежда, а для него теперь, для живого Сухарикова, одежда — это все.
Прикинув рост, ширину плечей, Сухариков принялся раздевать не узнанного им мильвенского палача Шитикова-Саламандру. И уж конечно Сухариков не мог узнать другого мертвеца, Павла Ивановича Саженцева, так счастливо ускользавшего из когтей смерти и нашедшего здесь бесславную гибель. Как-никак, а все же агент и следователь жандармского управления, подававший большие надежды, были связаны до самой смерти давними узами «рыцарей темноты».
Там же в стороне, на большом пепелище костра, находились останки Сидора Петровича Непрелова и набор металлических формочек для расфасовки сливочного масла с изображением тучной коровы и фамилией владельцев фермы.
Лишившись возможности пробираться дальше, Непрелов вместе с другими беженцами и дезертирами пошел греться к костру. В пламени, как всегда, появился Михаил Иванович Шадрин. Он манил к себе Сидора Петровича, протягивая к нему красные, огненные руки. Непрелов был уже не в себе. Еще в Омске после расставания с братом помутился его рассудок. И он, к удивлению греющихся у огромного костра, в котором горели старые шпалы, кинулся в пламя, угрожая кому-то обнаженным кинжалом.
С трудом раздевая Саламандру, Сухариков не замечал следов наведывавшихся сюда ночью волков, которые и теперь сидели, облизываясь по-собачьи, в березовом перелеске, дожидаясь, когда кончится короткий голодный зимний день и начнется долгая лакомая ночь.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПЕРВАЯ ГЛАВА
I
От города Татарска до Славгорода пролегает новая железная дорога, которая потом пойдет дальше, а теперь пока это ветка-тупик, и на этой ветке не встретишь и по злому произволу судьбы знакомого мильвенца. А места здесь хлебные, мясные, рыбные, масляные — богатые места. Только жаль, что нет в этих местах ни сосны, ни елочки. Равнина, равнина, бескрайняя снежная равнина, оживляемая кое-где березовыми перелесками, не больше старой непреловской пасеки в Омутихе.
Селения редки. Деревянных домов очень мало, все больше дерновые из пласта и саманные из больших глиносоломенных сырцовых кирпичей, а церквей и совсем не видно. Зато ветряных мельниц тут как нигде. Высокие, обшитые тесом, похожие на башни, и маленькие, как избушки яги-ягишны на курьих ножках. По пять, десять мельниц возле маленькой деревеньки. И не стоят, а машут крыльями. Значит, есть что молоть. Да и вообще видно, что хлеб здесь едят не оглядываясь.
Пожилой мужик в хорошем черном тулупе, ехавший в одной теплушке с Маврикием, спросил:
— Хошь?
— Хочу, — ответил Маврик и взял из рук незнакомого чернобородого крестьянина половину калача, отогретого на вагонной чугунной печке-«буржуйке».
Серовато-белый пшеничный калач был пышен, ароматен и свеж. Маврикий потом вдолге узнает секрет свежести этих калачей. Их можно сравнить только с теплыми французскими булками, которые когда-то продавались в гимназии. Маврикий с таким восторженным наслаждением ел калач маленькими кусочками, боясь, что съест все и исчезнет очарование. Заметив это, чернобородый мужик сказал:
— Да ты не робей, паря, за обе щеки ешь. Гляди, сколь их. Мы еще пару расталим на тепле. Не везти же мне их домой.
К калачу был придан кусок вареной баранины, которую тоже нужно было прежде «расталить на тепле», а потом есть. И тоже за обе щеки. Кусок был такой, что в Мильве им насытилась бы немалая семья.
Разговорившись с мужиком, который велел себя звать Кузьмой, Маврикий выяснил, что «в этих местах всего хватает, окромя счетных писарей».
Маврикий понял, о каких «счетных писарях» идет речь, и осторожно узнал, где именно нужда в таких писарях. Кузьма ответил:
— А хоть бы и у нас. — И тут же спросил: — А вы к этому не касательны?
— Почему же не касателен. Касателен. Зачем-то девять лет учили.
— Тогда, может, сторгуемся. Мешок пшеницы в месяц и два куля крупной рыбы, а если чебаком — то можно и четыре.
— А кто вы такой? — так же прямо спросил Маврик.
— А мы артельный башлык, то есть голова невода. Жить можно у меня. А не поглянется — в каком другом доме. Но при мне-то бы лучше. Спать — где пожелаешь. В рот глядеть не будем. Стирка, катка, глажка готовые. Старшая без дела сидит, и у младшей руки не отвалятся. Думай, парень. А ежели не по ндраву будет у нас, так разве кто тебя неволит. Мешок за плечи — и путь тебе дорога на все четыре стороны.
— Вы правы. Уйти я всегда могу… Попробую.
На станции Кузьму ожидала пара маленьких сибирских лошадок, запряженных гусем. У Кузьмы оказалось отчество Севастьянович. Так назвал его приехавший за ним парень с очень красивым лицом.
— Гость, — указал на Маврикия Кузьма Севастьянович. — Может, приживется. Поехали, ваша честь. До нас тут рукой подать, и двадцати верст не будет.
Маленькие лошадки помчали складненькую, уютную кошевку очень быстро. На бегу они стали еще ниже. Чуть ли не как волки. Невольно вспомнился пермский конек Арлекин.
— А дороги ли у вас лошади? — вдруг спросил Маврик.
— Да кто их знает. Мешков по пять, наверно, за таких возьмут. А если кормов мало, то и по четыре укупишь. Ты, видать, хозяйственный господин.
— Нет, я просто так, Кузьма Севастьянович.
— И обходительный, никак. Н-на тулуп. Я уж нагрелся. Мне и в одной шубе жарко.
II
Двадцать верст показались очень короткими. Может быть, потому, что по замерзшему бескрайнему озеру дорога была ровна и пряма.
— Вот и наш Щучий остров. Семь домов, девять бань, три молельни, — опять заговорил Кузьма. — Мы еще при царе кумынией жили, только без товарищев. И теперь кумынией живем. Невесту или случится жениха брать в дом — и то на обчем сходе обчества голосуем. Ей-пра. Вот увидишь, какие мы кумынистые.
Шутил или не шутил он, не разберешь. Но дом Кузьмы Севастьяновича и его семья понравились с первого взгляда. Маврикия не спросили ни о чем. Глава семьи не представил приезжего. Достаточно было того, что его привез хозяин дома. И жена Кузьмы — воплощение здоровья и приветливости, женщина лет под сорок, и дочери принялись раздевать Маврикия, обметать веничком снег с его валенок, приглашать в горницу, к печке-голландке, предлагать «стакашек горяченького чайкю, а ежели будет желательно, то и чево другова покрепше».
— Вот ваше сенаторство-губернаторство, — весело кивнул на дочерей Кузьма Севастьянович, — одна невеста, другая солдатская вдова. Любую сватай.
Дочери в очень длинных юбках, какие носят омутихинские девчонки, но сшитых, как и кофты, из хорошей материи, весело запрыгали.
— Тять, а как женишка звать?
— Звать его так, что и не выговоришь. Говорит, что крещен так, и в святцах будто бы его имя есть. Мавридей!
— Мое имя не Мавридей, а Маврикий!
— Значит, Мавруша, — сказала старшая. — На берегу тоже такое имя есть у попова сына.
— Вон как оно… Так бы и надо сразу, Мавруша. Тогда бы и опасаться нечего, что нехристь.
— Пойдем, Мавруша, руки мыть, — предложила младшая. — Я тебе чистый рукотертик принесу. Весь петушками вышит да уточками расшит. Пойдем.
Она подвела его к большой, тоже, как и все в этом доме, ухоженной лохани и сама стала лить ему на руки из медного луженного внутри ковша.
— Чище мой. Мыло хорошее. Духовитое. Слышь, как мятой отдает.
Было видно, что эти по внешнему виду старомодные девушки очень свободно чувствуют себя. Кузьма Севастьянович действительно не стеснял своих дочерей, которые очень любили его. Сейчас они были так благодарны ему за то, что, вернувшись из города, он привез им на этот раз хороший живой подарок. Не шаль, не ботинки со скрипом, не алое сукно на выездные шубейки и не расписные ларцы… Это все есть. Есть даже швейная машина, у которой ногами можно вертеть колесо и шить. Это все ничто. Мертвые дары. А это живой человек. Парень в доме. И кудри из кольца в кольцо, а лицо… Цесаревич Алексей, только постарше.
Кто мог знать, что здесь, в занесенной снегом равнине, он найдет дом, где все будут рады ему и ему покажется, будто когда-то жил в этом доме. Может быть, он жил в нем, читая какую-то книгу о старине.
Настенька, так звали четырнадцатилетнюю младшую дочь, после умывания принялась расчесывать гостя и, расчесав, сообщила матери:
— Настоящие. Не щипцовые. После прочеса еще пуще обратно свиваются.
Старшая дочь, Анфиса, — ей едва исполнилось девятнадцать — смотрела на тезку поповского сына, пугаясь его лица. Он походил не только на цесаревича со старой календарной стенки, но и на Ивана-царевича, который очень часто в девических снах так счастливо умыкал ее на сером волке. Он походил и на белого ангела, прилетавшего к ней в предутренней дремоте и обнимавшего ее, спящую, своими большими крыльями с такими ласковыми перьями и таким щекотным пухом. Он походил почти на всех блазнившихся, но не встретившихся и не походил ни на кого, был самим собой — царевичем наяву.
Маврикий тоже был немало поражен, глядя на безупречно выписанные лица дочерей Кузьмы Севастьяновича. Они — бровь в бровь, черта в черту, только одно лицо едва-едва зацветает, а второе неудержимо цветет. Слепит. Невозможно смотреть, а отвернуться еще невозможнее.
III
К ужину пришли четыре бородатых, похожих друг на друга мужика, отличающихся только цветом волос.
Помолившись на образа, поздоровались. Сели за стол. Кузьма начал так:
— Стало быть, в Татарск вернулась обнаковенная Советская власть. Какая и была. С кумынистами, комиссарами и еще с «чикой».
— А кто эта «чика»? — спросил сивобородый мужик.
— «Чика» — это милиция, но построже. Может и «чикнуть», ежели что. Но с умом. Не как те. Беляки и те «чику» не хают, а даже благодарят за милосердствие. Пленных в Татарске к стенке не ставят. Дают им оклематься, очухаться. И офицеров не колют, шомполами не дерут, не бьют. Ну, а карателей, сами понимаете… — Говоря так, он, вспомнив о чем-то распорядился: — Нашему спрятанному беглецу завтра прямо надо сказать, что иди, мол, на все четыре ветра. Трогать, мол, не трогаем, но отвечать не желаем.
Доложив о главном, Кузьма Севастьянович перешел на второстепенное: о деньгах, о торговле, о поклоне матушке Советской власти обозом возов на десять, на двенадцать, груженных чебаком и мелким окунем.
— И с флагом доставить на станцию. Кумача купил достаточно. Счетный писарь напишет, какие надо слова. Так ли я говорю?
— Напишу, — сказал Маврикий.
— А кому рыбу? — спросил самый смирный, с самой короткой бородой молчавший до этого рыбак. — Не просто же свалим ее начальнику станции?
— Зачем просто? Вагон потребуем. А на вагоне флаг. А на флаге: город Москва, товарищу Ленину от красных сибирских рыбаков.
Всем это очень понравилось. Решили выпить по стаканчику за башлыка.
— Умственный ты у нас, Кузьма, — сказал самый старый. — Не кому-то и не куда-то, а ему самому. Пущай знает, что мы не с пустыми руками красных встречаем. Пожалуй, и больше можно чебака дать. Ежели вагон брать, так надо его засыпать под крышу.
— Можно и под крышу. А сверху щук да больших окуней понакидать.
— А не разворуют, паря, железнодорожники, язь их переязь…
— А это не наша печаль. Квиток с печаткой получен. Пуды прописаны. Кому и куда, в публикате сказано — и конец.
Переговорить за один вечер всего не удалось. Но все же выяснили, что какая она ни на есть Советская власть, лучше ее пока ничего придумать нельзя. Пущай властвуют. Главное, свои, а не пришлые из-за морей. И золото не выпустили. Тоже молодцы-храбрецы. Не дали Колчаку золотую казну на Дальний Восток угнать. Без золотишка-то худо бы Ленину пришлось. А теперь что хочешь, то и купит. А колчаковских долгов платить не будет. Пущай сам платит, если будет чем.
Когда время пришло ложиться спать, хозяйка Алексеевна ласково сказала Маврикию:
— Ты, девичий сон, бабья бессонница, в светлом прирубе у нас будешь жить. Там я тебе лебяжью перину взбила. Только нонича здесь в закутке ночуй. Сам знаешь, тиф по вагонам, по станциям мелкой козявкой ползает. Кузьму тоже в горнице спать не кладу. Тоже пущай завтра в бане выпарится, выжарится, а потом милости просим куда хошь. Не серчай уж…
— Да что вы, Степанида Алексеевна, мне без того стыдно, что вы меня… Как будто я заслужил это все…
— Заслужишь. Мой Кузьма цену хорошей рыбе знает, — бросила мимоходом Степанида Алексеевна. — И ты знай себе цену. Услужливых любят, да губят. Податливых уважают, да под себя подминают. Спи давай… А ежли на полный месяц глянуть вздумаешь, так иди, я тебе покажу ходы-выходы, закрышки-запоры… Да не рдей ты, не рдей до ушей. Житейское же это все. А я тебе в матери гожусь, а в тещи-то — уж вовсе… Пошли…
IV
Утром Анфиса разбудила счетного писаря и таким же, как у матери, переливчатым голосом сказала:
— Что это, правочки, творится-делается. Солнце-то уж месяц гасит, зоренька-заря снег красит, — явно повторяла она слышанные от бабки или от матери слова, — а он спит себе во всю головушку… Кого ты, Маврушок, боишься там во сне потерять? Никуда она не денется. Завтра опять приснится.
Маврикий проснулся. Он так был рад, что увидел те же стены и ту же занавеску. Значит, все, что было вчера, было не во сне.
— Я сейчас, Фиса… Я раз-два, по-солдатски.
И верно, Фисе ждать не пришлось. Он тут же вышел из закутка.
— Здравствуй, — сказал он и протянул руку.
— Да ты что, — прикрикнула ласково-ласково и притопнула весело-развесело Фиса, — как я тебе непропаренному, непрожаренному могу руку подать. Оболокайся давай, пока в бане каменка не остыла. Мать отца после дороги уж изобиходила, теперь я тебя, гостенек, изобихаживать поведу. Зря, что ли, чуть не два беремя хороших березовых дров истопила.
Щебеча так, будто наставляя, как младшего брата, Фиса повела его по снежной тропе в конец огорода, где виднелась маленькая банька без трубы. Маврикий видал черные бани за Камой, но не мылся в них. У этой бани не как у закамских — был предбанник, но не было ни одного окна. И он удивился этому вслух, переступив порог.
— А зачем в бане окошки? Не чай пить ведь тут и не красоваться, — так же наставительно, с еле слышимой смешинкой говорила Фиса. — Мурейка прорублена в стене — и хватит, чтобы себя с другим человеком не перепутать, чужую спину вместо своей не выпарить. Да не стой ты, не выстужай жар. Давай я развешу твой тиф над каменкой. И ахнуть не успеет, как дух из него вон. Да раздевайся же ты, из-за угла мешком пуганный… Так уж и быть, я мурейку тряпицей заткну.
В бане стало совсем темно. Маврикий разделся и стал на ощупь развешивать снятое над каменкой. Фиса вернулась из предбанника и сказала как бы между прочим:
— Пожалуй, и я тем же паром выпарюсь. Полок у нас большой. Пятерым бывало не тесно.
Как-то не сразу нашел Маврик необходимые слова, а найдя, не сказал их. Наверно, так полагается. В Дымовке тоже моются в банях семьями. И в этом никто ничего не видит зазорного.
— Присядь, — попросила Фиса, — я наподдам.
Было слышно, как она плеснула на каменку. Шипящий кисловатый квасной пар спустился и на пол.
— Не холодно ли тебе, красна девица, — заговорила она голосом матери, — а то поддам еще ковш.
— Жарко мне, Фиса.
— Это хорошо. Терпи; Вот веник. — Она подала веник точно в его руку, будто видя в темноте.
— А я не парюсь, Анфиса. Я не привык. Я мылом моюсь…
— А ты не знаешь, что бывает тому, кто в чужой скит со своей молитвой приходит. Давай тогда я…
Маврикий почувствовал, как тонкая, горячая рука взяла его за плечо и как веник, сладко пахнущий березовой сладостью троицыного дня, коснулся его спины нежными, шелковыми листьями, и голос, тоже пошелковевший от пара, спросил:
— Не жарко ли тебе, царевич?
— Нет, царевна, мне очень хорошо… Я никогда не был таким чистым-чистым, как сегодня в этой черной и темной бане.
— Тогда перекрутись, я тебя с той стороны веником обмахну.
Тонкая, сильная и, кажется, властная рука повернула Маврикия, и веник снова принялся ласкать его. Такого за всю свою жизнь он не испытывал. У него стала кружиться голова. Наверно, в бане даже на нижней ступени полка было жарко и чадно.
V
Письмо, брошенное в ящик почтового вагона, проходящего через Татарск, дошло. Счастливая Екатерина Матвеевна, раздумывая над письмом с вагонным штемпелем, решила, что Маврик, осев где-то с матерью, находится в полнейшей безопасности. Она, зная своего племянника лучше всех остальных и лучше, чем знал он себя, была уверена, что не пройдет и месяца, как он появится в Мильве. Его светлой головке будет ясно, как нелепо напридуманное его мнительностью.
Екатерина Матвеевна была очень довольна, когда ее предположения оправдались. Она получила из Тюмени телеграмму: «Возвращаемся домой. Люба». Однако радость вскоре сменилась испугом и настоящей ссорой с сестрой.
— Как могла ты, бессовестная из бессовестных, отпустить на произвол судьбы своего единственного сына и не удержать его в Тобольске?!
А Любовь Матвеевна тайно надеялась, что сын вернулся в Мильву под крылышко к тетке. Не зря же он написал ей в Тобольск: «…не беспокойся, милая мамочка, за меня, наверно, скоро приду в себя…»
Показывая сестре письмо, Любовь Матвеевна опасалась за сына ничуть не менее сестры.
А сын переживал счастливые дни начала самостоятельной жизни. Он скоро вошел в курс дела и стал нужным, уважаемым и незаменимым по честности счетным писарем артели. С него требовалось немного. Правильно записать приход и расход рыбы. Это не трудно. Труднее было вычислить, кому сколько положено, кем и что взято. Но и это усвоил «тороватый грамотей», как называл его Кузьма. Улов делился по паям. Пай был как бы единицей измерения. И каждому были положены свои паи. Бабе, например, пришлой с берега, полагался полный пай. А девахе на возрасте или парню-подростку половина пая. Ну, а мужику-рыбаку, который может вьюху вертеть, невод тянуть, рыбу из мотни вычерпывать, — два пая. Ну, а если рыбак может на полный мах лунки во льду бить и подо льдом норило вилкой гонять — тому еще полпая. Рыбакам-большакам, каких в артели шестеро, по четыре пая, потому что каждый из них может быть башлыком и уж конечно — заменять его. Башлык же, старшой над старшими, голова артели, получал шесть паев. Дело не трудное, пересчитал, кто в этот день ловил, подбил улов, — и бери на карандаш, узнавай, сколько на пай, а потом начисляй и записывай на счет каждого. Правда, в этом распределении паев есть еще одно деление. Улов распределялся по паям не полностью, а лишь половина улова. Другая половина шла тем, кому принадлежали неводы, вьюхи, поплавки-грузила, и эта половина им шла и в те дни, когда они не выходили на улов.
— Снасть-то дерется, ломается на морозе, старится, — объяснял Кузьма Севастьянович своему счетному писарю, чтобы ему не втемяшилось в голову, как другим, что будто Кузьма и его совладельцы снаряжения для лова обижают простых артельщиков, у которых в артели, кроме рук, ничего.
Счетный писарь пока не задумывался над этим, стараясь со скрупулезной точностью разделить улов, не обидев никого из береговых, не в пример своему предшественнику.
Тот тайно брал со всех и каждого «дивиденд» и все равно занимался обсчетом. И береговые рыбаки с первых же дней оценили нового писарька и от широты души поднесли ему за честность хорошей, сарапуловской выделки, черной дубки тулупчик с серебристым воротником. Маврикий, вспыхнув, отказался от подношения и пожаловался башлыку. А он, удивляясь честности Маврикия, сказал:
— Это, ваша строптивость, не взятка, а подношение от мира, и побрезговать душевным подношением — значит обидеть труждающегося человека. И я тебе за твою прямоту тоже стоящим подношением поклониться хочу. Седлом. «Каргызским», не обновленным… Видел, как ты разглядывал его. Твое оно. Стоишь. — Говоря так, Кузьма, кажется, радовался и сам, делая такой подарок. — Было бы седло, а конь найдется.
Стяжая уважение рыбаков с берега, счетный писарь подымался и в глазах Кузьмы и остальных, живших на острове. Им, получавшим львиную долю, важно было, чтобы положенное рыбакам отдавалось полностью, без обсчета и лучше даже с присчетом в их пользу. Небольшим, но присчетом, потому что присчет, как и поход на весах в пользу покупателя, приносит на полушку убыток и на сотни рублей приваживает потом доходы от покупателей.
VI
Не всегда выдавалось время подумать о тетке, о матери. Надо же было, к примеру, посмотреть, как гонят подо льдом бревно-норило и как оно тянет за собой веревку от невода, опущенного таким же манером под лед. И длина этому неводу до пятисот саженей. Загоняют под лед и верстовые невода.
Такой невод никаким рукам не под силу. Вьюхой-воротом выбирали его, потея и в сильный мороз. Недешево стоит рыболовецкое снаряжение, зато и уловы случались такие, что и два десятка баб не управляются за день раскидать по сортам рыбу в кучи. Так она и ночует на льду под брезентами, под рогожами, а чебачья и другая мелочь и без укрытия хороша. Мало в ней цены. А кому надо, так и со снегом купит. Дома разберет и продаст в развес-развоз бедноте-голытьбе в новосельские деревни. Там и чебака за милую душу съедят.
А Маврикий любил эту маленькую родную рыбку. И Фиса, зная это, так ухитрялась готовить ему чебаков, что и мать — мастерица варить, жарить, парить, вялить, коптить рыбу — и та дивилась, пробуя дочериных чебаков.
— На чем ты только их жаришь, Фиска?
— Сказала бы я тебе, коль бы ты мне подружкой была.
— А разве я у тебя не самая первая подруженька? Разве у меня от тебя было что спрятано?
— Так и я не таюсь! Только зачем про то говорить, что и так на виду, моя маманечка.
Анфиса припадет к матери, называет ее всеми самыми дорогими словами и благодарит не только за жизнь, которую она дала ей, но и за то счастье, которым она теперь живет.
— Если б не ты, маманечка, так разве бы я могла в меду купаться, в райском саду млеть, в стужу таять…
Мать гладила по складно выгнутой спине свою первенку, любо видеть в ней себя этой жаркой поры, и радовалась она вместе с дочерью, ни слова не говоря, о чем идет речь, утверждая правоту ее райского сада.
Чебаки горели на сковороде. И пусть себе… До них ли ей, когда сама мать не винит ее. Да и виновата ли она, когда два месяца тому назад видела во сне своего Прошку сраженным в бою, а потом, на другую ночь, — похороненным. Не просто же так снятся сны. Кто-то их посылает людям. И потом, столько прошло. Все уж, кто в живых остался, пришли домой. Не зарываться ей вместе с ним… Ей же всего ничего — двадцатый год…
— Фисулька, от чебаков-то глянь, что осталось…
— И пущай их, маманечка… Я ему сливок мороженых сегодня наскоблю… Уж так-то он их с блинами ест и свою тетечку Катечку вспоминает. Я молюсь теперь и за него и за ее здравие, — делится дочь самым сокровенным со своей матерью и неожиданно меняет направление разговора: — К поповнам мне, маманя, в село съездить. Фасон с ихних юбок срисовать… А то уж больно я, маманечка, долгополая. Неужто мои ноги хуже поповниных? За что их по щиколотки прятать надо?
От чебаков не остается и следа. Догорает масло на сковороде. Мать, пораздумав, обещает дочери поговорить с отцом.
— И так береговые на островных косятся. А тут еще бабкину старую веру блюдут. Укоротим. Завтра же укоротим. Со своей юбки начну, тогда Кузьма и не пикнет.
Звонко смеялись мать и дочь. Их смех доносится до дальней горницы, где сидит за книжкой младшая, Настенька. Досадно ей, что не таким оказался кудрявый подарок отца. Она думала, у нее будет, как тогда, свой казачок-служка-прислужка, ан нет.
Тогда отец привез из степи от Шарыпа хорошего «каргызенка». Мытого. Стриженого. Маканного в купели сироту, Ивашкой нареченного. Так этот Ивашка полностью Настин был. Как хвост за ней. Велишь плясать — пляшет. Велишь петь — поет. Куда надо сбегать, что принести — как пуля. А этот и причесываться теперь не дается. Неужто его присушила Фиска — обгулённая овца? Да разве ей пара такой молоденький баранчик? Он и Насте-то только-только в самый раз. И для нее ему надо бы на годок постарше быть.
Обидно Настеньке, если в самом деле старшая сестра перехватила писарька. Ну, ничего-ничего. Придет случай — ослепнет. Есть уже чем слепить, когда ей пятнадцатый идет.
Настя смотрелась в большое настенное зеркало, изгибала длинную белую шею, и в зеркале охорашивалась молоденькая белая лебедушка.
Не уйдешь, золотой селезень. Не разглядел ты еще Настеньки… А как разглядишь ее и… И обескрылеешь на всю жизнь.
VII
Самые длинные декабрьские ночи укоротились святками. От двадцать пятого декабря — начала рождественских праздников — и до шестого января — крещения господня — две недели длятся зимние праздники. Праздновали кто как умел.
Смолокуровы не оставляли и дня пустым. То гости, то сами в гости. То столы для пожилых, то пляска для молодых, то сумерничанья с гаданьями, с колдовством, с приводом слепой сказительницы страшных былей, озорных небылей. А Новый год? Как можно не встретить его в кругу своих и не отведать тридцать три кушанья, пока он через снега не пройдет из города Читы через Ново-Николаевск и далее мимо Татарска. И как можно не испить хорошего, чистого первача, привезенного издалека толковыми винокурами. В стопке горит, в брюхе гаснет.
Рождественская елка не принята в степной деревне. А у попа отца Георгия елка каждый год. Правда, елкой здесь бывает береза, ветви которой обматываются ватой. Какая разница. Гуще навесь всякой всячины да разных разностей, и такая красота получается, что и не видать, какое дерево украшено.
Когда Маврикий вспомнил о своих елках — немедленно погнали лошадь в урман. За Татарск.
— Зачем нам березовые елки, — сказал Кузьма Смолокуров, — когда мы можем еловую ель изукрасить.
Настя, да и Анфиса прыгали до потолка.
Не хотелось задумываться деловому счетному писарю о том, как будет дальше. Живут же люди на Щучьем острове, и счастье не минует их. Почему же через три года, когда ему исполнится двадцать, когда у него будет все необходимое и, может быть, свой дом, почему ему не объявить тогда Фису своей женой? Лучше ее невозможно не только встретить, но и придумать в каком-нибудь стихотворном романе. В сказках нет фей волшебное ее. Нет и добрее ее. И он не верит, не знает и не хочет знать, что у нее был какой-то Проша. Как он мог быть, коли в ней не осталось и следа. Значит, его не было, хотя он и был.
Маврикий искал оправдания Фисе. Он всячески хотел смягчить то, что было. И смягчал. Находил множество доводов. Ветер, например, тоже целовал ее. И вода касалась ее, ну так что? Нельзя же сердиться на ветер, на воду или, того смешнее, на рубашку, которую она надевала. Стыдно даже думать об этом.
В эти дни чаще выдаются часы, когда Фиса и он остаются совершенно одни. Сегодня отец, мать и Настенька ушли к старшему из братьев Смолокуровых. Маврикию нужно было посидеть с подсчетами, а дом как-никак нельзя бросить на чужого человека. И Фиса осталась.
Больше всего Маврикий любил говорить ей о своей любви. Он делал это уже много раз, но, кажется, никогда не повторялся. Фиса удивлялась, откуда в нем столько слов. Вот и сегодня, обняв ее, он улетает с ней в жаркую страну, где не опадают листья деревьев и всегда что-нибудь да цветет. И цветы так прекрасны, что на свете еще не родилось такого сказочника, который мог бы пересказать их красоту.
— Но если бы, Фиса, и был такой… И если бы он один только раз увидел тебя, для него бы увяли все цветы земли.
— Нет, мой царевич, нет, я лесная поганка-обманка, сонная трава, болотная осока, и я так боюсь, моя лялечка, что ты очнешься-проснешься-разбудишься и расколдуешься, — шептала она Маврикию, заливаясь слезами.
Маврикию очень хотелось сказать ей, как нелепа ее боязнь, как невозможна его разлука с нею, как свято для него все, что составляет ее… И на язык уже пришли очень хорошие слова, но ему хотелось слушать и ее. У нее тоже были, наверно, наследственные, какие-то совсем другие, незнакомые дорогие кондовые переливы слов и узоры из них.
Невозможно было представить, чтобы в Лере и даже в Сонечке было столько света. Фиса излучала его всем своим существом. Она хотя и боялась его «пробуждения» и «расколдовывания», все же знала, что сейчас, в этот вечер, он молится на нее, была щедра на ласки, не жалея своих чар, не стыдясь первородности любви, которую познавала только теперь, любя его. И каждый взгляд, поворот головы, изгиб стана, движение рук были для него, и только для него.
Анфиса давно знала силу своей пляски, сводившей с ума и молодых и пожилых, засылавших к ней сватов на остров. И сегодня, в укороченной матерью юбке, в тонких, выменянных на рыбу чулках и в узконосеньких башмачках, она принялась выводить плясовой зачин так, что, кажется, заговорила стоявшая на полке, молчащая гармонь Кузьмы Севастьяновича, и запел чей-то голос:
Звезды сгасли, меркнет солнце, Только ты мой свет в оконце.Фисе немало перешло от матери. Мать работала когда-то на острове поденщицей и как-то проплясала «Подгорную» при молодом тогда еще Кузьме Смолокурове, помолвленном на дочери бакалейщика. Смолокуров едва не сошел с ума. Не потребовалось и второго танца, как свадьба-«самокрутка» назвала поденщицу-бесприданницу Стешку Степанидой Алексеевной Смолокуровой. Она тогда была в тех же годах, что теперь дочь.
«Из всех огней самый жаркий плясовой огонь», — любила повторять мать дочери. И дочь, горя теперь этим огнем, опять благодарила мать, что та наградила ее умением гореть и зажигать других.
За окном трещал трескучий сорокапятиградусный мороз. Вокруг озябшего месяца два кольца и проступает третье. А здесь, в Фисиной, хорошо натопленной горнице, жаркая страна, буйная трава, пахучие цветы, и все оттого, что Фиса так любит его. И он, уплывая куда-то по тихим и теплым волнам, так хотел крикнуть:
— Тетечка Катечка, ты не можешь не полюбить ее.
Маврикий купался в им же придуманной сказке. Это умение придумывать себе счастье и верить в него и на этот раз скрашивало одиночество и позволяло видеть светлой непроглядную тьму.
ВТОРАЯ ГЛАВА
I
После разгрома Колчака и Деникина наступило хотя и зыбкое, но все же мирное время. Появилась возможность силы и средства, ранее пожиравшиеся фронтами, перебросить на восстановление разрушенного хозяйства, и в первую очередь транспорта.
Григорий Савельевич Киршбаум, оставаясь в тройке по управлению Мильвенским государственным заводом, взял на себя труднейшую для того времени обязанность, сокращенно называемую заготсбыт. Это значило заготовлять то, чего почти не было: металл и топливо. Это значило также сбывать то, в чем теперь нуждались многие, но платить могли они только стремительно падающими деньгами, исчисляющимися теперь не рублями, не сотнями рублей и не тысячами, а миллионами. Миллионы рублей стоили сапоги, рубашка, брусок мыла… Поэтому коммерческому директору завода Киршбауму приходилось выискивать тысячи способов, чтобы, не нарушая государственные законы, продавать изделия и покупать металл — главное сырье завода.
Любой завод или паровозное депо нуждались буквально во всем, а безработная на три четверти рабочих Мильва готова была предложить любые, никогда не производившиеся на заводе изделия. Котлы для паровозов — пожалуйста. Костыли для железнодорожных путей—сделайте одолжение.
Мы вам на сто тысяч в довоенных ценах изделий, а вы на эту же сумму нам подсоберете и доставите металла. Вам хорошо, и нам неплохо.
Операции подобного рода позволяли хоть как-то дышать многим заводам, но не изменяли положения рабочих, получавших ничего не стоящие денежные знаки и очень скудные пайки. Неутомимый Григорий Савельевич, со времен подполья считавший, что не может быть положения, из которого нельзя найти выхода, добился разрешения на организованную заготовку зерна и мяса с оплатой за таковые изделиями, необходимыми для деревни.
Активу завода Киршбаум докладывал так:
— Завод не раз пробовал помогать деревне нашей губернии. И всегда это ни к чему не приводило, потому что деревне были нужны только лемехи для сох да зубья для деревянных борон. И зубья и лемехи требовали много металла, а стоили сущие гроши. Производство серпов и кос нам наладить не удалось, да и зачем отбивать хлеб у заводов, наторевших на этих изделиях.
Тут Киршбаум показал несколько незнакомых небольших металлических изделий.
— Вот в этой штукенции нет и фунта металла, а платят за нее пуд зерна. А вот эта шестереночка, отлитая из второсортного металла, весит два фунта, а стоит пять пудов первосортного зерна.
Слушающие зашумели, перебивая друг друга:
— Где это?
— Не может быть!
— В себе ли ты, Григорий Савельевич?
— Да мы этой ерунды несчетно можем дать. И за полцены. Зачем пять пудов, когда и два достаточно.
— И я так же думаю, дорогие товарищи. Государственный завод не может стать заводом-спекулянтом, но будет непростительным, если мы откажемся извлечь законные выгоды и этим не только не улучшим наш хлебный паек, но и не поможем урожаю этого года.
Заинтересовав слушателей, Киршбаум прочитал письмо из Сибири, подписанное «Некто из Мильвы». Этот неизвестный рассказывал, какую нужду в сущих мелочах испытывают земледельцы плодородных сибирских степей.
«Здесь, — писал он, — не как у нас. Здесь давно уже не жнут серпом и не косят косой. Косилка, жнейка и даже сноповязалки, не говоря уж о конных механических граблях, работают в поле. Эти машины доставлялись сюда из Америки, так же как зингерские машины. Оттуда же привозились в Сибирь и запасные части, а теперь их нет, потому что нет торговли с Америкой. И если в машине сломалась даже простенькая шестеренка, машина перестает работать. Заводов здесь нет. И чтобы сделать очень простую шестерню, которую у нас в Мильве может отформовать и отлить литейщик-подросток, здешнему кузнецу требуется много дней, чтобы отковать, а потом выпилить ее вручную».
— «Некто из Мильвы», — рассказывал далее Григорий Савельевич, — приложил листы с рисунками самых нужных запасных частей, вырезанными им из американских каталогов. Вот они.
Киршбаум разложил на столе рисунки, чтобы показать, как несложны в производстве эти запасные части и как мало требуют они металла.
— Конечно, — опять заговорил он, — было бы наивно с моей стороны занимать ваше внимание этим письмом. Но было бы непростительно не обратить на него внимания. И, пораздумав, я решил командировать в Сибирь двух толковых молодых техников, и вот результат.
Побывавшие в Сибири молодые люди принялись раскладывать образцы запасных частей для сельскохозяйственных машин и сказали, что из них нет ни одной, которая бы потребовала какого-то особого оборудования и специальных мастеров.
Актив похвалил своего коммерческого директора и порекомендовал не откладывая приступить к изготовлению для Сибири запасных частей силами безработных рабочих.
Представитель городского комитета РКСМ заявил, что комсомольцы обязательно поддержат это хорошее дело, а потом, подойдя к Киршбауму, попросил его показать письмо.
Письмо было напечатано на машинке с описками и огрехами. Слова уходили за пределы листа, расстояние между строк было разное. То вплотную строка к строке, то с большим пробелом между ними. Было видно, что письмо было написано человеком, не умеющим печатать на машинке.
— Я знаю, кто написал это, Григорий Савельевич. Я услышал его «по голосу», а теперь узнаю по торопливому печатанию. Это Маврик Толлин.
Предположенное Сашей Денисовым было сущей правдой. Безгранично любя свой завод, думая о нем, Толлин раздобывал уральские газеты, да и в центральных писалось о Мильвенском заводе. Из газет он узнал и о коммерческом директоре завода. Но до того как им было написано это письмо в Мильвенский завод, в его жизни произошли потрясения, о которых нам нужно знать. А для этого мы должны вернуться из средины апреля, когда было получено Киршбаумом письмо, в середину февраля, когда лопнула очередная сказка Толлина, в которой он жил.
II
Степанида Алексеевна, не допускавшая ранее, что городской писаный красавчик может полюбить любленую Анфису и жениться на ней, теперь дважды в день на утренней и вечерней молитве благодарила пресвятых угодников за счастье, ниспосланное Анфисе.
Анфиса и ее царевич не очень прятались от родителей. Сам хотя и делал вид, что не замечал ничего, но знал все и не осуждал такую любимую и такую ласковую дочь. Если даже и не бывать ей за ним замужем, то пусть хотя бы не упустит это скоротечное счастье.
Умея находить тайные лазы в человеческие души. Смолокуров делал все, чтобы привязать кудрявого писарька, не давая, однако, подумать, что будто он заинтересован в нем и дорожит им.
Чернобородый хитрец сказал как-то:
— Не изволит ли ваше богачество, товарищ Зашеин, глянуть на рыженького Огонька-«виноходца». Ах и конек, ну прямо как Горбунок, только пряменький. Чистый паровоз, только маленький. Ушами прядет, глазами ведет, копытцами трепака выколачивает. Конный заводчик пять мешков просил, на четырех сторговались. Ежли в случае чего не поглянется, Фисульке отдам для забавы конька Огонька.
Нетерпение Маврика было так велико, что ему хотелось выбежать в крытый смолокуровский двор, не дослушав паточные слова Кузьмы Севастьяновича. Накинув Фисину шубейку, он ринулся за двери. И обомлел. Тут же, у самого крыльца, стоял огненно-рыжий маленький конь.
Можно перевидеть в тысячах снов табуны коней, но едва ли можно увидеть такого. Добрые глаза. Шелковые губы. Длинные ресницы. Маленькие копытца. Челочка на лбу подстрижена по линеечке. Муаровая шерсть. Грива ежиком, ершиком, щеточкой, даже слова не подберешь. А хвост чуть не до пят коню. А голос, голос… Он будто искал и нашел наконец-то хозяина… Заржал тоненько-тонко, совсем по-жеребячьи… Заржал и нетерпеливо зашевелил ушами, покосился на Маврика и, давшись погладить, затанцевал на месте.
— Ущипните меня, Кузьма Севастьянович! Если я не во сне, то мою заработанную пшеницу можете считать своей. Я даже не знаю, как… И наверно, никогда не сумею отблагодарить вас за Огонька.
— Да будя, право, паря, будя разговоры разговаривать. Коли глянется, — значит, твой.
Тут, как положено. Смолокуров отвязал коня, взял повод в полу шубы и из полы в полу передал повод Маврику. Как по писаному, Фиса вынесла седло, хранившееся в прирубе под кроватью, с ним и войлок-потник, отороченный зубчатым красным сукном, под цвет подкладки ремней узды на переносице и нарядных открылков у глаз.
— Да ты что, — остановил Анфису отец, — никак и подпруги хочешь затянуть у его седла. Так ведь и присушить парня недолго.
— Ничего, ничего, — весело и нервно проговорил счастливый хозяин коня. — Я уж давно присушенный ко всей вашей семье.
Легко вделась нога в стремя. Еще легче селось на невысокого конька. И уж совсем легко было сидеть в седле на резвом иноходце.
Сначала круг по острову, потом по льду на берег и в село мимо поповского дома — надо же показаться завистливым и хвастливым поповнам, каков конь и каков он в шубейке своей возлюбленной.
Конек Огонек так хорошо входил в его сказку, где будут жить Фиса, Маврикий и конь — начало хозяйства, двора. Каким будет этот двор и это хозяйство, пока еще вырисовывалось довольно смутно, во всяком случае, он сам доучит свою Фису хотя бы до пятого класса гимназии и доучится сам на учителя. Его и сейчас зовут. И он пробует учить грамоте рыбачьих детей, и получается, нужно сказать, неплохо.
Почему он должен стать инженером и жить в Мильве или в Мотовилихе, а не здесь, в богатом краю, где он так нужен всем? От малых и до старых.
Хорошо замышлялась сказка, да плохо кончилась. Пришло письмо от человека, которого считали мертвым, а он оказался живым.
III
Прочитав письмо первой, Анфиса зарыдала на груди у матери:
— Мамонька-маманя, за что я такая несчастная? Ожил он, постылый.
— Кто?
— Прошка!
— Это как же так, — заволновалась Степанида Алексеевна, — когда и я его в трех снах видела убитым. Матушка пресвятая троеручица, — обратилась она к иконе, — разве можно такие шутки шутить? Для чего, для кого ожил он, когда и в двоеданской молельне его заглазно отпела старица, и в мирской церкви причетник за упокой в поминальник вписал. Как же это, пречистая?
Темный лик богородицы-троеручицы в посеребренной ризе кротко смотрел на мать и дочь, кажется, совсем не сочувствуя им. Вообще пойди пойми эти лики, да и не до них теперь. Дочь и мать, запершись и обнявшись в Анфисиной горнице, плакали в два голоса.
А демобилизованный по плоскостопию солдат Прохор Курочкин шел тем временем от станции через озеро пешим порядком: ать-два-три. Шел и радовался, что он жив, что у него выискался изъян ног и ему не надо больше жить в разлуке со своей молоденькой бабенкой. Она хоть и не столь хороша супротив других тугих и налитых молодаек, но жить можно и с такой. Что из того, что ноги тонки и шея длинна, как у лебедя, зато плясунья и песельница, и полдома за ней, если у Кузьмы сын не народится.
Шел солдат Прохор Курочкин: ать-два отбивал и считал себя самым счастливым изо всех. Ловко он без царапинки до самого Байкала прошел, а потом на осмотр послали. Изъян доктор усмотрел. И даже на полбутылки не попросил за такую выручку Прохора.
Шел солдат и думал о бане. Натопит ее Фиска. Напарится Прохор — и в снег. А потом опять потеть в баню.
Шел солдат Прохор Курочкин: ать-два — и не знал, что его не ждут, не радуются, что выжил он — забытый муж, нелюбимый зять. Чужим-чужой теперь для него посветлевший смолокуровский дом, молчком усыновивший ангела во плоти.
Разнуздав и расседлав Огонька, поставив в отведенный для него закуток рубленой конюшни, счастливый, разрумянившийся наездник услышал стук в ворота.
— Кто там? — спросил Маврикий.
— Я!
— А ты кто?
— Нихто. Дяденька Пыхто, вот я хто, — ответил за калиткой незнакомый голос.
— Ну, коли никто, так жди, пока будешь кем-нибудь.
Маврикий прошел в дом и сказал, что кто-то стучится в ворота и не называется. К воротам пошел сам Кузьма Севастьянович. Вскоре он вернулся не то что бледный, но не как всегда.
За ним вошел красноармеец со звездой на шлеме, в легкой французской шинели.
— Это ты, парень, не хотел пустить меня? — спросил вошедший Толлина.
— Я. А что?
— Ничто. Зеленый, знать, еще. Вот что.
Тут Маврикий увидел лицо снявшего шлем парня. Его глаза были так светлы, будто их не было. Будто одни белки без зрачков. Теперь никого ни о чем можно было уже не спрашивать. Маврикий ушел к себе в пристрой и только там понял, что сказка кончилась. Этот безглазый и безбровый и, кажется, без… Без чего-то еще, самого важного в человеке, пришел и своими подшитыми, большущими, с загнутыми носами старыми валенками растоптал все.
Ах, Фиса, как ты могла!
IV
Через приоткрытую дверь писарского пристроя донесся плач Фисы, и Маврикий не мог удержаться, чтобы не посмотреть на происходящее в кухне. И он увидел и услышал, как плакала обнятая сильными, непомерно длинными руками Прохора тоненькая, гибкая Фиса.
— Да что ты, право, Фиска, базланишь по мне, как по мертвому, я же живой… Живой… Гляди, вот я, — говорил, похлопывая ее одной рукой и проводя другой от затылка и чуть не до икр. — Твой я, и всё, как было, так и есть.
— Прохор, — оговорила Степанида Алексеевна, — мы же тут. Меру знай. Нам-то, наверно, тоже хоть «здорово живем» надо сказать и образам поклониться. Да разойми ты клешни-то. Еще вшей напустишь. С дороги ведь. Кинь одежонку-то в сенцы. А сам пока до бани тут побудь. Нас тиф, слава господу, миновал, так мы уж не желаем, чтобы, не ровен час… свят-свят… Тьфу-тьфу. К себе иди, Анфиса, — освобождала мать дочь от тягостной встречи. — Да прогладь и кофту и юбку.
Прохор недоуменно развел руками:
— Вот те на. Жена она мне или нет, маманечка? Откуда же тифу на мне взяться, когда я вторым классом ехал и на плюшевом лежаке спал? Зачем же я должен ждать?..
Вошел Кузьма Севастьянович и сказал:
— Мы тебя, Прохор, дольше ждали. Так долго, что и жданы съели. Почему писем не слал?
— Как не слал? Слал. Да, видно, волость путал. Я уж тут узнал, что мы новой волости. Значит, не доходили письма. А когда баня-то? Пущай она затопляет ее. Часов-то еще совсем мало.
— Мало-немало, — строго заметил Смолокуров, — на полке теперь рогатые банные девки с голопузыми нечистиками в карты дуются. Неужто хочешь, чтобы они Фису на тот свет проиграли?
Прохор, почесав затылок, смирился. О чем-то задумался и спросил:
— А этот кто?
— Ученый булхактер. Из молодых, а вся артель честит его. В эти годы по батюшке величают. За половину часа управляется с тем, над чем ты — не в обиду будь сказано — с утра до вечера пыхтел и потом все равно пересчитывать приходилось.
— Значит, он теперь, тятенька, считать и писать будет?
— А что?
— Да ничто. Просто так. Мне хуже не будет — рыбу ловить или артельным весовщиком стать.
— Увидим, Прохор. Как лучше, так и сделаем. Стеша… — сказал Смолокуров, открыв дверь в горницу. — Баня баней, а покормить-то мужика надо с дороги.
— Сейчас, Кузя, сейчас… Только дочь уложу. Не сотрясение ли в голове у нее? — заговорила Смолокурова, снова войдя в кухню. — В четырех снах она его убитым видела… И я в трех. А тут — н-на тебе. Как снег на голову. И крепкая голова тронется, когда мертвяки воскресают.
— Неушто и последнее не дошло с заказными марками, через часть посылал?
Смолокурова сделала вид, что не слышала вопроса, стала говорить так, будто Прохор виноват, что сны обманули мать с дочерью.
— Теперь-то уж, маманечка, нечего делать, коли я выжил. Не от меня же такие сны вам снились.
— Это верно, Проша, — спохватилась Степанида Алексеевна. — Садись давай. Оксти лоб-то да руки наперед вымой. Переобуйся в старые коты. Валенки-то на костер просятся, — спокойнее продолжала она игру в боязнь эпидемии тифа, которая, кстати говоря, шла на спад, а до этого не коснулась никого на Щучьем острове.
В этот вечер в доме рано погасили свет. Прохор остался ночевать в закутке за ситцевой занавеской. Невеселая была ночь. Хуже, чем выдавались ночи перед боем. Что случилось в смолокуровском доме? Неужели этот городской фертик мог полюбить его «тошшую», с большущими коровьими глазами, постную Фиску? Ни в жизнь! Такие таких не любят. Даже не глядят на них, с синим прожильем на руках, с темными подпалинами под глазами и с плечами, покатыми до того, что скатывается с них коромысло. На таких женятся только от большой нужды бездомные, бескровные, бескоровные и безлошадные сироты, которым не из чего выбирать. Либо по миру идти, либо к тестю в кабалу и на усладу обиженной бабьими богатствами прихотливой дочери.
А если разобраться, так мог бы и Прохор найти себе жену, пускай не на пять пудов, а хоть бы на четыре с половиной, а в этой что? Из бани несет он, бывало. Фиску в одеяле, и рук она не оттянет… На таких не зарятся и старики.
Прохор скоро уснул. Он не слышал, как теща заперла на задвижку горничную дверь и сказала, что она это делает потому, чтобы ему спросонья не пришло в голову проведать больную.
Мать всегда остается матерью…
V
Степанида Алексеевна хорошо знала, что как только захрапит Кузьма, а затем затихнет Настенька, неслышной тенью скользнет через большую гостевую горницу Фиса и скроется за толстой дверью пристроя, расписанной райскими птицами, небесными цветами и золотыми звездами.
И это понятно. Когда же поговорить с ним, коли не в эту темную, как в страстную субботу, ночь.
— Солнышко мое, — опускаясь на колени и будто прося прощения или молясь на сидящего за столом Маврикия, спрашивала Фиса, — как дальше-то нам?..
Маврик поднял Фису. Усадил ее на широкую резную скамью и сказал, не кривя или почти не кривя душой, правду, которую лучше бы ей не слышать.
— Фиса, когда я не знал его, я и не думал о нем. Был какой-то Прохор, был и не стало, будто не было. А теперь я увидел его. И увидел тебя с ним… Не сердись, Фиса… Я никогда не говорил тебе неправды… Я не могу обманывать тебя и себя надеждами. Когда я представил тебя и его в этом прирубе, то почувствовал, что ты уходишь из меня, а я из тебя. И мы стали снова двумя человеками самими по себе.
Ему хотелось сказать, что любить такого человека, как Прохор, или, хуже того, не любя быть его женой, хотя бы один миг, — это падение, после которого нельзя подняться даже до такой, как Муза Шишигина или Нелли Чоморова, которая корыстно любила Мерцаева, но все же не очертя голову, а продуманно-корыстно. Этого сказать Фисе было нельзя. И Маврикий прибег к смягченной правде.
— И если бы ты оставила его… если бы он ушел… или даже умер, я бы не сумел заставить себя стать одним человеком с тобой. Он сломал все.
— И то, что было? — всхлипнув, спросила Фиса.
— Не знаю… Наверно, этого растоптать невозможно… Ты не слушай меня, Фиса. Мне, наверно, тяжелее, чем тебе. Ты сильнее меня. А я, Фиса, с детства неполноценный, душевно слабый человек. Меня можно уговорить, усыпить, но ненадолго. Я обязательно проснусь и не буду благодарен человеку, подчинившему себе меня…
Фиса поднялась с лавки. Она обняла Маврикия и стала просить, чтобы он позволил ей остаться при нем. Остаться, кем только он пожелает. Она обещала сказать Прохору, что, поверив снам, не может теперь подчиниться яви, что он как муж умер для нее. И отец и мать станут на ее сторону. Неперечислимое множество жарких слов толпилось в ее голове, но ее добрый, покорный царевич заледенил их все. Он сказал:
— Фиса, неужели тебе не жаль осквернять прошлое? Тогда мы никого не обманывали, а теперь?..
— Так хоть пожалей меня… Ведь не вся же я ушла из тебя… Ведь что-то мое осталось в тебе…
— Ты пожалей меня, Фиса. Я не хочу быть виноватым перед твоим мужем и перед твоим богом… И перед моей совестью…
Дверь неслышно открылась. Вошла мать. Она, взяв в свои тонкие, как у Фисы, руки голову Маврикия, поцеловала ее в темя задумчивым, тети Катиным поцелуем, а затем, ни слова не говоря, увела дочь.
Видимо, дверь была не так глуха, как это казалось.
Маврикия с Фисой разлучало только прошлое. Оскорбительная близость к длиннорукому, безглазому и тупому существу. Его не возмущало куда более обидное, чего он не разглядел и не понял.
Сейчас он бы не поверил, что Кузьма Смолокуров и его приобрел, как в свое время «каргызенка» Ивашку, игрушку для младшей дочери, как покорного сироту Прошку Курочкина для старшей дочери.
Как забаву подарил богатей Смолокуров своей дочери совсем еще свежего городского вьюнца для поддержания ее здоровья и самочувствия. А то уж бывало — Фиса заглядывалась совсем не на тех. На таких, кого не приручишь, не объездишь, не введешь рабом, как Прошку. Кто мог ославить его дочь и посмеяться над ее женской тоской.
Поверил ли бы Маврикий, что радушный, щедрый, широкий, будто бы простоватый Смолокуров куда страшнее Сидора Петровича, у которого выпущены когти и не спрятано жало. Тогда как этот трогателен и поэтичен. С ним будто тоже где-то в какой-то книге или пьесе встречался Маврикий и еще тогда полюбил его.
Маврикию пока трудно поверить, что и Анфиса, дочь своего отца, тоже скрытая щука, не осознавшая еще себя собственницей всего живого и мертвого «обзаведения» ее дома.
VI
Баню до света истопила теща. До света, когда уже нечисть не играла на полке в карты, потому что пропели петухи. Прохор вымылся, переоделся в новое. Солдатское оставил жариться на шестах над шипящими каменьями каменки и пришел в дом.
В доме бабка-знахарка, спрыснув с уголька рабу божию Анфису, прочитав над ней семь молитв, три заклятия и дав ей травяного настоя, строго-настрого запретила семь дней и семь ночей входить к ней кому-либо, кроме матери, и то с покрытой монастырской шалью головой, чтобы не спугнуть молитвы.
Старуха знала свое дело и понимала, как важно Фисе оттянуть встречу с Прохором. Понимала и молчала. За что-то платилось ей и мукой, и рыбой, и хорошими обносками со Степанидина плеча.
Утренний чай пили на кухне, за большим столом. Говорили мало. Больная же в доме. Маврикий и Прохор завели разговор о Дальневосточной республике. Прохор знал; что такая есть, и больше ничего. Кузьма заметил, что его любимцу трудно спрятать на своем лице презрение к Прохору. И Смолокуров, некогда подыскивавший зятя по тихоте и скромноте, видел теперь, что за его столом сидело смирное, прирученное, свиноподобное животное, с судорожной радостью охминающее разогретые блины с морожеными сливками, наскобленными совсем не для него.
— Маврикию-то Матвеевичу хоть оставь малость, — остановил Прохора Смолокуров и поставил миску со сливками на средину стола.
— А разве он в этой еде тоже кумекает?
— Кумекает, — процедил сквозь зубы Кузьма, — хоша и не так тороват, язви его, а понимает… Ясное море, черная ночь…
Крестясь и неслышно матерясь, Кузьма Севастьянович вышел из-за стола, думая, не отравить ли тихой отравой Прохора, чтобы он пролежал неделю-другую дома, а потом свалить все на тиф. Распарывать брюхо ему все равно не станут.
Пораздумав так, он решил про себя:
«Избавиться от него никогда не поздно. Церковь теперь не властвует над мужем и женой. Отделена… Надо же было ему, большеротому рылу, остаться в живых».
Прохор ел много, долго. Вычерпав сливки, он вылизал холодную глиняную миску. Потом спросил, нет ли «пельяшек», так он называл пельмени. Теща не захотела идти на мороз за пельменями, пообещала сварить ему сотню к обеду и дала пару фунтовых свежекопченых щурят. Съев их, Прохор довольно икнул и пошел показаться на острове родне и соседям.
А Кузьма уговорил Маврика сгонять на Огоньке к отцу Георгию за шафран-травой, настой на коей отбивает пригарный дух и шубную кислину от самогона.
Тот и другой понимали, что урманский привозной самогон хорош и без шафрана, но тот и другой не хотели говорить, о чем нельзя было далее молчать.
Сытый Огонек с нетерпеливой радостью рвался под седло, а потом на улицу.
Усталыми, не знавшими сна глазами Фиса проводила дорогого седока и снова залилась слезами. Была у нее еще одна шаткая надежда, что все наладится, если ее женские предчувствия не обманут ее. Но предчувствия обманули в тот же день.
Попадья дала Маврику пакетик шафрана. Дала и сказала весело, что за это Смолокуров ей будет должен куль рыбы. А потом вышли поповны Валя и Катя. Они забросали гостя вопросами и нужными и ненужными, лишь бы говорить. Отвечая на вопросы, Маврикий незаметно для себя обронил намерение переехать на берег.
Валя и Катя были рады этому и принялись подыскивать службу. Можно было пойти работать в отделение бывшего Союза сибирских маслодельных артелей… Можно в волостной исполком… А можно и на ссыпной пункт… Там тоже есть знакомый-презнакомый… Неравнодушный к Кате… уполномоченный по продовольственной разверстке… двадцати пяти лет… брюнет, а с серыми глазами… У него есть две «губметлы», но нужна еще третья, но для нее пока нет начальника…
— Идите к ним, — предложила Катя. — Хотите, я поговорю. И Огонек ваш будет сыт.
Тогда Маврикий не думал, что разговор с Катей может что-то значить. Но не прошло и двух дней, как неравнодушный к Кате уполномоченный по продразверстке брюнет с серыми глазами прискакал на Щучий остров к Смолокуровым и сказал:
— Давайте знакомиться, товарищ Маврикий Зашеин. Меня зовут Олегом, фамилия моя Марченко. Мне кажется, нам нужно где-то уединиться и поговорить.
Они уединились в пристрое. Не прошло и десяти минут, как Маврикий сказал: «Я согласен» — и тут же объявил о своем уходе Смолокурову. Смолокуров понимал, что решенное — не перерешишь. Настал час расчета. Подвели черту под зерном и рыбой.
Вычли за коня. Смолокуров так и не сказал, во что ему обошелся этот редкий иноходец. Когда-нибудь потом узнает Маврикий, счетного ли писаря видел в нем Смолокуров. А может быть, и теперь поймет, когда за Огонька будут насылать ему настоящую цену. Немало ведь в богатых селах отцов, которые хотят своим сынкам купить такой быстроногий ветерок.
Очень плакала Настя. Она была единственной из всех, кому не надо прятать своих слез и чувств.
Фиса передала через мать ему письмо:
«Прощай, царевич! Для меня больше не будет солнца! И дни будут чернее ночей, а ночи страшнее могилы! Ты ушел от меня и унес бога! Если бы он был, разве бы он допустил это все. А я не ушла из тебя. И не уйду никогда. Всегда твоя и только твоя, днем и ночью, живая и мертвая, твоя Анфиса».
Долго сидел в кухне Кузьма Севастьянович Смолокуров. Думал. Решал. А надумавши и решивши, сказал зятю, забившемуся на полати:
— Слазь и послушай, Прохор, что я тебе скажу.
Прохор слез и принялся слушать. И Кузьма начал говорить уже проговоренное в голове не один раз:
— Умер ты, Прохор, для Анфисы. И для нас умер. Умер так, что никакими чудесами тебя не воскресить. По нынешним ревкомовским законам в таком разе говорят — прощай и забирай свое. Твоего тут мало. Совсем ничего. Голышом пришел. А таким я тебя отпускать не хочу. Как-никак бывший дочерин муж. Даю я тебе за эту бывшесть чебака двадцать возов. Зерно сто пудов. Карего мерина с санями и сбруей. Хватит?
— Коровку бы еще, тятенька, — припросил Прохор.
— Изволь, Прохор. Дам и коровку. И десяток овец дам, — подымал он голос. — И гусыню с гусаком дам… Только ты сегодня же, как свечереет, уйди от нас и тятей меня больше не зови и во сне. Иди же…
— Уйду, Кузьма Севастьянович, уйду, только черкану для памяти.
И Прохор написал на листке: «Чебаков двадцать возов. Зерна сто пуд. Карево мерина, с санями и збруей. Корову. Овец десеть. Гусыню с гусаком».
— Руку приложите, Кузьма Севастьянович, для памяти.
— Не веришь? Мне? — проревел Смолокуров так, что зазвенела на полке посуда. — Изволь, подпишу.
Он подписал бумагу и тут же выпнул Прохора за дверь. А выпнув Прохора за дверь, сказал на весь дом, чтобы слышали все:
— Вставай, Фисулька! Хватит хворать. Ловилась бы рыба, а уж доброго-то молодца мы выловим…
ТРЕТЬЯ ГЛАВА
I
«Губметлой» в домах, подобных поповскому, называли небольшой отряд из трех — пяти человек, работавший по продовольственной разверстке.
Для ознакомления с предстоящей работой по вывозу зерна Маврикий поехал со своим будущим отрядом, вместе с Олегом Марченко.
Дорогой Олег рассказал, что кулак по фамилии Чичин из деревни Омшанихи, куда они едут, отказывается вывезти разверстанное на него сельским Советом зерно, а сам припрятал до тысячи пудов. Олег показал заявление из комитета бедноты деревни Омшанихи.
Свернув с широкой на узкую, малонаезженную дорогу, они вскоре увидели небольшую смешанную старожильско-переселенческую деревушку. Это было видно по домам. Пластянки и саманные домишки, позанесенные снегом, соседствовали с потемневшими от времени бревенчатыми домами, рубленными крестом, как у Смолокурова, или о пяти стенах с прирубами. В таких домах жили коренные сибиряки. Старожилы.
Дом Чичина, о котором писалось в заявлении комбеда, найти было нетрудно. Постучались — не ошиблись.
— Мы к вам, Лука Фомич, — объявили открывшему ворота благообразному пожилому мужику, похожему на знаменитого Николая-угодника, которого почти все иконописцы пишут на один лад: коренастым, лысым, бородатым мужиком лет сорока пяти.
— Милости прошу в дом. Самовар на столе. А в случае кому чего другого желательно, так в такой мороз и сам товарищ Ленин не осудит.
— Наверно, это так, — учтиво отвел разговор Марченко, — только мы не в гости. Где можно побеседовать? Вы без шапки, да и нам в тепле удобнее разговаривать.
— Тогда опять же дома не миновать…
Олег и Маврикий, оставив коней и троих верховых, прошли в дом Чичина. Он немногим разнился со смолокуровским домом. Те же крашеные и расписные двери, горы подушек на гостевой кровати, крашенные золотистой охрой полы, домотканые половики, лубочные картинки, сборище фотографических снимков в большой раме под стеклом… И все вплоть до жбана с квасом, разве только граммофон позатейливее да кот пострашнее. А так тот же набор посуды, мебели и всякой другой утвари.
Прошли в боковую пустую горницу, и Марченко сразу же приступил к делу:
— Когда, Лука Фомич, вывезете на ссыпной пункт разверстанное на вас зерно?
Чичин добродушно улыбнулся.
— Не велик труд разверстать, да где зерно достать? Я вывез, что мог. Оставил на семена да себе на прокорм. Вот ключи. Можете все открыть, кругом обыскать. И взять остатнее, если рука подымется.
— Обыскивать вас. Лука Фомич, мы не будем. Зерна у вас дома осталось в обрез. Вы его зарыли в поле. Где?
— Боже милостивый и пресвятой, — перекрестился на иконы Чичин, — веришь ли ты клятве моей? Поручись за меня, господь.
— Лука Фомич, — перебил его Марченко, — не надо бога ставить в неловкое положение, и нас не надо за нос водить. Даю десять минут на размышление. В аккурат на ваших без десяти час. Если не вспомните, где зарыли хлеб, придется вам поговорить с комитетом бедноты. Тогда выясним, кто клеветник и кто обманщик. За то и за другое ревтрибунал судит по строгим законам революционного времени. В Москве, в Петрограде, наверно, вы слыхали, сколько выдают на день. Наверно, вы понимаете, что утаить в такое тяжелое время зерно от голодного — бесчестно и грешно, если вы на самом деле верующий, а не только умеющий креститься человек. Где хлеб? На часах без шести минут час.
— Да хоть бы без одной минуты. Вынь ливер, нацель его на мой висок… Или посади меня на цепь, чтобы выморозить из меня то, что ты хочешь и чего во мне нет. Хоть каленым железом кали — не выкалишь хлеба, которого я не зарывал.
— Тогда не будем ждать, когда пробьет час. Одевайтесь. Поедем для разговоров с комитетом бедноты.
В доме заголосила жена, невысокая моложавая и очень полная женщина. Затем послышался плач детей. Маврикий еле сдерживался, чтобы не вмешаться и не стать на защиту такого смелого, не боящегося говорить правду человека.
— Мы верхом. Лука Фомич, а как вы?.. Не вести же вас пешком?
— Как изволите, товарищ комиссар. Как прикажете, хоть на коленях поползу…
Дети заплакали еще громче. Видно было, что Марченко тоже волновался, но не показывал этого.
— Скажите работнику, чтобы он запряг для вас лошадь.
— Это я сейчас, — послышался чей-то голос. — И пять перечесть не успеете.
По голосу было слышно, что тот, кому он принадлежит, не сочувствует своему хозяину.
Чичин надел позеленевшую от времени, когда-то черную овчинную шубу. Опоясался. Нахлобучил шапку и сказал:
— Ведите!
Жена и дети заголосили до невозможности громко. Они ринулись в сени за отцом и мужем. Когда Чичин садился в сани, Маврикий видел, как жена Чичина, стоя в дверях, на коленях молила:
— Не увозите его, не увозите… Выгребите из амбаров все подчистую, только не увозите…
Кричащие дети тянули к отцу руки, а самый младший лет шести, плача, успокаивал мать:
— Мамынька, не реви… Мамынька, не реви…
Отвернувшись, Маврик вытер слезы, и они тут же замерзли на рукавице.
Поскакали в комбед.
II
На комбеде, созванном в тесной пластянке, ничего не было доказано. Комбедовцы перемножали десятины на пуды урожая, брали самый малый съем, пересчитывали снова, и получалось, что Чичин скрывает не менее пятиста пудов.
Чичин начисто отвергал доводы комбедовцев и требовал покарать их за облыжный донос.
Улик не было. Все твердили, что он зарыл хлеб, божились богом, клялись партийным билетом, а где, когда зарыт, хотя бы примерно в какой стороне, — никто не мог сказать. Немыслимо искать хлеб под толщей снежного покрова, на огромном пространстве омшанихинских земель, принадлежащих всем и никому.
Чичина отпустили. Он перекрестился на божницу без икон и, поклонившись комбеду и Марченко, прошепелявил:
— Господь с вами, богородица над вами, — и, смиренно поклонившись, вышел из пластянки.
Продотряд поскакал обратно, Чичин поехал к себе.
— Ну, как ты думаешь об этом праведнике? — спросил Маврикия Олег Марченко, когда они выбрались на широкую дорогу.
— Я думаю не об одном Чичине, — ответил Маврикий, — а вообще о Чичиных, на которых держится Россия. И ловят ли они рыбу или сеют хлеб — это все равно… Они кормят страну.
— Они?
— Они! И если бы не ихний хлеб, не ихнее мясо и рыба, я не знаю, как бы жили там, на Урале и за Уралом. А мы разоряем их… Разрушаем то, что наживалось, налаживалось и копилось еще дедами, — повторял Маврикий сказанное Смолокуровым. И его же словами он утверждал: — А что будет, когда одни не станут пахать и сеять, другие бросят ловить рыбу, а третьи не будут пасти скот? Что останется тогда. Комбеды? Но ведь они даже сами себя не могут прокормить…
Марченко слушал и молчал. А Маврикию нужно было излить душу и предупредить Марченко, что принуждения никогда ни к чему хорошему не приводят.
— Мы съедаем сами себя, — опять повторил он чужие слова. — Что станет, когда нечего будет разверстывать и вывозить? Чичин-то ведь не будет на следующий год сеять, а Смолокуров не захочет подновлять невода, потому что артель не желает отдавать долю, которую отдавали его отцу, деду и отдают всем, чьей снастью ловят рыбу.
Марченко по-прежнему молчал и, только вернувшись на ссыпной пункт, где у него была своя комнатушка со столом и бумагами, сказал:
— Я думаю, что тебе в продотряде работать будет трудно. Советую тебе посекретарить у меня, а если понадобится — выполнять поручения, которые не будут вызывать слез.
Значит, он видел, как Маврикий утирал варежкой слезы. Ну и пусть!
— Да, наверно, так лучше. Я согласен. Только будут ли мне на этой должности давать корм Огоньку?
— Будут, — сказал Марченко. — Ты же в продотряде, а отряд конный. И тебе полагается лошадь. А у тебя она даже своя. Как же не кормить ее.
С этого дня Маврикий занимался бумагами, разбирал письма, заявления, донесения, а иногда по поручениям Марченко ездил по волостям, проверял цифры выполнения продразверстки, отвозил указания, составлял акты. Дел хватало.
Начавшаяся дружба с Олегом Марченко не продолжилась. Марченко охладел к Маврикию, сохраняя его в продотряде только за грамотность. Остальные едва писали. Полезен Зашеин был и тем, что вечерами учил продотрядников письму, счету и чтению. Это ему удавалось очень хорошо. И его в общем-то любили в отряде, хотя и считали «чужачком». И Марченко тоже находил в Зашеине хорошие черты: прямоту, правдивость, умение хранить тайну и выполнять обещанное.
С приближением весны спадала работа по продовольственной разверстке. Поговаривали о замене разверстки продовольственным налогом. Выясняли возможности и объемы посевов. Убеждали посеять больше. Предлагали семенные ссуды. Созывали общие сходы. Маврикий оказался не у дел, и он подумывал об уходе из продотряда. Он пока еще не решил, куда лучше поступить. На мясопункт ли, где есть очень интересная работа помощника гуртоправа, или пойти на склад сельскохозяйственных орудий тоже помощником заведующего складом. Готовая квартира при складе. Конюшня. Но ни сена, ни овса здесь Огоньку давать не будут. Только мучной паек, и больше ничего. Зато на складе сельскохозяйственных орудий, где не было никаких орудий, почти не было и работы. Разве что отпустить раз в день залежавшиеся неходовые запасные части. Но заведующий складом до того хорош с Маврикием, что к такому и без пайка можно пойти помощником.
Бывая на складе почти каждый вечер, Маврикий открывал для себя совершенно новую дверь в сельское хозяйство Кулунды.
III
За многие годы знакомства с деревнями Прикамья и Урала Маврикию даже в голову не приходило, что есть или могут быть другие сельскохозяйственные машины, исключая разве молотилки и веялки, да и то не везде. В Омутихе до последних лет молотили цепом или ударяли пучком колосьев в короб. Так обычно вымолачивали семена для посева. Косили и жали только косой и серпом. Пахали деревянной сохой с железным лемехом. Боронили деревянной бороной с железными, а иногда и деревянными зубьями. Вот все сельскохозяйственные орудия, которые знал и хорошо помнил Маврикий.
Здесь же, в глухой и далекой Кулунде, с таким редким населением, с таким множеством неграмотных людей, никто не пахал сохой. Хороший двухколесный плуг, запряженный парой лошадей, был обычным для всех. Такой плуг не обязательно поддерживать за ручки. Если он хорошо отрегулирован, борозда ровна, лошадь привычна к пахоте, он может идти и сам. Его и называют иногда самоходным. Но были здесь плуги о двух и о трех лемехах. Такой плуг тянет и четверка волов, а пахарь восседает на стальном сиденье плуга.
Это было катанием, а не пахотой по сравнению с мильвенской «надсадой», когда приходится не только идти за сохой, но и поддерживать ее на нужной глубине.
А косьба и жатва — тоже только сиди да перебирай вожжами. Острые режущие ножи, как увеличенные во сто крат движущиеся гребенки парикмахерской машинки для стрижки волос, широкой полосой сжинали колосья. А были здесь жатвенные машины, которые вяжут шпагатом колосья в снопы. Только знай собирай их на фургоны и отвози на молотильный ток. Здесь быть крестьянином вовсе не трудно и совсем не обязательно обладать бычьей силой. На то есть волы.
Старшая замужняя дочь отца Георгия говорила, что ее муж, агроном с высшим образованием, на опытном поле своими руками пашет, сеет и убирает научные урожаи. И это ничуть не трудно.
Любознательный с детства Маврикий, очарованный новыми машинами, узнал, что многие из них в этом году будут бездействовать, потому что не было запасных частей. И хозяин квартиры, где Маврикий снимал угол, и заведующий сельскохозяйственным складом рассказывали, показывали, из-за каких мелочей будут простаивать машины. И части, которых не было и которые видел Маврикий, до удивления просты. Но ведь проста и швейная игла, а попробуйте сделать ее.
Вот тут-то и возникла идея рассказать об этом коммерческому директору Мильвенского завода Григорию Савельичу Киршбауму.
Если бы знал заведующий складом, кому обязан приездом техников из Мильвенского завода, кто был инициатором изготовления запасных частей, как бы, наверно, поднялся Маврикий в его глазах. Хорошо, когда тебя уважают и ценят. Запасные части, которые прибудут сюда благодаря ему, Маврикию, дадут больше хлеба, чем дал бы его Чичин, если бы у него в самом деле был хлеб и стараниями Марченко этот бы хлеб нашелся.
Хорошо сознавать себя нужным и полезным человеком, и совершенно не обязательно, чтобы люди знали, что ты о них заботишься. Всеволод Владимирович Тихомиров всегда заботился о людях и никогда не думал о своих доблестях. Ему, отдавшему всего себя людям, некогда, да и не нужно было думать о похвалах.
Делать доброе для своего народа можно при всякой власти.
IV
Весна в Кулунду чаще всего не приходит, а как бы вбегает на всех парах и принимается торопливо очищать землю от снега, небо от облаков, озера ото льда.
Сегодня дует, завтра дует… Неделю, вторую пурга и снег метут и кружат белые хлопья, а потом, как подстреленная насмерть, рухнет на землю непогода ослабевшими снежинками, и потекло-затаяло, снимай валенки, надевай сапоги, убирай сани, выкатывай телеги.
Такой она пришла и в этом году. Разбирая бумаги в комнатушке продотряда на ссыпном пункте, Маврикий и не предполагал, что сегодня, через час, начнется весна. Весна, которую невозможно забыть. С нее, кажется, начнется и ей будет обязано все, что потом произойдет.
Радуясь, что в комнатушке стало светло, Маврикий распечатал серый самодельный конверт, склеенный из оберточной бумаги. Письмо привез молодой парень, которому велено было дождаться ответа.
Почерк показался знакомым. Он, кажется, не так давно читал написанное этими же жидкими голубыми чернилами, той же рукой и на таком же листе бумаги, вырванном из конторской книги.
Вникая в письмо, он обратил внимание на фамилию, которая показалась очень знакомой. Прочитав название деревни, он вспомнил все. Дом и двор, плачущую на пороге женщину, ее детей, смиренного Чичина, заседание комбеда и весь тот тяжелый день.
В письме сообщалось: «…а теперичь закопанный чичинский хлеб открылся сам, по причине его горения и растаивания большой проталины…»
Не дочитывая письмо, Маврикий кинулся искать Марченко. Не найдя его, он побежал к коновязи, отвязал Огонька, и крикнул приехавшему парню из Омшанихи:
— Поехали… Там разберемся…
Хорошая долгоногая лошадь еле успевала за Огоньком. Знакомая дорога всегда короче. Не прошло и часу, как свернули в Омшаниху.
— Где? — спросил Маврикий парня.
— Вон, парит, — показал он плетью на столб пара в степи на проталине.
Круто повернув с дороги, они поскакали туда. Там дежурил верховой из комбеда. Маврикий, разгорячившись, не сдержал лошадь, и она едва не провалилась в горячую яму.
— Что же вы, — спросил верхового Маврикий, — почему не выгребаете?..
— Как можно, за самовольство-то знаешь что бывает…
— Зови народ с лопатами, с ведрами, живо!
Верховой умчался в Омшаниху.
— И ты тоже давай за ним… — сказал парню Маврикий. — Горит же, горит, горит! Неужели не видишь!
У ямы было жарко стоять. Маврикию никогда еще не приходилось видеть, как горит зерно. А горело оно, кажется, настоящим огнем, пахло прелью и дымом. «Ах, забыл приказать, чтобы привезли сюда Чичина».
Очень редко произносил Маврик те слова, от которых — как говорила тетя Катя — «чернел язык и загнивали зубы». На этот раз он не жалел ни зубов, ни языка. Он чувствовал, внутри у него горело и требовало возмездия. За жалость. За слезы. За святотатство. Он же верующий. За издевательство над любовью к человеку. За несъеденные куски тысячами детей.
Огонек поворачивал голову, косил глазами, нервничая, топтался на одном месте, ему передавалось волнение его всегда доброго и ласкового друга.
Из деревни бежали и ехали в розвальнях и верхом. С лопатами, ведрами и дерюгами. Прискакавшие первыми принялись разбрасывать снег вокруг ямы, чтобы было куда выгребать зерно. Работали яро, споро, осатанело. Счищали снег до стерни. Срезали стерню. Затем принялись ворошить яму. Взметнулся клуб пара, около ямы стало еще горячее. Деревянными лопатами, ведрами с привязанными к ним веревками принялись вычерпывать зерно из средины ямы, где оно горело особенно жарко. Маврикий не мог быть только наблюдателем, оставив Огонька поодаль, скинув, как и все, шубу, он помогал выбирать горячее зерно.
— Он все свалил в одну кучу, насыпью… И просо, и пшеницу, и ярицу… И овес с ячменем тоже сюда, — говорил председатель комбеда, взмокнув и без шубы. — Ни себе, ни людям.
Разворошенное зерно горело тише. Вскоре пар еле струился. Председатель прыгнул в яму.
— Стой, робя. Непрелое пошло. Его на дерюги надо, а то и в мешки. Совсем еле теплое.
Пока да что, зерно решили свезти в чичинские сусеки, а потом опечатать амбар.
Актом было установлено, что зерна было зарыто в обмеренной аршином яме более тысячи ста пудов и что четыреста пудов «зерна разного и по большей части пшеничного сгорело или пришло в негодность для народного питания и пригодно лишь как сырье для технических надобностей».
Более тысячи ста пудов! Более тысячи ста месячных пайков! Если по пуду. А выдавали по двадцати фунтов. Две тысячи двести пайков! Все дети Мильвы могли быть сытыми целый месяц.
Маврикий боялся, что сегодня он может не сдержать себя. Поэтому, приехав на чичинский двор, он оставил плеть, привязав ее к стремени. Сосчитав до сорока, как его учил когда-то Иван Макарович Бархатов, он пошел в дом.
Чичин лежал на лавке под образами. Затепленная лампада подчеркивала тяжесть недуга и возможность его непоправимого исхода.
— Здравствуйте, Лука Фомич, — сказал Маврикий, войдя в горницу, не снимая папахи.
— Здравствуй, голубок. Никак, опять по мою душу, — замогильным плаксивым скрипом прозвучали его слова.
— Нет, зачем же по душу. Я не смерть. Я за вами, а не, за душой. Одевайтесь, Лука Фомич. Одевайтесь, — приказал Маврикий.
— А кто сказал, что это мое зерно? — послышался совсем не плаксивый, а озлобленный голос Чичина.
— Трибунал разберет чье. Если не ваше, значит, накажут меня за самовольный арест честного человека.
— А кто меня арестовал?
— Я!
— Не молод ли, птенец…
— Нет. Вырос, уже в самый раз. Ну, хватит же, — не удержавшись, Маврикий возвысил голос. — Не испытывайте больше меня… Не ухудшайте свою участь… Одевайтесь…
— Дарьюшка, — позвал жену Чичин, — опять увозят. Вели Трофиму запрягать рыжую.
— Не надо, — остановил Маврик. — Вас доставят пешим.
— Такого закону нету! — совсем бодро крикнул Чичин.
— В трибунале заявите об этом. И я отвечу за все.
Было еще очень светло, когда вдоль деревенской улицы двое из добровольной милиции конвоировали Чичина. Он шел опустив голову, не смея поднять глаз на своих однодеревенцев, на окна знакомых домов. Все знали, за что его ведут с таким позором. Даже самые близкие к Чичину люди понимали, что нельзя гноить дар божий — хлеб. Нельзя, чтоб ни себе, ни людям. За это и на том свете не милуют.
Чичин то и дело спотыкался, падал, делая вид, что будто выбился из сил, но никто не верил и не сочувствовал ему. Это видел и Маврикий, наблюдавший со стороны. Очень солнечный был этот первый день перелома на весну, и Маврикий очень много увидел заново… Так много, что, кажется, он в этот день снова появился на свет.
V
— Что произошло с тобой, Зашеин?
— Я сам не знаю, — отвечал он Олегу Марченко. — Будто мне переменили глаза, а с ними и мысли.
— Ты будешь на выездной сессии трибунала?
— Обязательно!
— И какое же наказание ты потребуешь?
— Расстрел, Олег, и только расстрел!
— Н-ну, Маврикий Матвеевич, вы что-то уж очень…
— Наверно. Сейчас я готов его сам… Не исключено, что на сессии опять заговорит во мне паршивая жалость… И я опять не буду себя уважать… Вообще-то я никогда не уважал себя. Любил себя. Восхищался собой, но не уважал.
Слушая Маврикия, Олег Марченко тоже видел его заново. Его поражала искренность. Если это правда, значит, он не оценил тогда его печальные, но искренние, идущие от чистоты сердца заблуждения.
Зашеин, как представитель продовольственного отряда, выступил на выездной сессии ревтрибунала с обвинением.
Сначала слушающие, особенно сидящие за столом, покрытым красным сукном, хотели остановить его, чувствуя некую неловкость за рассказ с неюридическими и внесудебными привесками, добавками, подробностями хотя и очень интересными, но непригодными для протокольных, исчерпывающе точных строк. Но вскоре слушающие будто перенеслись в Омшаниху, где эпизод за эпизодом развертывалась история, ставшая теперь «делом о скрытии и уничтожении хлебных излишков в деревне Омшаниха».
Будут или не будут выступать защищающие Чичина, приведет он или нет какие-то смягчающие вину обстоятельства, все равно сессия будет рассматривать дело глазами этого молодого продотрядника, в крике души которого не может усомниться и самый скептически настроенный человек.
Дело Чичина разбиралось последним, чтобы все обсудить и выяснить всесторонне. Времени было достаточно. Но как-то нечего было выяснять, опровергать и даже смягчать. И сам Чичин, приготовивший жалобные слова, тоже понял, что ничего уже нельзя изменить. Он утаил более чем две тысячи месячных пайков детей. Этого нельзя опровергнуть. Поэтому им было сказано всего лишь несколько слов:
— Будьте милостивыми, судьи, у меня дети не выросли. Трое.
После положенных процедур сессия удалилась на совещание. Оно было недолгим. Видимо, не возникло разногласий. Решение читал председательствующий. Читал громко, отчетливо, с остановками в нужных местах и выделением главных слов.
Зная, что приговор будет строгим, Чичин все же был уверен, что его не приговорят к расстрелу, как не приговаривали никого в окрестных волостях, где тоже случалось всякое. Не такое простое дело расстрелять человека. А этот сосунок из продразверсточного отряда петушился только для попуга.
Однако председательствующий, оглашая решение, прочитал:
— «Выездная сессия ревтрибунала считает правильным требование обвинителя Толлина приговорить подсудимого Чичина за злостную порчу зерна к высшей мере наказания — расстрелу».
Чичин, услыхав эти слова, повалился назад — за скамью подсудимых. Этого не заметил председательствующий, продолжая чтение:
— «Но, принимая во внимание тяжелое наследие царизма, темноту и невежество подсудимого, принимая также во внимание ходатайство сельского Совета и то, что старший сын Чичина — Алексей храбро сражался в рядах Красной Армии и отмечен в приказах командования, сессия нашла возможным приговорить заслуживающего расстрела подсудимого Чичина Луку Фомича к десяти годам принудительных работ в своей волости…»
Чичин, открывший до этого левый глаз, теперь открыл оба. Прослушав обвинение до конца, он вскочил. Сел на скамью подсудимых, расправил бороду. Потом встал и поклонился опустевшему столу, покрытому красным сукном.
— Благодарствую, — сказал он еле слышно.
Про себя же говорились другие слова:
«Хоть двадцать лет давайте… И месяца не пройдет, как мы вас всех перестреляем, перевешаем, живьем в землю загоним до последнего».
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
I
Свадьба Олега Марченко и Кати была тихой. После свадьбы Олег и Катя уехали в Славгород. Марченко не захотел жить в одном селе с тестем. Не бывать у него — значит обижать доброго старика. А ходить к нему в гости или того хуже—жить в его большом доме — значит поддерживать связь с чуждым элементом, хотя отец Георгий — поп лояльный.
После отъезда Олега Маврикий не остался на ссыпном пункте, где до нового урожая замирала работа. Осенью оживет ссыпной пункт. А что делать до осени? Наняться в работники? Это не так плохо. Будут хорошо кормить и его и Огонька, заплатят зерном. А зерно, что золото, — в цене не упадет. Работать не так уж трудно. Утром сел на косилку, а к вечеру хоть и не ахти какой, но косец. Ну, а уж грести конными граблями совсем простое дело. Можно и Огонька в грабли запрягать. За это особая плата. Сеном. Зимой-то нужно лошади что-то есть.
Но повернулось так, что Маврикий покинул Грудинино. В бывшем земском складе опять появились мильвенские техники. Они не знали в лицо Маврикия, но мог приехать и привезти очередной вагон запасных частей и сам Григорий Савельевич Киршбаум или какой-то другой знакомый. И Маврикий поступил на новую работу в мясопункт. Мясопункт — родной брат ссыппункта, только там зерно, а тут скот.
Человек на коне при стаде стоит трех человек. Маврикия на мясопункте приняли очень хорошо. Заведовал мясопунктом знаменитый во всей округе кривой гуртоправ Петр Сильвестрович Капустин. В старые годы скотопромышленники платили ему большие деньги за его умение дать безошибочную оценку скота. За купленный скот платили с головы, но покупали нередко гуртом. Одноглазому Капустину достаточно было и пяти — десяти минут, чтобы определить средний вес животного. Погрешность оказывалась так мала, что поражались и съевшие зубы скотопромышленники капустинской науке точных оценок.
Капустин очень был доволен своим новым служащим, пока еще без должности, но с совершенно ясными обязанностями. Он сказал:
— Мне, дружочек, за двумя хозяйствами трудно следить одним глазом. Так я хочу позаимствовать на время у тебя второй. Для Пресного выпаса. Ничего я тебе говорить не буду. Поезжай. Поживи. Погляди. Будь сам себе комиссар. Через недельку свидимся.
Маврикий простился с добрыми квартирными хозяевами и заботливым конюхом Сеньшей, или Сеней. Этот двенадцатилетний мальчик, привязавшись к коню, приручил к себе его так, что тот исполнял многие его приказания: «Нагни голову», «Стой», «Иди к себе». Видно было, что Сене нелегко расставаться с Огоньком. Ради коня он хотел поехать с Маврикием на Пресный выпас. Но разве это возможно…
Пресный выпас поразил Маврикия своей тишиной. Чтобы обскакать пространства, где формировались, а до этого выпасались гурты скота для перегона в большие города, нужно было добрых три часа. Степь здесь почти без кустика. Небольшие, но непересыхающие пресные озера издавна привлекали сюда кочевников-скотоводов. Были они и теперь. Но это редкие аулы из пяти — семи юрт. Здесь почти не бывают мужики из русских деревень. Разве только добытчик-перекупщик появлялся здесь с плиточным чаем, с жевательным табаком, чтобы выдурить на них богатство этих мест — баранов, овчины, шерсть.
Прискакав сюда, Маврикий нашел главного пастуха и, вручив ему в качестве верительной грамоты от Петра Сильвестровича Капустина большой кирпич чая, стал дорогим гостем в юрте, а уже на другой день оказался совсем своим человеком.
У кочевников необыкновенное чутье на приезжих. Маврикий был раскушен в первые же сутки. Через главного пастуха к нему прониклись симпатиями и остальные. Его стали почему-то называть «малладой комиссар». И ему не потребовалось больших усилий, чтобы узнать, где, как и что, узнать, в частности, как ведет себя начальник выпаса.
Начальник выпаса Александр Викторович Востряков жил в немецкой переселенческой деревне Адлеровке, самой близкой от выпаса, находящейся в двадцати верстах. Вострякова пастухи недолюбливали, называли бранными словами, которые они произносили по-русски почти без акцента, но боялись его. Боялись потому, что Востряков был другом Шарыпа Ногаева, у которого семь юрт, семь жен, семь стад и настоящий деревянный дом, где он принимал гостей, не привыкших к юрте. Шарып Ногаев был главной властью в степи, под ним ходило много родов. Потому что он был потомком какого-то древнего властителя, имя которого затерялось в веках.
Шарып и вел себя как властитель. С ним нельзя было спокойно спорить. И если он приказывал привести ему сотню упитанных баранов, живших до того, как попасть в разверстку, на хороших кормах — ему приводили их. Взамен отдавались тощие овцы, еле протянувшие голодную зиму, еле дождавшиеся прошлогодней травы на первых проталинах.
Востряков наезжал в степной дом Ногаева, где бывало не одно разливанное море, но и угощали танцами «гурий», каких уже не увидишь нигде. За это маленькому некоронованному хану сходило с рук все. Но и хан не позволял уличать начальника выпаса, когда тот открыто и нагло недодавал пастухам заработанного ими. Пастухам ежемесячно полагались ткани, чай, мука, нитки, спички, табак, что-нибудь из утвари или из недостающего в степи, где трудно достать даже иголку. Именно поэтому и согласились те, кто победнее, стать пастухами Пресного выпаса. Подписывая договор отпечатком пальца или крестом, неграмотные пастухи все же точно знали, чего и сколько им причитается за месяц. Но они издревле привыкли к недодачам и обсчетам. И они бы, наверно, молчали, если б Востряков брал примерно десятую долю. Пусть! Аллах ему судья. Но ведь жадный начальник не ограничивался и половиной присвоенного.
Не трудно представить, какое богатство составляла эта недоданная половина заработанного сотней пастухов, гонщиков, сторожей. Это пуды чая. Ящики табака. Мешки муки. Это тысячи аршин ткани, на которую можно выменять все. Деревня поизносила запасы. А в казахских аулах дети ходили нагишом, зимой же надевали меховую одежду на голое тело.
Бесконечно доверяя «малладому комиссару», пастухи обнаруживали не такой уж малый запас русских слов для описания деятельности Вострякова. Пастухи знали о существовании ревтрибунала. И они могли бы уличить своего грабителя, если бы не боялись Шарыпа. Поэтому все их надежды были на нового приезжего с чистыми глазами.
Маврикий понимал, что Капустину нужно было доложить обо всем этом. Не для изучения же погоды послал он своего помощника. Маврикию хотелось проверить слух о краже Шарыпом баранов из государственных гуртов. Установить это было совсем не трудно, потому что губпродкомовских баранов метили особым проколом уха. Необходимо только найти повод. И повод нашелся — поехали поискать лису с лисятами, чтобы поймать ее и додержать до осени. До хорошего меха.
Поскакали втроем.
II
Втроем — это два сына главного пастуха и Маврикий.
Мягко бежать по степи их коням. Степь как стол — ни бугорка, ни ямки. Хорошо пастись скоту в этом приволье. Отвыкая от человека, животные как бы возвращаются в свое далекое прошлое. Табуны жеребят, молодых коней, те вовсе редко видят своего двуногого властелина, и, лишь когда приходит время влезать в хомут или становиться под седло, их разлучают с милой свободой и надевают узду.
Скот тут мелкопороден. Маленькие лошадки, крохотные коровки, и овцы тоже невелики. Зато здесь, и особенно южнее, животные почти ничего не требуют. Чуть ли не круглый год они добывают себе корм сами, но этот корм достается не легко. Многие гибнут. Немцы, поселившиеся неподалеку отсюда, называют такое скотоводство варварским. Но на это не обращают внимания коренные жители. Они знают, что если даже из двух баранов уцелеет один, все равно второй останется даровым. Это прибыточнее немецкого скотоводства в Адлеровке, где из двух баранов почти всегда выживают два, зато траты на них такие, как на десяток неприхотливых беспородных баранов.
У Шарыпа Ногаева много баранов… Ой как много, а он по спискам середняк. У него их числится два-три десятка. Зато у каждой из семи жен, особенно если есть у нее сын, баранов столько, что приходится нанимать пастуха, чтобы он, выпасая свою считанную малость, приглядывал за ногаевским стадом и благодарил аллаха за то, что он будет сыт, одет и обут. Ногаевской жене не жаль отдать пастуху из приплода каждого седьмого ягненка. Пусть пастух славит щедрость Ногаевых.
У ногаевских овец не надо проверять их уши, чтобы опознать обмененных на Пресном выпасе. Их видно и на далекое расстояние. Они крупнее, осанистее и «домашнее».
Шарып Ногаев появился неизвестно откуда. Как будто негде прятаться там, где ни перелеска, ни камыша, а он сумел скрытно выследить всадников, рыскающих по степи подле его стад.
Не таким представлял Маврикий Шарыпа. Он думал, это казахский степной богатырь, коли в его жилах течет чуть ли не ханская кровь. А Шарып оказался карликом. Про таких говорят: «поперек шире». Толстый, куда ниже Маврикия, под ним еле видна лошадь. Он на ней как копна на мыши.
— Селям, селям… Здравствуй, молодой комиссар, здравствуйте, молодые джигиты, — заговорил он, хорошо произнося русские слова, обращаясь к всадникам. — Как вам понравились бараны моего старшего сына?
— Хорошие, — ответил Маврикий и не утерпел: — Только почему-то разные, как будто они сбежались со всех волостей.
Шарып понял намек. Улыбнулся и заметил:
— Теперь все перемешалось. И люди, и бараны. Такое время. Такой цвет. Пестрый. Приглашаю ко мне.
— Нет, нет, — стал отказываться Маврикий. — Мы хотим выследить лису с лисятами.
— Будет лиса с лисятами. И вас приглашаю, — еле заметно повернул он голову к сыновьям главного пастуха, оставаясь стоять к ним хвостом шустрой казахской лошадки.
— Поехали, ребята, — пригласил Маврикий товарищей.
В бездорожной степи расстояние меряется самочувствием. Иногда и далекое оказывается близким, а иногда верста — дальний путь. Доскакали быстро. Заехали с главного фасада деревянного двухэтажного, крытого железом дома с крылечком посредине. За домом, как и рассказывали, в версте или более, сравнительно далеко друг от друга, веером расположились семь юрт семи жен, которые при всяком удобном случае Шарып называл «моя неделя», а каждая юрта в отдельности называлась по-русски — понедельник, вторник, среда, четверг… чтобы Шарыпу не спутать, какая из юрт сегодня будет обязана ему посещением.
III
На пороге дома Ногаева приехавших встретила русская пожилая женщина Агафья лет сорока или более. Она, перекинувшись с Шарыпом по-казахски, заговорила, нет, запела чистым рязанским говором. Поздоровавшись с гостями, она вынесла небольшую лагушку с холодным кумысом. Дом не юрта. В бурдюках здесь кумыс не подавался. Приезжавшие сюда нередко отказывались пить из этой кожаной посуды не без душка.
Отличный кумыс поставляли сюда жены. Все пивавшие хвалили это питье Шарыпа. Досужие языки болтали, что будто бы Шарып добавляет ему градусы жидкостью совсем иного происхождения, запрещенной Кораном.
Легкое опьянение почувствовал и наш «малладой комиссар», а равно и его товарищи. За кумысом последовало и другое угощение. Гостей пригласили за низкий стол, не такой, за которым сидят в юрте поджавши под себя ноги. Это был стол-компромисс с низкими скамьями, обитыми белым войлоком с вкатанными в него узорами из темной шерсти.
Сначала Агафья подала блинчики, начиненные крупно рубленным мясом, потом щурят, поджаренных на вертеле, и, наконец, то, что каждодневно едят здесь все — вареную баранину, и положила на стол ножи, похожие на финские кинжалы — финки. Шарып, угощая, каждый раз приговаривал:
— А теперь это, для знакомства, пожалуйста…
И наконец, был подан густой чай в пиалах и баврусак, или маленькие колобки из пресного теста, сваренные в бараньем сале.
Чай подавала уже не Агафья, а две девушки, почти девочки, в алых бархатных безрукавках, расшитых бисером, в очень тонких белых кофтах и шароварах в цвет безрукавкам, тоже сшитых не из столь плотной ткани.
Отхлебнув чай, Шарып снял со стены увеличенное подобие бубна и объявил:
— А теперь пусть насыщаются глаза и уши.
И он, взяв бубен, стал извлекать шустрыми пальцами ритмические звуки. Все они были на одной ноте, а между тем, сочетаясь, они создавали танцевальную мелодию. И девушки начали танец. Сначала одна, потом другая. Танцевали преимущественно руки, плечи, шея и голова, а потом уж ноги. Они всего лишь делали шаг или несколько шагов в стороны.
Танец, исполнявшийся девушками, почти не имел общего с теми, которые видел Маврикий. Внимательно следя за танцовщицами, он, не замечая, застыл в восхищении. Девушки, видя это, танцевали с большим вдохновением, и Шарып, зная, какое впечатление производит танец, не жалел рук. На каком-то из тактов вдруг изменился темп танца и его направление. Если до этого танцевало гибкое целомудрие, то сейчас девушки, повзрослев, рассказывали своими движениями, улыбками, блеском глаз, что в них заключено и другое, чего не предполагали видевшие их в первой части танца.
Когда танец был закончен, обе танцовщицы подбежали к Маврикию и поклонились ему, затем хозяину, не оказав никаких знаков внимания сыновьям главного пастуха.
Вошла Агафья и сообщила, что принесли лису и пятерых лисят.
Все как в сказке. Будто волшебник этот коротконогий степной гном, с широким лицом, изъеденным оспой.
— Лиса в мешке. Она в ошейнике на цепи. Приедешь — привяжешь цепь на кол. А лисята никуда не денутся от матери, — сказал, хитро улыбаясь, Шарып.
Этот жестокий подарок не нужен был Маврикию, но сыновья главного пастуха Кусаин и Ахмед стали шептать:
— Бери, бери, бери…
Заметя смущение Маврикия, Шарып сказал:
— Не нужно будет, отдай своим джигитам, молодой товарищ комиссар. — Потом перевел глаза на девушек и спросил: — Которая лучше? Говори, положу в другой мешок…
Лицо Маврикия зарделось алее безрукавок девушек. А они ничуть не смущались, будто было вполне нормальным, что одна из них может стать подарком, как лиса.
Неужели это правда, а не злая шутка? Неужели можно дарить людей?
Наскоро поблагодарив за обед и танцы, Маврикий выскочил на улицу.
Шарып вызвался проводить гостей до половины дороги. Ехали шагом. Рассказывая о нравах, Шарып, между прочим, сказал:
— Наш человек все сделает для хорошего человека. Лису — пожалуйста. Плясунью — бери. Пусть пляшет. Кусок мяса — половина тебе, половина мне — можно. Только наш человек не любит, когда у него из зубов вырывают весь кусок. Тогда плохо бывает… такому гостю. Очень плохо. Был — и нет его… — Сказав так, Шарып улыбнулся, и от этого лицо его стало еще шире, а прорези глаз тоньше нитки. — Люби нашего человека, как любит начальник выпаса Александр Викторович Востряков.
Яснее сказать было невозможно. Маврикий понял, в чем его подозревают, зачем ублажают и на что намекают. Кусаин и Ахмед тоже поняли, но не показали этого. Им хотелось как можно скорее приехать к себе и привязать к колу рыжую красавицу с пятью лисятами и вырыть для них нору.
IV
Петр Сильвестрович Капустин стал чаще бывать на Пресном выпасе. Его заметно беспокоило все, что здесь происходило. О Вострякове и его дружбе с Шарыпом он знал больше, чем рассказал ему о них Маврикий.
В предпоследний приезд Петр Сильвестрович доверительно сказал, что Востряков будет изъят и обыскан, и все, что конфискуют у него, додадут пастухам. А теперь выяснилось другое.
Другое состояло в том, что появившееся новое начальство из Омска задержало дело Вострякова. Новое начальство должно было объединить пункты по сбору разверстки — ссыпной зерновой, сенно-фуражный и мясопункт — в большую заготовительную контору. Капустин теперь становился подчиненным, ведающим только своим мясным пунктом, лишался права найма и увольнения.
— Меня очень удивило, — рассказывал Капустин, — что и этот князек Шарыпко Ногаев тоже берется под защиту. Шарыпко, видите ли, не угнетатель, а представитель угнетенного народа и всякие притеснения Шарыпа Ногаева будут считаться оскорблением нации.
Капустин говорил о Шарыпе как о кровопийце своего народа. Как о хищном царьке царства в двадцать — двадцать пять верст окружностью. На страхе, невежестве, темноте, религии, на разжигании национальной нетерпимости ко всем не исповедующим ислам держится власть Шарыпа. Для него нет запретного, бесчестного, постыдного. Он подарил родную пятнадцатилетнюю дочь колчаковскому подпоручику за порку подозреваемых в неверности Шарыпу пастухов. Поручик потом передарил дочь своему ординарцу, а тот при переброске эскадрона оставил ее отцу, и отец перевел свое детище в «приют».
«Приютом» назывались две комнаты в нижнем этаже дома Шарыпа, куда никто не имел права входить, кроме той самой пожилой женщины, которая правила домом. В «приюте» выращивались сироты или купленные, а то и похищенные красавицы, которых можно продать, сменять, подарить, дать во временное услужение.
— Как же возможно это в наши дни? — протестовал Маврикий. — Разве его нельзя наказать и сломать это все?..
— Пока невозможно, — говорит Капустин. — Никто не подтвердит обвинений. Ни жены, ни девушки, ни дочери, ни соседи. Действуют те же силы: страх, темнота, невежество и, конечно, плеть.
Петр Сильвестрович, видя, что его слова пугали юношу, сказал, успокаивая, что теперь Шарып сам страшится больше, чем страшит других.
— И если бы он не страшился тебя, дружище, то не дарил бы тебе лису с лисятами и не предлагал бы тебе в услужение красавицу. Я, брат, все знаю, все слышу. Он видит в тебе человека из ЧК.
— Во мне? Из ЧК? — переспросил упавшим голосом Маврикий. — Как он глуп!
— Может быть… Только ты, дорогуша, не разубеждай его в этом, а наоборот. Ты получишь сегодня хорошее оружие. Главный пастух тоже получит для самообороны… А бараны, уведенные Шарыпкой с Пресного выпаса, никуда не денутся. Пусть они нагуляют мясо, а осенью он их пригонит сам.
Капустин знал больше, чем говорил. Он знал какие-то тайны, которыми не имел права делиться, но все же сказал:
— Я надеялся, когда Вострякова… — подыскивал он слово, — переведут на другую работу, ты будешь исполнять его обязанности.
Маврикию очень льстила такая возможность. Ему очень хотелось быть начальником такого громадного выпаса. И он знал, что ему под силу такая работа, потому что с ним и за него все пастухи, которых он не обидит ничем, а даже постарается для них сделать еще больше, и за это сердечные люди, умеющие ценить даже улыбку, будут относиться еще лучше к Маврикию и не дадут пропасть ни одной корове, ни одному барану.
Вообще-то говоря, степь вовсе не так скучна. Живут же люди. Прожил же здесь половину своей жизни Петр Сильвестрович Капустин, женившись на родной сестре главного пастуха Манике, ставшей теперь Марией Ивановной.
Мог бы и он, Маврикий, построить в степи городской дом и тоже поселиться здесь. В соседней юрте есть девушка. Ее тоже зовут Манике. Она так быстро запоминает русские слова, что ее совершенно нетрудно обучить всему, что знает Маврикий. Она может стать такой же, как Мария Ивановна Капустина, как все русские женщины, только личико и глаза останутся теми же, какие рисует необыкновенный художник Врубель…
Толлин, не очень веря в свою новую сказку, все же видел себя, хотя и смутно, Всеволодом Владимировичем Тихомировым — просветителем кулундинских степей. Он вооружит знаниями ставший таким близким незнакомый казахский народ.
Так хотелось мечтать, так хотелось поверить выдуманному, убедить себя в самом неожиданном. Но жизнь это жизнь, и она диктовала свое.
V
Приехавший в Грудинино новый начальник именовался длинно и незапоминаемо — уполномоченный по уточнению возможностей слияния продовольственных пунктов в единую продовольственную заготовительную контору. Ему, уточняющему эти возможности, надлежало побывать и на Пресном выпасе. И когда приезд его был назначен, начальник выпаса Востряков сказал своему помощнику:
— Вот что. Зашеин, седлай своего недоноска и скачи к Ногаеву. Скажи, что завтра прибудет начальство. А нам, мол, дескать, его негде принять, так что объясни ему, что я прошу Шарыпа позволить принять товарища из Омска у него в доме. В долгу, мол, не останемся, и все такое…
Злым несся Маврикий к Ногаеву. Как всегда, его самочувствие передавалось коню. Нервничая, Маврикий, не замечая, дергал поводья. Огонек дважды споткнулся. Испугавшись какого-то зверька, рванув в сторону, он пошел боком, чуть не выбил Маврикия из седла.
И как он попал в услужение к этому преступному типу — Вострякову? Конечно, Петр Сильвестрович Капустин предполагал совсем другое, назначая его помощником на выпас. А теперь что же? Востряков сделал своего помощника денщиком, конным курьером, исполнителем своих спекулянтских поручений. Съезди туда и вручи лично важное письмо. Найди такого-то и передай ему эту маленькую посылочку с бездымным порохом для охоты. Петр Сильвестрович велел терпеть и запоминать, куда и зачем посылает его начальник выпаса. Наверно, он хочет накопить еще больше улик по нарушению по должности, чтобы скорей изгнать ненавистного Вострякова.
В молодом человеке, приближавшемся к восемнадцатилетию, все еще жил наивный мальчик Маврик, позволяющий нередко хитрым людям обманывать себя. Он не задумывался, какие поручения Вострякова ему приходилось выполнять.
Шарып уговорил Маврикия остаться у него.
— Смотри, где солнце, — предупреждал он. — А ночью в степи могут встретиться люди, которым нужен твой Огонек.
Пришлось остаться. В самом деле, скакать одному до полуночи, не так уж твердо зная дорогу на выпас, опасно. Днем есть какие-то приметы в степи. Хотя бы видишь направление. А ночью луна, идучи по небу неизвестно куда, может сбить с пути.
Для коня нашелся овес. Для всадника — кумыс и настоящий кислый хлеб, какого не пекут казахи. Вечером пришел один из многих сыновей Шарыпа с двумя легкими винчестерами и сказал:
— Пойдем дрофу бить. Завтра большой начальник приедет.
Только в прейскурантах видел Маврикий винчестеры. Легкие, «прикладистые», нарядные пулевые ружья. И откуда только здесь, в степи, такие неожиданности?
— Тоже могу подарить, молодой комиссар, — слышится голос Шарыпа, видевшего, как очаровало ружье неподкупного Маврикия, которого нужно подкупить и тем самым обезопасить себя.
У Шарыпа есть проще способ избавиться от подозрительного парня. Степь спрячет тело. Покончить с ним не трудно. Трудно будет потом отвечать в ЧК. А ЧК обязательно вызовет и спросит Шарыпа. И обязательно найдет все. Тогда амба. Стенка. Каюк.
Настоящая большая охота на дроф южнее, но и здесь с хорошим ружьем не вернешься пустым. Лишь бы попасть. Дрофа взлетает с разбегу. Вот тут-то и целься.
— Вон, вон, вон… — указывает на бегущую птицу сын Шарыпа. — Бей!
Остановив Огонька, Маврикий, целясь, медленно ведет ствол за бегущей дрофой. Раздается выстрел. Дрофа взлетает.
— Теперь я, — крикнул сын Шарыпа спешась и, почти не целясь, убил взлетевшую дрофу. — Х-хы!
Поскакали за добычей. Там же показалась вторая. Снова первым стрелял Маврикий, и снова убил ее второй.
— Не надо как трясогузка хвостом, — наставлял Маврикия удачливый охотник. — Надо р-раз — и каюк.
Дроф нашли в ковыле сразу же и приторочили к седлам. Впервые Маврикий видел так близко пудовую птицу дрофу. Издали она кажется немногим больше цесарки. А тут… Скольких обжор нужно посадить за стол, чтобы съесть такую громадину.
Третьей дрофы, которую хотелось второму сыну Шарыпа привезти матери, не оказалось. Вечерело, и дрофы, наверно, попрятались.
Довольный чужой удачей, Маврикий надеялся купить у Ногаева винчестер, и тогда можно будет реже думать о тете Кате, о Мильве, отдавая охоте все свободное время. И опять жизнь казалась радужнее, чем она была сегодня утром и днем. У всякого своя защита от бед и невзгод. Многих спасает фантазия. Напридумает себе человек чего нет и живет в несуществующем, верит в невозможное. И когда рушится придуманное им, он, погоревав, снова прибегает к помощи своего воображения, и оно снова защищает его от невзгод.
Однако не от всего может защитить фантазия и воображение. От того, что произошло с Маврикием на второй день, не у кого было искать защиты.
Страшный это был день…
VI
С утра было все хорошо. Готовилась пышная встреча. Агафья и «воспитанницы» не выходили из кухни. Некоторым женам было особо поручено готовить национальные казахские кушанья.
Старший сын сидел на чердаке и смотрел в слуховое окно, не покажутся ли гости. Гости наконец показались, и он закричал, будто случился пожар.
Шарып вскочил на коня, и тот, боясь плети, как-то по-тараканьи побежал под тяжелой ношей. Поехал вслед за отцом и старший сын. Агафья выстроила разодетых «воспитанниц» и, для проверки, попросила спеть славословие гостям.
Вернувшийся из степи Маврикий все-таки добыл дрофу. И этим он как-то скрасил два вчерашних промаха. Отдав дрофу Агафье, он услышал топот и увидел верховых. Приближались ловко сидящие в седлах всадники. Не просто умеющие сидеть в седле, а обученные верховой езде кавалеристы. Ожидали двоих гостей, а прибывало семеро.
Интересно, что это за люди, каковы они. Маврикий стоял у дома и наблюдал, как приехавшие привязывали на выстойку своих взмокших коней. Сейчас по всему было видно, что все они, как и Востряков, люди военные. Значит, таких теперь назначают на продовольственный фронт.
Впереди других рядом с Востряковым шел высокий, стройный, несомненно военный человек. Очень знакомая походка. Какая-то совсем не подходящая к лицу борода, которая, кажется, называется шотландской. И усы. Длинные, не гармонирующие с бородой. Маврикий, наверно, не стал бы так пристально вглядываться в лицо проходившего мимо него почти рядом, если бы не шелушащаяся белесыми чешуйками кожа на его лбу и щеках.
Узнав приезжего, Маврикий инстинктивно попятился за угол дома. Похолодел от испуга. Испуг был двойным. Сначала он испугался за себя, боясь быть узнанным. А потом испуг усложнился. Маврикий испугался, что узнанный им Вахтеров мог прикончить его и сбежать. В таких случаях подобные типы действуют только так.
Маврикию хотелось скрыться, провалиться сквозь землю. И он ускакал бы не раздумывая, но его остановил Востряков:
— На выпасе никого… Дуй туда и начальствуй до моего возвращения.
— Слушаюсь, — поспешно и как никогда учтиво отозвался Маврикий. Затем, не оглядываясь, побежал к коновязи за Огоньком. И через две-три минуты ветер свистел в его ушах. Он мчался галопом. Чтобы не настигли. Не вернули. Ему нужно теперь хотя бы пять минут спокойного одиночества, и он решит, непременно решит, и правильно решит, как ему поступать дальше после такой встречи с бывшим учителем истории, сломавшим такую счастливую, такую светлую линию его жизни. И его ли только…
Никогда еще так не клокотало в нем озлобление. Оно, кажется, заполнило всего Толлина. Все его существо было занято единственной мыслью, одной заботой — не ушел бы зверь.
Внутри Толлина догорали остатки иллюзорного мира, начавшего рушиться еще в Мильве, когда стала очевидна ложь мятежников. Медленная и мучительная ломка продолжалась все это время. А теперь, после встречи с Вахтеровым, рухнуло и сгорало все.
— Вы слышите, Владимир Ильич, больше нет того Маврикия Толлина, которого вы причисляли к барчатам, господинчикам, плохо учившимся по плохим книжкам, — говорил громко, почти кричал Маврикий, говорил, словно веря, что восточный, дующий в спину ветер не даст пропасть его словам и перенесет их через Уральские горы в Москву, в Кремль.
Здесь можно снова улыбнуться и пожать плечами. Но что поделаешь? Мир состоит не из одних только очень серьезных людей. Для кого-то и ветер добрый передатчик.
Каким несказанно великолепным был этот день. Как хотелось кричать еще громче, чтобы слышали все. Как он благодарит жизнь за свое возвращение в мир, куда его восьмилетним мальчиком ввел Иван Макарович Бархатов.
Огонек чуть ли не обгонял ветер. Он знал самое короткое направление пути к Грудинину и бежал сам по себе.
В широкой степи не так часты встречи, однако при бездорожье люди передвигаются по одним и тем же путям-направлениям с погрешностями в несколько десятков сажен вправо или влево.
Впереди себя Маврикий увидел двух верховых. Он не хотел встречаться с ними. Не с ними именно, а вообще ему не нужны были никакие встречи, и он взял левее и поскакал в объезд озерца, поросшего камышом, зная, что всадники проскачут коротким путем с другой стороны озера. Так и было. И очень хорошо, что было так, а не иначе. Потому что в одном из всадников Маврикий узнал Кузьму Севастьяновича Смолокурова, а в другом Чичина, кулака из Омшанихи.
Сначала это не показалось странным. Мало ли. Едут и едут к Шарыпу. И вся недолга. Он же знакомый Смолокурова. Когда-то дарил ему казачка Ивашку. А потом Маврикий задумался: ради чего такое сборище? Когда же в полуверсте проехали еще двое, из дальнего села Лапнино, куда гонял Маврикий с поручениями Вострякова, пришлось поставить все в связь и вспомнить тихий тюринский дом в Мильве, где враги собирались для невинных карточных игр, где бывали домашние концерты…
А что, если и теперь Вахтеров замышляет новое кровопролитие? Чичин… Смолокуров… Двое богатеев из Лапнина. Разве не такие же, как они, подымались с оружием в руках на работников продовольственного фронта?
Думай, Маврикий. Взвешивай все. Не верь и благодушному Кузьме Севастьяновичу, так приласкавшему тебя. Зачем? Не просто же так. Не этот ли добрый человек выгнал Прошку, как ненужную опаскудевшую собаку?
Беги скорее, милый конек Огонек. Маврикий должен встретиться с Петром Сильвестровичем Капустиным и рассказать ему все… Все, начиная с тюринского дома, ничего не утаивая. Теперь нечего и не от кого таить. Нужно говорить все и не бояться быть в ответе за то, в чем виновен. И он ответит. Он заплатит любой ценой, лишь бы живым был схвачен самый ненавистный, самый преступный человек, какого только можно представить.
ПЯТАЯ ГЛАВА
I
После встречи с Вахтеровым все настораживало Маврикия. В Адлеровке он увидел конный отряд в тридцать или немногим больше сабель. Отряд и отряд. Может быть, он находился здесь на учениях. Степь рядом. Есть где разгуляться кавалеристам. Но зачем, для чего они здесь? Не мятежники ли уж?..
В самую последнюю минуту перед встречей с Капустиным Маврикий побоялся открываться ему. Хороший. Справедливый. На правильных позициях. Это все верно. А так ли уж хорошо знает он Капустина? Конечно, нельзя подозревать каждого… Но если вспомнить Мильву… Какие были там солидные люди, а сколько раз они меняли свой цвет.
Нужно пойти на станцию. Там есть представитель ЧК, с ним нужно и говорить. И он пошел на станцию. На полдороге ему показалось, что представитель станционного ЧК не сможет самостоятельно решить сложного вопроса. Нужно ехать в Татарск. И только в Татарск. Но как? Необходима командировка. Он же не сам по себе. И наконец Маврикий находит причину. Ему, оказывается, нужны для работы очки. Разные глаза. А такие очки можно достать только в Татарске или даже в Омске.
— Поэтому, — попросил он Капустина, — вы мне дайте командировку и туда и сюда. А вдруг там нет…
И вот он в пути. Дорогой он раздумал заезжать в Татарск.
В Омске, большом губернском городе, его лучше поймут, и решится все сразу.
Ранним утром Маврикий явился в губчека и сказал, что приехал из Пресного выпаса по особо важному делу, «к самому главному». Он так и сказал «мне к самому главному», и его направили к Беляеву. В прошлом формовщик из Нижнего Тагила, Василий Беляев еще в годы реакции показал себя находчивым и смелым подпольщиком. Здесь он по заданию ВЧК занимался оставленными в Сибири и неразоружившимися врагами.
В это утро Василий Семенович закончил последний разговор с Антонином Всесвятским, убежавшим в девятнадцатом году за рубеж и засланным оттуда с группой белогвардейцев.
Войдя к Беляеву, Маврикий тотчас же начал, торопясь и заикаясь:
— Я работаю в Грудининском мясопункте. Вот мое командировочное удостоверение. Только я приехал сюда не за очками, а совсем по другому делу.
— Очень хорошо. Прошу садиться, — любезно пригласил Беляев.
— На Пресном выпасе, где я выполнял отдельные поручения моего начальника, я встретил скрывающегося преступника Вахтерова, о котором нельзя рассказать в двух словах, и я позволю попросить у вас, товарищ…
— Называйте меня Василием Семеновичем.
— Я прошу вас, Василий Семенович, разрешить рассказать мне с самого начала.
— Пожалуйста, пожалуйста…
— Только прошу вас, не подумайте, что я, рассказывая о преступлениях белогвардейца Вахтерова, хочу выгородить себя. Мне этого не нужно, и я тоже ничего не утаю и о себе.
— Я в этом совершенно уверен, — сказал Беляев. — Я с первого взгляда почувствовал, что имею дело с правдивым и смелым человеком.
Маврикий смутился и сказал:
— Насчет смелости вы ошибаетесь, Василий Семенович. У меня все еще вздрагивают коленки.
— А это нормально, — заметил совсем по-свойски Беляев. — ЧК же. А сколько о ней наплетено всякого. Послушаешь, что про чекистов болтают обыватели, так и сам себя в зеркале боишься.
Чуткий к юмору Маврикий оживился:
— У вас уральский выговор, Василий Семенович.
— Земляк земляка видит издалека. Я тоже сразу решил, что вы из наших мест, когда вы еще рта не раскрыли.
— Как же это так?
— Наши заводские ребята портянки чуть ли не до самого колена наматывают, и всегда край из сапога торчит. Вон он, милый.
Беляев указал на уголок портянки, торчащий из сапога Маврикия, и этим окончательно расположил его к себе.
— Простите. Я отвлек вас. Рассказывайте без всяких стеснений и церемоний.
— Благодарю вас, Василий Семенович. Тогда я начну с того, как у нас появился новый учитель истории…
Беляев кивнул головой, и Маврикий, почти не волнуясь, стал говорить:
— Этот тип появился на Мильвенском заводе, будто сойдя добрым другом юности с очень хороших страниц задушевной книги.
Маврикий говорил о Вахтерове всесторонне и обстоятельно, желая показать этим, что его увлеченность учителем истории вовсе не была легкомысленной, тем более что будущий главарь мятежа сумел обольстить и взрослых, опытных людей.
Когда рассказ подходил к мильвенскому мятежу, Василий Семенович дружески положил свою руку на руку Маврикия и сказал:
— Я боюсь, что не запомню всего. В соседней комнате никого. Может быть, лучше всего пройти туда и не торопясь написать об этом бандите все, что вам покажется необходимым. Как вы думаете, товарищ Толлин?
— Откуда вы знаете мою настоящую фамилию?
— Настоящую? А разве у вас есть еще не настоящая?
— Да. Хотя нет. Вторая тоже настоящая. Это фамилия моего деда.
— Зашеин?
— Значит, вы знаете всё. Это и понятно. ЧК. Но я не боюсь ответить за все. А теперь я хочу не о себе, а о Вахтерове.
— Тогда прошу в эту комнату. Здесь никого.
Оставшись один, Маврикий оглядел небольшую комнату. На стене над столом висел портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Вглядываясь в его черты, Маврикий отчетливо припомнил, что видел его. Только не мог установить где. Или в Разливе. Или в Смольном. На другой стене был портрет Ленина. Тоже очень хороший портрет и очень похожий на Владимира Ильича.
Как странно, как невероятно странно, что он, Маврикий Толлин… Впрочем, сейчас не время думать о себе. Нужно собрать все силы, поднять все обиды и покончить с Вахтеровым.
Взяв лист бумаги, он не знал, как озаглавить, с чего начать. Подумав, он тщательно вывел: «ОБВИНЕНИЕ».
II
Написав такое заглавие, им было найдено все остальное. О Вахтерове он говорил в третьем лице.
Писалось легко. Слова сами приходили на перо. Словно ими была начинена чернильница и в каждой капле чернил заключался страшный и жестокий, но справедливый яд мести.
Надеясь, что обвинение будет переписано набело, Маврикий не очень следил за стилистикой. Он рассказывал о покосах, о ночном выгоне коров, о длительной подготовке мятежа, о подрывной работе в деревне, о поджоге домов коммунистов, о натравливании населения на Советы. Теперь вспоминалось и то, что тогда не замечалось им. Но все это были мелочи по сравнению с самым тяжким. Маврикий писал:
«Он глумился над самым сокровенным. Притворяясь революционером, Вахтеров хотел прикрыть красным знаменем свою черную ложь, свои замыслы восстановления власти капиталистов и помещиков. Он, скрывая свою принадлежность к партии вралей, к партии аферистов и убийц, проповедовал то, что ненавидел, во что никогда не верил, — братство людей. Он продуманно назвал свору мятежников «революционной гвардией» и продуманно нацепил бандитам и обманутым им людям не какие-то, а красные повязки».
Как всегда, торопливость взяла в свои руки инициативу, и на пятой странице своего обвинения Маврикий писал все подряд: и про обманные деньги «мильвенки» и реквизиции за Камой под такие же, как и деньги, ничего не стоящие расписки. Зато когда Маврикий писал о «стратегических камерах», тут и строки были ровны и мысли строги.
«В самом названии «стратегические камеры временной изоляции» заключено все. И обман, и трусость. Обман и трусость — это его нутро, его способ действий».
Уже много исписано страниц. И Маврикию так хочется сказать о том, как надругался Вахтеров над ним, как он затуманил самое светлое, что было так дорого Толлину. Но как-то неудобно в большом обвинении, которое как бы идет от тысяч жителей Милввы, говорить о себе. Кто он? Кто? Единичка среди тысяч людей; Одна жизнь в море смертей и жизней. И так ли уж много значат его переживания, обиды…
О себе он не будет писать в этом обвинении. Он должен быть благодарен за то, что ему предоставилась возможность обвинять. И он это делает не от себя, а от тех, кто сейчас стоит за ним там, в Мильве, кто лежит в ее земле, поплатись за свою доверчивость.
Теперь остается сказать о встрече с Вахтеровым на Пресном выпасе. И, ничего не утверждая, предупредить о Чичине, Ногаеве, Смолокурове и о всех тех, которых видел там Маврикий. Конечно, Маврикий не может сказать наверняка, что это новый заговор, новая организация мятежа. Однако же он не может и утаить своих подозрений.
В комнату, где Маврикий начал переписывать свое обвинение, вошел Василий Семенович и сказал:
— Стоит ли? Переписка не всегда полезна. Конечно, она улучшает в смысле слога вылившееся на бумагу, но, улучшая слог, охлаждает жар слов.
Не столь радивый на всякого рода переписки, Маврикий был благодарен Василию Семеновичу.
— Конечно, конечно… Машинистка это сделает лучше. Лишнее всегда не поздно вычеркнуть.
— Это мы с вами сделаем до перепечатки.
Беляев взял листы и углубился в чтение.
Маврикий снова разглядывал портреты и снова думал о себе, о своей исковерканной жизни. Он думал о том, как хорошо, что ему предстоит признаться такому вдумчивому и доброжелательному человеку. Вместе с тем очень жаль огорчать такого человека. Очень.
Маврикий! А может быть, ты хитришь с самим собой? Может быть, тебе стыдно и боязно говорить про себя правду?
Может быть, и так.
Окончив чтение, Василий Семенович опять положил свою руку на руку Маврикия и сказал:
— Это очень здорово, друг мой. Принципиально партийно.
— Правда, Василий Семенович?
— Ну а почему же не правда? Мы как-никак в ЧК, где не бросаются словами.
— Да, конечно, — тихо отозвался Маврикий, отвернувшись к окну. — Поэтому я сейчас расскажу о себе. Хотя мне и очень трудно разочаровать вас, Василий Семенович… Так трудно, что даже застревают слова.
— Ну, а коли застревают, так нечего их насильно выдавливать оттуда и терзать себя.
— Нет, я должен… Я не имею права далее… Я прошу вас, выслушайте меня, Василий Семенович…
И Маврикий принялся, волнуясь и заикаясь, говорить о себе и наговаривать на себя. И чем больше рассказывал он, тем легче становилось ему.
Беляев с неослабевающим вниманием слушал его, смотрел ему в глаза. А в них испуг и радость. Беляев повидал за эти годы работы в ЧК множество глаз и умел читать по ним.
Когда Маврикий рассказал все, Беляев сказал:
— И очень хорошо, что все так счастливо кончилось.
— Кончилось? — переспросил Маврикий.
— Не началось же?
— И что же теперь будет мне?..
— А что должно быть? Может быть, ты не все рассказал?
— Нет, все…
— Тогда чего же ты хочешь?
— Наказания!
— Ах, вот как… Это интересно. Только мне, братец мой, твоими преступлениями перед Советской властью заниматься некогда. Пусть этим вопросом займется Иван Макарович или Валерий Всеволодович, если у них есть свободное время. Они уже, кажется, занимались твоими грехами…
— Как вы можете знать это всё? Кто вы? — спросил Маврикий.
— Кто я? Если бы у тебя была зрительная память такая же, как хотя бы у меня, я ведь тоже не сразу признал тебя, ты рассмеялся бы. Помнишь монаха, который приходил в дом Тихомировых? Хотя ты, кажется, не видел меня там. Но зато ты подглядывал — это я точно знаю — на Омутихе, когда Иван Макарович и я спасали Валерия.
— Так это были вы?
— Я. Вот видишь, до чего доводит монашество… Год уж здесь, вычерпываю остатки колчаковщины… А наказание? Может быть, тебе пойдут навстречу в Мильве и накажут тебя. Только, я думаю, и там этого не сумеют сделать, — сказал Василий Семенович совсем дружески. — Не все ведь приходят к Советской власти по ковровой дорожке. Случается, что идут и длинными, трудными путями. Старое не так просто расстается с нами.
Василий Семенович потрепал по плечу Маврикия и подал ему последний лист обвинения:
— Подпиши. Как-никак юридический документ. Да своей фамилией, а не дедовой…
Отправив Маврикия на вокзал, Василий Семенович вернулся к своим делам. Вызвав помощника, он сказал:
— Прочитайте это обвинение, написанное кровью пылкого сердца. Затем отдайте листы в перепечатку. Один экземпляр вручите Вахтерову. Ему будет что почитать напоследок… Второй экземпляр отправьте в Мильвенский городской комитет партии. Для сведения.
III
Теперь все смеялось, все улыбалось: дома, улицы, окна, двери и, конечно, солнце. Василий Семенович Беляев ничего не сказал особенного Маврикию, а между тем он будто подарил ему волшебный пароль и сделал для него открытыми все пути. И путь в Мильву. В милую Мильву, казавшуюся еще так недавно потерянной навсегда.
Не помня себя и не заметив, кажется, дороги из Омска в Грудинино, Маврикий встретил на станции техника, которого знал по имени и фамилии и с которым не был знаком. Он подошел к нему и заговорил первый:
— Здравствуйте, Сережа Бабушкин!
— Здравствуй, Маврикий Толлин! Значит, не зря говорили, что тебя видели в Грудинине.
— Не зря, значит…
Малознакомые люди из одного города, встретившись далеко от него, оказываются чуть ли не родными.
Сережа Бабушкин рассказал Маврикию о тетке, о матери, сестре. Все живы, здоровы. Было сказано, что Ильюша и Санчик ждут Маврикия с нетерпением. Оказывается, друг Маврикия Виктор Гоголев, так звавший его за границу, одумался и вернулся с Дальнего Востока в Мильву. И не просто вернулся, а еще вступил в комсомол. И этому никто не удивляется.
Никто не удивляется и тому, что слизень по фамилии Сухариков тоже вернулся в Мильву и руководит хоровым кружком в клубе металлистов. Как можно не удивляться этому?
Так чего же, спрашивается, опасался он, Маврикий Толлин?
О Лере Тихомировой Сережа Бабушкин сообщил мельком и вскользь. Оказывается, у них снова бывает Воля Пламенев, и очень похоже, что он… Что он ее жених.
И пусть. Ей уже пора. А ему еще далеко не пора. И, наверное, не очень скоро будет пора.
Рассказать о Мильве Бабушкин мог бы еще и еще, но Маврикий очень спешил. Он еще не виделся с Огоньком. Земляки условились встретиться на складе запасных частей, куда и приехал Бабушкин, сопровождавший очередные вагоны из Мильвы. А Маврикий отправился к себе, где оставался конь под надзором Сени. Огонек, услышав голос Маврикия, заржал. А Сеня выпустил его из пригончика, и конь подбежал к хозяину.
Огонек терся мордой о плечо Маврикия. Ржал. Пританцовывал. И наконец, начал валяться с боку на бок.
И чем больше выражал радость Огонек, тем тяжелее было думать Маврикию, как поступить с конем перед отъездом. Стараясь уйти от этих мыслей, он пошел к Петру Сильвестровичу. Нужно же было узнать о Вахтерове.
Капустин сказал, что Вахтеров с выпаса не вернулся. И не вернулся никто из тех, кто в тот день приехал на сборище к Шарыпу Ногаеву.
Из разговора с Капустиным нетрудно было понять, что ему известно было о сборище у Ногаева за несколько дней. И по всему видно, что Маврикий не первый открыватель вахтеровского заговора.
Однако и Капустин не был первым, кто раскрыл замышляемое злодейство.
Петр Сильвестрович Капустин не знал, что грудининский священник отец Георгий, оскорбленный визитом к нему Вахтерова, первым заявил начальнику милиции о гнусном предложении. Оказывается, Вахтеров, твердо веря, что всякий поп — контра, пришел к отцу Георгию и без особых церемоний предложил ему войти в штаб межволостного заговора, а также назвать фамилии тех, на кого можно опереться. Ошарашенный священник обещал подумать и отправился в милицию.
Третьим, кто помог обнаружить злодеев, был главный пастух Пресного выпаса. Помог и бывший председатель комитета бедноты в Омшанихе раскрыть кулацкий заговор. Так собралось немало сведений о назревающих кровавых событиях.
Вахтерова и его сподвижников арестовали до приезда Толлина в Омск. Дом Шарыпа был окружен ночью тем самым конным отрядом, который видел Маврикий в Адлеровке. Об этом вдолге узнает Толлин. И не огорчится, а, наоборот, будет рад, что наступило такое время, когда невозможны заговоры, мятежи, волнения, потому что сам народ, большинство людей хватают врага за руку.
IV
В Грудинине Маврикия уже ничто не задерживало, кроме Огонька. Везти коня, когда такое затруднение с вагонами, — невозможно. Невозможно и отправиться на нем в Мильву. И даже если б Маврикий сумел преодолеть на нем такое расстояние… А что потом? Где он будет находиться? Чем его кормить в Мильве? А если будет где и будет чем — так не превращаться же в Якова Евсеевича Кумынина? Здесь конь это ноги, а там это обуза.
Это все верно. Но разве возможно оставить здесь такого верного друга? Даже с собакой трудно расставаться, а ведь это же лошадь. Конь. С такими умными глазами. С таким удивительным слухом. С такой способностью понимать слова, настроение… Но не оставаться же ради Огонька здесь, не лишать же себя Мильвы? Нужно же здраво смотреть на неизбежное. Трезво. Серьезно.
Сказав себе так, Маврикий решил Огонька продать. Потоскует конь, погрустит Маврикий, а потом успокоятся.
Узнав о таком решении Маврикия, хозяйский мальчик Сеня осунулся на глазах. Он не представлял, как может не быть Огонька. А нужно было не только представить, но и увидеть, как его возьмут за повод и уведут со двора.
Пронюхав об отъезде Маврикия и о продаже Огонька, первым заявился Прошка Курочкин. Бывший муж Фисы.
— Здорово, писарек! — сказал он. — А я женился на настоящей. Одних годов со мной деваха. И румянцу много. Шея даже красная. Любит. Из рук выпустить боится. Не то что та… Но и она тоже обкрутила вокруг своих костей одного, Царевичем величает. Из Ляпокурова он. Из конторских людей.
У Маврикия ревниво защемило сердце, чего-то было жаль, чего-то стыдно, но раскаиваться не хотелось.
Прохор рассказал, как он разделался с Кузькой Смолокуровым, то есть со своим тестем Кузьмой Севастьяновичем.
— Он мне за Фиску все отступное полностью выдал до рыбки, до горсти, до курицы. Только гусака зажилил. Сдох у него гусак. А мне какое дело? Отдай. А он опять меня пинком. Ах так, думаю, я напряду тебе, язви тебя. И в волость. А в волости обсказал, как на Щучьем острове они, кулацкие хари, винтовки, пулеметы салом в ящиках да бочках заливали да в воде в камышах прятали. От меня тогда не таились они. Так я до последнего ящика, до последней бочки выискал и показал. Все добыли в камышах. А его в Омск вместе с Шарыпкой. Одной варовиной вязаны. Я их всех на чистую воду вытянул. А сам, наверно, теперь в партию запишусь. Мне что? Хуже не будет. Я и в партии могу состоять… Я ведь не то что ты — неизвестно кто. Хорошо, что ушел от него. А то бы тоже запутался… Так сколь ты, писарек, за Огонька хочешь?
— Мне ничего не нужно, — ответил Маврик, открывая калитку. — И вообще тебе лучше уйти отсюда… Огонька я не продам.
Обескураженный и трусоватый Прохор вышел прежде за ворота, а за воротами сказал:
— Контра! И до тебя доберутся в Омске…
Несказанно радовался Сеня. Он уже готовился к тому, что кто-то купит рыженького конечка. Кто-то, но не Прошка Курочкин.
На мясопункте был получен полный расчет с неожиданными добавками пшеницей. Оказывается, в губпродкоме спохватились, что продовольственные работники почти ничего не получали за эти годы, решили уплатить им за прошлое. Натурой.
Маврикий получил порядочно зерна и с помощью Петра Сильвестровича Капустина превратил пшеницу в продукты, наиболее легко перевозимые, и вещи, которые понадобятся и Маврикию и его семье.
Нужно было не тянуть с Огоньком. Петр Сильвестрович предложил:
— Я куплю твоего Огонька для внука. — Он назвал цену втрое бóльшую, чем было отдано Смолокурову.
— Не стоит же он этого. Огонек, Петр Сильвестрович…
— Мне лучше знать, что стоит он. Я никогда не передавал лишнего.
Теперь у Маврикия оказался огромный пшеничный капитал. И он долго не мог уснуть, прикидывая, что еще можно выменять на базаре и увезти в Мильву. Можно было купить и охотничье двуствольное легкое ружье. И велосипед. В Грудинино приезжали люди из далеких губерний выменивать на хлеб самые неожиданные вещи. Появлялись и велосипеды. Здесь они, в степном краю, что твой конь.
Неплохо, если Огонек оставит по себе память, став хорошим дуксовским велосипедом. Очень неплохо. Думая о велосипеде, о том, как он разберет его и упакует, Маврик услышал беспокойство в конюшне. А вдруг Прошка, которого следовало бояться, пробрался к Огоньку?
Маврикий вскочил, вылез через окно и подбежал к конюшне. Замер. Прислушался. Он услышал:
— Огонек, я тебя так люблю, Огонек. И ты любишь меня. Не сердись, Огонек, что у нас нет пшеницы и отцу не на что купить тебя. Когда б я был постарше. Огонек, я бы нанялся в работники к богатому мужику и получил бы задаток и выкупил бы тебя у твоего хорошего хозяина. Только твой хороший хозяин не знает, что капустинский внук уросливый парнишка и он будет мучить тебя. И мне будет так жалко тебя, мой конечек Огонечек.
Невозможно сказать, кто больше страдал сейчас — Сеньша ли, произносивший слова прощания с Огоньком, или Маврикий, слушающий Сеню.
Перед глазами предстал пермский пустырь за богадельней, странствующий балаган и Арлекин, которого обнимает за шею восьмилетний Маврик и говорит трогательные слова прощания ласковому пони, которого продает уезжающий хозяин балагана.
Почти не спал в эту ночь Маврикий. Уснувши поздно, встал не рано. Пришел уже Петр Сильвестрович.
Маврикий протер глаза. Наскоро надел гимнастерку. Потом подошел к Капустину.
— Я не могу, я не имею права, оказывается, продать мою лошадь, — начав так, Маврикий взволнованно рассказал Капустину, как он, восьмилетним мальчиком, любил маленького пони Арлекина и как этого Арлекина купил старик, торгующий вразвоз пареными грушами.
И Петр Сильвестрович сказал:
— В таком разе и я не имею права купить этого коня, которому суждено осчастливить стольких людей и… меня.
Нетрудно представить, как, совершенно обезумев от радости, Сеня поочередно обнимал то Маврикия, то Огонька.
Не за одного Сеню радовался Капустин, но и за большое человеческое сердце, за его неистребимую потребность заботиться о людях, делать для них хорошее.
Едва ли Сеня был счастливее, получая коня, нежели Маврикий, отдавая его.
Было принесено и седло.
— Тоже дарю, — сказал Маврикий. — При свидетелях…
…На другой день из Грудинина уехал малопонятный молодой человек, оставивший по себе хорошую память.
ШЕСТАЯ ГЛАВА
I
Екатерина Матвеевна встретила племянника в Перми. Пробыв там с ним несколько дней, экипировав его, подготовив к встрече с Мильвой, чтобы волнений и неожиданностей было как можно меньше, она, наконец, объявила:
— Теперь можно на пароход и вверх по матушке по Каме…
А наутро…
…наутро как назойливый призрак на камском берегу стояла Буланиха. Ее отчетливо различил Маврикий с палубы парохода и спросил:
— Тетя Катя, неужели жива Буланиха?
— Чему же ты удивляешься? Лошади долго живут.
— Да, конечно… Моему Огоньку только пять лет. Совсем молодая лошадь. Можно и свидеться… Можно специально съездить на встречу.
— Ты это обязательно сделаешь. Разве там у тебя один Огонек? Сколько там у тебя и других хороших и больших «огней».
— Да, тетя Катя. Я думаю, что Сибирь вырастила меня. Мне кажется, что там я прожил долго-долго. Лет двадцать… Так мне кажется, наверно, потому, что прожитое там время было каким-то очень густым.
Пароход причаливает к пристани. На берегу стоит Яков Евсеевич Кумынин. А с ним, помахивая хвостом и слегка поскуливая, сидел второй призрак из детства, милая собака Мальчик. Наверно, не просто так появились здесь и Мальчик, и Буланиха, не говоря уже о Якове Евсеевиче. Наверно, Екатерине Матвеевне хотелось напомнить тот давний приезд из Перми, когда Маврикий так рвался в родную Мильву. Те же чувства владеют им и сейчас. Жизнь возвращает ему казавшееся потерянным.
Он не садится в коробок. Лошадь заметно стара; Как-то неучтиво к ее годам заставлять везти такого здоровенного… во всяком случае, не маленького парня. Достаточно того, что едет тетя Катя. Яков Евсеевич идет возле коробка пешком. Он теперь сознательный-сознательный во всех отношениях, и ему кажется, что был таким всегда. Эта забывчивость так очевидна для Маврикия. И он, не зная того, накапливает в себе, своей памяти речь, которую он произнесет спустя много и очень много лет.
Милый песик Мальчик, проживший эти трудные годы у Кумыниных, попризабыл Маврикия. Может быть, и нет, но ему приходится делать вид, что, кроме Якова Евсеевича, у него никого не было и нет.
На перевале Мертвой горы, как в тот год, когда Маврику было восемь лет, на этом же самом месте, этой же Буланихе Яков Евсеевич Кумынин так же говорит «тпру», и открывается панорама милой Мильвы и огромного, хотя и не столь большого, пруда, каким он казался в детстве.
Не все, но уже многие трубы дымят. Яков Евсеевич Кумынин, указывая кнутом на завод, как бы не Маврикию, а воображаемому собранию не говорит, а докладывает:
— После разгрома проклятой и ненавистной колчаковщины мы, передовые рабочие Мильвенского завода, окромя возрождения старых цехов, запустили на три смены новый цех запасных частей для сельскохозяйственных машин, предполагая изготовлять не в далеком, а в скором времени и самые машины…
— Вы в партии, Яков Евсеевич?
— Смешно довольно… А где мне быть, когда я… Ну, да ты сам знаешь, как я шел и как я пришел в свою партию.
Об этом спустя много лет, не называя фамилии Кумынина, в своей речи, посвященной великой дате, тоже скажет секретарь краевого комитета КПСС товарищ Толлин М. А. Но это когда еще будет. Для этого нужно столько прожить и пережить. Пока же будущий секретарь краевого комитета, даже не комсомолец, стоит на перевале горы и кричит:
— Здравствуй, Мильва… Родная Мильва!
Он кричит так громко, что Мальчик, вспоминая озорные годы своего и Маврикова детства, радостно лает с Мертвой горы на весь белый свет.
Под гору можно сесть в коробок. Ходок сам катится. Уклон пойдет до самого пруда. И Маврикий садится в коробок, надев свою новую синюю, длинную, почти кавалерийскую шинель, сшитую перед отъездом. Вообще он решил ходить в полувоенном. Не пиджак же надевать ему. Тогда потребуется рубашка с удавкой. Это будет слишком по-приказчичьи. У него хорошая гимнастерка. Умеренные галифе. Легкие хромовые сапоги. Настоящие, хорошего покроя, московские сапоги. Усевшись в коробке, он одну ногу в хромовом сапоге оставил за коробком. Не потому, что в коробке тесно. Дело в том, что Маврикий Андреевич еще не перестал быть немножечко хвастливым человечком. Это пройдет, а пока что есть, то есть.
Встреча с Мильвой радует его. А встреча с мильвенцами не то что пугает… Бояться нечего… Встреча с мильвенцами настораживает его.
Разумеется, сначала он увиделся с матерью. Она, подготовленная, видимо, теткой, ни о чем не спрашивала, только плакала, и целовала, да шептала: «Счастье ты мое», «Надежда ты моя». А сестрица Ириша сначала робела, а потом, как пришитая, стояла возле него. Еще бы. Единственный старший брат. В нем отчасти заключен и потерявшийся отец. Никто не говорил — погибший или сбежавший, а — потерявшийся, пропавший без вести. А вдруг явится? Являются же.
II
В первый же день приезда мать вынула из сундука фотографический аппарат фирмы «Ернеман» и положила его на стол со всеми принадлежностями, которые были давным-давно куплены Герасимом Петровичем. Тут было все: и потерявшие чувствительность пластинки, и бромосеребряная бумага, и пробирочка с проявителем и фиксажем-виражем. И красный матерчатый колпак на керосиновую лампу. Все, вплоть до ванночек.
Мать думала, что сын обрадуется аппарату. А он не обрадовался. Аппарат напомнил ему те годы, когда он так страстно хотел хотя бы подержать его в руках. Посмотреть, как закрывается затвор. Как уменьшается и увеличивается диафрагма, полюбоваться отражением на матовом стекле. А его лишили этой радости. Аппарат лежал в сундуке, стяжая не радость, а ненависть к себе.
Маврикий сказал матери:
— Отдай, продай, подари… Не хочется мне, мама, даже смотреть на него…
Аппарат снова оказался в сундуке. Ведь подрастает Ириночка. Может быть, пригодится ей.
Матери казалось, что выросший сын будет дальше от нее, а он стал ближе. Только очень странно было чувствовать, что у него усы.
Начались встречи. Как всегда в жизни Маврикия, случалось то, чего не хотелось. Попадались на глаза те, с кем можно бы и не видеться.
Встретился Модестик. Тот самый сын ветеринарного Врача, который никуда, по совету папочки, до поры до времени не примыкал. А теперь примкнул. Вступил в комсомол. Потому что уже все ясно. Советская власть не только удержится, но и будет жить. Ее признают одна за другой державы. Как же не признать Модестику и его папе? И войн не предвидится. Интервенция провалилась. А состоя в комсомоле, легче поступить учиться. Хотя и не сын рабочего и не сын крестьянина, но член РКСМ. Одно другого стоит.
Модестик стоял на перекрестке, видимо кого-то поджидая или просто так — не встретится ли кто? На Модестике была синяя сатиновая блуза без пояса. На голове — кепка. И вообще вид у Модестика был довольно пролетарский.
Завидев Маврикия, он крикнул:
— Здорово! Нашелся, значит. Я знал, что приедешь… Ничего, не робей. Конечно, жаль, что ты сбивался с пути.
В ответ на это Маврикий посмотрел на Модестика и, будто не узнавая или видя его впервые, прошел мимо.
Они разошлись, понимая, что больше встречаться им незачем. Маврикий не прошел и двух кварталов, как повстречался второй, ненавистнейший из ненавистнейших. Как будто кто-то нарочно подослал его навстречу. Это был Сухариков.
Он теперь, отрастив длинные волосы, еще больше походил на рано состарившуюся девку. Длинные волосы и рубаху на манер толстовки носил он потому, что принадлежал к людям искусства. Он руководил хоровым кружком в клубе металлистов.
Увидев Маврикия, Сухариков и в эту, третью встречу заметно перетрусил, а потом, после каких-то первых «нащупывающих слов», понял, что камня за пазухой Толлин против него не носит, стал лепетать нечто примиряющее:
— Что сделаешь, мы с тобой ошибались…
Сухариков вовсе не собирался этими словами взбесить Толлина.
— Мы? Когда ты говоришь «мы», то в это местоимение множественного числа не включай меня. Ты и я ошибались по-разному. Запомни это раз и навсегда. Ты и я — разные местоимения единственного числа. Иди. А то, не ровен час, от тебя опять будет попахивать…
Сухариков быстренько свернул за угол, поняв, что ему лучше всего руководить хоровым кружком где-то в другом городе.
III
Предстояла встреча с Ильюшей Киршбаумом и Санчиком Денисовым. К ним Маврикий и шел. Они назначили встречу там, где на лужке был когда-то пароход и где теперь стояла беседка, увитая плющом.
Маврикий очень боялся, что друзья начнут жалеть его или, хуже того, вызовутся в покровители, защитники. А ему не нужно никаких защит. Хватит. Да и много ли знают они о нем?
Когда Маврикий пришел в беседку, они уже были там. Обнялись сразу трое. И первым заговорил Иль:
— Как бы мы ни начали разговор, Мавр, куда бы ни повернули его, все равно скажем не то, поэтому лучше сядем и помолчим и поглядим друг на друга.
И они принялись молчать и разглядывать один другого после такой долгой разлуки. Ильюша брил уже не только усы, но и бороду. У Санчика едва пробивался пушок на верхней губе. И тот и другой были также в сапогах и в гимнастерках. Помолчав, Маврикий предложил:
— Говори, Иль. Я не обижусь.
— А мне нечем и не за что обидеть тебя. Мавр. Клянусь самым дорогим. И когда я думал о тебе, особенно в этом году, то я пришел к убеждению, что и я мог бы оказаться таким же обманутым, как и ты.
— И я мог бы, — сказал Санчик.
— Ребята! Вы щадите меня?
— Что ты. Мавр? Мы ищем у тебя прощения за то, что не разуверили тогда тебя… Но что мы могли, если более сильные люди разводили руками. Да зачем об этом… Об этом по крайней мере не надо говорить лет пять… Сейчас пойдем к нам. Тебя очень хотят видеть отец и мать.
— А Фанечка?
— Она неделю тому назад вышла замуж и уехала в Кронштадт.
— За…
— Ты угадал! За! За кого же еще?.. Какой она стала красивой. Про сестру так не говорят. Но есть же объективное измерение…
— А как Лера? Она еще не…
— Не вышла. Я видел ее, когда провожал Фаню. Лера несколько раз спрашивала, когда ты наконец приедешь. Она очень хочет видеть тебя.
— Спасибо, Иль. Я тоже хотел бы увидеть ее.
Разговаривая, молодые люди дошли до медведя. Он по-прежнему шел по своему гранитному постаменту и нес на себе якорь. Старинный четырехлапый якорь.
Знакомый чугунный зверь очень развеселил Маврикия.
— Вы знаете, ребята, — сказал он, — теперь наш горбатый медведь никого и ничего не олицетворяет. Нужно со дна пруда достать старую корону и установить ее у него на спине вместо этого дурацкого якоря. К памятникам старины мы, ребята, должны относиться с уважением.
— Я согласен с тобой, Мавр. Как хорошо, что мы ее утопили тогда и она сохранилась. Ее никто не переплавил, не перековал.
И Санчику понравилась затея восстановить медведя в прежнем виде.
— Ведь ему больше чем двести лет. Только смыть надо краску и оставить его таким, как был.
Порешив с медведем, три друга шли дальше через плотину в Замильвье. Киршбаумы жили в заводском доме. Григорий Савельевич был по-прежнему коммерческим директором завода. Анна Семеновна заведовала типографией, некогда принадлежавшей Халдееву, расширенной теперь до неузнаваемости.
Что-то скажет Григорий Савельич? Впрочем, что бы ни сказал он, у него особые права. Он не чужой дядька. Маврик у него сиживал и на коленях.
Киршбаумы встретили Маврикия, как самого близкого и родного человека… А первой выбежала Васильевна-Кумыниха:
— Горюшко ты наше… Родименькое, — обнимала старуха Маврикия. — Слава тебе господи, пресвятая богородица, жив, здоров и губа колючая.
В столовой стол накрытый для пельменей. Это сразу видит опытный взгляд всякого мильвенца. Набор уксусов, набор перцев, горчиц (сладкая и злая), сметана и все прочее. Это же сюрприз. Любимейшее блюдо гостя.
На пельмени пришел Артемий Гаврилович Кулемин. Будто случайно. Так же неожиданно явился и старик Лосев. Ни Григорий Савельевич, ни Анна Семеновна не касались «острых углов».
Не касался их и Артемий Гаврилович Кулемин.
— Хоть бы вы что-то сказали обо мне, — попросил Маврикий Кулемина.
А он на это совсем просто сказал:
— Да мы с тобой не в бухгалтерии, чтобы дебеты-кредиты, активы-пассивы выводить. И не в гимназии, чтобы отметки ставить.
— Так что же, Артемий Гаврилович, — слегка иронизируя, спросил Маврикий, — я и должен жить не оцененный?
Кулемин на это ответил:
— Люди оценят. Твоя жизнь у всех на виду началась. На виду она и продолжится… Не бойся. Всякое лыко в своей строке будет. Самое главное, что ты жив. А еще главнее, что начал понимать, откуда солнышко восходит и куда реки текут. А все остальное поймется и образуется.
— В-во! — крикнул Терентий Николаевич Лосев. — Это самое главное. А Маврушу — я со дня рождения знаю. Н-ну, подымайте… За то, что мы живы!
Васильевна принесла очередное варево пельменей на большом блюде и объявила:
— Все берите поровну. В этом вареве есть счастливый пельмень.
— Если счастливый достанется Маврикию, он обязательно скажет, что это было организовано.
— И непременно скажу, Ильюша, — ответил Маврик и тут же обнаружил непротыкаемый вилкой счастливый пельмень, начиненный тестом. — Счастливый! Как это понимать?..
IV
Постепенно наступала такая нужная, такая долгожданная ясность. Пусть не во всем, но во многом. Коварная мнительность еще давала себя знать, но приехал Валерий Всеволодович и рассеял все окончательно. Он снова привез сюда на лето сына. Узнав о возвращении Маврикия, нашел его, появившись в доме Тюриных, отданном теперь детям. Им заведовала мать Маврикия. Она с дочерью и жила во флигеле при доме.
Заросший парк постепенно приводился в порядок. Любовь Матвеевна входила во вкус работы и теперь тоже, забыв кое о чем, поучала сына:
— Коммунистическое воспитание детей с самого раннего возраста заключается и в бережном отношении к цветам, кустам и деревьям…
Ну все, положительно все, просвещенные и передовые… Как хочется расхохотаться в лицо милой мамочке. Нельзя. Пусть думает, что и она устанавливала Советскую власть. Хотя в последние два года это так и есть. Мама неузнаваемо изменилась.
Вчера весь вечер Валерий Всеволодович думал о Толлине. Да и сегодня утром он был занят мыслями о его возвращении. Валерий Всеволодович всегда верил и говорил, что в человеке в конце концов побеждает разумное. И если человек честен, внутренне правдив, нравственно чист, если человек желает добра другим людям — он неизбежно придет к Ленину. К ленинскому учению. К коммунизму. И как бы ни заблуждался он, как бы он ни плутал и как бы ни ошибался, он станет на единственно верный путь научного коммунизма. И это относится не только к Маврикию и его сверстникам, но и к зрелым и даже пожилым людям. Например, к благороднейшему человеку, его отцу, к генералу Тихомирову. К открытому и превосходному человеку инженеру Гоголеву.
Стройная и назидательная речь готовилась сказаться, да не сказалась при встрече с Маврикием. Все уместилось в одну фразу:
— Иначе и не могло быть, Барклай!
— Здравствуйте и простите меня, Валерий Всеволодович, — сказал Маврикий, бросившись навстречу Тихомирову. — Я вел себя так вызывающе и самоуверенно. И этим сделал вам больно.
— И в то же время ты спас мне жизнь. И не одному мне. Я ничего не склонен преуменьшать, приглушать в педагогических, тактических или каких-то других воспитательных целях. Я давно ждал случая лично поблагодарить тебя, Мавриссимо.
И он обнял Маврикия.
— Будучи дворянином по рождению, я всегда делал попытки стать джентльменом, — шутил Валерий Всеволодович, вручая Маврикию продолговатый сверток. — Имею честь презентовать вам нечто загадочное.
Вскоре «нечто загадочное» оказалось охотничьим ружьем. Ружье, ружейные принадлежности, патроны и собачий ошейник были уложены в компактный футляр.
— Вы знаете, Валерий Всеволодович, я так мечтал, я так хотел… Большое вам спасибо. Я так рад.
— А я вдвойне. И за тебя и за себя. Почему же вы, сударь, не появляетесь у нас? Наши дамы хотят вас видеть.
— Я непременно приду к вам, как только приду в себя.
— А что вам, Маврицио-Мавренти, мешает это сделать?
— Прошлое, Валерий Всеволодович. Помните наш разговор на лодке, на пруду?.. И другие разговоры…
— Помню. Ну и что?
— Как что? Это же возмутительные, ужасные разговоры.
— Несомненно. Но если теперь ты так оцениваешь их, то стоит ли думать о них? Конечно, — сказал, раздумывая, Валерий Всеволодович, — чтобы двигаться дальше, человек время от времени должен оглядываться в прожитое. Но если человек будет смотреть только назад, как он пойдет вперед?.. А ведь тебе, де Толлино, как никому другому, нужно двигаться дальше и дальше, — уже совсем серьезно и, кажется, строго стал говорить Валерий Всеволодович. — Тебе немало дано, и от тебя вправе люди многого ожидать.
Лицо Маврикия преобразилось. Засветились глаза. Зазвенел голос.
— Милый и дорогой Валерий Всеволодович, вы нашли сегодня очень нужные мне слова, которые так долго я искал. Хотите стакан сметаны с сахарным песком? Не стесняйтесь, у нас ее много.
— С величайшим удовольствием, — ответил Валерий Всеволодович. — Я безумно люблю сметану с сахарным песком.
— И я…
Валерию Всеволодовичу стоило немалых усилий сохранить серьезное выражение лица.
V
Самым дорогим человеком для Маврикия стал теперь Валерий Всеволодович. На другой же день Толлин отправился к Тихомировым. Невольно вспомнился первый визит в этот дом.
Гостиная была все той же. И все было так же. Только бесконечно близкий Всеволод Владимирович уже не сидел за столом, а смотрел на вошедшего со стены, в резной темной раме, украшенной бессмертниками. Он не выглядел только портретом. Поэтому Маврикий неслышно сказал ему:
— Здравствуйте, Всеволод Владимирович.
Послышался голос Леры:
— Кажется, пришел наконец зазнавшийся Маврикий Андреевич…
На это последовал ответ:
— Зазнавшегося Маврикия Андреевича здесь нет. А покорный и всегда верный своей королеве паж наносит ей на этот раз пеший визит…
— Долго же собирался паж… Столько дней он заставил ждать ее величество, — говорила, входя, Лера, а войдя, она всплеснула руками. — Вырос! Наконец-то! А ну, станем спинами.
И они стали спинами друг к другу. Лера положила руку на головы ладонью вниз и обрадованно сказала:
— Выше! Честное слово, выше! Почти на сантиметр.
— И то хорошо. Лишь бы не ниже.
Они откровенно рассматривали друг друга. Для Маврикия Лера всегда была самой красивой, и он, всегда помня ее, как-то не допускал, что она может стать еще красивее. А она стала.
Вошла бабушка. Было спрошено и отвечено все необходимое. А потом бабушка сказала:
— Такой чудесный день…
Лера и Маврикий, не сговариваясь, вышли на улицу. Как только они очутились на широком тракте, Маврикий сказал:
— Лера, я всегда восхищался тобой и никогда не думал, что ты можешь быть красивее самой себя.
— Ах, как жаль, что ты сказал это мне. Теперь уже невозможно восхищаться вслух, говорить, каким красавцем стал ты, потому что я буду походить на ту самую кукушку, которая хвалит некоего петуха…
Маврикий предложил отправиться за город. И они пошли через всю Мильву на виду у всех.
Того и другого знали на каждой улице. Языки, любящие опережать события, уже назвали их женихом и невестой. К этому находилось немало доводов из прошлого. В Мильве все у всех на глазах.
Молва была права только отчасти.
— Маврик, — ласково начала Лера, — родной мой, за время разлуки ты стал еще ближе всем нам, а для меня даже ближе моих братьев. Твое отношение ко мне так дорого, что я чувствую себя обязанной говорить тебе все. Скажи, Мавруша, ты представляешь меня твоей женой?
— Нет, Лера, — ответил он.
— Почему? Разве ты разлюбил меня?
— Нет, я не разлюблю тебя, наверно, никогда.
— Так почему же ты не представляешь, мой мальчик, меня твоей женой?
— Потому что я не представляю себя твоим мужем.
— Как же это?
— Не знаю, Лера. Ты такая уже… волшебная. А я еще почти что не брился.
— Бог мой! Да ты вовсе не моложе меня. Когда ты только успел перерасти меня?
— Ну зачем же ты так? Я могу поверить, Валерия. Со мной уже больше нельзя безнаказанно шутить.
— И со мной тоже, Мавруша. Мне ведь двадцать второй…
— Ты любишь Пламенева, Лера?
— Да, Маврикий.
— Когда ты выйдешь за него замуж?
— После того, как ты посоветуешь мне это сделать.
— Не надо смеяться надо мной, Лера. Я этого не заслужил.
— Тогда проверь, смеюсь ли я.
— А что, если я не посоветую?
— Так и будет. Ты просто недостаточно хорошо знаешь меня.
— Зато ты, Лера, очень хорошо знаешь меня. И знаешь, что я могу посоветовать тебе только лучшее для тебя.
Они незаметно дошли до памятника борцам за Революцию. На этом месте жгли белые вырытых из братской могилы. Здесь их пепел. Здесь и пепел Сонечки Краснобаевой.
Маврикий поклонился памятнику.
— Ты знаешь, Лера, Сонечке Краснобаевой так хотелось, чтобы ты вышла замуж за Волю Пламенева…
— Я знаю об этом…
— Пусть ее желание сбудется. Она говорила, что Воля Пламенев будет очень хорошим и верным мужем. Я так же думаю, Валерия. Только ты не приглашай меня на свою свадьбу. Мне все-таки не будет сладко, когда вам будут кричать «горько-горько»…
VI
Три друга. Иль, Мавр и Александр, стали снова неразлучной тройкой. И особенно сблизились они после поступления Толлина на завод. Григорий Савельевич посоветовал Маврикию работать в цехе, имеющем к нему некоторое отношение. Маврикия определили на тяжелый пресс в цех запасных частей для уборочных машин. Сначала он постоял подручным, а вскоре его допустили к самостоятельной работе, которая хотя была и несложной, но требовала немало сноровки.
Недалеко то время, когда цех отпочкуется от старого завода и станет новым заводом уборочных машин.
В заводе возникли курсы, названные для краткости двумя буквами «ЭЭ», что значит — «экзамены экстерном». На курсы поступил и Маврикий. Хотя и не так легко после рабочего дня садиться за парту. Но…
— Надо же, — сказал Иль, — нам с тобой закончить среднее образование, а Санчику подготовиться к поступлению на рабфак.
И друзья начали учиться.
Близился день приема Маврикия в комсомол. Какая уйма переживаний, страхов и сомнений. Как он готовился, сколько перечитал! Знал чуть не наизусть весь устав. Волновались тетка, и мать, и уже подросшая сестренка Ириша.
Ильюша Киршбаум хлопотал о торжественном приеме своего друга в зале заседаний Дворца молодежи. Ильюша доказывал, что прием в комсомол Толлина может стать поучительным событием для многих юношей и девушек.
Кроме этого, Ильюше хотелось на большом собрании выяснить все и очистить своего друга от всего наносного, от оскорбительных слушков и подленьких, похожих на правду кривотолков. Такие «правоверные», как Модестик, отсидевшиеся дома в грозные годы, бросали тень на Маврикия, завидуя ему. Завидуя потому, что другие, особенно девчонки, впадали в противоположную крайность, рассказывая о невероятных подвигах Толлина. Оказывается, Маврикий в глухой степи на быстроногом, чуть ли не на огнедышащем коне догнал бандита Вахтерова, набросил на него аркан и связанным доставил в город Омск.
И здесь хотелось внести ясность и все поставить на место.
— Ничего не нужно преувеличивать, но зачем же преуменьшать? — говорил Ильюша Киршбаум в городском комитете комсомола. — Какое волнующее впечатление произведет на всех, когда он будет рассказывать свою биографию, начиная со знакомства с подпольщиком Иваном Макаровичем Бархатовым. А потом, понимаете, избиение его в школе законоучителем за рассказ Льва Толстого. И если он что-то забудет рассказать, я и Санчик Денисов добавим это в прениях, — волновался Ильюша, и его волнение передавалось членам комитета.
— Ты прав, Кирш, его именно так и нужно принимать, — подтверждал секретарь городского комитета Кошечкин, участник молодежного подполья, скрывавшийся в Каменных Сотах. — Пусть он расскажет об Октябрьских днях в Петрограде, о том, как слышал Ленина…
— А до этого о том, как его ранили во время июльской демонстрации, — подогревал воображение членов комитета Киршбаум. — А потом, понимаете, бац! Появление в Мильве Вахтерова. Колебания… Симпатии к эсерам… О них, правда, нужно рассказать мягче, чтобы не бросать на него тень…
— Зачем же. Иль, мягче? — возразил Кошечкин. — Лучше потверже рассказать о его вихляниях, о том, как вступил в их бандитский отряд ОВС.
— Миша, он же не вступал. Зачем ты повторяешь чужую чепуху? Его же не приняли, как неспособного поднять винтовку, — восстанавливает Киршбаум истину.
— Но повязку-то он носил? Носил. С Вахтеровым встречался? Встречался, — спорит и волнуется Кошечкин, представляя, как это все будет. — И в то же самое время контакт с нашим подпольем, выполнение нашего поручения. Разве это не интересно для ребят, которые будут слушать? А потом взрыв стены камер. О взрыве могу рассказать я. Потому что мы с Иваном Макаровичем были тогда поблизости. И видели… А потом его бегство за Каму. Встреча с Сухариковым… Появление переодетым в Мильве… Как в кино!.. А не перенести ли нам прием Толлина, — неожиданно предлагает Кошечкин, — в рабочий клуб? Там можно тысяч до двух собрать ребят.
— А дадут? — сомневается Ильюша.
— Почему же не дадут? Это же политическое мероприятие, — говорит увлеченно Кошечкин. — Надо только рассказать обстоятельно Артемию Гавриловичу Кулемину о нашей идее. И точка.
Артемию Гавриловичу было рассказано более чем обстоятельно и представлено во всех красочных подробностях, вплоть до показа на экране документальных снимков. Кулемин на это сказал:
— Прием в комсомол не может быть спектаклем, хотя бы и поучительным. Это первое. Затем второе. Принимаемый в комсомол Толлин по стечению обстоятельств, а не по каким-то другим причинам оказывался в изломе событий и, не предполагая того, становился, а чаще выглядел героем. Слава излишне, а иногда незаслуженно баловала его. И вместо того чтобы дать парню устояться, войти в нормальное русло жизни, вы хотите публично убеждать его, что он не как все, а особенный, выдающийся, знаменитый. Зачем?
— Но ведь он же на самом деле не как все, — осторожно попробовал возразить Кошечкин.
— В какой-то мере я согласен с тобой… Но зачем обращать на это внимание и портить хорошего и в общем-то не испорченного славой юношу. Короче говоря, он будет вступать в комсомол, как все рабочие ребята, у себя в цехе.
— Это указание, Артемий Гаврилович? — запальчиво спросил Ильюша.
— Это мнение городского комитета партии, комсомолец Киршбаум. Ясно?
— Ясно.
— И еще для большей ясности. Как вы думаете, легко ли будет Толлину рассказывать о крутых поворотах жизни, ворошить то, в чем он не был повинен? Снова сгущенно в течение часа-двух переживать и без того густые трудностями годы. Неужели вам не жаль терзать своего такого добросердечного товарища? Да и одного ли его? И вместо незабываемого праздничного дня в его жизни, который должен навсегда запечатлеться радостным днем, устраивать зрелище…
Далее убеждать Кошечкина и Киршбаума не понадобилось. Через несколько дней на цеховом собрании комсомольской ячейки Толлина при одном воздержавшемся было решено принять в ряды Российского Коммунистического Союза Молодежи. День был волнующим, но счастливым и незабываемым, как и телеграмма из Москвы от Ивана Макаровича, которую прочитала тетя Катя:
— «Поздравляю тебя с первым днем твоей новой большой жизни».
И новая большая жизнь началась…
ЭПИЛОГ
В первые дни студенческих каникул из крупных городов разъезжается по родным местам великое множество молодых людей. На старой мильвенской пристани тоже высадились студенты. Сперанский-младший, Митя Байкалов, Геня Шумилин. Он уже известный художник. Тут же и Виктор Гоголев. Будущий инженер-строитель.
Здесь же на пристани Александр Денисов. Его тоже трудно узнать. Совсем переменился Мавриков «Санчо-Панчо». Первокурсник Московского университета. Его поприщем будет физика. Еще в Перми, бегая на лекции в университетскую «заимку», почувствовал он, что физика — область великих открытий. И не ошибся будущий академик Денисов.
Саша Денисов не приплыл на пароходе. Он пришел сюда с Наденькой Умеевой. Младшей из трех сестер, познакомившейся с ним, девятилетним Санчиком, в тот памятный Екатеринин день, когда пелась и разыгрывалась в лицах песня «Последний нынешний денечек»…
Теперь Санчик и Маврик будут родней. Хотя и седьмой водой на киселе, но все же… Саша и Надя пришли сюда потому, что на пароходе едут двое других из тройки друзей, зашифрованных некогда буквами МИС. Одна из этих трех букв — последняя, как мы знаем, ждет на пристани, а две первых сгорают от нетерпения на палубе парохода. Особенно волнуется первая буква, принадлежащая имени студента четвертого курса факультета общественных наук. Другой, более сдержанный, с синим подбородком, потому что трижды в день бриться невозможно, тоже студент четвертого курса, будущий главный инженер машиностроительного завода, которого еще нет и на карте, но будет на том самом месте, где высятся над прудом памятные Каменные Соты.
Наконец показалась мильвенская пристань.
Пароход пристал, и три буквы, обнявшись, составили теперь МСИ. Потому что Санчик оказался в середине, а Ильюша и Маврикий по бокам. Наденька же шла пока отдельной буквой…
Позади большие и малые войны, ужасы разрухи, последствия мятежных шатаний и брожений. Прошло не столь много лет, как рухнули планы вторжений интервентов, иссякли надежды на внутренние распри. Коммунистическая партия одержала главную победу — победу в людских душах. И не было более силы, которая могла бы ослабить дух народа, вооруженного ленинским учением.
Ожили села и города. Повеселели люди. Близилась пора великих дерзаний и неслыханных доселе замыслов.
Изменилась и Мильва. Завод дымил всеми старыми и новыми трубами.
Не всех старых знакомых встретишь в Мильве. Павел Кулемин командует далеким военным округом. Он увез туда Женечку Денисову и детей. Екатерина Матвеевна перебралась к мужу в Москву, и наконец у нее образовалась семья: она, Маврикий и Иван Макарович, посвятивший себя дипломатической деятельности в Народном комиссариате иностранных дел.
Артемий Гаврилович Кулемин переехал из Мильвы в Сибирь, став парторгом крупнейшей стройки.
Нет и доктора Комарова. Он в Перми заметный деятель в области здравоохранения и, кажется, по совместительству, читает лекции на медицинском факультете университета.
Турчанино-Турчаковский, прожив года два за границей, вернулся в Россию. К Бархатову. И сейчас он работает в учреждении, ведающем приглашением иностранных специалистов. Приезжал в Мильву с комиссией. Обследовали завод, как говорил Африкан Тимофеевич Краснобаев, «на предмет реконструкции». Турчаковский необыкновенно распекал старые заводские распорядки. Кто скажет, от души ли говорил это раскаявшийся эмигрант?
Мать Маврикия Толлина Любовь Матвеевна снова вышла замуж. И сын одобряет ее. Она это сделала, отрезая всякие возможности встречи с Герасимом Петровичем, так жестоко бросившим ее и дочь, женившись теперь на другой. На владелице универсального магазина в Филадельфии.
Мужем Любови Матвеевны стал бывший учитель рисования Грачев Аркадий Викентьевич. Он старше Любови Матвеевны на семь лет. Получилась дружная пара. Ириша любит отчима, и он в ней души не чает. Теперь Аркадий Викентьевич, не бросая преподавать рисование, заявил о себе как о художнике. Наконец-то Любовь Матвеевна нашла свой надежный берег. Она не старается молодиться, потому что в ее годы старость еще щадит.
У нее счастливая осень. Приехал в Мильву сын.
Маврикий побывал в Омутихе. У Тиши Непрелова. Как-никак, а в детские годы провели вместе много дней.
Тиша закончил сельскохозяйственный техникум, работает на опытном поле, которым стала теперь бывшая ферма братьев Непреловых.
Не мог Маврикий не побывать в Дымовке у далекой и ставшей такой близкой родни. Нужно быть благодарным за все и всегда, неустанно повторяла тетя Катя. Если люди не будут благодарны другим, они задохнутся в собственной неблагодарности.
Дальняя дорога в Дымювку оказалась не столь дальней. Три друга МИС могли позволить себе роскошь, выпросить на Завозненском конном заводе разрешение и взять на неделю трех коней за положенную плату. Дали. Кавалеристы все трое. Нечего бояться, что загонят лошадей или забудут покормить.
Вся деревня сбежалась к кукуевской избе поглядеть, каким стал кудрявый паренек, которого знали совсем юнцом. А теперь он… «Ах, ты, ох»… И товарищи его тоже… «Фу-ты-ну-ты сани гнуты…»
Не жалел Маврик денег, которые ссудил ему Иван Макарович, напомнив о стариках Кукуевых, спасших Маврикия на краю гибели за Камой.
Нельзя было не съездить и на Дальний ток. Летом это три часа езды верхом.
Милая избушечка. Очаровательные ловушечки, сеточки, западеночки.
— Счастливый ты. Мавр! — вдруг сказал Ильюша.
— Это почему?
— Потому что потому, оканчивается на «у», — ответил школьной прибауткой Иль, а потом сказал: — Очень много людей любят тебя. Наверно, ты будешь таким, кого избирают абсолютным большинством. Я подымаю за это руку…
А Дунечка Кукуева вышла замуж. Кажется, очень счастлива. И, кажется, боится при муже смотреть на Маврика. Глаза у нее не умеют лгать и скрывать…
Каждый раз, приезжая к матери в Мильву, Маврикий бывал в семье Сонечки Краснобаевой, где подрастала ее двоюродная сестра Стася. Стася, оставшись сиротой, была взята в семью Краснобаевых. Похожая на Сонечку, она походила и на Леру Тихомирову. А может быть, она старалась походить на свою любимую учительницу, не догадываясь, что эта двойная схожесть вызывает очень сложные переживания Маврикия Толлина. Разумеется, Стасе и в голову не приходило, что это все скажется потом. Да и Маврикий пока не допускал, что Стася впоследствии стане! Анастасией Толлиной.
И когда это произойдет, то все, и в первую очередь Маврикий и Анастасия, скажут, что иначе и не могло быть, а теперь им даже неудобно появляться вместе. Студент Толлин и школьница — Стася — никак не пара.
С каждым приездом в Мильву родных и знакомых становилось меньше. Одни уехали учиться, другие, заведя свою семью, тоже отправились искать счастья на новых местах. Рабочей Мильве, богатой золотыми руками, приходилось отдавать своих мастеров новым заводам.
Не стало и тех, кто ушел на Мертвую гору. Там на главной аллее обращает на себя внимание белый камень. На камне барельеф Всеволода Владимировича Тихомирова. Чуть подальше — чугунная плита. Под такими литыми плитами-надгробьями хоронили коренных мильвенских рабочих. Под такой плитой похоронен добрейший человек Терентий Николаевич Лосев. А напротив, через дорогу, покоятся супруги Матушкины, трогательно скончавшиеся в один день.
Воспоминания чередуются с мечтами о предстоящем. Оно кажется Маврикию не легким, но счастливым, не безоблачным, но не бездорожным. Теперь-то уж никогда, ни при каких обстоятельствах никто его не собьет с пути. Для молодого большевика Толлина ясно главное направление восхождения партии, государства, страны. Коммунист ленинского призыва понимал, что предстоит реконструкция не только народного хозяйства, но и внутреннего мира людей.
Пусть этот переход займет не два и не три десятилетия. Пусть на него не хватит жизни Маврикия Толлина. Пусть кто-то, устав или разочаровавшись, отстанет, или отойдет в сторону, или уйдет в себя. Пусть! От этого не изменятся законы развития общества, законы смены общественных укладов.
Историю, как и землю, не повернешь вспять…


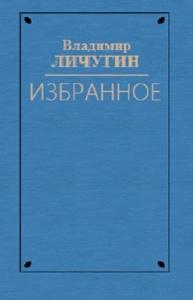
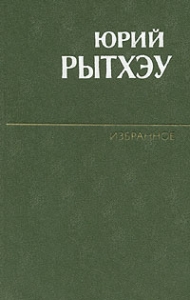

Комментарии к книге «Горбатый медведь. Книга 2», Евгений Андреевич Пермяк
Всего 0 комментариев