Лев Правдин ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ
Мне еще не было семи лет, когда я научился читать. Но ко всему, что связано с литературой, с печатным словом, у нас в семье относились или с глубоким уважением, даже с трепетом, или с откровенной неприязнью. Книги у нас почитались так же, как и люди: добрые или злые, серьезные или веселые, уважаемые или презренные.
Книги жили у отца в кабинете на полках за стеклами. Мне казалось, будто они не очень-то одобрительно посматривают на меня. Они явно презирали меня и в то же время опасались, как бы я чего не натворил. Так смотрят взрослые на непоседливого мальчишку, который сует свой нос куда не надо. Человек с необузданным воображением, я даже слышу их строгие, слегка встревоженные голоса:
— Знаешь что, мальчик: не связывайся ты с нами. Не твоего ума это дело. Иди-ка лучше поиграй.
Побаиваются они меня — это я сразу сообразил. Они беззащитны, а я захочу, возьму любую и сразу узнаю, что они там задумали. Но едва только я приводил в исполнение свою угрозу, как тут же кончалась моя власть и начиналась власть беззащитной книги над всесильным человеком.
У меня было несколько собственных книг, в которых все было понятно, и в книгах отца каждое прочитанное слово я понимал, но, объединенные в стройное предложение, они, эти слова, сразу же теряли всякий смысл. Я ничего не понимал. Просто волшебство какое-то!
Книги мстили мне за мою самонадеянность. Они издевались надо мной.
А я, убитый недетским горем, бежал к маме и, уткнувшись в ее колени, с ревом жаловался на уважаемые отцом книги, которые не хотят знаться со мной.
После обеда отец позвал меня, посадил на свой письменный стол и, разглядывая книги, задумчиво спросил:
— Не понимаю, чем же они обидели тебя?
Я перестал болтать ногами и вздохнул:
— Да все там непонятно… Слова как-то перемешаны…
Не дослушав моего объяснения, отец рассмеялся. Я понял, что отец заодно со своими книгами — вон как он веселится.
А он сел в кресло и положил свои большие руки на мои голые коленки.
— И ты обиделся на книги. Напрасно. Это взрослые книги, они серьезные. Ну вот, например, тебе захотелось поиграть, и ты позвал взрослого человека и попросил; «Давай побегаем». А взрослым совсем и неинтересно бегать. Понял? У тебя ведь есть детские книги? Вот они — твои друзья, их и читай.
— Да я их давно уже прочитал, даже по десять раз. А некоторые так и по одиннадцать. Надоело мне с ними — все одно и то же.
— Сын мой, все я понял: ты отчаянно вырос. Перерос свои книги. Ты из них вырос, и это очень хорошо. Вот сейчас я дам тебе…
Легко вскочив, он подбежал к одному из шкафов, распахнул его и с самой верхней полки, куда я еще не мог дотянуться, выхватил большую книгу в синем коленкоровом переплете.
— Вот, сейчас… — торопливо листая книгу, торжествующе говорил он. — Сейчас ты такое прочтешь, что забудешь все на свете…
Он положил книгу на мои колени. Волнение отца охватило и меня.
— «Руслан и Людмила». — Я усмехнулся. — Сказка?
— Читай, читай, — торопил отец.
— «У лукоморья дуб зеленый…»
И дальше пропали все слова, исчезли строчки и вообще все на свете. Отец что-то говорил, снял меня со стола и перенес на диван, а я ничего не слышал и не чувствовал. Я ЧИТАЛ. Читал настоящую, взрослую книгу.
Вряд ли то, что происходило в те часы со мной, и во мне, можно считать чтением. Я не просто читал, я жил в Лукоморье, не замечая, что живу в чудном мире воображения, в мире СЛОВА, этого удивительного материала, из которого сделана ЛИТЕРАТУРА — лучшее из всех творений человека.
И в то же время это было ничем иным, как обыкновенной литературной учебой. Ничего, что я еще мал: для учебы, тем более литературной, возраст — несущественное условие. Чем раньше человек побывает у «Лукоморья», тем лучше для него, тем полнее станет вся его последующая жизнь. А ведь есть же люди, которые никогда там не бывали. Мне жаль, их, этих нищих духом бедняков.
Мой отец вырос в семье пастуха и, как положено, должен был помогать отцу. Когда ему еще не было восьми лет, мать сама обула его в лапти и, заматывая оборки, проговорила:
— Ну вот, сыночек, теперь ты мужичок справный, отцу помощник.
А его отец повесил через сыновье плечо длинный пастуший кнут, сплетенный из конопляных веревочек. Так началась его трудовая жизнь, и продолжалась она до пятнадцати лет. Сезонность работы позволила ему окончить сельскую церковноприходскую школу. Он хорошо учился, и у него оказался стойкий, закаленный трудом и лишениями характер. Учитель помог ему поступить в семинарию, окончив которую он и сам стал учителем в своем родном селе Заполье Плюсского района Псковской области. Моя мать тоже была сельской учительницей и, кроме того, самозабвенно любила театр. Сначала она играла на любительских сценах, а впоследствии и на профессиональных. Я родился в Заполье, в 1905 году.
Эти анкетные сведения совершенно необходимы для того, чтобы представить благодатный климат, в каком прошли мои детские и юношеские годы. Климат трудовой интеллигентской семьи начала революционного века. Труд и творчество почитались у нас главными доблестями. Материальное благополучие считалось желательным, но совсем не обязательным. Легко жить только бездельникам, легко и неинтересно, а значит, плохо. Хорошо живет только человек деятельный. Трудно он живет, интересно.
Это я слышал в нашем доме всегда, с того дня, как только сам научился говорить и понимать сказанное. Много позже мною была усвоена непреложная истина: творчество должно стать потребностью каждого человека.
* * *
Когда мне исполнилось девять лет, отец подарил мне типографию. Резиновые литеры, жестяная верстаточка на три строчки набора и красочный аппарат — суконный лоскуток, пропитанный мастикой. Все это богатство помещалось в картонной коробочке чуть побольше папиросной. На крышке литографским способом напечатано: «Печатный прибор «Гутенберг» и портрет бородатого старца в широком берете.
Мы уединились в кабинете — отец и я, — чтобы без помех освоить новое для нас дело. В коробочке находился пинцет, которым надо было брать литеры и вдвигать их в желобочки верстатки. Как-то мы оба догадались вдвигать литеры не слева направо, как при чтении, а наоборот.
— Ну скорей же, скорей! — торопил я отца.
Он прижал набранные строчки к мастике и передал верстатку в мои дрожащие в предвкушении чуда руки. На бумаге четко оттиснулись две фиолетовые строчки: мои имя, отчество и фамилия. Чудо совершилось — мое имя напечатано. Увековечено. Смею заверить, никаких честолюбивых мыслей в этот момент у меня не возникало.
Просто я чувствовал себя не только самым счастливым, но и самым могущественным человеком. Чувство ошеломляющее, как вспышка молнии — ударила, ослепила и погасла. Но ощущение счастливого могущества осталось на всю жизнь, и каждый раз стоит мне только услышать ни о чем не сравнимый запах типографии, как это чувство вспыхивает с прежней силой.
Но вернемся в кабинет, где в эти незабываемые минуты совершалось главное чудо. Чудо из чудес. Оказалось, что составленное из отдельных литер слово можно напечатать много раз. Сколько захочу, столько и напечатаю. А отец, взволнованный не меньше моего, расхаживал вдоль книжных шкафов и говорил:
— Удивительное это изобретение подняло человека на высоту недосягаемую. Книгопечатание двинуло цивилизацию вперед так, как еще не удавалось ни одному изобретению. Без печатного слова знания и открытия распространялись медленно или вовсе оседали на месте, как никому не нужные камни. Идеи ползли медленно, как улитки, и зачастую погибали в пути…
В синей домашней косоворотке он попеременно отражался в стеклах шкафов и с воодушевлением говорил:
— Типографию можно сравнить о дальнобойным орудием самого большого калибра. Орудие культуры! Оно стреляет через все века и границы метко и точно…
Отец мой, как и всякий очень мирный человек, обожал грозные сравнения. И всегда он был прав, по-моему.
* * *
1915 год. Шла первая мировая война. Отца мобилизовали почти сразу же и направили в школу прапорщиков.
— Школа, в которой учат убивать людей! — возмущенно говорила мама. — Святые слова — «школа», «учить»… Все опоганила война. И эти крестьянские мальчики, которых ты учил добру и справедливости, их тоже теперь ты погонишь убивать, когда станешь прапорщиком. И у тебя на глазах их тоже будут убивать.
— Не знаю, — проговорил отец. — Не все так безнадежно, как тебе представляется. Судя по началу, война не будет долгой. Скорее всего, нас побьют, как в пятом году. — И торжествующим шепотом закончил: — И тогда ударит революция, какой еще не видывал мир…
Прощаясь со мной, отец выдвинул верхний ящик письменного стола:
— Вот ключи от всех шкафов. Теперь ты хозяин и старший мужчина в семье. Помогай маме во всем.
Так мне было доверено самое дорогое—мама и книги. Я сразу вырос в собственных глазах. Стал взрослым. Но, кажется, только в собственных глазах.
* * *
По-настоящему я повзрослел, когда в 1919 году вступил в комсомол. По малолетству таким, как я, не довелось воевать в гражданскую, но нам доверяли винтовки, поручая нести караульную службу на железной дороге, по охране складов, мы ходили с облавой на, дезертиров или с продотрядами изымать хлеб у деревенских богатеев.
В это время я заканчивал Бузулукскую среднюю железнодорожную школу. Тут мне было поручено организовать многотиражную газету. Как это делается — я не знал, и никто не знал, но в то время незнание никого не смущало. Нам то и дело приходилось браться за такие дела, о которых до этого мы и не думали. Газету я организовал. Называлась она «Наш Голос». Я ее редактировал, писал статьи и беспощадные фельетоны. Клише на линолеуме резал тоже я.
А самое главное комсомольское поручение, окончательно определившее мой дальнейший путь, было уже на подходе. Время, о котором я рассказываю, теперь принято называть легендарным, за то, наверное, что тогда все было не похоже на сегодня. Пройдут годы, и наше теперешнее время станет легендарным для людей двадцать первого века.
Легендарное время! Тогда-то мы об этом не думали. Мы просто работали с полной отдачей всех своих сил. Впрочем, слово «работа» мы почти всегда заменяли словом «борьба». Мы боролись, ремонтируя паровозы, собирая сухари для голодающей Москвы, организуя деревенскую бедноту в кооперативы, создавая школы для неграмотных. Не было ни одного «фронта», где бы не боролись комсомольцы.
Мы были голодны, плохо одеты, бескорыстны и самоотверженны.
* * *
В романе «Берендеево царство» я рассказал, как было написано мое самое первое литературное произведение. Секретарь комитета комсомола Коротеев вызвал меня и сказал, что вчера на заседании бюро вынесли решение о помощи подшефной Старобесовской комсомольской ячейке. Согласно одному из пунктов этого решения, мне поручается написать пьесу.
— Там у них попы да кулаки разыгрались. Село наполовину мордовское, темное. Партийной ячейки нет, одни комсомольцы. Вот им помочь надо. Ты посмешнее напиши, позлее, чтобы стреляло и — наповал.
Для начала я опешил: никогда ничего, кроме школьных сочинений, да газетных статей, не создавал, за что и прослыл литератором. А так как других «мастеров слова» на учете ячейки не состояло, то разговор на этом и закончился. Отказываться от поручений у нас не полагалось, невыполнение грозило большими неприятностями.
— Вот, — проговорил Коротеев, выкладывая на стол две ученические тетради. — Вот на это место ты положишь или готовую пьесу, или комсомольский билет. Срок — завтрашнее утро.
Сказав все это, он вышел, замкнув меня для верности в споем кабинете. Небывалое чувство овладело мною, когда вдруг из обычных слов у меня начало получаться что-то похожее на пьесу. Сначала это неизвестное чувство казалось мне отвагой, может быть, даже до наглости чрезвычайной… Я еще не мог знать, что это — самое обыкновенное вдохновение.
Словом, комедию я написал. Она стреляла без промаха. У нее оказалась бурная боевая жизнь. Старобесовские комсомольцы отважно ее разыграли, показав, как опасны дела сельских богатеев, как они воюют против Советской власти. Поп с амвона предал анафеме сельских комсомольцев и особо — автора пьесы, чем я очень гордился: выстрел попал в цель. Слава о пьесе пошла по всей округе: из многих сел приезжали ко мне переписывать пьесу. Неведомыми для меня путями один список попал в Самарской (ныне Куйбышевское) издательство, которое издало пьесу отдельной брошюрой.
Меня не было дома, когда принесли бандероль с авторскими экземплярами. В это время мы жили в Оренбурге, отец работал в управлении Ташкентской железной дороги. Он торжественно вручил мне бандероль и торжествующе проговорил:
— Я не утерпел и распечатал и прочитал. Очень хорошо! И, конечно, очень несовершенно. Тебе, особенно теперь, надо много учиться, сын мой!..
— Надо, чтобы литература стреляла по врагу! — желая блеснуть своим мировоззрением, объявил я.
Не поверив, что оно свое, отец с прежним ликованием сказал:
— Вот для этого и надо много учиться, чтобы знать, как стрелять и в кого. А то ведь и промазать можно.
Конечно, он был прав, как всегда. И начал я учиться.
* * *
По настоянию отца поступил в Оренбургский педтехникум, хотя стать учителем, или, как тогда говорили, «шкрабом» (школьным работником), я не собирался. Я хотел писать и обязательно печатать то, что написал. Обязательно, иначе моя работа не будет иметь никакого смысла. Ведь смысл всякого труда и состоит в служении людям, человечеству. Все предельно просто, остается одно — научиться писать так, чтобы тебя печатали и, конечно, читали.
Воодушевленный такими похвальными намерениями, я завел толстую общую тетрадь в коричневом дерматине, решив записывать все, что услышу или увижу. Учиться у жизни. Мысль не новая, но неизменная на все века. Это такая литературная школа, где ничего не зависит от учителя, а только от самого ученика, от его таланта, умения всматриваться во все явления жизни, вслушиваться во все оглушительные громы и еле слышные шорохи.
Читать совершенно необходимо. Читать много и вдумчиво. Каждая книга — это тоже явление, а значит, также является материалом для творческих размышлений и для литературной работы.
Скоро я забросил громоздкую тетрадь, у меня появились записные книжки, но и они впоследствии оказались в стороне от повседневного труда. Память — вот что нам надо. Это такой удивительный механизм, несравнимый ни с какой самой совершенной машиной, в доли секунды он выдает то, что именно сейчас требуется для работы. А записная книжка — это уже потом, если возникнет необходимость что-то уточнить или восстановить подробности. Записные книжки необходимы еще и потому, что когда-то написанное вернее фиксируется памятью.
* * *
А потом наступило такое время, когда записные книжки вообще пришлось заменить более оперативным корреспондентским блокнотом, и все мои беглые заметки тут же превращались в статьи, очерки и даже фельетоны, потому что с конца 1924 года я начал работать в газете «Комсомолец» Оренбургского губкома комсомола.
Потом мне довелось работать во многих газетах — губернских, городских, краевых, районных; объездил оренбургские степи, Южный Урал, часть западного и северного Предуралья и еще побывал в самых разных, ближних и дальних районах нашей воистину необъятной страны. И везде встречи с тружениками, тоже очень разными, обладающими самыми разнообразными качествами. Не обо всем, конечно, написал, не все напечатал и почти ничего не сохранил из написанного и напечатанного. Только совсем недавно удалось при содействии работников Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина восстановить не совсем полный список напечатанного в разных журналах и газетах.
Очень много помог мне наш пермский известный просветитель и литератор Б. Н. Назаровский. Он редактировал двухтомную «Историю Урала» и некоторое время работал в газетном хранилище Ленинской библиотеки. Оттуда он прислал мне полушутливую (иначе он и не мог), но совершенно точную справку о моей работе в Оренбурге:
«Как удалось установить в результате долгих поисков… с 7 февраля 1926 года начал выходить «Молодой большевик», еженедельная газета-журнал рабоче-крестьянской молодежи. Самое деятельное участие в газете-журнале принимал молодой Л. Правдин, который, по дошедшим до меня позже сведениям, был секретарем редакции.
Газета была очень своеобразной. Она выходила на 12 полосах небольшого формата и предвосхитила появившиеся значительно позже и теперь популярные еженедельники: «Литературная России», «За рубежом», «Экономическая газета» и т. п.
Уже в № 1 за 7 февраля мы находим на 9-й странице рассказ Л. Правдина «Окно в деревню». Во 2-м номере за 14 февраля инициалами Л. П. подписано несколько разных по жанру материалов. Один из них подписан так: «Красный гвоздь (Л. П.)». Выбор псевдонима не случаен, он свидетельствует о твердости убеждений молодого литератора».
* * *
Тогда еще никто не призывал литераторов активно вторгаться в жизнь, и мы просто жили и работали азартно, весело и самоотверженно. Теперь-то я понимаю, как удачно у меня все получилось: я очень мало сидел в редакционных кабинетах и очень много ездил по заводам, селам и станциям. Подолгу жил в районах и впоследствии в колхозах и совхозах. Да не просто жил и наблюдал, а работал. Кем я только не был: трактористом, уполномоченным по хлебозаготовкам и организации колхозов, лесорубом, плотником, лыжным мастером, художником, завхозом, полиграфистом… Но всегда и прежде всего я был газетчиком, литератором, много писал и немедленно публиковал.
Первый рассказ я напечатал в 1924 году. Мне едва минуло 19 лет. Жизненного опыта немного, литературного и того меньше. Все компенсировалось только неуемным стремлением утверждать новый быт, и немедленно. Рассказ назывался «Свадьба», в нем я боролся за чистоту любви, против всякого мещанского и церковного мусора. Рассказ впервые был напечатан в «Молодом большевике» и перепечатан многими комсомольскими газетами.
За годы работы в газетах я напечатал большое количество рассказов и очерков, удачных и не очень удачных, но все они по-юношески бескомпромиссны и даже иногда просто запальчивы. Мне всегда хотелось до предела заострить тему — это было в духе времени, о котором идет речь.
Самыми удачными рассказами того периода я считаю: «Пушкин в Симбирске» и «Гончаров дома». Эти рассказы, далекие от литературоведческой дотошности, однако, основаны на документах и воспоминаниях очевидцев, которые удалось отыскать в старых журналах и газетах. Рассказы были опубликованы в газетах, перепечатаны журналами и передавались по радио.
Но все это было только «классными сочинениями на вольную тему» в школе жизни, в начале литературной учебы. И первые повести я также рассматриваю только как подготовку к настоящей работе. Такой работой я считаю свою первую повесть «Трактористы».
Я никогда, от первого своего печатного произведения и до нынешнего дня, не расставался с газетой. Именно газета научила меня не только видеть материал, но и точно определять его место и значение в нашей жизни, его пригодность или непригодность, научила; давать каждому явлению социальную оценку.
Газета не терпит половинчатости и равнодушия, все должно быть предельно точно и ясно. Наконец, газета учит краткости и выразительности языка, если, конечно, человек хочет этому научиться. Бесспорно, газета не художественная литература и весьма терпимо относится к языковому штампу, но зато она любит точную, броскую, звонкую фразу. Это — как жизнь, которая не состоит из одних жизнеутверждающих примеров. Надо выбирать только такие, на которых следует учиться. Низкий поклон газете!
* * *
Повести «Трактористы», «Золотой угол», «Апрель» и роман «Счастливые дороги» создавались даже не по следам событий, а наравне с ними, по самым горячим следам, между командировками, по ночам после суматошного редакционного дня. Когда теперь я пробую прочитывать их, то мне кажется, будто многие страницы сработаны прямо на полевом стане, или в прокуренной избе сельсовета, или даже в сенях под грохот степного бурана. И тогда я прощаю сам себе многие несовершенства повестей, газетную торопливость и прочие литературные просчеты. Кроме того, не надо забывать, что автору было от двадцати до двадцати пяти. И еще не существовало Союза советских писателей, но была РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), которая незакономерно делила писателей на коммунистов и беспартийных, на пролетарских и «попутчиков». Только постановление ЦК ВКП(б) от 3 апреля 1932 года все поставило на свои места, и на первом писательском съезде Горький сказал: «…Отныне понятие «беспартийный литератор» останется только формальным понятием, внутренне же каждый из нас почувствует себя действительным членом ленинской партии».
Постоянное и самое непосредственное участие во всех делах нашей страны стало смыслом жизни каждого литератора. Мы умеем работать и стремимся как можно лучше написать об этом, чтобы и всем хорошо жилось и работалось. Человек — общество — природа — такое триединство я полагал основой своей литературной работы, считая это своим открытием, и очень удивился, узнав, что все это было известно задолго до меня. Я видел жизнь во всех ее проявлениях и уже умел их описывать, но еще не научился осмысливать, без чего, как известно, не может быть литературного произведения.
* * *
Первый настоящий писатель, с которым я встретился и впоследствии подружился, был Артем Веселый. Мне очень нравились его книги, и особенно «Россия, кровью умытая», «Гуляй-Волга» и «Реки огненные». Все меня восхищало в этих книгах — размах, удаль самого автора и, несомненно, его героев и чеканный, гулкий, как самый большой колокол, язык. Узнав, что я пишу роман, он сказал:
— Вот это хорошо. Жизнь — штука широкая, о ней писать надо, как молотом по железу. Или во весь мах против течения.
Потом, когда я учился в Литинституте, он зашел за мной и позвал на именины «к одному могучему мужику».
Оказалось — это он меня приглашает к самому Василию Каменскому.
— А удобно так, без приглашения? — засомневался я.
— Писателю все удобно, если интересно.
Артем оказался прав: Каменский почему-то очень мне обрадовался. Потом я узнал, что он просто любит гостей и особенно любит знакомиться с неизвестными ему людьми. Большая комната казалась тесной, потому что вокруг вдоль всех стен стояли шкафы, набитые книгами и какими-то бумагами в объемистых папках. Все, что не помещалось в шкафах, громоздилось почти до потолка на шкафах и выглядывало из-за шкафов. Каменский собирал все, что относится к литературе. Он и меня заставил оставить автограф и потом этот листок убрал в стол. Но поговорить нам не пришлось, так как начали собираться гости, из которых я знал только одного Юрия Олешу.
Мне еще предстоит написать об этих и последующих встречах с писателями, чем я сейчас и занят. Перечитывая записи разной давности, я могу заметить, что даже незначительные замечания, мимолетные фразы кажутся как бы выписанными из книг — так они неотделимы от личности писателей. Но, сколько я ни искал в их книгах, этого вскользь сказанного, ничего похожего не обнаружил.
Вот, к примеру, Артем сказал про Хлебникова:
— Он не для чтения, а для восхищения — умеет слово догола раздеть.
А Каменский — про одного, ныне благоденствующего:
— Работает, как полотер: в поте лица наводит глянец… Скука получается несусветная…
Разговаривать с литераторами — прославленными и малоизвестными — было всегда интересно, говорили не только о литературе. Чаще всего—о многообразии жизненных явлений, но поскольку мы литераторы, то все равно разговоры всегда получались литературными.
Литературная учеба продолжалась.
* * *
Книга, еще не появившаяся на свет, тем не менее уже имеет свою судьбу и свою историю. Роман «Новый Венец» был задуман в Ульяновске в конце тридцатых годов. Я даже начал его писать и написал около двухсот страниц, но все время у меня было такое чувство, будто заплыл на середину Волги и у меня нет сил и не знаю, куда плыть. Я еще не понимал, что материал попросту захлестывает меня. Перестав сопротивляться, я пошел на дно: отложил рукопись и даже не пожалел, когда узнал о ее пропаже.
Только почти сразу после войны, когда приехал в Пермь к родственникам, я вспомнил все, что было написано, и месяцев за шесть-семь не только восстановил рукопись, но и дописал роман до конца. Пока жена перепечатывала его на машинке, я написал повесть «На севере диком». Это был такой творческий взрыв, какого никогда ни прежде, ни потом я не знавал.
Перепечатанная рукопись мне снова не понравилась, по причинам, которых я не мог объяснить. Только лет через пять, когда уже была напечатана повесть, я отряхнул пыль о пожелтевших страниц романа, прочитал его, продумав все как следует, понял причину моих неудач: написано было все так, как я хотел написать, герои делали и говорили то, что им и полагалось, все дышало правдой. Не было одного — той достоверной выдумки, которая одна только протокольную правду превращает в художественное произведение. Выдумки, которая, как солнце, оживляет и красит природу.
Такая же история произошла и с повестью «На севере диком». Когда повесть вышла из печати, в газете появилась рецензия, в общем, хорошая. Но там обвиняли автора в том, что он плохо знает работу лесорубов, а сам вряд ли видел, как это на самом деле. Сначала я только посмеялся над таким нелепым обвинением: я, долгое время проработавший в тайге на лесорубных делянках, не видал лесоповала! А потом, перечитав внимательно всю повесть, понял: стремясь поточнее изобразить работу лесорубов и щеголяя своей эрудицией, я забыл о выдумке и вместо яркого, зрелищного изображения создал дотошную инструкцию для начинающего лесоруба.
Самое главное — воображение, выдумка, но только чтобы вполне достоверная.
* * *
На встречах с читателями мне всегда почти задают вопрос, почему после многолетних скитаний я поселился в Перми. Урал — климат суровый, жизнь трудная. Наверное, потому и поселился: где трудно, только там и жить интересно. А я родился на Псковщине, в селе Заполье; детские годы прошли в Петербурге и под ним; юность и молодость — в Заволжье и на Южном Урале. Все последующие годы возмужания и творческой зрелости провел в разных таежных местах. С 1955 года — в Перми.
Как кого, а меня наш суровый город принял с таким щедрым гостеприимством, что я с первых же дней понял, что приехал в родной дом. Все были приветливы, и каждый стремился что-нибудь сделать для меня. Невозможно перечислить всех, но нельзя не вспомнить директора издательства Л. С. Римскую и К. В. Рождественскую — секретаря писательской организации, они первые встретили меня и, конечно, создали рабочее настроение. Очень скоро я познакомился и подружился с писателями Л. И. Давыдычевым, В. А. Черненко, А. Н. Спешиловым, В. И. Радкевичем, Б. В. Ширшовым… Главным редактором издательства тогда был Б. Н. Назаровский — комсомолец двадцатых годов, человек необыкновенной чести и непоколебимых принципов. Дружба у нас возникла почти с первых же дней, но мы оба долго не признавались в этом. А вот с С. М. Гинцем, который вскоре стал неизменным редактором моих книг, мы встретились так, словно давно уже сдружились. Да, собственно говоря, так оно и было, с ним я встречался немного раньше.
Словом, только работай! И я стал работать так, как никогда еще, ни прежде, ни потом, мне это не удавалось. Пермь — город трудовой, — это я сразу понял. Все мои книги неотделимы от Урала: «Область личного счастья», «Бухта Анфиса», «Океан Бурь», «Юноша безумный», «Ответственность», «Ревизор», рассказы и многие публикации в газетах и журналах.
И эта новая книга — «Зал ожидания» — тоже уральская, и не только потому, что она задумана и в основном выполнена в Перми, но, главное, она не могла появиться нигде, кроме как в Перми. Именно здесь на мою долю выпали самые сильные житейские и творческие радости и невзгоды. Здесь я живу среди моих героев их радостями и невзгодами.
* * *
Над чем я сейчас работаю — такой вопрос тоже обязательно задают читатели. Вопрос, на который зачастую не любят отвечать литераторы, а если и отвечают, то очень неопределенно. А я считаю, что надо отвечать, и не столько читателям это надо, сколько самому себе. Рассказывая о своей работе, я посвящаю слушателей в свои замыслы, затруднения, победы. Я как бы советуюсь с ними, и мы становимся единомышленниками, соавторами.
Читатели обычно мало говорят, они спрашивают и слушают, а я вижу, как они относятся к моему рассказу: одобряют или совсем не то их интересует. Но меня-то интересует, и если уж я за это взялся, то мое дело так рассказать, чтобы всех заинтересовать. И, кроме того, когда я рассказываю—в большой аудитории или дома, это все равно, — то тем самым обогащаю будущую книгу новыми мыслями и деталями, которые придумались по ходу рассказа, потому что разговор с читателями всегда импровизация, требующая творческого напряжения.
«Типография» — так я назвал свою новую книгу. Вся наша жизнь и, естественно, работа немыслимы без типографии, без печатного слова, вот почему герои моего романа — полиграфисты, писатели, журналисты — всегда в строю. Конечно, не в моих замыслах писать историю советской печати, я рассказываю только о жизни в деятельности людей, связанных с великим делом печатного слова, и о различных жизненных приключениях.
Жизнь идет своим путем. Уходят годы, уводят за собой родных в друзей, которые оставляют нам светлую память о себе, о своей жизни, о своем опыте, житейском и творческом. И все это тоже литературная учеба.
Наша жизнь состоит из событий, счастливых и несчастливых, которые вкраплены в обычные, ничем не примечательные дни, как самоцветы в пустую породу. И эти события, подчас до того мелкие, что мы их сразу можем и не заметить, иногда влияют на весь ход дальнейшей жизни.
Именно эти самоцветные события порождают такое непостижимое состояние, которое мы называем творческим процессом, обязательно предшествующим всякой работе.
Вот и сейчас на моем столе лежит рукопись, начатая так давно, что я затрудняюсь даже приблизительно назвать время, когда были задуманы первые, пока еще разрозненные эпизоды. Наверное, когда я сочинил свою первую пьесу? А может быть, все началось с типографии, которую подарил мне отец? Нет, скорее всего, в начале всех начал стоит впервые прочитанное: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…»
Златая цепь…

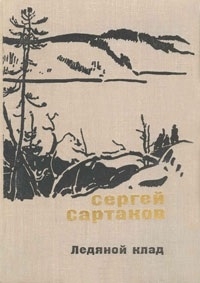

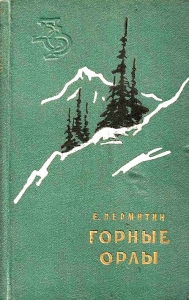

Комментарии к книге «Златая цепь», Лев Николаевич Правдин
Всего 0 комментариев