Виталий Валентинович Бианки Повести и рассказы
(В книге, с которой производилось сканирование, отсутствовал первый лист. Если у вас есть недостающий текст, присылайте на почтовый адрес info(сабака)reeed.ru)
таки остается охотником когда надо, — добывает дичь и пушнину, а когда надо, — защищает колхозное добро от хищников зверей.
Так появляется образ колхозного охотника Сысой Сысоича, «сквозного» героя ряда рассказов. Это умный, с хитринкой, бывалый старик, отлично знающий лесную жизнь зверей и птиц, все их повадки и уловки. В нем всегда есть уверенность человека, который знает силу своего разума. Зверь или птица хитры, да только хитрость у них слепая, на то он и охотник, чтобы все их хитрости разгадать.
А рядом с ним другой охотник — горожанин из рассказа «Как дяденька Волов искал волков». Как не похож он на тех горожан, которые были выведены писателем в ранних его произведениях! Тогда для писателя горожанин был носителем зла. В нем было собрано все отрицательное, что противопоставлялось самой природе, одушевленной и идеализированной. Сейчас горожанин стал так похож на колхозного охотника, что, несомненно, Волов может быть братом Сысой Сысоича. Природа для них давно перестала быть враждебной. Она стала частью большого хозяйства Родины.
Сближены писателем, ранее как будто и несовместимые, образы охотника любителя и ученого исследователя. Своими наблюдениями, большими и маленькими открытиями они как бы дополняют друг друга. Все они оберегают естественные богатства своих лесов и полей. Это работники одного большого хозяйства страны, они мечтают о восстановлении и увеличении числа драгоценных зверей и птиц. И в этом отношении интересен научно фантастический рассказ «Разрывные пули профессора Горлинко». В нем как бы завершается развитие образа охотника. Перед читателем предстает охота будущего. Пули охотника не убивают, а усыпляют животное. Выстрелы перестают быть смертельными. Открыта возможность добывать животных не убивая, чтобы потом их можно было приручить или, изучив, отпустить на волю.
Так постепенно в этих рассказах об охоте раскрывается внутренний их смысл, глубокое понимание красоты природы, поиски ключей к богатствам, радость познания окружающего мира, и в нем — своего родного края.
«Сезам откройся! — сколько раз она открывалась передо мной на миг, сказочная гора Сезам, — но двери, за которыми не счесть сокровищ, тотчас же опять захлопывались у меня перед носом. Я знаю, это не страшно, раз человек понял, как они отворяются.
К самым таинственным, призрачным дверям всегда найдется простой вещественный ключ. Умей его только найти.
Сокровища будут твои» («Уммб»)
Вещественный ключ» — это знание природы. Оно откроет все сокровища ее, которые будут служить человеку.
Но чтобы найти этот ключ и открыть им гору сокровищ, надо понимать и любить природу. Любить, ощущая всю ее красоту понимая ее значение. В этой любви — сила творческих исканий и открытий. Может быть, сначала это совсем маленькие открытия «новых земель», но всё-таки открытия, и «Пусть только для одних вас они будут новые, — обращается писатель к юным охотникам и путешественникам по родному краю, — пусть только для самих себя их будете открывать, — это не должно вас смущать. Ведь сколько ни живет на земле человек, он, попадая в новые места, делает для себя все новые и новые открытия» («Письмо к юным путешественникам»). И вы сами можете стать «маленькими колумбами» — открывателями «новых земель», следопытами своего края. Для этого не надо отправляться за тридевять земель, в тридесятое царство в поисках нового, еще никем нигде не виданного, оно у вас под боком, и каждый может дойти до него пешком. Дойти и на самом деле открыть что-нибудь новое, не известное даже науке — ведь как это заманчиво! Не случайно многие герои произведений Виталия Бианки так часто мечтают об открытиях.
«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!» («Морской чертенок»).
Ненасытная жадность к разгадыванию больших и маленьких тайн природы, такая естественная у детей, охотников и ученых, наполняет и самого писателя.
Как только в природе появляются признаки весны, Виталий Бианки покидает город и на большую часть года переселяется в деревню или отправляется в путешествие по стране. И так в течение почти всей жизни. С ружьем, биноклем и записной книжкой бродит писатель-следопыт по родным просторам. По ним он ведет за собой читателя. Он показывает ему самые потаенные уголки, показывает, что ему удалось там увидеть, подсмотреть в часы прогулок и охоты, какие тайны леса удалось раскрыть, какие разгадать лесные загадки. И разве трудно понять, зачем это надо? Ведь наш народ стал хозяином необъятных сокровищ природы своей страны. Но чтобы управлять ими, советский человек — хозяин своих лесов, полей, рек, гор, озер, пустынь, морей — должен хорошо знать это большое и сложное хозяйство. Нельзя стать бережливым, умелым, разумным хозяином природы, не зная ее. Можно наделать много ошибок. И сколько же еще предстоит работы нашим ученым, охотникам, следопытам, чтобы естественные богатства стали служить человеку! Давно нашел место в этом ряду и Виталий Бианки со своими сказками, рассказами и повестями о родной земле. Ведь «пытать, разведывать жизнь, разгадывать ее удивительные тайны — это только половина дела. Другая в том, чтобы опыт свой, свои открытия, — большие и маленькие, — передать людям»… — «люди — знакомые и незнакомые, — он отдал им себя целиком, всё лучшее в себе, лишь для того, чтобы для них сделать жизнь богаче и лучше» («Чайки на взморье»).
Именно этими чувствами наполнены книги Виталия Бианки — страстного охотника, неутомимого следопыта, поэта родной природы, — созданные им более чем за три десятилетия творческой работы.
Гр. Гроденский
I
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ
В котелке поспела сухарница,[1] и охотники только было собрались ужинать.
Выстрел раздался неожиданно, как гром из чистого неба.
Пробитый пулей котелок выпал у Мартемьяна из рук и кувырнулся в костер. Остроухая Белка с лаем ринулась в темноту.
— Сюды! — крикнул Маркелл.
Он был ближе к большому кедру, под которым охотники расположились на ночлег, и первым успел прыгнуть за его широкий ствол.
Мартемьян, подхватив с земли винтовку, в два скачка очутился рядом с братом. И как раз вовремя: вторая пуля щелкнула по стволу и с визгом умчалась в темноту.
— Огонь… подь он к чомору! — выругался Маркелл, трудно переводя дыхание.
Костер, залитый было выплеснувшейся из котелка сухарницей, вспыхнул с новой силой. Огонь добрался до сухих сучьев и охватил их высоким бездымным пламенем.
Положение было отчаянное. Яркий свет слепил охотникам глаза. Они не видели ничего за тесным кругом деревьев, обступивших елань.[2] Защищаться, отстреливаясь, не могли.
А оттуда, из черного брюха ночи, освещенная елань была как на ладони, и чьи-то глаза следили за каждым их движением.
Но Мартемьян сказал совсем спокойно:
— Однако ништо. Белка скажет, откуда он заходить станет. Вокруг лесины отуряться[3] — не достанет.
В этих немногих словах было всё: и признание опасности и точное указание, как ее избегнуть.
— Цел? — спросил Маркелл.
— В казанок[4] угодила, — просто ответил Мартемьян.
Больше они не сказали друг другу ни слова. Неподвижно стояли, вплотную прижавшись к жесткой коре дерева, и вслушивались в удаляющийся лай собаки.
Эти два человека и сроду не были болтливы, — они стыдились лишних слов. В тайге они родились, в тайге прожили вдвоем всю свою долгую жизнь. Старшему шел уже седьмой десяток, младшему — шестой. Кто бы сказал это, глядя на их прямые плечи, крепкие спины? Громадные, с волосатыми лицами, они стояли у темного кедра, как два поднявшихся на дыбы зверя.
Нападение не требовало объяснения: в руках у братьев было сокровище.
На плече у Мартемьяна висел кожаный мешок. Мешок был из толстой, грубой кожи, заскорузлый и грязный. Но лежало в нем то, что считалось дороже золота: тщательно снятые, высушенные и вывернутые блестящей шерсткой внутрь шкурки застреленных ими соболей.
Слишком трудно дается осторожный зверек добытчику, слишком часто в тайге лихие люди пытались отнять у промышленника его драгоценную добычу. Братья носили мешок на себе поочередно, ни на минуту с ним не расставаясь.
Враг умудрился застать их врасплох. Оставалось только прятаться от его невидимой руки, пока сам собой не потухнет костер.
И оба молчали, потому что знали, каждый думает так же.
Лай Белки подвигался вправо; они, хоронясь за стволом, переступали влево.
Слышно было, как собака настигла скрытого тьмой человека, кинулась на него.
«Дура… застрелит!» — подумал Мартемьян. И от этой мысли у него сразу похолодели ноги.
Внезапно лай оборвался придушенным хрипом. В разом наступившей тишине раздался глухой шум падения тела и сейчас же — шуршанье судорожно скребущих землю лап.
— Шайтан… Белку! — вскрикнул Мартемьян и уже на бегу крикнул брату. — Стой!
Маркелл во всем привык слушаться старшего брата. Так повелось с детских лет, так осталось и до старости.
Он с тревогой следил, как брат перебегает предательски освещенную елань.
Когда Мартемьян был уже у самой стены деревьев, за ней вспыхнул огонек и громыхнул выстрел.
Мартемьян выронил винтовку, споткнулся и упал.
— Бежи! — крикнул он брату. — Белку!..
Маркелл понял с полуслова: брат хотел сказать, что стрелявший пришел не за кожаным мешком, а за собакой, и что собаку надо отбить во что бы то ни стало. Маркелл выскочил из-за прикрытия и широкими прыжками кинулся через елань.
Выстрелов больше не было, но, когда Маркелл добежал до деревьев, он услышал впереди треск сучьев: кто-то тяжело убегал по тайге.
Скоро чаща преградила охотнику путь. Острый сучок полоснул его по щеке, чуть не задев глаза.
Маркелл остановился. В черном мраке впереди не видать было даже стволов деревьев, и шаги бегущего смолкли.
Маркелл сунул винтовку в чащу и, не целясь, выпалил прямо перед собой — в темноту.
Прислушался. Сзади спокойно потрескивал костер.
Маркелл вернулся к брату.
Пуля пробила Мартемьяну правую руку и чиркнула по ребрам. Рана не опасная, но крови шло много.
Согнув больную руку в локте, Маркелл туго прикрутил ее к груди брата. Кровь удалось остановить.
Братья потушили костер, улеглись на земле и молча, не смыкая глаз, стали дожидаться рассвета.
Думали о своей Белке и как ее отбить. Дороже самой драгоценной добычи охотнику его верный друг — собака.
Лучше б им лишиться кожаного мешка, чем Белки: была б собака, настреляли бы еще соболей. Теперь братья были не только ограблены, — разорены.
Такой собаки, как их Белка, больше не достанешь. Молодая — ей не было еще и четырех лет, — она уже славилась на всю округу как лучшая промысловая лайка. Щенки ее отличались редким чутьем. За каждого давали пятнадцать — двадцать рублей. За мать не раз предлагали все двести. Но братья не польстились даже на такие неслыханные деньги.
Кто мог украсть ее?
Такая белоснежная лайка была одна в округе, ее все знали. Слухи о ней живо дошли бы до хозяев.
Украсть мог только тот, кто не боялся, что законные хозяева судом или силой заставят его вернуть им собаку.
Такой человек был один в округе: исправник.[5]
Он не раз уже предлагал братьям продать ему Белку и всячески притеснял их за отказ. Не было сомнения, что это он подослал к ним своего человека украсть собаку. Не было сомнения, что никто из деревенских не пойдет в свидетели против него.
Братья сознавали свое полное бессилие перед полицейским там, в деревне, и в городе. Лежа рядом, они думали об одном: как поймать вора, пока он не ушел из тайги. И мысль их работала одинаково, точно на двоих была у них одна голова.
В тайгу был единственный путь — по реке. По ней заходили охотники на промысел, по ней и назад возвращались, в деревни. Нет другого пути и вору. Его лодка припрятана, верно, где-нибудь поблизости.
Братья оставили свою лодку выше по реке. Добираться до нее — уйдет целый день.
Река близко. Если бы не тайга, не чаща, добежать до реки — полчаса. Тогда можно будет…
Было у братьев еще сокровище, отнять его у них можно было только вместе с жизнью, — верный глаз.
Только б увидать вора, а уж пуля, направленная уверенной рукой, не даст ему ускользнуть. И тайга схоронит концы.
Едва в посеревшей темноте обозначились ближние деревья, братья поднялись с земли.
Мартемьян только поглядел на брата да передал ему кожаный мешок, и оба шагнули в одном направлении.
Им ли не знать тайги! Ощупью, в темноте, они отыскали незаметный звериный лаз и вышли по нему на тропу.
Скользя в пробитые оленьими копытами колдобины, спотыкаясь о корни, они бежали и бежали по узкой тропе, пока не послышался впереди мерный грохот реки.
Тогда они пошли шагом, перевели дыхание, чтобы не изменил глаз, не дрогнула бы рука, если сейчас понадобится стрелять.
Ободняло.[6]
Они раздвинули ветви и выглянули на реку так осторожно, точно выслеживали чуткого марала.[7]
Река вздулась от обильных осенних дождей. Навстречу братьям, гремя на перекате, несся широкий бурливый поток. Он был виден далеко вперед.
Лодки на нем не было.
Братья поглядели назад. Сейчас же за ними река, обогнув мыс, круто сворачивала. Высокий лес на мысу заслонял реку за поворотом.
Если вор проскользнул уже здесь, больше они никогда его не увидят.
Один и тот же невысказанный вопрос мучил обоих: да или нет?
И глаза их шарили по волнам, точно искали на них невидимые следы проскользнувшего по ним беглеца.
Так стояли они долго. Уже солнце поднималось над тайгой, играя искрами в зыби потока.
Братья устали от бессонной ночи, от быстрого бега по тропе у них зудели ноги. Но им и в голову не приходило сесть, точно сидя они могли пропустить плывущую мимо них лодку.
Ночное нападение лишило их ужина; утром у них не было времени поесть. Но они не догадывались вытащить из-за пазухи хлеб и пожевать его.
Вдруг Маркелл — глаза его видели дальше — вскрикнул:
— Плывет!
Это было первое слово после шести часов молчания.
Дальше все произошло быстро, очень быстро, гораздо быстрее, чем можно это рассказать.
На них стремительно неслась лодка.
Маркелл первый разглядел на ее носу собаку и крикнул:
— Белка, сюды!
Видно было: собака рванулась, но ремень, завязанный у нее на шее, сбросил ее назад в лодку. Слышен был хриплый, негодующий лай, заглушенный шумом реки.
Тогда Мартемьян выдернул из повязки больную руку, левой приладил винтовку на сук, правой потянул за спуск — щелкнул выстрел.
Маркелл торопливо сказал:
— Не проймешь, брось, мешки.
Вдоль борта лодки стояли набитые землей мешки. За кормой торчало рулевое весло, но человек, управлявший им, виден не был. Пули не могли ему причинить вреда.
На мгновенье братья растерялись. Их последняя надежда рушилась.
Лодка быстро подходила. Что-то надо было предпринять сейчас, немедленно, не теряя ни минуты.
И вот, в первый раз за десятки лет, мысли братьев поскакали в разные стороны.
Старший торопливо стал перезаряжать винтовку.
Младший сорвал с себя кожаный мешок, поднял его высоко над головой, закричал, заглушая грохот потока.
— Бери соболей, отдай собаку!
В ответ ему с лодки стукнул выстрел, пуля пропела в воздухе. Лодка, держась того берега, неслась уже мимо них.
Мартемьян опустил винтовку на сук. Лицо его было страшно. Он бормотал:
— Щенят вору плодить!.. Врешь, никому не достанешься.
Больная рука плохо слушалась его, мешала быстро управиться с ружьем.
Одним прыжком Маркелл подскочил к брату. Скинул его винтовку с сука. На тот же сук опуская свою винтовку, жестко сказал:
— Молчи! Я сделаю.
И тщательно, как соболя, — зверьку надо попасть в голову, чтобы не попортить драгоценной шкурки, — стал выцеливать.
Мартемьян впился глазами в белоснежную фигуру собаки на лодке.
Белка, натянув узкий ремень, вскинулась на задних ногах, передними повисла в воздухе — рвалась через борт к хозяевам.
Еще миг — и бесценный друг, исчезнув за поворотом реки, навсегда достанется ненавистному вору.
У самого уха Мартемьяна ударил выстрел.
Мартемьян видел, как Белка сунулась вниз — мордой вперед.
Лодка исчезла.
Несколько минут братья стояли не шевелясь, глядя на волны, стремительно убегающие за мыс.
Потом старший сказал, кивнув на больную руку:
— Стяни потуже.
Из раны обильно сочилась кровь. К горлу подступала тошнота, неиспытанная слабость охватывала все громадное тело Мартемьяна.
Он закрыл глаза и не открывал их, пока брат возился с перевязкой.
Не рана его мучила: сердце еще не могло помириться с потерей любимой собаки.
Он знал, что и брат думает о ней; открыл глаза и посмотрел ему в лицо.
Левый глаз Маркелла неожиданно прищурился и хитро подмигнул ему.
«Эк его корчит!» — подумал Мартемьян и снова опустил веки.
Туго спеленатая рука наливалась тупой звериной болью.
Сильный шелест в чаще заставил его снова открыть глаза.
Не Белка — прекрасное ее привидение, всё алмазное в радуге брызг, стояло перед ним.
Собака кончила отряхиваться, бросилась на грудь Мартемьяну, лизнула в лицо, отскочила, кинулась к Маркеллу.
Секунду Мартемьян стоял неподвижно. Потом быстро наклонился, здоровой рукой подхватил обрывок ремня у Белки на шее.
На конце ремня была полукруглая выемка — след пули.
Волосатое, грубое лицо старого охотника осветилось счастливой детской улыбкой.
— Ястри тя… ладно ударил! — громко сказал он. И тут же спохватился: ведь это были лишние слова, их можно было и не говорить.
1927 г.
ЧЕРНЫЙ СОКОЛ
В АУЛЕ
Бедный деревьями степной аул был весь открыт солнцу. Улица пустовала. Только у сакли торговца Кумалея, в тени серебристого тополя, сидел на корточках бритоголовый нищий. Под другим тополем стоял оседланный конь. Стайка голубей подбирала в пыли зерна.
Птицы двигались вяло: клюнут — и посидят без движения, клюнут — и приоткроют клюв, задыхаясь. Было знойно.
Из сакли вышел джигит в папахе, с кинжалом у туго стянутого пояса. В руках держал он кожаную сумку. Большой, сгорбленный, крючконосый, показался за ним торговец.
Нищий вскочил на ноги. Его быстрые глаза приметили табак в сумке джигита. Он правой рукой слегка коснулся лба и груди, левую протянул за подаянием.
— Табачку, баба,[8] на одну трубочку табачку нищему Саламату, и да будет тебе удача во всех делах.
Хмуро глянул джигит на согнутую фигуру попрошайки — и прошел мимо. Навстречу хозяину тихонько заржал конь. Джигит подошел и стал приторачивать к седлу сумку. Нищий тотчас же очутился рядом.
— Душистый табачок поможет голодному Саламату забыть чурек.[9] Трубочка табаку будет сухому горлу Саламата как глоток сладкого кабернэ.[10] Гассан — щедрый джигит, Гассан…
Джигит выхватил из сумки толстую папушу[11] табачных листьев, швырнул ее через плечо. Нищий на лету подхватил подачку.
Торговец, молча наблюдавший за обоими, повел сутулыми плечами.
— Саламат сытей тебя, джигит. Щедрость твоя безрассудна: от щедрот жиреют ленивые и трусы.
Гассан ничего не ответил. С места, даже не задев стремени, легко и метко вскочил в седло.
Вспугнутые его резким движением, взлетели голуби. Плеск и мельканье белых, сизых, коричневых крыльев на мгновенье наполнили воздух.
В тот же миг черная молния с шипящим свистом рассекла стаю. Голуби шарахнулись в стороны, исчезли за тополем.
Гассан вскинул голову. Солнце сияло. Небо было безоблачно. Но над тополем, оставляя в воздухе легкую дорожку пуха, поднимался черный сокол. Он уносил в когтях мертвого голубя.
— Сапсан! — вскрикнул джигит. — Вот удар, — даже на землю не пал с добычей!
— Был да нет, — спокойно сказал торговец. — Ищи ветра в поле.
— Мой будет!
Гассан вздернул коня на дыбы, пустил его вскачь по улице.
Пыль, взметнувшаяся из-под копыт, медленно опустилась на землю.
— Молодая кровь — горячая кровь, — забормотал нищий, поднимаясь с корточек и подмигивая торговцу. — Черный сокол — дорогой сокол. Саламат тоже хочет искать.
Кумалей скрылся в сакле. Через минуту его большое тело показалось на плоской крыше. С крыши видна была степь и мчащийся по ней всадник.
Гассан остановил коня: сокол как в воздухе растаял. Быстроногий конь не мог догнать его, даже отягощенного добычей.
Обернувшись, джигит заметил черную точку на крыше одной сакли. Рука привычным движением опустилась на кинжал. «Следит», — подумал Гассан тревожно.
Потом рассмеялся:
— Жди, коли терпенья хватит.
И повернул коня к дому.
СОКОЛЯТНИК
С этого дня Гассан стал как одержимый. Найти сапсана сделалось его мечтой. С рассвета он седлал коня и до ночи пропадал в степи. Он был уверен, что на миг мелькнувший сокол случайно где-нибудь еще раз попадется ему на глаза. Но дни проходили, — черный сокол не показывался.
Так, бывает, редкой породы рыбка, играя, сверкнет взгляду страстного удильщика и без следа скроется в прозрачной глубине. Бегут и бегут волны, и рыбка та, быть может, давно уже гуляет по другим рекам, а восхищенный рыбак всё хранит в памяти ее серебристое виденье. Долго еще закидывает он удочку то в одном, то в другом месте в безрассудной надежде вытащить, ту самую, пленившую его редкую рыбку.
Гассан без памяти любил соколиную охоту. Во всей округе никто так не умел вынашивать ловчих птиц, как он. Недаром из Тавриза наведывались к нему охотники. За доброго сокола они готовы отдать лучшего в табуне скакуна и денег еще впридачу.
Но, сам горячий охотник, Гассан не богател от своего искусства. Любимую птицу он не соглашался продать ни за какую цену. Когда же он находил лучшую, готов был отдать остальных за бесценок.
Так случилось и в этот раз. Увидав сапсана, джигит почти даром отдал своих двух ястребов Кумалею, сейчас же выгодно сбывшему птиц в другие руки. Ястребам надо было добывать пищу, за ними надо было ходить, — это мешало Гассану с утра до ночи рыскать по степи.
Черного сокола — сапсана — охотники ценят выше ястребов, выше даже могучего беркута.[12]
Неистовый убийца, ястреб хватает всё, что попадется ему на глаза. Низкий убийца и вор, он прячется в засаду, стараясь врасплох захватить жертву. Он готов гоняться по кустам за мелкой пташкой, он придушит зверька, в смертельном страхе приникшего к земле, будет душить и убивать, даже если сыт сам и птенцы его накормлены.
Беркут бросит охоту, завидев легкую поживу — падаль.
Но никогда не изменяют себе благородные сокола. Они берут птицу всегда на лету. Сидящую сокол не тронет. Скроется птица в чаще, припадет к земле, нырнет в воду, — она спасена. Но в воздухе он не знает промаха. Сытый, он не станет убивать даже тех, что рядом, голодный — никогда не тронет падали.
Крупный сокол — сапсан — добывает охотнику любую дичь — от юркой маленькой перепелки до грузного гуся.
Но джигит мечтал промышлять с сапсаном не дичь. Есть для соколятника добыча ценней самой вкусной дичи. О ней, слоняясь по степи, думал Гассан.
Он видел себя верхом на коне у берега широкой реки. На левой руке его, защищенной толстой кожаной перчаткой, сидит сапсан. Голова сокола покрыта клобучком с султаном.
Вдали на берегу Гассан видит больших серых птиц. Они неподвижно стоят по колено в воде, выгнув длинные шеи. Изредка то одна, то другая из них стремительным движением выбрасывает вперед клюв — бьет проплывающую рыбу.
Зоркие птицы не подпустят близко. Они уже расправили широкие мягкие крылья, — поднимаются.
Гораздо больше сапсана серые цапли. Страшный клюв их как копье, шея как сильная рука, держащая это копье. Они в воздухе пронзают клювом-копьем нападающего ястреба. Нужна соколиная ловкость, чтобы избежать меткого удара гибкой — вперед, назад, в стороны разящей — шеи-руки.
Цапли летят. Гассан снимает клобучок, высоко над своей головой поднимает руку с соколом. Сапсан смотрит. Слетает. Мчится.
Выбрал одну, настиг, подсек, взгоняя. Вынырнул сзади — ударил.
Падает на землю цапля, и уже мчится к ней, не разбирая дороги, джигит. Домчал. Долой с коня, схватил драгоценную добычу. Послушный сокол вернулся на руку, получил мясо и опять в клобучке — ничего не видит, Гассан вырывает два самых красивых пера из хвоста цапли — себе на память. Надевает ей на ногу железное кольцо и отпускает на волю.
И цапля летит в другие страны, разнося по ним славу охотника, чье имя выбито на кольце: там ждут ее другие охотники с соколами.
Стряхнув грезы, Гассан озирался.
Он видел себя в седле, но кругом расстилалась степь, и на руке у него не было черного сокола в клобучке.
Так прошла неделя. Сапсан ни разу не попался на глаза джигиту.
Напрасно Гассан уверял себя, что сокол не покинул этих мест, что где-нибудь не так далеко его гнездо, что время стоит гнездовое и у всех соколов в гнездах сейчас птенцы.
Сомнения одолевали: черный сокол мог быть и холостым, залетным. Гнездящийся сапсан в тех местах — редкость.
В СТЕПИ
«Следит», — подумал Гассан, вглядываясь в темную точку, чуть видную на золотистом крыле высокого облачка.
Каждое утро, выезжая из аула, замечал он эту темную точку в вышине и давно привык к ней. И в этот раз он сейчас же позабыл о ней: конь мчал его по степи, надо было смотреть, не покажется ли где сапсан.
Пустыней кажется выжженная солнцем степь. Сухой и горькой полынью едва прикрыта пыльная земля. Редкие кусты тощи и колючи.
Но недаром в три ряда реют над степью крылатые хищники. В нижнем ряду, как детские бумажные змеи на невидимой нитке, неподвижные в воздухе соколки-пустельги. Выше, распустив глубоко вырезанные хвосты, кружат внимательные коршуны. И над всеми парит орел.
Каждый высматривает себе дичь по силам. И каждому в степи обильная пожива — от саранчи до легкой степной антилопы.
Сверкая красными, черными крылышками, с треском взлетали из-под копыт Гассанова коня долгоногие кузнечики; с тревожным писком вспархивали птички; разбегались юркие ящерки; припадали к земле, прятали под щит голову и ноги медлительные черепахи. Далеко впереди серой стеной вставал пустынный горный хребет — Боз-Даг.
Гассан остановился у заросли колючего держидерева. Конь, отпущенный на свободу, принялся щипать зеленую в тени кустов траву. Джигит спрятался в заросли.
Солнце еще не взошло из-за гор. Высоко в синеве пел жаворонок. Веселый короткокрылый чеканчик плясал на земле в нескольких шагах от джигита. Пустельги кругом, точно кто их внезапно дергал за невидимую нитку, разом падали на землю, подхватывали выпрыгнувшего из травы кузнечика, снова поднимались вверх. Орел, заметив притаившегося человека, кругами передвинулся в сторону.
Гассан видел: за кустом держидерева вскочил на кочку черно-золотой, в пестринах степной петух — франколин. Красавец-петух огляделся и, не заметив ничего подозрительного, ударил короткую перепелиную песнь: «Чук, ти-ти-тур!»
Голос его звучал глухо, почти зловеще. «Ти-ти-тур — быть беде», — слышалось Гассану. О чем и петь беззащитному степному петуху, когда кругом нависла над ним смерть?
Всюду трепет упругих крыл, каждый кустик травы обшаривают жадные глаза.
Гассан очнулся от дум: точно дунуло вдруг с гор!.. Мгновенно рассеялись по сторонам бумажные змеи — пустельги. Будто сорвавшись с облака, упал перед джигитом жаворонок. Быстро-быстро накидал крылышками на спину себе серую пыль и — сам серый — исчез на глазах невидимкой. Чеканчик со страху юркнул под землю — в узкую мышиную норку.
Один франколин ничего не замечал, бил-барабанил свою глухую песнь: «Чук, чук — быть беде, — ти-ти-тур!»
И накликал: точно свист стрелы за кустом, быстрая тень впереди — сокол! Глупый петух растерялся, подскочил — и ракетой — по-фазаньи — вверх. И конечно, — смело, как вихрем. Теряя перья, пал на землю с тяжелым соколом на спине.
Джигит чуть сдержал крик: сапсан!
А сокол уже поднимался с добычей. Тяжело и часто махая крыльями, полетел к кургану неподалеку. Сел.
Гассан свистнул коня, вскочил в седло. Теперь — не упустить из виду, заметить, что будет делать, куда понесет добычу.
Но сокол, видно, сам собирался позавтракать франколином: ощипывал перья у него на груди.
К кургану слетались коршуны. Хрипло крича, они кружились над соколом, падали вниз, поднимались.
«Клянчат, проклятые жабоеды, — злился про себя джигит. — Вам только цыплят таскать у зазевавшейся клушки да жрать вонючую падаль. Покажет вам сокол».
И правда: сапсан сделал движение, точно собираясь кинуться на надоедливых попрошаек. Коршуны бросились врассыпную, но сейчас же снова вернулись, принялись кружить и падать.
Соколятник от души презирал их. Как трусливые гиены перед львом, коршуны перед сапсаном.
Их грязно-бурое оперение скрывает несильное тело. Хоть ростом они не уступят сапсану, их слабые когти не знают стальной соколиной хватки.
Сапсану ничего не стоило расправиться с ними. Но, видно, они были ему так же противны, как джигиту: сокол неожиданно выпустил добычу и взмыл над курганом.
Коршуны кинулись на мертвого петуха, рвали кровавое, в перьях мясо, давясь, поспешно заглатывали куски, крича и ссорясь. Сапсан не оборачивался. Он несся вперед — к далеким деревьям, одиноким островком поднимавшимся среди ровной степи.
Когда взмыленный конь примчал джигита к зеленому островку, сокол летел уже назад к горам — с новой добычей в когтях.
Гассан решил ждать здесь. Он знал привычки соколов. У каждого из них свой охотничий участок. Теперь сапсан полетел кормить птенцов. Но он вернется, если только этот зеленый островок в его владениях.
Джигит отпустил коня и спрятался в кустах.
Он ждал долго. Тени деревьев становились короче и короче, точно кто их тихонько сматывал под корни. Одна за другой прилетали со степи рыженькие пустельги и прятались в листве. Замолкал птичий хор. Исчезли коршуны. Орел кругами отлетел за горы.
Наступила минута: Гассану почудилось, что он один в мире. Всё кругом притаилось и затихло.
«Полдень», — подумал джигит, взглянув на небо.
И тут он опять увидел в небе — так высоко, что туда не доставало горячее дыхание земли, — в ясной синеве неба опять увидел чуть заметную темную точку — гриф! — и вспомнил: следит!
Он встряхнул головой:
— Жди, коли терпенья хватит.
И стал смотреть, как из-под деревьев медленно-медленно начали вытягиваться тени.
ПТИЧИЙ ХОЗЯИН
Полдневный жар спадал. Птицы вылетали из листвы, как пчелы из улья. Поднялась суетливая возня в ветвях. Писк, шум, пенье наполнили зеленый островок.
«Прилетит хозяин, — улыбнулся про себя Гассан, — нагонит страху».
И будто в ответ ему раздались резкие крики встревоженных сизоворонок.
Начался невообразимый переполох. Птицы с криком кидались под защиту ветвей. Некоторые, неизвестно для чего, взвивались и сверху стремительно падали в листву.
«Он здесь», — понял Гассан и, осторожно раздвинув кусты, стал высматривать всполошившего птиц хищника.
Гассан увидел его совсем близко от себя — на ветке дерева, но радости не испытал: это был не сапсан, а серый ястреб-тювик. Джигит даже плюнул с досады: раз тут хозяйничает ястреб, сокола сюда не жди. Эти хищники никак не уживаются друг с другом. Сапсан, верно, случайно залетел сюда, как тогда — в аул.
Джигит пожалел, что у него не было под рукой хоть камня. Дерзкий хищник, казалось, издевался над ним: так спокойно он расклевывал мертвую сизоворонку, равнодушно поглядывая на высунувшегося из куста человека. С ненавистью смотрел Гассан на его приплюснутую голову, в его холодный глаз, сделанный, казалось, из прозрачного желтого камня.
Какая-то маленькая птичка выпорхнула из кустов. Тювик прыгнул за ней, как кошка. Мертвая сизоворонка свалилась на землю.
Тювик промахнулся: птичка успела шмыгнуть за толстый ствол дерева. Ястреб круто повернул за ней. С невероятным проворством птичка принялась кружить вокруг ствола. На третьем же кругу ястреб заметно отстал от нее: он был слишком велик для таких быстрых поворотов. Птичка стремглав метнулась в кусты и исчезла.
Одураченный ястреб не подумал вернуться к своей недоеденной добыче. Он принялся летать между кустами и деревьями. Джигит едва успевал следить за его неожиданными поворотами и резкими скачками в воздухе.
В это время степной орел спустился на голую вершину дерева. Тювик мгновенно шмыгнул под ветки и примостился у самого ствола. Орел медленно собрал громадные крылья и втянул голову в плечи.
«Гиак! гиак!» — раздался вдруг громкий крик откуда-то с высоты.
Джигит сквозь листву разглядел над орлом сапсана.
«Гиак!» — снова испустил сокол свой боевой клич.
Орел только голову повернул. Но когда сапсан помчался на него сверху, громадный хищник невольно распустил крылья, готовясь встретить удар.
Сапсан просвистал над самой спиной орла и снова взмыл над ним.
Орел взмахнул крыльями и поднялся с дерева. Весь вид его говорил, что он недоволен, очень недоволен: хотелось отдохнуть, а тут этот забияка.
Гассан хохотал, довольный: вот когда прилетел настоящий хозяин.
Тюника на дереве уже не было: улучив минутку, воришка незаметно удрал из чужих владений, куда он прилетел пограбить, пока нет хозяина.
Джигит свистнул коня. Теперь можно было спокойно отправляться домой, не требовалось даже искать гнезда сапсана: раз тут его охотничьи владения, тут его можно будет и поймать.
ПРОМАХ
Приготовления к ловле заняли четыре дня.
В первый же день Гассан починил сеть и без труда поймал в ауле белокрылого голубя. Два дня ушло на розыски гнезда чернолобого сорокопута. Эта певчая птичка ведет хищный образ жизни и отличается замечательной зоркостью.
Гнездо, наконец, было найдено в заросли держидерева. Джигит вымазал птичьим клеем ветки рядом с гнездом, и на следующий день сорокопут попался: приклеился лапками к ветке.
Еще в темноте выехал Гассан из аула и с рассветом начал приготовления.
В полсотне шагов от деревьев, среди открытой степи он установил сеть и веревку от нее провел к деревьям. От сети еще на пятьдесят шагов дальше в степь насыпал зерна и посадил голубя, привязанного за ногу очень длинной, тонкой бечевкой. Бечевку пропустил в кольцо под сеткой и тоже протянул к деревьям.
Проверил, хорошо ли действует ловушка. В одну руку взял конец бечевки от голубя, в другую — веревку от сети. Дернул за бечевку. Голубь взлетел. Гассан потянул его книзу и — по земле — к сети. Когда голубь оказался под сетью, дернул веревку. Сеть упала и покрыла собой птицу.
Ловушка действовала исправно.
Снова насторожив сеть и пустив голубя на прежнее место, Гассан вырыл невдалеке ямку, прикрыл ее дощечкой, рядом вбил колышек и привязал к нему сорокопута.
Теперь всё было готово, и джигит спрятался в густой листве кустов. Солнце уже поднималось над горами. С минуты на минуту мог прилететь сапсан.
Началось томительное ожидание. Десять раз уже успел Гассан пережить в воображении то, что вот-вот должно было случиться.
Вот сорокопут криком предупреждает его о приближении хищника. Вот Гассан дергает за бечевку, и голубь взлетает. Сокол ловит его на лету. Гассан дергает за веревку, и обе птицы падают на землю. Сокол не хочет отпустить добычи, Гассан подтягивает его вместе с голубем по земле и, дернув за веревку, роняет сеть, И вот уже Гассан чувствует в руках крепкое тело сокола, связывает его сильные крылья.
Джигит проводил языком по сухим губам — и начинал грезить снова.
Голодный голубь жадно клевал зерно. Сорокопут то рвался с привязи, то вскакивал на колышек и тревожно озирался. На деревьях пели, кричали птицы.
Гассан крепче наматывал веревки на руки, нетерпеливо вглядывался сквозь кусты в степь.
«Чек, чек, чек!» — резко, точно камешком ударяли о камешек, закричал сорокопут.
Гассан чуть не уронил сеть. Забегал глазами по небу, но ничего не заметил.
Зоркий сорокопут видел. Он беспокойно вертелся на колышке, кричал всё громче, вдруг юркнул в ямку и притаился. Тут только заметил сапсана и джигит: высоко над землей сокол мчался к деревьям, часто-часто взмахивая крыльями.
Гассан набрал полную грудь воздуха, и ждал, когда сокол подлетев шагов на полтораста, и дернул бечевку.
Белые крылья голубя замелькали над землей, как сигнальный флажок.
Сапсан на миг точно замер в воздухе, повернул и, как камень из пращи чабана, понесся наперерез.
Гассан судорожно дернул бечевку. Голубь споткнулся на лету, перекувырнулся, — белый флажок захлопал по земле.
Гассан потянул и вдруг заметил, что тащит одного голубя.
Сапсан, раскинув крылья, остался лежать на земле среди желтых крупинок зерна.
Гассан понял сразу, что случилось: в волненье, он слишком рано отдернул летящего голубя. Птица разом остановилась в воздухе. Сокол ударил мимо.
Бил он сверху. Голубь был над самой землей.
Джигит знал, что бывает с проловившими соколами. Он бросил ненужные веревки и вылез из засады.
Сапсан лежал грудью на земле. Темная его спина резко выделялась на серой почве. Большие глаза были прикрыты беловатыми веками. Они медленно открылись навстречу Гассану.
Джигит стал на колени и протянул руку. Сокол неожиданно перевалился на бок. Гассан не успел отдернуть руки: страшная лапа скогтила его за рукав. Сокол судорожно забил крыльями и застыл. Глаза его потухли и закрылись. На крутом клюве вздулся кровяной шарик и лопнул.
Гассан поднялся с колен. Мертвый сокол тяжело повис у него на руке. Гассан взвесил его свободной рукой, потрогал аспидно-черное, жесткое и гладкое перо крыла. С рассеянным недоумением глядел вокруг.
Удильщик так в недоумении разглядывает с трудом и волнением вытащенную им на крючке корягу. Он не в силах сразу понять немой насмешки нечаянной подмены. Где трепет и возмущение живой добычи? В руках только мертвая тяжесть жесткой бездушной деревяшки.
Джигит попробовал разжать застывшие в хватке хищные когти. Когти не поддались. Он сильно дернул, и лапа оторвалась с куском крепкой материи.
Джигит бережно опустил сокола на землю.
В УЩЕЛЬЕ
Долго потом не мог простить себе Гассан своей неосторожности. Великолепного черного сокола он погубил своей рукой: не отдерни он так не вовремя голубя, — сапсан не разбился бы.
Ругал себя джигит и за то, что не выследил соколиного гнезда. По большой величине сокола он знал, что загубил самку. Самец не бросит птенцов. Но где искать его? К знакомым деревьям он не прилетал. А горы и степь велики.
Браться за воспитание ястребов Гассану не хотелось: он чувствовал, что охота с ними больше не доставит ему былой радости.
Частенько теперь джигит среди бела дня без дела посиживал у своей сакли.
Раз, когда он так сидел, попыхивая трубкой, к нему подошел Саламат. Этот человек был противен прямодушному джигиту. Гассан уже хотел прогнать его. Но нищий заговорил, и первые же слова его заставили джигита насторожиться.
В цветистых выражениях Саламат рассказал, что после долгих поисков он нашел в горах гнездо черного сокола. Из любви к джигиту Саламат готов, пожалуй, уступить ему одного или двух птенцов, если джигит поможет ему достать их.
Джигит снова увидал у себя на руке сапсана в клобучке, цаплю, улетающую вдаль с кольцом на ноге. Ему и в голову не пришло спросить Саламата, велик ли труд добраться до гнезда.
— Едем, — сказал он, вскакивая.
— Положи подушку терпения на ковер ожидания, баба. До гор далеко, а солнце уже задумалось об отдыхе, — сказал Саламат.
Но горячего джигита уже нельзя было остановить.
За час до захода два всадника подъехали к горам.
Саламат остановил коня и указал джигиту узкое ущелье. Сказал, что дорога трудная и всё равно в темноте им не взобраться на крутой перевал, где на скале соколиное гнездо.
Гассан молча поехал вперед.
Чем дальше по ущелью подвигались всадники, тем выше росли и тесней сдвигались горы. Из глубины расселин путников обдавало душным жаром. Гассану чудилось, — здесь горло гор, оно тяжело дышит.
На камнях не росло ни кустов, ни травы. Тяжелая пыль заглушала стук копыт. Мертво и грозно немели скалы.
И когда у самого лица Гассана тускло блеснули два глаза, он вздрогнул и осадил коня.
В глазах, неподвижно глядевших на Гассана, не было никакого выражения. Казалось, глядел камень.
Всмотревшись, джигит с трудом различил на сером камне очертания треугольной головы, распластанного серого тела, кольчатого в шипах хвоста. Отвратительное пресмыкающееся поползло по гладкому камню. Это была большая горная ящерица-агама.
Скоро дно ущелья стало заметно подниматься. Темнело. Саламат слезливо о чем-то упрашивал сзади. Гассан его не слушал. И только случайно подняв голову, увидал: навстречу им по небу надвигалась черная туча.
Тень побежала по ущелью. Быстро наступил мрак. Сверкнул ослепительный огонь, неистовый грохот поскакал по горам. В глаза Гассану ударил ливень.
Сквозь шум и грохот джигит услыхал слабый крик Саламата. Крик донесся сзади и сбоку: Гассан понял, что тот укрылся под скалой.
Задор обуял джигита. Слепой, оглушенный, весь мокрый, он упрямо гнал коня вперед.
Стоголосый гром не прерывался ни на минуту. Гассан скорей почувствовал, чем услыхал смутный рев где-то впереди. Конь шарахнулся в сторону, вскочил на большой камень, прижался к скале. Грохот грозы смешался с ревом и плеском.
Скопившаяся где-то на горах вода хлынула в ущелье. Красноватые от молний волны бились о скалы, перескакивали через камень, крутились, били коня по ногам. Конь храпел и вздрагивал.
Гассану казалось, горлом гор хлынула кровь.
Гроза прошла так же внезапно, как началась. Поток ослаб, затих и прекратился понемногу совсем. В черной высоте заблистали звезды.
Гассан решил продолжать путь.
Тропа круто пошла вверх. Джигит понял, что начинается перевал. Соскочил с коня, пропустил его вперед и обеими руками ухватился за хвост. Конь стал карабкаться вверх, потащил за собой джигита, Гассан не различал дороги. Он крепко намотал на руки жесткий конский волос и ступал ногами в тьму. Дробно щелкали позади выскользнувшие из-под ног камешки. Щелканье вдруг обрывалось: камешки летели в пропасть. Джигит слепо доверился коню.
Руки совсем затекли у Гассана, когда, наконец, конь резко подался вперед, и оба передние его копыта разом стукнули о камень. Через минуту джигит выпустил хвост коня: они стояли на перевале.
На перевале был луг, Гассан беспечно растянулся на мокрой траве.
НАД ПРОПАСТЬЮ
Стремительный рассвет уже разгонял ночную тьму, когда Гассан проснулся. Невдалеке от него конь мирно жевал траву.
Гассан встал, осмотрелся.
Он стоял на пологом хребте, покрытом цветущим лугом. От хребта спускались к степи крутые острые отроги. По одному из них конь и втащил джигита ночью на перевал. Между хребтами залегли черные пропасти. Внизу клубился мутный туман.
«Саламат говорил, — вспомнил джигит, — отсюда видно гнездо».
Он подошел к самому краю пропасти и стал осматривать скалистые отроги. В одной из скал было два темных углубления. Над верхним торчал камень. Джигит долго всматривался в него; наконец различил на нем черную фигуру сокола.
Сапсан сидел неподвижно, как вделанный в скалу, весь прямой и твердый.
«Где-нибудь рядом и гнездо», — решил джигит.
Сзади из травы выпорхнул жаворонок, запел и с песней стал подниматься в голубеющую высь.
Сапсан повернул за ним голову. И остался сидеть без движения.
С треском и хлопаньем сорвался под ним дикий голубь. Толчками помчался вверх мимо скалы, — так близко, что сокол шутя мог схватить его тут же, рядом со скалой, на которой сидел.
Но сапсан только проводил его глазами.
«Соседей не трогает, — подумал Гассан. — Голубь его видит и не боится».
Солнце взошло.
В темном углублении под камнем, где сидел сокол, что-то зашевелилось.
«Птенцы», — сообразил Гассан.
Сокол распустил крылья, широкой грудью подался вперед, вниз — и сорвался со скалы.
Косые крылья легко взнесли его над пропастью. Сделав в вышине две головокружительные мертвые петли, сапсан стремительно понесся над горами.
«Надо поспеть, пока не вернулся», — подумал Гассан.
Он смерил глазами пропасть, расстояние до скалы, высоту скалы до углубления, где гнездо, и улыбнулся. Теперь ему ясно было, почему Саламат сам не попробовал достать птенцов: до соколиного гнезда мог добраться только тот, кто не дорожит жизнью.
Гассан посмотрел вниз. Там черным жуком осторожно взбирался по крутой тропе Саламат.
Восторг охватил джигита: показался ему вдруг необычайно просторным мир, охватило желание смелых подвигов, — чтобы, как сокол, мчаться и биться с врагом в воздухе.
— Гляди, как у нас! — крикнул он темной точке и погрозил кулаком в небо.
Он по краю пропасти подбежал к отрогу, легко перепрыгнул на острый гребень. Справа и слева от него обрывалась круча, а он скакал с камня на камень, и у него не кружилась голова, он не испытывал никакого страха. Опасная игра захватила его. Он думал: «Что смерть? Она в ауле, в степи, в ущелье — всюду».
Он быстро добрался до скалы. Тут ему пришлось остановиться и тщательно осмотреть каждый уступчик и выступ, каждую выбоинку, — куда поставить ногу, где схватиться рукой.
Скала нависла над пропастью крутой каменной грудью. Гассан полез, цепляясь руками у себя над головой, ощупью разыскивая намеченные для ног местечки. Он висел теперь спиной к бездне.
Через несколько минут он добрался до нижнего углубления. Здесь, в маленькой открытой пещерке, вымазанной кровью, валялись перья и кости голубей, уток, франколинов и другой добычи сокола.
Дальше подниматься стало еще трудней: над головой выступил острый камень.
Недолго думая, Гассан схватился за него обеими руками и всем телом повис над бездной. Раскачавшись, он втянул себя наверх и сел на камне.
Перед ним было гнездо сапсана. На кучке жесткого хвороста лежали четыре крупных пуховых птенца. Они изумленно уставились на джигита круглыми черными глазами.
Гассан одного за другим отправил птенцов к себе за пазуху. Соколята кусались и царапались.
«Сильные», — радовался джигит.
— Летит, летит! — донесся до него крик Саламата.
Тот стоял на перевале и показывал рукой куда-то в сторону.
Медлить было опасно. Гассан лег грудью на камень, крепко охватил его руками, соскользнул и, вися, нащупал ногою выступ. Нашел опору для другой ноги и отпустил руки.
В это мгновенье сзади него просвистели крылья и раздалось громкое: «Гиак, гиак!»
Гассан стоял, всей грудью прижавшись к скале.
«Двинет в спину — слетишь», — подумал он тревожно.
Он осторожно повернул голову.
Сокол с криком несся прямо ему в лицо.
Гассан закрыл глаза, покачнулся — и сорвался в пропасть.
ДОБЫЧА ЗОРКИХ
Саламат быстро спустился в ущелье.
Джигит лежал с переломленной рукой и ногой, со свернутой набок головой. Саламат приставил лезвие кинжала к его губам. Сталь затуманилась: Гассан дышал, но был еще без чувств. Через дыру в одежде Саламат поспешно вытащил соколят. Двое из них были живы: джигит ударился боком.
Саламат спрятал их у себя на груди, взобрался на седло и погнал коня по ущелью.
В полдень Саламат соскочил с усталого коня у сакли торговца Кумалея. Хозяина он застал на заднем дворе.
Саламат показал торговцу соколят, заломил за них громадную цену.
Кумалей покачал головой.
— Позови Гассана, — сказал он. — Соколятник скажет настоящую цену.
Саламат не ожидал такого оборота дела и не приготовил заранее ответа. Он смутился. Его замешательство не укрылось от торговца.
— Вчера после полудня, — сказал торговец, уперев тяжелые свои глаза в Саламата, — Саламат ускакал в горы вместе с джигитом. Я следил, я знаю. Саламат будет в ответе, если джигит не вернется.
Саламат знал, что Гассан не вернется, он рассказал торговцу, как джигит сорвался в пропасть.
— Баба видит, молодые соколы по праву принадлежат Саламату, — закончил свой рассказ нищий. — Баба даст за них бедному Саламату столько денег, сколько сам захочет.
— Положи, — приказал Кумалей, показывая на соколят.
Саламат опустил птиц на землю.
— Уходи, — продолжал торговец. — А если заикнешься о деньгах, я всем скажу, что ты столкнул джигита в пропасть.
И он остался один на дворе. Громадный, крючконосый, он втянул голову еще глубже в сутулые плечи и спокойно принялся рассматривать так просто доставшуюся ему добычу.
Громадный, крючконосый, опустился на скалу черный гриф. Втянул голову в сутулые плечи, вглядываясь в простертую под ним добычу.
Непостижимо зоркий, изо дня в день следил он с холодной высоты за всем, что происходит в ауле, в степи, в горах. И спускался, когда наступало его время.
На дне ущелья над трупом кричали коршуны.
Гриф выгнул зобастую шею и шагнул в пропасть. Саженные крылья раскрылись, плавно снесли его вниз.
Перед ним в страхе отступили коршуны.
Вверху на камне, над пустым гнездом неподвижно сидел черный сокол.
Он не смотрел вниз…
1928 г.
РОКОВОЙ ЗВЕРЬ
Говорят: сороковой медведь — роковой.
Киприян был темный человек и этому суеверию верил. Убив по счету тридцать девятого медведя, он положил себе этих зверей больше не трогать и стал избегать с ними встреч. На охоту стал ходить только высоко в горы.
В горах Алтая, где жил Киприян, каждый зверь соблюдает свое место. Медведь живет внизу, в черни-черневой, то есть лиственной тайге. Выше в горы, где пошел пихтач, и еще выше, где чистый кедр, медведя встретишь реже.
Ближе к снежным вершинам — белкам — даже кедр не выдерживает, припадает к земле, ползучим кустарником стелется по холодным скалам. Тут уж если и увидишь медведя, то можно вовсе его не бояться: здесь не его владения, и он сам бежит от человека. Изредка только, в летний зной, вскарабкается косматый на площадку повыше, где рядом с веселой изумрудной травой лежит, ослепительно блистая на солнце, чистый горный снег: любит поваляться, покататься в холодной снежной перине, повыгнать блох из косматой шубы. И если тут услышит человеческий дух, стрельнет, как заяц, вниз, в родную тайгу, — только и всего.
Зато на холодных этих высотах всегда найдешь большого горного козла с острыми, загнутыми назад ребристыми рогами длиной с локоть. Здесь же пасется и крошечный безрогий оленок с торчащими из-под верхней губы клыками — кабарга.
За кабаргой да горным козлом и стал ходить Киприян, опасаясь, как бы его не заломал роковой сороковой медведь. А когда подошел июнь — время медвежьих свадеб, — старый охотник отправился на белки не тайгой, а скалистой крутой тропой, что ниточкой сбегала с горы к самой избушке Киприяна. В эту пору медведи становятся беспокойны и встречаться с ними особенно опасно.
Охота была удачной. Киприян застрелил крупного горного козла, взвалил его себе на спину и той же тропой стал осторожно спускаться с вершины. Одностволка его была заряжена пулей. И еще две пули оставались про запас.
Тропа вела карнизом, таким узким, что разойтись на нем не могли бы и два человека.
Над тропой нависла голая, гладкая скала, а под ногами Киприяна развернулась глубокая пропасть.
Тут-то, на повороте этой опасной тропы, против всякого ожидания, охотник и столкнулся нос к носу со своим сороковым медведем.
За спиной у Киприяна был большой мешок с убитым козлом.
Ремни врезались в плечи, — не стряхнешь. Повернуться, отступать было невозможно.
Оставалось одно: стрелять:
Но старый охотник не мог сразу осилить своего страха перед «сороковым».
Черная лохматая башка глядела из-за камня впереди. Медведь, видно, был удивлен неожиданной встречей не меньше, чем Киприян. Медведь разом остановился. Его подслеповатые глазки беспокойно забегали, нос зашевелился, из горла вырвалось низкое, скорее испуганное, чем угрожающее, рычание.
Медведь тоже не мог повернуться.
Или человек, или зверь должен был быть сброшен в пропасть, чтобы дорога освободилась для оставшегося в живых.
И всё же Киприян медлил стрелять: оставалась еще надежда, что медведь попятится и задом уйдет по тропе.
Но и эта надежда пропала: медведь зарычал громче. Вслед за башкой показалась его косматая шея.
Зверь наступал.
Киприян быстро поднял ружье, уперся твердо ногами в камень — и выстрелил медведю между глаз.
Дым на миг закрыл камень впереди. Когда дым отлетел, медвежьей башки уже не было. Киприян повернул ухо к пропасти. Но звука падения тяжелого тела он не услышал. Это его, впрочем, не смутило: внизу ревела, прыгая через камни, стремительная горная речка.
Киприян вздохнул полной грудью: путь был свободен. И роковой сороковой медведь «обошелся».
Прежде чем двинуться дальше, Киприян снова зарядил пулей свою одностволку.
А когда он поднял глаза от ружья, лохматая медвежья башка опять глядела на него из-за поворота тропы.
Киприян себе не верил: его пуля не причинила никакого вреда зверю. Так же торчала во все стороны жесткая шерсть на лбу. Даже легкой царапины не было заметно. И только маленькие глазки налились злою кровью.
Уж не рассуждая, Киприян приложился и спустил курок как раз в тот момент, когда зверь раскрыл пасть и двинулся вперед.
Ужасающий рев, такой рев, какого старый медвежатник в жизнь свою не слыхал, прогремел из белого облака дыма.
Звериная башка исчезла. Пот выступил на ладонях, и ноги дрожали у Киприяна.
Всё-таки он заставил себя опять перезарядить ружье.
При этом он не спускал глаз с поворота тропы и с ужасом видел, как из-за камня медленно выступает черный ноздреватый нос, за ним блестящие красные глазки и широкий лоб зверя — без капли крови на лохматой шерсти.
Роковой медведь был неуязвим для метких пуль старого охотника.
Зверь — Киприяну казалось — только вырастал, башка становилась всё больше после каждого выстрела. И если в первый раз она высунулась на высоте сапог охотника, теперь она была на высоте его груди.
И в третий раз выстрелил Киприян — прямо в разинутую пасть зверя.
Это была последняя пуля: больше патронов не оставалось.
Страшный рев повторился.
Охотник обезумел. Не думая, что он делает, с пустым ружьем в руках, он двинулся вперед по тропе: сразу уж столкнуться с ужасным зверем — и конец.
Шагнув за поворот, он очутился лицом к лицу с медведем. И тут произошло такое, чего Киприян никак не ожидал: громадный зверь как-то испуганно хрюкнул, подался назад и задом, задом стал быстро пятиться по тропе.
Киприян наступал, не решаясь, однако, подойти слишком близко к оскаленным зубам медведя.
Тело зверя изгибалось, следуя каждому повороту тропинки. Киприян напирал и напирал.
Вдруг карниз стал шире. Медведь ловко извернулся, мелькнул куцым хвостиком и с необыкновенной быстротой пустился удирать, уже головой вперед.
Когда Киприян дошел до конца карниза, зверь уже исчез в темном кедраче. Шатаясь после пережитого страха, как пьяный, охотник спустился к подножию горы.
Там, на каменистом берегу речки, протекающей глубоко под карнизом, нашел он растерзанных, с пробитыми пулей башками своих трех медведей: рокового сорокового, и сорок первого, и сорок второго сразу. Первой по карнизу шла медведица. За ней — три медведя.
Только последний из них мог уйти пятясь, потому что сзади на него больше уж никто не напирал.
1934 г.
МУРЗУК
Глава первая НА ПРОСЕКЕ
Из чащи осторожно высунулась голова зверя с густыми бакенбардами и черными кисточками на ушах. Раскосые желтые глаза глянули в одну, потом в другую сторону просеки, — и зверь замер, насторожив уши.
Старик Андреич с одного взгляда признал бы прятавшуюся в чаще рысь. Но он в эту минуту продирался сквозь частый подлесок метров за сто от просеки.
Андреичу давно хотелось курить. Он остановился и потянул из-за пазухи кисет.
Рядом с ним в ельнике кто-то громко кашлянул. Кисет полетел на землю. Андреич сдернул ружье с плеча и быстро взвел курки.
Между деревьями мелькнула рыже-бурая шерсть и голова косули с острыми ветвистыми рожками.
Андреич сейчас же опустил ружье и наклонился за кисетом: старик никогда не бил дичи в недозволенное время.
Между тем рысь, не заметив поблизости ничего подозрительного, скрылась в чащу.
Через минуту она снова вышла на просеку. Теперь она несла в зубах, бережно держа за шиворот, маленького рыжего рысенка.
Перейдя просеку, рысь сунула детеныша в мягкий мох под куст и сейчас же пошла назад.
Через две минуты второй рысенок барахтался рядом с первым, и старая рысь отправилась за третьим, и последним.
В лесу послышался легкий хруст сучьев.
В один миг рысь вскарабкалась на ближайшее дерево и скрылась в его ветвях.
В это время Андреич разглядывал следы вспугнутой им косули. В тени густого ельника лежал еще снег. На нем виднелись глубокие отпечатки четырех пар узких копыт.
«Да тут их две было, — соображал охотник. — Вторая, верно, самка. Дальше просеки не уйдут. Пойти разве поглядеть?»
Он выбрался из чащи и, стараясь не шуметь, напрямик зашагал к просеке.
Андреич хорошо знал повадку зверей. Как он и думал, пробежав несколько десятков метров, косули почувствовали себя в безопасности и сразу перешли на шаг.
Первым вышел на просеку козел. Он поднял украшенную рожками голову и потянул в себя воздух.
Ветер дул прямо от него вдоль просеки, — поэтому козел не мог учуять рыси. Он нетерпеливо топнул ногой. Из кустов выскочила безрогая самка и остановилась рядом с ним.
Через минуту косули спокойно щипали у себя под ногами молодую зелень, изредка поднимая головы и осматриваясь.
Рысь хорошо видела их сквозь ветви.
Она выждала, когда обе косули одновременно опустили головы, и бесшумно скользнула на нижний сук дерева. Сук этот торчал над самой просекой, метрах в четырех от земли.
Густые ветви теперь не скрывали зверя от глаз косуль.
Но рысь так плотно прижалась к дереву, что ее неподвижное тело казалось просто наростом на толстом суку.
Косули не обращали на него внимания. Они медленно подвигались вдоль просеки к ожидавшему их в засаде хищнику.
Андреич выглянул на просеку шагах в пятидесяти дальше ели, на которой сидела рысь. Он сразу заметил обеих косуль и, спрятавшись в кустах, стал следить за ними.
Старик никогда не пропускал случая поближе взглянуть на пугливых лесных зверей.
Косуля-самка шла впереди. Козел на несколько шагов отстал от нее.
Вдруг что-то темное камнем сорвалось с дерева на спину косули.
Косуля упала с переломленным хребтом.
Козел сделал отчаянный прыжок с места и мгновенно исчез в чаще.
— Рысь! — ахнул Андреич.
Раздумывать было некогда.
«Бах! Бах!» — один за другим грянули выстрелы двустволки.
Зверь высоко подскочил и с воем упал на землю.
Андреич выскочил из кустов и изо всей силы побежал по просеке. Страх упустить редкую добычу заставил его забыть осторожность.
Не успел старик добежать до рыси, как зверь неожиданно вскочил на ноги.
Андреич остановился в трех шагах от него.
Внезапно зверь прыгнул.
Сильный удар в грудь опрокинул старика навзничь.
Ружье далеко отлетело в сторону. Андреич прикрыл горло левой рукой.
В то же мгновение зубы зверя вонзились в нее до самой кости.
Старик выхватил из-за голенища нож и с размаху всадил в бок рыси.
Удар был смертельный. Зубы рыси разжались, и зверь свалился на землю.
Еще раз, для верности, ударил Андреич ножом и проворно вскочил на ноги.
Но зверь уже не дышал.
Андреич снял шапку и вытер со лба пот.
— Ух! — произнес он, тяжело переводя дух.
Страшная слабость внезапно охватила Андреича. Мышцы, напряженные в смертельной схватке, сразу обмякли. Ноги дрожали. Чтобы не упасть, он должен был присесть на пенек.
Прошло несколько минут, пока, наконец, старик пришел в себя.
Прежде всего он свернул цигарку измазанными кровью руками и глубоко затянулся.
Накурившись, Андреич промыл у ручейка раны, перевязал их тряпкой и принялся свежевать добычу.
Глава вторая МУРЗУК ПОЛУЧАЕТ ИМЯ И ПОМИЛОВАНИЕ
Маленький бурый рысенок лежал один в логове под корнями вывороченного дерева. Мать давно утащила обоих его рыжих братьев. Он не знал, куда и зачем. У него на днях только прорезались глаза, и он еще ничего не понимал. Он не чуял, как опасно оставаться в родном логове.
Прошлой ночью буря сильно накренила соседнее дерево. Огромный ствол ежеминутно грозил рухнуть и похоронить под собой рысенят. Вот почему старая рысь решила перетащить своих детенышей в другое место.
Маленький рысенок долго ждал матери. Но она не возвращалась.
Часа через два он почувствовал сильный голод и стал мяукать. С каждой минутой мяуканье становилось громче.
Мать всё не приходила.
Наконец голод стал невыносим, и рысенок сам отправился разыскивать мать. Он вылез из логова и, больно тыкаясь подслеповатой мордочкой то в корни, то в землю, пополз вперед.
Андреич стоял на просеке и разглядывал шкуры убитых зверей. Туша рыси была уже зарыта в землю, а туша косули тщательно убрана в мешок.
— Должно, целковых двадцать дадут, — говорил старик, разглаживая густой мех рыси. — Ежели б не раны от ножа, — все бы тридцать дали. Фартовый мех!
Шкура была действительно на редкость велика и красива. Темно-серый мех, почти без примеси рыжего цвета, был сверху густо усажен круглыми бурыми пятнами.
— А что мне с этой делать? — соображал Андреич, поднимая с земли шкуру косули. — Вишь ведь как изрешетил!
Картечь, направленная в рысь, попала и в косулю. Тонкая кожа животного была насквозь пробита в нескольких местах.
— Увидит кто-нибудь, подумает: «Старик маток бьет». Ну, не бросать же добро; стану под голову себе стелить.
Андреич бережно скатал обе шкуры мехом внутрь, обвязал ремнем и перекинул за спину.
— До темени надо домой поспевать! — и старик уже тронулся было вдоль просеки. Вдруг в чаще послышалось тихое жалобное мяуканье.
Андреич прислушался.
Писк повторился.
Андреич скинул ношу на землю и пошел в чащу.
Через минуту он вернулся на просеку, держа в каждой руке по рыжему рысенку. Зверьки старались освободиться и пискливо мяукали.
Один из них сильно царапнул державшую его руку.
— Ишь, ведьмёныш! — озлобился Андреич. — Уже когти в ход пускаешь! Весь в мать. Не на семя же вас оставлять! — кончив их, проворчал Андреич и, подняв с земли крепкий сук, стал копать для рысенят яму.
От долгого крика бурый рысенок совсем охрип и всё только полз и полз вперед, сам не зная куда.
Чаща кончилась, и он очутился на открытом месте: логово рыси было в нескольких шагах от просеки.
Что-то шевелилось впереди. Но глаза рысенка, привыкшие к сумраку чащи, не видели Андреича, рывшего суком землю.
Смутное чувство страха заставило рысенка прижаться к земле. Однако через минуту голод пересилил, и зверек побрел дальше — прямо на стоявшего к нему спиной Андреича.
Старик обернулся как раз в ту минуту, когда рысенок подполз к его ногам.
Андреич протянул руку за трупами рысенят и неожиданно увидал рядом с ними живого зверька.
— Ты откуда? — опешил старик.
Рысенок осел на задние лапки и слабо мяукнул, открыв розовый ротик.
— Совсем котенок! — сказал Андреич, с любопытством разглядывая зверька.
Рысенок опять пополз, неловко перевалился через корень и кубарем скатился в яму.
— Сам в могилу пожаловал! Глупыш ты! — засмеялся Андреич, наклонился и вытащил рысенка из ямы.
— Ишь, усищи растопорщил! А глаза-то раскосые — настоящий Мурзук Батыевич!
Тут голодный рысенок лизнул шершавым язычком подставленный ему палец.
— Проголодался? — участливо спросил Андреич. — Как же теперь быть с тобой? Надо бы пристукнуть да закопать вместе с теми…
— А ведь не убить мне тебя, сироту! — вдруг весело рассмеялся старик. — Ладно уж, живи! В избе у меня будешь расти, мышей пугать. Полезай, Мурзук, за пазуху!
Андреич быстро закидал землей убитых рысенят, вскинул мешок за спину и торопливо зашагал домой.
Глава третья ДЕТСТВО И ВОСПИТАНИЕ
Андреич был лесной сторож.
Он жил в избушке в самой середине своего участка. С трех сторон избушку обступил лес. С четвертой тянулся большой луг. По лугу пробегала дорога в ближнее село.
Старик был одинок. Хозяйство его состояло из коровы, лошади, десятка кур и дряхлого гончего кобеля. Кобеля звали Кунак. Хозяин оставлял его сторожить избу, когда надолго уходил в лес. Так случилось и в этот день, когда старик убил рысь.
До дому Андреич добрался уже в сумерки. Кунак приветливым лаем встретил хозяина.
— Гляди-ка, — говорил старик, сваливая с плеч добычу, — во, какую я дичину добыл!
Почуяв запах рыси, Кунак поднял шерсть дыбом и заворчал.
— Что, брат, не любишь? Лютый зверь. Чуть не загрыз меня, проклятый!
— А вот, гляди: котенок махонький. Мурзук прозывается.
— Цыц! Не трогай! Вместе жить будем, — привыкай.
Войдя в избу, Андреич достал из-под кровати плетенку и положил в нее зверька. Потом принес полную кринку, обмакнул в молоко палец и поднес его рысенку.
Голодный зверек сейчас же слизал молоко.
— Пьет! — радовался Андреич. — Обожди, соску тебе сделаю.
Свернув трубочку из плотной тряпки, Андреич налил в нее молока и сунул рысенку в рот.
Сперва Мурзук захлебывался, потом дело пошло на лад.
Через десять минут, сытый и довольный, рысенок крепко спал, свернувшись клубком, в своей новой постели.
Спустя неделю Мурзук выучился лакать молоко из плошки. К этому времени он окреп на ногах и целыми днями весело играл на полу, точно домашний котенок.
Андреич часто забавлялся с ним. Кунак еще подозрительно приглядывался к маленькому хищнику.
Но скоро и он был побежден.
Раз как-то, когда старый пес сладко дремал под лавкой, Мурзук подкрался к нему и угнездился у него на груди. Кунаку это было приятно, и он сделал вид, что не замечает дерзкого малыша.
С тех пор Мурзук взял за правило спать вместе с Кунаком и не обращал никакого внимания на его притворное ворчанье.
Скоро они так подружились, что даже ели из одной плошки. «Вот это дело! — думал, глядя на них, Андреич. — Пес добру научит рысенка».
И верно: дикий котенок заметно перенимал привычки своего старшего друга. Он так же доверчиво относился к хозяину, так же слушался каждого его приказания.
Случалось Мурзуку разбить и вылакать кринку молока, погнаться за курами или еще как-нибудь напроказить, но довольно было сердитого окрика хозяина, чтобы умный зверь понял свою вину. Он сейчас же ложился на землю и подползал к Андреичу, виновато извиваясь всем телом.
Ни разу старик не пустил в ход палки.
У Андреича никогда не было семьи, и весь богатый запас своей доброты он отдавал домашним животным. Он много на своем веку держал и диких зверей. Для всех он умел найти дело и терпеливо обучить ему.
И все звери, каких только ему ни приходилось держать, становились его добровольными слугами и верными друзьями.
Когда Мурзук подрос, нашлось и для него дело в хозяйстве Андреича.
На деньги, вырученные за шкуру старой рыси, Андреич купил себе козла с козой. У бородатого, сердитого козла был дурной характер. Старику стоило больших трудов загонять упрямца в хлев.
Он обучил это делать Кунака.
Мурзук не отставал от своего друга ни на шаг и каждый вечер помогал ему отыскивать коз, далеко забредавших в лес.
При виде молодой рыси козы в страхе бросались бежать, и загонщикам оставалось только направлять их к дому.
Осенью околел дряхлый Кунак.
С этих пор Мурзук занял в лесной сторожке место собаки. На него перешли все ее обязанности.
Андреич брал Мурзука с собой в лес, обучал загонять дичь на охоте, оставлял сторожить избу, когда сам уезжал в деревню. И Мурзук весело подчинялся всем приказаниям хозяина.
Слух о ручной рыси старика Андреича прошел по всем окрестным деревням. Люди приходили издалека поглядеть на диковинного зверя.
Одинокий старик был рад гостям. Чтобы их потешить, он заставлял Мурзука проделывать разные фокусы. Гости удивлялись силе, ловкости и замечательному послушанию зверя.
На глазах у всех Мурзук одним ударом лапы перешибал толстые сучья, рвал зубами сыромятные ремни, отыскивал в траве жаворонка, схватывал его на лету и выпускал по первому слову хозяина.
Многие предлагали Андреичу большие деньги за Мурзука. Но старик только головой качал. Он крепко любил зверя и ни за что не хотел с ним расстаться.
Глава четвертая НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Прошло три года.
Душный летний день уже клонился к вечеру. На дороге к сторожке Андреича показалась большая телега, запряженная парой. Впереди сидел возница в поддёвке и человек в пальто и шляпе. Позади них к телеге была привязана большая железная клетка.
У ветхого плетня возница придержал лошадей и хотел слезть отворить ворота. В эту минуту с крыши избы бесшумно соскочила крупная рысь.
В три прыжка зверь очутился у плетня. Четвертым он легко перемахнул высокий плетень — и внезапно появился перед испуганным возницей.
Лошади шарахнулись в сторону, подхватили и понесли.
Человек в шляпе что-то громко крикнул и замахал руками.
Андреич вышел из избы.
Он увидел, как седок выхватил вожжи из рук возницы и заставил лошадей дать широкий круг по лугу.
— Мурзук! — крикнул Андреич. — Ступай, друг, назад. Нечего тебе гостей пугать. Гляди, уж не новое ли начальство пожаловало?
Мурзук вернулся, лизнул хозяину руку и улегся у его ног.
— Уберите вашего дьявола, — кричал седок. — Лошади разнесут!
— Айда на крышу! — тихонько приказал Андреич. Рысь ловко вскарабкалась вверх по бревнам. Андреич отворил ворота. Лошади, косясь и вздрагивая, вошли во двор. Седок соскочил и подошел к Андреичу.
— Моя фамилия, — сказал он резким голосом, — мистер Джекобс. Я командирован частным зоологическим садом. Вашу ручную рысь я уже видел. Действительно, великолепный экземпляр. Сколько вы желаете за нее получить?
Андреич стоял оглушенный потоком незнакомых слов.
— Я спрашиваю вас, — нетерпеливо повторил Джекобс, — какую сумму вы желаете получить за рысь?
— Да она не продажная, — испуганно пролепетал старик, — вам это зря сказали.
— Напротив, меня предупреждали, что вы не захотите продать ее. Но это вздор! Я вам даю сорок рублей.
Андреич растерялся. Необходимые слова не шли на память, и он не знал, как отказать этому барину.
— Пятьдесят рублей? — предложил Джекобс. Андреич молча покачал головой, переминаясь с ноги на ногу.
— Иван! — Джекобс обернулся к вознице. — Распряги лошадей и задай им овса. Мы здесь ночуем.
— Милости прошу! — обрадовался Андреич. — Пожалуйте в избу. Сейчас самоварчик поставлю!
Про себя старик подумал: «Ишь, скорый какой! Отдай ему Мурзука! Ну, теперь ладно: за чайком объясню всё толком».
Джекобс несколько минут разглядывал спокойно раскинувшуюся на крыше рысь, повернулся и решительно взошел на крыльцо.
Самовар вскипел быстро.
Андреич кликнул с крыльца возницу:
— Ступай, сынок, в избу, чай поспел.
Но кучер не решался двинуться с места: Мурзук снова соскочил с крыши и стоял рядом с хозяином.
За три года он сильно вырос. Теперь от кончика носа до хвоста в нем было больше метра. Он перерос даже свою мать. Он был высок на ногах, плотно сложен, а пышные бакенбарды, грозно растопыренные усы и пучки черных волос на ушах придавали его лицу особенно свирепое выражение. На сером мехе с темными пятнами не было и следа рыжих волос.
— Он смирный! — улыбнулся Андреич, ласково трепля Мурзука по щеке. — Ступай, Мурзук, ступай в лес! Пора тебе на охоту. А понадобишься, — позову.
Мурзук неохотно пошел в лес.
Он не любил оставлять хозяина одного, когда приезжали гости. А у этих был еще такой странный вид! Мурзук в первый раз видел людей в городском платье.
Но слово хозяина — закон.
Мурзук перескочил через плетень и исчез в лесу.
За чаем Андреич первый заговорил с гостем.
— Не обижайтесь, господин мистер, на старика. Сами рассудите: человек я старый, больной. Без Мурзука никак мне с хозяйством не управиться. Зарез мне теперь без него.
Старик говорил правду: за последние годы он весь поседел и выглядел совсем дряхлым. Ревматизм его мучил.
Но Джекобсу не было решительно никакого дела до хозяина; ему нужен был зверь.
Битый час убеждал он старика продать рысь, просил, угрожал и повышал цену.
Ничего не помогало.
— Так вы решительно отказываетесь? — спросил, наконец, Джекобс, сдвинув брови.
— Не могу, хоть убейте! — твердо сказал Андреич. — Друг он мне, сын родной, а не зверь.
Джекобс с грохотом отодвинул стул и коротко спросил:
— Где спать?
— А вот сюда пожалуйте! — засуетился Андреич, показывая на лежанку. — Туточка почище. Овчинный тулуп вам постелю и под голову чего-нибудь разыщу.
Старику было очень неприятно, что пришлось отказать гостю. Он всеми силами старался угодить Джекобсу чем мог.
В куче старого тряпья попалась ему шкура косули, убитой старой рысью — матерью Мурзука. Шкура была мягка и приятна на ощупь.
Андреич сложил ее вдвое, мехом вверх, и положил гостю в изголовье.
Глава пятая ДЖЕКОБС ВЫИГРЫВАЕТ ПАРИ
Джекобса постигла крупная неудача: он проиграл пари. Самолюбие его было жестоко задето, и он не мог спать.
Джекобс полжизни прожил в России. Но в глубине души он оставался истым американцем. Он любил упражнять свою волю, заключая трудные пари, и выигрывал их, несмотря на все препятствия.
Служил Джекобс в зверинце, при котором был увеселительный сад. Учреждение это громко называлось Зоологическим садом.
Два дня тому назад хозяин зверинца передал Джекобсу дошедшие до города слухи о ручной рыси лесного сторожа.
— Хорошо бы нам, — прибавил хозяин, — заполучить этого зверя. Рысь, говорят, необычайно красива и велика. Она привлечет публику в сад. Я было хотел послать вас за рысью, да боюсь, — вам не удастся выполнить поручение. Лесник, говорят, ни за что не расстанется со зверем.
— Пошлите, — сказал Джекобс, пыхнув дымом из коротенькой трубочки.
— Да ведь даром съездите? — равнодушно произнес хозяин.
Про себя он твердо решил получить рысь. Надо было только хорошенько раззадорить Джекобса, — и тот достанет зверя хоть из-под семи замков.
— Пари? — предложил американец.
«Клюнуло!» — подумал хозяин. Вслух он сказал:
— Напрасно горячитесь, мистер. Дело всё равно не выгорит.
— Пари, — настойчиво повторил Джекобс.
— Идет, — пожимая плечами, согласился хозяин. Пари было тут же заключено, и на следующий день американец отправился в путь.
Джекобс беспокойно ворочался на лежанке. Он думал о том, какой насмешливой улыбкой встретит его завтра хозяин сада.
— Ту пигс догс! — выругался американец, стремительно вскакивая на ноги. — К чертям собачьим! Невозможно спать в такой духоте! Пойду лучше на воздухе лягу.
Он схватил тулуп, сунул под мышку шкуру косули и вышел на крыльцо.
На небе уже занималась заря. «Увезти насильно зверя? — тоскливо соображал Джекобс, расстилая тулуп. — Возьмешь его голыми руками!» — издевался он сам над собой.
Тут Джекобс расправил шкуру косули, чтобы снова аккуратно сложить ее себе под голову. При этом взгляд его упал на продырявленную картечью кожу животного.
«Здоровый заряд влепил!» — подумал Джекобс.
Он сам был охотник и сразу заинтересовался удачным выстрелом.
«Фью! — свистнул вдруг американец: в том месте шкуры, где у козла должны быть рога, дырок для них не оказалось. — Самка! Вот так фунт! Старик-то, видно, маток бьет!»
Еще с минуту вертел Джекобс в руках шкуру косули, что-то усиленно про себя обдумывая. Потом хлопнул себя по лбу и громко сказал:
— О-кей! Пари выиграно!
Затем Джекобс лег и крепко заснул.
Утром американец подошел к Андреичу со шкурой косули в руках и строго сказал:
— Послушайте, это как называется?
— Чего? — не понял старик.
— Шкура косули-самки. Вы застрелили матку. Вот следы дроби.
«Не было печали!» — ахнул про себя Андреич. Сбиваясь от волнения, он стал рассказывать гостю, как старая рысь при нем прыгнула косуле на спину и как он застрелил хищника на его жертве.
— Толкуйте! — оборвал его американец. — Меня баснями не проведешь. Я представлю шкуру вашему начальству. Вы уплатите штраф в 25 рублей и будете лишены места. Я позабочусь об этом.
Ноги подкосились у старика. Он хорошо знал, как строго карает суд лесных сторожей за нарушение охотничьих правил. Чем может он доказать, что дробь попала в животное после того, как оно было убито рысью?
Старый лесничий на слово поверил бы Андреичу: он знал его безупречную службу в течение тридцати лет. Но, как назло, прежний лесничий недавно был сменен молодым. Этот еще и в глаза не видал Андреича.
— Иван! — крикнул Джекобс. — Закладывай лошадей! Мы уезжаем.
Андреич опустился на лавку.
Американец хладнокровно раскуривал короткую трубку.
— Вот что! — внезапно обернулся он к Андреичу. — Даю вам две минуты на размышление: или вы мне отдадите рысь, — тогда я верну вам шкуру косули, — или вас выгонят со службы. Тогда всё равно вам придется расстаться со зверем, потому что с ним ни в одну деревню не пустят. Выбирайте.
Удар был метко рассчитан. Мысли вихрем понеслись в голове Андреича.
Отдать Мурзука? Ни за что! Лучше лишиться места.
Но если дойдет до этого, придется и с Мурзуком проститься. И пойдет старик один-одинешенек скитаться по белу свету, без угла, без пристанища…
Чуял Андреич: недолго ему остается жить. Трудно было старику бросить избу, которую он считал своей.
Однако нечего было делать.
Ни слова не сказал Андреич американцу. Сходил в избу за ружьем и выстрелил в воздух.
— Готово! — объявил возница, подводя лошадей к крыльцу.
— Ну, хозяин, — обратился Джекобс к Андреичу. — Вот расписка. Я не хочу брать у вас зверя даром. Получите тридцать рублей. Подпишитесь вот здесь.
— Не надо мне ваших денег, — мрачно сказал старик.
В эту минуту стайка дроздов с тревожным криком поднялась с опушки леса.
Почти сейчас же из кустов выскочил Мурзук.
Он был далеко в лесу, когда услышал выстрел Андреича, и быстро примчался на зов хозяина.
Подбежав к старику, зверь вскинулся ему на грудь.
Старик прижал к себе голову рыси и ласково погладил. Потом подошел к клетке и показал на нее Мурзуку.
— Иди, сынок, сюда! Рысь весело вскочила на телегу и протиснулась в узкую дверцу клетки. Андреич захлопнул за ней дверцу и отвернулся.
— Берегите зверя, — тихо попросил он американца.
— О, можете быть спокойны! — решительно заявил Джекобс. — Он будет нашим любимцем. Сами можете прийти посмотреть.
И он сказал Андреичу адрес зверинца.
Старик проводил телегу за ворота, еще раз простился с Мурзуком и, приказав ему лежать смирно, побрел в избу.
Дома Андреич бросил в огонь шкуру косули, сел перед печкой и горько задумался.
Глава шестая В ТЮРЬМЕ
Мурзук спокойно дремал в клетке. Хозяин велел ему лежать здесь. В этом не было ничего странного: Мурзук привык подолгу дожидаться Андреича там, где ему приказано. В конце концов хозяин приходил, и тогда Мурзук снова бежал куда вздумается.
Странно было только, что его куда-то везли незнакомые люди. Но и это не беспокоило Мурзука: разве не мог он в любую минуту толкнуть дверцу лапой, соскочить с телеги и убежать в лес?
До станции доехали скоро. Джекобс немилосердно гнал лошадей: он боялся, как бы зверь не наделал ему в дороге хлопот.
Первые признаки беспокойства Мурзук обнаружил, когда с грохотом подкатил поезд. Зверь вскочил на ноги и стал зорко вглядываться в толпу, обступившую клетку. Глаза его искали хозяина.
Хозяина не было.
Джекобс успел добыть разрешение на провоз зверя в багажном вагоне и с большими предосторожностями перенес клетку в поезд.
Поезд тронулся. Лязгнуло под полом железо, застучали колеса.
Тут Мурзук почуял, что дело неладно.
Он ударил лапой дверцу клетки.
Дверца не поддалась.
Мурзук стал бешено метаться из угла в угол, бил лапами направо и налево, грыз прутья клетки зубами.
Всё напрасно. Кругом мерно позвякивало железо.
Внезапно Мурзук понял: он попал в ловушку.
Это сразу изменило его поведение. Зверь прижался к задней глухой стенке клетки и застыл.
Только глаза его горели в темноте вагона.
Через шестнадцать часов поезд пришел в город. Шум, грохот, крики не могли нарушить оцепенения зверя.
Американец нанял подводу и благополучно доставил рысь в зверинец.
Мурзука выпустили в новую, более просторную клетку. Он сейчас же попробовал, нельзя ли отсюда бежать.
Слепая ярость отчаяния удесятерила его силы. Но люди хорошо рассчитали прочность постройки: рысь не могла вырваться из тюрьмы.
И пока обезумевший зверь метался по клетке, хозяин зверинца любовался им, восхищался его силой, необычайной величиной и красотой.
Потом они пошли вместе с Джекобсом. В воротах сада оба приостановились. До них донесся долгий, жуткий крик рыси. Он начался с очень высокой ноты, перешел в дикий плач и рев и кончился низким глухим стоном.
— Оплакивает потерянную свободу! — улыбаясь, сказал хозяин и взял Джекобса под руку.
Оба спокойно зашагали к выходу. Эти люди давно привыкли к бесконечно тоскливому крику диких зверей, обреченных на медленную смерть в неволе.
Весь день Мурзук неподвижно пролежал на толстом суке, вбитом в стену его клетки на высоте двух метров от пола.
Был понедельник, и сад был закрыт для публики.
Между клетками зверей ходили сторожа. Они убирали сад после большого воскресного гулянья, чистили клетки, кормили зверей.
Мурзуку в клетку просунули на длинной палке кусок конины.
Мурзук не двинулся: тоска убила в нем голод.
Кругом ревели, дрались и топтались в тесных клетках звери. Дальше, в местах, отгороженных частой проволочной сеткой, хлопали крыльями и кричали птицы.
Глава седьмая НОЧЬЮ
С наступлением темноты сторожа ушли. Мало-помалу угомонились звери и птицы. Когда совсем стемнело, Мурзук поднялся. Теперь человеческие глаза не следили за ним.
Он знал это потому, что хорошо видел в темноте, потому еще, что его уши ловили и понимали каждый шорох.
Приступ тупого отчаяния прошел: С новой силой проснулось желание бежать. С ним вместе проснулся голод.
Мясо всё еще лежало на полу у самой решетки. Прежде чем приняться за него, Мурзук осторожно огляделся.
В соседней клетке слева были волки. Четверо из них спокойно спали, свернувшись как собаки. Пятый сидел, упершись передними лапами в землю. Глазами он равнодушно уставился прямо перед собой.
Мурзук видел, что волки не обращают на него внимания. Значит, можно схватить мясо и вскочить с ним на сук.
Но справа раздался шорох.
Мурзук увидал в соседней клетке большую пятнистую кошку с длинным пушистым хвостом.
Кошка кралась к решетке, за которой лежало мясо. Она могла достать его своей длинной лапой.
Мурзук почувствовал внезапный прилив ярости.
Хищник не терпит близко от себя другого хищника родственной ему породы. Между кошками эта родственная ненависть особенно сильна.
Пятнистый зверь осторожно просунул лапу между прутьями. Взгляд его впился в неподвижную фигуру рыси.
Мурзук не шелохнулся.
Глаза зверя перебежали с него на мясо. Лапа просунулась дальше. Когти вонзились в мясо.
Мурзук прыгнул.
Движение было так быстро, что пятнистая кошка не успела отдернуть лапы.
Громкий вой оглушил Мурзука. Вор отпрянул.
Мурзук быстро схватил мясо в зубы и вскочил на сук.
Раненый зверь с яростным воем бросился на решетку, но упал, ударившись о железные прутья.
Мурзук чувствовал, что в середине своей клетки он в полной безопасности.
Не обращая больше внимания на бесновавшегося противника, он принялся за мясо.
Чутье у Мурзука было неважное. Сразу он не разобрал, что мясо плохое.
Это сказали ему теперь его длинные, чувствительные усы. Он ощупал ими конину и с отвращением бросил на пол. Никогда еще Мурзук не ел падали.
Голод страшно его мучил. Он тщательно осмотрел всю клетку, но не нашел больше ничего съедобного.
Тогда Мурзук испустил тихое, тонкое, тоскливое мяуканье.
Словно в ответ ему, из темноты раздался ужасный хохот и вой.
Шерсть дыбом встала на всем теле Мурзука. Спина его выгнулась.
Отвратительный вопль гиены был словно сигнал для других зверей.
Сейчас же рядом с Мурзуком поднялись, завыли волки.
Подальше заплакал шакал.
В другом ряду клеток — напротив — один за другим заревели медведи; их было много в зверинце.
Издали донеслось жуткое уханье филина. А в промежутках между ревом и криками слышался тяжелый, мерный топот чудовищных ног слона.
Внезапно все другие звуки покрыло раскатистое рычанье льва.
Мурзук задрожал всем телом. Ему не надо было и видеть зверя. Он чувствовал, что этот голос принадлежит огромному коту, что он гораздо сильней и больше его самого.
Крик зверей кончился так же внезапно, как начался.
Понемногу улеглось и возбуждение Мурзука.
Голод жег его внутренности.
Легкий шум под полом сразу привлек внимание Мурзука. Он соскочил с дерева. Глаза его впились в небольшую черную дырку в полу.
Прошла минута напряженного ожидания.
В темном отверстии блеснули глазки маленького зверька. Еще через минуту из-под пола выскочили крыса и помчалась к мясу.
Мурзук проворно прихлопнул ее лапой.
Голод не заставил его сразу растерзать добычу.
Мурзук снова насторожился и терпеливо ждал.
Скоро опять послышался шорох под полом. Вторая крыса высунулась из подполья — и была мгновенно подхвачена когтистой лапой.
Охота продолжалась больше часа. Уже восемь мертвых крыс лежало вокруг Мурзука.
Девятая заметила хищника из подполья. Она скрылась. Под полом раздался топот целой армии крыс — и всё смолкло.
Мурзук понял, что крысы ушли из подполья, — и принялся за обед.
Первые лучи зари застали Мурзука за работой. Он схватывал зубами прутья решетки и тряс их.
Один из прутьев слегка зашатался.
Мурзук стал неистово трясти его. Прут заметно поддавался, раскачиваясь всё сильней и сильней.
Вдруг послышались шаги по песчаной дорожке между клетками.
Мурзук отскочил от решетки и вспрыгнул на сук.
Сторож первым делом подошел к клетке рыси.
Зверь спокойно лежал на толстом суку. Он выглядел сытым и довольным.
Сторож почесал в затылке.
— Мясо не тронуто, а зверь будто сыт… Другие, как сюда попадут, места себе не находят, а этот и в ус не дует. Должно, привык взаперти сидеть.
Глава восьмая БУНТ
Публика рано начала собираться в сад.
Когда первые посетители вошли в ворота, Джекобс кончал свой утренний обход зверинца. Он остановился перед клеткой рыси и подозвал сторожа.
— Рысь не съела вчерашнего мяса. Оставить в клетке. Нового не давать, пока это не будет съедено.
— Мясо-то и сейчас того… — робко возразил сторож, — с душком. Зверь, должно, к свежему привык.
— Делайте, что вам говорят! — вспылил американец. — Если зверей кормить свежим, сад через месяц в трубу вылетит.
Сторож молчал. Ослушаться Джекобса он не смел: американец был помощником хозяина.
В это время к клетке Мурзука подошла группа школьников.
Толстенький учитель, в пенсне и с соломенной шляпой в руках, вежливо обратился к Джекобсу:
— Скажите, пожалуйста, этого зверя, верно, только что поймали?
— Да. Он только вчера привезен.
— Это сразу видно! Смотрите, дети, какой у него злобный и дикий вид. Он прямо съесть готов нас глазами.
Это была правда: Мурзук насторожился и злыми глазами следил за каждым движением людей.
В последние два дня в нем произошла большая перемена. Пока Мурзук жил у Андреича, он не чувствовал вражды к людям. Теперь же в клетке зверинца сидел хищный зверь из тех, что вечно прячутся в темной чаще леса.
— Это — рысь, — продолжал учитель, — пантера наших северных лесов. Водится в Европейской России и в Сибирской тайге. В культурных странах Западной Европы давно уже истребили этих опасных хищников. В Германии, например, последняя рысь была убита в середине прошлого столетия.
— Их убивают за то, что они нападают на людей? — спросила маленькая девочка.
— Ну, на человека-то разве только раненая рысь бросится.
— А это кто? — спросил один из мальчиков, показывая на крупную пятнистую кошку в соседней клетке.
— Это пантера, или леопард, — сказал учитель. — Водится в Африке и в Южной Азии.
— А кто сильней — рысь или леопард? — спросил другой мальчик.
Учитель не успел ответить.
— Смотрите, — закричала девочка, показывая на леопарда, — у него лапа в крови!
Джекобс быстро подошел к клетке.
— Вы невнимательно смотрите за зверями! — строго сказал он сторожу. — Надо почаще ночью обходить клетки. Нет сомнения, что это рысь подралась ночью с леопардом. Давайте ей поменьше мяса, пока она не перебесится.
Подошли новые посетители, разглядывали рысь, старались вывести ее из терпения. Мальчики кидали в нее песком.
Мурзук весь день сидел как на иголках.
А ночью снова принялся расшатывать железный прут.
Тянулись дни. Железный прут всё еще держался нижним концом в каменном полу клетки.
Мурзук жестоко страдал.
Осторожные крысы ни разу больше не показывались из подполья. Долгий голод заставил Мурзука есть тухлую конину. Но и этой пищи не хватало. Под густой шерстью рыси отчетливо выступили ребра.
Днем Мурзук казался ко всему равнодушным. Никакие приставанья публики не могли его вывести из себя. Что бы ни делали люди, он неподвижно лежал на своем дереве.
Только по ночам он оживлялся.
Быстро съедал мясо и сейчас же принимался за решетку. Целыми часами раскачивал всё тот же шатающийся прут.
Сторожа не замечали его работы: шатающийся прут был в темном углу клетки.
И вот, через два месяца после того как он попал в клетку, Мурзук почувствовал, что скоро вырвется на свободу.
Прут совсем раскачался. Еще несколько сильных ударов — и он выскочит из своего гнезда в полу.
Это было под утро. Показались люди.
Мурзук давно научился терпенью. Он опять залез на свой сук.
В этот день было особенно много публики в саду.
Уже давно хозяин печатал объявления в газетах, что со дня на день ожидается прибытие из Африки человекообразной обезьяны. Наконец ее привезли.
Это была самка шимпанзе.
В родном лесу у нее остался детеныш, которого она кормила своим молоком.
Всю дорогу ее держали связанной. Теперь выпустили в просторную клетку и развязали путы.
Увидев, что из клетки вырваться нельзя, обезьяна пришла в бешенство. Она яростно бросалась на стены, кусала и дергала прутья, выла и била себя кулаками в грудь.
Когда и это не помогло, обезьяна впала в ужасное отчаяние. Она села на землю, схватила себя руками за волосы и стала раскачиваться. Хриплый вой перешел в беспомощный плач.
Люди отворачивались от клетки.
А звери начали кричать.
Заплакали шакалы, всхлипывая, как дети. Завыла, захохотала гиена. Медведи и волки заметались в своих клетках.
Раскатистое рычанье льва утонуло в общем крике зверей.
Публика в страхе бросилась к выходу.
Джекобс, почуяв недоброе, послал одного из сторожей за винтовкой, другому велел вызвать пожарную команду. Звери еще ни разу не приходили в такое возбуждение.
Пронзительно кричали птицы.
Высоко задрав хобот, неистово трубил слон.
Всегда спокойная рысь кидалась на решетку своей клетки.
Джекобс заметил, что один из прутьев дрожит и качается при каждом ударе.
Подбежал запыхавшийся сторож и подал американцу винтовку.
Джекобс поспешно направился к Мурзуку. Со всех сторон из клеток сверкали налитые кровью глаза.
В эту минуту сзади раздался испуганный крик сторожа.
Американец быстро обернулся. Он увидал, как белый медведь с треском распахнул сломанную дверцу своей клетки.
Огромное тело зверя грузно вывалилось наружу.
Но через мгновенье медведь с ревом вскинулся на задние лапы и шагнул к американцу.
Американец понял, что сейчас рассвирепевшее чудовище сомнет его под собой.
Он вскинул винтовку.
Мушка плясала у него перед глазами, никак не попадая в разрез прицела.
Джекобс выпустил наугад все пять пуль своей винтовки. Зверь вдруг перестал реветь, закачался и рухнул на землю. Одна из пуль попала ему в глаз, другая в ухо.
Джекобс, не глядя, вставил в ружье новую обойму.
— Рысь! — закричал он сторожу. — Прут качается.
Сторож подбежал к клетке Мурзука.
Мурзук изо всей силы бросился на решетку.
Прут погнулся и выскочил из гнезда в полу.
Сторож испуганно вскрикнул.
Голова зверя просунулась наружу.
— Стреляйте! — закричал сторож и побежал назад.
В это мгновение сильная струя воды ударила в глаза Мурзуку. Ослепленный, испуганный, зверь отскочил от решетки.
Вода из брандспойта валила его с ног.
Пожарные быстро подставили к сломанной решетке переносную клетку. Выход был закрыт.
Струю брандспойта направили на других зверей. Все клетки были залиты водой.
Перепуганные звери забились в углы.
Глава девятая СВИДАНИЕ
Тяжело жилось Андреичу без верного друга. Здоровье стало совсем плохое. Старик с трудом передвигал ноги.
С тех пор, как американец увез Мурзука, прошло уже три месяца. Надвигалась суровая северная зима.
«Пора, видно, пришла мне помирать, — подумал Андреич. — Перед концом хоть друга повидаю в последний раз. А там и на покой можно».
Старик подал прошение об отпуске и отправился в путь-дорогу.
За тридцать лет житья в сторожке Андреич крепко свыкся с лесом. Трудно пришлось ему в городе. Насилу разыскал зверинец.
Старик купил у входа билет и пошел искать Мурзука.
Первыми шли клетки с птицами.
В углу, отгороженном высокой проволочной сеткой, Андреич увидал большую, не знакомую ему птицу.
Она сидела на сухом дереве, вся скорчившись и сутуло вобрав в плечи крючконосую голову на длинной голой шее. Птица подняла оба огромных темных крыла над головой, словно хотела ими закрыться от всего, что видела кругом.
«Гриф», — прочел Андреич надпись на дощечке. И подумал: «Тошно, поди, тебе здесь. Привык в поднебесье летать».
Дальше плавали в бассейне разных пород утки, гуси, лебеди, чайки. По краю водоема важно расхаживал длинноногий журавль и сновали мелкие кулички.
Андреич сразу приметил, что над бассейном не было сетки.
«Должно, ручные, — подумал он. — Только что же они больно невеселые?»
Одна из чаек приподнялась с воды и замахала в воздухе обрубками крыльев.
Старик торопливо отвернулся. Он стал глядеть на просторную клетку с целой стаей чижей, снегирей, щеглят и других певчих птиц.
Они напевали и чирикали, неугомонно перепархивая с ветки на ветку.
Только один красногрудый снегирь сидел нахохлившись внизу, на кормушке с конопляным семенем.
Андреич внимательно поглядел на него и покачал головой.
— Слышь, сынок, — обратился он к стоявшему рядом с клеткой сторожу, — эту птаху, что на кормушке сидит, хохлится, отсадить бы надо. Больная. Гляди, глаза закрыла. Пропадет к утру.
— Сами знаем! — грубо сказал сторож. — Не наша печаль больных подбирать. Там у них, — сторож кивнул на клетку, — санитары есть. Небось, подберут.
Андреич в недоумении посмотрел на клетку. О каких санитарах говорил ему сторож?
Вдруг из дырки в дальнем углу выскочила крыса, стремглав пронеслась по клетке и скрылась в другую норку. Сейчас же за ней высунулась вторая, понюхала воздух и юркнула назад, мелькнув длинным голым хвостом.
Старик вздрогнул и поспешно пошел дальше.
Перед ним потянулся длинный ряд клеток с белками, зайцами, лисами.
Старик не узнавал знакомых зверей. Он привык их видеть живыми, быстрыми, мелькающими в траве и ветвях. А тут, в клетках, сидели словно чучела их, с тусклыми, мертвыми глазами и вялыми движениями, ко всему равнодушные.
Толпа народа стояла у клеток с бурыми медведями.
Один из зверей сидел на краю своей клетки. Ноги он свесил вниз и передними лапами держался за прутья загородки.
В глазах медведя Андреичу почудилась такая тоска, что он поскорей отвел от них взгляд.
Он с тревогой искал глазами Мурзука.
До него донеслись слова какой-то женщины, указывавшей детям на толстоголового быка с облезлой шерстью на дряблой морщинистой коже.
— Этот зубр так стар, — говорила женщина, — что никогда не ложится. Он боится больше уж не встать. А спит, прислонившись боком к стене. Устанет один бок, он приткнется другим — и дремлет.
Жалость и тревога росли в груди Андреича. За все тридцать лет жизни в лесу он ни разу не видал дряхлого зверя. Там, среди животных, существовал закон смерти на ходу. Здесь звери и птицы не жили — прозябали взаперти, когда были полны сил и здоровья, — и долго мучились, одряхлев, дожидаясь запоздалой смерти. Старик со страхом думал о Мурзуке. Признает ли он хозяина? Теперь ему все люди должны казаться врагами.
Публика запрудила проход у клетки леопарда.
Над шапками и шляпами Андреич увидал знакомую голову зверя с бакенбардами и черными кисточками на ушах.
Старик заволновался. Он попробовал пройти сквозь толпу, но его оттеснили.
Тогда, не соображая, что делает, он полез через невысокую деревянную загородку, отделявшую клетки от публики. Кто-то испуганно крикнул ему:
— Дедушка, берегись!
Но было уже поздно: старик приник лицом к решетке.
Публика ахнула: рысь широким прыжком кинулась на старика.
Тут произошло то, чего никто не ожидал: рысь лизнула старика прямо в губы и радостно заурчала.
— Узнал, сынок, — бормотал Андреич, забыв обо всем кругом себя, — узнал, родимый!
Он просунул руки за загородку и гладил костлявую спину зверя.
Публика пришла в неистовый восторг.
— Ай, дедушка! Ну, молодчина! Видно, прежде его был зверь. Зверь-то — вот умный, как собака! Признал хозяина!
— Прошу разойтись! — раздался вдруг резкий голос за спиной зрителей. — Гражданин, потрудитесь сейчас же выйти за барьер.
Мурзук грозно зарычал. Андреич обернулся. Перед ним стоял Джекобс, сердито нахмурив брови.
— Дозвольте, мистер, с сынком проститься? — робко попросил старик.
— Выходите, я вам говорю! — закричал американец. — За барьер ходить строго воспрещается.
— Да зверь его не тронет, — заступился кто-то из публики.
— Сторож! — позвал Джекобс. — Как вы смеете допускать такое безобразие! Сейчас же выведите старика.
— Уйду, уйду! — заторопился Андреич, еще раз погладил тощие бока Мурзука и кряхтя полез через загородку.
Публика бросилась помогать ему. По адресу Джекобса посыпались ругательства.
Андреич испугался скандала. Он старался поскорей отойти дальше от клетки.
Мурзук рычал и рвался ему вслед.
Не так просто было Андреичу избежать расспросов публики. Его обступили, просили рассказать, где он поймал рысь, долго ли держал, почему зверь так любит его.
Только через полчаса Андреичу удалось скрыться от любопытных в какой-то узкий, зловонный проход между задами клеток.
Андреич устало прислонился к стене. В голове у него стоял шум.
Старик припомнил всё, что видел в зверинце. Он много бы отдал, чтобы выкупить отсюда любимого зверя. Но Андреич отлично понимал, что новые хозяева ни за что не выпустят свою жертву.
Отчаяние брало старика: оставить Мурзука на такое мученье!
В проходе было темно и тихо. Андреич невольно прислушивался, — не услышит ли еще раз голос Мурзука?
Понемногу он стал различать тонкое, жалобное мяуканье рыси. Оно слышалось где-то совсем близко, точно Мурзук был рядом.
Андреич взглянул на стену. Его глаза различили в ней железную дверь и железный засов на ней.
«Это его клетка! — сообразил старик. — Он здесь, рядом».
Неожиданная догадка мелькнула у него в голове; вытащить вот этот засов — и Мурзук выйдет на волю!
Сейчас же в груди захолонуло от страха.
«А как поймают? Тогда пропали оба!»
Опять за стеной послышалось тоскливое мяуканье.
«А будь что будет! — решился Андреич. — Тот не человек, кто об звере не сочувствует и за себя трусит».
Старик дернул засов. Железо громко звякнуло, и тяжелый болт упал на землю.
Андреич испуганно оглянулся.
Мимо прохода быстро прошагал Джекобс.
Андреич проворно выбрался через другой конец прохода.
В саду было светло. Громко играл духовой оркестр, визжала публика на «американских горах».
Андреич торопливо шагал к выходу. Ему казалось, что сзади его догоняет Джекобс, и он не смел оглянуться.
Мысли путались.
«Догадаются, кто засов отодвинул? А что, если Мурзук меня сейчас здесь нагонит? Вырвется — застрелят! Либо сторож прежде зверя заметит, что болт вынут?»
Эта последняя мысль больше всего напугала старика: вдруг не удастся побег Мурзука? И опять Андреич вспомнил торчащие ребра рыси, тоскливые глазки медведя, птиц с подрезанными крыльями, больного снегиря.
Жалость с новой силой охватила старика.
«Там будь что будет, лишь бы Мурзук вырвался!»
И долго еще, уже подходя к вокзалу, старик упрямо твердил:
— Тот не человек, кто об звере не сочувствует!
Глава десятая МИСТЕР ДЖЕКОБС ТРЕНИРУЕТСЯ
На утро после появления Андреича мистер Джекобс поднялся очень рано.
У него была привычка перед отправлением на службу упражняться в стрельбе из мелкокалиберки.
Жил он рядом со зверинцем. Задней стеной его дом выходил на пустырь.
На пустыре была большая лужа и свалка разного мусора и отбросов. Сюда собирались голуби, галки, вороны; Джекобс стрелял их с чердака.
— Меткая стрельба пулей, — говорил он, — требует ежедневной тренировки. И непременно по живой цели.
После случая в зверинце Джекобс хотел быть уверенным в своем выстреле. Он хорошо знал, что только счастливая случайность помогла ему свалить двумя пулями вырвавшегося из клетки медведя.
И в это утро, быстро одевшись, Джекобс схватил винтовку и поднялся на чердак. На чердаке было темно. Только через отверстия в крыше падал узкими полосами мутный свет.
Мистер Джекобс подошел к одному из этих отверстий и выглянул наружу.
Внизу на куче мусора, около лужи, сидела стая голубей. Птицы не замечали стрелка.
Джекобс тщательно, с упора выцелил одну из них и выстрелил.
Раненный в крыло голубь судорожно забился и покатился с крутой кучи. Стая взлетела, но снова опустилась на землю: кругом никого не было видно.
Джекобс прицелился в другого голубя.
В это время сзади него что-то зашуршало. Он обернулся.
Ему почудилось, будто два блестящих глаза смотрели ему в спину и мгновенно потухли, как только он повернулся к ним лицом.
«Кошка!» — подумал Джекобс. Он снова стал прицеливаться в голубя. Но неприятное ощущение устремленных в спину глаз не покидало его. Он никак не мог сосредоточить внимания на своей цели.
— Брысь! — громко крикнул он в темноту. В углу опять послышался легкий шорох.
На мгновенье Джекобс увидал под черным сводом крыши два горящих глаза. И снова ничего не стало.
— Что за черт! — выругался американец. — Погоди же, я тебя живо сниму оттуда!
Он нервничал и злился на себя за это.
Теперь он успел уже немного привыкнуть к темноте. В том месте, где минуту тому назад зажглись таинственные глаза, он различил нагроможденные друг на друга пустые ящики.
Джекобс поднял винтовку и наугад выпалил в один из них.
Пустой ящик с грохотом слетел на пол.
В полосе света мелькнула голова и белая грудь рыси.
Джекобс успел выпустить еще два заряда.
Одна из пуль как ножом срезала конец короткого хвоста зверя.
Потом тяжелое тело рыси со всего маху ударило стрелка в грудь. Он упал.
Винтовка с треском ударилась об пол — и всё смолкло.
А через полминуты крупная рысь выскочила через узкое отверстие и исчезла за поворотом крыши.
Мурзук оглянулся.
Сзади лежал большой пустырь. С трех других сторон тянулись бесконечные крыши и глубокие провалы улиц между ними.
Выбора не было: он должен был избегать открытых мест.
Мурзук добежал до конца крыши, слез на землю, перескочил на другой дом, там на третий — и так направился к центру города.
На улицах уже показались прохожие.
Шли на завод рабочие. Один из них случайно поднял голову вверх и удивленно крикнул:
— Гляди, какая кошка громадная!
Но Мурзук уже скрылся за трубу.
А в зверинце в это время сторож заметил исчезновение рыси и поднял тревогу. Он клялся, что ночью дважды обходил клетки и все звери были на местах.
Он не мог знать, что уже под утро Мурзук случайно прислонился к задней дверце и неожиданно очутился в узком проходе между клетками.
И никто не видал, как зверь осторожно прокрался через весь сад, перелез через высокую ограду и взобрался на первый попавшийся дом; как он спрятался в пустых ящиках на чердаке и встретил там своего врага.
Глава одиннадцатая СТРАХ
Было три часа дня, когда толстенький учитель вышел из школы и сел в трамвай.
Он только что рассказывал детям о диких кровожадных зверях, которые рыщут в дремучих лесах. Он так увлекательно описал охоту на них, что несколько мальчиков решили бежать в тайгу, когда кончат школу.
Теперь учитель ехал домой и думал, что он и сам бы не прочь поохотиться на медведя или тигра.
На первой же остановке в вагон ворвался маленький газетчик. Он размахивал сложенным листком и кричал:
— Вечерний выпуск! Страшное убийство человека зверем! Зверь бродит по городу. Остерегайтесь ходить на чердак!
— Господин! — обратился он вдруг к учителю. Купите газету: ваша жизнь в опасности!
— Что такое? Что ты выдумываешь? — подскочил толстенький учитель. — Давай сюда газету!
На первой странице было напечатано крупными буквами:
«Сегодня ночью из клетки зоологического сада вырвалась рысь. На чердаке соседнего с садом дома в луже крови обнаружен труп служителя из зверинца. Зверь-убийца еще на свободе».
Дальше, в большой, наспех составленной заметке, сообщалось, что рано утром рысь замечена прохожими на крыше одного из домов за три квартала от зверинца. Днем в центре города трубочист чуть не был сброшен с крыши пятиэтажного дома.
Тут же было помещено подробное описание рыси, ее образа жизни, необычайной кровожадности, ловкости и силы.
Судя по этой статье, выходило, что рысь гораздо опаснее тигра, льва и вообще всех хищных зверей.
Статья кончалась словами:
«Всякий хищный зверь, хоть раз отведавший человеческой крови, теряет страх перед людьми и становится людоедом.
Не желая способствовать панике в городе, мы всё же не можем не посоветовать всем обывателям нашего города тщательно остерегаться встречи с рысью, в особенности избегать темных чердаков.
Приняты все меры, и мы не сомневаемся, что зверь будет пойман или застрелен в ближайшие же часы, несмотря на свою замечательную способность прятаться и ускользать невредимым даже от опытных охотников».
Толстенький учитель опустил газету, снял пенсне и вытер холодный пот со лба. Ему уже не хотелось охотиться на диких зверей.
Он вспомнил, как месяц тому назад разглядывал рысь в зверинце. Даже в клетке она производила такое жуткое впечатление! Что, если ему придется теперь встретить ее на улице?
Мурашки забегали по спине учителя.
Он уже решил никуда не выходить из дому, пока не узнает, что зверь пойман. Дома у него висело охотничье ружье, из которого он стрелял летом рябчиков и перепелок. Он может его зарядить пулей и защищаться, если рысь вздумает забраться к нему в квартиру.
Через десять минут вагон подошел к остановке, где учителю надо было слезать.
Всю дорогу до дому учитель поглядывал вверх, на крыши.
На углу городского сквера против его окон стояла кучка народу. Какой-то оборванец, коротенький и толстый, хвастливо уверял, что его рысь не тронет, потому что дикие звери бросаются только на длинных и тощих.
У толстенького учителя немножко отлегло от сердца.
Войдя в свой дом, учитель долго осматривал снизу лестницу, прежде чем по ней подняться. Его квартира была в третьем этаже, под самой крышей.
Никогда еще он с такой быстротой не отпирал ключом двери, как в этот раз.
Наконец-то он был дома! Обедать он сел только после того, как тщательно осмотрел все задвижки на окнах.
После обеда учитель протер пенсне и уселся в кресло против окна. Заряженный пулей дробовик стоял рядом с ним.
Теперь толстенький человек чувствовал себя храбрым. Он открыл форточку и стал прислушиваться к доносившимся с улицы голосам.
— Экстренный выпуск! — звонко крикнул газетчик, вывернувшись из-за угла. — Зверь всё еще на свободе!
Публики на улице было мало.
Торопливо проехал извозчик, погоняя худую клячу. Седок беспокойно поглядывал вверх.
На минуту улица совсем опустела.
Вдруг белая кошка галопом промчалась через улицу в сквер. За ней широкими скачками пронесся большой серый зверь.
Оба исчезли из глаз раньше, чем учитель пришел в себя.
Он вскочил с кресла, бросился к телефону и бешено забарабанил пальцами по кнопкам.
— Алло! Дежурный? Квартальный? Алло, алло! Дежурный? Рысь! В сквере! За кошкой! Сейчас! Стойте, стойте! Запишите: сообщил учитель Трусиков.
— Да, да, кончили!
Учитель повесил трубку и снова бросился к окну.
Через пять минут примчался отряд вооруженных людей. Они цепью окружили сад.
Учитель видел, как цепь по сигналу медленно двинулась между деревьями. Люди держали ружья на изготовку.
Трусиков был доволен: рысь окружена.
Она будет убита, и все узнают из газет, что это он, учитель Трусиков, освободил город от страшного людоеда.
Глава двенадцатая НА РЕКЕ
Ночью этого позднеосеннего дня двое бродяг сидели на каменной набережной широкой реки…
Яркая луна освещала их рваные платья и бросала густую тень на лица, скрытые круглыми козырьками кепок.
Они коротали длинную ночь, изредка перебрасываясь фразами.
— Ты чего ржешь? — спросил один, поджимая под себя длинные, тонкие, как палки, ноги.
— А вспомнил, как вчера зверя травили, а я напугался, — ответил другой, короткий и толстый.
И, не дожидаясь приглашения, стал рассказывать.
— Захожу это я днем в городской сквер — публику поглядеть. Забрался, где потемней, сел на лавочку, да и вздремнул малость.
Просыпаюсь, — что такое делается! Гляжу: цепь; все с винтовками наперевес, идут нога за ногу, а сами всё вверх глядят, по деревам.
Глянул я вверх, — язви тя! — прямо надо мной сидит на суку огромадный серый зверь. Тут я разом смекнул: рысь это, что из клетки вырвалась. Портрет я ейный только перед тем в газетке видал.
«Эге, — думаю, — это тебя, дружище, накрыть хотят!»
Тут как раз один подошел. Спрашивает: «Не видал зверя?»
Я и говорю: «Никак нет, — говорю, — не случилось видеть».
Он и пошел. На дерево, под которым я сидел, даже и не глянул. Я голову поднял: сидит зверь на суку, не шелохнется и глаза потушил.
Подмигнул я ему: ну, говорю, товарищ дорогой, ловко мы с тобой их провели! Счастливо, говорю, оставаться! И айда из сада.
Теперь пишут, расследуют, кто его из клетки выпустил. Дознались, что третьева дня к нему приходил старик один деревенский. Адрес его ищут.
Бродяги замолчали.
Где-то в пустой улице залаяла, залилась собака.
— Ишь, надсаждается! — сказал длинноногий. — Словно бы лису гонит.
Лай продолжался.
Теперь уже ясно слышали бродяги переливчатый, со взвизгом, голос гончей, бегущей по свежему следу.
— А ведь вправду — гонит! — изумленно сказал короткий.
Он обернулся, поглядел на улицу и вдруг схватил товарища за руку.
— Летит — не поймать! Никак рысь!
Оба увидали беззвучно скачущего по темной стороне улицы зверя. Гораздо дальше, в конце длинной улицы, внезапно выскочила из-за угла собака.
Бродяги не успели сообразить, что им делать.
Рысь промчалась в ста шагах от них и шумно кинулась в воду.
— Лодку! — спохватился длинноногий. — Вон у баржи. Поймаем, — награду дадут.
Оба разом бросились к барже.
Собака подбежала к реке и заметалась по берегу.
Через минуту бродяги были в лодке.
— Режь конец! — скомандовал длинноногий, вытаскивая из-под банки весло.
Коротконогий полоснул ножом по веревке, лодка оторвалась и поплыла по течению.
— Грести как же? — растерянно спросил коротконогий. Вместо второго весла в лодке лежал багор.
— Жарь багром! Догоним!
На берегу, потеряв след, досадливо выла собака, мечась по набережной.
Впереди чуть заметно мелькала голова рыси в залитых луной волнах.
Бродяги гребли изо всех сил.
Минут через пять коротконогий обернулся к товарищу.
— Близко! — зачем-то шепотом сказал он.
Рысь громко фыркала перед самым носом лодки.
— Заворачивай нос! — скомандовал длинноногий. — Я ее веслом по кумполу.
Коротконогий не послушал: ему самому хотелось убить зверя. Он ударил багром в ныряющую голову, но промахнулся.
Длинноногий перескочил с кормы на нос, оттолкнул товарища и замахнулся веслом.
Зверь плыл у самой лодки.
Длинноногий со всего маху опустил весло ему на голову.
Зверь увернулся.
Весло плеснуло по воде и выскользнуло у бродяги из рук.
— Багор! — завопил длинноногий. Коротконогий нацелил в шею животного и метнул багор, как копье.
В то же мгновение рысь выскочила из воды всей передней частью тела.
Багор пролетел мимо. Передние лапы зверя коснулись борта.
Скачок — и Мурзук очутился в лодке, готовый к новому прыжку.
— Скакай! — отчаянно закричал длинноногий и махнул за борт. Но коротконогий был уже в воде.
Вода была страшно холодная. Всё же бродяги чувствовали себя в ней лучше, чем в лодке, с глазу на глаз с разъяренным зверем.
К счастью, до берега было недалеко.
Через несколько минут бродяги, отчаянно ругаясь и отплевываясь, вылезли на набережную. Вода ручьями текла с них.
Лодка с Мурзуком плыла далеко по течению.
Глава тринадцатая КОМПАС И ТЕЛЕГРАФ
Лодка быстро вынесла Мурзука за черту города. Зверю не хотелось снова лезть в холодную воду. Он терпеть не мог воды, как все кошки, и попал в реку не по своей воле.
Светало.
Перед глазами Мурзука проплывали деревни, рощи, поля.
Дальше река делала крутой поворот.
Лодка понеслась у самого берега.
Здесь, на песчаном обрыве, тянулся сосновый бор.
Мурзук спрыгнул в воду и через минуту взобрался на кручу.
Бор был редкий и без подлеска. Спрятаться в нем было трудно.
Всё же это был настоящий лес, и Мурзук в первый раз с тех пор, как покинул сторожку Андреича, почувствовал себя хорошо. Глаза его блестели.
Мурзук быстрой кошачьей рысью побежал вперед. Ему хотелось есть, и он сильно устал, но сейчас было не до отдыха. Он не обращал внимания на маленьких птиц, поднимавшихся с земли при его приближении. Охота за ними требовала задержки, а он спешил добраться до густого леса.
Только когда дорогу ему перебежала мышь, Мурзук быстро схватил ее и съел на ходу.
Лес опускался под гору. Стали попадаться ели и березы. Деревья росли чаще. Под ногами был мягкий сырой мох.
Мурзук бежал вперед, всё по одному и тому же направлению.
Сам зверь не отдавал себе отчета, куда он бежит. Но в груди его был словно компас, который направлял его бег.
Невидимая стрелка этого несуществующего компаса указывала на северо-восток. Там, за сто километров от места, где находился зверь, стояла избушка старика Андреича и темнел родной лес Мурзука. Леса и реки, поля и деревни раскинулись между зверем и далекой целью его путешествия.
Солнце уже высоко стояло над деревьями. Мурзук пробирался теперь по густой чаще.
Наконец он выбрал сухое местечко под ветвями большой ели, примял брюхом мох и опавшую хвою и лег, свернувшись клубком. Через минуту он уже крепко спал.
Прошло часа два. В воздухе закружились снежинки.
В лесу было тихо. Только на макушке большой ели пищали крошечные корольки да цикали в ветвях синицы.
Зверь всё еще спал.
Двое охотников осторожно пробирались через лес. С ними не было собаки, которая предупредила бы их о близости дичи. Они тихо раздвигали перед собой ветви, каждую минуту ожидая, что из чащи неожиданно выскочит заяц или с шумом поднимется глухарь.
Глубокий сон не помешал Мурзуку услышать издали приближение людей. Его уши даже во время сна чутко ловили малейший звук, как радиоантенна ловит легчайшие колебания электрических волн.
Уши Мурзука повернулись в ту сторону, откуда шли охотники. Глаза открылись.
Мурзук знал, что идут два человека, один справа, другой слева от него. Надо было или побежать прямо вперед или прятаться на месте.
Если бежать, люди могут заметить.
Мурзук вжался всем телом в мох.
Охотники поравнялись с ним. Они шли на расстоянии тридцати шагов друг от друга, не подозревая, что между ними лежит зверь.
Один из охотников остановился.
— Иди сюда, — негромко крикнул он другому, — и давай перекурим. В этой чаще всё равно ни черта нет.
Мурзук привстал.
Под кожей у него комками вздулись мышцы: он слышал, как охотники остановились, и ждал, что они направятся в его сторону.
— Погоди! — ответил другой охотник. — Дойдем до опушки, там закурим. В этакой чащобе никогда не знаешь, что тебя ждет через шаг.
— Ну, ладно.
И оба пошли вперед.
Комки под кожей Мурзука разгладились. Он прислушивался, пока шаги охотников затихли. Потом опустился на землю и опять погрузился в сон.
С вершины соседнего дерева на елку перепрыгнула белка. С ветки на ветку она всё ниже и ниже опускалась к земле, пока вдруг не заметила под самым стволом рысь.
Зверек замер на месте, боясь неосторожным движением выдать себя хищнику. Пушистый, рыжий хвост совсем прикрыл спину, а глаза впились в страшного зверя.
Но зверь не двигался.
Прошла минута, другая, третья.
Белка устала сидеть всё в той же позе. Испуг ее прошел.
Она прыгнула и быстро побежала по стволу вверх. На большой высоте она почувствовала себя в полной безопасности и с любопытством стала разглядывать невиданного зверя.
Он лежал по-прежнему без движения. Любопытство разбирало белку всё сильней. Она снова спустилась книзу и уселась на нижней ветке ели.
Никак нельзя было понять: спит зверь или он мертв?
А может быть, он только притворяется?
Белка сердито зацокала и замахала пушистым хвостом. Дрогни хоть ус на морде зверя, она мгновенно очутилась бы опять на вершине дерева. Но рысь не шевельнулась.
Ясно, что она мертва.
Любопытный зверек осторожно спустился по стволу на землю, всё еще стараясь держаться подальше от мертвого врага.
Он увидал, что глаза рыси плотно закрыты.
Маленькими, неловкими прыжками белка приблизилась по земле к трупу. Она опустилась на короткие передние лапки и потянулась усатой мордочкой к зверю, осторожно обнюхивая его. Как молния, сверкнули зубы рыси — и кости белки хрустнули в ее пасти.
Слуховой телеграф Мурзука работал исправно и при закрытых глазах зверя.
Позавтракав, Мурзук снова тронулся в путь по прежнему направлению.
Глава четырнадцатая СТРАШНЫЙ ВСАДНИК
Три дня Мурзук почти безостановочно подвигался вперед.
Часто по пути ему встречались села и поля. Он делал большие круги, чтобы на открытых местах не попасться на глаза людям.
Питался Мурзук в дороге впроголодь, чем придется. И когда к ночи третьего дня добрался до большого дремучего леса, почувствовал, что силы изменяют ему.
В темноте Мурзук набрел на звериную тропу. Тропа пролегала чащей и вела к болоту, куда летом косули и другие лесные звери ходили пить.
Тут можно было поохотиться за крупной дичью.
В одном месте наполовину вывороченное из земли дерево склонилось над самой тропой.
Мурзук взобрался на него и улегся ждать добычу.
Ночь была темная и холодная. Изморозь покрыла землю. Проходил час за часом, но ни одно животное не показывалось на тропе: в холода звери лижут иней на траве и деревьях и не ходят на водопой.
Но вот уши Мурзука уловили отдаленный хруст шагов. Кто-то шел по траве.
Мурзук собрал свое сильное тело в ком и уставился в темноту расширившимися глазами.
Шаги медленно приближались.
Это не могла быть косуля: слишком тяжела была поступь. Слышно было, как под ногами животного трещат толстые сучья. Еще не зная, кто приближается, Мурзук чувствовал, что ему лучше отказаться от нападения на этого великана.
Но голод разжигал его кровожадность. Всё его тело было напряжено, как тетива натянутого лука. Толчок — и трехпудовая стрела сорвется с дрогнувшего дерева.
Сучья трещали всё ближе.
И вот острые глаза Мурзука различили в темноте фигуру молодого лося. Животное медленно шло по тропе.
Мурзук почувствовал страх: противник был слишком велик и силен.
Вот рога молодого лося чуть не коснулись склоненного над тропой ствола. Прямо под собой Мурзук увидал незащищенную спину животного.
И прыгнул.
Задние лапы рыси впились в хребет и в бок лося; передние мертвой хваткой обхватили могучую шею.
Лось бешено рванулся вперед и побежал по тропе, мотая головой, брыкаясь и кидаясь из стороны в сторону.
Ветви хлестали Мурзука по бокам и голове, грозя вырвать глаза. Спину в кровь рвали закинутые назад рога лося.
Мурзук ничего не замечал; всё его внимание сосредоточилось на том, чтобы как-нибудь удержаться на спине обезумевшего от боли животного. Сорвись он на землю — и конец: страшный удар рогами, а за ним целый град ударов крепкими, острыми копытами в голову, в грудь, в живот. И через минуту красивое тело хищника превратилось бы с бесформенную окровавленную груду мяса.
Лось несся по тропе с невероятной для такого огромного животного быстротой. Страшный всадник ежеминутно мог вцепиться зубами ему в загривок и перегрызть становую жилу.
Только открытое место могло спасти лося: на узкой тропе, между двумя стенами чащи могучее животное не могло развернуться и сбросить со спины рысь.
Бешеная скачка продолжалась, и никто не мог бы сказать, кто осилит: всадник или конь.
Вдруг перед налившимися кровью глазами лося мелькнул просвет: чаща кончилась.
За ней начиналась большая поляна.
Лось вылетел на нее со всего маху — и сразу погрузился по брюхо в топкое лесное болото.
Напрасно он напрягал всю свою огромную силу, стараясь вытянуть увязшие передние ноги.
Его тяжелое тело всё глубже погружалось в топь.
Мурзук скользнул на шею животному и впился в загривок.
Через минуту лось страшно захрипел и повалился на бок.
Мурзук победил.
Глава пятнадцатая ОБОРОТЕНЬ
Деревенский староста был очень удивлен, неожиданно получив бумажку с приказанием немедленно арестовать и препроводить в город лесного сторожа Андреича.
Староста давно знал Андреича и никак не мог взять в толк, чем мог старик провиниться перед начальством.
Однако долго рассуждать не приходилось: в бумажке было ясно сказано, что надо делать.
Староста вызвал двух объездчиков и передал им приказание начальства. Объездчики уже пошли, было, снаряжаться, но тут случилось такое, что их помощь немедленно потребовалась здесь же, в селе.
В избу к старосте с криком и плачем ворвалась целая толпа баб. Бабы были страшно напуганы и так галдели, что долго ничего нельзя было разобрать.
Кричали, что в селе появился оборотень.
Староста велел вытолкать всех их из избы. Оставил только одну, поспокойней, и велел рассказывать всё толком.
Оказалось, накануне вечером бабы от нечего делать — мужчины все были на станции, на работе — собрались на посидки. Как водится, песни играли и рассказывали сказки. Одна рассказала очень страшное — про оборотней.
А утром — с полчаса тому — старуха Митревна этого самого оборотня и увидала.
Дело было так.
Пошла Митревна выпускать овец из хлева. Глядит, дверь распахнута, овец нет, а одна лежит на земле наполовину съедена.
Митревна за сарай, а там овцы. Забились к забору, стоят в куче, дрожат и от каждого стука шарахаются. Тут уж ей сразу в голову взбрело, что нечистой силой пахнет.
Только хотела соседку кликнуть, глядит, — соседкин черный кот с плетня — и к ней через двор.
Дошел до сарая, да как фыркнет, хвост трубой и назад бегом!
Тут-то оборотень и вывернулся — как из-под земли вырос!
Сам с собаку, лицо кошачье, да с бородой, хвост куцый, а шерсть белая, как мука.
Прыг на кота, разорвал зубами и махнул через забор, как через грядку, — словно у него крылья выросли.
Грохнулась Митревна оземь с испугу, завопила. Бабы сбежались…
Узнали, в чем дело, — и к старосте. «Не пойдем, — говорят, — в избы, пока оборотня не убьете и мы собственноручно ему кол осиновый в спину не загоним».
Староста распорядился: объездчикам немедленно к Митревне отправиться при винтовках и револьверах. И сам с ними пошел.
Нашли в хлеву овцу наполовину съеденную, нашли и разорванного черного кота. Обошли плетень и увидали на снегу большие круглые следы неизвестного зверя.
Сейчас же староста всех парней на ноги поставил. Взяли собак и пошли по следу.
Это было днем, а что было до того ночью, — так никогда и не узнали в деревне.
Все еще спали, когда Мурзук подкрался по лесу к самой околице. С тех пор как он убил и съел лося, прошло уже несколько дней. В эти дни он опять мало ел и, наконец, сильно проголодался. Он услышал из лесу блеяние овец — и смело пробрался в деревню. По крыше сарая добрался до хлева.
Овцы всполошились, но Мурзук ударом лапы свалил одну из них. Другие распахнули дверь и вырвались на двор.
Мурзук спокойно принялся за еду.
Он успел съесть половину овцы, когда Митревна вышла выпускать скот.
Завидев ее, Мурзук спрятался в сарай.
Там стояли мешки с мукой, и он весь выпачкался в мучной пыли.
Через приотворенную дверь сарая Мурзук разглядывал, что творилось на дворе.
Один вид черного кота привел его в ярость. Забыв всякую осторожность, Мурзук выскочил из сарая и, на глазах у женщины, тут же растерзал кота.
Следы больших круглых лап рыси ясно отпечатались на рыхлом снегу. Собаки быстро побежали по ним к лесу.
Сзади спешил целый отряд стрелков.
Мурзук в это время уже спал, забравшись в чащу.
Глава шестнадцатая ТРАВЛЯ
Впереди бежала матёрая гончая, вся черная с рыжими подпалинами. Она уверенно и быстро вела всю стаю в глубь чащи.
Собак было больше десятка. Они визжали и тявкали.
Мурзук услышал их издали.
Он сразу понял, в чем дело. Не теряя ни минуты, вскочил на ноги и, скользя меж кустами, побежал в глубину леса.
Хорошая собака легко может догнать рысь.
Мурзук знал, что ему несдобровать, если он как-нибудь не обманет своих преследователей. И он пустился на хитрость, чтобы сбить их со следу.
Он повернулся и побежал назад, прямо навстречу собакам, старательно ступая по старому следу.
Пробежав так немного, вдруг круто прыгнул в сторону — сделал скидку — и пошел петлять, всё больше и больше запутывая след.
Собаки живо разыскали лёжку зверя.
По их неистовому лаю люди поняли, что собаки подняли зверя и гонят по теплому следу. Стрелки полукругом рассыпались по лесу, чтобы не упустить зверя, когда свора завернет его обратно.
А собаки уже добежали до «двойки», где Мурзук шел назад по своему следу. Сгоряча они проскочили вперед — и неожиданно потеряли след.
Напрасно они растерянно бегали кругом, обнюхивая землю: зверь точно на крыльях поднялся.
Только опытная гончая сразу поняла хитрую уловку.
Она вернулась до конца двойного следа и тут дала большой круг.
Скидка рыси оказалась в кустах за три метра от следа.
Гончая подала голос, и вся свора сейчас же бросилась за ней.
Собаки быстро распутывали петлю за петлей.
Гончая первая заметила, что след обрывается у корней толстого, сильно накрененного к земле дерева. Она обнюхала ствол, и ей стало ясно, что рысь взобралась по нему вверх.
Собаки бешено запрыгали вокруг дерева.
Скоро подоспели стрелки.
Теперь зверь был у них в руках. Собаки сделали свое дело: загнали его на дерево. Стрелкам оставалось только свалить рысь оттуда меткой пулей.
Дерево было густое, и зверя не было видно в ветвях.
Один из стрелков стал сильно стучать прикладом по стволу, чтобы выпугнуть зверя. Другие приготовились стрелять.
Зверь не показывался.
Тогда стрелок выпалил, целясь вдоль ствола.
Опять неудача.
Стало ясно, что на дереве рыси нет.
В это время гончая снова затявкала в чаще. Там опять начинался след рыси.
Оказалось, зверь пробежал вдоль всего склоненного к земле ствола — и сильным прыжком перенесся далеко в чащу.
Снова начался гон.
Мурзук в эту минуту бежал уже далеко впереди. Последняя хитрость помогла ему выиграть время. Но вот опять по его пятам понеслись собаки.
Положение было безвыходное. Если просто бежать вперед, — догонят собаки. Спрятаться на дерево, — охотники застрелят.
Зверь начинал уставать. Собаки наседали.
Травля близилась к концу.
Неожиданно Мурзуку пересек дорогу быстрый лесной ручей. Вода еще не замерзла в нем.
Мурзук соскочил в воду и бежал по дну, пока ручей не вышел из лесу на большую вырубку.
На опушке Мурзук забрался в кустарник и лег.
Теперь, наконец, он мог отдохнуть: собаки не скоро найдут след, пропавший в воде.
Но старая гончая знала и эту уловку.
Потеряв след в ручье, она пустилась вдоль берега и через несколько минут привела свору к густому кустарнику на краю большой вырубки.
Гончая залилась «по зрячему».
На открытой вырубке собаки быстро догоняли утомленную рысь. Если они сами не сумеют задушить зверя, они удержат его, пока прибегут охотники.
Спасенья не было.
Мурзук отчаянными прыжками старался уйти от своры, чтобы первым достигнуть леса.
Но старая гончая и с ней три самых быстрых собаки были уже близко.
Сзади за деревьями поспевали люди.
Вдруг Мурзук, как скошенный, кувырнулся в снег.
Падая, он опрокинулся на спину, мелькнув в воздухе лапами.
Стрелки видели, как четыре собаки сразу накинулись на зверя.
Стрелки опустили ружья: собаки разорвут зверя в клочья.
Но что такое случилось с ними?
Ударом лапы зверь размозжил голову старой гончей.
Три других собаки, раненые, с воем осели в снег: Мурзук работал сразу всеми четырьмя лапами.
Раньше чем подоспела отставшая стая, он снова уже был на ногах и огромными прыжками скрылся в лесу.
Вокруг него защелкали по деревьям пули растерявшихся стрелков.
Но Мурзук хладнокровно бежал вперед, не забывая время от времени делать скидки.
Оставшиеся без опытного вожака собаки скоро совсем потеряли след зверя.
Напрасно охотники до самого вечера бродили по лесу.
Они вернулись домой с пустыми руками.
Глава семнадцатая ДРУГ
Андреич сидел на крыльце своей избы, опустив на руку седую голову.
Он недавно вернулся из лесу. Козы с утра ушли со двора. Старик долго старался загнать их домой, но упрямые животные никак его не слушались.
Уже месяц, как сдохла старая корова Андреича, и старик питался с тех пор одним козьим молоком.
Сегодня он еще ничего не ел и совсем ослаб. Сил не было подняться и снова брести в лес загонять коз.
Старик вспомнил, как ловко делал это его верный Мурзук, и тяжело вздохнул. Ему сильно захотелось узнать, что сталось с его любимцем. Бежал ли он из зверинца и бродит теперь где-нибудь по лесам? Или медленно умирает в клетке?
Быстрый стук копыт по мерзлой земле заставил старика поднять голову.
Он с удивлением увидал, что козы бешеным галопом мчатся по лугу прямо к нему в ограду.
«Уж не медведь ли?» — тревожно подумал Андреич.
Козы пронеслись по двору и в испуге забились в хлев.
В ту же минуту в воротах показалась рысь и широкими прыжками кинулась на грудь старику.
— Сынок?! — только и мог выговорить Андреич, обнимая лохматую голову зверя.
Только через час вспомнил Андреич, что голоден. Он подоил козу и поделился молоком с другом.
— Это тебе гостинец, — сказал он Мурзуку. — А теперь ступай-ка в лес, промысли себе дичинки на обед. К ночи только назад ворочайся: вместе-то всё веселей.
Мурзук послушал хозяина, лизнул ему руку, повернулся и пошел в лес.
Только тут старик заметил, что хвост зверя словно обрублен.
«Где же это его так обкорнали?» — подумал старик.
Но раздумывать об этом было неприятно.
«Теперь злое миновалось», — радостно подумал Андреич и закрыл глаза.
Осеннее солнце ласково грело его больное тело.
Старик задремал на крылечке.
Его разбудил грубый окрик:
— Эй, старина, подымайся! Арестовать тебя приехали. Собирай монатки — и айда за нами!
Сперва Андреич ничего не мог сообразить. Перед ним стояли двое объездчиков с винтовками за плечами. Они держали за собой лошадей в поводу.
— Что вы, родные! Али подшутить вздумали над стариком?
— Шутки тебе в городе покажут! — сурово сказал один из объездчиков. — Велено тебя на станцию доставить.
— Наше дело сторона, — миролюбиво добавил другой, помладше. — За что, про что — нам неведомо. Сам-то ты, поди, лучше нашего знаешь.
Слово «город» сразу всё объяснило Андреичу.
«Добрались-таки! — подумал он. — Ну, что же: мне так и так помирать. Навряд и до города довезут. Зато хоть Мурзук на воле».
Старик не чувствовал никакой вражды к тем, кто хотел привлечь его к суду за его поступок.
— Видно, уж так тому и быть, — спокойно сказал он. — А вина за мной есть. Пожалел я, родные, зверя одного. Из клетки выпустил в городе. Зверь этот воспитанник мне был и первый друг.
— Это какой зверь? — полюбопытствовал младший из объездчиков.
— А рысь. Объездчики переглянулись.
— Рысь? — переспросил старший. — Куцая?
— Куцая. Должно, в зверинце это ее обкорнали.
— Так и есть! — сказал старший. — Да тебя за этакого воспитанника расстрелять мало. Он у нас вчера лучшую на селе собаку убил. Обожди, мы еще с него шкуру спустим.
— Ну, чего стал! — набросился вдруг он на Андреича. — Некогда нам с тобой тут лясы точить! Сматывайся живей!
— Да я весь тут, — сказал Андреич. — Обожди только — шапку возьму.
Он сообразил, что надо скорей отправляться со двора. А то вернется Мурзук, и обозленные объездчики тут же пристрелят его.
Спустя две минуты Андреич вышел из ворот. По бокам его была стража.
Старик обернулся в последний раз взглянуть на свою избу — и вздрогнул: сзади его догонял Мурзук.
Старший объездчик тоже оглянулся и увидел рысь.
Он быстро сдернул с плеча винтовку, приложился и выстрелил.
Пуля щелкнула в избу, отхватив узкую щепку.
Одним прыжком Мурзук бросился на круп лошади, но сорвался. Кони рванули. Что-то крикнул Андреич.
Но рядом с ним уже никого не было.
Перепуганные кони мчались по лугу. Седоки могли думать только о том, чтобы как-нибудь удержаться в седле.
Мурзук гнался за ними.
Седокам удалось остановить понесших коней только за километр от лесной сторожки.
Нельзя было и думать вернуться назад верхами.
Они решили доложить о происшедшем старосте и назавтра потребовать себе подкрепление для охоты за зверем и для ареста старика.
Мурзук не сразу вернулся домой. Он опять скрылся в лес и занялся там охотой.
Ему посчастливилось набрести на тетеревов.
Беззвучно подкрался зверь из-за куста и схватил старого косача в то мгновение, когда тот поднялся с земли.
Однако есть добычу Мурзук не стал. Он придушил птицу и с нею в зубах вернулся к хозяину.
Андреич сидел на земле, прислонившись спиной к ступенькам крыльца. Глаза его были закрыты.
Мурзук положил дичь к его ногам и легонько ткнул старика носом.
Андреич медленно повалился на землю.
Мурзук прильнул к нему лохматой мордой, поднял голову и тихо, тоскливо завыл.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда на следующий день отряд объездчиков окружил лесную сторожку, труп Андреича еще лежал на ступеньках крыльца. Но все поиски рыси не привели ни к чему. Мурзук исчез.
Проходил месяц за месяцем.
В избушке Андреича поселился новый лесной сторож.
Скоро в окрестных деревнях забыли одинокого старика. Забыли и его ручного зверя.
Однако в разных провинциальных газетах стали появляться заметки о необычайно крупной и дерзкой рыси.
Писали, что зверь то тут, то там делает набеги на деревни, режет скот и разрывает домашних кошек. Попытки застрелить его неизменно кончаются неудачей.
По короткому обрубку хвоста и замечательному знанию людских привычек в этом бесстрашном звере легко было признать Мурзука.
Последнее известие о нем промелькнуло в одной из газет северной окраины нашей страны.
Спасаясь от преследования, Мурзук забрался в глубину леса, где следы его затерялись в густой чаще.
Там, на Севере, Мурзук нашел себе надежное убежище.
1925 г.
ОДИНЕЦ
ЧАСТЬ I
Глава 1 ОДИН ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ
Лось низко опустил голову, грозя поднять на рога каждого, кто приблизится к нему спереди. Задом он прижался к двум сросшимся у корня деревьям — и был надежно защищен с тыла.
Собаки обступили его полукругом. Их было три, и любая из них могла схватиться один на один с волком.
Ощетинив шерсть, захлебываясь от злобы лаем, они когтями рвали под собой землю. Они ждали только удобного момента, чтобы, подскочив, вцепиться зверю в горло, в спину, повиснуть на нем, зубами рвать живое мясо.
Ни одна из них, однако, не отваживалась переступить невидимую черту, за которой — они знали — встретят их страшные рога лося. Что их волчьи зубы против неимоверной силы этого лесного богатыря!
Жутко поблескивающие глаза лося ловили каждое их движение. Тяжело вооруженная голова делала чуть заметный поворот, как только одна из них подскакивала на шаг ближе.
Исступленным лаем собаки старались скрыть свой страх. Все три были умны и опытны, ни одна не хотела лезть на верную смерть. В конце концов, их дело ведь только задержать зверя, не дать ему ходу, не пустить в чащу. Они вовсе не обязаны хватать его за горло, пока он не ранен. Пусть расправляется со зверем тот, кто идет за ними.
Но лось хорошо понимал, где таится главная опасность. Едва между деревьями мелькнул человек, он разом подался вперед.
Три разъяренных собаки одновременно кинулись на него: две спереди, одна сзади — вцепиться и удержать.
Но это был только ловкий прием: зверь быстро отпрянул, а распаленные его мнимым испугом собаки неудержимо ринулись вперед. И на одно мгновенье очутились ближе к нему, чем позволяла мудрая осторожность.
Лось двинул рогами — и первая собака высоко взметнулась в воздух. Ударил ногами — и вторая, как распоротый мешок, свалилась на землю, обливаясь кровью.
Тогда лось опрокинул рога на спину, взял с места широкой, размашистой иноходью и, не глядя на уцелевшую собаку, двинулся в чащу.
Свое громадное тридцатипудовое тело он нес на бегу легко и плавно. Его бег был стремителен и прям, как бег стального паровоза по рельсам.
В последний миг выскочил из-за деревьев охотник. Перед ним мелькнули высокие белые ноги, горбатый загривок, сухой опущенный крестец, — и зверь врезался в плотную заросль, легко раздвигая грудью тугие ветви, ломая деревца. Собака метнулась за ним, но упругие руки чащи отбросили ее назад.
Охотник опустил бесполезное ружье: громадный лесной зверь исчез в чаще так же бесследно, как исчезает в темной глубине моря выскользнувшая из рук рыба. Не догонять же его в непроходимой заросли.
Охотник подошел к лежавшим на земле собакам. У одной был проломлен череп. У другой из широко распоротого живота вывалились на траву все внутренности. Обе уже не дышали.
У охотника помутнело в глазах.
Он прислонился к дереву. Отчаяние его охватило.
Глава II ТАЙНА ЛЕСНОГО ВЕЛИКАНА
Вот опять, вот опять — уже который раз — зверь уходит у него из-под носу!
Семьдесят верст — поездом и лошадьми — охотник ехал за ним из города. Десять дней уже рыщет по лесу, караулит, выслеживает, скрадывает — и всё зря!
До этого случая охота для него была только удовольствием. Охотник он был не настоящий — городской житель, студент. От отца ему достались два ружья — дробовик и винтовка — да старый гончий пес. Из винтовки он стрелял в тире. Стрелял хорошо, брал призы.
Из дробовика бил голубей. И только летом, когда случалось выезжать в деревню, стрелял зайцев и раз убил лисицу из-под гончей.
При такой охоте требовалось только удачно выбрать место, где стать, да терпеливо ждать, пока пес нагонит на тебя дичь.
Но это была совсем другая охота — охота по крупному зверю.
Еще в городе он получил предупреждение, что взять лося будет трудно. Лось, который только что на его глазах бесследно исчез в чаще, был не простой зверь. Так, по крайней мере, уверял студента знакомый крестьянин Ларивон.
Кто знает, что было на уме у хитрого мужичка? Может быть, своим рассказом о тайне неуловимого зверя он просто хотел разжечь любопытство городского жителя. Может быть, зазывая неопытного охотника к себе в деревню, он лукаво рассчитал, что и ему, Ларивону, перепадет деньжат за постой, и зверь останется невредим.
— Податься ему некуда, — рассказывал Ларивон. — Потому эдак вот море легло, — крестьянин корявым ногтем большого пальца провел на письменном столе студента длинную прямую царапину.
Студент знал, что Ларивонова деревня на южном берегу Финского залива.
— А так — деревни с полями прошли сквозной веревочкой через все леса.
Ноготь рассказчика начертил от прямой широкий неровный полукруг.
— Через поля зверь нипочем нейдет. Так и сидит в нашем лесу, как в мешке.
— Почему же его до сих пор не взяли? — удивился студент.
— Хитер, проклятый, — с какой-то даже гордостью объяснил крестьянин, — вот как хитер! Не простой это зверь. Видимость в нем звериная, а ум человечий. Один такой лось и ходит в наших лесах, а то молодняк всё — телята безмозглые. Есть еще мошник у нас. Ну, тоже сказать, колдовская тварь, чисто что оборотень. Да ведь то — птица!
Про птицу-оборотня студент тогда не стал слушать: очень его заинтересовал старый лось.
Ларивон охотно сообщил подробности.
Студент узнал, что лось этот — Одинец: старый бык, живущий отдельно от стада. Великан ростом, характером он тяжел: угрюм и необщителен. Силы неимоверной, в ярости прямо ужасен. В лесу есть медведи, но даже они не решаются напасть на Одинца. Деревенские охотники тоже не трогают его: ружья у них ненадежны. Сам же зверь избегает встреч с людьми.
Ларивон рассказывал, что случайно на Одинца натыкаются всюду: и в казенном лесу, куда бабы ходят клюкву-ягоду брать, и в крестьянских наделах, и в речке, куда лось заходит в жару, спасаясь от надоедливых оводов. Но где его лежка, где то надежное убежище, куда он скрывается при первой тревоге, — этого не знает никто.
Впрочем, у рассказчика на этот счет были свои соображения. Ларивон полагал, что Одинец прячется под землю.
— Это как же так? — изумился студент.
— А так, — нисколько не смутившись, продолжал крестьянин. — Место такое знает. Топнет ногой, — земля перед ним расступится. Войдет, — а она за ним закроется. Был да нет!
— Ну, уж это ты заливаешь! — смеясь прервал студент. — Это ты, дядя, из сказки.
Ларивон не обиделся. Спрятав лукавую улыбку в бороду, он смиренно сказал:
— Знамо дело, мы народ темный, книгами не начитаны. Смекалкой до всего доходим. По-нашему, так: зверь тяжелый, крыл у него нет. По воздуху, выходит, летать ему не полагается.
— Кто же говорит, что полагается? — удивился студент.
— Ну, значит, и ты говоришь, что летать он не может. А по трясине, где и кошке не ступить, с копытами-то пройти, — как скажешь, — пройдет?
— Нет, конечно, не пройдет.
— Теперь вот и прикинь: идет Одинцов след по лесу, дошел до болота — тут и пропал. На ясном месте пропал! Назад следа нету, впереди такая трясина, что упаси господи! Болота, конешно, они разные бывают. Которые и безопасные. А вот ты наше погляди. Не только что летом, зимой скот и людей засасывает. В прошедшем годе случилось: лесной объездчик на коне ехал, в самый что ни на есть мороз. Попал в темноте на то болото, — его с конем и втащило под снег-то. Куда, скажешь, зверь-то на таком месте девается?
— Не знаю, — задумчиво сказал студент. — Только уж, конечно, не под землю.
— Хошь верь, хошь нет, а, по-нашему, оно так. Зверь, говорю, не простой. Такое знает, что и человек не удумает. Да вот приезжай, сам увидишь. На месте-то способней будет разобраться.
— Нет, дядя Ларивон, спасибо, не выбраться мне, — решительно отказался студент. — У меня занятия скоро.
— Как знаешь. А надумаешь, отпиши заране: мы лошадей вышлем.
Ларивон ушел, а в мозгу студента крепкой занозой засела тайна внезапных исчезновений лесного зверя. Мысль то и дело возвращалась к загадке, но ответа не находила.
Глава III УЛЫБКА
Студент и в самом деле не думал тогда ехать на охоту за лосем. Решенье пришло позже, внезапно. Стоя у дерева с закрытыми глазами, он вспомнил, как это случилось.
Через несколько дней после посещения Ларивона он отправился на вечеринку к товарищу. У товарища, как всегда по субботам, собралось с десяток знакомых — студентов. Шумно спорили, пели.
Из девушек только одна была студенту-охотнику незнакома. Она держалась в стороне и почти не принимала участия в общих разговорах.
Ему понравились ее светло-русые волосы, голубые глаза, золотистые прямые брови и тонкие строгие черты лица. Свежий загар крепких щек и настороженная неуверенность движений выдавали в ней человека нового в большом городе. И только легкая насмешливая улыбка, не сходившая с ее губ, как-то не вязалась с образом робкой провинциалки, впервые попавшей в столицу.
— Кто такая? — кивнув в ее сторону, тихонько спросил студент у хозяина.
— С севера приехала на курсы. Дикая какая-то, молчит всё. Попробуй-ка разговорить.
— А чего она улыбается?
— Кто ее знает! Презирает, верно, нас, городских. «Ого!» — подумал студент.
Он подсел к молчаливой гостье и завязал с ней разговор.
Девушка на вопросы отвечала скупо. Сказала только, что выросла в лесу и никак еще не может привыкнуть к городу.
— Что же вам не нравится у нас? — спросил студент.
— Не знаю… Вчера мне пришлось одной возвращаться ночью. Мертво кругом: ни деревца, ни травки, — камень один. Жутко как-то…
Он смотрел прямо в ее голубые глаза. И чем больше он в них вглядывался, тем больше они ему нравились. В их глубине мерцала грусть.
Ему захотелось подбодрить ее, дать ей почувствовать, что в нем она найдет надежного друга.
Скоро он узнал, что она собирается на естественно-исторические курсы, и весело сказал:
— Ну, вот, будем с вами коллегами: я ведь тоже по этой части.
Тут его собеседница сразу оживилась.
— Вы, значит, хорошо знаете лес? — радостно сказала она. — Расскажите что-нибудь о лесных зверях. Я готова слушать о них часами.
На мгновение студент смутился. Что интересного мог рассказать о животных он, изучавший их только по костям да по книгам, человеку, выросшему в лесу?
Но тут вспомнился ему рассказ Ларивона, и он с увлечением начал рассказывать об Одинце.
Оттого ли, что был он в тот день «в ударе», оттого ли, что с наивным любопытством и восторгом смотрели на него голубые глаза, — только неожиданно он почувствовал в себе необычайный дар красноречия.
Гости бросили споры и окружили рассказчика. А он красивыми и сильными словами живописал перед ними дикую и прекрасную жизнь старого лося.
Он особенно подчеркнул громадный рост, угрюмый нрав и чудовищную силу зверя. На хитрой догадке крестьянина о тайном убежище Одинца он построил целую запутанную легенду. Зверь получился в его рассказе чем-то вроде сказочного великана, живущего в неприступном заклятом убежище.
— Это последний старый бык в нашем краю, так близко от города, — заключил рассказчик. — Теперь лосей бьют, не дав им войти в полную силу и стать действительно опасными. Со смертью Одинца из наших лесов исчезнет последний лесной великан. Славный трофей для охотника. Крестьяне ничего не могут поделать с ним. Приезжали звать меня.
— Вы поедете его убивать? — быстро спросила девушка. — Вы уже много лосей убили?
Весь пыл студента мигом остыл.
«Влип!» — с ужасом подумал он.
Хотел соврать, но вовремя вспомнил, что товарищи знают, какой он охотник, и, конечно, выдадут его с головой.
— Мне, собственно, — промямлил он, не поднимая глаз на собеседницу, — не приходилось пока по крупному зверю.
— На зайчиков-то безопасней! — съехидничал кто-то из товарищей. Кровь бросилась студенту в голову. И так же внезапно отхлынула, когда он взглянул на девушку.
Он заметил только ее улыбку, презрительную и жесткую.
«Она думает, что я трус», — подумал студент. И он громко сказал:
— Но этого лося я убью. Завтра еду. Кто-то сострил:
— Насморка, гляди, не получи. Пожалуй, ночевать-то в лесу придется!
Кто-то крикнул:
— Выпьем за нашего Тартарена![13]
Зазвенели стаканы; хозяин кинулся к роялю и забарабанил марш.
Но студент сдержал себя и не стал вступать в пререкания с товарищами. Презрительно пожав плечами, он отошел в сторону и, как только разговор перескочил на другое, незаметно скользнул в прихожую.
По дороге он вспоминал то ироническую улыбку, то добрые глаза своей новой знакомой. Грусть ясных ее глаз никак у него не мирилась со злой насмешкой и строго сдвинутыми золотистыми бровями.
Он злился на себя, на весь мир и бормотал, сжимая кулаки:
— Уж смеяться-то над собой я никому не позволю!
И вот он в лесу. Он десять дней выслеживает, караулит, скрадывает, у него действительно сильный насморк, потому что он два раза уже промочил ноги. Но он еще не сделал ни одного выстрела по лосю.
А сейчас проклятый зверь убил еще двух собак, за которых охотнику придется теперь платить Ларивону: только одна из собак — та, что уцелела, — была его собственная.
Убить зверя оказалось делом неожиданно трудным. Одинец решительно не желал встречаться с охотником и не принимал боя.
Теперь одна надежда оставалась у охотника: найти лежку и около нее подкараулить осторожного зверя. Но где оно, это таинственное убежище зверя?
Охотник открыл глаза.
Ну, конечно: опять то же место! Именно здесь всегда исчезает Одинец.
За этой чащей — большая гарь, за гарью — перелесок, за перелеском — там, где сейчас тявкает давно убежавшая собака, — непроходимое болото. Там обрываются следы.
Охотник вскинул ружье на плечо и пошел вперед, огибая чащу.
Он твердо решил немедленно разгадать тайну исчезновения Одинца.
Глава IV РОГДАЙ
Горелое место густо поросло дикой травой и лиственным молодняком. Было уже седьмое сентября, и зелень по-осеннему никла к земле.[14]
Ноги охотника путались в цепких травах, но он шел напрямик через гарь — прямо на голос тявкающей всё на одном месте собаки.
Несмотря на пышную растительность, гарь казалась безжизненной, птиц совсем не было слышно. Из высокой травы мертвыми головешками торчали черные обгорелые пни.
Один из них — прямо впереди — привлек внимание охотника своей странной формой. Его закрывала листва низеньких березок и мешала разглядеть.
«Что за чертовщина! — досадливо подумал охотник. — Мне положительно начинает казаться, что у него — глаз и он глядит на меня. В этой глуши скоро черти начнут мерещиться!»
Черная головешка, глядящая маленьким живым глазом, вызывала жуткое чувство.
«Подойду и стукну его прикладом, чтоб рассыпался», — думал охотник, шагая прямо к пню.
Но вдруг черный пень исчез. Охотник вздрогнул и остановился.
Ему пришло в голову снять с плеча винтовку и приготовиться стрелять. Но сейчас же стало стыдно своей суеверной трусости.
Он решительно сделал шаг вперед к тому месту, где только что был пень, а теперь не видно было ничего, кроме березок и травы.
Он не успел еще опустить ногу на землю, как черный пень появился опять. Он с треском и грохотом взорвался из травы и стремительно помчался прочь, забирая всё выше над гарью.
Охотник, растерявшись, слишком поздно сорвал ружье и выпалил в воздух, не успев даже донести приклада до плеча.
— Дурак набитый! — громко выругал он себя, едва устояв на ногах от сильной отдачи в грудь. — Глухаря испугался! На десять шагов подпустил, — тут бы его и пулей можно, сидячего!
Он выбросил пустую гильзу из ружья, вложил новую и снова двинулся на лай.
Собака тявкала теперь близко — за перелеском, — но охотник думал о своем.
«И что за место такое дикое! Подумать только, что я в каких-то семидесяти верстах от города с его каменными домами, трамваями, автомобилями… Точно в сибирскую тайгу попал. Лоси и этот громадный глухарина… Как я его всё-таки за пень принял? «Чисто, что оборотень», — вдруг вспомнились слова Ларивона. — Так вот он, колдунский-то мошник! Действительно, ловкая птичка! С лосем покончу, надо будет и ее добить: тоже ведь, пожалуй, больше таких громадин не увидишь».
Охотник пересек уже перелесок и вышел к болоту. Собака сидела у самых кочек.
Он подошел к ней и стал внимательно разглядывать землю.
Следы лося вели прямо в воду. И на ближней кочке был ясный отпечаток круглого вырезанного спереди копыта.
«Ага, голубчик! — весело подумал охотник. — Не так уж ты хитер, как думают. Просто по кочкам прыгать мастер. Это, конечно, легче, чем исчезать под землю с такой тушей!»
И, не раздумывая долго, он прыгнул на ближнюю кочку.
След копыта был и на следующей кочке. Охотник перебрался на нее.
Но высокая кочка закачалась под ним, накренилась — и стала погружаться в воду. Охотник еле успел перескочить назад на твердую землю.
«Странно! — подумал он, глядя на грязные пузыри, выскакивающие на ржавой воде. — Ясно же, что он ступал по кочкам! Вот и остров недалеко».
Болото шло широким полукругом. С середины его поднимался остров с высоким темным лесом.
«Отлично! — сообразил вдруг охотник. — Значит, надо сначала послать пса. Он-то уж пройдет получше лося».
— Рогдай, сюда!
Пес поднялся и подошел к хозяину.
Это был старый, рыжий, с черным чепраком, гончак, с широкой грудью и крепкими ногами. Он внимательно глядел в глаза хозяину, не позволяя себе никакой фамильярности вроде виляния хвостом или собачьей улыбки.
— Вперед! — приказал хозяин, показывая на кочки.
Пес опустил голову и не тронулся с места, точно и не слышал приказания.
— Трусишь, бестия! — разозлился охотник. — Нет, врешь, пойдешь у меня.
Он поднял валявшийся на земле сук и замахнулся им.
— Вперед, ну!
Пес поджал хвост, нерешительно помялся на месте — и всё-таки прыгнул на первую кочку.
— Иди, иди! — приказывал охотник, подталкивая его сзади суком. — Ну?!.
Пес прыгнул на вторую кочку, потом на третью и остановился, беспомощно озираясь на хозяина. Видно было, как кочка под ним медленно погружается в воду.
Но охотник был неумолим. Он принялся швырять в пса сучьями.
Тогда Рогдай, протяжно и жалобно, как над покойником, завыл.
— Что за черт! — ругнулся охотник. — Быть этого не может! В собаке и двух пудов нет, а в Одинце тридцать.
И вдруг, остервенев, гаркнул:
— Вперед, Рогдай!
Грозный окрик хозяина подействовал. Рогдай прыгнул.
Четвертая кочка разом пошла под ним в воду. Рогдай успел только повернуться мордой к хозяину.
— Сюда, сюда! — крикнул охотник, поняв, что верный пес в беде.
Но где там! Ноги уже завязли в топкой тине. Напрасно сильное животное билось, стараясь вытянуть их и добраться до ближней кочки. Рогдай погружался.
Охотник бросил к самой морде собаки большой сук, в расчете, что она сумеет на него опереться.
Рогдай схватил сук зубами и глядел на хозяина. В глазах у него была такая мольба, что охотник не выдержал — и прыгнул к нему.
Но расхлябанная уже кочка сразу пошла под воду. Пришлось вернуться.
Охотник стоял опять на твердой земле и с отчаянием смотрел в глаза погибающему другу.
Рогдай молчал. Он только пристально уставился влажными, всё понимающими глазами в лицо хозяину.
Охотник схватил ружье и, стараясь не встретиться взглядом с глазами Рогдая, раз за разом выпустил три пули в то место, где должно было находиться под водой тело собаки.
Когда через минуту он решился взглянуть на болото, — глаз Рогдая над ним уже не было.
Только медленно поднималась из ржавой воды окровавленная кочка.
Глава V ТАМ, КУДА НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ ЛЮДИ
В тайное убежище Одинца еще никогда не заглядывали ни люди, ни собаки. Он знал это и был спокоен.
Одинец стоял над глубоко вросшим в землю камнем и равнодушно слушал, как заливается напавшая на его след собака.
Круглый приземистый камень под ним напоминал широкий пень и весь, как пень, оброс ржаво-желтыми лишаями. За камнем, под густыми ветвями столетней ели, трава и мох были примяты, обнажили черные проплешины земли. Тут, в небольшом углублении, и была лежка старого лося.
Одинец был дома.
Солнце стояло над вершиной ели, возвещая полдень — час дневной дремы зверей. Но лось не ложился: он ждал друга.
Как удивились бы окрестные крестьяне, узнав, что у Одинца есть друг!
Угрюмый и необщительный характер зверя был хорошо известен всем. Ни одного из своих родичей Одинец не подпускал близко даже к местам своей кормежки.
Но вот он стоит и в нетерпении бьет землю копытом, как лошадь, — всякий, взглянув на него, поймет, что он соскучился по ком-то. Он то и дело поднимает горбоносую, длинную, как у лошади, морду и, храпя, поглядывает вверх, точно друг его должен спуститься к нему с неба.
Собачий лай давно уже раздается близко, но всё на одном месте, — не приближаясь больше и не отдаляясь.
Вдруг издали донесся сухой стук винтовочного выстрела.
Быстрая судорога пробежала по телу зверя.
Он перестал бить копытом землю. Его уши повернулись в сторону звука. Но тело осталось неподвижным.
Через минуту легкое дрожание воздуха и чуть уловимый свист сказали ему, что друг близко. И почти сейчас же два — три гулких хлопка крыльями — и на толстый сук ели брякнулся большой черный глухарь.
Он вытянул шею и взглянул одним глазом на лося внизу, словно желая убедиться, что друг его цел и невредим. Потом сделал по суку четыре шага от ствола, четыре назад к стволу — и замер, плотно подобрав тупые крылья.
Внизу под ним с фырканьем и сопеньем примащивался на жесткой лежке Одинец.
Теперь оба могли спокойно вздремнуть, пока голод их не разбудит и не погонит на жировку.
Собака совсем перестала тявкать.
…Одинец уже дремал, когда снова раз за разом отчетливо простукали три винтовочных выстрела.
Лось открыл глаза, прислушался. Глухарь у него над головой не подавал признаков жизни.
Больше ничто не тревожило друзей. Прошло еще немного времени, и лося снова охватила дремота.
Одинец опустил веки. По всему его телу под кожей прошла длинная, медленная судорога. Зверь спал.
Через минуту он шумно вздохнул — и вдруг порывисто задергал, забрыкал ногами, — совсем как теленок, выскочивший на веселый луг.
Чутко спал на своем суку глухарь.
Эти два бородатых старика — зверь и птица — как нельзя лучше подходили друг к другу, — оба осколки древних-древних родов животных, существовавших еще в то отдаленное время, когда по нашей земле бродили мамонты.
Старому лосю снился сон.
Кто знает, какие сны снятся зверям? Быть может, они видят во сне веселые дни своего детства?
…Лосиха-мать вывела своих телят на лесную поляну. Тут было где размять молодые ноги.
Оба лосенка поскакали по ровной весенней траве, дали круг, встретились, разминулись и пошли кружить по зеленой поляне, каждый со своими выкрутасами.
Когда это им надоело, они принялись играть в перевертыши.
Игра состояла в том, чтобы ловко подскочить к противнику сбоку, сунуть ему под пузо морду и, мотнув головой снизу вверх, неожиданно опрокинуть на землю.
Доставалось, конечно, больше младшему. Он был почти на сутки моложе брата, а это большая разница в том возрасте, когда вам всего неделя от роду.
Старший то и дело кувыркал его на землю, и малыш, барахтаясь в траве, смешно дрыгал в воздухе тонкими, как сучочки, ногами. Не успевал он встать, как опять уже кубарем летел в траву.
Лосята готовы были часами без передышки играть в перевертыши. Лосиха-мать спокойно глядит на их забавы.
Она нежно любила своих сыновей. Она совсем не замечала, какие оба они смешные — тупоморденькие телята-губошлепы с большими головами, точно по ошибке приставленными к куцым тельцам на высочайших тонких ногах. Тельца их были покрыты мягким рыжеватым пухом.
Лосиха подошла к младшему и шершавым ласковым языком стала нежно облизывать его с головы до пят.
Но малыш был против таких нежностей. Он шмыгнул у матери между ног и принялся жадно сосать, тыкаясь губастой мордочкой в ее теплый живот.
Старший сейчас же присоединился к нему.
Вдруг лосиха громко фыркнула, рванулась и быстро пошла в лес. Коротким, тревожным мычанием она звала за собой детей.
Лосята кинулись за ней. Вбежав в лес, старший ловко перескочил через толстый ствол поваленного бурей дерева и очутился рядом с матерью. Младший прыгнул вслед за ним, но копытцами передних ног он задел за дерево, больно ударился об него — и скатился на землю.
Лосиха сейчас же вернулась к нему.
Сзади страшно щелкнули волчьи зубы, но волк не решался напасть на теленка при матери.
Серый враг хорошо знал, как опасно приближаться к старой лосихе: у нее хоть нет рогов, зато копыта острей, чем у лося-быка.
Лосята росли быстро. Через месяц они совсем окрепли и научились уже глодать таловые и осиновые веточки, хоть и продолжали еще сосать мать.
В конце лета мать привела их в стадо.
Они живо перезнакомились с двумя другими маленькими лосятами и валюном — перегодовалым молодым лосем.
Младший лосенок отличался особенно веселым и бойким нравом. Он сейчас же кувырнул одного за другим обоих чужих лосят и непременно стал бы у них предводителем, если б не его старший брат. Пока лосята ходили с лосихами, его старший брат был у них коноводом во всех играх, потому что он был самый сильный.
Осенью обе лосихи куда-то вдруг исчезли. Водить и стеречь маленьких лосят остался старший валюн.
Он не умел так хорошо беречь малышей, и однажды большая серая рысь, неожиданно спрыгнув с дерева, переломала хребет одному из чужих лосят.
Лосихи вернулись через месяц, а скоро к ним присоединился и старый лось-бык.
И тогда опять всё пошло на лад. Лось был строгий, слушаться его надо было сразу, с первого знака. Зато при нем никто не смел тронуть стада. И он не мешал играм веселых лосят.
Стадо переходило с места на место, всё дальше подвигаясь на восход. Только когда выпадали глубокие снега и ходить становилось трудно, оно неделями простаивало в высоких осинниках.
Но и здесь пищи хватало: лоси грызли вкусную горьковатую кору деревьев и обламывали ветви.
За спиной у старших младшему лосенку жилось беспечно. Только и было дела у него, что есть, да расти, да играть, да слушаться лося-быка.
Через год его уже было не узнать. Он стал крупным зверем. Морда его сильно удлинилась, вся фигура стала стройной. Из опупков-шишечек на лбу выросли острые, загнутые вперед и кверху рожки-спицы.
Следующей осенью он стал сам предводителем маленького стада прибылых лосят, на то время, пока пропадали куда-то лосихи. Он ведь был уже валюном.
Детство кончилось.
Захлопал крыльями глухарь, срываясь с ветки.
Одинец проснулся.
Солнце уже клонилось к вечеру. В животе урчало: пора на жировку.
Одинец поднялся с лежки.
Глава VI ОДИН В ЛЕСУ
— Выкинь ты из головы Одинца убить, — сказал Ларивон, выслушав рассказ о злоключениях охотника. — Упреждал ведь тебя, каков зверь. Не то, что псам, — и человеку не спустит. Есть тут у нас еще лосёнок — один ходит. Не та стать, слов нет, а всё ж таки отростков о трех рога будут. Я тебе и место покажу.
— Ты отговаривать меня брось, дядя! — сердито краснея, сказал охотник. — Скажи лучше, как мне его теперь без собак найти?
— Наше дело — сторона, — равнодушно согласился крестьянин. — Только ты трудное задумал. Не сдогадаюсь, что тебе и присоветовать теперь.
Ларивон задумался, попыхивая короткой носогрейкой.
— Разве вот чего еще попытать? Удача будет, — вплотную зверь подойдет. Караулить только терпенье надо.
— Терпенья хватит у меня, не беспокойся, — быстро отозвался охотник. — Что надумал?
— Место есть одно в помещичьем лесу, — летом ребята в шалаше там жили. Одинца они солью к себе приманивали. Он слышь, по сю пору на то место ходит — привычен стал.
— А что же они его не убили? — удивился охотник.
— Уж такие были ребята. Даром, что с голоду, — всякую даже насекомую уважали. Птицу, зверя тоже с разбором стреляли, которых и вовсе не трогали.
Охотник почувствовал скрытый упрек себе в словах крестьянина. Это задело его.
— Просто, значит, струсили, — презрительно сказал он, передернув плечами.
Об охоте на искусственных солончаках охотнику приходилось слышать и раньше. В Сибири так бьют маралов. Падкие до соли, олени выгрызают в земле ямы, и туда снова и снова охотники наливают густой раствор поваренной соли.
«Великолепный случай подкараулить Одинца, — думал охотник. — Главное, и собаки не понадобятся».
В тот же день Ларивон привел его в очень живописный уголок леса. Громадные вековые ели, гладкие осины подошли здесь вплотную к невысокому, но крутому обрыву. Внизу под ним бесшумно бежала гибкая лесная речка. За ней широко простерлась большая казенная вырубка с одинокими, на равном расстоянии друг от друга, стройными соснами.
Под елями у пня была узкая ямка, густо истоптанная кругом круглыми лосиными и острыми косульими следами. Охотник высыпал в нее два фунта поваренной соли.
Ларивон рассказал, что Одинец приходит обычно с казенной вырубки, и показал, где сделать шалашку, чтобы зверь не учуял спрятавшегося человека.
Теперь надо было только подождать несколько дней, чтобы Одинец пришел «отведать гостинца», как выразился крестьянин. Почувствовав доверие к шалашке, лось перестанет к ней подозрительно приглядываться и принюхиваться.
Придя к ямке вечером на четвертый день, охотник легко убедился, что зверь пошел на приманку: в траве осталась свежая куча лосиных, напоминающих овечий помет, только гораздо крупней, продолговатых «орешков».
Охотник засел в шалашку из густых еловых лап, прислонился спиной к шершавому стволу ели — и приготовился терпеливо ждать.
Вечер выдался погожий. Лес по-осеннему молчал, только теплый ветерок шелестел листвой.
Скоро и он улегся. Стало совсем тихо в лесу. Охотник сидел, напряженно вслушиваясь в тишину.
Он ждал треска сучьев, который должен предупредить его, что зверь подходит. Готовая к выстрелу винтовка лежала у него на коленях.
Понемногу томительное чувство одиночества стало его охватывать. Он в первый раз собирался ночевать в лесу один и никогда еще не испытывал той легкой жути, той странной неуверенности в себе, которая в сумерках охватывает человека в незнакомом месте. Смутное предчувствие неожиданных встреч настораживало зрение и слух.
«Хоть бы собака рядом, — тоскливо думал он. — До чего тут всё какое-то… чужое».
Он не доверял лесу. В каждом дереве ему начинало мерещиться что-то подозрительное, что-то враждебно насторожившееся. Всюду чудились незаметно следящие за ним' глаза. Он не верил тишине: в ней что-то притаилось, ждало.
Вдруг сильный шум листвы, треск и тяжелый удар по суку! Охотник вздрогнул так, что винтовка сама подскочила с колен и попала ему в руки.
Стрелять, — но куда, в кого? Снова было тихо, так тихо, что слышно было мелодичное журчание речушки под обрывом. Остановившееся было сердце вдруг громко затукало в груди охотника.
Теперь он знал, что кто-то есть рядом.
«Как зашумит опять, — решил он, — сразу вскину ружье и буду стрелять».
Тянулись минуты, но шум не повторялся.
«Знать бы только, где он притаился», — думал охотник, не пробуя даже догадаться, кто этот «он». И всё пристальней всматривался в темнеющие деревья.
Но вот, вместо ожидаемого треска и шума, раздался четкий звук. Звук этот напоминал щелк крупных дождевых капель, падающих с высоких веток. Он доносился откуда-то сверху, с деревьев над обрывом.
На розовеющем небе высокими черными крестами резко выступали громадные ели. В их темной хвое ничего нельзя было разобрать. Квелая листва осин просвечивала тысячью розовых скважинок.
Чуть заметное движение на ветке одной из осин остановило взгляд охотника. Он всмотрелся, — и жуткий холодок побежал у него по всему телу.
Кто-то черный сидел на ветке осины, высоко над землей. Листва мешала разглядеть фигуру. Головы совсем не было видно. Но, чем дальше охотник смотрел, тем ясней различал черное туловище, черную свесившуюся с толстой ветви ногу.
Черная фигура не шевелилась. Боясь дохнуть, без движения сидел и охотник.
Вдруг он увидал: плавным движением поднялась в листве гибкая черная рука — легкая листва вздрогнула и затрепетала. Раздался короткий щелк обрываемого с черенком листа.
У охотника застучали зубы. Судорожные мысли проносились в голове:
«Стрелять?.. Человек!.. Как спускаться начнет, тогда!..»
Опять протянулась рука — и послышался четкий щелк.
Охотник всеми силами старался взять себя в руки.
«Чушь какая, что я! Чушь какая! Нервы! Чепуха же, какой там человек на дереве!.. Нельзя же так сразу стрелять!»
Минуты ползли. Небо темнело, темнела и осина, черная фигура на ней сливалась со стволом, с ветвями. Звук обрываемых листьев, через длинные, ровные промежутки, всё громче отдавался в ушах охотника.
«Будет совсем темно, он незаметно спустится, подкрадется и…»
Стало так страшно, что охотник невольно оглянулся.
Увидел широкий ствол ели, позади него — темную глубину леса, где с трудом различишь отдельные стволы деревьев.
«Оттуда и тяпнет!»
Ни крикнуть, ни выстрелить охотник не решался.
А ночь, темная, осенняя ночь, уже настала. Луны не было, не было и звезд. Черной фигуры на осине тоже больше не было видно. Только равномерный щелк черенков показывал, что таинственная рука обрывает листья всё на том же месте.
Охотник плотней прижался спиной к дереву и приготовился ко всему.
Глава VII УЖАС
В густой темноте ночи Одинец двигался так же уверенно, как при ярком свете солнца. Осенняя ночь ему не казалась черной, как человеку. Он различал деревья, кусты, даже траву под ногами.
Он шел на жировку. Не раздумывая, уверенно поворачивал там, где надо было повернуть, брал напрямик там, где хотел сократить путь. Слышал белку, спросонья закопошившуюся в ветвях у него над головой. Чуял лисий след на земле, видел белый хвостик шарахнувшегося от него зайчонка. Знал всё, что происходит кругом, — и не боялся леса.
Лес этот был им давно исхожен по всем направлениям. Старый зверь знал, что на север пойдешь — выйдешь к морю, пойдешь на полдень, на восход, на закат — всё равно уткнешься в поля и деревни. Только исключительный случай мог бы заставить его покинуть лес и попытаться вырваться через открытые поля из этого кольца. Только слепой ужас и мог заставить его пройти через них в это кольцо. Случай этот был пять лет тому назад, зимой.
Из веселого лосенка давно вырос тяжелый, сильный зверь. Голову его украшали широкие рога, о семи отростках каждый. Но зимой в те времена он всегда присоединялся к стаду: в обществе других лосей кочевать было безопасней.
В тот год предводителем стада был громадный старый бык. Он ввел у себя образцовую дисциплину.
Лоси делали большие переходы. В походном строю старый бык шел всегда последним. Никто не мог даже обернуться безнаказанно. Лучше было идти до полного изнеможения и пасть, выбившись из последних сил, чем повернуть и встретить тяжелый удар рогов.
Весь отряд состоял исключительно из самцов. Это было большое переселение. Лосихи с лосятами двигались сзади небольшими стадами.
Когда выпали глубокие снега и ударили сильные морозы, лосям пришлось на время остановиться. Даже крепкий наст не выдерживал тяжести громадных животных. Их ноги проваливались, и твердый, как стекло, ледок точно бритвой обсекал на них прямую ломкую шерсть.
Старый бык остановил свой отряд в редколесье, на слуху, чтобы издали увидеть, если враги сделают нападение.
Еды тут было достаточно: можно было обламывать веточки, острыми, как стамески, зубами срезать осиновую кору, долго не сходя с места. Больше недели прошло спокойно. Ни один из лосей не заметил ничего подозрительного.
А потом неожиданно, как первый гром, стряслось такое, что привело в ужас не знавших страха зверей.
Занялось морозное безветренное утро. Ничего не подозревавшие лоси мирно жевали кору, когда внезапно вдали раздался короткий гром выстрела, неистовый шум и крики людей.
Отряд лосей быстро построился в боевом порядке — старый бык впереди. Одинец — тогда молодой зверь с рогами о семи отростках — за ним.
Люди наступали широким полукругом. Старый бык сразу учел, где еще можно прорваться, и повел стадо широкой рысью.
Шум и крики стали затихать: лоси подвигались вперед значительно быстрей людей, хотя и проваливались в снег с каждым шагом.
Вдруг спереди блеснул огонь, грохнул выстрел.
Старый бык со всего маху, как подкошенный, ткнулся в снег. Стадо мгновенно разбилось, все бросились в разные стороны.
Обезумев от страха, Одинец помчался между деревьями. Жесткий наст в кровь рассек ему пазданки,[15] но он не слышал боли.
Он выскочил прямо на цепь кричан, но люди подняли такой страшный шум, что зверь без памяти кинулся назад — на стрелков.
Вокруг него заполыхали быстрые огни, загрохали выстрелы. Он упал, вскочил, помчался напрямик, перепрыгивая пни и канавы, ничего не разбирая впереди.
Он не остановился даже тогда, когда выбежал в поля, пронесся мимо двух деревень. За ним кинулись собаки — и не могли его догнать.
Долго он бежал полями, пока, наконец, впереди не показался лес. Одинец наддал ходу и скоро очутился в чаще, забился в нее поглубже и повалился в снег, совершенно обессиленный.
С тех пор прошло пять лет. Одинец исходил новые места вдоль и поперек, но ни разу не выходил в поля.
В новых местах он часто натыкался на людей. Но люди его не трогали, и он приучился не бегать от них сломя голову.
А в прошлом году он нашел на земле близ одной опушки соль. Около этого места он почти всегда встречал людей. Они не делали резких движений, не нападали на него и не бежали. В конце концов он так привык к ним, что почти не обращал на них внимания.
На днях Одинец зашел проведать давно опустевшую солевую яму.
Там снова оказалась соль.
Теперь он шел полакомиться редким угощением.
Ночь убывала.
Глава VIII ГЛАЗА
Что-то шумно завозилось в листве.
Охотник вздрогнул.
«Это тот… на осине!» — со страхом подумал он.
И опять всё было тихо — ни шелеста, ни шороха.
«А ведь если сейчас станет подходить Одинец, — пришло ему в голову, — помру со страху!»
В первый раз он вспомнил о лосе с тех пор, как начало темнеть и тот, черный, зашумел на осине.
А ночи прошло уже много.
Откуда-то издалека сквозь сырую темень донесся чуть слышный собачий лай.
Знакомый звук показался охотнику чудесной музыкой. Он мгновенно напомнил деревню, огоньки в избах.
Собака, верно, забрехала на запоздалого прохожего. Охотник сейчас же представил себя в деревне, вот этим прохожим, всполошившим дворового пса.
Эти мысли гнали страх. Если попробовать закрыть глаза — там будь что будет! — и заставить себя думать, что сидишь в избе или, еще лучше, в своей комнате, в городе? Может, нервы и успокоятся?
Всё равно ведь ничего не разглядишь в темноте. А если шум, — можно моментально вскочить.
Охотник плотно закрыл веки.
Так было лучше. Он заставил себя думать, что сидит у себя в комнате на стуле с высокой спинкой. Если открыть глаза, увидишь большой письменный стол с книгами, темные стены, кровать. Над кроватью — крест-накрест — два ружья: винтовка и дробовик.
В другой стене — высокое окно. Занавесок на нем нет. Можно подойти к нему и заглянуть, — увидишь глубокий квадратный колодец каменного двора. В одном из шести этажей, наверно, горит огонь, хоть и поздно, — совсем не слышно звонков трамвая.
Как глупо было бояться каких-то несуществующих опасностей! Все эти таинственные ужасы только в книгах.
Но это не трусость вовсе, это всё дурацкие нервы! Теперь он взял себя в руки и может сидеть с открытыми глазами. Вот, пожалуйста!
Он поднял веки.
Ужас, как молнией, пронизал его с ног до головы: два глаза пристально глядели на него из черной пустоты.
Большие, круглые, горящие жутким зелено-желтым пламенем глаза без всякого признака лица или головы. Они зорко, неподвижно уставились в самую душу.
Он не мог ни вскрикнуть, ни вздохнуть. Язык, грудь — всё тело отнялось, исчезло. Без мысли он знал, что это — смерть.
Сколько времени это длилось? Должно быть, недолго: долго не выдержало бы сердце.
Глаза исчезли.
Онемелое лицо охотника ощутило внезапно легчайшее движение воздуха. Сознание медленно стало возвращаться к нему.
Подыскать объяснение тому, что видел, он не мог. Таких глаз не было ни у одного из ему известных зверей.
Вслед за тем странное равнодушие охватило его. Страшнее этого уже ничего не могло с ним случиться, он чувствовал себя совершенно беспомощным, ему было всё равно, что будет с ним дальше.
Он долго сидел, ни о чем не думая, потеряв всякое представление о времени.
Черная темнота серела, раздвигалась. Черные стволы деревьев понемногу вступали в нее.
Охотнику казалось, что он бесшумно скользит в лодке по гладкому морю и перед ним из тумана встает долгожданный берег. На берегу — высокий лес. Еще немного — и туман разлетится, пловец ступит ногами на крепкий берег.
Страх совсем отпустил его. Он вдруг почувствовал, что всю ночь просидел без движения в одной позе, крепко сжимая в руках винтовку. Вспомнил и то, зачем пришел сюда.
Лось мог еще прийти. Надо было соблюдать осторожность. Не выходя из шалашки, охотник размялся, растер пальцами жестоко зудевшие икры и уселся поудобней: решил ждать, пока совсем рассветет.
Он внимательно оглядел осину, где вчера видел таинственную черную фигуру.
Каждый листок уже можно было разглядеть на дереве. В ветвях не было никого.
«Со страху привиделось, — решил охотник. — Ерунда какая-нибудь».
Утро вставало ясное, бодрый холодок пощипывал пальцы и освежал лицо. Телу в теплой меховой куртке было тепло, по нему разливалась сладкая истома.
«А глаза?» — подумал охотник.
Он постарался сесть в точности так же, как сидел ночью, и взглянул в широкую скважину между двумя ветвями шалаша.
Прямо против его глаз торчал сук соседнего дерева. На суку — что-то темное, что он сначала принял за нарост на дереве.
«Как раз ведь отсюда глядели», — подумал он, разглядывая нарост.
Странная штука…
Неподвижный нарост что-то напоминал ему своей формой. Охотник всё смотрел на него, пока вдруг его не осенило: «Да это же сова сидит!»
Он вспомнил ночь и с удивлением подумал: «Неужели это я так струсил? Ведь совершенно такой ужас должен испытывать мышонок, когда из темноты глядит на него смерть глазами этой чертовой бабушки».
Солнце уже взошло. Охотник понял, что дальше ждать Одинца не имеет смысла.
Он вышел из шалашки, блаженно потянулся, зевнул, подумал: «Эх, и дрыхнуть буду сегодня!»
Перекинул погон винтовки на плечо и пошел.
Большая серая сова на суку даже не шевельнулась.
— Спи, чертова перечница! Больше уж — дудки! — не напугаешь меня глазищами!
Он двинулся к обрыву. Гремя крыльями, сорвался с осины черный глухарь.
Охотник только свистнул ему вслед.
— Ишь, леший! А ведь здорово твоя шея похожа на тонкую руку! Мастер морочить: чисто что оборотень!
Охотнику было удивительно весело. Так просто один за другим объяснялись его глупые ночные страхи.
Он прошел уже шагов полсотни от шалашки, когда услышал у себя за спиной лошадиный топот.
Топот сопровождало странное пощелкиванье, точно при каждом шаге нога ударялась об ногу или спадали плохо прикрепленные подковы; странный костяной звук раздавался уже близко.
«Как могла попасть сюда лошадь?» — подумал охотник, на всякий случай стаскивая с плеча ружье.
Между деревьями мелькнула серая шерсть зверя.
Прямо на охотника бежал лось. Трясущимися от волнения руками охотник вскинул винтовку и торопливо выстрелил два раза.
Что произошло потом, он позже с трудом мог восстановить в памяти.
Очевидно, одна из пуль скользнула по телу зверя, содрав шерсть. Рана обожгла Одинца внезапной болью — и он в ярости кинулся на человека.
Как бросил винтовку, как, подскочив, ухватился за сук и повис на нем, — ничего этого охотник не мог вспомнить.
Остался в памяти только страшный удар в левую ногу, высоко подкинувший тело в воздух, потом — неудобная поза: животом на суку, лицом книзу.
И в этот миг глаза лося встретились с глазами человека.
Мутный взгляд разъяренного зверя был так ужасен, что охотник, не успев почувствовать боль в разбитой ноге, с обезьяньей ловкостью вскарабкался вверх по сучьям.
Только с большой высоты он решился взглянуть вниз.
Зверь, яростно фыркая, бил ногою землю. Охотник увидел: каменное копыто с неимоверной силой опустилось на лежащее в траве ружье, — крепкое ореховое ложе треснуло и переломилось, как щепка. Стальной ствол, попав концом на корень, согнулся и отскочил в куст.
Охотник охватил руками дерево. Его так трясло, что он боялся свалиться с сука, на котором сидел. Из разорванного рогом сапога сочилась кровь. В ноге поднималась нестерпимая боль.
Глава IX КОГДА ГРЕМЯТ БОЕВЫЕ РОГА
Осень быстро вступала в свои права. Лист па деревьях побурел, стал дряблым. Ветер срывал его с веток и устилал землю мягким сырым ковром.
Одинец всё чаще теперь покидал свое тайное убежище и без всякой цели бродил по лесу. Он то и дело спускался к речке, пил воду — и всё не мог напиться.
Что-то странное делалось с ним. Какая-то жуткая болезнь быстро одолевала его.
С каждым днем он ел меньше и меньше, с каждым днем спадал с тела. Только и без того толстая шея его прибывала в ширину. Тугие мышцы на ней вздувались, прямой волос густой гривы вставал торчком.
Тоска гнала зверя с места на место. Он беспокойно рыскал по лесу, забыв все правила мудрой осторожности. Переходил с места на место, заложив уши, опустив храп к земле, точно разнюхивая чей-то забытый след. Но он плохо стал чуять, плохо видел, плохо слышал: сухой огонь палил его изнутри.
Не раз в эти дни крестьянские собаки замечали его близко от деревень. Но, напав на душный след обезумевшего зверя, они трусливо поджимали хвосты и поспешно убирались из лесу.
Раз он лицом к лицу встретился с медведем. Бесстрашный «хозяин леса» уже поднялся было на дыбы, чтобы ударом тяжелой лапы свалить неосторожного лося.
Но, заметив темное пламя в глазах лесного великана, его вздутую шею и низко склоненные рога, могучий хищник счел благоразумным отложить бой до следующей встречи. Ворча, он попятился в чащу — и дал Одинцу дорогу.
Не разбирая дороги, забыв часы жировки и отдыха, Одинец беспокойно скитался по лесу. И когда в небе зажигалась заря, он совсем терял над собой власть. Одинец вскидывал голову, украшенную широкими, тяжелыми рогами. И тогда в лесу гремел его короткий, глухой и отрывистый, страшный рев.
Голос зверя напоминал тупой и жуткий звук удара обухом топора по стволу вековой сосны, когда железо с размаху бьет в живое, крепкое тело дерева. В коротком реве чудилась смертельная кому-то угроза, слышался вызов на битву.
Но когда из темной чащи доносился не ответный рев противника, а нежный голос подруги, — мгновенно изменялся и голос угрюмого Одинца. И тот же короткий рев звучал жалобно-призывно.
Охотник в эти дни не выходил из избы. Больная нога приковала его к кровати.
Заботливая хозяйка — жена Ларивона — по многу раз в день меняла ему горячие припарки, прикладывала к ноге какие-то травы, и опухоль, наконец, стала быстро спадать. Боль проходила, и хорошее настроение понемногу возвращалось к охотнику. Все его неудачи стали ему теперь казаться смешными.
В эти дни он отослал в город письмо такого содержания:
«Друзья! Лесной великан еще бродит и наводит ужас на местное население. Внезапные его исчезновения до сих пор остаются тайной.
Первые три раза я видел его только издали. В третий раз он убил двух псов моего хозяина, раньше чем я мог послать в него пулю. Третьего пса — моего верного Рогдая — я пристрелил своими руками: он завяз в болоте, честно выполнив свой долг.
В четвертый, и пока последний, раз я встретил лесного великана лицом к лицу. Я караулил его целую ночь и в эту ночь дважды видел страшные «глаза» леса.
Зверь появился неожиданно. Я успел выстрелить два раза, но только легко ранил его.
Он отомстил мне тем, что в щепки искрошил приклад моей винтовки, смял ее стальной ствол и разбил мне левую ногу.
Вы там в городе никогда не представите себе дикую мощь его гнева.
Теперь нога моя заживает.
У меня есть еще запасное ружье. На днях снова отправляюсь в лес. Я достал рог — боевой рог, такой, каким средневековые рыцари вызывали на битву противников под неприступными стенами их гордых замков.
Великан примет, конечно, мой вызов. Будет бои. Один из нас должен пасть в этом бою.
Во всяком случае, я не вернусь к вам без головы Одинца. А насморк у меня прошел».
В письме не было подробностей последней встречи охотника с Одинцом. Ничего не было сказано про то, как охотник попал на дерево, как терпеливо просидел на нем три часа, пока зверю не заблагорассудилось снять осаду и уйти в лес; не было и про то, как охотник слез с дерева и, корчась от боли, проклиная всё на свете, дотащился до деревни и дал себе слово оставить сердитого зверя в покое.
Каждый вечер теперь Одинец приходил на ровную площадку среди глухого леса и отсюда бросал свой громкий боевой вызов невидимым противникам.
Площадка эта была ему памятна: три года назад на ней он принял роковой бой с самым сильным из своих соперников. В то время он вошел в полную мощь. В новых местах было немного лосей и среди них не было равных ему по боевой силе и опытности, кроме одного.
Это был его родной брат, тот самый, что в раннем детстве всегда верховодил над ним. Брат его тоже случайно попал в эти места.
В его толстой шее сидела еще свинцовая пуля, оставшаяся ему на память о том дне, когда переселенческий отряд старого быка был окружен людьми.
Разница в возрасте между братьями — меньше суток — теперь не имела никакого значения: обоим им было уже по многу лет. Но старший брат первый стал предводителем маленького стада и сумел удержать за собой этот почетный пост.
Младший не мог выносить дольше, чтобы над ним командовали, и не захотел оставаться в стаде. Он ушел из стада уже зимой. В это время грозды на лбу — те места, откуда растут рога, — сильно зудели у него. Он всё терся лбом о твердые стволы деревьев, ударял по ним рогами. И вот — сначала один рог, а через несколько дней и другой — отвалились.
Отваливались они у него каждый год об эту пору, и он знал, что скоро на месте их быстро вырастут другие — еще больше и тяжелей. Он только не учел, что в это время, пока он ходил комолый, как лосиха, ему нужно беречься. И раз он слишком близко подошел к деревне, так близко, что столкнулся в лесу с собакой.
Большой пес, увидев, что у лося нет его грозного оружия — рогов, — сразу перешел в нападение и с лаем кинулся ему на грудь.
Но неопытный пес не знал, с кем имеет дело. Одинец не испугался. Он ударил пса головой, свалил его на землю и так отделал копытами, что пес больше уже не встал.
Однако на выручку ему бежали из деревни десяток других собак. Лось бросился бежать от них.
Началась бешеная погоня. Зверь, стремительно огибая деревья, мчался по вырубкам, со всего ходу врезался в густой чапыжник.
Собаки неутомимо неслись за ним. Лось принялся кружить по лесу. Его ноги вязли в снегу, он быстро выбивался из сил.
Собаки то и дело срезали путь и целой оравой неожиданно встречали его на кругу.
Зверь видел, что ему не уйти от них. На одном из кругов он вынесся из чащи на ровную площадку и увидал перед собой лосиное стадо. Стадо стояло в боевом строю — хвостами вместе, головами вперед; старший был — его брат — впереди. Он отодвинулся и пропустил беглеца под защиту стада.
Собаки не осмелились напасть на целый отряд сильных зверей. Они отступили.
Беглец был спасен.
Долго после этого Одинец не ссорился с братом. Но пришла осень, и старые счеты припомнились.
Напрасно Одинец рыскал по лесу и звал подруг: лосихи скрылись. Хоронясь в чаще, они ждали: пусть теперь быки спорят друг с другом. Кто сильней, тот лучше сумеет защитить их и маленьких лосят от всех опасностей.
Они пойдут за самым сильным.
Одинец метался по лесу, разыскивая соперников. Он ревел, — и на его вызов вышел молодой бык.
Схватка длилась не долго: бычок не мог выдержать ударов Одинца, был ранен и ударился в бегство.
Победитель не стал его преследовать.
Наконец он услышал грозный рев брата. Старый бык звал на свою площадку — ту самую, где он спас брата от собак.
Старший брат всегда побеждал младшего.
Но разве мог Одинец потерпеть, чтобы лосихи опять пошли за братом, признав его своим защитником — сильнейшим из быков?
Одинец принял вызов брата.
Они встретились на утоптанной площадке и в слепой ярости бросились друг на друга. Стук их рогов раздался на целую версту в округе — точно скала ударилась о скалу.
Ударили и рванули назад, — но рога не расцепились. Обдавая друг друга горячим дыханием, бойцы ворочали головами, силясь высвободиться или свернуть противнику шею. Их толстые копыта ушли в землю, глаза налились кровью, могучие шеи раздулись.
Старший был тяжелее. Он крепко стоял на ногах. Но в его шее сидел кусок свинца, пущенный человеческою рукой. В одном месте он перервал толстые мускулы зверя. Это сравняло силы борцов.
Шумно и жарко дыша, громадные звери ворочались на площадке в страшном усилии — напряжением одной шеи свернуть многопудовое тело противника.
Ясная луна стояла высоко в небе, и черные тени бесшумно двигались по земле при каждом движении их тел. Дрожали на черной земле уродливые тени их словно в стальные тиски зажатых голов и сцепленных рогов.
Старший одолевал, медленно-медленно поворачивая голову противника в одну сторону — ниже и ниже — к самой земле.
Младший напрягся, жал вперед и вбок — застыл так. Он чувствовал: если дохнёт, — выдохнет из себя последний остаток силы.
Черные тени на земле перестали дрожать, будто застыли. Глухо каркнул спросонья ворон — где-то далеко. Старший лось тоже перестал дышать.
Вдруг из его горла с хрипом хлынула кровь. Голова его дрогнула и разом пошла вбок. Тяжелая туша медленно рухнула наземь, увлекая за собой Одинца.
Одинец пал на колени. В тот миг, когда голова его ударилась об землю, рога расцепились.
Почуяв кровь, он рванулся, вскочил и, фыркая, опрометью кинулся прочь от страшного места.
Месяц безумия прошел. Улеглась звериная страсть. Медведь-стервятник доел труп павшего на лесной площадке лося. Лосихи привыкли к новому быку-предводителю, спокойно встречали зиму, собрав своих лосят под его надежную защиту. Но неожиданно он ушел от них и не вернулся к стаду.
Он стал одинцом-отшельником, которому нет равного по силе, который не нуждается ни в чьей защите и сам не желает никого защищать.
Когда настанет его час, он уйдет в темную чащу, ляжет и умрет, как умирают все одряхлевшие лесные звери: в одиночестве, молча, под тихий — шепот деревьев, среди которых провел всю свою дикую жизнь.
А пока он хочет мира и покоя. Хочет спать, зная, что никто не потревожит его отдыха. Он во сне видит веселые дни своего детства и смешно, как малый лосенок, дрыгает во сне ногами.
Он мудр, покоен и миролюбив одиннадцать месяцев в году. И только когда настает месяц безумия и гремя г в лесу боевые рога, — он теряет власть над собой. Он забывает осторожность, рыщет всюду, ревет и нетерпеливо прислушивается: не отыщется ли смельчак, кто решится вступить в бой с ним, первым богатырем леса?
Глава X ИЗ-ЗА УГЛА
Ларивон рассматривал запасное ружье охотника. В его больших корявых руках изящная и легкая бескурковка казалась безделушкой.
Заглянув одним глазом в дула и зачем-то погладив шершавой ладонью гладкую сталь стволов, он передал ружье охотнику, заметив пренебрежительно:
— Бескурошное… С этих переломок только воробьев пугать!
— Погляди раньше, как бьет, — сказал охотник. Он переломил ружье и вложил в один из стволов бумажный патрон, заряженный пулей «жакан».[16]
Поставив на землю большое полено, он отсчитал от него пятьдесят шагов, стал на колено, прицелился и выстрелил. Полено упало.
— Поди погляди!
Ларивон подошел, не спеша к полену, нагнулся, поколупал дерево пальцем, встал и раздумчиво заскреб пятерней в затылке.
— Ты, дружок, — сказал он подошедшему охотнику, — мне такую пулю дай. С моей шомполовки да такой — страсть!
— Бери хоть пяток. Только ведь калибр не тот; в твоей пушке они болтаться будут.
— Это нам ништо: тряпицей обвернем.
Охотник взглянул на мишень. Пуля, ударив в полено, развернулась крестом на четыре части и раскрошила его. Из широкой дыры в крепком суковатом дереве во все стороны торчали острые щепки.
— Кость вдребезги крошит, — сказал он крестьянину. — Не из винтовки, конечно, — далеко, нельзя, — а шагов на сотню прямо хоть на слона выходи.
В тот же вечер охотник отправился в лес.
Бесшумно ступая по сырому ковру гниющих на земле листьев, он долго бродил, отыскивая подходящее место. В конце концов выбрал большой куст и стал около него.
Деревья тут росли достаточно редко, и стрелять было удобно во все стороны. Коричневая куртка охотника в сумерках совсем сольется с кустом. Ослепленный боевым пылом, зверь, наверно, примет его за высокий пень.
Ларивон предупреждал, что лось в это время года чрезвычайно опасен и, бывает, сам бросается на человека, не дожидаясь выстрела. Да охотник и сам хорошо запомнил последний урок Одинца. Поэтому он стал так, чтобы, в случае чего, успеть вскарабкаться на рядом стоящее суковатое дерево.
Тут ему припомнилась насмешливая улыбка девушки. Стало немножко стыдно.
«Не совсем это по-рыцарски! — подумал он. — Тяпнуть из-за угла — и драла!»
Но сейчас же перед ним мелькнули другие глаза — ужасные глаза разъяренного зверя, — и он поспешно встал так, чтобы до спасительных сучьев можно было достать рукой.
Проверив ружье — в обоих стволах были пули «жакан», — он переставил предохранитель со значка S (sыr — безопасно) на F (feu — огонь) и посмотрел на лес.
Лес уже темнел. Широкие тени ложились от неподвижных деревьев.
Знакомая жуть одиночества слегка сдавила охотнику горло. Он выпрямился.
— Пора!
Вынул из кармана короткий и широкий берестяной вабик[17] и дунул в него, как учил Ларивон.
Короткий рев отрывисто прогремел в вечерней тишине — и жутко отдался где-то за лесом, где должна была быть речка.
Охотник прислушался.
Ответа не было.
Задрожавший в руке вабик дробно застучал по стиснутым зубам.
Обождав несколько минут, охотник снова поднял вабик и протрубил звериный боевой клич.
И вот далеко-далеко в тишине прогремел ответный рев.
Одинец проревел боевой клич.
Он стоял на площадке, где три года тому назад убил своего брата.
За эти три года ни один соперник не осмелился при-пять его вызов. А сегодня кто-то сразу ответил ему.
Широкие ноздри Одинца раздулись от гнева и шумно выпустили пылкое дыхание. Он по голосу слышал, что ревел молодой лось.
Смерть смельчаку!
Старый зверь повторил свой вызов и в яростном нетерпении стал рвать землю копытами.
И опять прозвучал ответный рев — всё так же далеко, где-то за рекой.
Что же медлит противник? Отчего он не идет сюда?
Снова и снова Одинец повторял свой вызов с такой силой, что обросшая густым волосом серьга — нарост под нижней челюстью — тряслась, как борода. Голос его разносился по лесу на добрых два километра.
Противник отвечал, но не приближался.
Значит, он трусит подойти! Тогда Одинец сам пойдет к нему и даст ему бой на его площадке.
И, опрокинув рога на спину, старый зверь двинулся в темный лес.
Смеркалось.
Охотник в страхе смотрел, как тускнеет небо и в густой тени тают дальние деревья.
Он то и дело подавал голос. Лось отвечал, но не приближался.
Неужели самому придется подходить к зверю, скрадывать его, прячась за деревьями? В нужный момент может не случиться рядом спасительных сучьев, и тогда…
Но вот зверь пошел: рев ближе.
Охотник вздрогнул. Сердце оглушительно стучало.
Теперь еще раз протрубить — и будет: на близком расстоянии лось разберет чуть фальшивую ноту и уйдет.
Охотник бросил шапку, вытер пот со лба, поднял вабик и дунул в него.
Тишина.
Потом сзади — неожиданно близко — хруст переломленного копытом сучка. Что-то уж больно быстро!..
Охотник повернулся, как на пружинах.
Лось подходил молча. Охотник увидал его метров за сто. Быстрая тень мелькнула между деревьями, скрылась, показалась опять, опять скрылась.
…Стрелять? Нет, еще далеко!..
Зверь шел наискосок от охотника, справа.
«Левый бок!.. — пронеслось в голове. — В сердце… Пора!»
Охотник вскинул ружье, установил его стволы в промежутке между деревьями, взяв вперед по направлению бега зверя. Руки застыли.
Темная туша закрыла мушку.
Грохнул выстрел.
Одно мгновение было видно: туша стремительно сунулась в землю.
В страшном возбуждении охотник ждал, что будет, не отнимая ружья от плеча.
Низкий, протяжный, почти человеческий стон донесся из-за деревьев.
Не выдержав, дико заорал охотник.
В ту же минуту зверь поднялся — и темная тень опять замелькала в лесу, быстро удаляясь.
Охотник, не целясь, выпалил из второго ствола.
Лось ушел.
Охотника била лихорадка. На глазах навернулись слезы. Торопливо перезарядив ружье, он кинулся к тому месту, где зверь упал.
В сумерках еще были видны примятые тяжелым телом кусточки.
Охотник опустился на колени и стал шарить руками по земле.
Вдруг он поднял руки к глазам; руки были в темной крови.
Он хотел вскочить и бежать за раненым зверем. Но сейчас же сообразил, что в темноте не разобрать следов.
«Надо скорей за Ларивоном! — подумал он. — Всё равно без лошади не обойдешься».
И побежал из лесу.
Глава XI КРОВАВЫЙ СЛЕД
Старому глухарю приходилось теперь ночевать одному в тайном убежище друзей.
Лось уходил с вечера, всю ночь бродил по лесу и возвращался, только когда солнце поднималось над деревьями.
Глухарь уже привык к долгим отлучкам своего друга.
Но сегодня ночью его разбудили гулкие выстрелы. Ночь прошла тревожно. И, когда рассвело, глухарь не полетел на жировку, а остался ждать друга.
Тревожное выдалось и утро: невдалеке слышались громкие голоса людей.
Солнце встало уже над вершинами деревьев, а Одинец всё еще не шел.
Глухарь не мог больше ждать: он жестоко проголодался. Он снялся с ели и полетел клевать жухлую, уже тронутую утренником, жесткокожую бруснику.
Охотник не заснул всю ночь. Ларивон убедил его, что в темноте найти зверя невозможно и что лучше даже подождать подольше, дать ему изойти кровью, а то опять поднимется и уйдет далеко.
Чуть свет Ларивон запряг лошадь. Ежась от холода, они покатили через поля.
Охотник был как во сне. Смотрел на землю, на лес, на весь мир — и не узнавал его. Земля подернулась серебристой изморозью, лес разубрался пышными цветами осени, в небе розовели легкие облачка.
Одно раздражало охотника: он не мог понять, почему крестьянин так равнодушно, почти враждебно принял известие о его победе над страшным зверем? Услышав, что Одинец тяжело ранен, может быть, уже мертв, Ларивон ни слова похвалы не сказал охотнику, молча улегся и через пять минут уже храпел.
Они въехали в лес. Впереди, по неширокой лесной дороге шел человек с топором за поясом. Когда телега поравнялась с ним, он внимательно оглядел охотника и, не снимая с головы шапки, спокойно молвил:
— Здорово, дядя Ларивон! Аи на охоту барчука повез?
— Да вот, вишь ты, за раненым лосем собрались.
— Одинца я убил, — не выдержал охотник. Путник разом оживился. Глаза блеснули из-под густых бровей, бородатое лицо передернулось.
— Одинца? — быстро спросил он. — Подсади-ка, дядя Ларивон, больно поглядеть охота!
— А садись! — разрешил Ларивон. — Может, пособить случится.
Охотник обрадовался новому спутнику и стал ему рассказывать, как подкараулил и свалил старого лося.
Бородатый крестьянин смотрел на него с нескрываемым почтением, долго разглядывал ружье, совсем по-детски удивлялся рассказу о страшном ударе пули «жакан».
— А Одинцову лежку нашел?
Охотник сознался, что лежки найти не мог, как ни искал.
Тогда бородач заметил:
— Гляди, он и раненый под землю не ушел бы: дошлый зверь.
— Никуда не уйдет! — сказал охотник. — Я его разрывной пулей стрелял.
Они уже подъехали к тому месту, где надо было сворачивать с дороги.
Седоки слезли. Ларивон повел лошадь в поводу, следя, чтобы телега не задела осью за дерево.
Охотник быстро разыскал куст, у которого вчера стоял. Его шапка и вабик так и провалялись тут всю ночь.
Потом все трое внимательно осмотрели следы, начав с того места, где лось упал.
Бородач уверенно сказал:
— В брюхо садануло, в левый бок. Рана тяжелая: горлом кровь хлещет. Далеко зверю не уйти.
Охотник с интересом взглянул на следопыта.
— Почему вы знаете, что в левый бок и что кровь эта из горла, а не из раны?
— А то нет: вишь, по следу с левой руки текёт? А что посередь следу — это из горла.
«До чего просто! — подумал охотник. — Как это мне самому не пришло в голову?»
Бородач пошел впереди, за ним — охотник; Ларивон с лошадью сзади. Шли медленно, поминутно заглядывая вперед: даже тяжело раненный лось опасен и может напасть на преследователей.
Крови на следу было много: видно, лилась струей. Местами она лежала на земле черными запекшимися сгустками. Зверь, однако, шел и шел вперед.
Редколесье кончилось. Вышли к речке.
Тут Ларивон привязал лошадь к дереву: надо было сперва узнать, где зверь пал, — может, в чаще, куда и не продерешься с телегой.
Бородач в это время стал на колени у четко отпечатавшихся в глинистом берегу следов и зачем-то смерил их четвертью. Когда он после этого взглянул на охотника, охотнику не понравился его взгляд: в нем не было и следа прежней почтительности. Бородач глядел на него, прищурившись, подозрительно, почти насмешливо.
— Ну что еще? — сердито спросил охотник, чувствуя, что краснеет от этого взгляда, и злясь на себя за это.
Но бородач ничего ему не ответил и опять пошел вперед, на этот раз быстро и уверенно.
Они еще добрую версту петляли по лесу. Нашли березу, где раненый зверь терся раненым боком о ствол: белый ствол дерева аршина на два от земли был весь замызган темной кровью.
Потом — как-то совсем неожиданно — охотник узнал место, где они находились: они шли прямо к болоту, где всегда исчезал Одинец.
Сердце тревожно ёкнуло в груди: неужели опять ускользнул проклятый зверь?
Молча прошли еще немного — и вдруг бородач обернулся и сказал шепотом:
— Эвона, в чапыжнике залёг. Иди. А подниматься станет — бей проворней: уйдет!
Не показывая вида, что волнуется, охотник двинулся вперед с ружьем наготове.
Густой остров лиственного молодняка, на который показал бородач, был невелик. Деревца потеряли уже всю листву, — они не могли скрыть громадного тела зверя, если б он вскочил.
Охотник подвигался по кромке, беспокойно шара глазами впереди.
Он обошел уже почти весь островок, а лось всё еще не показывался.
Впереди — еще мысок низкорослой заросли.
«Тут!» — почувствовал охотник.
Подняв ружье, сделал скачок — и чуть не споткнулся о распростертое звериное тело.
Зверь не шелохнулся. Он лежал на правом боку, неестественно подогнув под себя голову, высоко подняв застывшую заднюю ногу.
Охотник опустил ружье.
— Готов! — крикнул он дрогнувшим голосом. — Смотрите!
Он замолчал: к горлу подкатил жесткий ком. Он не слышал, что говорили теперь уже громкими голосами крестьяне.
Бородач подошел к убитому лосю и, взявшись за рог, выпростал голову зверя из-под тяжелой туши.
— Гляди на свово Одинца! — сказал он охотнику и презрительно сплюнул.
Вместо широких рогов-лопат на голове лося торчали какие-то жалкие спички.
Охотник глядел и не понимал. Бородач обернулся к Ларивону.
— Я еще по следу приметил, что лосёк молодой: одинцов след — во! Одинец разве такому дастся?
И опять, обращаясь к охотнику, поддразнил:
— Хотелося лося, да не удалося!
Как сквозь туман, донеслись до охотника слова Ларивона:
— Толковал ему, каков из себя Одинец-то. Известно, городскому человеку ни к чему, — что старый бычина, что теленок.
Охотник растерянно пролепетал:
— Не может быть: я же Одинца стрелял! Бородач весело подмигнул Ларивону:
— Не зря молвится: лося бьют в осень, а дурака завсегда. Мало каши ел, парень!
Когда к полудню старый глухарь вернулся с жировки, Одинец ждал его уже под елью.
Через пять минут оба спокойно дремали, каждый на своем месте.
ЧАСТЬ II
…Опустил главу печально,
Осмотрел свои все вещи,
Говорит слова такие:
— Пусть никто в теченье жизни,
Пусть никто из всех на свете
Не стремится в лес упрямо.
Чтоб ловить Хииси-лося,
Как стремился я, несчастный.
Я совсем испортил лыжи,
Разломал в лесу я палку
И согнул в лесу свой дротик.
КалевалаГлава I НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
«К черту Одинца! Еду в город».
Так решил охотник, свежуя на задворках убитого им зверя.
Содрать шкуру с тощего молодого лося оказалось кропотливым и трудным делом. Шкура крепко пристала мездрой[18] к жесткому мясу, и каждый вершок ее приходилось отдирать ножом.
«Будет, побаловался. Пора и в город, а то так и будешь гоняться за этим старым лешим до скончания века. На первый раз довольно с меня и этого трофея. Всё-таки о двух отростках рога».
Но как охотник ни старался убедить себя в том, что в сдаче его нет ничего позорного, — в голову лезли и лезли обидные мысли.
Его больно задели насмешки бородача.
Он теперь ясно понимал, что крестьяне смеются над ним, потому что Одинец им — свой, а он — городской человек, барчук — им чужой. Сами лесные жители, они любят этого лесного великана. Он им не причиняет вреда, и они не хотят его смерти. Они гордятся им и злорадствуют над выскочкой, посягнувшим на их любимца. Они заодно с Одинцом, заодно со всем этим диким, полным неожиданных страхов лесом.
Охотник потерпел жестокое поражение, стал посмешищем в глазах крестьян, и это терзало его самолюбие.
Теперь он и сам начинал сознавать, что недостоин такого трофея, как голова Одинца.
«Мало каши ел!» — сердито дразнил он себя словами бородача. — Поживи-ка здесь с Одинцово, так, пожалуй, будешь в лесу как у себя в городе. Тогда и охоться».
На следующее утро, когда он кончил сдирать шкуру с лося, к нему подошел Ларивон.
— Глянь-ка, тебе, надо быть, почтарь письмо подал. С городу, видать.
И крестьянин протянул узкий голубой конверт, надписанный легким женским почерком.
Охотник почувствовал, как яркая краска залила ему лицо, и сердито буркнул:.
— От сестры! Сунь вон в куртку: потом прочту. Ларивон положил конверт в карман куртки и присел поболтать о разных разностях.
Охотник спешно кончил работу, вымыл руки, схватил ружье и заявил, что уходит в лес.
Ноги сами привели его на знакомое место: к болоту. Он сел на пенек, прислонил ружье к дереву и крепко задумался.
Нераспечатанное письмо хрустело во внутреннем кармане куртки. Но он не спешил его прочесть, нарочно медлил, как медлит человек перед прыжком в холодную воду.
«Ну, что ж, — думал он, — пусть смеется! Не могу же я, в самом деле, бросить университет и тысячу раз подвергать себя смертельной опасности. Она небось никогда не ночевала одна в лесу. Пусть-ка попробует. Или пусть с Одинцом встретится. С меня довольно!»
Выходило не очень убедительно — он это сам чувствовал, — но еще хуже было признаться себе что страшно вскрыть письмо и прочесть насмешливые фразы.
Охотник стал смотреть на болото.
На бесчисленных желтых кочках бессильно поникла трава. Кой-где под ней просвечивала холодная ржавая вода. Недалеко от берега, как древний замок, высилась темная, круто закругленная стена леса: остров на болоте.
Охотник подумал, что видит эти места в последний раз, — и почувствовал грусть. Унылый и дикий простор лесного болота впервые показался ему красивым. А сколько жутких, никем не изведанных тайн хранили его молчаливые кочки! Это место можно возненавидеть, но забыть его скоро нельзя.
Охотник стряхнул с себя раздумье, торопливо вытащил письмо и вскрыл его.
В письме не было обращения.
«Вчера читали Ваше письмо вслух, — сразу начиналось оно. — Много спорили, кто-то предлагал даже пари, что Вам не убить Одинца.
Но я-то знаю, что, как бы ни был силен и осторожен зверь, человек всегда одолеет его. И я, кажется, начинаю ненавидеть Вас».
— Что такое? — изумился охотник. — За что?
«Я говорила Вам, что выросла в лесу и люблю лес со всеми его жителями. Для меня ненавистны вы, городские охотники. Вы распоряжаетесь деревьями и животными так, будто они существуют исключительно для вашего удовольствия.
В первый момент нашего знакомства я подумала, что нашла в Вас друга. Все в городе только и думают, что о городских своих делах и развлечениях. И уж если кто вспомнит про лес, или поле, или солнечный восход, так только — «ах!» да «ох!», «красота, прелесть!» Будто редкость какая.
А Вы так чудесно рассказывали про Одинца! Я видела его перед собой, как живого, во всем его диком, зверином великолепии.
И вдруг Вы заявляете, что едете убивать его! И заявили-то это только потому, что боялись показаться трусом.
Но я подумала: «Поживет в лесу, полюбит лесную жизнь, — и у него рука не поднимется на старого лося».
Ваше письмо отняло у меня эту надежду. Вы ничему, ничему не научились, и так вам и надо, что Одинец разбил Вам ногу; он ведь никого не трогает, если на него не нападают. Какое право имеете Вы отнимать у него жизнь? Чем он Вам-то помешал?»
«Новое дело! — совсем ошарашенный, подумал охотник. — Сама же так презрительно улыбнулась, когда я сказал, что еще не убивал лосей, а теперь…»
Он стал читать дальше.
«И лучше нам не встречаться больше, если Вы убьете Одинца: я никогда не прощу Вам этого…»
Охотник скомкал письмо и бросил его наземь.
«А я-то, осел, старался! — думал он. — Вот положение!»
Растерянный взгляд его упал на знакомые кочки. Без всякой связи со своими мыслями он вспомнил вдруг: «Там я убил Рогдая… Вот кто умел идти до конца!»
Вспыхнула злость. Все мысли в голове разом перестроились.
«Что же, значит, зря погиб Рогдай! Одинца защищать — нашла кого! И я хорош, — хотел уж отказаться! Ну, и пусть, а я тоже пойду до конца!»
Он перебежал глазами с кочек на берег болота — и вдруг замер, не смея дохнуть: великолепный и неподвижный, как статуя, на берегу стоял громадный лось.
По исполинскому росту — добрая сажень от. земли до крутого загривка, — по гордо поднятой голове с тяжелыми, широкими рогами охотник сразу признал Одинца. Зверь стоял на открытом месте у самой кромки болота, против кочек, где погиб Рогдай. Охотник не видел, откуда он появился. Казалось, зверь мгновенно возник из земли и застыл, как камень.
«Топнет — и уйдет под землю, — вспомнил охотник и теперь сам верил, что это так и бывает. — Меня он не видит, — быстро работала мысль, — потому что я сижу неподвижно. И не чует: ветер от него ко мне. Стрелять нельзя: далеко. Буду ждать».
Медленно, как оживающее изваяние, лось поднял ногу и ступил на кочку. Кочка медленно пошла под воду.
Тогда грузный зверь сел, как собака, на задние ноги. Передние он выдернул из воды, вытянул перед собой и, цепляясь ими за кочки, заскользил брюхом по топкой трясине.
«Так! — подумал охотник. — Вот она — тайна лесного великана. Сегодня у леса нет от меня тайн».
Широко раскрытыми глазами он следил, как громадное тело зверя быстро подвигается по непроходимому болоту.
«Остров!» — вспомнил охотник.
Добравшись до твердой почвы, лось подогнул колени и поднялся в два приема, как встающая корова. Через минуту он исчез за деревьями.
— Простое чудо! — рассмеялся охотник. — Ясно, с таким широким брюхом не засосет.
Он взял ружье и пошел к тому месту, где Одинец пошел в болото. Ближние кочки медленно выдвигались из воды. На них ясно были видны отпечатки круглых копыт зверя.
Дальше след исчезал: следующие кочки с головой окунались под воду. Примятая трава на них расправлялась. Вода смывала следы.
— Так, — еще раз сказал охотник. — Теперь понятно, почему след обрывается.
И, сняв шапку, отвесил в сторону островка глубокий поклон:
— Ваши гости!
Глава II НА ОСТРОВЕ
Никто не знал, что тайна лесного великана открыта: охотник не сказал об этом даже Ларивону.
Не подозревал этого и Одинец, когда на следующее утро покинул остров и ушел в лес.
А днем пришел охотник, надел на ноги широкие лесные лыжи, взял в руки длинный шест и медленно стал подвигаться по болоту.
Лыжи он достал в деревне у крестьян. Они были настолько широки, что не погружались в топкое болото под тяжестью человека. Вода смывала его следы.
Достигнув острова, охотник положил ружье на кочку, счистил ржавый ил с лыж и, связав, перекинул их за спину.
Остров был невелик. Охотник сразу нашел в густой заросли узкий коридор — тропу зверя — и стал осторожно подвигаться по ней.
«Беда, если столкнемся на тропе! — думал он, опасливо поглядывая вперед. — Податься некуда, сотрет в порошок!»
Тропа была проложена в частом еловом и сосновом подросте. Заросль справа и слева стояла плотной стеной. Не было никакой надежды продраться сквозь сомкнутый строй частых стволов.
Но узкий коридор скоро кончился. Лес поредел. Тропа повела сырой и темной глушью, извиваясь в колоннаде высокоствольных столетних деревьев.
А еще дальше начались светлинки с отдельными громадными елями и соснами, у ног которых кой-где жались такие жалкие осенью прутики лиственного молодняка.
Кое-где на открытых местах торчали из земли обросшие лишаями камни.
«Что я! — вспомнил вдруг охотник. — Ведь он почует мои следы!»
Он остановился и, стараясь не шуметь — зверь мог быть рядом, — развязал и надел лыжи. Шагать в них было трудно: приходилось высоко поднимать ноги и выбирать гладкую землю, чтобы не споткнуться.
«Как в колодках, — думал охотник. — Зато подойду к лежке, точно по воздуху: от лыж на земле останется только запах болота».
Он подошел к большому камню, вокруг которого земля была взрыта копытами лося. За камнем — под елью — заметил небольшое углубление, черные проплешины земли, помятую траву и много волосков лосиной шерсти.
«Валялся тут, — подумал охотник. — А может быть… Да чего «может быть»: вот же она — лежка!»
Он огляделся.
Шагах в сорока от ели стояла большая сосна. Ветви донизу; как раз то, что надо.
Прошлепав к ней на лыжах, он взобрался по ветвям и, развесив на обломках сучьев ружье, лыжи, мешок с едой, вытащил топорик из-за пояса и стал устраивать себе лабаз. Через пять минут настил из сучьев между двух ветвей был готов.
«Теперь хозяин может пожаловать!» — весело подумал охотник, поудобней примащиваясь на своем воздушном сиденье. Ружье с предохранителем на F (огонь) лежало рядом. Лежка Одинца была как на ладони. Оставалось только запастись терпеньем и ждать до вечера, всю ночь, до нового утра, — пока зверю заблагорассудится прийти. Еды охотник захватил с собой на целые сутки.
Время проходило, день уже клонился к вечеру, а Одинец всё не шел.
Первые часы ожидания пролетели незаметно для охотника. Он был уверен, что на этот раз одолеет осторожного зверя.
Он представил себе, как в назначенный день снова соберутся его товарищи и будут его ждать. Он запоздает.
Наконец дверь откроется, и он войдет, держа огромную голову лесного великана за рога. Все ахнут. А он скажет, глядя на покрасневшую девушку:
— Я охотник, я не член общества покровительства животным!
Или что-нибудь в этом роде — красивое и злое. …Громкое хлопанье крыльев заставило охотника вздрогнуть и раскрыть глаза.
Черный глухарь с треском уселся на ели над лежкой зверя.
«А, приятель! — подумал охотник. — И ты, оказывается, здесь? Ну врешь: теперь уж меня не напугаешь!» Он вспомнил первую ночевку в лесу, свой дикий страх в сумерках — и улыбнулся.
Темнело. Хмурое небо низко нависло над лесом: ночь обещала быть ненастной.
Охотник думал о том, что вот теперь он забрался в самое сердце леса, в самый его сокровенный уголок, но прежнего страха не чувствует. Знал, что если случится с ним несчастье здесь, то ни один человек не догадается даже, где его искать, — но был спокоен за себя.
«Это я так привык к лесу, — думал он. — Как дома. А она говорит, что я ничему не научился здесь. И с лесными жителями познакомился».
Глухарь то и дело поглядывал вниз, на лежку. Его гибкая шея уже не казалась охотнику так удивительно похожей на черную руку, как тогда — на осине.
Скоро совсем стемнело. Охотник решил не спать ночь: еще проспишь зверя.
Старался представить себе, как живет здесь старый лесной великан.
Тут его дом. Часами лежит он в сырой яме под темной столетней елью. Брюхо его мокнет, от него несет козлом. Но он ничего не замечает: думает свои дремучие думы.
Громадный, такой неуклюжий с виду, несуразный зверь! Он могуч и смел, его все боятся в лесу. Он в этом краю последний из великанов-лосей.
…И мысли охотника унеслись в глубь времен. Не семьдесят коротких верст отделяли его теперь от родного города, а долгие темные века. И, вспомнив о камнях, разбросанных по всему лесу, он думал о том, что было время, когда не было здесь ни людей, ни лосей, а было древнее море. Потом с холодного Севера надвинулись мертвые белые ледники. Они камни растирали в порошок, двигали скалы, гнали всё живое на своем пути.
Прошли века. Ледниковое море опять отступило далеко на север. На дне древнего моря выросли густые леса, в лесах поселились птицы и звери. Они были хозяевами здесь, пока не пришел человек. Прошло так мало времени — и человек овладел всем…
Охотник крепко спал, охватив руками толстый сук, щекой прижавшись к жесткой, шершавой коре дерева.
А Одинец тем временем подошел к болоту, опустился на задние ноги и заскользил по трясине.
Вечером никто не откликнулся на его рев, и зверь успокоился. Холодная вода, вымочив ему брюхо, совсем охладила его боевой пыл. Чутье его обострилось, привычная осторожность вернулась к нему.
Он вышел на берег острова, потянул в себя воздух — и разом почувствовал тревогу.
Он опустил храп к земле, — и земля сказала ему, что по ней прошел человек.
Шевеля ушами, Одинец шагнул по следу. Чем дальше, тем след сильнее пахнул.
Сомнений быть не могло: то был тревожный дух человека с железом. Дух этот был ему хорошо знаком: человек с ружьем вот уже сколько времени не дает ему покоя, то и дело становится ему поперек пути.
Старый лось без труда запоминал запахи, видеть ему не было нужды. Он ступил еще — и на кочке почуял холодный запах железа (к этой кочке охотник прислонил ружье, когда уселся снимать лыжи). Запах железа — запах смерти. И этот запах в тайном убежище Одинца!
Ярость заклокотала в груди зверя. Он двинулся вперед, все мускулы его напряглись, тело стало как камень.
Но, дойдя до узкого коридора в чаще, вдруг круто повернул, быстро пошел назад и с размаху опустился в болото, шумно расплескав ржавую воду.
Непонятный сквозь сон шум заставил охотника открыть глаза.
Было светло. Вершины деревьев уперлись в низкое небо. Прямо в лицо моросил теплый дождичек.
Охотник быстро вспомнил, где он. Глянул на лежку: зверя там не было.
«Всё ладно! — подумал он. — Если б Одинец пришел, я бы, конечно, проснулся. Эдак, однако, можно и загреметь с насеста! — Тут он заметил, что и глухаря не было на ели. Подумал: — Он меня и разбудил, срываясь».
Сон освежил охотника. Хотелось есть.
Он достал мешок с едой и живо прикончил всё, что осталось со вчерашнего дня.
Больше нечего было делать, и он опять принялся ждать.
К полудню терпение охотника истощилось. Напрасно он старался убедить себя, что теперь уже осталось недолго ждать. Напрасно заставлял себя радоваться дождю: дождь ведь смоет все следы, и зверь смело подойдет к самой лежке.
Скучный осенний дождь не мог поднять настроения. Всё тело ныло, размяться хорошенько, сидя на дереве, нельзя было. И снова уже хотелось есть, а в мешке не осталось ни крошки.
Опять прилетел глухарь. Вытягивая черную шею, внимательно разглядывал замершего на дереве охотника.
Пришлось минут пять сидеть совсем без движения. Это было очень мучительно. Терпение лопнуло.
«Подожди же, проклятый!» — злобно подумал охотник и начал медленно, плавно, — чтобы не спугнуть сторожкую птицу, — поднимать ружье.
И уже когда мушка заблестела на черной груди громадной птицы, решил: «Уйду. Сегодня всё равно уж не придет», — и нажал гашетку.
Когда дым рассеялся, глухаря на ветке не было. Не было его, впрочем, и под деревом.
Только тут охотник вспомнил: «Ведь я его разрывной!»
Когда слез с дерева, он нашел только клочья глухариного тела. На камне у самой лежки валялась окровавленная черная голова с куском шеи.
«Не тебе эта пуля, — виновато подумал он. — Попал под сердитую руку».
В эту минуту он был сам себе противен. Мучила совесть: ведь это было совершенно бессмысленное убийство ради убийства.
Обратный путь через болото сошел благополучно.
Глава III РОКОВОЙ ПОВОРОТ
Целые сутки пробродив по лесу, Одинец опять пришел к болоту.
Не переставая сыпал дождь. Рассвело. Запаха человека не было слышно на берегу. Одинец переправился на остров. Следов и тут не было. Зверь смело пошел к лежке.
Когда через короткое время он снова вышел на берег острова, он был страшен. Копыта, ступая, судорожно рвали землю.
Одинец видел растерзанное тело птицы и почуял кровь. Он обезумел.
…В этот день в лесу произошло необычайное происшествие, всполошившее всех окрестных крестьян.
Пастух той деревни, где жил у Ларивона охотник, по обыкновению выгнал в то утро стадо на лесной луг. В стаде был породистый бык — свирепое животное, много хлопот доставлявшее пастуху. Бык этот ни с того ни с сего приходил в ярость и бросался на людей.
Он решительно не признавал над собой ничьей власти, и даже пастуху не раз случалось спасаться от него за деревьями.
Стадо разбрелось по лугу, а пастух спрятался от дождя под деревом.
Услышав шум у себя за спиной в лесу, он подумал, что одна из его коров пробирается чащей. Он даже не обернулся и был поражен, когда из лесу около него вышел громадный лось.
Пастух клялся потом, что зверь шел через лес, ни на кого не обращая внимания.
Коровы тревожно замычали. Бык, который в это время находился на другом конце луга, обернулся, увидел лося и первый кинулся ему навстречу.
Пастух слишком хорошо знал силу племенного животного, чтобы усомниться в исходе битвы. Прямые и острые, как два кинжала, рога быка были направлены прямо в грудь высокого противника.
Лось, однако, и не подумал увернуться от страшного удара. Он тоже наклонил голову и смело — на полном ходу — встретил нападающего.
Бойцы сшиблись на средине луга. Пастух уверял потом, что от удара быка из рогов лося выскочил целый сноп искр. Но как бы там ни было, свирепый бык мгновенно слетел с копыт.
Удар Одинца был страшен. Ударил не он, — ударили с размаху все тридцать пудов его огромного тела. Толстая кость бычьего черепа треснула, как арбуз. Бык рухнул; каменные копыта Одинца неистово забарабанили по распростертому телу, рассекая кожу и мясо, дробя кости.
И через минуту на том месте, где пало красивое и гордое животное, осталось от него только ужасное кровавое месиво.
Тогда Одинец запрокинул рога на спину и ушел в лес, ни разу не оглянувшись на обезумевшее от страха стадо. Коровы разбежались по всему лесу. Пастух и не пробовал их собрать: прямо побежал в деревню и поднял всех на ноги.
На летучий деревенский сход пришел и студент-охотник. Крестьяне были необычайно возбуждены, громко кричали все зараз, не давая никому сказать толком.
Охотник был удивлен, главным образом, тем, что ни у одного из спорщиков не нашлось ни одного доброго слова в защиту недавнего их любимца — могучего лесного великана. Спор шел только о том, как верней и скорей с ним покончить.
Сам охотник не чувствовал большой жалости к быку. Наоборот: он в этот раз был решительно на стороне смелого дикого зверя. Он втайне был восхищен лосем, так быстро расправившимся с тучным быком.
Впрочем, это чувство восхищения не помешало охотнику решить принять участие в облаве на Одинца, которая была решена тут же на сходе.
Крестьяне поднялись всей деревней. У кого были ружья, — пошли в стрелки; все остальные — кричанамн, загонщиками.
Расчет был на то, что лось не успел уйти далеко от места схватки с быком: надо было немедленно захватить его в кольцо и не пустить в казенный лес, где крестьяне не имели права охотиться.
Одинец действительно недалеко ушел от места битвы.
Он рано услышал гомон заглушённых человеческих голосов — раньше, чем загонщики успели обойти лес, а стрелки стать в цепь.
Старый зверь разом почуял беду, но с минутку простоял неподвижно, словно раздумывая, в какую сторону ему бежать.
Люди, разбившись на кучки, подходили спереди и сзади. Бежать можно было только вправо или влево.
Справа был лес, и в конце его — Одинец знал — море. Слева были болото и остров — испытанное убежище.
Но там, в его сокровенном убежище, побывал человек. Он больше не доверял этому месту.
Одинец повернул вправо.
Глава IV ЛОСЬ ПОШЕЛ
— Пошел! Пошел! — закричали по цепи.
Загонщики, сойдясь широким полукругом, двинулись к морю. Руководил облавой знакомый охотнику бородач. Он поставил стрелков в цепь. По его расчету, еще до моря, встретив препятствия, лось должен будет повернуть вспять. Тогда его встретят пули.
Короткий осенний день подходил к концу. Надо было спешить загнать зверя.
…Одинец уверенно шел вперед. Последний раз он был в этих местах несколько лет назад, но дорогу помнил хорошо.
И вот перед ним выросло препятствие: высокое прясло загородило ему путь.
Прежде тут прясла не было. Крестьяне обнесли им лес только этим летом. Городили высоко: чтобы скотина не могла перескочить жердей и уйти к морю.
Прясло высотой доходило Одинцу до головы. Препятствие казалось неодолимым.
Но когда лось пошел, что может его остановить?
Одинец не остановился и не повернул назад.
Ровной иноходью подошел он к пряслу и вдруг как на крыльях поднялся в воздух, пронесся на сажень от земли, не задев жердей ни одним копытом.
Пока загонщики подходили к пряслу и перелезали через него, Одинец всё шел и шел вперед.
Через несколько времени новое препятствие встретилось ему на пути. Густой сосновый молодняк стал перед ним непроницаемой стеной.
Деревца росли так тесно, что разве зайчонок сумел бы протиснуться между их стволами.
Огибать заросль значило потерять время.
Одинец пошел напролом.
Как снаряд из тяжелого орудия, врезалась его широкая грудь в густую заросль сосенок.
Крепкие деревца падали вправо и влево, образуя широкую брешь. Они не в силах были остановить стремительный ход тяжелого зверя.
Прорезав чащу, Одинец очутился перед третьим препятствием: дорогу ему пересекало каменное шоссе с глубокими канавами по обеим сторонам. По шоссе тарахтели телеги. В телегах сидели люди.
И тут Одинец не остановился.
Не замедляя хода, он подошел к первой канаве и одним широким прыжком перемахнул на шоссе — перед самыми мордами лошадей.
Испуганные внезапным появлением громадного зверя, лошаденки шарахнулись в сторону. Дремавшие в телегах люди затпрукали и схватились за вожжи. Две телеги скатились под откос в канаву. Одна лошадь понесла назад по шоссе.
Не обращая внимания на грохот и крики, Одинец так же плавно махнул через другую канаву — и исчез в лесу.
Много времени спустя, когда загонщики дошли до шоссе, проезжие крестьяне еще обсуждали на месте неожиданное приключение. Телеги они уже вытащили из канавы.
Загонщики узнали от них, что лось у них на глазах скрылся в лес по ту сторону шоссе. Тогда бородач скомандовал цепи остановиться.
Лес, куда скрылся Одинец, был невелик: верста в длину, верста в ширину. За ним было море — широкий Финский залив.
Бородач послал людей в обе стороны окружить лес. Дал строгий наказ: не заходить внутрь, не шуметь и не разговаривать, чтобы не спугнуть зверя.
Становилось уже темно.
План у бородача был такой: взять Одинца в кольцо, дождаться рассвета, а там загнать зверя в море и прикончить.
Через полчаса, разложив костры по опушкам, загонщики спокойно стали располагаться на ночлег. Они хорошо знали, что Одинцу теперь от них не уйти.
Охотник был с ними. Он понял, что последнему лесному великану этого края пришел конец. Смертельный час его пробил.
Охотник думал только об одном: как бы сделать так, чтобы ему первому досталось выстрелить по загнанному зверю.
Рога старого лося должны достаться ему.
Глава V ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
Сырая осенняя ночь заглушает звуки. Но чуткие уши Одинца слышали всё, что делается у него за спиной.
Там слышался говор и смех, люди ломали сучья, резко потрескивали костры. И Одинец знал, что сзади окружило его кольцо огня, спереди — вода.
Он стоял в чаще у самого берега моря. Дальше идти было некуда.
Берег некрутым обрывом сбегал к воде. Легкие волны спокойно плескали в песок; ветра не было. Далеко впереди в темноте то зажигался, то погасал золотой огонек Толбухина маяка. В небе не было огоньков, небо было черное.
Одинец повернул голову, пригнул ею соседнюю рябинку, как стамеской, срезал зубами горькую кору и стал медленно жевать ее.
Он ждал.
Бородач — распорядитель облавы — вспомнил, что у городского охотника хорошее ружье. С таким ружьем надо стоять в середине цепи. Концы станут заходить, — зверь, скорее всего, посередине захочет прорваться.
Бородач пошел по всей линии — искать у костра охотника.
Крестьяне спали у костров, оставляя одного сторожем — стеречь огонь.
Охотника не было нигде. Вечером его видали. Потом он исчез, никто не знал — куда.
Бородач подумал: «Дрыхнет где-нибудь под кустом!»
Сам примостился у огня, пригрелся.
Думал, засыпая: «До свету десять раз успеешь выспаться».
Сырая осенняя ночь тянулась медленно. Становилось холодно. Утро обещало быть ясным.
Охотник не спал.
Он в темноте пробрался к самому берегу и залег в кустах.
Думал: «Зашумят, — Одинец сюда подастся. Тут я его и встречу».
Смотрел, как далеко в темном море зажигается и гаснет золотой огонек: это на круглой башне Толбухина маяка вращалась яркая электрическая лампа, мигая кораблям. Слушал мелодичный плеск волн. Вспоминая Одинца, жалел его: не виноват же зверь, что бык на него набросился.
Но про себя думал: «Уж лучше я… Всё равно ведь убьют».
Светало.
Люди у костров расталкивали спящих, торопливо доедали принесенную ребятами еще с вечера еду.
Бородач обходил линию, отдавая последние приказания.
Трогаться назначил с восходом, всем сразу по сигналу.
Охотник видел, как блестящий краешек солнца показался из моря.
К берегу побежала золотая узкая дорожка. Так аккуратница-хозяйка стелет-раскатывает по чистому полу веселый половичок.
Охотник видел, как золотая дорожка солнца добежала до берега, заиграла искрами на песке.
Он слышал, как за лесом протрубила труба и раздались голоса загонщиков.
Он заметил, как что-то темное зашевелилось перед ним в чаще, увидел громадную фигуру зверя, внезапно вставшую над обрывом, — и поднял ружье.
Поджав задние ноги и вытянув передние, Одинец скользнул с обрыва — там, где золотая дорожка через всё море соединила берег с солнцем.
Лось неторопливо дожевывал горькую ветку рябины. Дожевав, одним могучим движением вскинул голову с тяжелыми рогами, — и гладкая кость широких рогов засияла теплым золотом солнечных лучей.
Вдали стучали, шумели загонщики.
Зверь не обернулся.
— Как красив, ведь до чего красив! — бессвязно бормотал про себя охотник. Он положил ружье на сучок и шарил мушкой по телу зверя, нащупывая убойное место. — Он мой, мой теперь!.. — торжествовал охотник. — И как красив! Прямо хоть статую лепи!..
Вдруг Одинец шумно вздохнул и пошел в воду. Сердце упало:
— Уйдет!..
Охотник поймал на мушку переднюю лопатку зверя и плавно, по всем правилам стрельбы, нажал гашетку.
Выстрела не было.
Совершенно растерявшись, охотник взглянул на лося.
Лось шел по золотой дорожке, медленно погружался в мелкое у берега море.
Сзади сильно шумели загонщики.
Охотник перевел глаза на ружье.
Предохранитель бескурковки стоял на «S» (безопасно).
Одним движением пальца охотник отодвинул предохранитель на «F» (огонь) — и посмотрел на лося.
— Как красив! Вот если б она сейчас его видела…
Еще можно было стрелять. Но охотник опустил ружье.
— Беги!
Через минуту всё тело зверя погрузилось в воду. Видна была одна голова с позолоченными солнцем рогами.
— Милый, скорей же, скорей! — шептал охотник, бестолково размахивая ружьем.
Вдали на фарватере вереницей бежали серокрылые легкие лайбы. Черной полосой расстелив за собой дым, шел быстрый миноносец.
Загонщики подходили.
Одинец был уже вне выстрела.
Охотник скользнул глазами по берегу.
Нигде на берегу не было видно лодок.
— Ну, слава тебе, последний лесной великан! — громко произнес охотник и рассмеялся счастливым смехом.
Протянув руку, он показал подошедшим крестьянам далеко в море сверкающую точку.
Золотая дорожка солнца быстро свертывалась, убегала от берега, обнажая холодную гладь моря.
Глава VI В ГОРОДЕ
Прошла неделя.
Охотник снова превратился в студента, бегал в университет, торопливо ел, спал и развлекался. Быстрая городская жизнь закрутила его в своем безостановочном колесе.
В тот день он вышел из университета поздно и побежал домой по набережной.
Где-то за мостом заходило солнце. На той стороне реки корабельные доки сверкали бесчисленными стеклами.
«Как тут редко замечаешь солнце, — подумал студент. — А там только и глядишь на него».
Там — это в лесу. Студент частенько теперь ловил себя на мысли о лесе.
Он пробежал уже и мост, а солнце отодвинулось куда-то за колонны большого здания.
«Вот так и Одинец, — думал студент. — Плыл, плыл, — а солнце от него всё дальше. Захлебнулся — и пошел ко дну».
Впереди над серым камнем набережной резко выделился черный подъемный кран, хищно выгнутая стальная спина.
«…Или с миноносца какого-нибудь его застрелили», — уныло закончил свою мысль студент.
В это время он заметил идущую прямо на него знакомую женскую фигуру.
— Вы? — удивленно спросил он. — Разве вы уже вернулись?
Окинув одним взглядом всю его растерянную фигуру, девушка спокойно сообщила:
— Я была у вас, искала вас.
— Меня? — удивился студент. — Вы же писали, что ненавидите меня!
Не отвечая, она спросила:
— Убили Одинца?
Студент почувствовал облегчение:
— Нет, не удалось, — ответил он быстро. Но сейчас же поправился:
— Собственно, даже не не удалось, а я даже спас его. То есть не совсем спас, а так… не стал стрелять, хотя совсем уже…
Он совсем запутался в словах и, внезапно разозлившись на свою растерянность, отрезал:
— Одинца крестьяне загнали в море. Я видел, как он поплыл, — и не стал стрелять. Вот и всё.
Глаза девушки заблестели.
— Я так и знала! Так и должно было кончиться. Говорите скорей, в какой день он уплыл?
— В четверг на прошлой неделе. А что?
— А то, что Одинец ваш цел и невредим, — с торжеством объявила девушка.
— Его поймали в море? Откуда вы знаете?
— Лучше, гораздо лучше! Вот слушайте: в пятницу на той неделе, — я нарочно запомнила день, — по всему нашему берегу разнесся слух, что накануне вечером рыбаки видели громадного лося, плывущего с моря к берегу. Они, было, погнались за ним на лодках, но он успел достичь мелкого места и благополучно ушел в лес. Я отыскала этих рыбаков и всё проверила.
— Да что вы! — вскрикнул студент. — Вот молодец! А я-то был уверен, что он потонет. Ведь двадцать восемь верст воды! Вот здорово!
— Ага! — торжествовала девушка. — Теперь сами за него рады. А то «убью да убью!»
— А знаете, — улыбаясь сказал студент. — Если б не вы, так я бы, пожалуй, того… двинул бы его в последний момент. Ружье у меня на предохранителе оказалось, не выстрелило. Тут я вас вспомнил и одумался.
Девушка, краснея, протянула ему руку.
1927 г.
АСКЫР (повесть о саянском соболе)
СТЕПАН И АСКЫР
Вершины Саянских гор обозначились на ночном небе. Казалось, что они стали еще черней от забелевшего за ними света.
Ровный белый свет стал быстро опускаться в ущелье. На черном дне заблестела ломаная полоса реки. Красный огонь костра на скале побледнел, стал почти невидим.
У костра сидел ярославец. Один сидел Степан, без товарищей. В глухой тайге, в безлюдных Саянских горах. Бывает же, что не посчастливится… Не повезло дома, пошел искать себе счастья. Говорили люди, что в Сибири земли много, по ручьям золото копают, по рекам лес сплавляют. Всю реку, говорили, лесом запруживают. Да вон он — лес — кругом стоит; лесу, что травы, а какой в нем толк! Лес не распашешь! Рвал его Степан, корчевал, думал очистить место для запашки. Да разве вдвоем с бабой одолеешь проклятые пни да коренья. А к соседям не приступись: одно слово — кержаки.
Зло глянул Степан на тайгу. Из черноты всё зеленее и зеленее вставала тайга кругом, обступила и молчит: насупилась, пихты да ели.
— Кержаки те же! — сказал Степан и плюнул в костер.
Где-то из лесу в ущелье глухо заукала немая таежная кукушка.
— Подавилась! Кто ее за глотку держит?.. И птица тут нескладная. К черту б всё — да домой.
И таким приветливым родное село вспомнилось. И солнце не то, и елки по-другому смотрят. А улица — все дома улыбаются. Да ведь пять тысяч верст пешком не отмеришь. А на поезд где деньги взять? Говорят, золота, золота в Сибири сколько, в ручьях ведь люди моют, — чего зевать? И пристал Степан к «старателям», кустарям-золотомоям.
Опять незадача, — как ни бился Степан, только на харчи и вырабатывал. Вспомнил, что жена на заимке одна осталась. Показали Степану тропу, и махнул Степан тайгой на перевал к своей заимке.
Перевалил хребет — и вот сидит у костра, дожидается света, бросает хвойные лапы в огонь.
Пискнула в траве мышь и серым клубочком покатилась прямо Степану под ноги. За ней метнулся из" травы головастый темный зверек, не больше котенка. Он в два прыжка придавил мышь у самых колен человека.
Степан быстро прихлопнул зверька ладонью и зажал в руке. Он сам не знал, зачем это сделал, — просто так, сама рука упала. Зверек выпустил из пастншки мертвую мышь и забился, завертелся. Держит его Степан, а он вот-вот шею вывихнет — норовит вцепиться Степану в руку.
— Хорьчонок! — сказал Степан и стал с любопытством разглядывать пушистую шкурку зверька. Нет, куничка скорей — рыльце востренькое и шерсть черна.
Степан сызмала любил баловаться с ружьем был неплохой охотник и каждую птицу, каждого зверя у себя в лесах знал с виду и по имени.
Повертел, повертел зверька, оглядел со всех сторон.
— Нет, и не куничка, больно шуба богатая! Кто же ты таков?
И вдруг во весь голос крикнул:
— Соболь!
Зверь с перепугу сильнее рванулся в руке.
— Ага, признался! — сказал Степан. — Вишь, гладкий какой! Даром, что маленький еще. Да ты меченый, рукавичку надел!
Левая передняя лапка зверька до сгиба была белая.
— Ну, франт, ну и франт! Ай шуба! Как я тебя сразу-то не признал. Аскыр и есть.[19]
Соболенок, изловчась, тяпнул-таки его за палец, и Степан поневоле разжал руку.
Зверек упал наземь, мячиком подскочил и пропал в траве.
Степан бросился за ним.
— Стой, стой, шельма!
Да куда там! Зверька и след простыл. Из-за гор вырезался огненный край солнца. На минуту Степан ослеп: в глазах пошли красные, синие, желтые пятна.
Степан потер глаза и весело глянул на тайгу.
— Вот они где, деньги-то! — сказал он вслух. — Так по тайге и бегают.
Обвел Степан взглядом всю тайгу, что было видно, и подумал: «Сколько тут этого соболя насажено! Ружьишко б справить, собачонку какую ни есть да пристать к кержакам. Клад из этого места можно выволочь. Сидел я тут дураком, счастья своего не видел!»
Кинул Степан узелок на спину и быстро зашагал в гору.
А маленький Аскыр сидел в это время под кедром, мелко дышал и дрожал всей шкуркой от страха.
В РОДНОЙ ТАЙГЕ
Степан ошибся в расчете. Кержаки не захотели принять его в артель. У него не было ни ружья, ни собаки, ни капканов. Он был новичком в тайге. Что ж из того, что он умел метко стрелять! Кержаки — народ расчетливый и хозяйственный, — голый новосел им не товарищ.
Степан попробовал счастья в других деревнях. Но тамошние артели совсем его не знали. Глухое было место тогда — Саяны. Никто не решался жить в немой, как могила, тайге с чужим человеком. Кто его знает, что у него на уме?
Подошла осень. Кержаки ушли в горы соболевать.
Скрепя сердце Степан остался в заимке перебиваться с хлеба на квас.
А в тайге в это время рос и нагуливал шерсть молодой Аскыр.
В то утро, когда он попался Степану, он был еще совсем неразумный детеныш. Тогда он только-только покинул соболюшку-мать и двух маленьких братьев. Первый раз пошел он на охоту без матери, хотел поймать мышь и сам чуть не остался в руках у Степана. Горячий, задорный зверек в то время так рвался за всякой дичью, что маг угодить прямо в горящий костер.
Но молодые звери в тайге растут не по дням, а по часам. Чему научились его предки — всё уже было у него в крови отроду. Лапы сами делали прыжки, чутье неудержимо тянуло туда, где пахло дичью, тело сплющивалось и изгибалось, когда грозила беда.
Схватят зубы ядовитую жабу, но рот сам с отвращением выплюнет вредную пищу. Язык его говорил ему: «Этого соболь не ест!» И он с отвращением тряс острой мордочкой.
Весь его соболиный род был хищники. И сам он с первых дней знал, как ему быть при встречах. Если зверь слабей тебя, — поймай и съешь. Если он с тобой одной силы, — дерись с ним, прогони или убей. А если сильней тебя, — уноси ноги.
Так же, не раздумывая, молодой зверек выучился пользоваться шубкой-невидимкой. Подкрадывался ли он, нападая, или прятался, убегая, — он безошибочно выбирал места, где самый острый глаз не мог разглядеть его темного меха среди бурых комьев земли стволов и скал.
И вот, к осени, к тому дню, когда Степан проводил завистливым глазом уходящих в тайгу охотников, Аскыр уже стал взрослым соболем. Не всякий ястреб днем и не всякая сова ночью решились бы теперь напасть на него. Он уже умел постоять за себя. Он был и смел и осторожен.
Теперь под длинным блестящим волосом его легкой летней шубки отросла густая и теплая ость. Шкурка вошла в полную цену.
Не прошло и двух недель, как Аскыру пришлось спасать ее от охотника.
Случилось это вот как.
Раз утром, возвращаясь с ночной охоты, Аскыр напал на след другого соболя. След был свежий. Аскыр сейчас же побежал по нему.
Скоро он нашел место, где чужой поймал и растерзал рябчика; от птицы остались только кровавые перья. Такого дела Аскыр не мог стерпеть. Если у него под носом переедят всех рябчиков, то что же ему останется? Аскыр считал, что все рябчики в тайге — для него. Вора нужно поймать и истребить. И он пошел искать. След привел его к дереву и шел выше, вдоль ствола. В дереве было дупло. В дупле отдыхал чужой соболь после сытного обеда.
Аскыр стал быстро взбираться по дереву.
Другой соболь выскочил из дупла, ловко перескочил через голову Аскыра, винтом по стволу сбежал на землю.
Аскыр приостановился. Он услышал слишком еще памятный ему запах — запах матери. Еще недавно он тыкался мордой в ее пушистый живот, отыскивая соски.
Жалеть и раздумывать Аскыр не умел. Он был хищник. Кто одной силы с тобой, — прогони того или убей.
Аскыр кинулся вслед за соболюшкой и скоро настиг ее на ровном месте под темными пихтами.
Начался бой.
Соболюшка-мать была рослей и опытнее. Но она была стара; зубы ее притупились, она стала задыхаться.
Аскыр был ростом меньше, но ловчей, а главное, — он был молод. В нем была еще свежая ярость.
Соболюшка стала сдавать. Клочья шерсти так и летели из нее во все стороны.
Бойцы то отскакивали, то свивались в клубок и катались по земле. Аскыр всё старался ухватить соболюшку за горло.
Вдруг оба зверька отскочили в разные стороны и проворно вскарабкались на деревья. В ближних кустах раздалось шумное дыханье, и на площадку перед пихтами выскочил большой зверь. Уши на голове у него стояли торчком, язык вывалился из пасти, круглые глаза следили за соболюшкой.
Соболюшка вскарабкалась на толстый сук и, почувствовав себя в безопасности, стала уркать и сердито пырскать на зверя. Зверь поднял морду и громко, отрывисто залаял.
Аскыр прижался к суку другой пихты, за несколько метров от соболюшки. Он в первый раз видел собаку и очень боялся ее.
Время проходило, а собака всё сидела под деревом и, не спуская глаз с соболюшки, отрывисто лаяла. Аскыр подумал: «Улизнуть бы! Что, если тихонько сползти по стволу и незаметно юркнуть в кусты?»
Вдруг он услыхал сзади чьи-то осторожные, но тяжелые шаги. Аскыр повернул голову и совсем близко от себя увидел человека.
Охотник поднял ружье и прицелился в соболюшку.
Короткий хлесткий удар стегнул Аскыра по ушам.
Перепуганный Аскыр мгновенно соскочил с дерева, шмыгнул в кусты и стремглав помчался по тайге Он не останавливался до тех пор, пока не выбежал к реке.
Тут он забился в узкую щель между двумя острыми скалами.
В щели он сидел до самой ночи… Никто его не заметил.
Нередко потом Аскыр слышал в тайге громкий лай собаки и короткий гром выстрелов. Но ни разу больше ему не пришлось встретить соболюшку-мать.
Наступила зима. Исчезли змеи, лягушки, скрылись бурундуки — маленькие земляные белки с пятью черными полосками на спине, улетели перелетные птицы. Аскыру становилось голодно, — дичи осталось мало в тайге. Рябчики всё больше держались по высоким деревьям. Там за ними Аскыру было не угнаться. Правда, глухари часто опускались в снег, но он не смел еще нападать на этих больших и очень сильных птиц.
Аскыр поднялся вверх по склону горы, туда, где низенькие деревья росли редкими кучками. Там он нашел спустившихся с вершин белых куропаток и скоро научился ловить их в снегу. Он выслеживал, где они зарывались в снег, и сам, нырнув в пушистый сугроб, бежал под снегом, как крот в земле. Добежав до места, выскакивал и кидался на спину ошеломленной птице.
Наконец и куропатки куда-то исчезли. Аскыру опять пришлось спуститься в тайгу. Он подстерегал белок на земле, ловил на снегу мышей и мелких птиц. Чем дальше в зиму, тем голодней становилось соболю.
А в конце зимы Аскыру пришлось идти на небывалое еще дело.
Он жил теперь под востряками — голыми, острыми скалами над рекой. Тут, после неудачной ночной охоты, он увидел крупного старого беляка. Заяц сидел под кустом дикой смородины и аккуратно обгладывал кору.
Аскыр легкими, волнистыми прыжками стал приближаться из-за камней к зайцу. Изредка он останавливался, поднимался передними лапами на камень и осторожно выглядывал.
Беляк не чуял беды и спокойно жевал кору.
Но вот камни кончились. Аскыр нырнул под снег и вынырнул за спиной у зайца. Секунду он потоптался на месте, убил под ногами снег и прыгнул с твердой опоры.
Почти в тот же миг прыгнул и заяц. Передние лапы Аскыра задели его по ляжке, но соскользнули. Громадными прыжками заяц помчался к камням.
Аскыр кувырнулся в снег, поднялся и жадными глазами проводил уходившего беляка. Где же его догнать!
Встревоженные зайцем, вскочили отдыхавшие на востряках кабарги, маленькие — с козленка ростом — безрогие олени. Они пугливо озирались, ожидая увидеть внизу крупного хищника. Но там никого не было. Аскыр был от них за кустом, они не могли его заметить.
Кабарги скоро успокоились и разбрелись по скалам. Одна из них спустилась и подошла к кусту, за которым прятался маленький хищник. Аскыр видел, как ловко она разгребает тонкими, точеными ногами снег, вырывает корешки копытцами и хрустит острыми зубками.
Кабарга подошла к нему совсем близко.
Аскыр не раздумывал. Высокая спина кабарги была от него на расстоянии прыжка.
Он прыгнул.
Кабарга прянула. Аскыр всеми когтями вонзился в шерсть, в кожу, а зубы сами впились кабарге в затылок. Аскыр учуял кровь. Кабарга пошла чесать со скалы на скалу брыком, скоком. Соболя бросало из стороны в сторону. Он повисал на зубах и снова цеплялся лапами, наспех грыз живое мясо, — натолкнулся на тугую крепкую жилу.
Аскыр рванул ее зубами в тот миг, когда кабарга оттолкнулась от скалы и прыгнула на чуть заметный выступ обросшего мхом угловатого утеса. Это был последний прыжок горного скакуна.
Кабарга не допрыгнула до утеса. Ее голова сникла, и она, кувыркаясь, полетела в пропасть.
Когда оглушенный Аскыр вылез из-под нее на дне ущелья, кабарга уже не дышала.
Десять дней пировал Аскыр. Он понаделал себе нор в снегу под камнями, каждую ночь выходил и до отвала наедался мясом.
А днем, когда, сытый и довольный, он крепко спал в своем теплом логове, на труп кабарги слетались таежные птицы. Рыжие сойки, с ярко-голубыми перышками на крыльях, дрались на падали с крапчатыми кедровками. Кругами спускался с высоты ворон и разогнав пернатую мелкоту, важно усаживался на добычу. Но и он поспешно взлетал, когда из-под камня показывалась усатая мордочка Аскыра. Все боялись маленького смелого хищника.
Так встретил Аскыр первую весну своей жизни. Пришла пора искать себе подругу. Он целыми днями рыскал по тайге, бился со всеми встречными соболями и бегал за всеми молодыми соболюшками. С первым теплом повылезло из-под снега спавшее зимой зверье, начали возвращаться птицы. Тайга с каждым днем оживлялась, дичи попадалось вволю. Теперь не слышно стало выстрелов. Аскыр был сыт и счастлив.
А Степан с семьей к весне дожевал последний свой кусок хлеба. Ему ничего не оставалось больше, как поступить в работники к богатому кержаку.
Так он и сделал.
В ДОРОГУ
Чернее дегтя густая темь сентябрьской ночи. Хоть глаз коли, не разглядишь близких гор, темной тайги на склонах, маленькой кержацкой деревушки в сырой низине.
Спят ночью кержаки, наглухо «закутав» окна ставнями, задвинув крепкие засовы на дверях. Тайга кругом, в тайге — зверя сила. Смелеет ночью зверь, вылезает из тайги, к самому подходит пряслу и глядит: все ли спят; нельзя ли, просунув в дыру косматую лапу, когтями рвануть чего-нибудь?
Все убрались по домам, все спят. В одной только избе сквозь щели ставен — свет.
В просторной и чистой избе собралось пять кержаков.
Один в домотканой рубахе без пояса. Он старший здесь. У него седая борода и темные, клочьями шерсти нависшие брови. Он сидит, обеими руками грузно опершись на лавку, широкий и коренастый, как пень столетней пихты.
Остальные четверо в грубых шабурах,[20] подпоясанных узкими ремнями. На ногах бродни[21] с голяшками выше колен. Все они вооружены: на ремнях — длинные ножи в прямых деревянных ножнах, в руках — ружья. Они стоят и молча ждут.
Старик приподнялся с лавки, повернулся лицом к образам, прочитал молитву. С темных образов угрюмо глядели на него черноликие кержацкие боги. — Ну, с богом! — молвил старик, тяжело опускаясь на лавку. — Ступайте, женщин покричите — припасы донести поможут.
И пока в горнице бабы собирали мужей в путь, он подозвал молодого охотника и начал строго:
— Ты, паря Стёпша, — гляди ж, не выдай! Отдал я тебе и Пестрю и винтовку. Так и спросится с тебя. Смотри! У старших ума набирайся.
Степан покорно слушал старика. Он не мог еще опомниться от привалившего ему счастья: наконец кержаки взяли его в свою артель!
Вышло это неожиданно. Весной Степан нанялся работником к старшему артели, к старику. Чтоб взяли его в артель, нечего было и речь заводить.
Но под осень со стариком случился припадок Руки и ноги совсем было отнялись. Напрасно его парили в бане и окатывали студеной водой: ему становилось' все хуже.
Старик совсем собрался было помирать, но оправился. Силы опять вернулись к нему. Но об охоте нечего было уж думать. Поддалось здоровье. Старик с трудом двигался, в груди у него что-то будто лопнуло, дыхание вырывалось с хрипом и свистом.
Сыновей у него не было, некого было поставить вместо себя в артель. А дохода упускать старику не хотелось.
За лето он пригляделся к Степану.
У Степана золотые руки. Степан здоров и вынослив, хвастает, что меткий стрелок. Поставить бы вместо себя, да вот беда — Степан не кержак.
Старик недолго раздумывал. Сказал Степану: «Хочешь в артель — молись по-кержацкому, из трех добытых соболей двух отдавай хозяину. За это дам тебе ружье свое, капканы, собаку и место в артели. А семья пусть живет в боковушке на хозяйском дворе, на хозяйских харчах».
Степан в бога плохо верил. Раздумывать долго не стал и вошел от хозяина в артель.
Сборы были кончены. Охотники простились со стариком. Степан отодвинул засов и распахнул дверь на двор.
Шарахнулся зверь от прясла, полез, косматый, прятаться в тайгу. Смутно чуя врага, ворчали, сбегаясь к крыльцу, остроухие лайки. Но, поняв, что хозяева собрались на охоту, забыли о враге, запрыгали и завизжали.
Взвалив на плечи груз, охотники и их бабы, крадучись задами, потянулись к реке.
Груз был тяжелый. Артель отправлялась в дальнюю тайгу месяца на полтора-два, на осеновку. Запасу брали на каждого: сухарей по три пуда, крупы, масла, чаю полкирпича, сахару, соли, спичек. Белья смену, штаны, шапку, полотенце, портянки. Да провианту: свинцу фунтов по шесть, пороху фунт, пистонов. Всего на каждого брали пудов больше шести.
Ноги вязли в грязи. Степан поскользнулся, шумно ввалился в яму.
Все разом остановились. Слушали: не разбудил ли кого из деревенских?
Кержаки боялись «сглазу». Все приготовления к отъезду и день его держали в тайне. Дрожали, как бы в последнюю минуту не сплошать.
В избах спали крепко, ничего не слышали.
Дошли до реки, склали всё в две лодки, на досчатые настилы, и прикрыли пологами, чтобы водой не замочило.
Степан весело простился с женой:
— Прощай, Матрёна! Жди к зиме! Он лихо вскочил в закачавшуюся лодку. Артель тронулась вверх по реке.ПО ШИВЕРАМ[22]
Стремительная горная река, круто обогнув скалы, гнала свои мутные волны по широкому плёсу. В середине его вода вдруг, словно взбесившись, принималась плескать и кружиться, волны с ревом кидались в берега, плевали в них грязной пеной и, крутясь, отскакивали назад.
Так бурлили они метров тридцать, а дальше разом утихали и с полкилометра — до нового загиба — опять быстро мчались вперед, унося на себе легкие комья пены.
Из-за скалы вышли две лодки. Они шли против воды бечевой. Каждую тянул один человек, идя по берегу; другой, сидя в лодке, управлялся шестом.
В первой паре тянул низкорослый, весь широкий, рябой Маркелл; в лодке сидел его брат, старший артели, бородатый Ипат. Во второй управлялся шестом Степан, тянул рыжий Лука.
Лодки приблизились к ревущему порогу и остановились. Люди переменились местами: кто тянул — перешел в лодку, кто сидел — взялся за бечеву. И без передышки двинулись вперед.
Бечева сильно резала Степану плечо и грудь. За три дня пути он исхудал, кости проступили, глаза ввалились. Болело всё тело.
Передняя лодка заплясала на бешеных волнах. Согнутая спина Ипата бурым пятном маячила перед глазами.
Через минуту бечева резко дернула плечо Степана и напряглась. Он всем корпусом подался вперед, выбросил руки и медленно, упорно шагал, пружинисто сгибая ноги. Бечева всё глубже впивалась в тело.
— А-а-а! — донеслось до Степана сквозь гул воды. Кричал Лука из лодки, но что — невозможно было разобрать.
— Чего?! — гаркнул Степан, сколько мог из сдавленной веревкой груди. В голове у него помутнело от натуги.
— Смаривай! — донесся голос снизу.
Лука давал знать, чтобы Степан ослабил бечеву: лодка шла прямо на камень.
Степан не сообразил сразу. Его рвануло, сбило с ног и поволокло по каменистому берегу к воде. Над самым обрывом он успел упереться обеими руками в большой камень и повис над бурлящей рекой.
На одно мгновенье он увидел под собою неистовую пляску волн. Волны, подскакивая, обнажали острые камни на дне.
Степан успел только подумать: «Смерть!»
И сейчас же бечева, захлестнув его голову, повернула его лицом к берегу.
Он увидел теперь над собой утес. С голого камня — совсем близко от Степана — свесилась человеческая голова. Голова была вытянута огурцом и вся почти обросла шерстью. Левый глаз вытек, и на его месте была кровавая круглая болячка. Единственным своим глазом голова неподвижно смотрела на Степана. Черный рот улыбался.
Всё это Степан успел заметить в один миг.
Резким движением он высвободился из-под бечевы.
На помощь ему бежал уже Ипат. Он перехватил бечеву, помог Степану и сам повел лодку через порог.
Степан взглянул на скалу. Там торчал только одинокий куст можжевельника. Головы не было.
Кержаки ругали его за неловкость, а он всё еще никак не мог очухаться.
«Померещится же такое! — раздумывал он. — Три дня в тайге, живого человека слыхом не слыхать, а тут этакая харя!»
Он решил ничего не говорить кержакам о своем видении: подумают, — рехнулся.
К полудню сделали привал. Сеткой наспех наловили рыбы, сделали «опал»: прямо в костер покидали рыбу, опалили и спекли. Содрав кожу с чешуей, солили и ели.
— Ты слушай крику-то, — наставительно говорил Степану Ипат. — К самой Горелой подходить станем, так разве такие шиверы пойдут? Кипяток! Еще хлебнем морцовки-то.
Скоро у кержаков разговор перешел на другое.
— К дружку бы завернуть, — обратился Ипат к брату. — Не видать его нонче на берегу-то.
— Небось сам заявится, — отвечал Рябой.
— Про Горелую попытать.
— Сами увидим, занята аль нет. Нечего нам с ним разговоры разговаривать! — ворчал Рябой.
В это время близко от охотников за кустами яростно залаяла собака.
— Гляди вот, — закончил Рябой, — наверняк твой одноглазый дружок пожаловал. Гони ты его!
— Твоя напала! — сказал Ипат Степану. — Запрети собаку.
Степан крикнул в кусты:
— Цыц, Пестря! Подь сюды!
Из кустов выскочил пестрый кобель. За ним показался приземистый человек с большим суком в руке, которым он отбивался от собак.
Степан вздрогнул так сильно, что горячий чай плеснул ему из кружки на руку: он мгновенно узнал вытянутую огурцом голову, одноглазое лицо в шерсти.
— Чай да сахар! — неожиданно тонким голосом пропищал черный волосатый рот. — Опять в наши края, дорогие гости? Сейчас только дымок ваш заприметил. Дай, думаю, дойду спрошу, не надо ль чего: провианту там, аль спирту? Надолго, поди, в тайгу-то? На осеновку, аль за одним и на зимовку?
— Беседуй, Нефёдыч, — прервал Ипат словоохотливого пришельца. — Провианту не потребуется, — с полишком брали. А вот поведай нам, соболь нонче доспел ли и какие артели вперед нас прошли?
— Можно и про соболя и про артели. Нам для хороших людей не жалко, — вкрадчиво говорил Одноглазый. Степан со страхом смотрел, как глаз его, маслено поблескивая, перебегая с охотника на охотника, остановился на нем.
— Зверь весь уже, слыхать, выкунел: и белка, и горносталь, и соболь. А промышленного люда тоже дивно прошло на белки.[23]
И на лодках заходят и на конях, слышь, заезды делают.
Охотники переглянулись. Рябой сердито сплюнул в костер.
Ипат будто равнодушно спросил:
— Которые и на Горелую забралися?
— На Горелую? Запамятовал я чего-то…
Степан видел, что Одноглазый хитрил, может быть, ждал еще вопроса.
Кержаки молчали.
Степан старался угадать: откуда взялся этот одноглазый, заросший шерстью, как зверь? Кругом на сотню верст безлюдная тайга. Что он делал там, на утесе? Отчего он всё знает в тайге? Почему он скрывает про Горелую, куда Ипат ведет свою артель?
Ответов на эти вопросы не было.
— Емельян Федосеич что же нынче не с вами? — расспрашивал Одноглазый. — Уж не вы ли, человек молодой, от него будете? — уставился он на Степана.
— От него в артель вступил, — ответил за Степана Ипат. — Занемог Емельян.
Одноглазый стал расспрашивать о деревенских делах. Отвечал ему Ипат.
Только когда охотники допили чай и собрались продолжать путь, Ипат сказал:
— Так ежели какая артель на Горелую станет пробираться, ты, Нефёдыч, скажи им, что-де мы там отаборились.
— От дурной! — притворно спохватился Одноглазый. — Совсем было из головы вон! Ведь на Горелую-то еще вчерась минусинские ребята прошли.
— Ястри тя! — прорвало вдруг рыжего Луку — Чего же ты, дьявол одноглазый, в прятки-то прикидываешься? Сам же ты туда их послал!
— Зачем посылать, — степенно отвечал Одноглазый. — Сами пошли. «Нынче, — говорят, — зверь у нас кругом обловился, а у вас тут, наслышаны мы, на Горелой рясно[24] соболя родится».
— Асмодей ты! — ругался Рыжий, сталкивая лодку в воду. — Своих на наше место поставил!
Одноглазый, словно не слыша, как его честят, ласково зазывал:
— Назад будете, нас не забудьте! Добрым людям всегда рады… Соболей продать или там спиртишка понадобится, — на всем ответ держим!
— Ладно, — сказал Ипат и стал спихивать лодку. За первой лодкой спустили и вторую. Теперь берег был ниже, тянуть было ловчей, и лодки плавно шли вдоль пологого берега.
— Скажи ты на милость, Лука Фомич, — спросил Степан Рыжего, — и откуда это пугало в тайге взялось?
Во всё время пути кержаки почти не разговаривали со Степаном. Они считали его ниже себя: он ведь был новичок в тайге, к тому же от хозяина в артели и, значит, им не ровня.
Но в этот раз Луке самому, видно, не терпелось поговорить.
— С царской каторги беглый. На воле, слышно, харчевню держал, проезжих купцов чистил.
— Откуда он про тайгу-то всё знает?
— Зимовщик он здесь, «дружок», по-нашему. Место такое выбрал, — татарин ли, русский — всяк мимо него в тайгу заходит. Провиянт держит, самосядку. Одно слово — паук таежный.
Лука сердито налег на бечеву и продолжал, точно сам с собою, говорить:
— Нет, врешь, нас не опутаешь! Мы себе место в тайге найдем. Зубы поломаешь, волк!
— А на Горелой разве уж и места не хватит с минусинскими-то? — спросил Степан. Он слышал про Горелую, — на этой большой горе несколько лет уже как промышляла артель старика Емельяна.
— Сунься к им! — опять, словно про себя, сказал Рыжий. — Сурьезные ребята.
— Поглядывай! — крикнул впереди Ипат.
Лодки подходили к новой шивере. Река грозно гудела на перекате.
Степан вспомнил, как его давеча чуть не утянуло в бурлящий поток, и крепче перехватил шест. Разговор сам собою оборвался.
Уже стемнело, когда артель, натягиваясь из последних сил, дотащилась до удобного для ночевки места. Но и тут до смерти уставшим охотникам было не до разговоров. Кержаки только наспех обсудили, куда им теперь направиться, раз Горелая уже занята.
Решили идти протокой и стать на Кабарочьих Востряках.
Кабарочьи Востряки были те самые острые скалы, где Аскыр одолел кабаргу. Больше года назад Степан впервые встретился там с Аскыром.
НА КАБАРОЧЬИХ ВОСТРЯКАХ
Лето Аскыр провел спокойно.
Ни разу больше ему не случилось встретиться с человеком. Выстрелов тоже не было слышно. Тайга, как дикий зверь, зализывала свои раны.
На место убитых зверей и птиц народились новые звери и птицы. Черные плешины кострищ затянуло травой. Над пустыми местами, где люди срубили лесины, соседние деревья протянули свои густые ветви. В тени под ними пробился из земли жесткий мох. Мхом обросли еще свежие пни, мох скрыл под собою следы человеческих ног.
Всё лето Аскыр наедался до отвала. Он научился разыскивать хитро спрятанные в траве и в листве птичьи гнезда. Птенцы и яйца были для него лакомством.
Он забирался в густые крепи и разыскивал там беспомощную подлинь — линяющих рябчиков и других птиц. Крылья с поредевшими перьями не спасали их теперь от быстрого хищника. Неопытные молодые зверьки и только еще подлётывающие птицы до самой осени то и дело попадались ему в зубы.
Осенью на Аскыре снова отрос теплый густой подшерсток. Его темная шубка стала еще пышнее и роскошнее, чем в прошлом году. Под ней ровным слоем лежал жирок. Голод и холод зимы не были теперь страшны ему: жирок и греет и кормит в черный день. Ночью Аскыр рыскал по тайге. Днем спал в валежнике в дуплах, под камнями и в других укромных местах, которых так много в тайге.
Уже вершины невысоких гор присыпало снегом и стая за стаей проносились над ними перелетные гуси, когда Аскыр снова почуял близость людей. Стук топора донесся до него как-то на вечерней заре.
В ту же ночь Аскыр ушел выше по склону горы, подальше от опасного места.
Артель добралась по реке под самые Кабарочьи Востряки. Охотники вытащили лодки на берег и принялись за устройство стана.
Степан только диву давался, с какой быстротой разбили кержаки палатку «по-амбарному», заготовили дров, сколотили на деревьях крытый лабаз для запасов и провианта.
Когда жилье было готово, кержаки оставили Степана сторожить и все трое ушли в тайгу добыть побольше мяса впрок.
Два дня только и было Степану дела, что кормить привязанных к деревьям собак да готовить себе нехитрый таежный обед.
На третий день под вечер охотники вернулись. Они приволокли на себе тяжелые мешки, набитые мясом двух крупных самцов изюбрей.
Степану сильно хотелось узнать, где успели добыть его товарищи этих таежных оленей. Степан знал, что это зверь сторожкий и пугливый.
Но на все расспросы Степана ответил только рыжий Лука: «зюбрей» подманили на голос, на трубу.
Без лишних слов и проволочек мясо было нарезано, высушено, посолено и сложено на лабаз. Теперь можно было приниматься за соболёвку.
На следующий день все четверо охотников чуть свет разошлись от стана в разные стороны.
Степан один медленно брел по тайге. Пестря давно куда-то исчез.
Ночью был дождь. И без того темные стволы пихт и елей стояли совсем черные. С земли несло сырым перегноем. С ветвей капало за ворот. Ноги путались в густой, полегшей на землю траве.
Степан шел с ружьем наготове. На каждом шагу можно спугнуть зверя или поднять птицу. Вглядываясь и вслушиваясь, Степан осторожно подвигался вперед.
Время проходило, а ему не повстречалось ни одно живое существо.
«И куда они все подевались, — думал Степан, — хоть бы на смех ворона каркнула!»
Серенький осенний денек нагонял тоску. Неподвижно кругом стояли темные сырые деревья.
Сзади раздался треск сучка. Степан быстро обернулся и взвел курок.
Слышно было, как по чаще кто-то пробирается.
«Большой зверь прет! — успел подумать Степан. — Уж не медведь ли?»
Густой еловый молодняк раздвинулся, из него выскочил Пестря.
Пес молча глянул умными глазами в глаза Степану, как спросил: «Ну что, идешь?»
И сейчас же, одобрительно вильнув хвостом, опять юркнул в чащу: «Иди, иди, — я своим делом занят!»
Степан опять остался один.
Налетела легкая стайка синиц. Черноголовые птички рассыпались по веткам, зашмыгали в хвое, поцыркали, полазали — исчезли.
Тайга поднималась в гору. Чаще стали попадаться кедры. На одном из них неожиданно блеснула пара чьих-то быстрых глаз, закачалась ветка.
Степан разом встал, вскинул ружье к плечу. Ждал, когда зверек покажется. Может, соболь?
Время шло, ружье начало дрожать в руках. Ветка давно перестала качаться.
Никто не показывался.
Степан обломил сучок, швырнул им в кедровую ветку.
Никого!
«Почудилось», — решил Степан. Пошел дальше.
Черная с красным головка птицы высунулась из-за ствола, белесый глаз слепо уставился в лицо. Дурным голосом закричала желна — черный большой дятел.
С резким криком сорвались над головой крапчатые кедровки.
— Тьфу ты, леший! — вздрогнув, выругался Степан. — Молчат — тоска берет, заорут — мороз по коже. Экая жуть таежная!
Вдруг тявкнул раз и два, залаял Пестря.
«Напал! — радостно подумал Степан и заспешил напрямик через чащу на голос. — На кого бы только: на соболя, на векшу или еще?..»
Лай прекратился, слышалось только редкое, с правильными промежутками тявканье.
«Ну, значит, посадил. Только б маху не дать теперь!».
За деревьями мелькнула белая грудь собаки. Прячась за стволами, Степан бесшумно подошел к ней и остановился поодаль.
Пестря сидел и, подняв морду, пристально глядел вверх, на сучья. Время от времени он делал движение, точно собираясь подскочить, и каждый раз при этом тявкал.
Степан увидал на суку над ним темное тело зверька. Приглядевшись, различил пышный хвост, острое рыльце. Ёкнуло в груди: «Соболь!»
Зверек сердито урчал и пырскал всякий раз, как Пестря делал попытку подскочить.
Степан поднял ружье, но сейчас же снова опустил его: «Далеко!.. Надо наверняка. Он теперь только на Пестрю глядит, всё равно не заметит…»
Тщательно выбирая место, куда ступить ногой, затаив дыхание, Степан сделал еще шагов десяток.
Пестря на мгновение оторвал взгляд от соболя и метнул глазами на хозяина, будто приказывал: «Куда прешь? Бей!»
Степан положил ружье на сучок, прицелился в голову зверьку и нажал спуск.
Сквозь дым видно было, как Пестря кинулся вперед. Перескакивая через пни и валежник, сам Степан уже мчался к упавшему зверьку, что-то дико кричал и размахивал ружьем.
Но Пестря был хорошо обучен прежним хозяином. Он только раз давнул горло соболю и отскочил в сторону.
Минут десять прошло, и Пестря давно уже снова рыскал по тайге, а Степан всё еще гладил и разглядывал мягкую шерстку зверька. Вблизи он не казался таким темным, как на дереве. Сверху на нем мех был желтовато-бурый, а если дунуть на него, — он раздастся, и ясно виден светлый серо-желтый подшерсток.
«Лиха беда начало! — говорил себе Степан. — Теперь как пойдет, — только шкурки считай!»
И, правда, пошло. Не успел он бережно завернуть убитого зверька в тряпицу и спрятать за пазуху, как невдалеке опять затявкал Пестря.
В этот раз он сторожил белку. Степан и ее убрал к себе за пазуху.
А к вечеру, когда он, голодный и усталый, вернулся на стан, у него была богатая добыча: два соболя, шесть белок, колонок — рыжий таежный хорек — и на ужин два рябчика.
Оказалось, он принес больше всех.
— Фартит тебе, паря, — говорил рыжий Лука, — мне вот только белки встретились. В охоте первое дело — фарт. Дайко-ся взглянуть, каких добыл.
— Этот «меховой», — сказал он, рассмотрев первого из убитых Степаном соболей. — Рублёв сорок за него возьмешь, а не дурак будешь — и все полсотни. А этот вот — «хвост», за этого от силы рублев двадцать дадут.
Второй Степанов соболь был бусенький с рыженькой мастью, куда желтее первого.
Степан только тут узнал, что соболя делятся на сорта по пышности меха и темноте его окраски. Дороже всего целятся темные шкурки — «головка».
Очень редко — как большое счастье для охотника — попадается еще высший сорт «головки» — вороной соболь. За него скупщики дают вдвое больше, чем за простую «головку», — рублей до трехсот.
«Попался б один такой вороной, — думал Степан, засыпая в ту ночь в палатке, — и дело с концом: до Москвы с лихвою хватит».
Во сне он видел в ту ночь Москву.
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Скоро Степан понял, как много значит для охотника «фарт».
Проходили дни за днями. Он с утра до ночи рыскал с Пестрей по тайге, то взбираясь на кручу, то спускаясь в долины. Но ему не удалось больше поднять ни одного-соболя. Даже белки стали попадаться редко. С каждым днем Степану не везло всё больше и больше. Если дело и дальше пойдет так, он вернется в деревню таким же голышом, каким вышел из нее.
Быстро подходила зима. По ночам стали выпадать «переновы» — пороши. По утрам, выходя из палатки, Степан слеп от блестящего снега. Если день выдавался теплый, снег в тайге стаивал к полудню. В холодные дни он так и оставался лежать на земле и на деревьях.
Когда снег «углубеет», — осеновка кончится и артель вернется в деревню.
Степам брал с собой запас сухарей и пропадал со стану до самой ночи. Он поднимался каждый раз всё выше по склону горы, — Лука говорил, что «головка» чаще встречается на вершинах.
Один раз он задержался в тайге до темноты. День был хмурый, ветреный. То и дело моросил дождь или принимался падать мокрый снег. Белую голову горы заволокло тучами. К вечеру налетела буря. Сумерки быстро сгущались в ночь.
Степан выбрал место для ночевки в заветёрках под скалой. Костра развести не удалось, — дрова разбрасывало бурей.
Буря перешла в ураган. Небо точно лопнуло: потоки ледяной воды обрушились на голову. В темноте Степан слышал, как мимо него неслись вниз по круче целые реки, слышал, сквозь гул воды, как с треском падали громадные деревья и стонала, металась невидимая тайга ураган над ним ревел, как тысяча разъяренных быков, и всю ночь, едва на минуту затихал его рев, где-то вверху жалобно вперебой гоготала стая запоздалых гусей.
Степан сел рядом с собакой и крепко прижался к ней, чтобы хоть немножко согреться. Собака тоже дрожала всем телом. Еще с вечера они оба промокли насквозь. Через скалу над их головами хлестали потоки воды, и их то и дело обдавало холодными брызгами. Изредка в скалу ударяли тяжелые камни, и тогда скала вся содрогалась, и казалось, вот-вот рухнет им на голову.
Только к утру, наконец, утих ураган. Когда рассвело, Степан не узнал тайги вокруг себя. Потоки воды унесли с собой весь валежник, бурелом и мусор. Поредевший кедрач походил на расчищенный сад.
По небу бежали клочья разорванных туч. Белок почернел. Снег остался только на самой его вершине. Степан вылез из-под скалы и, стуча зубами, стал ломать кедровые ветви. У него был с собой коробок серных спичек. Всю ночь Степан держал его под мышкой. В коробке нашлось несколько неотсыревших спичек. Только бы удалось осушить и запалить мокрую хвою кедровых веток! Тогда можно будет обогреться у костра.
Плохо пришлось в эту ночь и Аскыру. Он жил в том же кедровнике, только еще гораздо выше по склону горы. Ночью он отсиделся в дупле. Он не вымок и не так закоченел, как Степан. Зато его сильно мучил голод. Только с рассветом решился он покинуть дупло и отправиться на поиски пищи.
Долго и напрасно рыскал он по кедровнику. Ливень будто вымел и всю дичь вместе с валежником и буреломом. Запах сырости убил все другие запахи.
Наконец нос его уловил дух мокрого птичьего пера. Аскыр всё время тянул носом воздух, чтобы не потерять след. Чутье вело его к поваленному бурей кедру. Птица была по ту сторону лежащего дерева.
Бесшумно, как кошка, Аскыр вскочил на толстый ствол кедра. Сквозь ветви он увидал на земле большого чернобурого глухаря. Глухарь ощипывал хвою с ветки.
Как ни голоден был Аскыр, он не сразу решился напасть на крепкого петуха. Он приник к стволу и с минуту оставался неподвижен, словно решая, — не убраться ли ему отсюда подобру-поздорову?
Голод пересилил страх. Тесно прижимаясь брюхом к шершавой коре, Аскыр пополз по стволу. Тело его вытянулось и сузилось. Движения стали гибкие, волнистые, как у змеи.
Когда глухарь очутился прямо под ним, Аскыр остановился. Его спина выгнулась горбом, задние лапы подобрались к передним. Он не видел глухаря и не смел выглянуть, — если птица увидит его раньше, чем он прыгнет, она успеет приготовиться к защите. Прыгать приходилось вслепую — на дух и на шорох. Передние и задние лапы Аскыра разом оторвались от ствола, и сейчас же навстречу ему снизу поднялась, гремя крыльями, широкая черная спина птицы. Аскыр вцепился в нее зубами и когтями передних лап. Задние лапы скользнули по тугому перу, и длинное тело зверька беспомощно закачалось в воздухе.
Перед глазами Аскыра мелькнули ветви, потом макушки кедров и свободный воздух.
Глухарь поднялся над лесом и стремительно понесся вниз под гору. Аскыр висел на нем.
Степан нашел под камнем пучок сухой травы. Сунул его под собранные в кучу ветви и зажег. Трава занялась, но мокрая хвоя только дымила.
— Плохое наше дело, Пестря! — вслух сказал Степан, трясясь от холода. — Не горит костер.
Он обернулся, но Пестри уже не было сзади него. Пес проголодался и отправился добывать себе хоть мышонка на завтрак.
Степан опустился на корточки и принялся раздувать затухающий огонек.
Шумное хлопанье крыльев над головой заставило его быстро взглянуть вверх. С горы, задевая крыльями макушки деревьев, прямо на него несся громадный глухарь. Над самой скалой птица ткнулась в одинокий кедр, перекувырнулась через голову и грохнулась оземь шагах в трех от охотника.
Оторопевший Степан увидал, как, треснувшись о крепкий корень, черный ком раздвоился. Один кусок забил судорожно крыльями по земле; другой, откатившись, остался лежать неподвижным клубком.
Прошло несколько секунд, прежде чем Степан разглядел на этом клубке густую черную шерсть, вытянутые вперед лапки и острую усатую мордочку соболя.
Соболь был весь вороной, и только на кончике левой передней лапы сияло узкое, белое пятно.
— Мать родная! — вскрикнул Степан. — Аскыр!
Он хотел встать. Но закоченевшие ноги не разогнулись. Степан ткнулся коленями в землю и упал на бок.
В то же мгновение Аскыр вскочил и понесся в кедрач. Отчаянный крик Степана только гнал его в спину.
Степан понял: одному ему не разыскать так глупо упущенной добычи. Он стал звать Пестрю, Но пес сам напал на чей-то след и лаем звал к себе хозяина. Теперь никакими силами не заставишь упрямого кобеля сойти с места.
Степан плюнул в сердцах, схватил ружье и побежал на лай.
Пестря караулил белку. Степан выстрелил в нее, по второпях промахнулся. Поспешно зарядил ружье, выстрелил во второй раз и с досадой подобрал дешевую добычу. Только тогда удалось взять Пестрю на привязь, отвести к скале и ткнуть носом в след Аскыра.
Пестря разом понял, что от него требуется. Он быстро побежал по следу, весело махая хвостом. Степан едва поспевал за ним.
Пробежав тайгой с полверсты, Аскыр почувствовал себя в безопасности. Только тогда вспомнил он, что голоден.
Разыскал мышиную норку под корнями и стал быстро разгребать землю носом и лапами.
Перепуганная мышь выскочила через другой вход и кинулась в траву. Но Аскыр заметил ее, в несколько прыжков настиг и схватил. Кругом было еще несколько норок. Аскыр стал переходить от одной к другой и скоро так ушел в слежку, что совсем забыл про недавнюю встречу с человеком.
Он опомнился только, когда сзади него послышалось шумное дыхание. Обернувшись, он увидал совсем близко от себя пеструю собачью морду.
Бежать было поздно. Аскыр сделал несколько длинных прыжков, вскочил на первое попавшееся дерево и живо вскарабкался на нижний его сук. Пестря был уже под ним и громко тявкал, давая знать хозяину, что зверь посажен на дерево.
Степан был близко. Он забыл о всякой осторожности, — в двадцати шагах от Пестри он высунулся из-за дерева, высматривая притаившегося зверька.
Аскыр сейчас же заметил охотника и сделал отчаянный прыжок. Он пронесся над головой Пестри, упал на согнутые лапы и широкими скачками помчался к чаще молодняка.
Пуля Степана, не задев его, шлепнула в землю. Сзади наседал Пестря.
Но до чащи было недалеко.
Аскыр прыгнул на молодое деревцо, перескочил на другое и стал быстро уходить от собаки. Молодняк был так густ, что Пестря едва пробивался в чаще за маленьким, узкотелым зверьком.
Скоро собака потеряла след.
Некоторое время еще она слепо плутала по чаще, стараясь снова где-нибудь перехватить след. Но в конце концов ей пришлось вернуться к хозяину с виновато опущенным хвостом.
Не могла же она остановить зверя, если тот уходил верхом. За что же хозяин вытянул ее по спине прутом?
Раздосадованный неудачей, Степан только через два часа повернул назад к стану. Его била лихорадка. Необходимо было хорошенько согреться у жаркой печурки и переодеться во всё сухое.
По дороге досада улеглась. Ведь счастье улыбнулось ему: драгоценный вороной соболь был найден. Нужно будет каждый день приходить на это место. В конце концов Аскыр непременно попадется опять ему на глаза. Тут ему поможет верный друг Пестря.
ДРУГ ПЕСТРЯ
Первая неудача только сильнее распалила Степана. Не в том дело, что шкурка Аскыра — это деньги, а на деньги можно махнуть в Москву. Нет, Степана разожгла неудача, и ему нужно было во что бы то ни стало добыть ловкого зверька. Два раза Степан оставался в дураках, нельзя же так и бросить!
Каждое утро он отправлялся к знакомой скале и спускал Пестрю разыскивать Аскыра. Он знал, что соболя без крайней надобности не уходят из тех участков тайги, где привыкли охотиться и прятаться от врагов.
Однако прошла неделя. Кержаки стали уже поговаривать о возвращении в деревню, а Пестря всё еще не мог напасть на след Аскыра.
Наконец Степану пришла в голову простая мысль: может быть, он не там ищет, где надо? Ведь Аскыр прилетел к скале на спине глухаря!
Глухарь прилетел сверху.
Значит, участок Аскыра где-то выше скалы. Там и надо его искать.
И это была верная мысль. Аскыр действительно вернулся в свой участок, высоко над скалой. Тут его никто не тревожил, и он спокойно прожил целую неделю.
Утром на восьмой день Аскыр услышал под горой знакомый лай. Время стояло голодное, соболь и днем выходил на охоту. Но, рыская по тайге, Аскыр то и дело поднимался передними лапами на пень, озирался, прислушивался и нюхал воздух.
К вечеру он почуял неладное: по его следам бежала собака. Аскыр не стал дожидаться, когда она покажется, и ударился в бегство.
Пестря уверенно бежал по следу. Он остановился только два раза. В первый раз там, где Аскыр поймал и растерзал неосторожно спустившуюся на снег белку. Тут Пестря живо размолол зубами недоеденные соболем крупные косточки.
Второй раз там, где Аскыр приостановился и оставил желтый след на снегу. Пестря тут задержался за тем же делом — таков уж собачий обычай.
Дальше след кружил по тайге и вдруг исчез в ломах — громадной куче палого леса.
Беспрерывно махая толстым хвостом, Пестря сунулся под лежащие лесины в одном, другом и третьем месте, но подлезть под них оказалось невозможно. Тогда он два раза обежал лома кругом, — не выходит ли где-нибудь след? След нигде не выходил.
С большим трудом Пестря взобрался на кучу сучковатых стволов, стал совать между ними нос, принюхиваться.
Конечно, соболь был здесь. Но попробуй-ка достать его оттуда!
Пестря залаял. На этот раз лай его был совсем особенный — с визгом и подвываньем. Так лают собаки от обиды и нетерпенья.
«Чего это он скулит?» — подумал Степан, идя на голос друга.
Подойдя к ломам на выстрел, он долго не мог взять в толк, куда же посадил пес зверя? Только когда Пестря несколько раз ткнул морду в кучу стволов, Степану стало, наконец, ясно, что соболь под ними.
Куча была громадная. Охотнику ничего не оставалось, как только ждать, когда Аскыр выйдет из своего убежища.
Был уже вечер. Степан решил не ходить на стан и просидеть тут хоть целую ночь.
— Ладно, — утешал он Пестрю. — Жрать захочет, так сам выйдет. Утром по следу его опять разыщешь.
Степан отошел от ломов, подозвал кобеля и уселся на пенек.
Прошел час.
Вечер был холодный и тихий. Начинало уже темнеть. Высоко над кедрами черной точкой кружил ворон и глухо каркал. Становилось жутко в тайге.
Степан еще раз, на всякий случай, обошел с Пестрей лома, — не вышел ли соболь? На снегу нигде не было заметно следов.
Тогда Степан выбрал местечко подальше от ломов и развел костер под широким кедром.
— Ладно уж, спи до утра, — сказал он Пестре. — Утром наверняка его накроем с тобой, — некуда ему от нас податься.
Самому лечь не удалось, — снег кругом, замерзнешь в одном шабуре. Степан подремывал, прислонившись спиной к кедру. Как только костер потухал, Степана начинало знобить. Он просыпался и подбрасывал хворосту.
К полуночи пошел снег.
«Беда, если скоро не пройдет, — сквозь сон подумал Степан. — Занесет следы, потом ищи-свищи!..»
…Вдруг Степан проснулся. Смутно почуял опасность, схватил ружье.
Костер чуть только дымился. Густо падал над ним мягкий снег. Кругом было темно, как в погребе.
Степан пялил глаза в темноту. Легкий мороз шевелился в спине.
«Ббых!» — явственно послышалось из темноты. «Бых! бых!» — доносились мягкие звуки с других сторон, словно чьи-то тяжелые лапы с размаху ступали в снег.
И вдруг отчетливо и сухо треснул сучок.
Шапка зашевелилась на голове у Степана.
Вспомнились рассказы кержаков про лешего.
«Хозяин ходит, — с ужасом подумал Степан. — Выйдет — помру…»
«Бых!» — опять глухо и мягко послышалось вблизи, а далеко где-то слабо треснул сучок.
«А может, медведь?..»
Тут Степан вспомнил, как кружил и каркал над тайгой ворон.
«Так и есть, медведь, — решил Степан. — Где ворон кружит, там и медведь. Один без другого в тайге не живет. Кержаки говорили, они знают».
Степан быстро стал кидать хворост в костер. Огонь затрещал, разгораясь.
Шомпольное ружье Степана было заряжено маленькой пулькой — на соболя. Да и ружьишко-то мелкокалиберное. Пальнешь — только раздразнишь зверюгу.
Нож надежнее. Это уж в последнюю минуту, если не побоится огня, нагрянет.
— Пестря!.. Пестря, ишь дрыхнет! Вставай! Степан ткнул кобеля ногой, — слушай, знай! Пестря вскочил, сел на задние лапы, виновато вильнул хвостом. Он внимательно поглядел в темноту.
«Ббых!» — донеслось оттуда.
Острые уши Пестри задвигались. Он втянул в себя воздух носом. Опять послушал, склонив голову набок. И вдруг, высунув розовой стружкой язык, сладко зевнул.
Степан шумно перевел дыхание.
— Никого? — спросил он.
Пес весело ударил несколько раз хвостом по земле.
«Бых!»
В это время рыхлый ком снега сорвался с ветки кедра и упал к самым ногам Степана с тупым мягким звуком. «Бых!»
— Тьфу ты пропасть!
Всё же остаток ночи Степан не решался задремать. То и дело подбрасывал хворост и следил, как падают легкие хлопья снега и, не. долетев до огня пропадают в воздухе.
Когда, наконец, рассвело, Степан увидел, что лома густо засыпаны снегом. Пестря равнодушно обошел их с хозяином.
Ночью Аскыр ушел из ломов. Куда он направился, нельзя было сказать. Снег продолжал падать и заносил следы. В снегопад Пестря ничего не мог поделать.
Степан кликнул собаку и вернулся на стан.
Кержаки все были в сборе. Степан узнал от них, что на камнях в реке стало уже намерзать. Через день решено было тронуться к дому.
На поимку Аскыра Степану остался один день. А снег падал и падал, и казалось — конца ему не будет.
До света Степан был уже на ногах.
Ночью снег перестал, но за целые сутки его нападало столько, что без лыж с трудом можно было подвигаться по тайге. Поэтому Степан пришел на место уже за полдень.
— Ну, брат, — сказал он Пестре, — теперь выручай! — И спустил кобеля с привязи.
Пестря исчез за деревьями.
Чтобы не утомить себя лишней ходьбой, Степан сел на пенек и стал ждать, когда пес подаст голос.
Прошло с полчаса.
От нечего делать Степан стал глядеть между вершинами деревьев на небо. Небо было серое. Прямо над Степаном, между макушками двух кедров, мутно, без блеску, горел желтый круг солнца.
Степан посмотрел в сторону. Там, между двумя другими вершинами, горело такое же мутное солнце.
«Откуда их два? — удивился Степан. — Надо поглядеть…» Он выбрал место, где деревья не закрывали от него небо. И тут увидал сразу три тусклых солнечных круга, на небольшом расстоянии один от другого. Нельзя было понять, какое из них — настоящее солнышко, которое — пасолнца.
«К чему бы такое? — подумал Степан. В этом диком краю он то и дело натыкался на небывальщину и становился суеверен. — Верно, дурная примета. Не будет удачи в охоте».
Далеко вверх по склону горы затявкал Пестря. Степан сейчас же забыл о солнцах и быстро, как только позволял снег, пошел на голос.
Пестря сидел под старым высохшим кедром. Степан сразу заметил большое черное дупло в стволе дерева.
«Ну, теперь — мой! — радостно подумал он. — В два счета оттуда выживу».
Он живо проковырял ножом небольшую дырку в гнилом стволе, запихал в нее несколько свежих веток, сунул туда же смолья и зажег его. Дым потянуло вверх по стволу, как в трубу.
Степан с ружьем наготове стоял под деревом так, чтобы ему было видно, как Аскыр покажется из дупла.
Немного ниже дупла к сухому кедру прислонилось другое, сломленное бурей дерево. Степан рассчитал, что соболь непременно захочет сбежать, когда дым выгонит его из дерева. Тут-то и надо поспеть всадить в него пулю.
Из дупла показался легкий дымок. Аскыр не выскакивал.
Дым повалил из дупла кругами.
«Как бы не опалился, — тревожно подумал Степан — сгорит заживо — и прибыли никакой».
Аскыр не показывался.
Случайно скользнув глазами по стволу прислонившегося дерева, Степан неожиданно заметил узкую двойную дорожку на покрывавшем ствол снегу. Степан всмотрелся.
Это была соболиная сбежка-следок. Она вела сверху вниз. Ясно было, что Аскыр удрал из дупла еще до прихода охотника. Из дупла высунулся красный язык пламени. Но Степану было уже всё равно, — сгори хоть весь кедр! — он и не подумал тушить огонь.
— Дурак ты, Пестря! — выругал он кобеля. — Проморгал зверя… Иди, чухай здесь!
Пестря рванул с места и, уткнув нос в землю, быстро повел по следу. Степан, увязая в снегу, поспешил за ним.
Пестря вел в гору. Кедрач кругом становился всё ниже и ниже.
Когда Степан совсем выбрался из тайги, он увидел вдали на склоне горы Пестрю. Пес с лаем гнал перед собой черного зверька. Оба скачками поднимались вверх по крутому склону — Аскыр далеко впереди Пестри.
Грузному кобелю было не угнаться по рыхлому снегу за легким зверьком. Стрелять тоже нельзя было — далеко.
Степан видел, как зверек юркнул в одно из бесчисленных темных отверстий громадной каменной россыпи. Через минуту под ней заметался Пестря, прыгнул на один из камней, сорвался в снег, поднялся, поглядел вниз на хозяина и жалобно заскулил.
Добравшись до него, Степан оглядел россыпь.
Над ним по крутому склону горы широко раскинулись камни разного вида и величины. Камни и обломки скал, в диком беспорядке громоздясь друг на друга, острыми черными углами торчали из-под снега.
Казалось, тяжелый каменный поток вдруг задержался тут, падая с вершины.
Высоко над россыпью сиял навсегда покрытый блестящим снегом белок.
Степан безнадежно махнул рукой.
— Чего уж скулить тут! — зло сказал он Пестре. — Табак дело!
Он поднял камень и кинул его в каменную кучу.
— Теперь его оттуда не выкуришь!
Степан взял собаку на привязь и зашагал вниз, к стану.
сон и явь.
Он застал кержаков на стане, хоть вернулся задолго до потемков. Все трое были заметно встревожены и торопливо готовились к отплытию.
— Чего больно заспешили? — спросил Степан Рыжего.
— Неприметлив же ты, паря, — досадливо отозвался кержак, — утресь солнышко в рукавицах вышло!
— Ну? — добивался Степан, вспомнив, что и в самом деле видал на небе пасолнца.
— Вот те и ну! К морозу это.
«А хоть бы и так, — подумал Степан про себя, — чего же горячку-то пороть?»
Но спорить с кержаками не стал. Теперь ему было всё равно, теперь хоть ночью в путь.
Ни свет ни заря спустили лодки на воду, снесли в них поклажу, посадили собак и тронулись.
Вниз по течению лодки неслись быстро. Стремглав убегали назад скалы, берега, уже затянутые тонким ледком, тайга. Охотники подгребали еще для скорости широкими веслами — лопашнями.
Степан вспоминал знакомые места, — только теперь они мчались мимо него как во сне.
Кержаки не хотели даже остановиться полдничать.
«Им что? — сердито думал про себя Степан, сидя на корме и управляя лопашней. — У каждого по пятку соболей добыто». И он снова вспоминал вороного Аскыра и скрывшую его каменную россыпь.
— Поглядывай! — предостерег Рыжий, сидевший впереди.
Лодка заплясала па коротких волнах переката.
Степан, очнувшись, сделал разом слишком сильное движение. Лопашня выскочила из воды, он потерял опору и полетел грудью на дно лодки.
Быстрые удары волны посыпались в борта, корму и нос, лодка щепкой закружилась в водовороте. Рыжий со всей силой налег на лопашни.
— Имайся! — крикнул он.
Степан успел уже подняться на ноги. Он увидал, что лодку мчит прямо на каменистую косу кормой вперед. Дно затарахтело по дресве — мелким камешкам.
Степан спрыгнул в ледяную воду и, обеими руками схватившись за борт, не дал лодке разбиться о камни.
Кержаки заругались во все голоса.
Когда лодку вытащили на косу, оказалось, что дресвой распороло ей дно. Пришлось заделывать течь. Это заняло много времени. Артель тут на косе и заночевала.
А утром Степан с трудом узнал реку. Все ямы в ней забило мелким льдом — шугой. Лед вырос от берегов, оставив свободной только узкую полосу посредине.
— Теперь намнем горбяжку! — сердито сказал Ипат.
И правда, несмотря на сильный мороз, охотники попотели, пока им удалось оттащить лодку берегом до места, где можно было столкнуть ее в воду. Опять замелькали, убегая назад, скалы и камни, ледяные берега, темные стены тайги.
К вечеру на второй день артель благополучно добралась до своей деревни.
После двух месяцев в безлюдной тайге маленькая кержацкая деревушка показалась Степану бойким городом. Да и шум в ней стоял необычайный.
Началось с того, что к Ипату пришел уже поджидавший охотников скупщик. За ним в просторную Ипатову избу набилось полно народу. Скупщик приехал из города, и каждому хотелось его послушать.
Пришел и Степан. Хозяин объявил ему, что рассчитаются они с ним весною, когда кончится охота, а пока отдал ему на руки обоих соболей. Степан решил сейчас же продать их скупщику. Скупщик был мастер рассказывать. Человек бывалый. Упершись глазами в его бритое лицо, таежный люд слушал про чудеса больших городов. Скупщик врал, привирал и даже говорил правду. Только всё у него шло гладко, — так что не знаешь, чему верить, чему нет. И будто люди по воздуху летают, и под водой ездят. И будто есть машина, что сама за тебя богу молится.
А промежду прочим нынче мехов никто в городе не носит. Все на вате ходят, а уж на соболя и совсем спроса нет, дешевле собаки. А вот пороху и свинцу и вовсе не достать, — война, весь повыстреляли. Потому цена на них, как на золото, и то из-под полы. А покупает он шкурки больше для баловства, по привычке. Пусть лежат до времени. Вороного соболя еще, пожалуй, с рук спихнуть можно, с горем пополам…
Степан слушал его развесив уши.
«Я не я буду, — клялся он самому себе, если в зимовку же не добуду Аскыра. А там — в Москву».
К вечеру народ разошелся по домам. В Ипатовой избе остались только охотники и скупщик. Теперь кержакам пришла очередь туман наводить.
Говорил больше Ипат. Он жаловался, что соболя нынче мало стало, обловился весь, хорошего так и совсем не осталось.
Скупщик то и дело гонял мальчонка к себе за водкой. Говорили, будто у скупщика с собой привезены целые тюки товара — мануфактуры, провианту охотничьего, крепкого вина.
Сидели, выпивали, говорили о том, о сем, когда Ипат, словно нехотя, принес из потайного места самую плохую из шкурок.
Начался торг.
Десятки раз брали шкурку, отхлопывали, легонько растягивали ее, повертывали так и сяк, — расценивали доброту пышного меха.
Степан сидел и только глазами хлопал. Он никак не мог взять в толк, кто кого хитрее. Говорил Ипат, выходило — цены этой бусенькой шкурке нет. Скупщик начинал говорить, — тоже веришь, что и брать-то эту дешевку не стоит: провоза не оправдаешь.
Рюмка за рюмкой, слово за слово; притащили Рыжий с Рябым по шкурке. Осмелел и Степан, — тоже принес своего «хвоста».
Скупщик и тут уперся, — это, мол, всё заваль, а нет ли получше чего? Охотники клялись, что весь товар налицо представили.
Долго спорили, выпивали, опять спорили. Наконец сошлись в цене, за все четыре шкурки. Ударили по рукам. Еще выпили; тут вдруг Ипат еще соболей тащит. И опять начался торг: спор, ругань. Стали назначать новые цены.
Напоследки Ипат вынес темную «головку», и вот тут-то и началось самое дело.
Только под утро шкурки были рассмотрены, расценены и проданы. У Степана в голове гудело от выпитого вина. Скупщик что-то записывал в пузатенькую книжку, давал охотникам подписывать. Кержаки куражились, хвастали — какие, дескать, они лихие промышленники, лезли целоваться со скупщиком. А Степан всё твердил заплетающимся языком:
— Меня, братцы, увольте, я счетов-расчетов ваших ничего не понимаю. Я, братцы, в Москву уеду.
Он получил от скупщика три затертых, сложенных вдвое бумажки, грузную плитку свинцу и какую-то пеструю материю. Помнит только Степан, что был очень доволен выручкой.
А на следующий день пошла гульба по всей деревне.
Три дня гуляли удалые охотники, гоняли на тройках с ширкунцами,[25] горланили песни. На четвертый день проспались и взялись за работу.
Степан работал на хозяина. Молотил хлеб, запасал дров на зиму. Возил скотине сено. Денег после гульбы у него не осталось. Да он и не тужил о них: лишь бы Аскыра добыть, Аскыр всё покроет.
В работе Степан и не заметил, как пролетел месяц. И вот — снова тайга.
Артель заходила в тайгу на лыжах. Груз охотники тащили за собой на длинных с узкими полозьями санях — нартах. Трудный заход по бурной, порожистой горной реке на лодке показался теперь Степану пустяком, после нартового захода.
Стоял тридцатиградусный мороз. Дыхание застывало на усах, сморажнвало бороду, вязало рот. Лыжи царапали твердый наст и звонко визжали.
Первые часы, пока артель подвигалась по ровной дороге, Степан шел легко. Пятнадцатипудовые нарты не казались ему тяжелыми. Потяг, привязанный к крошням — кожаному вьючному седлу, — не резал плеч.
Но когда артель свернула с наезженной дороги и пошла целиной, Степан стал сдавать. То и дело на пути попадались ухабы, и надо было умело управлять оглобелькой, чтобы нарты не налетели на торчащий из-под снега пень или сук.
— Однако, паря, спотыклив ты! — смеялись над Степаном кержаки.
А он, раскрыв рот, как рыба, выброшенная из воды, с трудом поднимался с земли и принимался поднимать перевернувшуюся нарту.
Тяжелей всего было идти передовым. Приходилось ощупывать ненадежные места тычком — узким веслом, и проминать в снегу дорогу для нарт.
К концу первого дня Степан почувствовал, что совсем выбился из сил. Еще час хода — и он упадет, как загнанная лошадь. Но тут кержаки, уж и сами выдохшиеся, сделали привал. Степан заснул у костра, как в воду канул. Это был первый день, что он ни разу не вспомнил о Москве.
Не вспомнил о ней Степан и следующие пять дней, пока измученные охотники не подошли к Кабарочьим Вострякам.
Тут они снова разбили стан и целые сутки отдыхали, греясь у печурки в палатке.
СТАЛЬНЫЕ ЧЕЛЮСТИ
Больше месяца Аскыр не замечал в тайге следов человека. Он осмелел понемногу и стал всё дальше и дальше отходить от россыпи.
Случилось так, что в это время в его владениях, на склоне горы, появился рыжий таежный хорек — колонок. Верно, он загнездился здесь в те дни, когда хозяин дрожал от страха в каменной россыпи и не решался отойти от своей крепости. Когда Аскыр впервые встретился с колонком, хорек не признал его за хозяина, не подумал даже бежать, а смело вступил с ним в драку.
Колонок был серьезный противник. Ростом и силой он был даже покрепче Аскыра. Оба зверька то и дело сталкивались в тайге и дрались насмерть. Кому-нибудь надо было одолеть.
В одну из лунных морозных ночей Аскыр нашел свежий след колонка и крадучись побежал по нему. Нужно было напасть на врага врасплох, — тогда он побежит, и останется только гнать и гнать его дальше.
Аскыр мелкими прыжками бежал по следу. Дважды пришлось ему пересечь две рядом лежащие полосы, непрерывные и широкие, как следы двух громадных змей. Аскыр не знал, что это за полосы. От них шел терпкий запах шкуры незнакомого ему животного.
В другое время Аскыр непременно постарался бы узнать, чей это след. Но сейчас ему было не до того, — нужно было покончить с колонком. А когда он проследил след хорька до конца, он натолкнулся на такое, что сразу у него из головы выбило всякую память о двух таинственных полосах.
След колонка обрывался на чистом месте, и вот тут-то чуткий нос Аскыра разобрал сразу два отдельных запаха: запах колонка, верней, его крови, и душный запах большой таежной кошки — рыси. От этих запахов длинная шерсть поднялась на спине Аскыра. Он глянул выпученными глазами и вот что увидел: две стальные челюсти торчали из снега и острыми зубами держали задние ноги колонка. А колонка не было — одни ноги. Где сам колонок, — Аскыр сразу понял. Недаром пахло рысью. Рысь была хорошо известна Аскыру. Не один раз за свою короткую жизнь ему пришлось бросать пойманную добычу и спасаться бегством от этого большого хищника.
Одного удара тяжелой лапы таежной кошки довольно, чтоб вышибить дух из Аскыра. Рысь была в тайге для соболя опасней волка, опаснее медведя. От нее не было спасенья ни на земле, ни на дереве. Одно только: забиться в лазейку, куда не пролезть ни толстой морде, ни широкой лапе с когтями.
Аскыр знал, что теперь она сидит где-нибудь поблизости, — и не стал медлить. Он юркнул в снег, прокопался под ним до деревьев и под их защитой пустился наутек. С этой ночи снова началась тревожная пора для Аскыра.
Куда бы он ни шел теперь, он всюду натыкался то на свежие следы рыси, то опять на две странные полосы с терпким запахом незнакомой шкуры. В разных местах. тайги, а иногда и в самой россыпи его нос ловил запах человека. И этот же запах Аскыр поймал и над двумя полосами в снегу.
Теперь он. еще больше напрягся.
Он насторожил чутье и слух. Он постоянно натыкался на опасный запах, и тревога его росла.
А Степан никак не мог взять в толк, отчего это Аскыр не идет в его капканы, что, как стальные челюсти, оскаливались из снега. Он ставил их больше всего под россыпью и в тайге, где рыскал Аскыр. Здесь он расставил десять из своих пятнадцати капканов. В нижней тайге четыре меховых соболя уже попались в его капкан, а ведь только пять капканов ставил Степан внизу, а вверху стояло десять, — и никак не взять было хитрого зверька.
Степан один бродил теперь по тайге. Пестри с ним не было. На зимовку артель не взяла с собой собак: они не могут преследовать добычу по глубокому снегу, чуть солнце распустит твердый поверхностный наст, — да и сами они могут угодить в капкан.
Зимой капканы были самым верным средством добыть соболя. Много времени и труда стоило устанавливать их так, чтобы чуткий зверь не почуял запаха человека. Зато уж умело прилаженный капкан редко оставался пустым.
Степан не сразу научился ставить капканы на следу. Но осторожный Аскыр научил его терпению и вниманию.
Теперь Степан стал тщательно выбирать места под россыпью, где скорее всего может пробежать Аскыр. Он пригляделся к сбежкам зверька так хорошо, что стал различать «одночетку» — где соболь шел шагом, «двучетку» — где он скакал галопом, «трехчетку» и "четырехчетку"- где он менял ногу и аллюр. Степан выбирал самые тесные места, где сходились десятки сбежек зверька.
Шага три не доходя до «тесного» места, Степан вырезал тычком кусок снега на тропке и осторожно откладывал его в сторону. Тычком же, чтобы не касаться снега руками, он углублял ямку и ставил в нее настороженный капкан. Потом сажал вынутый кусок на старое место и засыпал его рыхлым, пушистым снегом.
Казалось, нельзя было обнаружить так ловко скрытую под снегом ловушку.
Однако Аскыра не просто было обмануть.
Каждое утро Степан приходил осматривать расставленные капканы и по следам на снегу читал как по писаному всё, что случилось около них за ночь.
Вот глупый заяц осторожно пробирался по тайге, поглядывая по сторонам косыми глазами. Тихо ночью в тайге. Вот он подпрыгнул, помчался широкими пугливыми скачками, не разбирая пути. Видать, треснул сук, вспугнул косого. Гоп!
Метнулся заяц, утонули с размаху передние лапы в пушистом снегу — и прямо угодили в стальной рот. Долго бился заяц, весь снег кругом примял, пока не затих без сил.
Вот веселая белка беспечно спустилась с дерева на снег, чтобы живо перебежать по нему до другого дерева. Скачок — и щелк! Стальные тиски схватили темное тельце.
Вот осторожный колонок почуял на двойной полосе в снегу терпкий запах лошадиной шкуры, которой подбивают лыжи, чтобы не скользили с гор. Колонок пошел вдоль полосы, нашел конец ее, хотел перебежать по ровному, взрыхленному снегу — и щелк! Стальные челюсти, неожиданно выскочив из-под снега, сомкнулись у него на горле.
Не раз Степан находил захлопнувшийся капкан, а рядом с ним круглые следы крупного хищного зверя. Смелая рысь таскала у него из-под носа добычу, съедала ее тут же, где-нибудь рядышком на дереве.
А то раз нашел Степан в капкане соболя среди целого семейства жадных до падали воронов. Шкурку его пришлось бросить — от неё остались только жалкие клочья. Много добычи потратили мыши.
Один из капканов совсем исчез из снега, и Степан долго не мог обнаружить вора. Только забравшись глубоко в тайгу по следам рыси, он увидал свой капкан в снегу под кедрами. Тут он понял, что сильная кошка, попав лапой в капкан; потащила его с собой в чащу и там зубами и когтями оторвала его от своей окровавленной, искалеченной лапы.
Только Аскыр далеко обходил все подозрительные места, и капканы Степана, расставленные под каменной россыпью, по-прежнему оставались пусты.
Тогда охотник пустился на новую хитрость: он решил взять зверька лакомой приманкой. Авось польстится.
Аскыр выходил теперь из россыпи только с темнотой. Он осторожно пробирался в кедрач и там охотился. Но едва до него доносился запах человека, он, не раздумывая, скакал прочь и так каждый раз счастливо избегал опасности.
Всё шло благополучно, пока однажды ночью он не нашел в тайге мертвого рябчика. Рябчик лежал на нижней половине расколотого пополам обрубка дерева. Верхняя половина обрубка одним концом была приподнята над рябчиком легким колышком. Рябчик лежал как бы в деревянной пасти.
Аскыр, конечно, не подумал сразу броситься на добычу. Ведь птица была мертвая, улететь она не могла.
Аскыр потянул носом воздух. Человеком не пахло. Был, правда, запах незнакомой шкуры, где-то рядом, но такой слабый, что на него можно было не обращать внимания, — человек прошел здесь очень давно.
Всё же Аскыр не решился прыгнуть сразу. Он подкрался к рябчику, тихонько дернул его за крыло и отпрыгнул назад.
С треском хлопнула деревянная пасть, колышек отскочил, и тяжелая верхняя половина обрубка с размаху рухнула на нижнюю. Рябчик был сплюснут в лепешку.
А соболя давно уже и след простыл.
С этих пор Аскыр перестал доверять всему, чего хоть раз коснулся человек. Он обегал пни срубленных топором деревьев, длинным прыжком перескакивал лыжницу, обходил места, где охотникам случалось отдыхать на снегу. Теперь даже голод не мог пересилить его подозрительности.
Степан всё перепробовал. Расставлял свои лучшие капканы на сбежках под самой россыпью. Напрасно рубил плашки и ставил их с соблазнительной приманкой в тайге на соболиных поедах — в местах, где соболь кормится. Сколько он ни метал снастей, на какие хитрости ни изощрялся, чтобы обмануть зверька, — Аскыр не шел в ловушки.
Оставалось последнее средство: выпросить у кержаков обмёт — звероловную сеть. Обметом можно обтянуть всю россыпь кругом. Тут уж соболю некуда деваться: куда он ни бросится, — всюду попадет в сеть.
Артель уже подъедала свои съестные припасы. Обмет кержаки Степану уступили, но только на три дня: через три дня решено было двинуться из тайги. Назад в деревню на этот раз кержаки не собирались. Зачем терять время, если можно закупить всё необходимое на полдороге у Одноглазого? Пушнину в деревню пусть отвезет кто-нибудь один, — незачем всей артели тратить зря время.
Запасутся «провиантом» у Одноглазого и вернутся в тайгу до весны.
СЕТИ
Ночью Аскыр сделал вылазку из россыпи в тайгу за кормом. Он сейчас же почувствовал слабый запах человека. Аскыр повернул голову и опять понюхал. Тот же запах.
Аскыр обошел россыпь. Со всех сторон ее окружал опасный запах человека. Аскыр осторожно стал пробираться прочь от россыпи и наткнулся на веревки — сеть! Соболь бегал по всем направлениям, но сеть всюду преграждала ему путь. Недаром весь день перед тем где-то стучали и скрипели по снегу лыжи.
Назад в россыпь!
Всю ночь боролся Аскыр с голодом, а утром снова услышал шаги человека: сначала внизу, потом сбоку, потом наверху и с другой стороны. Человек обходил сеть.
Аскыр еще глубже забился под камни.
На следующую ночь голод стал невыносим. Он выгнал соболя из безопасного убежища и погнал за пищей.
На блестящем от луны снегу лежала пугающая клетчатая тень. В морозном воздухе стоял жуткий запах человека. Где-то на голом склоне соседней горы выли чикалки — красные горные волки. Если они спустятся сюда, то уже будет не до охоты, придется думать, как спасти свою шкуру. Надо скорей в тайгу.
Осторожно переступая лапками по клетчатой тени на снегу, Аскыр подошел к обмету. Верхняя тетива сети туго натянулась на вбитых в снег тычках. Тычки были наклонены на Аскыра. Обмет возвышался над снегом на полтора аршина. Соболь не мог перепрыгнуть через него, не мог и пробраться сквозь эту легкую натянутую стену, как не пробиться мухе сквозь тонкую паутину.
От верхней тетивы донизу сеть свисала свободно, на снегу ветерок вздувал ее пузом.
Что, если подрыться под нее?
Аскыр быстро стал работать лапами. Но твердый, плотно утоптанный человеческими ногами снег смерзся и не поддавался.
Аскыр побежал вдоль обмета. Обежал кругом россыпи. Снег всюду был так же утоптан.
Аскыр пробовал подбежать под обмет — ничего не выходило.
Вдруг Аскыр повернулся и побежал назад по кругу. Он вспомнил дерево у самого обмета.
Дерево стояло неподвижно, черное и громадное в свете полной луны. Только у корня его ствол был белый и блестел.
Аскыр подбежал к дереву и увидел: кора с него на целую сажень от земли была начисто ободрана.
По скользкому обнаженному стволу Аскыру было не взобраться. Когти его скользили по гладкому и крепкому дереву. Он срывался и падал в снег.
Налетел легкий ветерок. Черная тень дерева бесшумно задвигалась на снегу. С разлапистой ветки сорвался белый ком и грузно упал на обмет. Два ближних тычка качнулись, резким звоном загремели на них колокольчики.
Аскыр галопом помчался назад в россыпь и забился в первую попавшуюся дыру под камнем. В черной глубине под ним что-то зашуршало. Мимо Аскыра метнулся желтой полоской длинный и быстрый зверек и пропал в россыпи. Только по запаху соболь узнал маленького каменного хорька — желтотелого сусленика.
Аскыр не стал за ним гнаться. В глубине ямы он увидел добычу, брошенную струсившим суслеником. Аскыр скользнул вниз по покатому камню, упал в мягкое душистое сено и с остервенением стал рвать зубами еще теплое мясо.
Но не успел он покончить с едой, как услышал скрипучие шаги. Шел человек. Шаги остановились там, где стояло дерево близ обмета.
Аскыр услышал громкий вскрик. Он бросил еду и скользнул в сено.
Шаги опять заскрипели по снегу. Человек удалялся.
Аскыр спокойно кончил обед, отдохнул и только тогда внимательно обнюхался, чтобы узнать, куда попал.
Это была нора шадака — сеноставца. Отсюда шел ход еще глубже под землю, в спальню хозяина. Сам круглоухий куцехвостый хозяин был задушен суслеником, но съел его Аскыр.
Прежде Аскыр не забирался в эту часть россыпи. Тут были только крупные камни. Между ними широкие дыры. Аскыр стал лазать из дыры в дыру и нашел еще несколько сеновалов, что устроили круглоухие шадаки. Сами зверьки — толстые грызуны величиной с крысу — сидели в норках. Летом они натаскали в свои сеновалы целые копны сена, зимой просыпались и ели его.
Аскыр в одну ночь научился раскапывать их норки и доставать сонных шадаков. Теперь никакая осада не была ему страшна: в россыпи была целая колония шадаков, и пищи ему хватило бы надолго.
Через двое суток Аскыр прислушался: шума снаружи не было. Он вышел и осмотрелся.
Обмета нет. Путь в тайгу снова свободен. Осада снята.
Охотники спустились на реку и шли по льду. С пустыми почти нартами идти было легко. На исходе второго дня, уже в сумерках, путники свернули в тайгу и сейчас же заметили огонек между темными стволами деревьев.
Залаяли собаки, замычала корова, и в морозном воздухе повеяло теплым человеческим жильем. Из большой пятистенной избы выскочил Одноглазый с длинным ружьем в руках. Но, опознав охотников, опустил ружье и с поклонами встретил гостей.
Еще с крыльца Степан услышал шум и громкую ругань в избе. В горнице сквозь ворвавшийся морозный пар он увидал широкоплечего человека необыкновенно высокого роста. Верзила размахивал длинными руками и сыпал крепкой таежной руганью.
— Кровь нашу сосешь, язви тя в душу! — кричал он, не обращая внимания на новоприбывших. И где это виданы такие цены?
— Ступай, ступай отселева! Сказано, не дам ни порошинки! — визгливо гнал его хозяин. Видно, у них заканчивался долгий спор.
— Кругом у меня в долгу, — объяснил он охотникам. — Принес два «хвоста», так и долг ему спиши, и пороху еще продай. Ты сперва должок, должок покрой, а там и разговор другой будет.
— Да коли зверя бить нечем стало! — гремел верзила. — Где же я напасусь на тебя, волчья твоя пасть ненасытная!
— По мне хоть пропади, хоть ограбь кого, а денежки подай!
Верзила поднял громадный кулачище и двинулся на хозяина.
— Держите его! — взвизгнул Одноглазый и отскочил за лавку.
Два дюжих работника, хлебавших за столом горячие щи, спокойно встали. Один из них мирно сказал:
— Ступай, паря, драться не дадим.
Верзила яростно плюнул в хозяина, подхватил стоящее в углу ружье и распахнул дверь.
— Соболятник тоже называется, тьфу! — плюнул хозяин. — Другому, верите ли, даром рад отдать, три года ждать буду, а с этого как с козла молока.
— Чем служить могу? — обратился он вдруг совсем другим тоном к охотникам. — Беседуйте. Поелозьте, милы гости, за горяченьким и балакать способнее! Угощайте, девки!
Только теперь Степан приметил в горнице еще трех женщин.
Пожилая, видно хозяйка, только кланялась, а девки заерзали по избе, застучали деревянными ложками и плошками, захихикали, зашептались.
Ипат степенно объяснил хозяину, что от него требуется охотникам.
— Отпущу, отпущу, всего отпущу! — масленым голосом завилял Одноглазый. — Уж будьте благонадежны, всё для вас найдется.
Работники кончили ужин и ушли в боковушку спать. Кержаки похлебали щей и сразу же приступили к делу. Ипат рассказал хозяину, сколько и какого запасу и провианту требуется.
— Однако спешить-то, милые гости, некуда, — уговаривал Одноглазый. — С недельку погостите, а там и сговоримся.
— Некогда нам валандаться, Нефёдыч, — настаивал Ипат. — И то в деревню не пошли, к тебе завернули. Тащи-ка запас. Сторгуемся — и дело с концом. А утром в дорогу.
Еще поспорили, потом Одноглазый пошел будить работников. Принесли муки, сухарей, соли, принесли пороху. Одноглазый назначал цены, кержаки торговались, усовещивали, — очень несуразные деньги заламывал купец за товар.
— На запись ведь, — оправдывался Одноглазый. На запись оно всегда дороже.
— Зачем на запись, — поправил Ипат. — Соболя у нас с собой, сейчас тут и расплатимся. Доставаи-ка, Лука, крошни.
На шерстистом лице хозяина заблестел единственный глаз, когда рыжий Лука развязал крошни и достал собольи шкурки.
Хозяин сразу стал сговорчивее. Он стал горячо убеждать охотников продать ему всех соболей.
— Не могим, Нефёдыч, — твердо отрезал Ипат. — Скупщик у нас свой, сам знаешь. Однако уж на деревне поджидает нас. Брательник снесет ему, — кивнул он на Рябого.
Долго бился Одноглазый, уговаривал, но Ипата сломать не мог. Стали, наконец, запас торговать, — и за одного мехового соболя сторговали всё. Цена выходила громадная, но кержаки знали, на что идут, решив закупить у Одноглазого.
Утром на третий день тронулись: трое — назад, в тайгу, а Рябой — вниз по реке, в деревню. С ним Ипат уговорился так, что через десять дней он придет на стан.
Еще у самой избы нарта Степана наткнулась оголовкой на пенек и навалилась. Подымая ее, он увидал, что и Одноглазый вышел за ними из избы. На плече у него было длинноствольное ружье.
Вспомнил Степан, как рассказывали кержаки, что Одноглазый без промаху бьет белку в голову.
«А промыслом небось не занимается, — подумал Степан, — видать, скупщиком куда способнее деньгу зашибать!»
Одноглазый пропал за деревьями. Степан заторопился догонять товарищей.
В ТАЙГЕ
Степан привык к тайге.
Теперь он знал, что в тихой и будто пустой тайге птицы и зверя больше, чем людей в большом городе, только не всякий приметит, где рыщет, где прячется таежный зверь.
Следы на снегу, как длинные строчки букв на белой бумаге, многое разъясняли ему. Не раз приходилось возвращаться ему по собственному следу, находить на мягком снегу отпечатки круглых лап рыси или узкие следы красных горных волков. Он знал, что за каждым шагом человека неотступно следят из темной тайги десятки пар жадных и робких, злых и пугливых глаз. Он вспоминал непонятное ему прежде напутствие старика-хозяина: «В тайге ухо востро держи!»
И жуть приступала к Степану, когда он входил в тайгу.
«Держи ухо востро!» — думал Степан, когда тянул за товарищами свою тяжелую нарту по широкой белой глади замерзшей реки. На высоких скалистых берегах темнели крутые стены тайги. И как знать, чьи глаза глядят оттуда на путника?
Когда на второй день пути в сумерках артель дошла до Кабарочьих Востряков и свернула к стану, жуть еще усилилась. Степан вспомнил, как он любил посмеяться в родной деревне над теми, кто верил в чертей и домовых. А в этой проклятой тайге он сам начинал всего бояться, как только спускалась ночь.
На стане разожгли большой костер и при свете его разбили палатку. Обложенная камнями железная печурка давала ровное тепло. Степан разогрелся, обмяк и быстро заснул.
А утром Степану смешно было вспоминать свои ночные страхи. Солнце светило по-весеннему: было уже начало февраля. Степан весело шагал по тайге на лыжах, приглядывался к сбежкам, намечал места, где поставить капканы, и думал о том, что теперь, наконец, ему должен попасться заклятый Аскыр. По свежим взбежкам Степан убедился, что Аскыр не ушел, всё живет в россыпи и ходит в тайгу жировать. Степан спокойно вернулся на стан.
Весь следующий день он налаживал капканы. Он ворешил их заржавевшую сталь, вываривал в кипящем котле с пихтовыми щепками и корой, всё для того, чтобы отшибить от них запах человеческого пота.
На третий день он расставлял капканы в тайге под россыпью. Он решил не ловить соболей в других местах, пока Аскыр не будет у него в руках.
Капканы он ставил так тщательно, что провозился в тайге до вечера и на стан попал только с темнотой.
Тут опять его охватил страх.
Стоял сорокаградусный мороз. То и дело в тайге раздавался сухой треск лопающихся стволов.
Ночью мороз еще усилился.
Степан варил в печурке ужин, кержаки «оснимывали» шкурки добытых ими еще накануне соболей. Сухие выстрелы деревьев теперь то и дело раздавались кругом, напоминая редкую ружейную перестрелку.
Кержаки толковали между собою о качестве меха добытых соболей.
Степан невольно всё время прислушивался к громкому треску и думал, что от страшной тайги их отделяет только тонкое полотно палатки, а кержаки сидели так спокойно, точно были за каменными стенами городского дома.
Перестрелка замолкла.
Раздавались только ровные голоса охотников и плеск бурлящей воды в котелке.
— Сымай котел, — сказал Ипат Степану. — Хлебать станем.
За похлебкой кержаки припоминали таежные случаи.
— Мальчишкой я был, — рассказывал Рыжий, — еще вторую осень за соболями с отцом ходил, припас ему носил, годов двенадцать, однако, мне-ко было. На Туманчете в те поры дивно соболей водилось, а отец ловок был их добывать.
Вот и заночевали раз, шалашку из веток поставили, огонь внутри-то, две собаки, старая да молодая, рядом лежат. Старая, как стемнело, всё на сторону бросалась, да таково зло лаяла, — аккурат на человека.
Я всё уськал да уськал, а отец сидит у огня, не пошевелится, и мне запретил голос подавать. А молодая лежит, голову не подымает. Старая-то полаяла да тоже легла на край шалаша, на виду вся…
«Вот был бы Пестря, — подумал Степан. — С ним не так жутко. Он бы учуял, ежели что. Главное дело — знатьё».
Рыжий отправил в рот последнюю ложку похлебки и продолжал, ни на кого не глядя:
— Вдруг кто-то как пустит сук!
По боку старой собаке пришелся, — она и не визгнула, — так тут и дух вон. Половина-то сука обломилась, да в самый шалаш к огню залетела, а молодая в ноги нам забилась — не выходит.
Степан незаметно покосился на вход и подумал, что вот обогати его сейчас, — нипочем из палатки носу не высунет!
Груда углей в печурке догорала. Тихо-тихо было в палатке.
— Кто ж это ее? — спросил Степан.
— А поди знай. В тайге всякое бывает, — ответил Ипат.
КОНЕЦ ОХОТЫ
Долгая таежная зима кончилась.
Солнце с каждым днем раньше всходило по утрам и все неохотнее скрывалось по вечерам. Уже начинались весенние распары.[26] Снег рыхлел и таял сверху. Лед на реках заливали зеркальные наледи-лывы.[27] По ночам еще крепкий мороз застеклит лывы тонким звонким ледком, накроет рыхлый снег хрусткой корочкой наста. Но сам уж мороз не тот, что зимой; нет уже в нем той жесткой сухости, от которой колются в тайге лесины, как сахарные головы. По утрам серым пушком инея обрастают густохвойные ветви, и первые солнечные лучи легко проламывают тонкий ледок и хрупкий наст. Тайга просыпается, оживает.
Она не спешит. Еще пройдут месяцы, пока сойдет весь снег, потечет в деревьях живая кровь — их соки, пробьется из земли трава, прилетят из-за гор птицы. И всё же праздник уже наступает.
Солнечным утром налаживает свою нехитрую песенку веселая белощекая синица, пустит звонкую дробь по тайге лесной барабанщик-дятел, тонким свистом ответят ему из длинной хвои крошечные, как мухи, птички корольки.
А ночью носятся по снегу зайцы, шмыгают мелкие пушные зверьки, — им уже настало время гулять.
Аскыр весело встречал весну.
Он покинул холодную каменную россыпь, осторожно пробрался сквозь цепь спрятанных под снегом капканов и ушел в тайгу. Тут он скитался, ночуя где придется. По горам и падям рыскал в поисках добычи, никогда не пропуская случая подраться со встречным соболем.
Зверье в тайге точно перебесилось. Все обычные законы были забыты, все границы нарушены, каждый бегал где захочет, все беспрестанно меняли место. И стоило только соболю найти узкую тропинку, протоптанную в снегу другим соболем, как он забывал и охоту и драки и бежал по следам, пока не настигал соперника.
Так случилось и с Аскыром.
Он крался как-то за зайцем, и вдруг путь ему пересек следок другого соболя. Аскыр сразу забыл голод, забыл зайца и кинулся по следу.
Соболь пробегал тут много часов тому назад. Теперь он должен быть далеко отсюда. Но что для молодого, сильного Аскыра несколько часов гоньбы!
Легкими широкими скачками он мчался вперед и вперед. Тропка, колеся по тайге, поднималась всё выше в гору.
Хорошо знакомые места замелькали перед Аскыром, — чистый кедрач, где он не раз охотился, спускаясь из россыпи. Тут он знал все укромные уголки и мог разыскать соболюшку, куда бы она ни спряталась.
Но нет, — след вышел из кедрача, узкая тропка вилась, вилась по снежной равнине вверх. Солнце уже давно взошло над белком.
С каждым прыжком следок соболя пахнул всё крепче и крепче, — он близко.
«Дзенн!» — звякнули, выскакивая из-под снега, стальные челюсти. Высоко подскочило гибкое тело Аскыра и забилось, заметалось, захлестало по рыхлому снегу.
Кости обеих передних лап Аскыра были раздроблены на мелкие кусочки. Белая рукавичка на левой стала красной от крови. Он извивался от боли и силился вырвать лапы, бешено грызя холодную сталь зубами.
Всё напрасно: стальные тиски держали крепко. Он и не слышал, как сзади к нему подошел человек.
Рука в толстой варежке схватила его, сдавила грудь. Аскыр рванулся, зубы разжались, длинная судорога волнисто пробежала по густому меху, от головы к хвосту. Глаза погасли.
Аскыр затих.
— Готовый! — вслух сказал Степан.
Он еще не мог поверить, что Аскыр — драгоценный вороной соболь — был у него в руках.
Не везло ему последнее время. Четыре соболя попались к нему в капканы. Одного из них подрал ворон, другого изгрызли мыши, прежде чем нашел их Степан.
Ипат последнее время придирался к Степану. Он был не в духе: прошло уже три недели с тех пор, как вернулись от Одноглазого, а Рябой еще не пришел из деревни. Досаду свою Ипат срывал на Степане, заставляя его за Рябого расставлять и проверять его капканы, оставлял, сторожить стан. У Степана всё меньше времени было для своей охоты, — а значит, и меньше надежды поймать Аскыра.
И вот Аскыр у него в руках.
Теперь Степан богат, он может, наконец, вырваться из глубокого колодца ненавистных Саян и ехать в Москву. Хозяину он отдаст четырех соболей, добытых на зимовке, и двух теперь — на весновке — и будет в расчете с ним.
Он собрал все свои капканы и вернулся на стан.
Весна уже осилила зиму. Река взломала лед. Вода заиграла, пошла в яры, загудели шиверы. На быстрых, перекатах неведомо откуда появились нырцовые утки — пестрые гоголи, узконосые крохоли.
В тайге над не стаявшими еще снегами засвистели дрозды. Вылезли медведи из берлог, полосатые бурундучки зашныряли под деревьями. Пушные звери «подтерлись» — сменили пышные зимние шубки на жидкий летний мех.
На Кабарочьих Востряках застучали топоры — это охотники делали себе лодки. Весновка кончилась.
Охота была удачна. Разгоряченный весной, зверь слепо шел в ловушки. Одно только тревожило охотников: Рябой так и не вернулся из деревни.
Просмолили лодки, погрузились и тронулись.
Знакомый путь опять замелькал перед глазами Степана. Шестой раз за полгода развертывалась перед ним всё та же дорога, то играющая зыбью, то затянутая льдом и занесенная вязким снегом.
«Ну, хоть не даром попила моего поту, — думал Степан. — Будет чем вспомнить ее в Москве».
Бежали назад скалы, тайга, горы. А ему казалось, что он летит, летит вверх — вон из глубокого темного колодца.
На ночевку остановились засветло перед той шиверой, где он в первый раз увидал Одноглазого. Степан нарочно отошел от стана, чтобы поглядеть на те места, где его чуть не утащило в бурлящий поток.
У берега, под черной скалой, лежал еще глубокий снег. В одном месте его распалило, и что-то темное торчало из белой ямы.
Степан подошел ближе и увидал высунувшуюся из снега человеческую руку. Рука была оледенелая, и пальцы на ней скрючились.
Степан крикнул. Подошли Ипат с Рыжим. Втроем охотники живо раскопали руками и ногами снег — и вытащили труп.
Перед ними лежал мертвый Рябой. Затылок ему пробила пуля. Русые волосы побурели. Крошни, где лежали собольи шкурки, исчезли у него со спины.
— Вот оно что… — прошептал Ипат и нахмурился.
Когда подняли труп, чтобы отнести в лодку, Степан в последний раз обернулся на скалу. Ведь труп лежал лицом к реке. Значит, только со скалы могла его ударить в затылок пуля.
На черной скале никого не было. Торчал только куст можжевельника.
Страшная догадка мелькнула в голове у Степана: частенько, поди, следил тут с ружьем в руках Одноглазый. Много соболятников, нагруженных дорогими мехами, проходило торопливо под ним по этой дороге. Меткий глаз целился им в спину.
Степан рассказал Ипату, как привиделась ему осенью голова Одноглазого на скале.
Ипат молча выслушал и молча всю ночь просидел у костра. А утром поднялся на скалу и целый час там пропадал.
Когда он вернулся, они о чем-то долго шептались с Рыжим.
Потом охотники снова расселись по лодкам и к закату прибыли в свою деревню. Скоро в деревне узнали, что Одноглазый убит.
Тем же летом Степан продал вороного Аскыра и уехал с женой в Москву.
1926 г.
ПО СЛЕДАМ
Скучно Егорке целый день в избе. Глянет в окошко: бело кругом. Замело лесникову избушку снегом. Белый стоит лес.
Знает Егорка полянку одну в лесу. Эх, и местечко! Как ни придешь — стадо куропачей из-под ног. Фррр! Фррр! — во все стороны. Только стреляй!
Да что куропатки! Зайцы там здоровые! А намедни видал Егорка на поляне еще след — неизвестно чей. С лисий будет, а когтищи прямые, длинные.
Вот бы самому выследить по следу диковинного зверя! Это тебе не заяц! Это и тятька похвалит.
Загорелось Егорке — сейчас в лес бежать!
Отец у окошка сапоги валеные подшивает.
— Тять, а тять!
— Чего тебе?
— Дозволь в лес: куропачей пострелять!
— Ишь чего вздумал, на ночь глядя-то!
— Пусти-и, тять! — жалобно тянет Егорка.
Молчит отец; у Егорки дух заняло — ой, не пустит!
Не любит лесник, чтоб парнишка без дела валандался. А и то сказать: охота пуще неволи. Почему мальчонке не промаяться? Всё в избе да в избе…
— Ступай уж! Да гляди, чтоб до сумерек назад. А то у меня расправа коротка: отберу фузею и ремнем еще настегаю.
Фузея — это ружье. У Егорки свое, даром что парнишке четырнадцатый год. Отец из города привез. Одноствольное, бердана называется. И птицу и зверя из него бить можно. Хорошее ружье.
Отец знает: бердана для Егорки — первая вещь на свете. Пригрози отнять — всё сделает.
— Мигом обернусь, — обещает Егорка. Сам уже полушубок напялил и берданку с гвоздя сдернул.
— То-то, обернусь! — ворчит отец. — Вишь, по ночам волки кругом воют. Смотри у меня!
А Егорки уж нет в избе. Выскочил на двор, стал на лыжи — и в лес.
Отложил лесник сапоги. Взял топор, пошел в сарай сани починять.
Смеркаться стало. Кончил старик топором стучать.
Время ужинать, а парнишки нет.
Слышно было: пальнуло раза три. А с тех пор ничего.
Еще время прошло. Лесник зашел в избу, поправил фитиль в лампе, зажег ее. Вынул каши горшок из печи.
Егорки всё нет. И где запропастился, поганец?
Поел. Вышел на крыльцо, Темь непроглядная.
Прислушался — ничего не слыхать.
Стоит лес черный, суком не треснет. Тихо, а кто его знает, что в нем?
— Воууу-уу!..
Вздрогнул лесник. Или показалось? Из лесу опять:
— Воуу-уу!..
Так и есть, волк! Другой подхватил, третий… целая стая! Екнуло в груди: не иначе, на Егоркин след напали звери!
— Вуу-вооу-уу!..
Лесник заскочил в избу, выбежал — в руках двустволка. Вскинул к плечу, из дул полыхнул огонь, грохнули выстрелы. Волки пуще. Слушает лесник: не отзовется ли где Егорка?
И вот из лесу, из темноты, слабо-слабо: «бумм!»
Лесник сорвался с места, ружье за спину, подвязал лыжи — и в темноту, туда, откуда донесся Егоркин выстрел.
Темь в лесу — хоть плачь! Еловые лапы хватают за одежду, колют лицо. Деревья плотной стеной — не продерешься.
А впереди волки. В голос тянут: — Вуу-ооуууу!..
Лесник остановился; выстрелил еще.
Нет ответа. Только золки. Плохое дело!
Опять стал продираться сквозь чащу. Шел на волчий голос.
Только успел подумать: «Воют, — пока, значит, еще не добрались…» Тут разом вой оборвался. Тихо стало.
Прошел лесник еще вперед и стал.
Выстрелил. Потом еще. Слушал долго.
Тишь такая — прямо ушам больно.
Куда пойдешь? Темно. А идти надо.
Двинулся наугад. Что ни шаг, то гуще.
Стрелял, кричал. Никто не отвечает. И опять, уж сам не зная куда, шагал, продирался по лесу.
Наконец совсем из сил выбился, осип от крика.
Стал — и не знает, куда идти: давно потерял, в какой стороне дом.
Пригляделся: будто огонек из-за деревьев? Или это волчьи глаза блестят?
Пошел прямо на свет. Вышел из лесу, — чистое место, посреди него изба. В окошке свет.
Глядит лесник, глазам не верит: своя изба стоит!
Круг, значит, дал в темноте по лесу.
На дворе еще раз выстрелил. Нет ответа. И волки молчат, не воют. Видно, добычу делят.
Пропал парнишка!
Скинул лесник лыжи, зашел в избу. В избе тулупа не снял, сел на лавку. Голову на руки уронил, да так и замер.
Лампа на столе зачадила, мигнула и погасла. Не заметил лесник.
Мутный забелел свет за окошком.
Лесник поднялся. Страшный стал: в одну ночь постарел и сгорбился.
Сунул за пазуху хлеба краюху, патроны взял, ружье.
Вышел на двор — светло. Снег блестит.
Из ворот тянутся по снегу две борозды от Егоркиных лыж. Лесник поглядел, махнул рукой. Подумал: «Если б луна ночью, может, и отыскал бы парнишку по белотропу. Пойти хоть косточки собрать! А то — бывает же такое! — может, и жив еще?..»
Приладил лыжи и побежал по следу.
Борозды свернули влево, повели вдоль опушки.
Бежит по ним лесник, сам глазами по снегу шарит. Не пропускает ни следа, ни царапины. Читает по снегу, как по книге.
А в книге той записано всё, что с Егоркой приключилось за ночь. Глядит лесник на снег и всё понимает: где Егорка шел и что делал.
Вот бежал парнишка опушкой. В стороне на снегу крестики тонких птичьих пальцев и острых перьев.
Сорок, значит, спугнул Егорка. Мышковали тут сороки: кругом мышиные петли-дорожки.
Тут зверька с земли поднял.
Белка по насту прыгала. Ее след. Задние ноги у нее длинные — следок от них тоже длинный. Задние ноги белка вперед за передние закидывает, когда по земле прыгает. А передние ноги короткие, маленькие — следок от них точечками.
Видит лесник: Егорка белку на дерево загнал, там ее и стукнул. Свалил в снег с ветки.
«Меткий парнишка!» — думает лесник.
Глядит: здесь вот Егорка подобрал добычу и дальше пошел в лес. Покружили, покружили следы по лесу и вывели на большую поляну.
На поляне Егорка, видать, разглядывал заячьи следы — малики.
Густо натропили зайцы: тут у них и петли и сметки — прыжки. Только Егорка не стал распутывать заячьи хитрости: лыжные борозды прямо через малики идут.
Вон дальше снег в стороне взрыхлен, птичьи следы и обгорелый пыж на снегу.
Куропатки это белые. Целая стая спала тут, в снег зарывшись.
Услышали птицы Егорку, вспорхнули. А он выпалил. Все улетели; одна шмякнулась. Видно, как билась на снегу.
Эх, лихой рос охотник: птицу на лету валил! Такой и от волков отбиваться может, даром им в зубы не дастся.
Заторопился лесник дальше, сами ноги бегут, поспевают.
Привел след к кусту — и стоп!
Что за леший?
Остановился Егорка за кустом, толчется лыжами на месте, нагнулся — и рукой в снег. И в сторону побежал.
Метров сорок прямо тянется след, а дальше колесить стал. Э, да тут звериные следы! Величиной с лисьи и с когтями…
Что за диковина? Сроду такого следа не видано: не велика лапа, а когтищи с вершок длиной, прямые, как гвозди!
Кровь на снегу: пошел дальше зверь на трех. Правую, переднюю Егорка ему зарядом перешиб.
Колесит по кустам, гонит зверя.
Где уж тут было парнишке домой ворочаться: подранка разве охотник бросит?
Только вот что за зверь? Больно здоровые когтищи! Тяпнет такими по животу из-за куста… Парнишке много ли надо!
Глубже и глубже в лес лыжный след — сквозь кусты, мимо пней, вокруг поваленных ветром деревьев. Еще на корягу налетишь, лыжу поломаешь!
Эх, желторотый! Заряд, что ли, бережет? Вот это место — за вывороченными корнями — и добить бы зверя. Некуда ему тут податься.
А руками разве скоро возьмешь? Сунься к нему, к раненому! Обозленный-то и хомячишко в руки не дастся, а этот зверь, видать, тяжелый: дырья от него в снегу глубокие.
Да что же это: никак снег падает? Беда теперь: занесет след, тогда как быть?
Ходу! Ходу!
Кружит, колесит по лесу звериный след, за ним лыжный. Конца не видно.
А снег гуще, гуще.
Впереди просвет. Лес пошел редкий, широкоствольный. Тут скорей еще следы засыпает, всё хуже их видать, трудней разбирать.
Вот, наконец, догнал тут Егорка зверя! Снег примят, кровь на нем, серая жесткая шерсть.
Поглядеть надо по шерсти-то, — что за зверь такой? Только неладно тут как-то наслежено… На оба колена парнишка в снег упал…
А что там впереди торчит?
Лыжа! Другая! Узкие глубокие ямы в снегу: бежал Егорка, провалился…
И вдруг — спереди, справа, слева, наперерез — машистые, словно собачьи, следы. Волки! Настигли, проклятые!
Остановился лесник: на что-то твердое наткнулась его правая лыжа. Глянул: берданка лежит Егоркина.
Так вот оно что! Мертвой хваткой схватил вожак за горло, выронил парнишка ружье из рук, — тут и вся стая подоспела…
Конец! Взглянул лесник вперед: хоть бы одежи клок подобрать!
Будто серая тень мелькнула за деревьями. И сейчас же оттуда глухое рычание и тявк, точно псы сцепились. Выпрямился лесник, сдернул ружье с плеча, рванул вперед.
За деревьями над кучей окровавленных костей, оскалив зубы и подняв шерсть, стояли два волка. Кругом валялись, сидели еще несколько…
Страшно вскрикнул лесник и, не целясь, выпали, сразу из обоих стволов.
Ружье крепко отдало ему в плечо. Он покачнулся упал в снег на колени.
Когда разошелся пороховой дым, волков уже не было, в ушах звенело от выстрела. И сквозь звон ему чудился жалобный Егоркин голос: «Тять!»
Лесник зачем-то снял шапку. Хлопья снега падали на ресницы, мешали глядеть.
— Тять!.. — так внятно опять почудился тихий Егоркин голос.
— Егорушка! — простонал лесник.
— Сними, тять!
Лесник испуганно вскочил, обернулся… На суку большого дерева, обхватив руками толсты ствол, сидел живой Егорка.
— Сынок! — вскрикнул лесник и без памяти кинулся к дереву.
Окоченевший Егорка мешком свалился на рук» отцу.
Духом домчался лесник до дому с Егоркой на спине. Только раз пришлось ему остановиться — Егорка пристал, лепечет одно:
— Тять, бердану мою подбери, бердану…
В печи жарко пылал огонь. Егорка лежал на лавке под тяжелой овчиной. Глаза его блестели, тело горело. Лесник сидел у него в ногах, поил его горячим чаем с блюдечка.
— Слышу, волки близко, — рассказывал Егорка. — Сдрейфил я! Ружье выронил, лыжи в снегу завязли, бросил. На первое дерево влез, — они уж тут. Скачут, окаянные, зубами щелкают, меня достать хотят. Ух, и страшно, тятя!
— Молчи, сынок, молчи, родимый! А скажи-ка, стрелок, что за зверя ты подшиб?
— А барсука, тятя! Здоровый барсучище, что твоя свинья. Видал когти-то?
— Барсук, говоришь? А мне и невдомек. И верно: лапа-то у него когтистая. Ишь вылез в оттепель, засоня! Спит он в мороз, редкую зиму вылезает. Погоди вот — весна придет, я тебе нору его покажу. Знатная нора! Лисе нипочем такой не вырыть.
Но Егорка уже не слышал. Голова его свалилась набок, глаза сами закрылись. Он спал.
Лесник взял у него из рук блюдце, плотней прикрыл сына овчиной и глянул в окно.
За окном расходилась метель. Сыпала, сыпала и кружила в воздухе белые легкие хлопья — засыпала путаные лесные следы.
1928 г.
КАК Я ХОТЕЛ ЗАЙЦУ СОЛИ НА ХВОСТ НАСЫПАТЬ (рассказ корабельного механика)
Когда я был маленький, я думал: вот бы попасть в такую страну, чтобы ни птицы, ни звери меня не боялись. Бежит, например, заяц. Я ему крикну: «Зайка, зайка!» Он и остановится. А я его поглажу — ну, беги дальше!
А если волк… Ну, так я крикну: «Уходи, уходи прочь!» И он — во все лопатки. И чтоб к птице можно было подойти и разглядеть ее.
А то чижика какого-нибудь иначе как за двадцать шагов, да еще сквозь ветки, и не подсмотришь — не подпустит. Чего там чижика, когда кошку чужую на лестнице не погладишь: она сразу спину дугой, хвост трубой — прыск, прыск! — и на чердак… А по лесу идешь, так будто и никакие звери там и не живут, — все от тебя прячутся и притихнут. Один раз белку видел — и то только хвост. Может, и не белкин.
Я больших спрашивал, — есть ли такие места где-нибудь, чтоб звери к себе подпускали? А большие только смеялись и глупости говорили: «На вот, возьми соли, насыпь зайцу на хвост, тогда он тебя и подпустит».
И так было обидно! Я вырос, а обиды не забыл, но уж надежды подманить зайца у меня, конечно, не осталось. Я уже моряком стал, корабельным механиком. Попал как-то на китобойный корабль.
Киты, конечно, от нас удирали полным ходом. И было отчего: мы их из пушки били. Ядром. А впереди ядра приделана пика: называется гарпун. А от пики идет к пароходу веревка.
Но я смотреть на это не любил. Да и смотреть не на что было: сверху небо, внизу вода, а по воде лед. Мы всё время плавали в холодных странах.
Раз поднялась буря. Нас куда-то понесло. Я всё у машины сидел и не спрашивал, где это мы плывем.
Вдруг как-то слышу — наверху все кричат:
— Земля! Трава, зеленая трава!
Я не поверил и выскочил на палубу. Смотрю, верно: берег, на нем зеленая трава, горы, на небе солнышко. Всем стало очень весело. Даже петь начали.
Капитан остановил пароход, и все стали проситься на траву погулять.
Мы выехали на лодке на берег — и давай бегать по траве. Я ушел совсем далеко за холмы, а когда устал, лег посреди луга.
Вдруг смотрю — что такое? Беленькое что-то. Я привстал. Смотрю: зайчик. Весь белый, настоящий зайчик.
«Смешно! — подумал я. — Зеленая трава, а заяц белый. У нас зайцы серые летом бывают».
Я боялся шевелиться, чтобы не спугнуть зайца.
Гляжу: и другой выскочил. А вот их уже три. Фу ты! Уже десяток!
Я устал неподвижно сидеть и шевельнулся. Зайцы посмотрели на меня и поскакали, да не от меня, а ко мне!
Что за чудо: обступили — их уже с сотню было вокруг меня — и разглядывают: что я за диковинный зверь такой?
Я двигался, как хотел. Даже папиросу закурил. Зайцы на задние лапки становились, чтоб меня лучше разглядеть.
Мне так весело и смешно стало, что я начал с зайцами говорить:
— Ах вы, шельмы! Да в самом ли это деле? Да неужто это бывает, чтобы зайцы не боялись? А вот я вас сейчас напугаю!
Зайцы только посматривают, ушками потряхивают.
— Да я вас из ружья сейчас!
Нарочно я: ружья-то у меня никакого не было.
Я как хлопну в ладоши, да как крикну: «Пиф! Паф!»
Зайцы подскочили. Наверно, удивились. «Вот чудак какой!» Но никто не побежал, а просто травку стали щипать — тут же, рядом со мной.
Теперь вот, если б была соль, можно б каждому на хвост насыпать.
Тут я хватился: на пароход, пожалуй, пора.
— Ну, — говорю, — прощайте, храбрые зайчишки! И зашагал.
Смотрел только, чтобы на зайцев не наступить.
А куда идти? Где пароход? В какой стороне? Совсем забыл!
Впереди были горы. Дай, думаю, залезу на гору: с высоты будет видно, где море. Оттуда сразу к морю и пойду. А на море — пароход.
Стал взбираться на гору. Вдруг смотрю: что такое — коровьи следы?
Да сколько! Да это целое стадо шло!
«Ага! — подумал я. — Коли тут стадо, — значит, есть и пастух. Значит, здесь люди живут. Вот я пастуха и расспрошу, почему у них зайцы такие храбрые».
А следы коровьи всё уже да уже. Вот уж, видно, гуськом шли и дорожку протоптали, и дорожка ведет на кручу. Да так круто, что я уж стал на четвереньках царапаться. А сам думаю: мне здесь через силу, а как же коровам тут лазать? Удивительные какие коровы! Здесь только козам скакать.
И вот уж я долез до самого верха: вниз глянуть страшно. И вот передо мной камень; прямо не знаю, как влезть.
Я уцепился руками, поддал ногами и выскочил животом на камень.
Вот бы передохнуть!
Какое тут передохнуть! В десяти шагах от меня стоит большой, рогатый зверь, весь лохматый, шерсть до полу и на ногах острые копыта. И прямо на меня глядит.
Поглядел немного и пошел на меня.
Я подумал: «Назад надо!»
Да куда там назад: если мне с этого камня под кручу прыгать, так я покачусь вниз, как камешек, и останутся от меня одни дребезги. Туда вниз посмотреть — и то голова кружится.
А спереди — этот рогатый. Сейчас как боднет!..
У меня душа в пятки ушла. Закрыл я глаза со страху: будь что будет!
И вот с закрытыми глазами слышу: зверь ко мне подходит. Вот совсем подошел.
Слышу, как жарко дышит.
Я не выдержал, один глаз приоткрыл, а мы с ним — нос к носу!
Он воздух ноздрей потянул, фыркнул в бок. Повернулся и… потихоньку пошел назад.
Я дух перевел: не хочет, значит, меня бодать! Раздумал.
Я встал на ноги. И вот что я увидел: целое стадо таких зверей, штук двадцать, паслось тут на горе. Каждый из них, если б захотел, мог меня забодать и растоптать. Но, видно, никто из них не собирался на меня нападать.
Я вдруг вспомнил, что видел таких на картинке, даже вспомнил, как назывались. Называется этот зверь — овцебык.
Я огляделся — и там, за быками, увидел море.
Подумал: «Ничего, пока они меня не трогают, я, может быть, угляжу спуск г. пойду вокруг горы».
Спуска я никакого не нашел и тут услышал гудок нашего парохода. Это значит: хватились меня, зовут. А меня-то нет, и никто не знает, что я на этой горе. Людей тут кет. Пропаду!
Мне оставалось одно — идти прямо на быков. Эх, была не была! Распугаю.
А самому — во как страшно!
Я заорал не своим голосом. Завертел руками, как мельница, и ногами затопал.
Быки все на меня оглянулись, своих телят и маток затолкали в середину, сами вокруг стали и рога вперед выставили.
Я сразу присмирел и даже на землю сел. А быки постояли, постояли, — видят, что я ничего не делаю, и опять взялись траву щипать.
А пароход гудит, гудит!
Я чуть не заплакал. Я снял фуражку и стал быкам говорить — никого не было, так что не стыдно.
Я сказал:
— Вы знаете, честное слово, мне просто на пароход надо! Я никому ничего не сделаю. Только, пожалуйста, пожалуйста, не бодайте меня, не кусайте меня!.. Я только пройду, честное слово!
Быки посмотрели, как я говорю, и ничего. Я пошел. Прямо на стадо. Всё приговаривал сначала:
— Миленькие, я, честное слово, только так… Я на пароход.
Одного даже слегка погладил.
Потом пришлось протолкнуться между двумя. Тут уж я посмелей:
— Дорогу-то дайте же, в самом деле! А то стали — ни — пройти, ни проехать!
Дальше смотрю: один лег как раз у меня на пути.
Я уж крикнул:
— А ну, вставай!
Лежит, проклятый, и ухом не ведет. — Да вставай ты!
Я вплотную подошел и ткнул ему под брюхо ногой.
Ух, шерсть какая на них большая: сапог так и ушел, как в сено!
А бык ничего: только мыкнул, не спеша встал на колени, как домашняя корова, поднялся и отошел нехотя вбок. Я его еще ладошкой подтолкнул.
Я прошел через стадо. Спустился с горы и побежал по долинке — скорей к морю! Пароход уже гудел тревожно.
Я бежал со всех ног. Всё думал, какие это быки на вид только страшные, мохнатые. А если их выстричь, как овцу, окажется легкая зверюшка, вроде козы. Понятно, что они на такие кручи царапаются: копытца-то у них острые.
Вдруг смотрю: что такое? Две собаки.
Нет, какие там собаки, — волки! Чистейшие полярные волки. Этих-то я уж знаю. Не раз с парохода видел.
И бегут прямо на меня. Нюхают землю, меня не видят.
Ветер дул от них, и моего человеческого духа на них не несло. Они меня не чуяли и бежали, глядя в землю.
Я встал как вкопанный: авось не заметят, пробегут мимо.
А они всё ближе да ближе.
И тут, понимаете, что случилось: мушка, паршивенькая, маленькая мушка села мне на нос.
Я рукой боюсь шевельнуть: где тут до мухи, когда волки сейчас съедят! А она, дрянь, на свободе расхаживает, да мне в нос.
И вот что тут случилось.
Защекотало, защекотало у меня в носу, я как чихну — ап-чхих! Во весь дух.
Волки стали. На миг глянули на меня… Да как бросятся наутек. Только я их и видел.
Я припустил вперед и скоро прибежал к морю. В лодке уж меня ждали, и пароход ругался — гудками, конечно.
На пароходе я спросил капитана:
— Какая это земля?..
— Восточный берег Гренландии, — ответил капитан.
— Ну ладно, — сказал я. — Но что же это за страна такая? Ведь здесь всё шиворот-навыворот: зайцы сами тебе чуть за пазуху не скачут, диких быков — хоть поленом гоняй, а волки от человеческого чиху, как от пушки, — врассыпную!
И про себя подумал: «Совсем, как мне маленькому хотелось, чтобы соль на хвост сыпать».
Капитан улыбнулся.
— А это, — сказал он, — это вот почему. Людей тут нет. И не было. Зайцы и овцебыки совсем с человеком не знакомы. И поэтому не боятся его.
— А волки почему же боятся? — спросил я.
— А волки перешли сюда недавно. По льду перешли из Америки. И они отлично помнят, что такое человек. И что за инструмент у него — ружье. Им и неохота связываться с человеком.
Вот что сказал мне капитан. И я думаю, что это правда.
1934 г.
УММБ!
В первый раз это случилось со мной, когда мне было шесть лет.
Я играл на песке у моря. Никого не было рядом: мать присматривала за мной из окна. Домик наш стоял у самого берега.
Я делал из песка горки и проводил канавки. И хотя всё мое внимание было поглощено этим интересным занятием, я вдруг заметил, какая сделалась кругом тишина.
Наверное, подошел полдень, — солнце над моей головой стояло почти отвесно. Будто онемело всё вокруг, — мне показалось — весь мир. Хрустальной горой — почти зримой — воздвигалось до самого неба безмолвие. Как это произошло? Мгновенно или же исподволь, незаметно для меня, увлеченного своей забавой? Я не слышал птичьих голосов в саду нашего дома, — птицы молчали, попрятались, затаились. Ничто не шевелилось там, в саду; укороченные, иссиня-черные тени кустов и деревьев неподвижно лежали на дорожке. Даже ветер будто затаился. Столько живого было вокруг меня — птицы, цветы, деревья, — я чувствовал эту огромную, разнообразную жизнь, и всё замерло, будто затаило дыхание и вслушивалось, вслушивалось: вот кто-то скажет слово — удивительное, неслыханное слово, — и разом рухнет эта непонятная мне немота.
Когда я теперь вспоминаю себя ребенком, именно так мне представляется мое тогдашнее ощущение этого безмолвия. Тишина, внезапно наступившая, мне казалась таинственной, я не мог ее разгадать своим детским умом и замер сам и вслушивался, ждал, что вот в самой этой неподвижности полдня, в самом пространстве, наполненном зноем, с минуты на минуту что-то произойдет — и тайна исчезнет. Как в сказке из «Тысяча и одной ночи» «Али-баба и сорок разбойников» раздается заклинание: «Сезам, откройся!» — и перед человеком открывается гора, полная сокровищ.
Я ждал. Горка песку беззвучно рассыпалась и легла у моих ног. В смятении я обернулся.
Матери не было в окне, а вскочить, побежать к ней я не смел.
Тишина всё длилась. Только маленькие пологие волны залива равномерно набегали и отбегали; набегали и отбегали, чуть слышно звеня, оставляя влажный след на песке. Был полный штиль.
Полный штиль был и внутри меня. Я затаил дыхание. Только ровно, сильно тукало сердце.
Сколько времени это длилось, я не мог бы сказать.
Теперь-то я хорошо знаю, что это за тишина. Она наступает на переломе знойного летнего дня, в полуденные часы. Утомленные жарой, смолкают птицы; хищники, с рассвета парившие в небе на своих распластанных крыльях, прячутся в тень; рыба перестает играть на зеркале рек и прудов — глубже уходит в темные подводные заросли, и даже кувшинки прячут под воду свои желтые и белые чашечки. Зной. Безветрие. Солнце стоит отвесно. И чем жарче день, тем удивительнее это затишье, наступающее в природе. Почувствовать его можно только в лесу, в поле, на море, — в городе оно незаметно. Может быть, час пройдет после полудня может быть, меньше, и так же неуловимо, неощутимо, как настает эта немота, мир опять наполняется звуками.
…Ничего не случилось, но я почувствовал: проходит. И странное оцепенение спало с меня.
И вот тут-то я услышал слово, — каждый звук в нем различил.
— Уммб!.. — послышалось далеко в море, разнеслось по спокойной воде, дошло до берега, до меня и отдалось где-то за нашим домиком, в лесу:
— …ббы!
И там, откуда разнесся этот звук — от «банки», песчаной отмели среди моря, — всколыхнулись чайки. Закричали, поднялись в воздух. Налетел ветерок. В саду громко запел зяблик, застрекотали кузнечики. Хрустальная гора безмолвия рухнула.
Я вскочил и стал всматриваться в море: кто там сказал это слово?
Но на спокойной глади воды никого не было видно.
Это очень удивило меня: такое великанское — на весь мир! — слово, а того, кто его сказал, не видно. Уж не само ли это море его принесло?
Я был в том возрасте, когда для человека в мире живо всё и у всего есть язык. Тогда человеку весь мир — сказка. А в сказке почему бы и морю не произнести какие-то слова? Ведь говорит же в сказке Царь Морской!
А это слово было как раз такое, будто кто-то произнес его со дна моря, — булькнул им оттуда на весь мир.
Я побежал спросить у матери: кто это говорит «уммб» и что это значит?
Но мать ничего не могла объяснить мне. Она была в кухне, не слышала этого слова и, занятая своими делами, даже не поняла, о чем я спрашиваю.
Забыть такое слово было невозможно, и долго потом я о нем спрашивал у всех взрослых. Но никто не мог мне его объяснить, даже «старые морские волки» — матросы, побывавшие в кругосветных плаваниях.
Но эти-то умели рассказывать о море такое, что, слушая их, я забывал обо всем на свете, даже о слышанном мной таинственном «подводном слове», как я его стал называть про себя.
Из их рассказов выходило, что в море всё есть и всё может быть, — даже такое, о чем люди и не подозревают. Есть же на свете морской змей длиной в несколько километров. Есть рыбы, летающие по воздуху, — как же, рассказчик их своими глазами видел! Есть чудовища морские, такие огромные, что в пасти их пропадают целые корабли с мачтами. Есть и такая рыба морская: только приставит ей корабельный кок нож к пузу — она как заорет петухом! Вот те крест! — клянется рассказчик. — Сам, своими ушами слышал, пропади она пропадом!
Я подрастал. Пришел тот возраст, когда у человека широко открыты глаза на мир — влекущий к себе, прекрасный и таинственный мир, но уже нельзя без оглядки верить всему, что слышишь об этом мире. Рассказы матросов были очень увлекательны. Пока слушаешь их, веришь, бывало, всем морским чудесам. А потом опомнишься — и пойдут сомнения. Начнешь разбираться, где правда, где сказка и где в сказке правда.
Наверное, уж так я устроен, что мне и до старости кажется: вся жизнь — сказка. К чему ни начнешь прислушиваться — за самым обыкновенным, даже скучным на первый взгляд явлением скрываются удивительные вещи. Начнешь разбираться, а там — полно неизвестного: темные дебри маленьких и больших тайн.
И еще мне всё казалось странным, почему это люди — даже взрослые — так охотно выдумывают небылицы, когда быль чудеснее всего, что они могут выдумать?
Выдумывают каких-то чудовищ, глотающих корабли. А тому не удивляются, что живое морское чудовище — огромный зверина в сто тонн весом — кит — не может проглотить даже маленького человечка: такое у него узкое горлышко.
Серьезные научные книги начинали тогда раскрывать предо мной не менее удивительные чудеса и тайны, чем те, о которых говорилось в сказках. Я узнавал из книг, что существуют на самом деле летающие по воздуху рыбы, рыбы, ходящие посуху и даже залезающие на деревья. И что на самом деле существует морской петух — кричащая рыба.
Это заставило меня снова и снова вспоминать когда-то слышанное мною «подводное слово» и думать: уж не рыба ли какая произнесла его, — и томиться желанием разгадать эту загадку.
Человек пытлив, он хочет всё объяснить себе — и во вселенной, и в себе самом. Как же без этого жить? Исследовать, понять должен человек, а не спешить забыться — махнуть рукой.
Мы продолжали летами жить на берегу Финского залива. И вот еще и еще раз пришлось мне услышать этот таинственный звук.
Однако кто его произносил, я никак не мог подметить. Каждый раз та же картина: спокойная гладь моря, на ней — никого, кроме чаек, тишина, неподвижность — и раздается это «уммб!»
Единственное, что я твердо установил в эти годы, это что «уммб» совсем не обязательно раздается в полдень: мне приходилось слышать его и утром, и днем, и вечером — лишь бы на море было тихо.
Но кто произносил это таинственное слово, кто?..
Десять лет томился я этой загадкой.
Разгадка пришла неожиданно. И при довольно странных обстоятельствах.
Случилось, к нашему берегу прибило волной утопленника.
Как полагалось тогда — это было до революции, — из ближайшей деревни послали за урядником и судебным следователем, а в ожидании их приставили к утопленнику сторожа, чтобы никто до приезда властей не пошевелил мертвое тело.
Сторожить ночью досталось знакомому мне мужичку Спирьке. А он был не то что слабоумный, а, как про него говорили, «со шмелем». Из тех, кого до старости зовут уменьшительным именем без отчества. Нескладно всё как-то у него получалось, фантазии всё разные, а дела нет, — больше всё в церковь за семь километров бегал да лоб крестил. Нечистой силы Спирька боялся ужасно, и она всюду ему мерещилась. Ну, где такому всю ночь около утопленника просидеть? Да у него от страха родимчик сделается. А ослушаться старосты нельзя: боится.
Вот Спирька прибежал ко мне и молит:
— Выручи, братец, посиди со мной ночку, смерть боюся!
А мне шестнадцать лет было — самый такой фанфаронистый возраст, когда не только своего страха никому не покажешь, но и над другим без жалости посмеешься, если заметишь, что чего-нибудь боится.
Над Спирькиной «нечистой силой» я частенько измывался. Он и думал, что мне всё трын-трава.
А мне, признаться сказать, никогда еще с покойниками дела не приходилось иметь, и с утопленником целую ночь просидеть совсем не улыбалось. Ну, однако, не откажешься: подумает ведь, — струсил.
— Ладно, — говорю. — Обожди. Сейчас соберусь. Ночку с тобой скоротаю, а чуть свет — извини уж! — на охоту уйду.
Какая там охота после бессонной ночи! Но надо же как-то объяснить, зачем ружье с собой беру.
А Спирька и тому рад, что хоть в темноте живая душа с ним рядом будет.
Вот сидим мы со Спирькой ночью у костерка и разные истории друг другу рассказываем. Всё про хорошее стараемся, про веселое. Про покойников, утопленников, конечно, ни слова.
А «он» лежит тут совсем близко, свет от нашего костерка до него достигает. Мы у леса, «он» на песке между нами и морем. Рогожами покрыт. Лежит, молчит, не шевелится, — кажется, чего спокойнее? А вот не только Спирьке — и мне страшно. Оба к «нему» сидим вполоборота — спиной боимся повернуться. Оба нет-нет, да и покосимся на «него» одним глазом.
Я-то, конечно, знаю, что со смертью всё кончается, мертвый не встанет и ничего плохого сделать тебе не может. А всё-таки твердой уверенности, чувствую, во мне нет: вдруг да случится что-нибудь такое страшное? А что — и сам не знаю.
Котелок у нас над огнем приспособлен: чай греется. Двустволка у меня к дереву прислонена.
А ночь июньская, тихая-тихая. Чуть только море плещет. И звезды в небе горят неярко, спокойно так.
Уж вторые петухи в деревне — слышно было — пропели.
И вдруг я услышал шаги: идет кто-то по берегу к нам, камешки у него под ногами похрустывают.
Я взглянул на Спирьку, а на нем лица нет. Глаза с кулак, и рот разинут.
Я взял ружье на колени и жду: кто покажется?
Показался старичок. Совсем с виду не страшный: бороденка плохонькая, в руке суковатая палка, котомка за спиной. В штиблетах. Одним словом — прохожий старичок, из городских.
Повернул к нам. Подошел.
— Мир беседе! — говорит. — Что не спите, люди добрые?
— Сторожим вот, — отвечаю. И кивнул на «того», закрытого рогожками.
— Вот оно какое дело!
Старичок подошел к «тому», нагнулся, опершись на палочку, поднял рогожку и долго, спокойно и внимательно вглядывался в открывшееся ему лицо. Потом опять аккуратно прикрыл его рогожей.
— А это зачем же? — опять подойдя к нам, кивнул он на мою двустволку. Я так и держал ее на коленях. — Убежит, что ли?
Я не нашелся, что ответить. Приставил двустволку опять к дереву.
Он скинул с плеч котомку, сел, вытащил из нее облупленную эмалированную кружку, хлеб.
— Одолжите кипяточку? Спирька налил ему из котелка.
Старичок молча напился чаю с хлебом, молча убрал кружку, достал кисет и сложенную книжечкой мятую газетную бумагу. И, держа ее в руках, о чем-то надолго задумался.
Задумался и я. Старичок мне не нравился. Не потому ли, что он так равнодушно разглядывал «того» — на песке? И посмеялся над моим ружьем?..
— …Закурим, — сказал прохожий старичок. — Закурим табачку листового, помянем дедушку лесового.
Поминание «дедушки лесового» привело в полное смятение Спирьку: я видел, как он дернулся и, поспешно сунув руку за пазуху, мелко-мелко стал крестить себе грудь.
Старичок, казалось, не заметил этого. Он закурил, предложил табачку нам и, когда мы отказались, стал рассказывать.
Рассказ его был как раз о том, о чем мы со Спирькой в это время меньше всего хотели бы слушать: о мертвых.
Старичок сообщил, что уже сорок лет служит в городе сторожем в морге, или, как он говорил, «при покойницкой». Мертвецы были его специальностью, и видно было, что он может сообщить о них много любопытного. Я уж было и заинтересовался его рассказом, но, взглянув на Спирьку, решительно попросил старичка «прекратить об этом».
Он явно был недоволен, что ему не дают говорить на излюбленную тему, пробормотал себе что-то сердито под нос, но замолк.
Пропели за лесом третьи петухи. Был тихий предрассветный час. Море и лес молчали: еще не начался утренний бриз — не потянуло ветерка с остывшей за ночь земли в море; не проснулись в лесу птицы.
— …Уммб!.. — раздалось вдруг с моря.
— Осподи, спаси нас и помилуй! — отчаянной скороговоркой взмолился до смерти перепуганный Спирька. — Осподи, осподи, осподи, осподи, да что же это за напасть такая! Помилуй нас, огради, защити, осподи!..
Я с удовольствием отметил про себя, что и старик вздрогнул при этом таинственном звуке. Но он быстро оправился. И не замолк еще шепот Спирьки, как он полным презрения голосом обронил:
— Эк тебя схватило! От необразованности всё это. Темнота!
И так он это уверенно произнес, такое в его голосе прозвучало равнодушие к тому непонятному, что через это «подводное слово» меня так мучило, что я вдруг подумал: «А ведь вот кто, пожалуй, знает, чей голос произносит это слово!»
И, на всякий случай — чтобы не потерять своего достоинства, — скривив рот в улыбку, я тоном превосходства «образованного» человека, с высоты своих шести классов гимназии, спросил:
— А вы, значит, понимаете, что это мы сейчас слышали?
Старичок сплюнул в костер.
— Прежде слыхать не доводилось. А в соображение взять можно. Данные налицо.
«Ого! — подумал я. — Какое слово!»
И даже трепет какой-то внутренний почувствовал: вот сейчас этот сморчок, просидевший полжизни среди мертвецов, в один миг раскроет мне тайну, разгадать которую я не мог десять лет! И досадно было, и любопытно ужасно.
— Так какие же ваши «данные»? — спросил я как можно равнодушнее, особенно подчеркнув «ученое» слово.
Старичок пристально посмотрел на меня и встал. Почти величественным жестом он широко провел вытянутой рукой у себя перед грудью, как бы обводя ею какое-то пространство. Потом опустил ее — и указал на то, что лежало на песке, прикрытое рогожками.
— Понятно? Я смутился.
— Второе понятно: вон лежит. А первое, признаться, не очень.
— Первое будет — море. Мало разве в нем покойников плавает? Один этот и был?
— А при чем тут он? — совсем удивился я.
— Как, то есть, «при чем»? — рассердился старичок. — Другой человек не своей волей в воду-то попадает: случайно свалится да захлебнется или другие его туда пихнут. Такой своего последнего слова еще не сказал. А дых в них, в покойниках, есть. Такой вот человек и старается с-под воды-то свое последнее слово людям и миру вымолвить. С последним дыхом выдавливает его со дна морского.
«Фу ты! — подумал я. — Какую ерунду выдумал. Вот тебе и «образованность»!
Я махнул рукой и нарочито протяжно зевнул. Это не прошло мне даром.
— А вы, молодой юноша, — сощурившись, сказал вдруг старичок, — видать, из образованных будете? Что же покойников-то эдак боитесь? В бабьи сказки верите? Стыдно-с!
Я, конечно, вспыхнул.
— Из чего это вы заключаете, что я боюсь? И не думаю! Я сюда добровольно пришел, вот с ним — я кивнул на Спирьку — посидеть. Потому что он боится.
— А не боитесь, — сказал старичок и вредно так улыбнулся, — так вот извольте потрудитесь до моря дойти — взглянуть, не плывет ли там еще какой покойничек? Да чтобы мы знали, что вы до самой воды дошли, прихватите вот пустой котелок, принесите нам воды из моря. Ась?..
Это уж был прямой вызов. Отказаться — значило признать себя трусом.
Я вскочил, схватил котелок, протянул было руку и за ружьем, но, покосившись на ехидного старичка, поспешно отдернул руку. Пошел с одним пустым котелком.
До моря по прямой было шагов с сотню, идти надо было мимо прикрытого рогожами тела. И я прошел нарочно как можно ближе к нему: на вот тебе!
Я хоть не оборачивался, но уверен был, что старичок не спускает с меня глаз, так и сверлит ими спину мне.
Здорово я был в эту минуту зол на этого прохожего старичка. Да и на себя тоже: ведь я действительно побаивался, а чего — и сам не знал. Я же не семинарист, не верю ни в ведьм, ни в колдовство, ни в разных там виев, ни в восстающих из гроба покойников и стучащих в окно утопленников.
…И в распухнувшее тело Раки черные впились…— вспомнились мне вдруг с детства знакомые строчки, и всё тело сразу покрылось «гусиной кожей».
«Фу ты, чтоб тебя! — подумал я. — Лучше совсем об этом не думать. Потом разберусь, откуда всё-таки этот страх. Днем же не трушу».
Я уже подходил к морю. Начинало рассветать. Я всматривался в воду: вдруг там на самом деле… Но нет, конечно, не бывает таких неожиданных совпадений!
Вместе с тем мне холодило спину: я не мог забыть, что там, у меня за спиной, лежит «тот», покрытый рогожками.
…посинел и весь распух…Однако тут мне пришлось убедиться, что совпадения в жизни бывают самые неожиданные и такие которых человек заранее даже представить себе не может.
Я увидел в волнах темное тело.
«Нет, это подводный камень обнажился!» — мысленно сопротивлялся я тому, что видели мои глаза и что не хотело, ни за что не хотело признать мое сознание.
Темное тело покачивалось в спокойных волнах так недалеко от берега, что виден был даже желтоватый блеск, которым оно отсвечивало в лучах разгорающейся зари. И заметно было, что его несет к берегу.
Больше обманывать себя нельзя было.
Мне стало нехорошо. Я почувствовал слабость под коленками и должен был опуститься на песок.
Мне показалось, темное тело исчезло. Но вот я его опять увидел — ближе.
…Опять исчезло. Или это у меня мутится в глазах?
Я сидел, не смея пошевельнуть пальцем.
И как-то уж совершенно неожиданно для меня утопленник вдруг очутился совсем рядом: выплеснулся на влажный песок вместе с волной. Длинное мокрое тело, всё в мутных пятнах, зализанная водой голова… И голова эта смотрела на меня в упор открытыми, живыми человеческими глазами!
Этого я не мог вытерпеть.
Я вскочил и… не знаю, что бы я сделал, если б утопленник не повернулся вдруг очень быстро всем телом и не нырнул назад в море.
Можете смеяться надо мной, но я в ту минуту не мог сообразить, что это зверь — нерпа, тюлень.
Я понял это только через несколько времени, когда уже совсем рассвело и я увидел тюленя. Он плыл недалеко от берега и скоро потом вылез на плоский, чуть выглядывающий из воды камень.
С камня он сейчас же опять нырнул в воду: наверно, увидел меня на берегу, на старом месте. Нырнул, вынырнул — и вот оттуда, с моря, от самого того камня, где он показался, четко и ясно раздалось:
— УММБ!..
Это случайное маленькое открытие принесло мне неожиданную радость.
Не в том дело, что я мог теперь торжествовать над прохожим старичком, так ехидно надо мной посмеявшимся. Кстати сказать, я больше его не видел: он ушел, не дождавшись меня с моря.
И не в том дело, что я разгадал то, что для других — даже стариков — было тайной; хотя это, конечно, было приятно. А в том была моя радость, что я одержал победу над самим собой.
Скоро мне пришлось убедиться, что после этого глупого приключения прошел страх мой перед таинственным. Только начнешь трусить чего-нибудь непонятного, разом всплывает в памяти, как я тюленя принял за утопленника, — и сам на себя улыбнешься. А где улыбка, там какой же уж страх. И вот захочется найти простое объяснение тому, что кажется таким таинственным.
Сколько раз потом ночью на охоте мне приходилось слышать жуткие, неизвестно кому принадлежащие голоса. А утром по следам, оставленным зверями и птицами на земле или снегу, разгадывать, кто напугал меня в темноте.
Или вот сейчас, я опять вслушиваюсь в таинственную тишину перелома дня. Перед окном моей избы на колхозной улице сидит ворона. Даже не сидит, а скорее лежит: распластала крылья в пыли, приоткрыла клюв…
Дальше — за околицей — на сосне сидит большой ястреб-тетеревятник. Я не вижу отсюда, открыл ли он клюв, но достаточно того, что он сидит неподвижно и не делает никакой попытки схватить в когти глупую ворону, так беспомощно развалившуюся у него на виду в пыли.
Я знаю: он насытился с утра, он тоже утомлен жарой.
Ополдень будто бы замерла жизнь в природе так, как замерла она в сказке о спящей красавице. Безмолвие, безветрие; ходики у меня на стене однотонно отсчитывают минуты. О, как быстро они бегут!
Солнце — отец жизни — продолжает свой путь, ниже клонится к горизонту, и всё живое под ним скоро стряхнет с себя это полуденное оцепенение.
— Сезам, откройся! — Сколько раз открывалась передо мной на миг сказочная гора Сезам но двери за которыми не счесть сокровищ, тотчас же опять захлопывались у меня перед носом. Я не боюсь этого теперь. Я знаю: это не страшно, раз человек понял, как они отворяются.
К самым таинственным, призрачным дверям всегда найдется простой вещественный ключ.
Умей его только найти.
Сокровища будут твои.
1946 г.
МОРСКОЙ ЧЕРТЕНОК
1. В БОРЬБЕ СО СТИХИЯМИ
Сам теперь не пойму, как я отважился на эту отчаянную поездку. Один!
Море было грозно, вдали по нему ходили злые барашки. Едва только я отшвартовался, снял конец с прикола, — волны кинули лодку и, ударив ее бортом о пристань, погнали к берегу. С большим трудом я успел поставить в уключины весла и направить лодку носом в море. И тут началась борьба.
Две стихии — море и ветер, казалось, сговорились, чтобы не дать мне достигнуть цели и погубить меня. Я изо всех сил наваливался на весла, волны рвали их у меня из рук, а ветер, накидываясь то с одной, то с другой стороны, старался повернуть лодку назад к берегу и, поставив бортом к волне, опрокинуть ее. Очень скоро мои ладони покрылись мозолями. Но я почти не чувствовал боли: всё мое внимание было поглощено тем, чтобы держать правильный курс.
Как я жалел теперь, что не подговорил с собой кого-нибудь из товарищей! Будь у меня рулевой, он мог бы, сидя на корме, держать руль по курсу, и мне оставалось бы только справляться с веслами. А одному приходилось каждую минуту оборачиваться то через одно, то через другое плечо — смотреть, прямо ли к цели идет моя лодка.
Целью моего плавания были запретные Пять Братьев. Так назывались пять скал, дружной грудой возвышавшиеся над волнами невдалеке от берега.
Я сказал — «невдалеке». Но всё на свете относительно. Преодолеть это расстояние при тихой погоде было бы не трудно, а сейчас оно казалось огромным.
Несмотря на ветер, пот лил с меня градом. И вдруг я почувствовал облегчение: лодка подошла под прикрытие Пяти Братьев, и тут — в заветёрках — сразу перестало рвать ее из стороны в сторону.
Однако пристать к скалам с береговой стороны не было никакой возможности. Надо обогнуть их с запада: войти в проход между двумя старшими Братьями — самыми большими из камней. Это я знал, потому что мне уже дважды пришлось побывать на Пяти Братьях. Я знал, что ворота — очень опасное место: прибой там бьет с удесятеренной силой и может в щепки разбить лодку, бросив ее на камни.
Придержав лодку на месте, я немного отдохнул: надо было набраться сил для последнего, самого рискованного перехода.
Я оглядел берег. На нем никого не было. Да и кто будет выходить в море в такую рань и в такой ветер?
Наконец я собрался с духом и направил лодку в каменные ворота. Сильное течение разом загородило мне путь. Мне показалось даже, что лодку тащит назад.
Оборачиваться уже не было времени, но, скосив глаза, я по камню увидал, что потихоньку ползу вперед.
Это придало мне силы. Я налег на весла — и как-то совсем неожиданно легко очутился по другую сторону каменных ворот.
Резко повернув лодку, я без приключений ввел ее в узкую гавань между двумя Братьями — одним из старших и младшим.
Тут было тихо. Я кинул весла на дно лодки, перешел на нос, взял кошку — четырехлапый якорь — и забросил ее на старшего Брата. Подергал — зацепилась крепко.
Опасный переход кончен.
Теперь можно собраться с мыслями и приниматься за дело.
2. ИЗ ТЕМНОЙ ПУЧИНЫ
Отдохнув, я разложил в лодке все свои запасы и нацепил на крючок целый клубок червей. Мелкая добыча, что берет на одного червя, меня не интересовала: не за тем я ехал сюда, рискуя жизнью.
Я забросил удочку. Поплавок из сухой камышины вынырнул и лег спокойно. Тогда всё исчезло — берег, небо, лодка; осталась только эта камышинка да кусочек моря, на котором она покоилась. Я смотрел на нее, не отрывая глаз.
Смотрел и думал о том, что сегодня ожидает меня необыкновенная добыча. Ведь не на простую ловлю я выехал, не с берега, в мелкую воду, закинул удочку. Я — в море, на скалах. Кто знает, какая тут глубина? И что таит в себе пучина, какие живут в ней огромные, невиданные рыбы? Может быть, сегодня ждет меня счастье, и я вытащу какую-нибудь рыбину, у которой даже названия нет, потому что никто еще не ловил таких. Может быть, тут, под скалами, стоит сейчас целая стая таких рыб, и как начнут они клевать одна за другой — только поспевай вытаскивать! Я полную лодку набью добычей.
Поплавок по-прежнему спокойно лежал на воде.
Следуя мысленно за лесой, ушедшей в темную воду, я думал, какой невообразимой глубины бывают моря и океаны! Целые километры воды под тобой. Неизведанная глубина!
И мне представился крошечный-крошечный человечек на скорлупке-лодочке. Под ним бездна, пучина морская. И над ним бездна — воздушный океан, межзвездные неизмеримые пространства…
Оторвав на минутку глаза от поплавка, я взглянул вверх и между разорванными ветром тучами увидел бездонное синее небо. «Ведь будет такое время, — подумалось мне, — когда человек научится спускаться в глубь океанов, до самого дна, и подниматься ввысь — до луны, до планет, может быть, до самых далеких звезд».
Я опять перевел глаза на поплавок и не мог дать себе ясного отчета: действительно он дрогнул или это мне только показалось?
Мгновенно исчезли бездны — вверху и внизу: глаза мои впились в поплавок.
Он спокойно лежал на воде.
Я выждал несколько минут. Потом повел его удочкой — подальше от скалы: может быть, там клюнет?
Вдруг поплавок встал — и вмиг исчез под водой.
Какая-то неведомая сила увлекла его в темную бездну, натянула лесу, согнула конец моего удилища.
Но другой конец я крепко держал в руках. Вскочив на ноги, я порывистым движением дернул удочку.
Руки мои почувствовали сопротивление: кто-то там, в глубине, упирался.
Я потянул сильнее. Руки у меня дрожали.
Тот — внизу — немножко поддался.
Я тянул и тянул.
Из воды показалась камышинка-поплавок.
Поплавок, стоймя, стал подвигаться ко мне.
Но вдруг тот, под водой, стал — и ни с места.
Я рванул. Он поддался, но сейчас же утянул лесу назад. Я рванул изо всей силы.
На конце лесы вылетела из моря рыба не рыба — настоящее чудовище: всё в колючках; голая голова разинутой зубастой пастью, за ней растопыренные когтистые крылья; спины нет, а сразу хвост, тоже весь шипах.
Блеснув на солнце темными пятнами, чудовище вместе с лесой опустилось на дно лодки.
Я с торжеством посмотрел на берег: моя взяла!
И хорошо сделал, что посмотрел: оттуда, с берега грозила мне такая опасность, что я разом забыл даже своей необычайной добыче.
На берегу стеной стоял сосновый лес. В полкилометре справа он кончался. За ним виднелась дача. От дачи к лесу шел человек в костюме из желтовато-коричневой шерсти, с ружьем за плечами.
Сейчас он войдет в лес. Оттуда ему не будет видно меня. Но если он выйдет из лесу против Пяти Братьев раньше, чем я окажусь на берегу, он сразу заметит меня в море. Тогда я пропал.
Каждая минута была дорога. Не обращая внимания на чудовище, отчаянно бившееся на дне лодки, я прыгнул с борта на камень, отцепил кошку, махнул с ней назад в лодку и сел за весла. Грести к берегу было легко: ветер дул в спину, волны сами несли меня к цели.
В несколько минут я достиг пристани и поставил лодку на прикол.
Схватив удочку, не успев даже отцепить болтающуюся на конце ее добычу, я бегом по мосткам кинулся к берегу.
3. МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Только я соскочил с мостков на песок, из лесу вышел человек с ружьем в верблюжьем костюме. Это был мой отец.
Мой отец был строгий человек. Узнай он, что я ездил на Пять Братьев, да еще в такой ветер, не бывать бы мне больше в лодке до следующего года.
Ведь мне было всего десять лет, и отец строго запретил мне одному, без взрослых, брать лодку.
Но я был на берегу. Отец, наверно, подумал, что я удил с мостков. В этот день мне везло. Солгать отцу я не мог бы. Но, действуя по вдохновению, я избежал прямого вопроса и, можно сказать, выскочил сухим из воды.
— Папа! — закричал я вместо приветствия. — Я поймал морского черта!
— Ну, что за пустяки! — отозвался отец, с любопытством, однако, взглянув на мою добычу, всё еще бившуюся на конце удочки. Он был большой знаток природы и с великой страстью изучал ее.
— А любопытно, — прибавил он, перехватив у меня лесу. — Это бычок-подкаменщик. Удивительная мелководная рыбка. Прячется под камнями, а проплывет кто-нибудь мимо — рыбка ли, водяная мокрица, жучья личинка, — стрелой вылетит и — в пасть. Обжора страшный!
Я слушал и ликовал: гроза миновала, отец не видел меня на Пяти Братьях! Когда-нибудь, когда я буду большой, я сознаюсь ему в своем проступке. А пока — я герой.
И что ж такого, что это не морской черт, а всего чертенок, бычок какой-то, рыбка, умещающаяся на моей ладони? Сам отец говорит, что это удивительная рыба.
И что ж такого, что Пять Братьев совсем не скалы, а просто пять камней в каких-нибудь ста метрах от берега? И что там не пучина морская, а совсем мелко?
Ведь я-то вправду рисковал жизнью, поехав туда в лодке один, в такой ветер.
И я вправду поймал там замечательное маленькое чудовище — всё из колючих крыльев-плавников да из хвоста с шипами.
Отец пойдет сейчас дальше — он вышел на охоту, я побегу домой и буду хвастать своей необычайной добычей матери и всем своим товарищам. И все будут ахать и удивляться. А кой-кому из товарищей я даже шепну на ушко, как я этого морского черта добыл с риском для жизни.
И всё равно, над морем —.бездонное небо, а под ним — бездонные моря и океаны, и весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!
1946 г.
II
НА ВЕЛИКОМ МОРСКОМ ПУТИ
«Уважаемый гражданин председатель!
Сегодня, 17 апреля 19.. года, я отпускаю на волю дикого гуся из породы белолобых казарок.
Птицу эту я случайно купил осенью прошлого года в Ленинграде на улице. Ее нес продавать на рынок охотник. Он рассказал, что поймал казарку за несколько дней перед тем у берега Финского залива, где-то за городом Ломоносовом. Птица запуталась лапами в рыболовной сети.
Зиму казарка прожила у меня на дворе в городе Витебске. Скоро она стала очень ручной. Позволяла даже гладить себя по спине моему сыну, когда он приносил ей пищу. Весной, однако, она стала дичать. По тому, как она натягивала и щипала привязывавшую ее веревку и била крыльями по воздуху, легко было догадаться, что ее потянуло на волю. Мы с сыном решили отпустить ее. Но мы так привязались к своей дикой пленнице, что нам было жалко расстаться с ней без всякой надежды когда-нибудь снова услышать о ней. Я достал нумерованное алюминиевое кольцо выпуска Московского орнитологического комитета серии «С», № 109. Его мы наденем на ноги птицы.
Если кто-нибудь снова поймает нашу казарку, заметит у нее на лапе кольцо и напишет об этом в Орнитологический комитет, не откажите сообщить мне в Витебск, куда она залетела и при каких обстоятельствах была поймана».
Человек, написавший это письмо, приписал внизу свой адрес, подписался и вложил письмо в конверт с адресом Московского орнитологического комитета.
Затем он встал из-за стола, подошел к двери.
— Мишка! — позвал он сына. — Пойдем выпускать казарку.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Сидя у конуры, казарка яростно теребила клювом привязанную к ее ноге веревку. Но, заметив приближающихся людей, она сейчас же оставила это занятие, вся выпрямилась и высоко подняла голову. Теперь она казалась ростом с домашнего гуся, хотя на самом деле была значительно меньше. С первого взгляда в ней легко было узнать дикую птицу. Перья на всем ее теле лежали как-то особенно гладко и красиво, как они никогда не лежат у домашних птиц. Фигура у нее была статная, крепкая, грудь выпуклая, шея упругая. Ее короткие, широко расставленные ноги твердо упирались в землю. На лбу сияло полумесяцем чисто-белое пятно.
Когда отец с сыном подошли к ней, она с криком рванулась от них. Веревка натянулась и дернула ее назад. Казарка с размаху ткнулась головой в землю.
Этим воспользовался Мишин отец. Он крепко схватил птицу сзади за крылья и поднял ее на воздух.
— Развязывай веревку, — сказал он Мише.
Пока Миша возился с туго затянутым узлом, казарка всеми силами старалась вырваться. Взрослый человек едва мог удержать ее.
— Ну, Мишка, — сказал отец, когда, наконец, веревка упала на землю, — теперь простись с казаркой пожелай ей счастливого пути!
Миша хотел погладить птицу. Протянул было руку, но сейчас же ее отдернул: казарка грозно на него зашипела. Ему совсем не хотелось, чтобы она ударила его клювом. Он уже раз испытал, как это приятно: две недели у него на ноге не сходил синяк.
— Что, брат, не очень-то? — улыбнулся отец. — Ничего, я придержу ее за шею. А ты достань у меня из правого кармана колечко и плоскогубцы.
Миша подал.
— Ну-с, — продолжал отец, — разомкни кольцо и надень его казарке на лапу. Сделал? Хорошенько сожми его концы щипцами. Так. Теперь, если она попадется кому-нибудь в руки, так мы с тобой еще о ней услышим.
— Держи карман… — с сомнением пробормотал Миша.
— А? Что ты говоришь? Видишь на кольце адрес и номер? Если кто-нибудь поймает нашу казарку, он должен сообщить номер ее кольца по этому адресу в Орнитологический комитет. А я, в свою очередь, написал в комитет, чтобы оттуда сообщили нам, где будет поймана казарка. Понятно?
— Понятно-то оно понятно, — бурчал Миша, — да не очень верно, что она еще раз кому-нибудь попадется.
— Как знать! Ну-с, а теперь я ее выпускаю, — сказал отец. — У меня уже руки устали держать ее.
Он подбросил птицу в воздух. Казарка взмахнула крыльями и полетела низко над землей. Но вдруг, почувствовав, что ничто уже больше не привязывает ее к земле, она рванулась вверх, перелетела через забор и поднялась над крышей.
— Гонк! Гонк! — раздался вверху ее радостный крик.
Через минуту она казалась уже маленькой мушкой. Отец и сын глядели ей вслед.
Когда она совсем скрылась из виду, отец послал Мишу опустить в почтовый ящик письмо председателю Орнитологического комитета.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Казарка летела высоко над землей. В вышине гудел ветер. Кругом, насколько глаз хватал, никого не было видно. Вверху быстро и бесшумно плыли ей навстречу белые облака.
Земля внизу казалась черной. Лишь в ложбинах кой-где еще лежал снег. Там, внизу, медленно-медленно исчезая, подвигались назад поля, леса, деревни реки. Над ними большая стая черных птиц, махая крыльями казалось, неподвижно застыла в воздухе Время от времени то одна, то другая из птиц, сложив крылья, внезапно проваливалась вниз. Но вдруг, над самой землей задержав стремительное падение, торопливо поднималась назад в стаю.
Это летели грачи. Понемногу и они, отстав, исчезли из виду. Казарка неслась всё вперед. Прошло уже несколько часов с тех пор, как она почувствовала себя свободной. Она спешила теперь разыскать других казарок, чтобы вместе с ними совершить длинный и опасный путь на родину. Но до сих пор она никого не встретила в вышине.
Вот если б ей добраться до того места, где полгода назад поймал ее охотник! Она хорошо помнила это место. Там было море. Там пролегал Великий морской путь. По нему стая за стаей вереницей тянулись казарки, гуси, лебеди, утки, кулики и другие морские и прибрежные птицы. На Великом пути она рассталась с родной стаей и со своим неразлучным другом — гусем-казанком. Скоро, может быть, она снова найдет его.
Охотник увез ее оттуда в темном мешке: она не могла запомнить дорогу. Но безотчетное чувство, знакомое одним птицам, безошибочно указывало ей верный путь.
Долгий и быстрый полет не утомил казарку: птицы не знают одышки. Каждый взмах крыльев наполнял воздухом ее легкие и через них — воздушные мешки во всем теле, даже в пустых костях. Те же мускулы, что двигали ее крыльями, то растягивали, то сжимали эти мешки. Воздух свободно входил и выходил из них. И дыханье казарки оставалось таким же ровным, как если б она спокойно сидела на месте. Заставить ее опуститься на землю мог только голод.
Ей уже хотелось есть. Всё тело начинала охватывать неприятная слабость, всё труднее становилось двигать крыльями. Казарка стала понемногу опускаться, высматривая удобное место для кормежки.
Опасно кормиться в одиночестве. Пока будешь нырять за кормом под воду или разыскивать его на земле, и не заметишь, как подкрадется враг. Казарка оглядывала землю: нет ли где таких птиц, к которым можно бы присоединиться хоть на время кормежки?
Под собой она видела поля, рощи, перелески. Иногда снизу поднимались крошечные жаворонки, и песни их звенели в воздухе. То тут, то там казарка стала замечать маленькие фигурки людей, коров, лошадей, словно ползающих по земле.
Стараясь держаться в стороне от них, казарка полетела над самыми макушками деревьев. Только теперь она заметила, что по всему лесу беспрерывным строем передвигались мелкие лесные птицы. Безостановочно перескакивая с ветки на ветку, перепархивая с дерева на дерево, они стайками двигались всё вперед с писком, свистом, щебетаньем и песнями. Их было особенно много по опушкам леса. Тут звонко пинькали разноцветные зяблики, мелькали красные шапочки чечеток, поблескивали оранжевым и белым крылышки тревожно жужжащих вьюрков, громко трещали серые дрозды.
Время от времени стайки слетали с ветвей и горохом рассыпались по земле. Птицы весело прыгали, быстро поклёвывая корм. Но вдруг, словно по какому-то невидимому знаку, одна за другой опять взлетали на деревья и продолжали свой путь по ветвям.
Казарка радовалась этим маленьким спутникам. Но голод, голод заставлял ее думать о другом. Надо было поскорее найти место, где можно будет безопасно и сытно покормиться.
Наконец, далеко впереди на черной земле блеснула узкая полоска воды. Она стала быстро расти, расти, и скоро казарка увидела перед собою широкую, полноводную реку. Река так разлилась, что черные, не покрытые еще листьями кусты ее низкого берега торчали прямо из воды. Казарка заметила плавающих между кустами птиц.
Сердце заколотилось у нее в груди: вдруг это свои? Она звонко крикнула призывным голосом:
— Гонк! Гонк! Гонк!
— Ваак! Ваак! Ваак! — ответили ей с реки. Нет, это не казарки… Это крякали утки.
Но одинокая, усталая, голодная казарка была рада и этой встрече. Ведь кряковые утки приходятся её дальними родственницами. Они едят ту же пищу, что и она. Она даже немного понимала их язык.
Казарка замедлила полет, сделала один, два, три всё уменьшающихся круга в воздухе. Потом, шумно разбрызгивая воду, тяжело опустилась рядом с утками. Вся стая их сейчас же сплылась, окружила казарку. Поднялось громкое кряканье: видно, утки были рады гостье.
Через минуту казарка уже добывала себе пищу среди их стаи. Она быстро перекувырнулась головой вниз. Ее оранжево-желтые лапы замелькали у самой поверхности воды. Нахватав полный клюв травы и мелкой водяной живности, казарка вынырнула, процедила воду сквозь частые боковые пластинки клюва и проглотила мягкую пищу. Кругом, поблескивая фиолетово-синими зеркальцами на крыльях, точно так же кувыркались утки.
Над рекой мелькали хвосты и головы птиц. Но каждый раз, лишь только одна из них выныривала, она тотчас же высоко поднимала голову и зорко озиралась. Ни один враг не мог приблизиться к стае незамеченным: пока одни птицы ныряют, другие, вынырнув, сторожат. Достаточно одного предостерегающего крика, чтобы вся стая насторожилась и, в случае надобности, в ту же минуту обратилась в бегство.
Но и в этот раз, как всегда бывает, беда стряслась неожиданно. Едва одна из уток заметила мелькнувшие за кустами крылья большого сокола, как он уже был над ней. Отчаянный крик крякушки в одно мгновение всполошил всю стаю.
Нападение было так быстро, что птицы не успели сообразить, откуда им грозит опасность. Все сразу бросились врассыпную. Казарка забилась под куст, утки нырнули под воду, а одна из них поднялась на воздух.
Только этого и надо было соколу. Вихрем пронесся он над кустом и ударил утку. В воздухе закружился пух и, качаясь, стал медленно опускаться на воду.
А сокол был уже далеко с мертвой добычей в когтях. Сквозь куст казарка видела, как на другом берегу широкой реки он уселся на обрыв и принялся потрошить птицу. Потом он ощипал ее и стал есть.
Казарка оглянулась. Уток нигде не было видно. С перепугу они забились под кусты и не решались вылезть из-под их защиты.
Сокол между тем кончил обед, тщательно отер клюв о землю и пригладил им перья у себя на груди и крыльях. Затем поджал одну ногу и перестал двигаться. Только голова его с хищным, крючковатым клювом по временам медленно поворачивалась из стороны в сторону, и большие блестящие глаза спокойно и величаво поглядывали вокруг.
Это был крупный перелетный сокол сапсан, один из самых смелых пернатых хищников.
Ростом он был меньше казарки, но она чувствовала непреодолимый ужас при одном взгляде на него. И это; была не трусость. Хотя сапсан величиной всего с ворону, но в воздухе от него нет спасенья даже таким большим и сильным птицам, как цапли и гуси.
На земле и в воде сапсан не трогает птиц. Только молодые, неопытные соколы, бывает, бьют добычу слишком низко над землей. Если им случится промахнуться, они насмерть разбиваются грудью о землю. Взрослый сапсан нападает на птиц из засады и, вспугнув, бьет сверху всегда без промаха.
Счастье казарки, что в переполохе она не поднялась на воздух. Сокол сразу различил бы ее среди стаи уток, и тогда ей не миновать бы острых когтей.
Теперь сапсан был сыт. Любая птица смело могла приблизиться к нему, и он бы ее не тронул. Он не такой разбойник, как ястреб, который убивает всех, кого только может, даже когда сыт. Только голод заставляет сапсана убивать.
Одна за другой утки, осмелев, стали выплывать из своих убежищ. Сапсан их видел, но не шевельнулся. Его крепкое тело с широкой грудью словно приросло к камню. Когда он не двигался, его почти невозможно было отличить от окружающих камней и комьев земли. Под цвет их удивительно подходила его аспидно-бурая спина, черные перья крыльев и серо-полосатая грудь, брюхо и хвост. Только белое горло выделялось на бурой земле, как светлый камешек.
Когда все утки сгрудились в стаю, они сразу, как по сигналу, снялись с воды и, стремительно забирая вверх, с шумом промчались над головой сапсана.
Склонив голову набок, сапсан спокойно поглядел им вслед.
Уже несколько дней он летит за стаей, выхватывая из нее то одну, то другую птицу себе на обед. Он, как и утки, пробирается теперь на север, к себе на родину. Когда он сыт, он пропускает стаю вперед. Но лишь только голод напомнит ему, что желудок его пуст, сапсан быстро догоняет утиную стаю. Так никогда он не остается без пищи в пути.
И сейчас он спокойно смотрит вслед улетающей стае, стараясь запомнить направление ее полета.
Вдруг в глазах его блеснул хищный огонек. Он сразу весь вытянулся и насторожился. Среди уток он увидел казарку. Это была ценная дичь.
В эту минуту ничего не подозревавшая казарка нажила себе неумолимого, безжалостного преследователя, от которого не могли ее спасти ни быстрые крылья, ни крепкий клюв.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Настала теплая прозрачная ночь. Таял снег. В бледном небе чуть заметно мерцали редкие звезды. Внизу, в деревне, один за другим гасли мутные красные огоньки.
Было тихо кругом. Из темноты доносился только легкий звон неведомо куда бегущих ручейков.
Вот послышался в вышине приближающийся свист крыльев невидимой утиной стаи. Над самой деревней прозвучал с неба звонкий трубный гогот казарки.
Во дворе на окраине деревни всполошились домашние гуси. Громко захлопали крыльями и закричали пронзительно и тоскливо. В легком сумраке ночи им померещилась неясная тень пролетающей вдаль стаи.
Через несколько времени та же неуловимая тень скользнула над другой деревней, потом над третьей. И всюду трубный голос казарки будил и волновал деревенских гусей.
Давно забывшие волю домашние птицы в смутном порыве били крыльями по воздуху.
Но отвыкшие от полета, ненужные им теперь крылья не поднимали их с земли, не могли помочь вырваться из неволи. И долго в ночной тишине не умолкал их крик, полный бессильного отчаяния.
А казарка, счастливая своей свободой, быстрыми, уверенными взмахами уносилась всё дальше и дальше. Она неслась навстречу опасностям, может быть даже смерти. Но впереди ждало ее море, Великий путь морской, и на нем — шумные стаи подоблачных странников и встреча с покинутым другом.
К концу ночи утиная стая опустилась на залитое талой водой лесное болото.
Тут было темно и тихо. Ветер сюда не проникал. Гладкая черная вода блестела, отражая светлеющее небо. Тесным кругом обступили болото мрачные ели. Их широкие ветви шатром нависли над самой водой.
Темнота птиц не пугала: в ночном мраке они различали все окружающие их предметы. Пока всё оставалось неподвижным, птицы могли быть спокойны. От их глаз не ускользала ни одна тень. Враги не могли подкрасться к ним незамеченными.
В лесу была мертвая тишина. Лишь изредка напряженный слух птиц улавливал мягкий шорох где-то в глубине темной чащи. Сейчас же одна из уток тихонько крякала и вся стая мгновенно вытягивала шеи, прислушивалась и оглядывалась. Но шорох больше не повторялся, птицы успокаивались и снова принимались за еду. Опять в ночной тишине слышался только тихий плеск погружающихся в воду тел. Стая торопилась насытиться, пока снующие кругом враги не открыли ее убежища.
Казарка ныряла у самого берега, под защитой густых еловых лап. Тут она чувствовала себя в безопасности: если б какой-нибудь хищник напал на уток, плавающих посреди открытого болота, она успела бы ускользнуть.
На дне болота росли длинные цепкие водоросли. Скоро казарка почувствовала, что запуталась в них ногой. Она порывисто рванулась вперед, но металлическое кольцо больно вонзилось ей в ногу. Крепкие водоросли зацепились за него. Казарке показалось, что она снова на привязи. В это время в чаще явственно хрустнул сучок. Казарка перестала дергать лапой и медленно повернулась всем телом к берегу.
Из мрака седой ели смотрели на нее в упор два мерцающих желтым огнем, немигающих глаза.
Казарка хотела вскрикнуть. Но судорога сдавила ей горло. Всё тело ее оцепенело от ужаса. Стоит только пошевельнуться — и невидимое чудовище всей тяжестью обрушится на нее и раздавит.
Казарка уже не чувствовала боли от впившегося ей в ногу кольца. Она и не думала бежать. Не могла оторвать взгляда от этих пронизывающих ее глаз.
Вдруг что-то резко толкнуло ее в бок. На миг глаза казарки оторвались от тех глаз. Рядом с собой она увидела утку, задевшую ее крылом. В ту же минуту спало с нее оцепенение. И казарка так сильно рванулась с места, что лопнули водоросли, державшие ее за ногу. С громким криком она бросилась бежать по воде, помогая себе крыльями. Встревоженные утки снялись с болота.
В то же время из чащи раздался злобный лай лисицы. Лай перешел в визг, потом в ворчанье. Птицы услышали затихающий в лесу треск сучьев под ногами удалявшегося зверя. Лиса знала, что напуганная стая сядет теперь в середине болота и больше уж не удастся подстеречь птиц у берега.
Утки и казарка носились над водой. Они еще не были сыты, и им не хотелось улетать отсюда.
Но кругом было много страшных врагов, прятавшихся в темноте.
— У-гуу! — раздался вдруг зловещий голос из глубины леса.
Плавно опускавшаяся к воде стая дружно замахала крыльями.
— У-гуу! У-гуу! — послышалось в ответ в другой стороне.
Стая круто взмыла кверху и понеслась над лесом.
— У-гуу! У-гуу! — теперь филины перекликались где-то внизу и не были уже страшны стае.
Светало. В деревнях просыпались люди.
Прошел час ровного, неторопливого полета. Лучи восходящего солнца, скользнув по розовым облакам, спустились книзу и заиграли на цветных крышах показавшегося вдали города.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В это время сапсан уже догонял утиную стаю.
Не замедляя быстрого, как вихрь, полета, он промчался над просыпавшимися деревнями. Домашние гуси при виде его в испуге кричали и шарахались под защиту навесов.
Сапсан мчался всё дальше и дальше. Внизу мелькали деревни, поля, рощи. Наконец он понесся над большим еловым лесом. Стайки мелких птиц то тут, то там показывались над деревьями. Появление сокола мгновенно обращало их в бегство. Они врассыпную кидались вниз, вверх, в стороны — лишь бы оказаться подальше от страшного хищника.
Но сапсан не обращал на них внимания: впереди его ждала крупная добыча. Он несся всё быстрей, быстрей.
Солнце еще низко стояло над горизонтом, когда сапсан увидел вдали город.
Между тем казарка, не чуя настигающей ее беды, замедлила полет. Она с удивлением разглядывала с высоты развернувшийся под ней город.
Люди еще спали в домах.
Город казался мертвым. В разных направлениях его пересекали серокаменные перегородки, крытые буро-красным железом. Разных размеров четырехугольные и косые клетушки вплотную примыкали друг к другу. Длинные, прямые, узкие улицы между ними напоминали сухие русла канав. Посредине города сверкала река, сжатая прямыми гранитными берегами. Там, где она разбивалась на два рукава, по сторонам ее высились две тонкие золотые иглы.
Расстояние между сапсаном и стаей, летевшей всё прежним неторопливым полетом, уменьшалось с каждой минутой. Но ни утки, ни казарка не замечали преследователя. Взгляд казарки остановился на круглой золотой крыше громадного дома. Залитое ярким солнечным светом, золото слепило глаза.
Казарка видела, как из-под этой крыши вывернулась птица и быстро полетела вверх. Скоро можно было различить изогнутые серпом крылья сокола.
Тревожно крякнула одна из уток, и вся стая стала подниматься. Сокол мчался к ней почти по прямой линии. Теперь спасение зависело от того, сумеет ли стая не дать соколу догнать ее и набрать высоту для удара в спину.
Птицы молчали, напрягая все свои силы в этой воздушной борьбе. Так прошло несколько томительно долгих мгновений. Становилось уже трудно дышать в разреженном воздухе подоблачной высоты.
Казарка с ужасом замечала, что, несмотря на все ее усилия, сокол становился всё лучше виден, всё приближался. Кровь стучала у нее в голове. Сердце больно колотилось в груди.
Вдруг сокол перестал подниматься. На миг он неподвижно повис в воздухе, повернулся и внезапно стрелой метнулся в сторону.
Воспользовавшись этим счастливым для нее оборотом дела, стая дружно понеслась прямо вперед. Одно мгновение казарка еще видела под собой быстро мелькавшие крылья сокола. Ей показалось, что он мчится навстречу своему отражению в воде. Но в следующее мгновение сокол и его двойник пропали у нее из глаз.
Теперь казарка взглянула вперед. Ликующий крик вырвался у нее из груди: прямо перед ней, искрясь в золотых лучах утреннего солнца, лежало море.
Там простирался Великий путь.
Когда сапсан заметил летящую высоко над городом казарку среди утиной стаи, он понесся еще быстрей. Ему некогда было теперь смотреть по сторонам: расстояние между ним и стаей уменьшалось с каждым взмахом его крыльев. Теперь надо было подняться выше, чтобы ударить казарку сверху.
Ни одна из птиц в стае не обернулась назад. Значит, они еще не заметили его. Но отчего же они поднимаются всё выше и выше?
Сапсан глянул вниз. Там навстречу ему поднимался другой сокол. Одно мгновение сапсану казалось, будто он видит свое отражение в воде: так похож был на него встречный сокол. В следующий миг сапсан понял, почему устремились вверх утки: другой сокол тоже преследовал стаю, утки спасались от него.
Соперник тоже заметил сапсана. Он приостановился в своем полете вверх, круто повернулся на месте и вдруг стремглав бросился наперерез сапсану.
Оба сокола были в эту минуту на одинаковой высоте.
Сапсан с самого восхода солнца без отдыха гнался за стаей и устал, но он был крупнее своего соперника.
Сокол, поднявшийся из города, казался меньше, но у него был свежий запас сил. С громким боевым криком — гхиак! гхиак! — он бросился на противника.
Услышав этот яростный крик, сапсан потерял всё свое мужество, повернулся и пустился наутек.
Городской сокол с торжествующим криком помчался за сапсаном. Погоня продолжалась до тех пор, пока сапсан не вылетел за черту города. Тут его преследователь отстал и вернулся к себе домой, под золотой купол, где впервые его заметила казарка.
Здесь он жил среди шумного, людного города. Смелый до дерзости, как все соколы, он часто хватал голубя или галку над самой головой прохожих. Горожане даже не подозревали, что этот смелый хищник живет, рядом с ними в столичном городе. Многие из них видели, как стая голубей, вспугнутая внезапным появлением сокола, с шумом проносилась у них перед глазами. Но они не догадывались поглядеть вверх или просто не замечали ни внезапного смятения голубей, ни быстрого нападения хищника.
Встреча двух соколов спасла жизнь казарке. Сапсан, утомленный головокружительным бегством, вынужден был опуститься в первой попавшейся ему за городом роще. Пока он отдыхал здесь, утиная стая долетела до моря и затерялась среди других странников Великого морского пути.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Миша разложил перед собой большую карту, нашел на ней город Витебск и подчеркнул карандашом.
Мысль о выпущенной на волю казарке не давала ему покоя.
«Ладно, — думал Миша. — Пусть она летит туда, где ее поймали».
Он провел прямую черту от Витебска до Финского залива, левее Ленинграда.
«Правда, оттуда ее везли в закрытой корзинке. Ну, что ж, почтовых голубей тоже в закрытых корзинках возят. Находят же они всё-таки дорогу назад, в свою голубятню. А дальше?»
Миша задумался:
«Казарки, говорят, на самом севере гнездятся. Путь у них через Ладожское да Онежское озера, дальше мелкими озерами. И залетит куда-нибудь на Новую Землю. Кто ее там поймает? Там и людей-то — раз, два и обчелся. А и застрелит ненец-охотник, — разве он знает, что надо про кольцо в Москву заявить?»
— Батька-у! — закричал вдруг Миша во весь голос. — Знают ненцы, что о кольце надо в Москву заявлять?
— Что такое? — отозвался отец из своей комнаты. — Какие немцы? Про какое кольцо?
— Да не немцы, а ненцы. Если нашу казарку охотник, какой-нибудь ненец на Новой Земле, застрелит, — догадается он про кольцо заявить?
— А, ты вот о чем! Что ж, очень возможно, что и заявит. Северные охотники — народ очень приметливый и любознательный. О птице с кольцом на ноге быстро разнесется слух по всем становищам. Узнают, конечно, об этом и тамошние научные работники и дадут знать в Москву.
— Пожалуй, что и так, — согласился Миша. Дельно было бы с Новой Земли известьице получить: дескать, кланяется вам белолобая казарка.
Миша поднял глаза от карты и задумчиво посмотрел в окно. Тут глаза его разом расширились от испуга: за окном валил снег, бушевала настоящая метель. Миша думал:
«Ну, значит, конец теперь казарке. Зима вернулась. Куда птице деваться? Не прилетит же обратно в свою конуру?»
Миша пошел к отцу и сказал ему о своих опасениях. Отец уверял, что еще ничего не известно, — может быть, там, где теперь казарка, и нет никакой метели. Может быть, там прекрасная погода. Да, в конце концов, не все же птицы гибнут, когда в пути их застает буран. Что за чепуха такая — воображать себе всякие ужасы!
— Нет, — сказал Миша твердо, — я знаю: маху мы дали. Нельзя было так рано выпускать казарку. Надо было настоящего тепла дождаться. Она у нас привыкла в тепле жить. Теперь погибнет от стужи.
И махнул рукой.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Шум стоит на Великом морском пути весной и осенью.
Дважды в год проносятся по нему густые толпы крылатых странников. Дважды в год они облетают четверть земного шара вслед за лучами солнца. Одним своим концом Великий путь уперся в сумрачный Северный Ледовитый океан, другим — потерялся в цветущих странах жаркого экватора.
Ранней весной горячие лучи солнца скользнут вниз по склону земного шара, борясь с мраком долгой северной зимы, ломая лед и освобождая воды. Тогда бесчисленные стаи морских и прибрежных птиц поднимаются с теплых озер и морей южной Европы и Африки. Бесконечной вереницей, каждая в свой черед, своим строем летят они вдоль берегов Африки и Пиренейского полуострова, Бискайским заливом, проливами, Северным и Балтийским морями.
Постепенно часть стай начинает отставать, сворачивает с Великого пути и широко разлетается в стороны, расселяясь по окружным озерам, рекам и топям. Но всё новые и новые стаи прибывают с юга. Там, где узкий Финский залив глубоко врезался в сушу, они поднимаются над лесом и летят почти беспрерывной цепью озер до холодного Белого моря и дальше, вдоль берега Ледовитого океана, до Новой Земли. Тут последние стаи разбиваются на пары. Тут они строят гнезда, выводят маленьких пушистых птенцов.
Они спешат, потому что на севере лето коротко. Едва их птенцы подрастут и выучатся летать, птицы снова собираются в стаи, чтобы лететь на юг. Голод, надвигающийся вместе с мраком и холодом, гонит их за ускользающими лучами солнца. Настает осень, и еще более густые толпы крылатых странников покрывают собой Великий морской путь.
Долгий путь труден. Но беззаботная жизнь на юге быстро восстанавливает истощенные силы. Незаметно проходит месяц за месяцем. Вдруг безотчетное волнение охватывает птиц. Им больше не сидится на месте.
Там, на их родине, началась весна.
И вот стая за стаей — первыми те, что прилетели последними, последними те, что прилетели первыми, — птицы снова отправляются в путь на далекий север.
Лед уже растаял на Финском заливе. Последние льдины, застряв на камнях и мелях близ берега, еще белели среди серой глади моря. Они служили приютом для отдыха пролетных стай.
На одну из этих льдин и опустилась утомленная казарка.
Она только что рассталась со своими спутницами — утками. Утки остались кормиться у берега, а она полетела разыскивать свою родную стаю.
Место это было ей хорошо знакомо: как раз тут прошлой осенью она отделилась от своей стаи, запуталась в рыболовной сети и попала в руки охотнику.
Но теперь диких гусей нигде кругом не было видно.
Был полдень — время отдыха в пути. Лишь изредка проносилась вдали одиночная стая спешивших на кормежку птиц.
Над льдиной летали взад и вперед чайки. То одна, то другая из них, подняв прямо над спиной крылья, падала в волны. Искры светлых брызг на мгновение скрывали от глаз белую птицу. Через миг она снова махала крыльями в воздухе, быстро поднимаясь от воды. В ее клюве блестела серебряная рыбка.
На чаек казарка не обращала никакого внимания. Она всматривалась в серую рябь волн. У самой льдины и дальше в море то показывались, то исчезали в воде ловившие рыбу нырки. Чаще всего попадались на глаза белогрудые гоголи, большие черные турпаны с белой перевязкой на крыле и пестрые длиннохвостые морянки.
Вот очень далеко от себя, между льдиной и берегом, казарка заметила двух больших птиц. Ей показалось, что это гуси. Вода блестела в солнечных лучах, как сталь; глаза уставали всматриваться вдаль.
Казарка сейчас же опустилась на воду и поплыла к этим птицам. Волны поднимались у нее перед глазами и мешали смотреть вдоль по поверхности моря.
Так прошло несколько минут. Наконец она снова увидела их, уже в стороне от того места, где высмотрела их со льдины. В ту же минуту обе птицы опустили головы и быстро погрузились в воду. Казарка заметила резкие белые полосы на спине одной из них, ее острый, совсем не похожий на гусиный клюв.
Она сразу узнала в них больших морских птиц — гагар.
Казарка была теперь недалеко от берега. Тут стали ей попадаться разные утки.
Мелкие заливчики берега были полны илом. Утки находили в нем обильную пищу.
Разные породы их держались отдельными группами, то приближаясь, то отдаляясь друг от друга. Только маленькие бойкие чирята сновали между ними, приставая к разным стаям.
Здесь были и разноцветные рыжеголовые свиязи, и шилохвости, вся спина которых испещрена тончайшими волнистыми полосками, а длинный острый хвост действительно напоминает шило, и кряковые — такие самые, как те, в стае которых прилетела сюда казарка. Может быть, даже тут были и ее недавние спутницы: кряковых уток было так много и все они были так похожи друг на друга, что казарка не сумела бы различить среди них своих знакомых.
С плеском и кряканьем птицы спешили насытиться, чтобы вечером с новыми силами пуститься в путь. Над самой водой поблескивали на их крыльях разноцветные перья, словно маленькие зеркальца. У кряковых зеркальца отливали фиолетовым, у шилохвостей — серым, у свиязей и чирков — зеленым.
Это было красивое зрелище. Особенно хороши были селезни в своих ярких, весенних нарядах. Но казарке было не до них. Чувство одиночества всё больше и больше охватывало ее: гусей и тут нигде не было.
Голод мучил ее. Она стала доставать корм со дна, плавая среди утиных стай.
Прошло много времени, пока она наелась досыта. В первый раз с тех пор, как она очутилась на свободе, она почувствовала себя сытой и отдохнувшей.
Полуденный отдых на Великом пути кончился.
Над Морем всё чаще стали показываться летящие на север стаи. Воздух наполнялся шумом, свистом и хлопаньем крыльев.
Где-то за лесом громко курлыкали журавли.
С моря доносился многоголосый крик большой стаи гоголей и протяжные стоны чаек.
Казарка с новыми силами поплыла в море разыскивать свою стаю.
Вечер застал по-прежнему одинокую казарку снова на льдине среди моря.
Теперь над самой головой казарки и вдали ежеминутно проносилась стая за стаей.
Но напрасно среди них она искала глазами свою родную стаю. Гуси всё еще не показывались.
Солнце уже опускалось в море. Погода начинала портиться. По небу медленно ползла вверх большая черная туча. Над водой проносились легкие серые облачка тумана. Они всё чаще окутывали льдину, обдавая казарку сыростью.
С той стороны, куда летели пролетные стаи, прозвучали громкие трубные клики лебедей. Через минуту опять повторился их клик.
Три огромные белые птицы, отливая серебром, махая тяжелыми крыльями, плавно скользили по воздуху. Их прямые длинные шеи были вытянуты далеко вперед.
Лебеди возвращались. Это не предвещало ничего хорошего.
Большая льдина, где сидела казарка, привлекла внимание лебедей. Широкими плавными кругами, всё так же медленно двигая крыльями, они опустились к самой воде. Наконец тяжеловесно сели на воду и некоторое время плыли вперед, не в силах сразу остановиться. Теперь шеи их были высоко подняты. С гордым и величественным видом они спокойно оглядывали море. Потом, ломая обтаявший с края лед, один за другим поднялись на льдину.
Туман всё сгущался. Больше не видно было стай, летящих на север.
Беспорядочные густые толпы уток возвращались назад вслед за лебедями. Долетев до льдины, они с шумом усаживались вокруг нее на воду.
Там, впереди, на морском пути, случилось несчастье: туман опустился непроницаемой стеной. Окруженные густой серой мглой, птицы сбивались с пути и гибли целыми стаями, разбиваясь о серые скалы. Те, что еще не заблудились, спешили вернуться назад.
Казарка не знала, что и ее родная стая была там, впереди. Она долго еще сидела, напряженно вглядываясь в сгущающуюся тьму, и напрягала слух в надежде услышать знакомые голоса.
Вернувшиеся стаи устраивались на ночлег. Наконец и глаза казарки стали смыкаться. Она подвернула голову под верхние перья крыла и заснула.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Казарка спала крепко. Сквозь сон она слышала только неясный гул птичьих голосов и плеск волн о льдину.
Во сне она забыла свое одиночество. Ей казалось, что она среди своей родной стаи. Ей даже слышался кругом громкий говор гусиного табуна.
Вдруг сильный толчок в плечо заставил ее прийти в себя. Она быстро высвободила голову из-под крыла и раскрыла глаза. В первую минуту она ничего не видела. Кругом была черная мгла, липкий туман. Шум волн мешал различать голоса.
Новый толчок — теперь прямо в грудь — чуть не свалил ее с ног. В это время у самой головы ее раздалось громкое шипенье.
— Гонк! — изо всей силы крикнула казарка. Спереди, сзади, со всех сторон вокруг нее из тьмы раздались такие же голоса.
— Го-го-го-гонк-гонк-гонк-гонк! — гоготали гуси. Это был уже не сон. Она действительно была среди своей стаи, опустившейся на льдину, пока она спала. Ее стая нашла в тумане дорогу назад.
Старый гусь-вожак наткнулся в темноте на казарку и ударами клюва хотел прогнать ее со льдины. Но, как только она подала голос, он узнал ее и отошел в сторону.
Приглядевшись, казарка увидела за ним тесно сгрудившийся табун и поспешно шагнула вперед.
Табун расступился и опять сомкнулся за ее спиной.
К утру туман стал редеть. Свежий бриз гнал по морю его разорванные клочья.
Табун белолобых гусей всё еще сидел на льдине.
В это утро на всем Великом пути не было птицы счастливее казарки.
Она беззаботно плавала у края льдины и, красиво изгибая шею, оправляла клювом перья у себя на груди. Рядом с ней плавал ее гусь-казанок.
Это была дружная пара. Три года они прожили вместе и ни разу не разлучались до того дня, когда казарка попала в неволю к людям.
Теперь счастливый случай помог им снова найти друг друга.
Когда казарке надоело плавать, она вылезла на льдину. Тут, при ярком свете выглянувшего из моря солнца, казанок увидел на ее ноге широкое белое кольцо. Он сейчас же принялся теребить его, стараясь освободить подругу от этой ненужной вещи. Но он ничего не мог поделать с крепким металлом. Острые края кольца только ранили ему клюв и причинили боль казарке.
В это время вожак затрубил сбор.
Гуси сейчас же собрались в кучу и затихли. Вожак повторил крик, медленно расправил крылья и грузно поднялся на воздух. Табун последовал за ним, на лету выстраиваясь тупым углом.
Вожак летел впереди, мерно рассекая воздух крыльями; за ним тянулись другие старые гуси. Молодежь летела в хвосте стаи.
Долетев до берега, табун поднялся повыше. Под ним был лес. Гуси спокойно озирали его с высоты и неторопливо переговаривались.
Когда вожак устал, он опустился ниже и, пропустив вперед над своей головой стаю, полетел в хвосте ее. Его место занял другой старый гусь. Таким образом, строй стаи не был нарушен.
Казарка, летевшая позади своего гуся-казанка в середине угла, заметила сапсана, сидевшего на вершине сухого дерева на опушке леса. Видел его и вожак.
Но грозный хищник на этот раз не испугал казарку. Вожак не ускорил полета и не подал тревожного сигнала. Против целого табуна сапсан был бессилен.
За лесом показалась деревня.
Вожак загоготал, и табун поднялся выше.
Над соломенными крышами вился легкий дымок.
Посреди улицы шел человек. Казарка узнала в нем охотника, который вытащил ее из сети осенью прошлого года.
Услышав гогот у себя над головой, охотник высоко поднял голову, прикрыл рукой глаза от солнца и долго смотрел вслед улетающим гусям. Он видел, как, миновав околицу, табун стал снижаться, опускаясь на поля.
Тогда охотник потер себе рукой уставшую от напряжения шею, повернул назад и поспешно скрылся в одной из изб на краю деревни.
Табун опустился за околицей на озимое поле. Гуси широко разбрелись во все стороны. Они щипали молодые зеленые всходы. Только две старые птицы из всего табуна оставались неподвижными. Они стояли, вытянув шеи, по краям стаи и поминутно озирались.
Казарка и гусь-казанок щипали озимые далеко от сторожевых гусей. Но лишь только раздалось тихое предостерегающее «го-го-го-го», оба они, как и все другие гуси, забыли про корм и насторожились.
Кругом они не заметили ничего подозрительного. Правда, со стороны деревни медленно брела к ним лошадь. Она, видно, сорвалась с привязи: на шее у нее болталась веревка. Но лошадей гуси не боятся, если с ними нет человека.
Людей поблизости не было. Казарка снова принялась за еду. Успокоились и все остальные.
Сторожевой гусь загоготал громче. Казарка видела, что он смотрит на приближающуюся лошадь, но никак не могла понять, почему она его беспокоит. На этот раз гуси со всех сторон стали собираться в кучу. Табун сгрудился, и все птицы смотрели на лошадь. Теперь и казарка почувствовала смутное беспокойство.
Чем больше она смотрела на лошадь, тем сильнее охватывало ее удивление: ей казалось, что у этой лошади что-то слишком много ног. От этого становилось страшно. Наконец один из сторожевых гусей молча снялся с земли и полетел к странному животному, описывая в воздухе широкую дугу вокруг него.
Стае недолго пришлось ждать его возвращения с разведки. Не долетев и половины расстояния до лошади, гусь быстро повернул назад и криком подал сигнал к бегству.
Табун загоготал, захлопал крыльями и полетел за вожаком, поспешно выстраиваясь на лету.
Охотник, скрывавшийся за лошадью, отскочил в сторону и прицелился. Вдогонку улетающему табуну прогремел выстрел. Но птицы были вовремя предупреждены. Они были уже далеко.
Раздосадованный охотник потряс кулаком и прокричал им вслед:
— Не уйдете всё равно! Приманю дворняжкой!..
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Была ночь, когда охотник вышел из лесу на берег моря. Из-за плеча его высовывался длинный ствол ружья, а у ног бежала маленькая кудластая дворняжка.
Охотник огляделся. В редеющем сумраке был виден песчаный берег, далекой косой уходящий в море. Вблизи спокойно поблескивала мелкая вода заливчика. На некотором расстоянии от берега тянулась широкая и длинная заросль сухого, прошлогоднего камыша. Пахло тиной.
Охотник быстро зашагал по песчаной косе. Дворняжка бросилась за ним.
В камыше тревожно закрякали вспугнутые шумом шагов утки и засвистели невидимыми крыльями. Охотник не обратил на них внимания. Он не за ними явился сюда.
Дойдя до самого края косы, он остановился, снял ружье с плеча и отвязал у пояса мешочек с хлебом. Бросил на песок мешочек и бережно опустил на него ружье. Дворняжка сейчас же уселась сторожить вещи.
Отыскав поблизости обломок доски, охотник быстро разгреб им вокруг себя песок, вырыл неглубокую яму и окружил ее песчаным валом. Потом собрал кучу выброшенного морем мусора, палок и сучьев, сухого камыша. Всё это он воткнул частым заборчиком в песчаный вал, покрыл с боков и сверху кусками сухой тины и засыпал песком, оставив с одной стороны лазейку, а с других трех сторон — маленькие отверстия для ружья. Скрадок был готов.
Забрав с собой ружье и узелок, охотник на четвереньках влез в свою засаду и свистнул к себе дворняжку. Теперь на конце песчаной косы самый зоркий глаз не мог бы обнаружить ни человека, ни собаки.
Между тем стало быстро рассветать. Лежа в скрадке, охотник видел, 'как нижний край длинного белого облака низко над морем зажегся золотом, потом стал розоветь, краснеть и, наконец, вспыхнул ярким пурпуром. Еще через несколько минут над спокойной гладью моря, под самым облаком, показалась ослепительно-красная верхушка солнечного круга.
Свежий бриз потянул с берега и зашуршал сухим камышом.
С моря донесся пронзительный вопль чаек.
Большие стаи птиц то и дело с шумом проносились вдали.
Лежа на животе в своем скрадке, охотник мог видеть только впереди себя. Поэтому он не заметил, как сзади него из лесу вылетел сапсан. Острые крылья сокола мелькнули в воздухе и сейчас же скрылись в ветвях сосны, одиноко стоявшей на песчаной косе.
Пернатый охотник тоже уселся в засаду подстерегать свою добычу.
Скоро стая каких-то больших птиц опустилась на белую льдину далеко от берега.
В скрадке на косе послышалась возня, и сейчас же из лазейки выскочила кудластая дворняжка. Она уселась было на песок, но из скрадка полетел мимо ее носа кусочек черного хлеба. Дворняжка бросилась за ним. Едва успела она схватить и проглотить его, как новый кусок хлеба вылетел из засады и упал на песок в нескольких шагах от нее. Дворняжка опять побежала подбирать его.
Черные шарики хлеба, летевшие из скрадка, нельзя было разглядеть издали. Поэтому птицам, наблюдавшим за собакой с моря, казалось непонятным, почему она бегает по песку из стороны в сторону.
Одна из птиц, сидевших на льдине, опустилась на воду и поплыла к берегу. Она всё время поворачивала голову, с любопытством следя за бегающей дворняжкой.
Скоро с берега можно было различить серый цвет оперенья птицы, приподнятый хвост и вытянутую шею.
Кусочки хлеба не переставали лететь из скрадка в разные стороны, и голодная дворняжка по-прежнему бегала за ними по берегу. В одно из отверстий скрадка осторожно просунулся конец ружейного ствола. Но птица не заметила этого, потому что всё ее внимание было поглощено собакой. Конец ружья медленно направился прямо в грудь птицы.
В эту минуту она была далеко от охотника, но он уже видел ярко-белый полумесяц у нее на лбу. Это была казарка. Любопытство заставило осторожную птицу забыть опасность. Казарка всё дальше и дальше уплывала от стаи навстречу своей гибели. Ее гусь-казанок спал в это время на льдине.
Конец ружья стал поворачиваться, всё время оставаясь направленным на нее. Солнечные лучи ярко заиграли на гладкой поверхности стали. Этот подозрительный блеск бросился в глаза казарке.
Страх пересилил в ней любопытство. Она сейчас же снялась с воды и полетела назад, к стае.
Охотник громко выругался с досады. Дичь опять ускользнула у него из рук: казарка была вне выстрела.
В ту же минуту сапсан бросился на нее из своей засады.
Он догнал ее в несколько секунд и вихрем промчался вплотную над ее спиной.
Казарке показалось, что ее разрезали пополам. Проносясь над ней, сапсан царапнул ее острыми когтями своих задних пальцев, — разрезав кожу на спине, как ножами.
От боли и ужаса свет померк в глазах у казарки. Падая, она широко раскинула крылья и вытянула шею.
Сапсан уже вернулся и выпустил все когти, чтобы подхватить ее еще в воздухе.
В этот миг на берегу блеснул огонь, грохнул оглушительный выстрел. Дробь на излете забулькала в воду близ птиц. Сапсан взмыл — и быстро исчез вдали. Казарка безжизненно упала в воду.
Пятясь задом, вылез из скрадка охотник. Он торопливо стащил с себя сапоги, портянки, брюки. Оставшись в одной рубахе, он побежал к морю.
Ледяная вода обожгла ему ноги, но он быстро прошел по ней сотню шагов, отделявших его от истекавшей кровью казарки.
Когда охотник подошел к ней, она лежала на воде без движения. Вся спина ее была в крови. Охотник схватил казарку за крыло, потащил на берег и бросил ее перед заливавшейся радостным лаем собачонкой.
Охота была кончена. Родная стая казарки, отдыхавшая на льдине, улетела, вспугнутая выстрелом.
Теперь она была уже далеко впереди на Великом пути.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
— Ну, пес, стереги добро, а я в лес сбегаю за хворостом, — говорил охотник дворняжке. — Замерз в воде-то. Разведем костер, погреемся.
Натянув сапоги, охотник протянул руку за казаркой, чтобы положить ее к ружью, около которого сидела собака.
Тут взгляд его упал на кольцо, белевшее у птицы на лапе.
— Гляди-ка, гусь-то меченый! — удивленно сказал он, разглядывая кольцо. — А на кольце буквы и цифры проставлены.
— Вот оказия! — прибавил он после минуты раздумья, растерянно глядя на дворняжку. — Как же теперь быть? На деревне узнают, а там и хозяин объявится. Скажет: моего гуся убил, домашнего. Плати, скажет мне за него денежки! Нет, постой, этак не годится! Кольцо я с него сниму и в море заброшу, чтобы, значит, концы в воду. А без кольца-то его и хозяин не признает: как есть дикий гусь. Прошлого года осенью я такого же белолобого здесь у берега из рыбацкой сети вытащил. Хорошую цену за него в Ленинграде дали!
Охотник задумался.
— Спешить некуда! — решил он наконец. — Наперво согреюсь, а там и порешу, как быть.
Охотник положил казарку рядом с ружьем и узелком, позвал дворняжку и еще раз приказал ей хорошенько сторожить добро.
— Да цыц! — прибавил он, уходя. — Не вздумай дичи отведать!
Собака, привыкшая стеречь имущество хозяина, уселась перед вещами.
Узелок соблазнительно пахнул хлебом, а птица — дичинкой. Но тронуть лакомые кусочки нельзя было. Надо было терпеливо ждать, пока вернется хозяин. Он не забудет ее покормить: он сегодня веселый. Ей, верно, достанется хороший кус.
Дворняжка даже зажмурилась от удовольствия в предчувствии награды за терпение.
Раздался шорох, с того места, где лежали вещи. Дворняжка открыла глаза и остолбенела от изумления: в трех шагах от нее стояла ожившая казарка.
Один миг птица и собака безмолвно смотрели друг на друга. Потом дворняжка тявкнула и храбро бросилась на казарку. Защищаясь, казарка ударила собаку сгибом крыла. Удар был так силен и так ловко пришелся в самый кончик чувствительного носа животного, что дворняжка свалилась с ног.
От неожиданной боли она лишилась сознания. Казарка тоже свалилась на бок, не рассчитав силы своего удара. Но тотчас же поднялась на ноги и быстро заковыляла к воде.
Рана от когтей сапсана не была смертельна. Но, когда казарка увидала подходившего к ней по морю человека, она была так слаба от потери крови, что не могла ни взлететь, ни нырнуть под воду. Ей не оставалось ничего другого, как притвориться мертвой. К этому спасительному приему прибегают дикие гуси, когда у них нет другою способа избежать гибели.
Хитрая уловка удалась вполне. Вообразив, что птица уже мертва, охотник не стал ее добивать. Силы вернулись к казарке, пока она лежала на песке.
Теперь удачный удар крыла открыл ей путь к свободе. Добежав до берега, она бросилась в воду и скоро исчезла в густой заросли камыша.
Охотник вернулся к скрадку с целой охапкой хвороста.
Собака не поднялась ему навстречу. Он толкнул ее ногой, подумав, что она заснула.
Маленькая дворняжка неуверенно встала на ноги, постояла, качаясь из стороны в сторону, и вдруг завыла тонко и жалобно.
— Ты чего? — удивился охотник. — Рехнулась, что ли? Тут он взглянул на свои вещи и заметил, что рядом с ружьем не было казарки. Не было ее и нигде поблизости на ровном песке.
— А где гусь? — грозно закричал он на собачонку. Но та только виновато замахала хвостом и еще жалобнее завыла.
— Цыц ты, проклятая! — кричал охотник. — Что воешь, как над покойником?
А уж у самого мурашки от страха побежали по телу. Самые дикие мысли полезли ему в голову:
«Гусь не простой был, с кольцом… Исчез неведомо как и куда. Собака чуть не сдохла…»
Он поспешно схватил ружье и узелок и быстро зашагал к лесу. Дворняжка, поджав хвост, поплелась за ним.
Притаившаяся в камышах казарка видела, как ее враги скрылись за деревьями.
С моря до нее донесся отдаленный призывный крик. Она узнала голос гуся-казанка.
Крик повторился ближе. Казарка хотела полететь навстречу казанку, но ослабевшие крылья не подняли ее на воздух. Из груди вырвался крик боли и отчаяния. Силы ее были окончательно истощены.
Из-за песчаной косы раздался ответный гогот. Скоро над берегом показался гусь-казанок. Он отстал от стаи, чтобы разыскать свою исчезнувшую подругу.
Он опять закричал звонко и радостно, но ответа не получил.
Сделав широкий круг над камышом, он крикнул еще и еще раз.
Ответа всё не было.
Тогда он отлетел в море и там опустился на воду. Он не хотел догонять стаю один, без своей подруги.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Шли дни за днями. Птицы быстро пролетали Великим морским путем. Сапсан давно улетел на север. Он тоже теперь держался Великого пути и тут никогда не оставался без пищи.
Родная стая казарки уже прибыла к себе на родину. Одной только пары недоставало в табуне.
В заливчике за песчаной косой, где эта пара отстала от него, зазеленел камыш. Давно уплыли, растаяли в море последние льдины. 'Берег покрылся свежей травой, деревья на берегу окутались легким зеленоватым туманцем.
Заливчик служил прибежищем для отдыха многочисленных пролетных птиц. Тут, словно в гостеприимной харчевне на краю большой дороги, усталые воздушные путники отдыхали и подкрепляли свои силы едой.
Пролетели последние стаи лебедей и гусей. Утки тоже редко стали показываться в заливчике.
Теперь на смену им в морскую харчевню всё чаще начали заглядывать другие гости: прилетали длинноногие и длинноносые кулики.
Они тянулись над берегом моря. Полет их часто прерывался остановками в таких обильных пищей и безопасных убежищах.
Но в этом заливчике они долго не задерживались. На то была своя причина.
Большой морской орел-белохвост каждое утро показывался здесь из лесу. Редко-редко взмахивая крыльями, он спокойно проплывал в вышине над заливчиком, удаляясь в открытое море.
Там, на большой глубине, белохвост ловил крупную рыбу. Птиц он редко трогал.
Однако все морские птицы хорошо знали, что он не пропустит случая схватить себе на завтрак одну из них, если вовремя не заметить его приближения. Поэтому, едва только белохвост показывался вдали, они разлетались во все стороны.
Поймав рыбу, орел летел обратно в лес, где у него было гнездо, бросал добычу самке, высиживавшей яйца, и снова отправлялся на море.
Так летал он взад и вперед одним и тем же путем по нескольку раз в день. И каждый раз при его появлении стаи куликов спешили покинуть заливчик.
Но не один белохвост нарушал их мирный отдых. Часто из заросли камышей неожиданно появлялась большая серая птица. Она шумно бросалась в воду и плыла к берегу.
Уже напуганные орлом длинноносые птицы взлетали с тины, и воздух оглашался их тревожным писком и свистом. Скоро, однако, они узнавали в страшной большой птице мирного белолобого гуся. Их страх проходил, они снова опускались на тину и бегали по ней, покачиваясь всем телом на своих высоких тонких ножках.
Гусь-казанок, против воли пугавший их одним своим видом, принимался плавать по мелкой воде заливчика. Он тоже находил здесь много вкусной пищи. Наевшись досыта, он направлялся обратно в камыши, где ждала его выздоравливавшая от ран казарка. Он разыскал ее в камышах к вечеру того дня, когда она спряталась там от охотника и его дворняжки. С тех пор он никуда не удалялся от нее.
Двум таким заметным птицам, как казарка и казанок, было небезопасно жить в камышах. Но одно крыло казарки было повреждено соколом; она всё еще не могла летать и была очень слаба. Поэтому ее верному казанку приходилось делить с ней опасность попасться на глаза белохвосту, когда он пролетал над заливом.
Наконец настал день, когда казарка решилась покинуть в сопровождении казанка свое убежище, чтобы покормиться травкой на берегу заливчика.
В этот день там было особенно много разных куликов. Вся тина у берега была испещрена крестиками следов их тонких прямых пальцев.
В траве на берегу важно расхаживали на высоких ногах-ходулях большие серпоклювые кроншнепы. У воды по желтому песку быстро и незаметно перебегали желтоватые зуйки с черным галстучком на шее, сидели красноносые и красноногие пестрые кулики-сороки. По тонкому слою тины, поминутно втыкая в нее до самого лба свои слабые клювики, хлопотливо сновали взад и вперед легкие кулички-воробьи и чернозобики.
Но гуси недолго оставались в их обществе. Как только казарка насытилась, казанок поплыл к берегу. Он поминутно оглядывался на свою подругу и звал ее за собой тихим гоготаньем. Казарка поплыла за ним. Скоро оба вылезли на берег, прошли по нему отделявшее их от леса расстояние и скрылись за деревьями.
С этого дня гуси не показывались больше в заливчике.
Перелет на Великом морском пути кончался.
Кулики пролетали всё более малочисленными стайками и, наконец, совсем перестали показываться на берегу.
Последним прибыл в заливчик коростель.
Коростель не любит летать. Да ему и незачем подниматься на крылья и подвергать себя опасности в воздухе. Он умеет быстро бегать, ловко скрываться.
Его тело сильно сжато с боков, ноги далеко отставлены назад, и это помогает коростелю проскальзывать между стеблями травы, не задевая их. Величиной он с перепелку.
Зимовал коростель в Африке. Прошло много времен» пока от места своей зимовки он добрался до Финского залива. И в путь он отправился поздно. Другие птицы зимовавшие в тех краях, давно уже собрались в дорогу. Утки, гуси, кулики стая за стаей пролетали у него над головой. Но коростель не спешил: у него на родине еще не пробилась молодая трава, и ему пока негде было там скрываться от зорких глаз хищников.
Но вот отлетели последние стаи куликов. Ночью двинулся в путь коростель. Шел он пешком.
Через несколько дней дорогу ему пересекла широкая гладь Гибралтарского пролива. Но это не могло смутить путешественника. Под покровом темноты он быстро перелетел воду и, опустившись на другом берегу, без передышки продолжал свой путь.
Шел он к себе на родину самой прямой дорогой, известной только ему одному.
Впереди него морским путем летели утки, лебеди и гуси, чайки и гагары; стаи куликов придерживались берега.
А коростель шагал и шагал в одиночестве по земле напрямик, прибегая к помощи крыльев лишь там, где это было ему необходимо.
Шел он очень быстро. Ради безопасности он днем отдыхал и кормился, а по ночам под прикрытием темноты, травы и кустов бежал вперед.
Был уже конец мая, когда он добежал до заросшего камышом заливчика, недавно служившего убежищем казарке.
Ночь убывала.
Пора было усталому пешеходу подумать об отдыхе в безопасном месте.
В открытом заливе ему нечего было делать. Коростель отправился искать себе приют в полях за лесом.
Миновав околицу деревни, где жил охотник, дважды ловивший казарку, он побежал по озимым, выбирая места, где уже подросший хлеб был погуще.
Вдруг он выскочил на открытое место среди поля. Молодые всходы были тут примяты и выщипаны парой белолобых гусей. Гуси не заметили его внезапного появления. Он сейчас же юркнул обратно в траву и стал в ней устраиваться на ночлег.
Через несколько минут он увидел, как гуси поднялись с поля и, забирая всё выше и выше, полетели на север.
Это были казарка и гусь-казанок.
Казанок привел сюда свою подругу из заливчика, и они жили здесь последние дни. Хороший корм быстро восстановил силы казарки. Больная спина и крыло ее совсем зажили.
Теперь дружная пара могла решиться пролететь вдвоем оставшуюся до их родины часть Великого пути.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошло полгода с тех пор, как Миша расстался с казаркой. На улицах Витебска лежал снег.
И опять Мише вспомнилась казарка такой, какой она встретила его с отцом, когда они пришли освобождать ее. Он видел перед собой ярко-белый полумесяц у нее на лбу, блестящий взгляд и настороженно-воинственную позу. И опять ему подумалось: «Неужели она не долетела к себе на родину?»
В прихожей позвонили. Мишин отец прошел из своей комнаты отворить дверь. Через минуту он позвал сына к себе в кабинет.
— Читай вслух, — сказал отец и протянул Мише только что полученное письмо.
Миша разорвал конверт, развернул сложенный вчетверо лист почтовой бумаги и прочел:
«Орнитологический комитет. 22 октября 19… года.
Считаем своим приятным долгом поделиться с Вами только что полученными нами сведениями об интересующей Вас белолобой казарке, отмеченной Вами кольцом № 109, серия «С».
Сельский учитель села Прибрежного, расположенного на восточном берегу Белого моря, в 50 километрах от города Архангельска, любезно сообщает нам следующие свои любопытные наблюдения.
В начале истекшего лета он бродил по берегу моря со своей охотничьей собакой. Собака у него на глазах подняла из травы коростеля. Никогда прежде учитель не встречал эту редкую в тех краях птицу. Увидев, что коростель, едва взлетев над травой, сейчас же снова опустился в нее, учитель задался целью выгнать оттуда птицу с помощью собаки. Но коростель, по своему обыкновению, стал спасаться пешком.
После долгого безрезультатного преследования собака, бежавшая по следам коростеля, привела учителя к голой скале на берегу моря. Со скалы бросился на собаку сапсан, а коростель, воспользовавшись ее замешательством при этом, куда-то ускользнул.
Удивленный неожиданным появлением яростно кидавшегося на собаку сокола, учитель осмотрел скалу и заметил в ней гнездо сапсана на высоте всего метров четырех над землей. Подойти к гнезду он не решился, потому что смелый хищник готов был, казалось, вцепиться в лицо человеку своими страшными когтями. Учитель хотел было отойти, как вдруг у себя под ногами увидел сидящую на гнезде белолобую казарку. Быстро скинув с себя куртку, он набросил ее на голову птице.
Таким образом ему удалось поймать казарку. С нею в руках он благополучно покинул опасное место.
На ноге казарки учитель обнаружил надетое Вами кольцо. Записав его номер, он выпустил птицу на свободу.
Потом учитель часто приходил наблюдать за казаркой издали, пока она не вывела птенцов и не удалилась с ними из-под скалы в ближайшее болото.
Ученые не раз находили гнезда казарок рядом с гнездами сапсанов. Под охраной смелых соколов казарки чувствовали себя к безопасности от врагов.
Однако для науки до сих пор остается загадкой, почему эти свирепые хищники не трогают в течение всего времени вывода птенцов своих доверчивых, но беззащитных соседей.
Во всяком случае. Ваша казарка в этом году благополучно вывела птенцов. Будем надеяться, что когда-нибудь она снова попадет в руки людям, и тот, кто ее поймает, расскажет нам о ее дальнейшей судьбе.
За председателя……»
Подписи Миша не разобрал.
1923 г.
С ВОЗДУХА
ПО-2 широкими кругами шел на самой малой скорости.
Позади летчика на пассажирском месте с пятизарядным дробовиком-автоматом на коленях сидел охотник. Не отрывая от глаз бинокля, он вглядывался в медленно вращающуюся под ним панораму степи с темными пятнами озер, серыми полосками дорог, черно-белыми, еще не одевшимися листвой колками — березовыми лесками.
Рассветало.
С небольшой высоты, на которой шел самолет, охотник различал то тут, то там неясную тень большой совы, лисицы, филина: ночные хищники возвращались с разбоя по своим дневным убежищам в колках, по берегам рек, в оврагах. На просветлевшем небе всюду поднимались крошечные жаворонки, звонких песен их не было слышно за ревом мотора.
Охотник на минуту опустил бинокль, закрыл уставшие вглядываться глаза.
Хорошо знакомые ему места… С ними связано много живых воспоминаний.
В только что оставшейся позади деревне — охотник видел ее и с закрытыми глазами — он молодым еще человеком прожил два года. В гуле ветра вдруг почудился ему волчий вой. Да, страшный бич этих мест — волки! Бывало, как заведут свои жуткие песни ночью, — часами не спишь, всё придумываешь, как дать отпор обнаглевшим хищникам.
Скотины-то сколько резали — овец, жеребят, лошадей! Собак прямо в селении из-под крыльца брали.
Колхозники обижались: «Почто зверя не бьешь, охотник?»
Поди-ка возьми в степи волка! Тут и гончие не помогут. Другое дело, когда лес кругом. Там дневку выследил, флажками по кустам обнес, — весь выводок в одну облаву можно кончить. А в голой степи как обложишь зверя, когда шнур с флажками не на что нацепить!
За два года одного волка только и взял, да и то случайно.
…И пожилому охотнику четко вдруг припомнился жаркий летний день, сенокос, черные коршуны, парящие над степью.
Вышел он сусликов' пострелять. В обоих стволах ружья — мелкая дробь. И вдруг из балочки, из овражка — совсем рядом — возник большой изжелта-серый зверь. Затрусил не торопясь в степь.
Всё-таки свалил его охотник с двух выстрелов. Да сгоряча, бросив ружье, — к нему. Известно, — молодость. Ножом прирезать хотел. И ни к чему было, что зверь на поджатых ногах лежит, уши к башке прижаты.
Ладно еще, — как-то руку успел подставить, в руку зубы пришлись, — нож куда-то к черту отлетел. А то бы волчьей-то хваткой за горло.
Так, сцепившись, и покатились в овражек.
Спасибо, косари подоспели на крик: забили зверя. Матерый был, такой даром своей жизни не отдаст…
Охотник открыл глаза. Засучил рукав на правой руке, задумчиво поглядел на красный рваный шрам выше кисти. Счастье, что кости не раздробил волчище. Без руки бы сейчас не охотиться.
Натянул рукав. Опять взялся за бинокль.
Свету заметно прибавилось. Впереди за колками серебристо змеилась речка; уже отчетливо был виден каждый камень на ее обрывистом берегу, каждый кустик травы.
Вдруг охотник опустил бинокль, схватил прислоненную к сиденью трость с прибитым на конце блокнотом.
Выхватил из кармашка карандаш, написал на чистой странице блокнота: «Второй колок слева. У реки в камнях».
Протянул трость вперед, — так что блокнот пришелся перед глазами летчика.
Летчик прочел и, не оборачиваясь, утвердительно кивнул головой в прикрепленное перед ним, чтобы ему видеть своего пассажира, зеркальце.
Охотник убрал трость. Поднял с колен ружье, приладился на сиденье, чтобы удобнее было стрелять.
Внезапная тишина резнула уши глухотой: подходя к речке, летчик выключил мотор.
Охотник крикнул:
— Два! Вдоль берега.
— Есть, вижу, — ответил летчик; и сейчас же в ушах засвистел ветер; самолет вошел в пике.
У самой земли летчик опять включил мотор, выровнял самолет, повел бреющим полетом над рекой.
Два волка, неторопливо трусившие между прибрежными камнями, вдруг опрометью кинулись в степь, пошли на махах: их до смерти напугал громкий рев воздушного чудовища, так неожиданно появившегося у них над спиной.
В глаза охотнику с головокружительной быстротой неслась земля; волки, казалось, чуть ползут по ней.
Учитывая скорость несущей его по воздуху машины, опытный стрелок взял прицел много позади волчьего хвоста.
Мелкая картечь подняла с земли быстрое облачко пыли, в облачке взметнулся зверь — и всё исчезло из глаз охотника: самолет промчался вперед.
Когда летчик развернулся и пошел назад, охотник увидал: один волк лежит белым брюхом вверх, другой на махах, напрягая все силы, уходит к реке — к спасительным камням.
Но что отчаянный бег зверя в сравнении со скоростью даже простенькой летательной машины!
Самолет стремительно догонял волка.
Охотник выстрелил.
Зверь на бегу перевернулся через голову, рухнул на бок.
Промчавшись над ним, самолет начал набирать высоту.
Охотник перезарядил ружье, положил его на колени, потом достал из сумки планшетку, вытащил из нее подробную карту местности и красным карандашом поставил на ней жирный крест и цифру 2 в скобках, в той точке, где остались лежать убитые волки: сюда пошлет он грузовик подобрать добычу.
Убрал карту. Вырвал из блокнота верхний листок, скомкал его. Задумавшись, вытянул руку — бросил бумажку за борт.
Сильно рвануло ветром. Отодвинуло рукав, обнажило руку. Но охотник не взглянул на старый шрам: было не до воспоминаний. Он думал о будущем: как приспособить ПО-2 для охоты.
«Трость эта с блокнотом — кустарщина! Телефончик надо на голову летчику и стрелку. С наушниками, — чтобы могли переговариваться, не выключая мотора. На нижних крыльях самолета люльки оборудовать для охотников. Стрелять будет куда сподручнее. Охотавиация специально займется истреблением волков. Это просто, особенно зимой. Пора, пора подумать о поголовном их уничтожении!»
«Однако, — спохватился охотник, — что это там впереди мелькает серое — меж двух колков?»
И он опять схватился за бинокль.
В этот день охотник убил с воздуха семнадцать волков.
1950 г.
НАД ЗЕМЛЕЙ
Автомобиль мчал нас за город — на аэродром. Покачиваясь на мягком сиденье, мы молчали. И мне и моему спутнику первый раз в жизни предстояла подняться на воздух, — и каждый из нас был погружен в свои мысли.
Я думал: «…Мчаться по воздуху, чтобы дух захватило! Чтобы небо крутилось и земля убегала назад. Чтобы всё неподвижное ожило, леса сорвались и горы сдвинулись с мест. Какое высокое наслаждение — летать! И видеть с высоты как на ладошке всё, что бегает, ползает, копошится на земле… Всё сразу видеть…»
Торжественное настроение охватило меня. И я, обращаясь к своему спутнику — к человеку, который сейчас разделит со мной радость первого полета над родной землей, — проникновенным голосом сказал:
— Профессор, дорогой Виктор Степанович, о чем вы думаете в эти минуты?
Профессор мотнул бородкой, поднял на меня задумчивые глаза.
— Я думаю, — сказал он медленно, — о песьей масти.
— Как? — переспросил я, ничего не поняв от неожиданности.
— О собачьей масти, — повторил Виктор Степанович. — Здесь, в Челябинской области, великолепная охота на уток и гусей. Вот я и думаю: какая собачья масть лучше всего подойдет для этой охоты? Вы как считаете? А?
— Зеленая! — буркнул я сердито. Вся торжественность минуты мигом испарилась от такого вопроса.
Профессор даже не улыбнулся.
— Зеленая, конечно, была бы идеальной, — согласился он всё так же задумчиво. — «Защитный» цвет — под траву, камыши. Вот и горе, что до сих пор не вывели зеленых собак.
— Так возьмите да выкрасьте, — злился я.
— Постойте, вы серьезно мне скажите. Я думаю, бурая или кофейная. Под цвет земли. А? Как вы полагаете?
Я вздохнул: раз уже профессор всерьез задался каким-нибудь вопросом, ни о чем другом с ним не поговоришь.
— Кофейной масти мой Джим, — уныло ответил я. — А теперь я завел себе Боя в пегой рубашке: большие черные заплаты на белом да еще желтые пятна на морде и лапах. И могу вас заверить: кофейного Джима утка издали замечает, а пегого Боя — нет.
— Ну, ну, ну! — замахал рукой профессор. — Простите, но ведь это же абсурд! Белые пятна на черном! На фоне зеленой, желтой травы и листвы, на бурой земле — всюду белый цвет самый броский. Не станете же вы на утиные засидки надевать белый балахон?
— Это другое дело.
— Нет, позвольте: почему же другое? Речь идет о наиболее незаметной окраске. Посмотрите, птицы: гуси — серые, утки — серые.
— А нырок-гоголь? Он черный с белым. А сорока-белобока?
— Что ж, исключения только подтверждают правило. Давайте рассуждать логически. Мое положение: чтобы собака не была издали заметна птице, надо, чтобы ее масть подходила под цвет окружающей обстановки. Белый и черный цвет всего заметней на фоне зелени и земли. Теперь ваши доказательства. Ну-с?
Я был приперт к стене. На основании опыта я был уверен в своей правоте, но доказательств у меня не было никаких. Почему, правда, птицы издали не замечают моего Боя?
И я очень обрадовался, что как раз тут шофер остановил машину и объявил: «Приехали!»
«Ну, теперь будет не до спора, — облегченно подумал я, — забудется».
Мы вышли из автомобиля.
Среди грязноватого от осенних дождей поля — маяк: простой деревянный барак с флагом. Невдалеке от него стоят три маленьких самолета в чехлах.
Летчик встретил нас у крыльца барака. Он еще совсем молодой, высокий, красивый. И с такими спокойно-внимательными глазами, что — скинь он форму, — я наверно бы принял его за врача.
— Полуянов, — отрекомендовался он, по очереди подавая нам свою громадную руку. — В первый раз летите?
И он объяснил нам правила поведения воздушных пассажиров.
Механик с рабочим возились около среднего самолета, сняли с него чехол, проверили работу мотора.
Я подошел к аппарату.
Небольшая деревянная рыбина с крыльями непрочностью своей напомнила мне змея, что клеили мы в детстве из лучины, перетягивали тонкими веревочками. Казалось, сядешь в эту легкую построечку, — она затрещит по всем швам.
На теле деревянной рыбины чернели крупные буквы:
СССР А-534.
И ближе к хвосту, помельче:
Вес конструкции 687–703 кг. Вес в полете — 1034 кг.
«Вот именно — конструкция, — думал я, глядя на непрочную построечку воздушной машины. — На «конструкции» и полетим».
Это был маленький двухместный открытый биплан со стосильным мотором. В теле «рыбины» между местами пилота и задним прилажено еще одно сиденье — для второго пассажира.
Подошел Полуянов с Виктором Степановичем — оба в шлемах и очках. Летчик дал мне ваты, предложил заложить в уши. Надел на меня автомобильные очки и шлем.
Вслед за Виктором Степановичем я взошел по крылу и, перекинув ноги через борт, опустился на мягкое сиденье. Механик застегнул у меня на животе широкий пояс — привязал к сиденью.
Над бортом теперь осталась только моя голова да плечи. Перед носом торчал круглый затылок Виктора Степановича в шлеме. На переднем сиденье усаживался Полуянов. Он повернул к нам свое большое улыбающееся лицо, и я услыхал сквозь шлем и вату:
— Тут у меня зеркальце, я буду вас видеть. Если вам станет нехорошо…
Он спустился на свое сиденье. Механик, стоя сбоку, взялся рукой за неподвижный пропеллер.
— Внимание!
— Есть внимание! — неторопливо отозвался голос летчика.
— Контакт!
— Есть контакт!
И механик крутнул пропеллер; мотор загудел. Сердце екнуло… Вот он, торжественный момент: сейчас самолет оторвется от земного шара — и я помчусь по воздуху.
Легкая «конструкция» поскакала по полю, потряхивая нас на каждой кочке. Побежали мимо бараки, березовая рощица.
Вдруг левое крыло резко накренилось набок. Самолет стал.
«Вот неудача! Еще опрокинется…» — и я глянул вдоль крыла.
Там, глубоко под нами, виднелся крошечный барак и смешно торчали голыми прутиками березы облетевшей рощицы: самолет, оказывается, давно уже снялся с земли и, разворачиваясь на левое крыло, набирал высоту.
Летчик предупреждал: «Когда самолет развертывается, не смотри в сторону опустившегося крыла: может закружиться голова».
Но я смотрел — и не мог оторвать глаз от быстро убегавшей земли. Удаляясь, земля крутилась, крутилась, в поле зрения вместо степи подворачивался широко раскинувший свои постройки город. Сладко замирало сердце. Но голова ничуть не кружилась.
Всем телом я чувствовал наклон на левую сторону. Хотелось вытянуть правую руку, выправить крен. Но ветер ревел сбоку, между мной и его стихийной силой не было ничего, никакой перегородки, кроме непрочной стенки «конструкции». Я скорей почувствовал, чем подумал: сунешь руку за борт, — ее переломит в локте, как спичку, и умчит ветром…
Я поглядел вправо. Правое крыло уходило прямо в голубое небо. Небо было безоблачно и неподвижно.
Крыло опустилось: самолет выровнялся и стал прямо.
Гудел ветер, ровно стучал мотор.
Меня охватило чувство горделивого восторга: вот я сижу в мягком кресле высоко в воздухе, смотрю на мир и ничего не боюсь.
…Ой — из-под меня будто выдернули сиденье, сердце ухнуло; всем телом я почувствовал, что подо мной пустота. Недоуменный страх.
Но в следующий миг всё прошло: упругое сиденье опять подвернулось под меня.
В зеркальце с доброй улыбкой глядело на меня внимательное лицо летчика. По движению его губ — голоса не было слышно за ревом ветра и мотора — я понял: воздушная яма.
Самолет провалился в нее, но сейчас же опять выровнялся.
Я глянул вниз и с удивлением заметил, что мы уже над городом.
Летчик простым, но, кажется, таким величественным жестом показал вниз. Я кивнул головой: дескать, вижу и понимаю.
Потом оказалось, что ничего-то я не понял: думал, он на город показывает, а он указывал нам крышу дома, где мы жили. Но всё равно мне бы ее не увидеть: непривычный глаз терялся в этой массе серых квадратиков на карте незнакомого города. С трудом я разбирался в нем и только в самых общих чертах. Вот река, спичечка-мост через нее. Вот уйма деревянных домишек в середке и большие железо-каменные новые постройки на окраинах: громадный тракторный завод.
Мы летели над Челябинском — городом заводов.
Я сказал «летели». Но это было только знание: ощущение было другое. Если б я не знал, ни за что бы не подумал, что лечу. Казалось, легкая «конструкция» висит между небом и землей, «свободно взвешенная в воздухе», как принято выражаться в физике. Я нисколько не чувствовал быстроты ее движения.
Когда мчишься на лошади, в поезде, в автомобиле, навстречу тебе летят деревья, телеграфные столбы, постройки, подворачивается под ноги земля. Быстротой передвижения окружающих предметов и измеряешь скорость своего движения.
Здесь ничего не летело навстречу. Пустая вселенная, казалось, навеки застыла в неподвижности, прикрытая голубым колпаком. Плоским блином лежит внизу земля. Громадный горизонт (потом я узнал, что мы находились на высоте полутора тысяч метров). Земля кажется дном высохшего моря. Кой-где на ней поблескивают лужицы — это озера. На западе виден берег: длинная узкая полоса — Уральский хребет. И только если внимательно присмотреться, замечаешь, что медленно движется, поворачивается под тобой эта живая карта земли.
Тоненький серебряный прутик лежит через город, — я не сразу понял, что это рельсы железной дороги. А та длинная, плюющая дымом коробочка на нем — поезд. И как странно: он медленно, медленно движется назад от города к Уралу.
Это был скорый Москва — Иркутск! Он мчится со скоростью сорока километров в час — от Урала к городу! (Я потом узнал, что наш самолет летел со скоростью ста десяти километров в час.)
Смотрю, — а мы уже висим не над городом, — над круглыми и продолговатыми лужами.
Это знакомые озера: не раз я ездил на них из Челябинска — охотиться на уток. Какими же крохотными они кажутся отсюда! И самое удивительное: блестящая вода в них как будто навеки застыла — бороздками, как грязь. Это волны. Но их движения не видно. А ведь сегодня сильный ветер, и если б я плыл по озеру в лодке, меня бы качали, толкали и гнали эти самые волны.
«Как странно, как странно! — думалось мне. — Только скорость, только страшная скорость «конструкции» держит нас в воздухе. Стань на мгновенье самолет — и мы скользнули бы вниз, нас разом притянула бы Земля. И вот я мчусь по воздуху, а быстроты этой, скорости передвижения в пространстве, совсем, совсем не чувствую…»
И я стал вслушиваться в стук мотора: ведь от него, от этой машины в сотню лошадиных сил, зависит сейчас наша жизнь. Откажет мотор, тогда…
И в тот же миг послышались перебои, стук стал реже, реже, раздались громкие выхлопы, как выстрелы. И мотор замолчал. Я почувствовал: мы падаем вниз. Конец?..
Я взглянул в зеркальце летчика. Серьезные, внимательные глаза глядели на меня оттуда. Я услышал сквозь вой ветра:
— Вам не холодно?
Ух, черт! А я-то думал…
Мотор опять застучал. Летчик выключал его, чтобы задать нам свой заботливый вопрос.
Опять прыгнул подо мной самолет, но это было знакомое ощущение: воздушная яма.
Левое крыло накренилось: поворот. Восторженная радость не оставляла меня, и я не соображал времени. Я всё ждал встречи с птицами, но птиц не было.
Впрочем, вот там над озером, — что это? Чуть видно: извилистая серая полоска.
Конечно, это гуси! Как низко над землей они летят! И очень смешно: вытянули вперед длинные шеи, машут крыльями, — а сами ни с места!
Вот медленно-медленно проплыли назад озера, город. И опять мы висим над степью.
Вот светлая узкая полоска дороги — видней и видней. Можно уже различить на ней стадо коров. Наверно, их гонят в город: головами все к нам.
Я глянул на Виктора Степановича. Его нос торчал из шлема, как птичий клюв, и был направлен вниз. «Тоже, верно, на дорогу смотрит», — подумал я.
Самолет снизился, шел на посадку. Теперь я видел совсем ясно: стадо идет по дороге разреженно, и коровы все на подбор темные: коричневые, черные, красные. Гуртовщики идут по обочинам дороги, сбивают стадо бичами, а коровы почему-то не желают сгрудиться.
Самолет еще круче наклонился на одно крыло — и земля понеслась на меня, штопором ввинчиваясь в глаза, Наконец-то, вот оно: дух прихватило!
Летчик не велел глядеть вниз при посадке. Но я опять не послушал совета. Да и не к чему было: уже явилось доверие к этой летучей «конструкции», и как ни быстро летели мы к земле, ощущения катастрофы падения не было. Движение по кругу успокаивало нервы.
На последнем кругу земля вдруг подскочила, с бешеной быстротой кинулась ко мне. Завихрились березы, барак с флагом, — и вот уже «конструкция» неуклюже бежит по полю, подскакивая на всех неровностях, и навстречу нам бежит от барака рабочий. И вот мотор замолк.
Подкатываем к тому месту, откуда поехали, и — стоп!
Хочу подняться — и не могу. Ах, да: ремень ведь! (Я о нем ни разу и не вспомнил.)
Отцепил, выскочил, снял шлем, вату из ушей вытянул, — а в ушах все еще шум, и кровь стучит.
Вот я на крыльце; летчик протягивает большую руку и говорит без улыбки, торжественно:
— Поздравляю с первым воздушным полетом.
И вот опять мы мчимся в автомобиле с Виктором Степановичем — назад в город. Я всё еще полон волшебных ощущений полета. Но спутник мой хладнокровно начинает разговор с того места, где кончил его до полета:
— Ну-с, так какие же у вас доказательства, что черная с белым масть хуже видна?..
Шофер дудит, дудит: мы огибаем большое стадо коров, — то самое, что видели сверху. Гуртовщики кричат и щелкают бичами. А мы с Виктором Степановичем глядим удивленно на стадо: коровы идут тесно сгрудившись, и они разной масти — сколько угодно и пегих среди них.
— А мне казалось сверху… — говорит Виктор Степанович.
— Вот в том-то и дело! — кричу я, торжествуя.
С высоты птичьего полета мы видели бурых, черных, кофейных коров, а вот пегих не видели. Пегие спины не складывались для нас в знакомые фигуры, черные и белые пятна разбивали рисунок спины, — и мы принимали их сверху просто за пустые места, за промежутки между животными.
— Да, так, пожалуй, так… — задумчиво соглашается мой спутник. — Мир кажется иным с высоты птичьего полета… Заведу себе пегую собачку.
1935 г.
РЯБЧИК
С профессором Виктором Степановичем — знаменитым охотником на рябчиков — познакомился я в Свердловске. Мы вместе отправились на охоту. С нами был еще племянник профессора — Арсений, юноша лет двадцати.
Дичи нашли много. Нам захотелось прожить в лесу несколько суток. Вопрос был в ночевке: палатки с собой у нас не было.
Виктор Степанович сказал:
— Есть тут невдалеке охотничья избушка. На Студеном ключе. Чего лучше?
Мы запрягли лошадь. На Студеный ключ приехали уже в полной темноте.
Избушку отыскали с трудом: она была мала, мала до смешного. Ее крыша еле доходила мне до плеч. Окон и трубы совсем не было. Дверь была ростом с окно.
Пока Арсений возился с лошадью, ходил за водой, мы с Виктором Степановичем собрали дров и разложили огонь в чувале. Чувал похож был на первобытный камин: камни навалены без особого порядка; над ними в крыше зияла дыра.
Дым сейчас же наполнил избушку. Запершило в горле, защипало глаза. Пришлось лечь плашмя на нары. Всего и было в избушке — чувал да нары от стенки к стенке, над самой землей.
Прошло минут десять, и огонь прогрел камни. Дым потянуло вверх.
Через час, плотно поужинав похлебкой из дичи и напившись чаю, мы легли спать. Уютно потрескивал огонь, в чувале, за стенкой спокойно позвякивал колоколец стреноженной лошади. В избушке было тепло, даже жарко.
Я проснулся от тишины. Мороз. Темнота. И какое-то смутное беспокойство: слишком уж тихо.
Огонь потух. Сквозь черную дыру в крыше с черного неба пристально смотрят звезды. Холодные звезды. Была глубокая осень. Последние листья опадали с деревьев.
Что же такое? Отчего так необычайно тихо? Чего не хватает?
Ах, да: лошадь, колоколец! Надо разжечь дрова в чувале, пойти взглянуть.
Рядом Виктор Степанович быстро поднялся и зашуршал одеждой.
В это время неожиданно раздалось громкое фырканье, потом тревожное ржанье, потом тяжелый поспешный топот стреноженной лошади.
Ясно было: животное чего-то напугалось. Ржанье и топот быстро приближались.
— Арсений, вставай! — крикнул Виктор Степанович. Через полминуты мы все трое с ружьями выскочили из избушки.
Лошадь стояла у самых дверей. Ее большое тело чернело в темноте. Лошадь дрожала мелкой дрожью. Испуганно фыркала.
— Давайте разожжем огонь, — предложил я, — выясним, что ее напугало.
Арсений уже нырнул в избушку, разжег там огонь и скоро принес горящую головню.
Освещая землю, мы пошли по следам лошади. Следы подвели нас к самому берегу Студеного ключа и остановились. Тут было много натоптано.
Кругом — ни звука. Высокой горой чернел лес на том берегу ущельица.
Мы вернулись.
Решено было привязать лошадь вожжами у двери, а самим сидеть в избушке и поддерживать большой огонь — на страх врагам.
Так и сделали.
Не знаю, спал ли в эту ночь Виктор Степанович. Нас с Арсением он разбудил, когда солнце поднималось уже над деревьями.
— Ну? — спросили мы, вспомнив ночную тревогу. Виктор Степанович посмотрел на нас уничтожающим взглядом и мрачно изрек:
— Босоногий старик!
Скоро мы своими глазами убедились, что он не ошибся: на том берегу ущельица виднелись следы босоногого старика, как зовут в Сибири Михаила Иваныча. Судя по размерам следов, это был старый, большой медведь.
Я предложил дойти его по следу.
— Ну уж нет, увольте, пожалуйста, — горячо запротестовал Виктор Степанович. — Стрелок я, сами знаете, — того… И ружье у меня… — этого. Да и велика ли честь попасть в такую тушу? Я уж лучше на вчерашнее место — за рябчиками.
Тут волей-неволей придется мне выдать тайну охотничьей жизни милейшего профессора. Да простит он мне это вынужденное разоблачение: раз уж начал я рассказывать быль, то рассказ велит мне там, где надо, говорить горькую правду.
Итак, среди охотничьих подвигов Виктора Степановича был один, о котором лучше было бы умолчать. Знали о нем только те, кто сами охотились с профессором.
Дело в том, что этот страстный и неутомимый охотник, этот безжалостный, бесчеловечный убийца рябчиков… в жизни своей еще ни одного рябчика не убил.
Спешу оговориться: Виктор Степанович убивал дичь, иногда помногу убивал. Бил и тетеревов, и глухарей, и куропаток, и уток. Раз при мне сильно ушиб даже небольшого оленя, которого неправильно называют у нас «дикой козой».
Не давались ему рябчики, одни только рябчики.
Придется уж мне досказать правду до конца, иначе читатели не охотники не поймут, почему рябчик был для профессора заколдованной птицей.
Рябчик — самая маленькая из наших лесных кур. А шумит он, взлетая с земли, больше здорового тетерева, почти как громадный глухарь. Стойки собаки рябчик не держит. С треском внезапно срывается у вас из-под ног выводок серых птиц, стремительно разлетается в разные стороны и исчезает мгновенно из глаз, словно никого и не было. Притаившегося на ветке рябчика различит только очень наметанный глаз.
Есть простая и легкая охота на рябчика: охота с пищиком.
Поднятый выводок рассеялся по ветвям, исчез у вас из глаз. Тогда вы спокойно садитесь на ближайший пенек и вынимаете из кармана пищик. У коварной свистульки тоненький голос рябушки-матери, сзывающей своих детей. Рябчата бегут на этот голос по земле, и их ничего не стоит застрелить.
Виктор Степанович такой способ охоты считал бесчестным. Пищика с собой никогда не носил.
Охотился Виктор Степанович так.
Бежит по лесу и ждет: вот вырвется из-под ног выводок рябчиков…
Вот вырвался. Виктор Степанович вздрогнул: как раз в эту-то минуту он немножко зазевался на волшебную красоту темно-зеленой ели среди золотистых берез.
«Бамм! Бамм!» — несутся выстрелы посередине между двумя разлетающимися рябчиками.
В лёт рябчика бить — не глухаря. Маленький рябчик летит, как оперенная стрела.
Промазал Виктор Степанович.
Рябчики расселись по ветвям, — надели шапки-невидимки. Ни одного не видать.
И опять бежит профессор по лесу, любуется на бегу яростным пиром осенних красок, ждет рябчиков из-под ног.
И вдруг, как фонтан золотой, бьет из толпы темных елушек листва высокой пожелтевшей березы. И от восторга, от переполнившей душу радости громко затянул счастливый профессор на весь лес старую некрасовскую песню:
— «В полном разгаре страда деревенская…».
И как дошел до слов: «Многострадальная мать», — тут-то и взорвался выводок сереньких птиц. И, конечно, все уходят целы и невредимы под грохот профессорского самопала. Ружье у профессора и в самом деле «этого»: не из лучших.
Так с зари до зари бегает Виктор Степанович по лесу. Запоздалый вальдшнеп, неосмотрительный глухарь изредка попадают в охотничью сумку профессора, но стремительные рябчики, рябчики-невидимки — никогда.
Сразить на лету рябчика — заветная его мечта. Теперь читателю понятно, почему Виктор Степанович предпочел снова погнаться за рябчиками, чем идти за медведем.
Арсению пришлось остаться близ избушки: у него не было пуль на медведя, да и лошадь опасно было оставлять без призора: медведь мог вернуться.
Пошел за медведем я один.
След повел меня в темную глубину леса, вернулся к Студеному ключу и опять углубился в чащу.
Долго шел след лесом, то пробираясь сквозь чащу, то перебегая поляны: босоногий старик, увидев огонь, бежал, как трусишка-заяц.
Промчался километра полтора и перешел на шаг. Прилег в густом ельнике под кокорой — вывороченной вихрем сосной. Выспался, наверно, как и мы с Арсением: земля была здорово примята.
А выспавшись, начал шататься в поисках пищи. След стал заметно свежей.
На сырой, размякшей от дождей земле голые пятки его и большие когти отпечатались отлично. Я был уверен, что никуда ему от меня не деться, и уже потирал руки.
Однако задача оказалась не такой простой.
День уже клонился к вечеру, когда я стал настигать зверя. В свежие его следы рядом с большой кучей бурелома на глазах у меня струйками набегала вода. Несомненно, зверь прошел тут только что. Я взвел курки и стал продвигаться вперед осторожнее.
В обоих стволах моего ружья были вложены страшные пули «жакан». Они свинцовым цветком на четыре части разворачиваются в теле жертвы.
Я останавливался, слушал. Нет, будто ничего. Только ветер шумит. Раз или два мне показалось, что я слышу треск в чаще. Я весь «влез» в глаза и уши: всё зависело теперь от того, кто первый увидит врага. Если зверь на меня кинется из засады, я могу не успеть даже выстрелить.
Нервы мои напряглись до крайности, когда неожиданно след завернул назад.
Пристально вглядываясь в чащу, я шел вперед, медленно передвигая ноги.
Вдруг я остановился: мне показалось, что я уже был на этом месте.
В самом деле это было так: я стоял у большой кучи бурелома, где только что видел, как вода струйками наполняла свежий след медведя. Но теперь я стоял по другую сторону этой кучи.
Лежка зверя была под кучей. Упругие кустики тихонько поднимались, расправляли ветви после отпустившего их, наконец, тяжелого тела. Зверь лежал здесь, когда я проходил по ту сторону кучи по его следу. Сомнений не могло быть: он увидел меня, пропустил и пошел прочь. Я действительно слышал треск от его шагов.
Я кинулся напролом через чащу.
Выскочил из лесу к невысокому обрыву и остановился запыхавшись.
Осмотрелся.
По дну оврага текла меленькая речка. На прибрежной грязи — на этом и том берегу — явственно виднелись следы тяжелых звериных лап. И на том берегу высоко в гору поднималась хмурая темная тайга.
Зверь ушел от меня. Преследовать его не имело никакого смысла: он уже далеко. И не скоро теперь остановится. У меня едва оставалось время вернуться к своим до темноты.
Передохнув, я пошел назад, стараясь, где можно, сокращать свой путь.
Этой ночью в избушке у нас было много разговоров о медведях.
Я коротко рассказал о своей неудаче… После этого вспомнился мне разговор с одним моим ленинградским знакомым, человеком лысым, щуплым и очень книжным.
— Что вы чушь говорите о медведях! — набросился он раз на меня. — Человек с ружьем — и трусит идти на медведя! Да я ни в грош не ставлю такую безмозглую тушу. Дайте мне вот эту пукку — финский нож, и я выйду против самого страшного вашего медведя.
Я улыбнулся.
Он пришел в ярость.
— Человек! — кричал он, брызгая слюной. — Поймите вы: че-ло-век! Что перед ним зверь? Червяк, безмозглый пень. Я в тысячу раз умней его. Он ничего не может соображать, а я в любую минуту могу сообразить всё. И пусть я во сто раз слабей вашего хваленого медведя, я со своим соображением, с разумом всегда успею смекнуть, как его одурачить, в какой момент и куда ему всадить смертельный нож.
Я рассказал этот разговор товарищам.
— Хм! — произнес Арсений. — Вообще, конечно…
А Виктор Степанович, задумчиво вороша суком в чувале, мягко сказал:
— Хорошо бы, знаете, с этим вашим знакомым здесь поговорить, в уральской тайге. Я-то лично больше насчет рябчиков, я — не медвежатник.
Расспрашивать Виктора Степановича про его сегодняшние успехи на охоте я не стал: в связке дичи, висевшей на стенке, ни одного рябчика не было заметно.
Чтобы подальше увести его мысли от злополучных рябчиков, я постарался удержать разговор на медведях.
— Мой лысый знакомый, конечно, ерунда, перочинная душа. А вот знаете, какие люди живут на Алтае? Они выходят на медведя действительно с одним ножом. Правда, если не считать деревянного шара со стальными крючьями. Но ведь это не оружие.
такой человек смело подходит к медведю и — когда зверь становится на дыбы, чтобы обрушиться на охотника, — кидает ему свой деревянный шар со стальными крючьями.
Медведь — мастер ловить. Обеими передними лапами он схватывает летящий шар. И с такой силой, что стальные острия крючьев врезаются ему в ладони, как ножи. На стали — зазубрины, вроде как на крючке для ловли рыбы. Крючья назад из лапы не идут. Обе передние лапы зверя связаны, крепко соединены, и медведь, взревев от боли, падает на спину, чтобы помочь себе задними лапами.
Но едва лапа ударит по шару — и она на крюке. Последнюю, четвертую, лапу постигает та же участь.
Тогда медведь связан «по рукам и ногам». Охотник подходит к нему — и прирезает ножом.
— Так-то так, — спокойно заметил Виктор Степанович. — Да только бывает и не так. Я вот знаю случай с нашим же уральским охотником, и отличным охотником.
Жил он тем летом в деревне Коноваловой, под Билимбаем. Пошел на речку Паламиху за глухарями. Еще парнишку деревенского с собой прихватил.
С берега поднялся глухарь. Охотник ударил. Не знаю, убил ли он глухаря, только дробь-то обсыпала кусты на обрыве. А в кустах сидел медведь. Дробь и угодила ему в зад.
Медведь пришел в ярость, скатился с обрыва — и на охотника. Тот не растерялся — и второй заряд послал в зверя, с расчетом, чтобы глаза ему вышибить. И вышиб оба глаза, да немножко высоко взял: носа-то не задел.
Как полагается, взревел медведь, упал. Катается и глаза себе лапами протирает.
Охотник крикнул мальчишке, чтобы спасался. А тот давно уже на дереве сидит.
Полез и охотник на другое дерево. Ружье ему мешало. Он бросил ружье.
Медведь тем временем поднялся и вслепую — одним чутьем — пошел по следу. Учуял охотника на дереве, стащил его и задавил.
— Медведь редко бросается на людей, — вставил Арсений. — Даже раненый. Вот медведицу с медвежатами я не очень желал бы встретить.
Тут мне припомнился случай, рассказанный мне моим покойным другом.
Друг мой — революционер, погибший в гражданскую войну от рук белогвардейцев, — был человек железного характера, железной воли. Как-то я восторженно похвалил эту черту в нем.
Он усмехнулся.
— Брось, — сказал, махнув рукой. — Такая ли воля бывает.
В девятьсот тринадцатом пришлось мне бежать от царских шпиков в уральские леса. Грозила виселица.
Товарищ со мной был, тоже нелегальный.
Жили мы в пещере, как звери, питались ягодой и чем придется.
Раз пошел мой товарищ — звали его Викентий — в лес по малину, а я остался в пещере, сапоги починять.
Смотрю, что-то долго нет Викентия.
Вышел я, стал кликать. Не отвечает.
Встревожился я: мало ли что может быть в лесу, без оружия он ушел. Зверь может подмять, урядник мог на след наш напасть, захватить.
Хотел уж идти разыскивать. А он тут и идет. Бледный, вижу, как мертвец, и еле передвигает ноги. Руки свои перед собой несет, как вещь.
И вижу: на руках голое мясо, кожа спущена, свисает с пальцев клочьями.
Кинулся я к нему, спрашиваю: «Что, что с тобой?»
Он ничего не сказал; упал мне на руки в обмороке.
Уложил я его, кожу натянул на руки, перевязал, как умел.
Через час очнулся он. Рассказал, как было дело.
Близ малинника наткнулся он на медведицу с медвежатами. Медвежатки глупые, несмышленыши: подбежали к нему, давай играть. А медведица поднялась на дыбы, рявкнула, а ударить боится: своих же детей зашибет.
Викентий стоит, не шелохнется. Медвежатки ему руки лижут. Наверно, думали — материнскую грудь сосут. И не маленькие уж: месяцев пяти. На языке наждак будто. Больно рукам. А оттолкнуть нельзя. Так рассудил: пусть лучше больно, чем закричать или бежать — разом медведица кончит. А медвежата, может, и отстанут.
Стоит Викентий. Не пикнет.
И спустили ему медвежата кожу с обеих рук, как перчатки стянули.
И убежали, увела их мать. Викентий жив остался.
Так вот это — воля, характер. Я бы не стерпел, думаю, закричал бы.
— Да уж, — позевнув, сказал Виктор Степанович, — хуже нет — медведицу с медвежатами повстречать. Я бы убежал. А вот рябчика я завтра непременно убью: способ такой придумал. Как поднимется выводок, я за одним следить буду. И уж я его, шельму, угляжу, куда он сядет.
На этом мы и заснули.
В тот раз больше ничего особенного не случилось на Студеном ключе. Я не нашел медведя. Виктору Степановичу так и не удалось добыть рябчика. Вернулись мы в Свердловск и скоро расстались: я уехал домой в Ленинград.
И вот вчера, через год после описанных событий, получаю вдруг письмо с Урала.
И не раз кровью обливалось мое сердце при чтении этого письма.
Вот что я из него узнал.
Этой осенью профессор снова решил попытать счастья в лесах на Студеном ключе.
С ним поехал Арсений, а меня заменил брат Виктора Степановича, доктор и тоже охотник.
Ночевали в той же лесной избушке, что и мы.
Виктору Степановичу долго не везло: всё не мог поднять ни одного выводка рябчиков, бегал по лесу без выстрела.
В одном месте заметил медвежий след, и не очень старый. На всякий случай вложил в левый ствол разрывную пулю «жакан», а в правом оставил мелкую дробь — на рябчиков. И, конечно, через минуту забыл про медведя: рябчики увлекали его куда больше.
Забрался в чащу, выбрался из нее и увидел перед собой громадный ствол лежащего на земле дерева.
Подумал: «Под ним, наверно, сидят рябчики. Вот непременно сидят».
И осторожно, стараясь не шуметь, взобрался на колодину.
Первое, что он увидел, был медвежонок. Рядом поднялся другой. Оба встали на дыбашки.
«Медведица?» — успел только подумать Виктор Степанович и тут же ее увидел: она мирно спала на разрытом муравейнике под колодой — лохматая, бурая.
Виктор Степанович сообразил, что отступление для него невозможно: сзади чаща.
Один из медвежат тоненько рявкнул.
Медведица мгновенно поднялась, повернулась…
Виктор Степанович, ничего больше не соображая, выстрелил ей в грудь почти в упор сразу из правого и левого ствола.
Что-то громадное, жаркое, громко ревущее ударило его в грудь — и всё.
Доктор, брат Виктора Степановича, услышав оглушительное близкое «тара-рах!» — крикнул брата раз и два. В. другой стороне откликнулся Арсений. А Виктор Степанович не отозвался.
Доктор встревожился, кинулся через ельник туда, где были выстрелы.
Страшная картина внезапно открылась ему: в двух шагах — громадная колодина и на ней — повисший во весь рост медведь.
В один миг доктор прикинул в мыслях: «Виктор под ним… стрелять невозможно».
Он выхватил охотничий нож, прыгнул на медведя и всадил ему нож под лопатку.
Медведь не шевельнулся.
Доктор отпрянул, обезумевшими глазами уставился на зверя.
У медведя были вышиблены оба глаза и напрочь снесен нос. В груди, рядом с застрявшим в ране ножом, зияла черная от крови рана.
Доктор понял, что он вонзил свой нож в мертвого уже зверя.
«Где же Виктор?»
Виктора Степановича не было.
Вдруг острые когти резнули ногу доктора сквозь толстые брюки. Он обернулся.
Порядочного роста медвежонок опирался об его ногу. Доктор выхватил нож из мертвой медведицы и с размаху ударил им медвежонка.
Медвежонок упал.
— Виктор!.. Витя! — закричал доктор.
В ответ ему прогремел выстрел, потом другой.
— Сюда, сюда! — крикнул доктор.
Из-за деревьев выскочил Арсений с дымящимся ружьем. Юноша волок за собой убитого медвежонка.
— Виктор убит… Пропал! — в неистовстве закричал доктор и бросился через колодину к племяннику.
Подошвы скользнули по гладкому стволу, и доктор ухнул в яму.
Падение не оглушило его: в яме была мягкая гниль и густой папоротник. Доктор нащупал под рукой что-то твердое, теплое.
Кость… нога!
Он быстро раздвинул папоротник: на дне ямы лежал Виктор Степанович. Всё лицо и вся грудь его были залиты кровью.
Доктор приник ухом к сердцу.
— Жив! Арсений, сюда!
Вдвоем они с трудом выволокли из ямы отяжелевшее тело Виктора Степановича.
Арсений сбегал на Студеный ключ. В кожаной шапке принес воды.
Наконец Виктор Степанович глубоко вздохнул и открыл глаза.
— Долго же я спал, — сказал он, — совсем как в сказке. — И, вдруг забеспокоившись, спросил: — Который час? Пора, а то здесь ночевать придется.
Он ничего не помнил: ни как увидел медвежат и медведицу, ни как выстрелил, ни что потом было.
Доктор отер кровь с лица брата, распахнул одежду на груди и с удивлением увидел, что Виктор Степанович нигде не ранен: кровь на нем была кровью убитых над ним медведей.
Пока Арсений поил дядю студеной ключевой водой, доктор осмотрел медведицу. Ее глаза и нос были разбиты зарядом мелкой дроби. Пуля вошла в грудь и разорвалась в. сердце.
И с этими-то ужасными ранами зверь успел взлететь на высокую колодину и ударить врага с такой силой, что тот грохнул в яму, как легкая чурка, — и всё забыл.
«Теперь я припомнил всё, — кончает свое письмо Виктор Степанович, — вплоть до момента, когда стрелял. Дальше — пустота, пока не очнулся в объятиях брата.
Пишу вам, сидя на пне у избушки, прильнувшей к косогору Студеного ключа. Кругом мало что изменилось: тот же суровый и темный лес, да луга, да ширь поднебесья; рябчики в желтой листве березы, глухари на черных в золоте лиственницах.
Странно мне, что я убил такого громадного и страшного… рябчика. Я же не за ним шел. И мне кажется, что это не я, а кто-то другой.
Меня по-прежнему влекут рябчики, одни только рябчики. Признаться вам, я до сих пор ни одного не добыл. Но я не теряю надежды: не всегда же мне бить медведей.
Когда-нибудь убью и рябчика».
1934 г.
ЦВЕТНАЯ НОЧЬ
Мы возвращались на автомобиле с охоты.
Дорога лежала через степь, ровная и прямая, как поваленный телеграфный столб.
Быстро темнело. Но мы уже отмахали километров пятьдесят, до города' оставалось пустяки, каких-нибудь полчаса езды. Шофер Петя Носик всё прибавлял ходу.
Виктор Степанович ерзал на сиденье, что-то искал в своих бесконечных карманах. Потом сполз вниз, стал перебирать убитую дичь — нашу добычу.
— Что вы ищете?
— Портсигара моего не видали?
— Видел, когда вы брали из него папиросу, на привале. Помните, за канавой сидели, курили, перед тем как сесть в автомобиль?
— Да-да-да!.. Верно. Значит, там я его и оставил. Надо вернуться.
— Полноте! Папиросы у меня есть, хватит до дому. Шут с ним, с портсигаром: он же у вас грошовый.
— Нет, нет, непременно вернемся, он мне дозарезу нужен.
При этом у профессора был ужасно растерянный вид. Волосы на голове взлохматились, даже всегда аккуратная козлиная бородка как-то смешно растопырилась. Он продолжал похлопывать себя по бокам по бедрам, по груди — всюду, где у него были карманы. Раз пять перекладывал с места на место свою кепку рябчикового цвета: нет ли под ней портсигара?
— Говорю же: хватит у меня папирос. Нате закуривайте.
Виктор Степанович закурил, но сказал настойчиво:
— Петя, дорогой, давай поворачивай, поворачивай!
— Ну ты! Не знал, что вы такой скопидом: паршивой деревяшки жаль.
— Да ведь в ней — пропуск.
— Что?
— Пропуск свой я в портсигар засунул. Завтра мне на завод идти, в лабораторию, а меня не пустят.
Я расхохотался.
— Ну, знаете, вы точь-в-точь как один мой очень юный и беспокойный сосед в поезде. У меня нижняя полка была, у него — верхняя. Вот ночью просыпаюсь от крика и стонов. Он стоит на полу, на своем пальто почему-то, и плачет.
— Вы что? — спрашиваю.
— Пальто упало! — отвечает, хныкая.
— Эка, подумаешь, важность — упало. Ну, поднимите, почистите ваше пальто, всего и дела.
— Да… А в пальто я лежал.
Мой анекдот не рассмешил Виктора Степановича: профессор слишком был озабочен.
Петя Носик молча заворотил машину, дал скорость и включил свет.
Сразу утонула в темноте степь. Черная ночь придвинулась к целлулоидным боковым окошечкам автомобиля. Но впереди, в ярком свете фар, открылась волшебная картина: там ночь была цветная.
Первый раз в жизни мчался по дикой уральской степи ночью. И совсем по новому открылась мне эта — казалось, такая знакомая — степь.
Широкая дорога убегала куда-то под ноги, вращалась, как бесконечная лента конвейера. Белого, серого, бурого, желтого цвета.
Придорожная полынь казалась лесом, каждый кустик травы — деревом.
Маленький лес этот точно откуда-то издалека бежал к нам навстречу, но вдруг исчезал, так и не добежав.
Деревья казались гигантскими. Вершинами они уперлись в черное небо. Яркая желто-зеленая листва их блестела, как стекло.
Виктор Степанович всё шарил по своим карманам и что-то озабоченно бормотал себе под нос.
— Да посмотрите, какие чудеса впереди! Бросьте думать о портсигаре, найдем.
— Найдешь его…
В эту минуту впереди из-под колес веером брызнули большие белые хлопья и исчезли справа и слева.
Из темноты раздался резкий лающий голос белых куропаток.
Тут даже Виктор Степанович не выдержал.
— Ишь, ругаются! Слышите, кричат: «Будь ты проклят, будь ты проклят, будь ты проклят: напугал, напугал, напугал!» Это они тебя, Петя.
Петя рассмеялся. Скороговоркой произнесенные проклятия были в самом деле очень похожи на крик испуганных куропаток.
— Носик, наддай ходу! — попросил Виктор Степанович.
— Гляньте! — закричал вдруг Петя.
Впереди прыгал на дороге ушастый зайчишка. Ослепленный неожиданным светом, он смешно и неуклюже подпрыгивал на одном месте, точно у него спустились штанишки и мешают бежать.
Петя Носик направил машину прямо на него.
Перепуганный заяц скакнул влево, но сейчас же повернулся и запрыгал назад.
Добежал до канавы и опять чего-то испугавшись, отскочил на середину широкой дороги.
Петя, ловко играя баранкой руля, гонялся за зайцем из стороны в сторону.
«Жжип!» — машина чуть-чуть было не задела его колесом.
Но заяц сделал отчаянный, какой-то нелепый прыжок боком — и сразу пропал в темноте.
Петя Носик хохотал.
Виктор Степанович бормотал себе под нос:
— …Тоже ночной гуляка! И чего их носит ночью на дорогу?
Километров тридцать мы проехали очень быстро. Проскочили две деревеньки.
Там уже спали; даже собаки не приветствовали нас лаем.
До места нашего привала осталось недалеко.
Вдруг я увидел: впереди на дороге блеснула узкая полоска ярко-ярко-зеленого пламени, исчезла, опять зажглась.
Что-то зловещее было в этом фосфорическом огоньке. И еще страшней он стал, когда вдруг распался на два круглых кружка, два пристальных фонарика-глаза.
— Зверь! — крикнул я.
Но его уже заметили Петя и Виктор Степанович. Петя разом схватился за рычаг: прибавить скорости. Виктор Степанович выхватил ружье из чехла.
Да, это был зверь, и недобрый зверь. Мы увидели его всего, когда он повернулся к нам боком, сверкнул в последний раз зелеными глазами. Оба огонька при этом быстром его движении слились в одну полоску.
Это был матерый волк. В ярком свете фар, возвышаясь над лесом полыни, он казался настоящим чудовищем.
Темно-бурая шерсть горбом встала у него на спине и груди. Морда блеснула белым оскалом зубов. Тяжелый толстый хвост поднялся на уровень спины, и зверь точно сразу вырос вдвое.
Всё это длилось одно мгновенье: волк быстро повернул и помчался от нас прямо по дороге.
Мы с Виктором Степановичем переглянулись и без слов поняли друг друга: стрелять, распахнув дверцу закрытого автомобиля, было невозможно. Вся надежда была на Петю.
Петя это и сам знал. Он только отрывисто бросил нам:
— Держись!
И мы понеслись.
Это было состязание между живыми мышцами дикого зверя и силой человеческой техники. Ставки были приблизительно равные: волк, проиграв, рисковал жизнью. Жизнью рисковали и мы: какая-нибудь яма на дороге, случайно попавший под колеса камень, — и мы разбились бы вместе с машиной.
По совершенно ровной дороге мы могли развить чудовищную скорость. И еще было у нас преимущество: мы не могли устать. Горючего было достаточно.
Но и у волка был свой козырь.
Дорога была не совсем гладкой, местами попадалась щебенка, местами неровности. Волку это не мешало, а машину задерживало.
Мы с Виктором Степановичем впились пальцами в спинку переднего сиденья. Перебегали глазами с волчьего хвоста на белый круг спидометра, где черная стрелка показывала скорость нашего движения. Мы ведь были только зрителями, хотя и мчались вместе с гонщиком и рисковали вместе с ним сломать себе шею.
Всё зависело от искусства Пети Носика — шофера.
Волк трусил от нас рысцой, и, казалось, небыстрой. Но это только казалось: стрелка спидометра прыгнула с цифры 20 к цифре 40, стала против нее.
Значит, мы мчались уже с быстротой сорока километров в час, — с быстротой лучших лошадей на бегах.
Волк продолжал уходить трусцой. Но расстояние между нами не уменьшалось.
— Гони! Гони! — сквозь плотно сжатые зубы страшным голосом хрипел Виктор Степанович.
Он был бледен. Петя еще наддал.
Волк и тут не перешел в галоп.
Ни разу он не обернулся. Да и не мог обернуться: так устроена его шея, позвоночный столб. Но, видно, хорошо знал, где мы: еще прибавил ходу, шел всё на том же расстоянии от машины.
Машина гудела и подскакивала. Нас трясло в ней, как от лихорадки.
— И-эх! — вырвалось у Виктора Степановича. Петя замедлил ход. Пошли ухабы.
Волк уходил от нас.
Но не прошло и минуты — дорога стала ровной, мы опять помчались с прежней скоростью.
— Жарь, жарь, жарь! — как в бреду твердил Виктор Степанович.
Расстояние между волчьим хвостом и нами стало заметно уменьшаться.
Машина подозрительно скрипела. Но Петя не сбавлял ходу.
Уже ясно можно было различить свалянную шерсть на толстом полене.[28]
Виктор Степанович вдруг откинулся на сиденье.
— Брось, Носик! — сказал он совсем другим голосом. — Ясно же, не может живое тело тягаться с машиной.
Казалось, у него пропал всякий интерес к состязанию. Даже нотка сожаления к зверю зазвучала в его словах.
Я его понимал. Мне тоже жалковато было зверя. Но Петя не философствовал. Он еще прибавил скорости.
Мы с Виктором Степановичем крепче вцепились в сиденье, уперлись ногами: сейчас мы налетим на волка, будет толчок, хрустнут под колесами кости…
Волк был от нас в каких-нибудь двадцати шагах.
Вдруг Петя повернул рулевое колесо: дорога круто сворачивала в сторону. На мгновенье полоса света упала в степь. Волк мчался по ней. Мы повернули. Свет опять лег вдоль дороги. Но волка на ней уже не было.
— Ушел! — с досадой крикнул Петя.
Так — неожиданно — состязание окончилось вничью, горячий спор прервался навсегда.
Петя умерил ход и рукавом вытер пот со лба.
Все молчали.
Мы присмотрелись к местности и скоро остановили машину: мы были у того места, куда ехали.
Когда мы вылезли из автомобиля, Петя поставил машину так, чтобы свет фар освещал то место, где мы после охоты отдыхали.
Все трое тщательно осмотрели траву, канаву. Но портсигара не нашли.
Мрачный сел Виктор Степанович в автомобиль. Мы поехали.
— Однако не понимаю, — произнес профессор, — кой черт он раньше не нашелся?
— Кто? Портсигар?
— Какой портсигар? Ведь стоило ему только свернуть с дороги — и он ушел бы от нас. Значит, для него не линия дороги определяет направление бега. Значит, он прямо, всё прямо бежит, как по ниточке.
— Виктор Степаныч! — вдруг перебил Петя Носик. — А откуда вы папиросу взяли?
— А? Какую папиросу? Эту? Да из кепки. Кепка на пол упала, из нее папироса и вывалилась.
— Так взгляните-ка, — наверно, и портсигар там? Виктор Степанович схватил кепку.
— Совершенно правильно: вот же он… Я его, значит, в шапку… И пропуск тут. Вот удивительно! Зачем же мы столько времени и бензина потратили, а?
Я сказал:
— Виктор Степанович, вы — волк. Профессор подскочил.
— Я?.. Как так волк?
— А так. Вам стоило только протянуть руку, чтобы взять пропуск. А вы всю ночь мчались за ним по степи. Вот так и волк. Пропуск был у него в кармане: стоило ему только свернуть с дороги — и он спасен.
Не могли же мы за ним прыгать на машине через канаву.
Но зверь бежит по дороге, освещенный фарами.
Бежит по ней, как по коридору. Резкие границы тьмы кажутся ему сплошными, неприступными стенами, стенами до самого неба.
Ему и невдомек, что препятствие это — мнимое, призрачное препятствие. Стоит только взять вбок…
— Понимаю! — вскричал Виктор Степанович. — Вы правы: я — волк.
1934 г.
КАК ДЯДЕНЬКА ВОЛОВ ИСКАЛ ВОЛКОВ (рассказ деревенского школьника)
Постойте, когда это было? Да как раз в конце четвертой четверти, перед летними каникулами. Меня учительница послала в сельсовет: какие-то сведения отнести председателю.
Я отнес и уже хотел назад идти — вдруг входит в сельсовет старичок в темных очках. Несуразный какой-то: всё у него шиворот-навыворот. На плече двуствольное ружье. Только я никогда такого не видел: комолое, без курков. И повешено не так, как наши охотники носят: дулом вверх, прикладом вниз, а кверху ногами — вниз дулом. Заместо охотницких сапог — дырявые сандалии. Мешок заплечный у дяденьки почему-то на животе болтается. И кепка на голове задом наперед, козырек на затылке.
Дяденька поздоровался с председателем и полез в свой мешок. Удобно так у него приспособлено на груди: и снимать не требуется — развяжи и доставай что надо.
Вытащил из мешка книжечку, из книжечки бумажечку и тянет ее председателю.
Председатель прочел вслух: «Областной охотинструктор по борьбе с волками товарищ Тит Волов».
— Вы сигнализировали в Облисполком насчет волков? — спрашивает дяденька.
Председатель говорит:
— Было такое дело. И откуда, понимаешь, взялись, уже сколько годов не было. И всё больше по речке Быстрянке. Леса у нас большие, крепи да чащобы. Как их там, понимаешь, взять?
— Умеючи надо, — дяденька говорит. — Сейчас самое время волчат брать. Волчицу застрелить. Большая премия от государства. Где последние дни волки на скот нападение делали?
— Да всё, понимаешь, по Быстрянке. У деревни Устьрека три дня назад овцу зарезали. Вчера в Истоке собаку утащили.
Дяденька подошел к стене: там план всей нашей земли висит, всех колхозов — где поля, где лес, где деревни.
Я думал, у него очки, чтобы лучше видеть. А он их на кончик носа сдвинул, сам прищурился и носом по карте водит.
— Вот, — говорит, — Исток и вот Устьрека. А в «Красном пахаре» не видали волков?
— В колхозе «Красный пахарь» их нет.
— Добре, — обрадовался дяденька. — Так я оттуда и начну. Вот с деревни Луговой.
— Луговая, понимаешь, как раз Краснопахарьского района. На что тебе туда?
— Как на что? — рассердился дяденька. — Ясно, кажется, сказано: «Борьба с волками». Не на дачу к вам приехал. Мне время дорого. Не в одном вашем районе волки появились. Война была. Волки войну любят, — вон их сколько развелось всюду.
— Это всё, понимаешь, понятно. Я к тому только, что не туда идешь, где их найдешь, а туда, где их нет.
— Плохо вы, видно, мое имя прочли и фамилию. Потрудитесь еще раз прочесть.
Председатель взглянул в бумажку, говорит:
— Тит Волов. Так и есть.
— А теперь наоборот прочтите, сзаду наперед.
— Обратно, понимаешь, Тит Волов получается, — удивился председатель.
— То-то вот, — загадочно говорит дяденька. — Наоборот-то часто даже лучше выходит.
— Ну, дело твое, товарищ Волов. Вон иди с Ванюшкой, — председатель на меня кивнул. — С Луговой парнишка.
Старичок попрощался с ним, и мы пошли.
Я перво боялся его: думал, он сердитый. Молчу иду. И он молчит.
Прошли околицу. Дяденька на небо посмотрел. Небо всё в тучах. Он очки снял и на ходу в мешок их убрал.
— Очки, — говорит, — у меня от солнца: глаза берегу.
Гляжу на него: враз лицо доброе-доброе сделалось. И начал тут дяденька всякие истории рассказывать.
Перво всё про волков. Какой они ужасный вред приносят колхозам и государству. Что ни год, говорит, в нашей стране миллион голов скота через них недосчитывают — на двадцать миллионов рублей убытка. А что на людей волки бросаются, — это, говорит, больше бешеные. Ну, раненый волк если, тоже может кинуться. А так — нет. Здоровый волк человека боится. Со страху про него и люди сказки рассказывают. Куда, говорит, ни приедешь, всюду один рассказ:
— У нас в колхозе, правда, случаев не было. А вот из дальней деревни шла зимой учительница в город, в район, так ее — это уж верно! — волки съели. Утром едут колхозники, — глядь — на дороге одни каблучки лежат да косыночка.
Смешно мне стало: ведь и у нас в деревне точка в точку такие страхи рассказывали!
А старичок дальше да дальше: про всяких разных зверей, про охоту на них. Как охотники врут, — такие историйки рассказал — животики надорвешь!
Я и не заметил, как мы к нашей Луговой подошли.
— Ну, хозяин, — говорит старичок, — пустишь к себе ночевать?
Я скорей к мамке, всё ей про него рассказал. Пустила она — и крынку молока поставила.
Утром дяденька говорит:
— Веди, — говорит, — меня, Ванюша, к вашим пастухам. Пастухи всегда всё про волков знают.
Я повел его вдоль Быстрянки, потом по ручью в лес: там у нас весной пастьба.
Дед Макар, пастух наш, на пеньке сидел, грелся на солнышке. Федька, подпасок, за коровами, которые от стада отбились, бегал с кнутом, а как нас приметил, — сейчас пришел.
Дед Макар — он тугой на ухо — долго не мог в толк взять, про чего это у него дяденька-охотник спрашивает. А как разобрал, только головой затряс.
— И-и, милый, — говорит, — какие те волки! Волки у нас еще с той ерьманской войны совсем повывелись, бог миловал. Ты в Исток иди, иди в Устьреку: там, бают, объявились.
А Федька-подпасок говорит:
— А я два раз видел. Один раз утром, другой раз вечером, как стадо домой гнать. Эвон там, эвон за ручьем-то, на горушке. Только это не волк был — собака. Паршивая такая — шерсть клочьями лезет. Я на нее как щелкнул кнутом, она — порск! Смехи! Я сам перво думал — волк. А она, вишь, собака какая трусливая; от хозяина, верно, убежала. Дяденька засмеялся.
— А скажи, герой, — говорит, — уши у нее торчком, хвост крюком?
— Уши торчком, — Федька говорит, — а хвост поленом: между ног со страху поджала.
— Утром куда же эта собачка шла?
— Туды вон, — Федька махнул кнутовищем по ручью в лес. — А вечером оттуда.
— Ну, значит, тут по ручью и надо искать ее. Тут у нее и щенята.
— Дак это никак твоя собачка, дяденька? — догадался Федька. — Щениться, значит, ушла. Однако, чай, там нипочем ее не найти: болото здесь в лесу, чаща такая — всё равно как стена.
А дяденька всё посмеивается:
— Ошибся, милок: не моя это собачка. Собачка эта вовсе бесхозная. А вот скоро, надеюсь, будет моя. Пойду ее искать.
Сам мешок с себя снял, на спину перевесил, штаны закатал выше колен, взял ружье в руки и прямо в ручей да в лес.
Я только спросить у него успел:
— А что же, дяденька, охотницкие сапоги себе не заведете? В сапогах способнее.
— А на что они летом-то! — ответил. — Вода теплая. А в сапоги-заколенники попадет вода, потом мучайся с ними. Летом, брат, охотнику обувь нужна, как решето: войдет вода и выйдет. Беги, Ванюша, в школу — опоздаешь. Вечером тебе щеночка принесу.
Целый день я всё про этого щеночка думал: неужто волчонка принесет?
Долгий тот день показался мне. Уж солнце зашло, смеркаться стало; тут только пришел дяденька.
— Обманул, — говорит, — я тебя, Ваня: нет щеночка. И замолчал. Так, молча, поужинал и спать лег.
Я вижу: расстроенный, и уж спрашивать у него ни о чем не стал.
На другое утро он ушел до света, я еще спал. И к ночи вернулся — простой опять. И уж о щеночке ни слова.
Задумчивый. Что-то под нос себе бормочет. Некоторые слова я разобрал:
— Ошибка, ошибка. Всё может быть… Экая хитрая бестия!
Стали спать укладываться. Вдруг он говорит:
— Ванюшка! Никак завтра воскресенье? — Воскресенье и есть, — говорю.
— И в школу тебе не идти? — А как же: выходной ведь.
— Так слушай, милок! Помоги мне. Пойдем со мной завтра с утра. А то там, понимаешь, такой чертов переплет в ивняке-то — никак мне не пробиться. А ты ростом невелик — пролезешь.
Хорошо — мамки в избе не было. Сейчас бы заругалась:
«Что, — мол, — ребятенка на какое дело подбиваете! Разорвут его волки, не пущу!»
Мы с ней ведь догадывались, что Федькина-то собачка волк была.
Я и говорю ему:
— Только мамке не сказывайте. Я будто за пёстышамн пойду с ребятами.
— А что это — пёстыши? — спрашивает.
— Хвощ по-ученому. На ржаном поле его много. Головки больно вкусные.
— Ладно, — говорит — помолчу. Только ты не бойся: опасности никакой и ружье у меня.
— Я не девчонка.
Утром я нарочно первый ушел. Круг дал — и к пастухам. Туда и дяденька подошел. Федька, хоть ему и невдомек, кого по правде мы разыскиваем, тоже с нами увязался.
Совсем немного мы отошли по ручью, — покрыл нас с боков и сверху густой ивняк. Как в пору попали.
— Ну вот, — говорит дяденька. — Отсюда начнем. Лезь, Ванюшка, на правый берег. А ты, Федя, на левый. Ищите щенят. Найдете — меня крикните. Я вперед пройду, там не так крепко. Близко буду, услышу. А не найдем ничего — опять здесь в полдень сойдемся.
Полезли мы с Федькой: он в одну сторону, я в другую. Лист на кустах еще небольшой, видно всё-таки впереди, особенно понизу. Только ничего такого не приметно, никаких волчьих следов или еще там чего.
Ну, трудно лазать: кочки, между ними вода, как чай густой, коричневая. Ветки по лицу то и дело хлещут. Где тут волкам жить! Утку одну видел да маленьких каких-то птюшек болотных. Трещат: верно, гнезда у них тут на кустах.
Дальше суше стало. Тут, слышу, сороки стрекочут. Увидели меня — еще пуще закричали. Да таково их много — не меньше десятка собралось. И такая у них тут вонь — тошно даже. Ну вас, думаю. Совсем оглушили!
Устал я шибко. Хотел присесть — отдохнуть. Гляжу: солнце уже прямо над головой стоит, — полдень.
Я скорей назад.
На ручье уже дяденька и Федька меня ждут. Уж кричать меня хотели. Дяденька говорит:
— Мы с Федей ничего не нашли. Не приметил ли ты чего-нибудь?
— Никаких следов, — говорю. — И искать в этой стороне не стоит: там одни сороки, целая куча их, и запах там тоже нехороший — вонько пахнет.
А дяденька-то обрадовался.
— Да ну, — говорит, — неужели сороки? И дух тяжелый? Веди меня скорей туда!
Трубку он курил — и трубки не докурил: выбил ее о приклад ружья, огонь в воду посыпался. А мне неохота опять в эту гущину лезть: весь обдерешься и устал как собака.
И что, думаю, он всё шиворот-навыворот делает. Придумали волков искать, где их никто и не видел! А теперь сорокам обрадовался. Сорока — птица осторожная: человек ли, зверь ли — сейчас затрещит и улетит.
Ну уж, думаю, всё равно. Представлю его сорокам, а там недалеко пробраться по кустам до бора. Скажу — мне недосуг, сам бором — и домой.
Повел его. Федька не пошел: говорит, дед заругается, коровы разбредутся, — надо иттить.
Сороки на том же месте оказались. Как затрещат!
И вот поди же ты: всего мне было шагов с полсотни еще податься — и сам бы я нашел волчье логово!
Горушка там дальше, в ней нора — совсем неглубокая, под корнями сосны. А по склонам всё кости белеют: птичьи, заячьи, овечьи, собачьи. От них и дух такой тяжелый.
Волчата лежали в норке клубком.
Дяденька развязал мешок и начал хватать щенят одного за другим за шиворот. Шесть штук их оказалось, шесть штук он поклал в мешок. Серенькие они, хвостик веревочкой, глаза еще только прорезались.
А я всё больше по сторонам поглядывал: вдруг да вернутся волк и волчица? Жутко всё-таки…
— Ну! — весело так дяденька говорит, — тут нам делать больше нечего.
— А волчицу хотели убить?
— Ни волка, ни волчицы мы с тобой не увидим, хоть они и рядом тут оба, в кустах сидят и нас слышат. Волчицу взять — это особое дело. Идем, идем, скорей, Ванюша.
За горушкой опять были кусты, но уже не так много. Скоро мы поднялись в гору, а там — чистый бор.
Тут дяденька остановился. Покрутил головой и говорит:
— Ну, нам с тобой сюда. Вот этой тропкой пойдем.
— Что вы, дяденька, — говорю. — Совсем наоборот: нам вон куда надо. Тут до деревни рукой подать.
А он так сердито на меня поглядел. Брови сдвинул.
— Ты, — говорит, — меня не учи, мальчик. Ученого учить — что мертвого лечить. Делай, что я тебе говорю, и помалкивай. Не всё против ветра ходить: иной раз и по ветру надо.
Зло меня взяло: опять он наоборот делает! Ведь этой тропой, что он хочет, половину бора обогнем, а потом назад полями шлепай — по жаре-то!
Всё-таки ослушаться его не посмел. Иду вперед. Он — следом.
Скоро вышли мы тропкой на поляну, перешли ее. Тут он сзади тихо так говорит мне:
— Иди, не оборачивайся, не останавливайся. И вот тебе эхо, не тяжело будет?
Сам кладет мне на плечо мешок с волчатами. Перекинул мне ремни на грудь.
— Иди, — шепчет, — иди потихоньку. Не останавливайся. Да смотри не оборачивайся, а то худо будет!
Здорово я тут струхнул. Ясно же: полоумный старик! Зачем он шепчет? На что меня вперед посылает и оборачиваться не велит? Сейчас как даст из обоих стволов в спину!..
Похолодел я весь. Иду, оглянуться не смею. И его за собой не слышу.
А тропка, как нарочно, прямая-прямая! Хоть бы какой поворот. Я бы завернул — и со всех ног!
Прямо ноги у меня заплетаются со страху. В голове мутится.
Не знаю, сколько и прошел так…
Вдруг — ббах! — сзади.
Я как подпрыгнул! Мешок бросил — и деру!
Слышу, кричит сзади: «Куда ты, куда! Стой!»
Я обернулся. Смотрю: он далеко, у той поляны. И что-то с земли поднимает.
Поднял — волк!
Тут я и страх забыл. Побежал скорей назад. Мешок" подобрал — и к нему.
А он уже идет навстречу, — мертвый волк на плече. Передние лапы дяденька на грудь себе перекинул: волчий хвост по земле волочится.
— Что ты, дурашка! — говорит. — Чего напугался? Это волчица. Я уж знал: она за нами следом крадется. Смотрит, куда ее волчат несем.
Потом ночью пришла бы к избе: нельзя ли детей выручить? А я, видишь, тебя с мешком вперед и послал, — а сам — раз! — и за деревья. Минуты не прошло, — она бежит — нос к земле. Следы чует, а меня — нет; я потому этой тропкой пошел, что как раз нам тут ветер в спину: ей нашего запаха не слышно. Она и набежала на меня.
Вот, значит, до чего дяденька хитрый: всё рассчитал. Потом и говорит мне:
— Запомни: умнейший зверь — волк. Его прямо понимать никак нельзя. Так и знай: где он весной скотинку режет, собак таскает, — там он не живет. Там его логова не ищи. Это самец. Волчица от малых волчат не отойдет.
А волк широко ходит, охотится, добычу носит волчице и детям. У логова они себя не обнаруживают, шито-крыто живут. Рядом будет стадо ходить — не тронут. Тебе будут говорить: «Тут ищи!» А ты наоборот делай — и найдешь.
Потом говорит:
— Ты думал, сороки зверя боятся: где сороки, там волка нет. Как раз наоборот. От волчьих обедов остатки остаются — мяса кусочки на костях. Вот сороки и собираются. Они первые волка выдадут. В лесу, брат, каждый след надо уметь читать, как мою фамилию, — и спереди назад, и сзаду наперёд. Так-то, брат Ванюшка! Хотел он мне волчонка оставить на воспитание, — говорит, как собака будет, да мамка не позволила. Такая меня досада взяла!
А Федьке-подпаску еще досадней было, когда он увидел волчат и убитую волчицу и узнал, какие звери рядом с ним жили.
Выходит, у нас с ним тоже немножко шиворот-навыворот получилось. Да только не так ладно как у дяденьки Тита Волова.
1935 г.
УШКИ В МЕШКЕ (рассказ городского школьника)
Терпеть не могу неправильных рассказчиков! Вроде Веньки Овечкина. Не поймешь у него, то ли он правду рассказывает, то ли сказку. Да еще с середки начнет или с конца, — весь рассказ у него кверх тормашками и получается.
Вчера сидим мы с ним на крылечке, — перевариваем. Отец велит два часа после обеда ни в футбол не играть, ни купаться. Беседуем.
Вдруг Венька толк меня в бок кулаком и на улицу глазами показывает.
Смотрю — идут двое каких-то: один старичок вроде карлика, другой парнище здоровенный, прямо чемпион тяжелого веса.
— Знаешь — кто? — шепчет Венька.
Чудак тоже: откуда же я могу знать, когда я тут у них на Урале без году неделя?
— Это, — говорит, — медвежий старик Инотар и внучок его Пашка Малыш, которого старик два года носил по горам и лесам у себя на закорках.
Я как прысну! Эдакий парнище у старичка на закорках! Прямо Руслан и Черномор. Да у Черномора хоть борода была длиннущая, а этот вовсе лысый, ни бороды, ни волос.
— Что тут такого? — рассердился Венька. — Грегочет, сам не знает чего!
— А ты, — говорю, — рассказывай толком. Опять с конца начинаешь?
— И вовсе, не с конца. Конца тут и нет. А тебе с «жили-были», что ли, начинать? Или как ино?[29]
— Конечно. Если сказка, так и начинай: «Жили-были дед да парень…»
— А если правда?
— Тогда начинай так: «Это случилось тогда-то и там-то…»
Старичок с парнем давно скрылись за углом, и я видел: Веньку так и подмывает рассказать про них. Он поерзал, поерзал — и не утерпел.
— Ладно, — говорит, — пусть по-твоему.
Подумал немножко и начал так:
— Это случилось, наверно, лет пятнадцать назад в нашем районе. Жил да был в одном селе…
— Стой, Овечкин! Что ж у тебя сразу два начала: и «это случилось…» и «жил да был…» Мы же уговорились, что если быль, то…
— Быль и есть, — перебил меня Венька. — Самая взаправдашняя быль, кого хочешь спроси. А «жил да был» — это про медвежьего старика Инотара. Про него как ино? Про него иначе не скажешь, потому он такой уж старик… вроде сказочный, сам увидишь. И вообще, — слушай и не перебивай.
— Жил да был, значит, медвежий старик Инотар. Медвежатник. Он тогда уж сам забыл, сколько зверей уложил на своем веку. В каких только переплетах не был! Много раз у него ружье осекалось, два раза под медведем был, ножом медведю брюхо порол. Всё ему с рук сходило. Пока, наконец, не налетел на шатуна.
Это — знаешь? — такой медведь, которого с берлоги подняли, а убить не убили. Он и шатается всю зиму по лесу злющий-презлющий. Еще бы: ведь вся его еда — коренья там разные, дудки, муравейники — всё под глубоким снегом. И приходится ему зайцев, косуль, лосей промышлять. Такой и на человека напасть не постесняется: он с голодухи вовсе бесстрашный.
Вот раз поехал дед Инотар на дровнях в урман[30] за дровами. Собак, конечно, с собой не взял: не на охоту ведь. Да и встретился с шатуном.
Ружье, конечно, при себе было. Стрелил дед по шатуну, да плохо: ушел зверь.
Дед тою же минутой с дровней долой, лошадь к дереву прикрутил — и за ним по следу.
Идет дед по медвежьему следу, близкой беды над собой не чует. Шатун в рыхлом снегу канаву до самой земли пропахал, ее деду далеко меж древесных стволов видать. Идет дед, зорко вперед глядит.
А шатун на него как рванет сбоку!..
Он — шатун-то — что придумал: бежал, бежал, да и дал петлю. Петлю дал, назад к своему следу вышел сбоку-то, да и залег тут под кокорину[31] в засаду. Вот и рванул отсюдова на деда.
Дед Инотар и ружья к плечу поднять не успел.
Шатун как даст по ружью лапой, — ружье в щепки!
Обезоружил деда — да рраз ему лапой по уху! Рраз по другому!
Свалил в снег — да как закричит:
— Будешь, старый сыч, нашего брата бить!..
— Стой, стой, стой! — закричал я Овечкину. Он в такой раж вошел, что соскочил с крыльца и уж стал на мне показывать, как медведь деда в ухо да в другое… — Это кто у тебя, это медведь-то говорит?..
— Тьфу ты!.. — опомнился Венька. — Верно ведь…
— Вот, — говорю, — Овечкин, видишь, что твое сказочное начало делает: «жил да был»… Уж и медведь у тебя на человеческом языке заговорил.
— А ты не придирайся! Не хочешь слушать, так… Но мне уж самому не терпелось узнать, что там дальше будет с дедом?
— Да ладно уж… Ну?
— Ну, — продолжал Венька, — дед, конечно, за нож: не впервой ему зверю-то брюхо пороть.
А шатун, не будь дурак, через деда махом — да в лес деру!
Поднялся дед Инотар, отряхнул с себя снег, кругом себя поглядел — и ничего понять не может: что такое с урманом сотворилось? То в нем ветер бушевал, деревья скрипели, лошадь тонким голосом ржала от страха, а то вдруг мертвая тишина стала, всё кругом молчит, как заговоренное. Будто то место, где на него шатун напал, будто и не то…
Не сразу дед Инотар в толк взял, что это с ним приключилось неладное, а не с лесом. Сгоряча-то и не почувствовал, какая в ушах боль. Кое-как доплелся по снегу до лошади, отвязал ее. Повалился в дровни, — лошадь до дому сама довезла.
Больше месяца в кровати провалялся: шатун ему, оказывается, в ушах обе эти… как их?.. перепонные барабанки… то есть эти… барабанные перепонки вышиб. И потрясение мозгов сделал.
Встал всё-таки дед, поправился.
Сын ему на пальцах объясняет: дескать, баста теперь на охоту ходить. На зверя глухим не пойдешь. Сиди теперь на лавочке да валенцы подшивай.
А дед как обозлится! Головой затряс, кулак кому-то в окошко кажет.
Оказывается, это он на медведя. Дескать, я ему еще покажу!
Достал припрятанные на черный день деньги, сунул их сыну и объясняет: поезжай, мол, в район, там ижевскую двустволку мне купишь.
Сын отца не ослушался, — как ино? Привез ему ружье.
Дед Инотар на другой же день с лайками в урман.
Целый день пропадал. К ночи вернулся мрачнее тучи.
Еще бы не расстроиться: лайки по лесу широко ходят, за ними не угоняешься. Найдут где зверя, — голос дадут. Лают, лают, а всё без толку: старик глух, как печь. Так зря и пробродил по лесу с утра до ночи. Недаром же говорят у нас: «В лесу первое дело — уши. Глаза потом».
Залез дед Инотар на печь. Три дня, три ночи молчал.
На четвертый день слез, крошни свои достал: плетеную котомку на плечах за спиной носить, вроде твоего рюкзака. Пашку-внучка велел в избу позвать.
Пашке тогда третий годок доходил. Он и вправду малыш был.
Дед для прочности крошни в мешок опустил, еще ремнями перевязал. Велел Пашке в нутро залезть. На спину себе крошни взгромоздил, ружье в руку, собак свистнул — и айда в лес.
Пашке перед тем отец объяснил, что дед задумал и как ему — Пашке — вести себя в лесу.
Собаки давно за деревьями скрылись: зверя разыскивать побежали. Шагает дед Инотар по урману, никуда не торопится. Пашка-малыш в крошнях у деда на закорках едет, голову из мешка высунул, носом вертит, по сторонам любопытствует.
Ходил, ходил дед по урману, по горкам, — притомился.
Помнишь сказку «Медведь и девочка»? Как Маша батюшке и матушке гостинчик послала с медведем? Медведь навалил корзину себе на плечи и пошел лесом. Шел-шел, устал и говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок!»
А Маша ему из корзины:
«Вижу, вижу! Не садись на пенек, не ешь пирожок!»
Так и дед Инотар: шел-шел по лесу, устал — и сел на пенек.
Только сел отдохнуть, а тут лайки с правой стороны где-то на зверя напали, голос дают.
Дед, конечно, ничего не слышит, сидит себе на пеньке спокойно. А Пашка-малыш из крошней ему:
«Слышу, слышу! Не сиди на пеньке: собачки лают вдалеке!»
Дед, конечно, и Пашку не слышит, сидит себе на пеньке, отдыхает. А лайки визжат, ярятся!
Тут Пашка-малыш ручонку из крошней выпростал да цоп деда за ухо! Дед вскочил.
И вот спешит туда, где собаки лают; Пашка дедом из-за спины, как лошадкой, управляет. Лай справа, — Пашка за правое ухо тянет. Слева лай, — Пашка за левое ухо.
Наконец видит: за деревьями на елани[32] лайки зверя осадили. Одна у него перед носом вертится, другие две за задние ноги, за гачи,[33] как за штаны, его хватают, рвут зубами, шагу вперед ступить не дают.
А медведище здоровенный, страшилище, — похоже тот самый шатун, что на деда зимой напал.
Пашка-малыш струсил — да нырк назад в крошни! Притаился там, как мышонок в норке.
Медведь на деда, лайки на медведя! Впились, повисли на нем со спины, как пиявицы. Медведь хотел их зубами достать, оторвать от себя, — и подставь свою грудь деду под выстрел.
Один только раз стрёлил дед из своей двустволки, — зверь и рухнул: прямо в сердце ему дед пулю влепил!
Тут уж дед по всему своему праву на пень сел, крошни с плеч спустил, Пашку на землю высадил.
Пашка увидал битого медведя и как его собаки треплют, — в голос заревел и к деду назад. Маленький ведь был, напугался, думал, живой зверь. Впервой на охоте-то, без привычки еще.
А потом, как попривык, — ему хоть бы что стало! Приправит деда к зверю — и в крошни не нырнет: глядит из-за дедова плеча, как тот с медведем управится.
Ну и ясно: раз с таких малых лет всю медвежью повадку узнал, — как вырос, замечательным охотником стал. Теперь лучшим в районе медвежатником у нас считается. Чуть не каждый год премируют его. Как ино? Овечкин замолчал.
— Всё? — спросил я.
— Ясно — всё. Еще чего?
— Рассказ ничего себе, интересный, — говорю я. — Запиши: я его в наш школьный журнал возьму. Только конца у него нет. Конец надо придумать. Вот, например, такой: «Так знаменитый медвежатник дед Инотар подготовил себе блестящую смену в лице чемпиона тяжелого веса великана Пашки Малыша, а сам ушел на покой и больше на медведей не ходит».
— Да ты что, в своем уме? — набросился на меня Овечкин. — Сочиняльщик нашелся!» Дед Инотар ушел на покой»!.. Да он и сейчас на охоту ходит.
— Так ведь Пашка-то вон какой вымахал! Скажешь, дед его всё еще в мешке за спиной таскает?
— Вот глупости! Дед Инотар говорит: «То были у меня ушки в мешке, говорит, а теперь стали у меня уши на веревочке».
— Это как же — «на веревочке»?
— Очень просто: приучил дед дворняжку. Она у него на веревочке ходит к поясу привязана. В какой стороне зверовые лайки голос дадут в лесу, она туда деда и тянет. Всего и дела! Ясно?
Ясно-то мне, конечно, ясно… Но какой же это конец? Значит, дед Инотар по-прежнему медведей бьет? Без конца, что ли, их будет бить?
Или подождать, когда дед Инотар помрет? Тогда про него напечатать в моем журнале рассказ?
Я ведь главредактор школьного журнала да еще и критический отдел веду.
Не могу же я напечатать художественный рассказ без надлежащей концовки!
1950 г.
ДЖУЛЬБАРС (рассказ ворошиловского стрелка)
Прошлого года осенью я был в командировке в Таджикистане.
Сижу как-то в столовке, обеда жду. Вдруг вваливается компания бойцов — всё молодые офицеры. Все очень возбуждены, громко разговаривают, смеются.
Один подходит ко мне, здоровается.
Оказалось, по Ленинграду знакомый. Представил товарищей, рассказал, как мы с ним на ворошиловского стрелка сдавали.
Обедали вместе, и тут узнаю, что вся компания сейчас едет на облаву: какого-то джульбарса стрелять, который много скотины загубил в окрестных кишлаках..[34] Какие-то там вырыты окопчики по числу стрелков, и только в одном не хватает стрелка: кто-то из офицеров заболел. И вот они меня с собой приглашают, непременно чтобы ехал с ними, и коня дадут и винтовку.
Я подумал, что джульбарс — местная какая-нибудь порода барса, зверь не такой уж страшный. Здоровая кошка — вот и всё. Да и так на меня насели — не было никакой возможности отказаться. Подвиг, знаете, всё-таки: население освободить от вредного зверя.
Отправились. Всего каких-нибудь километра два по степи от городка отъехали и остановились.
Дали мне заряженную трехлинейку и подвели к окопчику. Я спустился в него, а они дальше поехали — рассаживаться по таким же окопчикам. Очень скоро все с глаз скрылись, и красноармейцы поспешно ускакали назад с нашими конями.
Мне сказали: зверя надо ждать примерно через час. Времени приготовиться хватит.
Окопчик этот — простая яма, по грудь глубиной. Голова и плечи наружу, стрелять очень удобно. А в углу еще дыра, узенький ход вниз, весь в него влезешь, с головой.
Я подумал: «Значит, зверь всё-таки опасный. В случае чего — в эту дыру надо нырять, отсиживаться от него. И зачем это я ввязался в эту музыку? Сидел бы сейчас под крышей и никаких зверей, кроме комаров, не боялся».
Правду сказать, всякие мысли в голову лезли: «Ну, барс, джульбарс — или как его там? — конечно, не лев. А всё-таки с непривычки жутковато: зверь такой, что не только козла, а и здорового кабана берет. А кабан и сам даст на ходу клыком — у человека нога пополам».
Винтовку осмотрел тщательно. В порядке вся.
Кругом огляделся. Ровная-ровная степь. Трава совсем низенькая. Только шагах в двухстах впереди — тугай. Это кустарники такие непроходимые, джунгли. Слева и справа от меня головы соседних стрелков из земли высовываются, поблескивают ружейные стволы. Да очень далеко; если зверь набросится — помощи не жди.
Время чем дальше, тем скорее летело. Я всё на часы поглядывал.
И вот ровно через час слышу выстрел далеко впереди. Это, я знал, условный знак, что цепь загонщиков двинулась.
И опять полная тишина. Только высоко в небе противным голосом какая-то хищная птица кричит, летает кругами, да часы в моем кармане тикают.
Винтовка у меня давно наготове. И смотрю я, зорко всматриваюсь в тугаи. И всё мне кажется; вон-вон высунулась из кустов звериная голова, поглядела и скрылась…
Сто раз успел передумать, как этот барс выскочит из тугаев, — серый весь и черные круги по всей шкуре, ростом с гончую собаку, хвост до земли, — и как он себя этим длинным хвостом в ярости по бокам будет бить. Присядет на ногах, как кошка, и бросится вперед.
Вот перед прыжком и буду стрелять. В голову. Нет, лучше в левый бок ему — в правый, значит, от меня. В сердце. А то по черепу может пуля соскользнуть.
Весь напрягся в ожидании и о времени забыл.
Потом, чувствую, устал стоять, устал вглядываться и вслушиваться. А глаза оторвать от тугаев боюсь: вдруг он тут и выскочит?
Выхватил часы из кармана, глянул: уж полтора часа прошло после выстрела. Сразу сердце отлегло: сейчас не зверь, сейчас загонщики-красноармейцы покажутся из тугаев. Пора уж им тут быть.
И уже веселыми глазами стал на тугаи смотреть: зверя уже не боялся.
…А он ползет. Уже почти половину расстояния от тугаёв до меня прополз. И как я его раньше не приметил, прямо не пойму!
Да и совсем не тот зверь, которого я ждал, — не барс.
Оранжево-красный весь, с черными полосами, а длиной, поверите ли, ну прямо с громадную тропическую змею, с удава!
Сознаюсь, сердце у меня так и сжалось. И весь я точно куда-то в пропасть ухнул.
Он не полз, а весь как-то переливался. Брюхо к земле прижато, ног не видно, только широкие круглые лопатки над спиной тихонько шевелятся. А голова — с бычью. И прямо-прямо на меня ползет. Да быстро ведь, как змея!
Опомнился я, схватился за винтовку. И вот сила привычки: как почувствовал в руках знакомый предмет, прижал приклад к плечу — сразу успокоился.
Локти упер в землю. Выделил аккуратно в левый бок. Головой-то он ко мне был, так что рядом с его щекой пришлось целиться в плечо.
Вторым суставом указательного пальца, как полагается по правилам, плотно нажал курок. И, кажется, не успел еще замереть звук выстрела, как я оторвал приклад от плеча и щелкнул затвором; послал вторую пулю в ствол — и опять был готов стрелять.
Я ждал страшного рева, громадного прыжка, или что зверь разом упадет на бок и в конвульсиях захрипит, задрыгает тяжелыми лапами. Словом, всего, чего хотите, ждал, но только не того, что случилось. Гляжу и глазам не верю: зверь хоть бы дрогнул — ползет, как полз. Так же молча, так же быстро, так же прямо на меня.
Я — ворошиловский стрелок, почти снайпер. Я на расстоянии ста метров из пяти выстрелов не даю промаха в чуть видное черное яблочко мишени. Как я мог промазать?
Одной секунды не было на размышление. От верности прицела и быстроты выстрела зависела моя жизнь. Я это чувствовал всем телом. Я давно уже понял, что это за зверь передо мной — тигр.
Тигр всегда казался мне страшней льва. Ползучая груда мышц и страшная способность одним прыжком, мгновенно, бросать свое многопудовое тело на десяток метров…
Во второй раз я прицелился в голову: рассчитал, что если и соскользнет пуля по гладкой кости черепа и зверь кинется на меня, а всё же успею еще раз или два выстрелить в него, пока он очутится рядом.
Рука не дрогнула. И после выстрела я опять мгновенно перезарядил винтовку.
Та же картина: зверь молча, быстро ползет на меня. Теперь и семидесяти пяти шагов не было до него, и я уже видел его растопыренные усы.
Что это: мираж, обман зрения? С таким же успехом можно стрелять в легкое облачко тумана.
Когда я выстрелил в третий раз, тигр был в пятидесяти шагах от меня. Я видел его сверкающие глаза. Они не моргнули и после выстрела.
Вдруг меня обожгла страшная догадка: я стреляю холостыми патронами! Ужас моего положения ясно представился мне: остается два выстрела, я не успею вставить другую обойму. И эти последние патроны — тоже лишь безвредные хлопушки.
Четвертый выстрел я сделал, когда зверь был в каких-нибудь тридцати пяти шагах от меня.
Тигр — ни звука. Только гибкий хвост, который я до того принимал за продолжение его неимоверно длинной спины, заходил по земле, как у кошки, подбирающейся к воробью.
Зверь готовился к прыжку.
Не помню, куда и как я выпустил пятую, последнюю мою пулю. В момент выстрела громадное огненное тело зверя беззвучно, с непостижимой легкостью отделилось от земли и метнулось ко мне.
Я выпустил пустую винтовку из рук, отскочил назад и ногами вниз скользнул в узкую нору на дне окопа.
В тот же миг надо мной нависла страшная пасть зверя. В лицо мне пахнуло горячим зловонным дыханием. Кроваво-красный язык и белые громадные клыки были над самыми моими глазами. Сумасшедший рев совсем оглушил меня.
Я заорал, кажется, еще громче зверя. И потерял сознание.
Очнулся я в постели. У изголовья стоял доктор в белом халате. Вся комната была полна молодых офицеров. У всех были испуганные лица, во всех глазах — напряженное ожидание.
— Как себя чувствуете? — обыкновенным голосом спросил доктор.
Мне всё припомнилось сразу.
— А тигр? — спросил я. Все наперебой закричали:
— Тигр убит!
— Сдох над вами!
— Небывалой величины зверь! — Блестящая стрельба!
— Все пять нуль в нем!
— Две в левой щеке!
— Две в левом легком!
— Одна в левом плече!
— Если бы чуть пониже, — торопливо вставил мой знакомый, — угодила бы как раз в сердце. А так все пять пуль прошили зверя насквозь, без задержки.
Шкуру убитого мною тигра, или — по-тамошнему — джульбарса, я увидел только через два месяца, уже в Ленинграде. Товарищи по охоте дали из нее сделать ковер. Ковер вышел замечательный, такой большой, что покрывает весь пол в моей комнате.
Но когда я его в первый раз увидел, я вздрогнул: очень уж ярко припомнилось, как эта страшная туша на меня ползла, такая же безмолвная и такая же равнодушная к пулям, как этот ковер.
1936 г.
ЗОЛОТАЯ ЧАЙКА
Четырнадцатого августа мы вышли из Обдорска на моторной рыбнице «Зверобой», пересекли Полярный круг и скоро потеряли из виду берега. Казалось, мир залило водой.
Утром снова увидели землю. Но жалок был ее вид: ни гордых гор, ни леса; чуть-чуть возвышалась над водой низкая зелень.
«Зверобой» шел протоками между плоскими островами.
К полудню остановился у бывшего ненецкого стойбища Пуйко.
Удивительно на краю света, среди воды и низкой, хлипкой тундры, в безлюдной пустыне, наткнуться вдруг на вывески:
«Прием телеграмм производится…»
«Общественная столовая».
«Фельдшер».
«Штаб».
Здесь утвердился боевой рыболовецкий отряд. С десяток изб, склады, мостки в тундру, сети, развешанные на сушилках — всё это на небольшой площадке, отвоеванной у низкого, но упрямого кустарника.
В штабе приняли нас радушно. Но в ловецкой столовой не оказалось лишних порций для приезжих.
Высокий остроплечий астраханец, начальник промысла, подозвал мальчонка лет восьми.
— Сведи-ка товарищей на склад. Отбери им маленького осетра.
Я пошел за мальчонком в обширный сарай. Там, на нарах, грудами лежали двухметровые распластанные, золотые от жира осетры. И к потолку рядами были подвешены такие же соленые рыбины.
Мальчонок выбрал из самых мелких осетров одного пожирнее.
— Бери, дяденька. Этот хорош будет.
Острая морда рыбины была взнуздана веревкой. Я потащил подарок за эту веревку; держал на отлете, чтобы не запачкать жиром одежды. Держал руку с веревкой на высоте своего подбородка, а хвост «маленького» осетра волочился по земле.
Полтораста шагов до штаба достались мне трудно: рука затекла.
Мы недолго оставались в штабе: тут люди стремительно вершили ловецкие свои дела, и нам не хотелось мешать им.
Мы собрались в тундру на охоту.
— Хотите, проедем на остров, — предложил молодой ловец Гриша. — Я нынче выходной, могу показать места. Может, и гусей найдем.
— Едем. Мы готовы.
— А где же ваши сетки? Накомарники? Сеток у нас не оказалось с собой.
— Ничего. Не загрызут же нас комары.
— Как сказать! Я-то привычный, а вам советую поберечься.
Гриша достал у товарищей накомарник — одни на двоих. Другие были заняты.
Мы отправились.
Валентин великодушно предоставил накомарник мне первому. Я натянул марлю на голову, насадил сверху кепку и почувствовал себя, как лошадь, которой надели на морду мешок без овса.
Дошли до протока. Здесь на берегу лежали три узкие лодочки-долбленки.
Валентин легко столкнул одну, смело вскочил в нее и вдруг — как стоял с ружьем через плечо, так плашмя и лег в воду — исчез из глаз.
Это произошло так быстро и неожиданно, что на миг я опешил. В следующий миг Валентин уже выскочил из воды и шагнул на берег. Весь в тине и траве, он был похож на водяного. Хохот душил меня.
Валентин ругался, пока не обсох.
Мы вычистили и вытерли его ружье, спустили на воду другую лодчонку, чуть побольше, и осторожно уселись: Валентин с Гришей в весла, я — на рулевое.
Узкая душегубка шатка и валка — сиди, не ерзни, — и летит по воде, как по воздуху.
Протокой быстро выскочил в широкий, сильный рукав Оби.
Большие волны мягко, но мощно ударяют о борт, грозят перевернуть утлую посудинку.
«Выкупаться-то не беда, — думаю про себя, — а вот как за ружьем потом нырять на такой стремнине?»
— Кстати, Гриша, не знаете, какая тут глубина?
— Как раз тут недавно мерили: сорок четыре метра.
— Ух ты! Нырнешь, пожалуй…
Быстро несет на нас плоский зеленый остров. На песчаной косе сидит большая птица. При первом же взгляде на нее забываю глубину и ненадежную лодчонку. Резким движением схватываю ружье, срываю накомарник.
Лодчонка качнулась, но выпрямилась.
Совершенно непонятная птица!
— Гриша, не знаете, что это?
Ловец продолжает грести, но оборачивается:
— Филин вроде…
—. Филин! Филина я бы за версту узнал: он сидит столбиком, у него уши. А эта тело держит, как чайка.
— Халей, может? — недоумевает ловец. — Цвет только вот…
— В том-то и дело — цвет!
Халеем зовут здесь сибирскую хохотунью, большую чайку. Молодой халей — белый с серым, старый — весь белый. А эта удивительная птица вся желто-бурая, спина совеем, темная, и какое-то удивительное золотистое сияние над ней.
Повернулась к нам грудью. Грудь такого же цвета, и золотистое сияние еще сильнее.
Быстро перебираю в уме другие виды крупных чаек: клуша, бургомистр, громадная морская чайка? Нет, ни к одной не подходит цветом.
Значит, это что-то необычайное, может быть, еще не известное даже науке. Теперь только бы подпустила на выстрел!
Вдруг резкий толчок, лодка накренилась на борт и стала. Мы все трое чуть не вылетели в воду.
— Сели! — Резким движением я выпрямился. Птица сейчас же поднялась на воздух.
— Уйдет!
Стрелять было далековато, а бить приходилось наверняка. Ну, «шольберг»,[35] друг, не выдай!
Я вскинул ружье и выстрелил. Птица качнулась, вздрогнула крыльями, но сейчас же выпрямилась. Я выстрелил из другого ствола.
Птица кувырнулась через голову и упала в воду с распластанными крыльями.
В порыве благодарности я прижал к груди верного своего «шольберга».
— Гляди, гляди! — крикнул Валентин и выскочил из лодки вслед за ловцом. Было на что поглядеть.
Точно взорванный моими выстрелами, плоский берег весь поднялся на воздух. Сразу даже не сообразить было, что это взлетели из травы и носились над островом бесчисленные стаи куликов и уток. Но мне было не до них.
Я кинулся к своей необычайной добыче. Гриша с Валентином поспешно поволокли лодку по песчаной мели к берегу.
Передо мной качалась на воде невиданная птица. Это была чайка, но чайка невероятного цвета. Только киноварно-красное кольцо вокруг глаз да красное пятно на нижней половине клюва, а всё перо — золотое.
Я сразу решил: «Конечно, новый вид! Назову его «лярус ауреус» — «золотая чайка».
— Гуси, гуси! — раздался крик.
Я схватил драгоценную добычу и побежал к лодке. Там положил убитую птицу на сухую дощечку и тщательно прикрыл сверху веслом, чтобы не утащил ненароком пролетающий хищник. И кинулся догонять товарищей.
Тундра, низкая тундра.
Тундра здесь — это комары и мошки, очень низкая растительность и комары, и очень много воды, тучи куликов, уток и комаров, комаров, комаров!..
Тучи уток быстро унеслись за реку, строгие гуси удалились при первом нашем появлении. Кулики рассеялись и быстрыми пестрыми хлопьями носились над травой. Но тучи комаров с каждой минутой росли и сгущались.
Каждого из нас окружало поющее облако и двигались вместе с нами. Комары и мошки танцевали перед глазами, лезли в глаза, набивались в рот, в уши, в рукава. И жгли, жгли, жгли, — тысяча уколов в минуту!
На мне не было накомарника: теперь его надел Валентин. Но всё равно — разве может спасти тонкая, прилипающая к лицу, к шее сеточка от бесчисленных мельчайших этих кровопийц? Против них бессильны даже сплошные стальные латы. Валентин сорвал с себя накомарник и сунул за пазуху.
Ненасытное охотничье любопытство гнало нас вперед и вперед, сквозь тучи комарья. Мы разбрелись в разные стороны, Валентин сейчас же открыл бешеную канонаду.
Стаи куликов поминутно проносились перед самым ружьем. Я не стрелял в них: всё это были простые турухтаны. «Петушки» — зовут их ловцы; «нгай-вояр» — зовут ямальские ненцы.
В небольших грязных лужицах «по пояс» в воде бродили нежные, доверчивые кулички-плавунчики — «итёда сармик».
Без выстрела я добрался до тихого сора — залива.
Здесь вода вся в пузырях, как в волдырях, хоть и прозрачна; под ней золотится песчаное дно. Всюду изо дна бьют крошечные гейзеры, серебряными фонтанчиками выскакивают, взлетают над ровной поверхностью воды. Беспрерывно бурлят, куда-то торопятся. Я думал сначала — газ. Оказалось: роднички чистейшей холодной воды.
Легкими зонтичками поднимается из воды хвощ, трава — густыми шапками.
Мне показалось: в одной из таких шапок-островков что-то возится. Я тихонько подошел и уже поднял ружье, когда неожиданно заметил в траве маленький желтый, совершенно круглый глаз. Глаз неподвижно смотрел на меня, холодный и плоский, как из жести.
Я не знал, кто это: зверь, птица, змея?
В траве ничто не шевелилось. Не шевелился и я.
Так прошло с минуту. Глаз не сморгнул.
Я тихонько шагнул вперед.
Глаз исчез.
Я остановился: если это птица, она сейчас вырвется из травы. Ничего не вырывалось.
Я сделал шаг — опять ничего.
Тут я заметил легкую бороздку волны по ту сторону островка: что-то плыло там за травой.
Я приложился, и в это самое мгновение из-за травы выплыл темный пароходик, побежали за ним лодочки, лодочки, лодочки.
Я поскорее опустил ружье: ведь это был «железный глаз» — «езе-сеу», это была утка, крупный нырок — морская чернеть со своими утятами!
Теперь, когда трава не скрывала их больше от меня, они помчались по воде со всей быстротой, на какую были способны. Мать держала голову прямо — труба у пароходика. Птенцы, еще не оперенные, в пуху, вытянули шеи вперед и, как веслами, гребли коротенькими культяпочками-крыльями, удирая изо всех своих маленьких сил. Невозможно было стрелять в них.
Я подивился, как поздно тут выводятся утки: ведь было уже пятнадцатое августа.
Боль от комариных укусов стала невыносимой. Я поспешил выбраться на реку. Там дул свежий ветерок. Он сдувал комаров. Там можно было отдохнуть.
Мои товарищи стояли по колено в воде и дышали, как загнанные лошади. Я присоединился к ним. Мы закурили.
Казалось, никакая сила не загонит нас назад в тундру.
— Глядите, — сказал ловец Гриша и показал рукой туда, где за островом на Оби плясали мелкие волны. — Там — салма, мель. Мы зовем эту салму «Песок-страдание». Там рыбу тянем — сотни пудов. Зато и мучаемся, пострели тя в самую душу! Руки заняты, дыхнуть некогда, а гнус — комарье, мошка — живьем грызет. Чистая смерть! Утро поработаешь — два дня потом больной лежишь.
«Песок-страдание»! Я поглядел на свои вздувшиеся от укусов руки, подумал, что и острову этому надо бы дать то же название.
Уже вечерело. Мир точно колпаком прикрыло из чуть дымчатого стекла.
Теперь кулики все куда-то исчезли, попрятались. Стало очень тихо, только звенел, пел, жужжал воздух от комариных полчищ. Начали появляться утки. Поодиночке тут, там, стремительными тенями. Они беззвучно проносились в сумерках и вдруг с шумом валились в траву.
Невозможно было устоять на месте. Мы опять разбрелись по острову. И вот когда началась настоящая охота!
Шагнешь — всплеск, и с кряканьем вырывается утка, другая, третья, сбоку, сзади, впереди.
На ночь, на жировку, сюда прилетели только настоящие утки, не нырки. После окончания охоты я осмотрел всю нашу добычу. Тут были одни шилохвости да чирки. Другие породы «благородных» уток сюда, за Полярный круг, не заходят.
К ночи, вконец измученные, мы вернулись в штаб.
— Да на вас лица нет! — ужаснулись ловцы. Нельзя было выбрать более неудачное выражение: как раз лица-то на нас было слишком даже много. Щеки и подбородок стали вдвое против своей обычной величины, лоб покрылся бесчисленными буграми и рогами, веки распухли.
Но для меня все мои страдания были оправданы удивительной золотой чайкой. Я показал ее всем ловцам.
— Халей, — говорили ловцы.
— А цвет-то, цвет! Видали вы когда-нибудь чайку такого цвета?
— Цвет, действительно, непонятный. Золотой халей. Не видали таких.
Я торжествовал.
Утром поздно проснулись, и я сразу вытащил определитель птиц и инструменты для снимания шкурок.
По определителю тоже вышло — халей, сибирская хохотунья. Об этом говорили размеры птицы, ее крыльев и хвоста, киноварно-красное кольцо вокруг глаз.
Против говорил цвет, удивительный золотой цвет.
Вывод мог быть один: эта чайка принадлежит к виду, очень близкому к сибирской хохотунье, но резко отличается от нее цветом. Другими словами, мною открыт новый вид — «лярус ауреус» — «золотая чайка».
Очень довольный, я закрыл определитель.
При этом я заметил, что от моих пальцев на белых листах книги остались золотистые масляные пятна.
«Кой черт? — удивился я про себя. — Где я мог вымазаться в масле?» Я понюхал свои руки. Они пахли дегтем.
Я пристально посмотрел на чайку. И мне всё стало ясно.
Тихонько, чтобы никто не заметил, я завернул золотую птицу в бумагу, вышел из барака и швырнул ее в помойку. Валентин стоял неподалеку, но, кажется, ничего не видел.
Никогда в науке не будет описана новая порода чаек невиданной красоты, «золотая чайка» — «лярус ауреус»!
Но где же, где угораздило ее выкупаться в бочке с дегтем?
Об этом я не решился расспросить у ловцов. Мне не хотелось напоминать им о моей удивительной добыче, о халее несказанного, золотого цвета.
Через день мы покинули Пуйко на борту большого парохода. Мы с Валентином стояли на палубе и любовались прихотливой игрой света в протоке между островами. Спокойная поверхность воды отливала перламутром, вспыхивала искрами, переливалась радужными красками.
— Да, кстати, — встрепенулся вдруг Валентин. — Ты не забыл уложить шкурку твоей удивительной чайки? Приятно будет обогатить науку.
«Пропал! — подумал я. — Заклюет насмешками. Что бы ему такое соврать?»
В это время к нам подошел один из пассажиров, человек с тюленьими усами и пристальными глазами моряка.
— Это ведь они опыт производят. — И он показал на перламутровую воду.
— Кто они? Какой опыт? — спросил я.
— Ловцы пуйкские. Тут испокон веков такой обычай: чтобы рыбу со всех салм на одну согнать, мешки со смолой в воду кидают. Смола поверхность воды стянет пленочкой, — рыбе дышать нечем, она и уходит. Собирается, где нет смолы. Здешние так говорят. Ну, астраханские не верят. Тут ведь, в Пуйко, сейчас всё больше астраханские. С Каспия их перекинули, чтобы тут рыболовное дело по всем новейшим методам поставить. Вон как воду насмолили. Нырнешь — пожалуй, желтокожим китайцем вылезешь.
— Красивая вода, — задумчиво сказал Валентин. — Золотая. — И вдруг обернулся ко мне:
— А не лучше ли назвать твою птицу «дегтярной чайкой»?
Я сделал вид, что не слышал ехидного его вопроса, и с жаром стал расспрашивать Тюленьи Усы про новую жизнь за Полярным кругом.
1932 г.
В ГОРАХ НА КУБАНИ
Дождь и слякоть. Ленинградское грязное небо ползет низко над побуревшими крышами. На черной ветке ободранной липы судорожно дрожит последний жалкий листок.
На двери — сквозь дырочки плоского ящика — что-то белое. Газета? Нет, письмо. На конверте штемпель: «Микоян-Шахар».
От знакомого. С Северного Кавказа.
«…у нас неожиданно разрешили охоту на фазанов: до трех штук на ружье. Приезжайте».
Я как раз собирался поехать куда-нибудь отдохнуть, побродить с ружьем.
Фазан — великолепная птица. Но ехать ради трех штук за тысячу километров…
Хотя там ведь не одни фазаны. Там горы, солнце. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей…»
Тот не охотник, кто не жаждет приключений, неожиданных встреч с опасными зверями. И красавцы фазаны!
Будет потом что рассказать ребятам.
Еду!
Три дня в поезде — и вот солнце, глубокое синее небо. Стражами при дорогах стоят стройные пирамидальные тополя, упругая листва фруктовых деревьев роняет легкую кружевную тень на лица прохожих.
Над степью трепещет жаворонок, напевают скворцы у скворечен. А ведь сегодня — первое октября.
Вверх по Кубани железной дороги еще нет. Ходят автобусы.
Для защиты пассажиров от пыли машина покрыта тентом. В нем — целлулоидные окошки.
Вижу сквозь них крутой обрыв. Внизу бежит быстрая Кубань. Справа и слева встают на глазах горы.
Так я въезжаю в счастливую долину. Она славится своим прекрасным климатом и тем, что люди здесь живут больше ста лет.
Я тоже согласен жить тут сто лет. Короткая теплая зима, не очень жаркое лето и такое множество безоблачных дней в году!
Всё есть в этом счастливом крае: плодородные пашни, тучные пастбища, бахчи, фрукты, в горах кругом — каменный уголь, свинцовая руда с серебром, цинковые и медные руды, алебастр, мрамор. Там бьют родники нарзана, шумят широколиственные рощи — дуб, бук, дикая груша, чинара.
Там сколько хочешь дичи и зверья, а в быстрых реках и ручьям — голубая, с красными крапинками, красотка-форель.
Километров тридцать от железной дороги отмахал уже автобус. Остановка: станция Красногорская.
Пассажиры выходят размять затекшие ноги, подкрепиться в буфете.
А меня, как зачарованного, притягивает забор из больших каменных плит: на нем лежит очень большая бурая птица с белой головой и шеей — сип белоголовый. Он грозно поднимается мне навстречу, подбирает огромные крылья и втягивает в плечи длинную шею, голову с тяжелым горбатым клювом.
Я остановился. Он успокаивается, вытягивает шею покрытую густой короткой «шерстью», оглядывает ширь долины, цепь запирающих ее гор.
Царь поднебесья, птица великих просторов — гриф!
Как ты попал сюда? Смелый ли горец нашел твое гнездо на скале над пропастью и взял тебя беспомощным пушистым птенцом? Меткий ли охотник, повредив тебе пулей крыло, заставил спланировать к своим ногам из-под облаков?
Величавый пленник, переступая с ноги на ногу, гремит цепью.
Но шофер уже гудит, сзывая пассажиров.
Усаживаться в машину помогает нам красивый пожилой казак. С прямыми спокойными чертами его лица никак не вяжется удивительная гибкость его спины. Что-то ужиное в его движениях.
— Задаром, Омеля, стараешься, — говорит ему шофер. — Без билета не пущу.
— Дорога дорога, товарищ начальник! Мне ведь недалеко…
Шофер с треском захлопнул у него перед носом дверцу. Казак крякнул, подхватил с земли узелок, перекинул его через плечо.
— Свисти, машина: я пошел!
И крупно зашагал вперед по дороге.
Автобус зарычал, заскрипел, вздрогнул и медленно покатился по пыльной дороге.
Опять мелькают белые, вымазанные известкой камни, расставленные вдоль дороги по кромке обрыва.
Пасущиеся у дороги лошади уносятся вскачь от машины, не ждут и гудка.
Но вот поперек нашего пути стоит серенький длинноухий осел.
Шофер гудит, гудит, гудит, машина подкатывает к ослу вплотную. Осел стоит себе, как вкопанный, даже ухом не ведет.
— Н-нет, не поможет! — убежденно говорит словоохотливый пассажир. — Ишак — животное с ба-альшим характером. Я давно примечаю, что ишаки против всяких нововведений. Они против машин. Ишак скорей даст себя пополам перерезать, чем уступит дорогу машине.
Шофер, ругаясь, вылезает, подходит к ослу и непочтительно хватает его за хвост. Осел задом отъезжает с дороги и покорно остается стоять там, где его отпустили. На машину он не глядит, точно ее и нет.
Мы едем дальше.
Утром я просыпаюсь счастливым в чистой комнате беленького домика. Солнце слепит глаза. Я жмурюсь — хочется доспать. Но всё равно горячие лучи слепят даже через веки. Засыпаешь — видишь золотистые сны, слышишь громкое пенье петухов.
Но пора на охоту — попытать счастья добыть трех фазанов. Я прицепляю на спину рюкзак, беру свою двустволку и прощаюсь с гостеприимным белым городком.
Идти жарко. Цель моего путешествия далеко: ниже станицы Красногорской. Мне шагать туда целый день. Там по низким берегам Кубани густые кустарниковые заросли, и в них живут фазаны.
Я узнал, почему здесь разрешили охоту на них.
Кубань близ выхода ее из гор решено перегородить плотиной. Здесь построят электростанцию, а воду будут регулировать и направлять по сети арыков в сухие ставропольские степи.
Как только закроют шлюзы, вода над плотиной начнет прибывать, выйдет из берегов и зальет низину с густым кустарником над станицей Красногорской. Новые пашни раскинутся в бесплодных ныне степях, а фазаны найдут себе для житья другие места.
Передо мной поднималась гора тремя ярусами; она казалась не очень высокой. И в самом деле — на первый ярус я взобрался в каких-нибудь полчаса.
Тут была широкая терраса с кукурузными полями, с рощами. В тени кустов тек спокойный ручей. Я стал перед ним на колени и протянул руку, чтобы зачерпнуть воды и напиться.
Вдруг из-под самой руки у меня выскользнула небольшая серебристая змея, извиваясь, поплыла через ручей.
Ах, чтоб тебя! Гадюки здесь ведь страшно ядовиты. Хорош бы я был, если б нечаянно задел ее рукой. Тут, значит, надо быть осторожным, если хочешь прожить сто лет.
Снизу донесся выстрел, потом еще. По склону от террасы шел охотник, впереди него карабкался в гору желто-пегий пойнтер. Стая — или, как тут говорят, «гурт» — голубых птиц мелькнула над кустами и с тревожным криком рассеялась по каменной россыпи. Птицы казались мне сверху не больше скворцов. Их было штук тридцать.
Мне знаком был их крик, я знал, что это горные куропатки — кеклики. Знал и то, что эти птицы ни за что не полетят вниз от охотника, пока есть возможность лететь вверх по горе. Я выбрал самую широкую расселину в каменной стене, забрался в нее и стал дожидаться здесь кекликов, уверенный, что охотник нагонит их на меня.
Скоро из-под карниза опять раздалось два выстрела, и сейчас же показался гурт. Кеклики налетели прямо на меня, и мне удалось свалить двух из них, прежде чем они опустились в камни. Я подобрал добычу и долго не мог налюбоваться ею.
Кеклик побольше нашей серой полевой куропатки и много ярче ее.
Охотник с пойнтером взобрался на карниз. Я вышел к нему, и мы познакомились. Он оказался счетоводом из станицы Красногорской. Он охотно взялся помочь мне добыть трех дозволенных фазанов. Ночевал я ту ночь у него в станице.
Утром счетовод кликнул своего соседа — красивого пожилого казака. Сосед оказался Омелей — тем самым казаком, что просился без билета в автобус. Узнав, что мы за фазанами, он охотно согласился пойти с нами.
Мы — два охотника — направились низом, где заросли кустарников; Омеля — горой. Он был без ружья — «горовой».
Попасть в летящего фазана не так уж трудно. Трудно поднять его на крыло из заросли. При подходе человека он затаивается и лежит очень крепко.
Напрасно счетовод посылал свою собаку в кусты. Пойнтер долго не хотел идти туда, а когда, наконец, пошел, — разом скрылся с глаз.
Прошло пять минут, десять минут, — пес не показывался.
— Значит, стойку сделал, — решил счетовод. — А то давно бы выскочил. Пойду искать его.
Скрылся и счетовод в кустах. Я остановился, стал ждать.
Не скоро раздались выстрелы. Но очень скоро после выстрелов выскочил из кустов пес, а за ним и хозяин. У обоих был жалкий, истерзанный вид.
— Черт их возьмет здесь! — ругался счетовод. — Стойки не держат, бегут от собаки; вырываются невесть где.
Рубаха его была в нескольких местах порвана. Пойнтер, изогнувшись, слизывал алую кровь с короткой шерсти своего тела.
Кусты, где прячутся фазаны, колючие: это — заросли дерезы и ожины, как здесь зовут ежевику — ягоду вкусную, но умеющую за себя постоять. В кровь исцарапаешь руки, собирая ее.
— Пойду берегом Кубани, — решил счетовод. — Утром фазаны выходят из заросли, жируют в траве. А вы дождитесь горового: без него фазанов всё равно не увидишь.
Омеля, наконец, показался над обрывом. Мы потихоньку пошли вперед: я — внизу, между обрывом горы и зарослью, он — по краю обрыва. Я то и дело взглядывал на него: перекликаться на фазаньей охоте нельзя; горовой знаками должен показать, где затаилась дичь, откуда заходить охотнику.
Не прошли мы и ста шагов, Омеля остановился. Как милиционер — регулировщик уличного движения, он поднял одну руку над головой, другой на уровне своих плеч показал влево. Я понял: дичь в чаще прямо передо мной, мне нужно обойти ее слева.
Я быстро обежал небольшую куртинку[36] дерезы и оглянулся на горового.
Омеля, не опуская занесенной над головой руки, другой теперь показал вправо.
Я пошел прямо в кусты, но не успел сделать и десяти шагов, как с шумом и треском ракетой взвилась из кустов длиннохвостая круглокрылая серенькая фазанка. Я выждал, когда она, резко меняя вертикальное направление полета на горизонтальное, на миг остановилась в воздухе, — и выстрелил.
Перевернувшись головой вниз, фазанка упала в кусты.
Омеля захлопал в ладоши.
Я подобрал мертвую фазанку и пошел дальше вдоль кустов.
«Больше фазанок не буду стрелять, — решил я, — только петухов».
Время от времени Омеля останавливался и показывал руками, куда мне идти. Он направлял меня прямо на фазанов, но удача покинула меня: птицы или незаметно убегали от меня низом, или взлетали на таком расстоянии, что я зря только посылал им вслед дробь.
«И счетовод не настреляет. Верно, не вышли в траву фазаны».
Только я успел это подумать, с берега раздались выстрелы.
За высокой зарослью я не мог видеть охотника, не знал, в кого он стреляет и удачно ли. Но горовой с высоты видел всё. Энергичным жестом он показал мне: летят сюда! И присел — дескать, спрячься.
Я отступил за кусты и почти тотчас же увидел летевших ко мне над зарослью птиц.
Птицы летели под самым солнцем. Еще невысоко поднявшееся солнце слепило меня, я не мог различить даже, какие птицы летят на меня; видел только блеск и мельканье их крыльев. И наугад выстрелил в одну из них.
Аплодисменты горового сказали мне, что я не промазал.
Я был очень доволен своим выстрелом, пока не разыскал добычи: это снова оказалась курочка фазана.
Тогда я решил подойти поближе к горовому и просить его направлять меня только к самцам-фазанам.
Я стал подниматься по некрутому здесь и каменистому обрыву; вдруг слышу над головой отчаянный крик Омели:
— Берегись! Гад!
Я не сразу заметил змею, а когда увидел — придется уж сознаться — струхнул…
Сверху между камнями двигалось ко мне гладкое коричневое пресмыкающееся. Я не видел его всего, но не сомневался, что оно в несколько метров длиной. Об этом говорила и необычайная толщина чудовища: круглое тело его было с мою руку.
— Бей, бей! — кричал Омеля.
Хвост чудовища извивался вверху, когда его голова неожиданно поднялась над ближним ко мне камнем. Я выстрелил.
Длинное, гибкое тело змеи с размозженной головой сползло к моим ногам, хлеща по камням хвостом, как плетью.
Тут только я понял, какого дурака свалял, напуганный истошным криком горового: ведь совсем забыл, что я не в Индии, не в Южной Америке и что во всей нашей огромной стране нет гигантских удавов.
Я убил невиннейшее существо — желтопузика. Не змея он даже, а просто безногая ящерица, нисколько не ядовит и никакого вреда человеку причинить, конечно, не может.
Вот и хвастай теперь ребятам, вернувшись домой, какое страшное приключение пережил, какой смертельной опасности подвергался и как, не растерявшись, от нее избавился.
А желтопузик попался действительно на редкость крупный: когда я поднял его за кончик хвоста и выпрямил вверх руку, его разбитая голова еще касалась земли. А это значит, что было в нем около двух метров.
Омеля не пожелал даже приблизиться к нему: казак испытывал суеверный страх ко всякому «гаду ползучему» и, хоть не раз, конечно, видал желтопузиков, живых и мертвых, — не потрудился убедиться, что ядовитых зубов у них нет. Не пришлось и мне доказать ему это… по причине почти полного у желтопузика отсутствия головы, снесенной моим выстрелом.
Мы продолжали охоту.
Там, где гора ближе подошла к Кубани, Омеля увидел, наконец, самца-фазана. Направляемый ручной сигнализацией, я долго пробирался сквозь колючую заросль. Фазан взлетел только на ее краю, у самого берега.
И что же это был за великолепный петух!
Жарко брызнули мне в глаза блестящие краски его оперения: золотисто-зеленая голова, фиолетовая шея, оранжевая спина, медно-красный хвост.
Весь блеск южного солнца, всю роскошную пестроту неба, воды, цветов и бабочек счастливого Кавказа щедро подарила природа одной этой великолепной птице.
Такое это было чудное зрелище, что я на несколько мгновений забыл о ружье.
Фазан с треском помчался над берегом. Я спохватился и выстрелил ему вслед, когда он был уже над рекой.
Радугой сверкнув на солнце, фазан перевернулся хвостом верх и упал в воду.
Напрасно, не щадя рук и одежды, бросился я через колючие кусты к реке. Быстрые волны Кубани подхватили мертвого фазана, закружили его в неистовой своей пляске и унесли на середину потока. Немного ниже по течению был перекат. Мокрого петуха у меня на глазах ударило два раза о камни, — и от всего его великолепия не осталось и следа.
Омеля ужом спустился с горы и побежал, пересекая мыс, на поворот реки — перехватить фазана ниже по течению. Но скоро и он вернулся. Подходя ко мне, развел руками: пустой, дескать!
Это был третий дозволенный фазан, и мне пришлось прекратить охоту.
Омеля проводил меня до автобусной станции на том берегу.
Подошел автобус.
Я простился с Омелей, сел в машину. Он ловко устроил мой рюкзак на коленях у озадаченного пассажира — моего соседа, захлопнул дверцу, кинул шоферу, как кучеру: «Погоняй!» — и помахал мне шапкой.
Автобус зарычал, заскрипел, вздрогнул и медленно покатился по пыльной дороге.
Омеля надел шапку, вытащил из-за пазухи моего мокрого фазана и, подняв его за ножки, крикнул мне вдогонку:
— Бывайте еще! Придете — самоварчик поставим, уйдете — чайку попьем!
Мне было не жалко оставить ему на обед потерявшего всю свою красоту петуха. Я подумал только:
«Нет, проживу хоть до ста лет, а не устану восхищаться фазаньими чудными красками!»
Солнечные зайчики прыгали в листве фруктовых деревьев и весело подмигивали мне.
1936 г.
ЕМУРАНКИ (рассказ счетовода)
Прошлое лето мы с нашим бухгалтером Ван Ванычем провели в Хакасской автономной области в Западной Сибири.
Поселились мы в избе у тетки Марьюшки, среди степи, на берегу большой реки Абакан, сбегающей с гор.
Приехали мы сюда, надо прямо сказать, время провести и поохотиться. Однако охота начинается в августе, а мы приехали в середине мая. Ван Ваныч и говорит:
— Не сидеть же сложа руки, паразитами. Надо местному населению помочь. Будем вредителей истреблять.
— Вот дело! — подхватила Марьюшка. — Самые заглавные вредители наши — емуранки. Прямо хоть хлеб не сей — всё потравят. Думаем, думаем, как извести емуранок, а толку нет.
Емуранки — суслики по-здешнему.
— Ну, — говорим, — Марьюшка, уж коли мы возьмемся, так от емуранок и следа не останется. Математически.
И стали мы с Ван Ванычем придумывать, как бы нам ловчей взяться за дело.
Я говорю:
— Очень даже просто: стрелять будем. Станем против норки и, как только эта самая емуранка выглянет, так — бац по носу, и дело с концом. Потом к другой норке. Нас двое. За день каждый из нас, наверное, уж штук по двадцать ухлопает.
До начала охоты два с половиной месяца, или семьдесят пять дней. Сорок на семьдесят пять — три тысячи. Это уж как на арифмометре. Три тысячи емуранок истребим, так километров на десять, наверное, ни одной этой емуранки и в помине не останется. Колхоз нам благодарственный адрес поднесет.
Тут хакаска вынула трубку изо рта да как плюнет на пол!
Ах, да! Я про нее и забыл сказать. Оно и понятно: сидит и молчит.
Она частенько к Марьюшке наезжала. Слезет с коня — они тут все, и бабы, верхом ездят — и в избу. В избе на лавку сядет, сидит и молчит, трубку сосет. Марьюшка ее чаем поит. Чай с маслом внакладку: так ей вкусней кажется.
Целый самовар хакаска выпивает — и ничего. Сидит — даже серьги в ушах не шелохнутся. А серьги у нее замечательные: сперва веревочка, потом из проволоки кольцо, потом бомбошка какая-то, потом полтинник серебряный. Чуть колыхнись — звякнет.
Марьюшка-то перед ней разливается и о том и о сем, про нас всё выложила: зачем приехали, да откуда, да что делать задумали.
Хакаска трубочку свою потягивает, глядит на нас, а сама — как памятник. Лицо неподвижное, узкие глаза прищурены, как от дыма, в уголках — морщинки.
Марьюшка всё ее хвалила: умная, говорит, женщина, справедливая. Хакаска — председательница колхоза.
Так вот, плюнула хакаска, сказала Марьюшке три непонятных слова и вышла из избы.
— Чего это она? — спрашиваю у Марьюшки.
— Да так… Еще, поди, обидитесь…
— Ну, говори, говори!
— Да по-нашему сказать: дурак, говорит, дурака высидел.
Плюнул тут и я с досады. Да ну, думаю, стоит внимание обращать! Надо за дело приниматься.
В тот день набили мы с Ван Ванычем маленьких патрончиков, чтобы пороху да дроби много не тратить: емуранку-то пустяк убить — трех дробинок хватит. А утром отправились в степь. Ван Ваныч к одной норке стал, я — к другой.
Надо сказать, издали видели мы, как эти емуранки у своих норок столбиками стоят, а как стали подходить, засвистели они — и все как сквозь землю провалились. Ну, да ведь голод не тетка: выйдут, как есть захочется.
Но и пятнадцать минут прошло, и полчаса, и час, а нам с Ван Ванычем ни одного даже выстрела сделать не удалось. Мелькнет в норке головка и исчезнет. Ружья поднять не успеешь — где уж тут выстрелить.
Потом еще хуже стало. Вдруг свистнет где-то сзади. Обернешься быстро-быстро — только хвостик увидишь, как он в норке исчезнет. Так со всех сторон — норки ведь кругом — то тут свистнет, то там. Вертишься, как огородное пугало на ветру, а толку нет. Разыгрывают нас емуранки, прямо разыгрывают!
Часа три промаялись. Ван Ваныч и говорит:
— А ну вас, — говорит, — с вашим арифмометром! Ясно, — говорит, — просчет у вас получился. У меня лысина от солнца разболелась, я домой пойду.
Я остался. Очень уж хотелось доказать, что я прав.
Сел. Ружье на колени приладил: на весу-то держать тяжело. Навел дуло прямо на норку. «Мелькнет, — думаю, — в норке, я его и…»
Мелькнуло. Я — бац! Пыль столбом. Подбежал к норке — ничего нет.
Стрелял я так, стрелял, — все патроны кончил. Одну емуранку убил. А назад шел рекой — уже смеркалось. Вижу, хакаска Марьюшкина на коне неподвижной тенью чернеет над берегом Абакан-реки, вниз уставилась — на воду, в берег ли — не знаю.
С крыльца я обернулся — она передвинулась, в другом месте над берегом стоит. И всё, как цапля, в воду глядит.
На другой день Ван Ваныч говорит мне:
— Ясно, ваш способ никуда не годится. Кустарный способ. В таком деле надо в технике быть хорошо подкованным, современные достижения знать.
— Пожалуйста, — говорю, — поищите достижения техники, Ван Ваныч. А я постараюсь пока хоть заснять этих самых емуранок.
Каждое утро стал я в степь выходить, емуранок караулить. И тут у меня ничего не выходило. Уж я аппарат на треножник прилаживал, сам в сторонку отходил. Столько пластинок испортил. Нет, не даются зверюшки заснять, хоть ты плачь!
Хакаска-председательница что-то к Марьюшке бросила ездить. Зато каждый день с утра до ночи можно было видеть ее на берегу Абакан-реки. С ней теперь была целая артель хакасов, мужчин и женщин, с лопатами. И чего-то они всё рылись там на берегу.
Потом они бросили приходить, и я пошел посмотреть на их работу.
Берег разрыт был, но к чему — непонятно. До воды оставалось еще очень далеко, несколько метров. Наверно, хотели воду куда-нибудь отвести, да убедились, что не так-то просто, и бросили.
Дни стояли ясные, и я всё со своим аппаратом за емуранками охотился.
Наконец как-то ночью гроза разразилась. Да не над нами, а в горах где-то. Гром, молния, шум далекий, а у нас — ни дождинки.
Утром встаем — всё гремит, тучи клубятся над горами. А над нами — чистое небо.
— Я — скорей аппарат под мышку и без всякого чая — в степь.
Дело в том, что в норке у емуранок народились малыши и стали уже носы на свет выставлять. Малыши, известно, не так сторожки, как взрослый зверек. И я рассчитывал сегодня непременно хоть два — три удачных снимка сделать с них.
На берегу Абакан-реки чернела в седле хакаска. Увидев меня, она вынула трубку изо рта и что-то мне закричала. Но мне было не до нее. Я отмахнулся рукой и побежал от реки к одному местечку в степи, где еще вчерашний день наметил себе норку с емуранчиками. Я очень спешил, потому что в горах всё еще гремел гром и я боялся, что тучи надвинутся к нам, польет дождь, и уж тогда, конечно, нечего и думать снимать.
Емуранка-мамаша стояла столбиком у норки. Когда я подошел, она резко свистнула и провалилась под землю.
Я установил аппарат в полутора метрах от норки.
И вот, наконец-то, мне повезло: через несколько минут из норки высунулась словно бы мышка. Черный глазок, черное ушко.
Я — щелк!
Зверюшка мгновенно исчезла в темной норке. Но было поздно: моментальный снимок был готов.
Не прошло и пяти минут, как снова из норки показалась тупенькая мордочка и сейчас же за ней другая, такая же. Братишки застыли, глядя на меня, как птицы, одним глазом. Ждали, когда я уйду, чтобы выскочить из норки.
Чик! — и оба они попали ко мне на пластинку.
В это время я услышал позади себя какой-то странный шелест, шипение какое-то и тревожные свистки емуранок. Оглянулся… и чуть было не опрокинул аппарат на землю.
По степи прямо на меня широким ровным потоком шла вода.
Быстро и бесшумно она разливалась вправо и влево.
Я даже не успел сообразить, откуда вдруг взялась тут вода. Я подхватил аппарат и побежал вправо, к дому.
Поток быстро настиг меня, и через минуту я бежал уже, как по мелкому морю, по колено в воде. Со всех сторон вокруг меня выскакивали из воды емуранки. Завидев меня с писком кидались назад, в норки; я видел темные отверстия их норок сквозь совершенно прозрачную воду. И емуранки сейчас же снова выскакивали из затопленных норок.
Вокруг меня барахтались в воде мыши, что-то черное проплыло мимо, фыркая. Кажется, это был крот.
Как я потом жалел, что не заснял эту замечательную картину! Но в те минуты мне было не до того.
Вода прибывала с изумительной быстротой. Уже вся долина Абакан-реки — долина в три километра шириной — была под водой. Это был настоящий потоп. И я не знал, остановится ли, наконец, вода, или мне суждено так и погибнуть в ней.
К счастью, до избы было недалеко. Ван Ваныч и Марьюшка стояли на крыльце. Марьюшка ахала, всплескивала руками и жалобно причитала. Вода доходила мне уже до пояса.
Когда я вошел в избу, первое, что я увидел, была хакаска-председательница. Она сидела на лавке, ее лицо было так же неподвижно, как всегда, и, как всегда, сна одной рукой придерживала трубку, спокойно глядела узкими прищуренными глазами — и молчала.
— Вода схлынет через несколько часов, — сказал Ван Ваныч. — Но во всей долине Абакан-реки не останется ни одной емуранки, ни одного вредителя-грызуна, даже мыши. Я сдаюсь. Вот эта гражданка, — Ван Ваныч указал на хакаску, — оставила нас обоих с носом. Ясно.
Я перевел глаза на нее.
Всё та же неподвижность. Легкий дымок из трубки. Прищуренные бесстрастные глаза.
— Но откуда она могла знать… — начал я. Ван Ваныч меня перебил:
— Ясно: она знала, что уровень воды в Абакан-реке разом поднимется на несколько метров, когда в горах выпадет большой дождь. Она приготовилась к этому дню: прорыла берег настолько, чтобы большая вода хлынула в степь. Серьезными бедствиями человеческому населению мелкое наводнение не грозит, не грозит и скоту. Но грызуны потонут. И уж вода не пропустит ни одной норки, как мы с вами могли бы пропустить. Сознайтесь же и вы, что побеждены и что вам стыдно за ваш кустарный проект!
Я опустил глаза и в самом деле почувствовал, что мне стыдно.
Когда вода схлынула, мы вышли в степь. Там по всей земле валялись мертвые емуранки — лапки кверху. Нам осталось только закапывать их, и дело с концом.
1936 г.
ТАЙНА НОЧНОГО ЛЕСА (рассказ юнната)
Здорово мне хотелось добыть белую куропатку. В наших местах это редкая дичь. Подпускают куропатки близко, да всегда так неожиданно, с лаем срываются, что каждый раз вздрогнешь, и пока сообразишь, что да как, они уже далеко. Ну и смажешь, конечно.
А вот Кузя-пастушонок нет-нет, да и принесет из лесу, где лошадей пасет, две — три штуки. И ружье-то у него — бердана какая-то допотопная, вся в дырьях, на двадцать шагов с подбегом бьет. А вот поди ж ты! Умеет добыть.
Всё-таки я у него выпытал, как это он ухитряется.
Оказывается, он их ночью бьет. Разведет на мшарнике костер и спрячется рядом в кусты. И белые куропатки целым выводком приходят к костру. Тут уж, конечно, не штука в них, в пеших-то, попасть в десяти шагах.
Мне тут расхотелось добывать: другое совсем в голову пришло. Я же ведь не просто охотник, а естествоиспытатель. Орнитолог — специалист по птицам.
Почему это, думаю, другие лесные куры — глухарь, рябчик — никогда к костру не летят, а куропатка идет? Зачем?
Что насекомых влечет к себе свет в ночи, всем известно. Я сам ловил бабочек на велосипедный фонарь. Они летят прямо на огонь, и если бы не стекло, тут им и крышка: сожглись бы. Но ведь на то они и насекомые — животные безмозглые.
А куропатки что будут делать, когда подойдут к костру? Неужто, зачарованные пламенем, тоже кинутся в него, погибнут, как бабочки?
Не может быть! Скорее, пустятся в пляс вокруг костра, как настоящие огнепоклонники или как наши юннаты, когда выберутся в лес и в первый раз после города запалят костер.
Или, может быть, куропатки подойдут к костру и чинно рассядутся вокруг него всем семейством? И папаша с мамашей будут объяснять деткам на своем удивительном курино-собачьем языке, на каком не говорят никакие другие птицы:
— Ко-ко-ко, — дескать, — это, детушки, огонь! К нему не подходите, гав! гав! гав! Обожжет!
Или, может быть, совсем не красота пламени на них действует, а просто они приходят погреться у костра?
Ведь кто его знает, какие неожиданные тайны можно подсмотреть ночью в лесу у костра! То есть, не сидя у костра, а вот как Кузя: со стороны.
В том-то и дело, что охотник, когда разложит огонь, сам около него сидит — на свету. Всем лесным глазам его видно, а он — как слепой: ничего не знает, что вокруг него в темноте делается.
И я решил во что бы то ни стало узнать: чем таким это привлекает куропаток огонь? С помощью Кузи, конечно.
Мы пошли в лес с вечера. И сразу нам повезло.
Встретили колхозников на моховом болоте. Они шли с большими корзинами клюквы за спиной. Не успели дойти до нас, вдруг у них из-под ног с лаем вырвался старый куропач, а за ним и весь его выводок.
Кузя хотел даже на счастье пальнуть в стадо, да я удержал его.
— Брось ты! Что ты, не понимаешь: распугаем сейчас, — они ночью не придут. Пока не подсмотрим, чем они у костра занимаются, о ружье забудь. Понятно?
— Тоже мне! — рассердился Кузя. — Командир нашелся!
— Обожди еще, может, они сами в костер бросятся, сами зажарятся. Готовое жаркое получишь. Кузя сразу повеселел.
— А и правда! Чего заряд даром тратить? Теперь мы знали, что выводок здесь есть. И, конечно, приметили, куда он переместился. В угол болота перелетел. Там, на опушке леса, мы и собрали груду сушья и смолья.
Поужинали всухомятку.
Наконец наступила ночь. Черная, прохладная, настоящая августовская ночь с Млечным Путем и падающими звездами — всё как полагается.
Мы разожгли костер и засели в кустах, шагах в пяти друг от друга. Кузя левее, я правее.
Сушняк пылает ярко; поблизости каждая кочечка, каждая мшинка на ней видна. Но я нарочно отвернулся, стал смотреть на лес позади: какой он при огне? Ведь сразу куропатки не придут же. Кузя говорил — другой раз часами ждет.
Вдруг слышу сзади тихонько так:
— Эрр-рэк-кэк, ор! Го-кок-ко!.. Гау!
Быстро оборачиваюсь: идут! Куропатки!
Гуськом идут. Одна, другая, третья…
Не успел сосчитать — ббах! — слева.
Дернул-таки Кузя из своей берданы! Не выдержал!
Одна куропатка упала. Остальные, конечно, сорвались и с треском и лаем в один миг исчезли в темноте.
— Спятил! — кричу на Кузьку. — Котлету из тебя сделаю!
Только сучья по лесу затрещали: удрал Кузя.
Не гнаться же за ним в темноте!
Подобрал я убитую куропатку и тут же решил, что Кузьке ее не отдам: пускай чувствует! Раскидал костер, огонь затоптал. А что больше делать? Второй раз куропатки не придут — не дуры.
Хорошо, что Кузька на другой день не попадался мне на глаза: злой я ходил, ух! Подумать только: теперь уж я, может быть, знал бы такую интересную тайну ночного леса! Первый на всем свете узнал бы ее!
Мысль, зачем приходят куропатки к костру, всё не выходила у меня из головы. Наконец, я решился пойти один на болото — караулить.
Три дня выждал, чтобы куропатки забыли, как Кузя по ним грохнул, и пошел на то же место.
Всё так же сделал, как тогда. Забрался в кусты и жду.
Не очень-то весело одному в лесу черной осенней ночью. Я зарядил ружье разрывной пулей: не от страха, конечно, а мало ли что может случиться? Может, медведь из лесу выйдет. Что же мне, — шапкой от него отбиваться?
Долго я сидел — ждал. Закоченел совсем.
«Пойду, — решил. — Всё равно толку никакого не будет».
Взглянул подальше, где уже свет от костра слабее.
Что там такое?
Чьи-то большие желтые меховые туфли передвигаются между кочками! Крадутся к костру…
А ног не видно.
Я, конечно, нисколько не струсил. Присмотрелся — а это белые куропатки идут! От костра они желтыми кажутся.
Впереди, видно, старый куропач идет, папаша: большой очень, краснобровый. Сзади маленькие поспевают.
Папаша влез на кочку, головку назад повернул и говорит так вполголоса:
— Эрр-рэк-кэк-кэк, вор!
Потом какие-то звуки, вроде слов:
— Ковар-рство, ковар-рство, гау!
Из темноты в ответ ему мяукнуло:
— Ми-у! Ми-у! — очень нежно. Наверно, самочка. И тут из-за кочек выскочило всё семейство, штук пятнадцать. Куропач прыгнул с кочки, пошел к костру, и все за ним гуськом. А он опять:
— Ковар-рство! Ковар-рство! Вор! Я подумал: «Улетят сейчас!» Вдруг — ббах! И нет куропаток…
Что такое? Кто это? Не сразу даже сообразил, что сам же и выстрелил.
И даже одной куропатки мне не досталось, как после Кузиного выстрела. Ведь я пулей саданул и промазал, конечно. Орнитолух…
Так до сих пор и не знаю, что куропатки делают ночью у костра. А как хотелось бы знать!
Может, у кого из вас хватит выдержки подсмотреть? А, ребята?
1940 г.
ЗАЯЦ-ВСЕЗНАЕЦ
Пришли ко мне из соседнего колхоза два охотника. Завернули табачку, поговорили о том, о сем, потом старик и говорит:
— А мы до тебя с делом. Как есть ты человек ученый, каждую животную по имени знаешь, верно, и нам пособить можешь.
— А что такое? — спрашиваю.
Молодой усмехнулся, говорит:
— Сказать стыдно. Заяц нас забижает. Каждый день в колхозном огороде, одной капусты сколько потравил. Здоровый русачина.
— Так застрелите его.
— То-то вот и есть, что не дается никак. Уж мы его и с собаками имали, и самострел ладили — нет на него погибели! Видеть — видим, а взять — вот поди ты: как сквозь землю уходит! Уж девки над нами смеются — срам и срам.
— Искушение!.. — забормотал старик. — Хоть попа с кадилом зови. Намедни шли мы с поля, а он как порскнет из-под ног! Я в его топором, сам поскользнулся да в яму — ух! Весь в грязи вылез, ребята зубы скалят. А он сгинул, как не бывало.
— Чепуха какая! — сказал я. — Заяц как заяц. Чем топором швыряться, вы бы его из ружья ахнули: никуда бы не ушел!
— Пробовали и с ружья, — сказал молодой. — Видали ведь мы зайцев, сами охотники. Уж как хотите, а этот русак не простой. И ловушки знает, и ружье знает, и собаку со своего следу сбить знает. Прямо сказать — заяц-всезнаец. Поди сам спытай, коли не веришь.
— Приходи, сделай милость, — сказал старик. — Может, и повезет тебе счастье. За тем и пришли до тебя.
— Конечно, завтра же буду у вас. Только одно: я убью вашего русака, а вы скажете — не тот.
— Не-е, — протянул молодой и поглядел на старика, — этому не бывать. Скажи-ка им, дядя.
— Что еще? — удивился я.
— А то… — начал старик и запнулся. — Того… Ты, может, за глупых нас посчитаешь. Да уж всё одно: придешь, своими глазами увидишь. У того русака на спине деревянная ручка приделана.
Я чуть не прыснул со смеху.
— Ну, дядя, хватил! Уж если ручка приделана, так остается, как говорится, выкрасить да выбросить вашего русака, и дело с концом.
Старик ничего не сказал, даже не улыбнулся. Молодой осклабился и проговорил как бы с извинением:
— Самим не верко, да вот приходи давай, поглядишь. Может, по-вашему, по-ученому, оно и просто объяснить.
Завернули еще по цигарке, простились и ушли.
Задумался я. Вижу, дело серьезное, и взяться за него надо немедленно. И не в том беда, что заяц немножко капусты колхозной попортит, а в том, что вокруг него тайна: «ручка» какая-то на спине и эта непонятная способность уходить от ружей, собак и ловушек. Где темная тайна, там быстро растут шепотки да слухи и вырастают глупые суеверия. В памяти деревни пробуждается старый мир, леса и болота, населенные животными-оборотнями, лешие, водяные и всякая нежить. И вон уж — про попа с кадилом поминал старик.
Я решил зайца этого во что бы то ни стало добыть и все его тайны распутать от начала до конца.
Принялся за дело утром на следующий день. Крикнул свою охотничью собаку, взял ружье и отправился в соседний колхоз.
Молодой охотник повел меня на огород невдалеке от деревни, куда, по его словам, каждую ночь приходит таинственный русак. Показал мне дыру в частом осеке[37] и настороженный здесь лук-самострел. Ловушка была так налажена, что и крыса не могла бы проскочить в огород: стрела бы непременно ее поразила. Дыра в осеке перетянута крест-накрест совершенно незаметным даже вблизи конским волосом. Стоит коснуться волоска — самострел разрядится, и стрела полетит прямо в дыру.
Я и стрелу осмотрел: длинное древко и на конце трехзубая железная острога, какой бьют крупную рыбу с лодки, только маленькая.
— Сам в кузнице делал, — сказал охотник с гордостью. — Глянь, зубья-то какие: уж не сорвется.
На железных зубьях были большие зазубрины, язычки, как на рыболовном крючке. Я спросил:
— Попадался кто-нибудь в эту ловушку?
— Как не попадаться! Четверых зайчат да двух матерых русаков взял за лето. А весной — тогда еще всезнаец-то заяц не приходил — я иду раз утром, гляжу: тетива спущена, а никого нет. И стрелы нет. Так ее и не нашел, пришлось новую сделать.
Пока мы стояли, разговаривали, моя собака тут же у самострела подхватила след, затявкала и пошла скакать через гряды картофеля. Я скинул ружье с плеча, приготовился стрелять.
— Пошел, пошел! — закричал охотник. — Вон стегает!
Здоровый русачина дул через грядки, и я различил на рыжей его спине белую деревяшку величиной с обыкновенную дверную ручку.
До зайца было шагов шестьдесят, ни секунды нельзя было медлить. Я выстрелил как раз в тот момент, когда русачина широким прыжком легко, как кузнечик, поднялся на воздух — перемахнуть осек.
То ли я промазал с непривычки стрелять «в лёт» по зайцам, то ли еще что, только дробь моя никакого вреда русаку не причинила. Он с невероятной быстротой понесся по полю, а вслед за ним перескочила осек и помчалась собака.
— Видел? — коротко спросил молодой охотник.
— Ничего не доказывает. Собака завернет его, а я возьму дробь покрупней.
— Идемте, — согласился охотник. — Только наперед скажу: уйдет он и от собаки.
— Посмотрим.
К большой моей досаде, охотник оказался прав. Мы видели, как заяц, далеко опередив собаку, пересек поле и направился прямо к железнодорожному валу. Как раз в это время с грохотом и лязгом мчался по насыпи скорый пассажирский. Заяц исчез в кустах под насыпью, и вагоны прогрохотали у него над головой.
— И машину знает, — сказал охотник. — Не боится ее ни вот столько. Говорю: заяц-всезнаец. А теперь нам его сегодня больше не видать. Он как дойдет до тех кустов так здесь и сгинет.
И опять парень оказался прав.
Напрасно с лаем носилась моя собака по кустам, напрасно я прыгал с кочки на кочку в этом болотистом кустарнике. Заяц исчез.
— Каждый раз вот эдак сквозь землю уходит, и всё на этом месте, — говорил молодой охотник.
Целый день я отыскивал зайца. К ночи вернулся домой усталый и, надо правду сказать, сильно обескураженный. Орешек оказался крепче, чем я рассчитывал.
Скоро проклятый русак изменил всю мою жизнь. Я забросил работу, вставал с восходом и уже хорошо знакомой дорогой отправлялся на колхозный огород. Почти каждый день я заставал там зайца-всезнайца но выстрелить по нему мне больше ни разу не удалось.
И каждый раз я терял его из виду в кустах у полотна железной дороги.
В колхозе уже посмеивались надо мной:
— Что, паря, заяц-то, выходит, умней тебя?
И когда я, наконец, явился без ружья и без собаки, старик-охотник презрительно улыбнулся и как бы про себя сказал:
— Видать, нечистая-то сила шибче твоей учености. Я промолчал: у меня был свой план.
На холме за полотном железной дороги стояла дозорная вышка. Я попросил молодого охотника через полчаса прийти с его собаками в огород, а сам прямо отправился к этой вышке и залез на самый верх. Как только я заметил, что охотник приближается к огороду, я поднял бинокль — и уж не отнимал его от глаз, пока первая тайна зайца-всезнайца не была разгадана.
Я видел, как на ладошке: русак перемахнул осек, пересек поле и скрылся в кустах у железнодорожной насыпи. Я стал водить биноклем по рельсам в одну и в другую сторону: у меня была догадка, что заяц, может быть, взбегает на насыпь и удирает по ней.
По рельсам проходил длинный товарный поезд, но русака ни впереди, ни позади него не было.
Кусты были по правую сторону полотна. Я посмотрел на поле с левой стороны полотна и вдруг увидел там как из-под земли выскочившего зайца. Это был заяц-всезнаец: в бинокль ясно различил я белую деревянную ручку у него на спине.
Он тихонько приблизился к маленькому островку деревьев — к рощице посреди поля — и скрылся в ней.
Еще минут пять я не отнимал бинокля от глаз: следил, не выйдет ли заяц из рощицы. Он не вышел. Значит, лёжка его была там, в роще.
Не слезая с вышки, я окликнул охотника. Он поднялся на вал.
Я крикнул ему:
— Возьмите собак и ступайте вон в ту рощицу. Ружье приготовьте: заяц там.
А сам опять приложил бинокль к глазам.
Добрые гончаки живо прихватили след, залились и полным ходом помчались к рощице. Я боялся только, что охотник не сумеет занять настоящего лаза, чтобы застрелить русака, когда тот выскочит из рощи.
Случилось другое.
Охотник занял хорошую позицию в поле за кусточком. Собаки с лаем дали несколько кругов по роще и вдруг выскочили в поле.
А заяц так и не показался.
После тщетных розысков охотника, самолично обшарившего всю рощу, мне стало ясно, что тут мы наткнулись уже на вторую тайну зайца-всезнайца. Я ведь знал наверно, что он сидит в этой рощице: кругом было чистое, ровное поле, и я бы непременно увидел зайца, если б он выскочил.
Я слез с вышки. И в этот день мне удалось разгадать только первую тайну зайца-всезнайца: как он сбивает собак со следа в кустах у насыпи.
Неожиданно правы оказались именно охотники-колхозники: русак здесь действительно сквозь землю проходил.
В железнодорожной насыпи была труба, какие прокладывают, чтобы, пропустить ручеек, размывающий вал. Местность была болотистая. В кустарнике у насыпи скапливалась вода, а прежде, вероятно, когда строили дорогу, тут и ручеек бежал. Заложили трубу. С тех пор низкое место под насыпью заросло кустами, вход в трубу стал незаметен.
Русак знал его и свободно проходил сквозь трубу. Собаки тут пролезть не могли. А он неожиданно появлялся в поле.
Я попросил молодого охотника никому не говорить про мое открытие, пока я не добуду зайца, ведь вместо одной загадки передо мной встала другая. Я ума не мог приложить, — куда он девался из рощи? Не на воздух же поднялся!
Взять зайца-всезнайца теперь уже было просто: надо было мне только стать с ружьем по ту сторону насыпи у трубы, а охотника попросить шугнуть русака из огорода. И косой, проскочив трубу, дался бы прямо мне в руки.
Но загадка его исчезновения в роще оставалась неразрешенной, и я дал себе слово взять хитрого русачнну только на его лежке. Уж очень интересно было распутать все его хитрости!
Но и эта задача оказалась трудней, чем думалось.
Напрасно ходил я четыре дня подряд с ружьем и собакой, напрасно изучал каждый метр земли в роще. На земле были заячьи следы.
Они кружили и переплетались чуть не под каждым деревом. И каждый раз были свежие следы: собака волновалась и лаяла. Но распутать их не было никакой возможности и нигде не было ни признака лежки.
Лежка русака — это обычно простая ямка, вмятина где-нибудь под кустиком, или под камнем, или под кучей хвороста. Я уж готов был допустить, что этот удивительный русак — заяц-всезнаец — делает себе нору, зарывается в землю, как кролик. Но и норы нигде не было, рощица была без подроста, всё видно в ней, каждый следок на земле и большая черная лужа посредине.
Спрятаться здесь заяц никак не мог. И сколько я ни ходил в рощу, я ни разу его тут не видел.
Тогда я опять взялся за бинокль. Только в этот раз полез не на вышку, а на кудрявую иву, с которой хорошо просматривалась роща.
Ждать пришлось недолго: ведь теперь уже я точно знал, в какие часы заяц-всезнаец закусывает на огороде и когда приходит вздремнуть в рощице.
Скоро я увидел, как он появился из трубы под насыпью. Он спокойно пересек открытое поле и прошел прямо под тем деревом, где я сидел.
Конечно, ему и в голову не пришло посмотреть вверх.
Он даже и не подозревал о моем присутствии, а я разглядел в бинокль чуть не каждый его волосок. И таинственную деревянную ручку у него на спине.
В ту ночь первый раз со дня знакомства с зайцем-всезнайцем выспался я крепко. Утром встал поздно, поработал и только после обеда отправился в соседний колхоз — с одним ружьем, без собаки.
Я пригласил с собой старого охотника, молодого и еще несколько стариков и парней. Я объявил им, что у них на глазах убью всем им известного зайца-всезнайца, которого они принимают за нечистую силу.
Мой уверенный тон сбил с толку насмешников. Перешептываясь между собой, они двинулись за мной.
Всё шло как по писаному.
Гончаки молодого охотника подняли зайца с огорода.
Заяц перемахнул осек, пересек поле и пропал в кустах. Собаки потеряли его след и вернулись к хозяевам.
Я повел колхозников к насыпи и показал им трубу. Все ахнули, а старик-охотник пробормотал что-то насчет того, что ни один заяц в трубу не полезет, не кошка-де.
За полотном железной дороги собаки опять взяли след. Они обегали всю рощу и опять, смущенно поджав хвосты, вышли в поле.
Старик-охотник презрительно посмотрел на меня и хмыкнул.
Молодой, наоборот, глядел на меня с доверчивым ожиданием. Я просил его взять собак на сворку, сказал, что больше они нам не понадобятся. Он охотно повиновался.
Я привел компанию в середину рощицы, к большой чертой луже, и снял ружье с плеча. Я сказал:
— Ваш заяц-всезнаец хитер, как лисица. Он нашел себе удивительно безопасное местечко для лежки. Вы стойте в двадцати шагах от него. Можете разговаривать, шуметь, — заяц не выскочит и не побежит. Он уверен, что ни человек, ни собака не найдет его в этом убежище.
Кто-то из колхозников недоверчиво спросил:
— Что ж, по-твоему, в эту лужу, что ли, он нырнул?
— Нырнуть не нырнул, а след свой в ней потопил.
— Полно морочить нас! — сердито вдруг заговорил старик-охотник. — Поди, не на дереве сидит, — он показал на дряхлую пузатую приземистую иву посреди лужи. — Не птичка, поди, чтобы по ветвям порхать. Ты, парень…
Я прервал его.
— Как раз на этом-то дереве он и сидит. Смотрите. Я поднял двустволку, прицелился в иву на метр от воды — и выстрелил.
В ту же минуту сбоку из дерева с плеском стеганул в воду русачина с белой палочкой на спине.
Все были так удивлены неожиданным появлением зайца из дерева, что молча стояли с разинутыми ртами. Никто даже и не подумал выстрелить.
— Разглядели? — спросил я. — Айда за мной! Я вошел в лужу, и все пошлепали за мной.
Сбоку от того места, где мы только что стояли, в толстом стволе дряхлой ивы зияла большая дыра — дупло над самой водой. В нем на трухе была вмятина. Там были ясно видны волоски заячьей шерсти.
— Скажи ты… Лежка! — ахнул молодой охотник. Старик только сплюнул и зашлепал назад по луже.
Но вдруг он остановился, повернулся к нам и насмешливо проговорил:
— А ручку-то кто ему на спину приделал? Сам себе, что ли?
Но у меня и на этот вопрос был готов ответ. Когда я сидел на дереве и заяц-всезнаец проходил подо мной, я хорошо разглядел в бинокль эту «ручку».
— Сам, — сказал я, — конечно сам, при ближайшем участии вот этого молодого человека, — и я указал на молодого охотника. — Узнал?
— Моей работы! — рассмеялся молодой охотник. — Сам в кузнице ковал. Уж назад не выйдет!
«Ручка» на спине зайца — это был обломок стрелы самострела, установленного молодым охотником в дыре осека на огороде.
Здоровый русачина унес стрелу на себе, обломал ее где-то, а кусок древка с железным трезубцем, застрявшим в теле, так и носит у себя на спине.
1935 г.
ЛЯЧИЙ УМ (рассказ чучельщика)
На отдыхе у костра зашла между охотниками речь о том, какая из птиц всех умней. Решено было — дикие гуси. У них и в полете свой строй, и на отдыхе они караульных выставляют, — поди подтаись к ним.
Старик Панферыч в толках охотников участия не принимал, а когда все согласились на гусях, рассказал вот что:
— Довелось мне прожить два года на великой реке Оби под городом Березовом. Там диких гусей и казарок зовут ляками. Нигде такого пролета их не видал. Весной и осенью валом валит ляк. Тут и серый гусь, и гуменник, казара белолобая большая и малая белолобая — пискулька, и красавица расписная краснозобая казара — чеквой, по-тамошнему. Этот самый веселый гусек: летят — без умолку между собой калякают — ляк-ляк-ляк-ляк-ляк! А сядут, — сейчас в драку.
В верховьях Оби на гусей уж не охота: там промысел их.
Задумал промышлять и я. На реке, на острову вырыл себе яму для засидки. Над ней козырек сделал, засыпал всё песком для маскировки. Бойница над самой землей — что твой дзот!
Манщиков шагов на двадцать впереди выставил: чучела гусиные. Как я есть препаратор, чучельщик, то сам их и делал. Первоклассные у меня чучела, и в разных позах: один гусь травку щиплет, другой голову поднял, третий шею вытянул, клюв раскрыл — шипит будто, ущипнуть кого-то хочет. Перо к перу аккуратно на всех лежит, гладенько.
Ляки ведь птица хорошо грамотная: чуть что не так, одно какое перышко не в порядке, — нипочем чучелу не поверит. Всех манщиков носами к ветру ставишь, чтобы перо на них, не дай бог, не заершилось.
Всё у себя по всей строгости организовал, по всем правилам, как полагается. И с ночи засел в засаду.
Чуть рассветать стало, слышу — ляк-ляк-ляк-ляк-ляк!.. — потянули. Спервоначалу высоко где-то летели, чуть до земли голоса их доносились.
У меня и вабик с собой — дудочка такая короткая. Поманю, поманю их гусиным голосом, — да нет, не снижаются! Тянут себе в поднебесье караван за караваном.
А как хорошенько развиднялось, так и стали к моим манщикам подваливать, — знай не зевай! Рядом садятся, — гляди только, не ошибись, которое чучело, который живой ляк.
Я по ним бью проворно, время не теряю. Гусь — он ведь птица веская, он на подъем тяжел. Пока стадечко на крыло станет, я из второй, из запасной двустволки еще два выстрела дать успею.
Густо валит ляк: пока ружье перезаряжаешь, — уж новое стадо приземляется.
Раз я замешкался с ружьями: гильзу в дуле заело. Глядь, — а стадечко чеквоев уж тут как тут. Рассыпались по берегу.
Гляжу — один красавец шею к земле да как зашипит на чучелу! Так в бой и лезет, несмотря что у меня серый гусак был чуть не вдвое больше ростом этого задиры.
Гляжу — подскочил да тюк серого клювом в бок! Так дал, что чучело мое повалилось на песок кверх ногами.
А чеквой весь расщеперился, перья дыбом — и пошел, и пошел, вокруг него гоголем! Еще бы: вон какого дядю сшиб! И опять шею к земле и шипит: «Вставай, дескать, еще получишь!»
Чучело, само собой, лежит себе, не шелохнется. Это было то чучело, которое с вытянутой шеей. Лежит в самом, сказать, неправдоподобном положении, на спине, как ни одна птица никогда не ляжет.
А этот чудак его обхаживает, — никак не сообразит, что перед ним чучело! — всё его на бой вызывает.
Вот и толкуй про гусей, что умная птица. Какой уж тут ум, когда чучелу от живой птицы отличить не умеет!
— Тугодумы они, птицы-то, — зашумели охотники. — Взять хоть тетеревей. Тоже ведь осенью ладно к чучелам подваливают. Ну, с издали они, понятно, видят на голой березе подобия косачей да тетерек, — к ним и летят, доверяют. А рассядутся кругом по веткам, — сидят и глядят: будто так, будто и не так? Будто это тетерева, а будто и не тетерева — кто их знает? А пока думают, тут мы…
— Ничего они не думают! — сердито прервал Панферыч. — Сидят себе и лупят глаза на чучела, только и всего. Кабы думали, так враз бы улетели. Вот и этот чудак — чеквой-то мой — ходил, ходил вокруг поваленного чучела, — видит, тот не встает, сигнала ему к драке не подает, — он и завял. Отошел в сторонку, — перья у него на спине улеглись, — и давай травку щипать у себя под ногами как ни в чем не бывало.
Выходит, значит, пока стояло чучело в позе: на двух ногах и шея к земле опущена — «к драке готов!» — так было оно врагом, живым гусаком. А лежит это же самое чучело кверх томаршками, не шевелится, — как будто оно никогда и птицей не было.
— Получается… — сказал один из охотников, задумчиво вороша длинной веткой уголья в костре. — Получается, вовсе не могут соображать птичьи мозги.
— Ну, это как сказать! — еще сердитее отозвался старик Панферыч. — Не надо только с них человечьего ума спрашивать.
Да вот послушайте, что дальше было со мной на той же охоте.
Весенним тем утром валом валит ляк, чеквой да пискулька, — я только ружья успевал перезаряжать, палил да палил. Чучело, которое тот чеквой уронил, пришлось, конечно, опять на ноги поставить. Следы свои на песке я, само собой, веточкой хорошенько замел. И только залез в свой дзот, — сейчас опять стадо подвалило.
Я и по этому четыре выстрела дал, и еще по одному два раза стрелил — больше не поспел. А дальше стоп! — как отрезало.
Летит надо мною стадо за стадом. Я их ваблю, приманиваю на голос-то. Начинают снижаться. Вот, думаю пошли на посадку — сейчас тут будут… А они — ляк-ляк-ляк! — и давай опять высоту набирать.
Ясно: приметили что-то подозрительное. А что? — вот пойми их!
Вылез я из своего прикрытия. Каждое чучело осмотрел. Ни в одном никакого изъяна.
Следы засыпал свои, опять в дзот залез. Ваблю, ваблю, — нет, не верят моим манщикам ляки, так и шарахаются от них! А может, и не в манщиках тут дело? Не должно бы…
Пришлось охоту кончить. Собрал я свои чучела, взял ружья — да в лодку. Прибыл в Березов на пристань.
Сижу, других охотников дожидаюсь: на реке вовсю еще шла пальба по лякам.
Наконец подъезжает знакомый промысловик. Спрашиваю у него:
— Такие-то и такие дела. Скажи на милость, отчего такое у меня охота не задалась? Ведь валили же спервоначалу ляки к моим манщикам. Чего вдруг бросили?
Старый промысловик все мои чучела осмотрел, подумал малость. Потом расспросил подробно, как у меня засидка сделана, хороша ли маскировка, да где бойница проделана, да много ли раз стрелял… Потом еще подумал. И говорит:
— Не поленись, друг, поезжай назад на свой остров. Зорко приглядись, — нет ли там чего на песке, что бы ляков отвадить могло?
Я поехал на следующее утро. Может, думаю, на самом деле что из кармана обронил — незнакомый какой лякам предмет?
Всё хорошо осмотрел — решительно нет ничего подозрительного. Кой-где зеленая травка растет, а то всё чистый песочек. Золотом на солнце блестит, искрится, а от дзота моего, от бойницы — она у меня над самой землей проделана, — серенькая дорожка по песку бежит, чуть серебрится. От пороху это. Порох-то у меня простой, охотницкий. Нагару от него порядком. Вот он и ложился на песок перед бойницей по вылете из стволов.
Ну, я не стал лишне топтаться, дорожку эту засыпать. Манщиков своих расставил, сам в яму залез, да за вабик.
Та же картина, что и вчера: только пойдут ляки на посадку, вожак голос подаст, — всё стадо разом вздымет — и мимо!
«Да неужто, — думаю себе, — эта пороховая дорожка тому причиной? Быть того не может!»
Вылез всё-таки, дорожку засыпал аккуратненько.
И что ты скажешь! Только залез в свой дзот, только за вабик взялся, — той же минутой приземлилось стадечко пискулек, потом чеквоев, потом серых гусей.
Надо же, какой, значит, у ляков глаз дотошный! С какой высоты эту серенькую дорожку примечает!
И сейчас же мозги сработают: откуда, мол, здесь на чистом песочке такая дорожка взялась?
Разобраться, что это порохового нагара след, они, само собой, не могут, — не люди ведь. А всё-таки подозрительно: серебристое на золотом! Не видано такое.
Ляки — они ляки и есть. И ум у них свой — лячий ум. С человечьим умом его равнять не приходится.
Которое, скажем, чучело сделано ладно и поставлено правильно, с тем ляк сейчас в драку: за гуся принял. А опрокинь чучело, дай ему не ту позу, — оно уж для ляка и вовсе не птица.
Или, к примеру, эта дорожка серенькая невиданного блеска. И кончено: сигнал — опасность!
Небось тут лячий ум сработал, где жареным пахнет. Тут они мне на жаркое не попали…
1950 г.
ЛАСКОВОЕ ОЗЕРО САРЫКУЛЬ
Чуть обозначились в степи темные купола стогов, когда мы с Виктором Степановичем подошли к берегу большого озера Сарыкуль.
— Значит, вот восток, — сказал профессор, указывая на оранжевую полоску зари. — Мы на южном берегу озера, идти будем прямо на север. Солнце на восходе с правой руки. Впрочем, я буду следить по компасу, — у меня с собой.
Двустволка в руках. Патронташ полон, и все карманы набиты патронами: стрельба предстоит немалая. Приятно, бодрит осенний холодок.
Кажется, прямо с берега начинаются камыши: воды чуть-чуть. Темно, но в темноте чувствуешь вокруг себя многообразную жизнь. То зашуршит камыш, то всплеснет вода, то с громким кряканьем подымется невидимая утка, и со всех сторон ответят ей встревоженные товарки.
Особенно горячит охотника вот это предрассветное время.
Видишь блеск воды, различаешь темные острова камыша, знаешь, слышишь, что кругом тебя кишит дичь, а стрелять не в кого: за пятнадцать шагов не видно в сумерках птицы.
Ну, отойти подальше от берега, пока темно: глубже в озеро — больше и больше дичи. Главное, риска никакого, смело шагай вперед и вперед. Можешь часами идти от берега: всё будет вода по колено, чуть выше, чуть ниже. Нигде не ухнешь в предательскую яму, нигде не оступится нога, и только разве по собственной неосторожности зачерпнешь теплой водицы в широкие раструбы охотничьих сапог.
Такое уж ласковое озеро Большой Сарыкуль. Как огромная плоская тарелка, врытая в степь. От берега всё камыши, камыши, а посредине плес — десятки километров в длину, десятки километров в ширину — целое море.
И безбурное море: слишком мелко, чтобы самый сильный ветер мог поднять высокую волну. А и вздымет вал — не прогонит его сквозь частые заросли камышей: волна запутается в них, как рыба в сети, разобьется на ручейки, разбежится вся мелкими струйками, затихнет, замрет.
Одним словом, такое море, что, кажется, сам не захочешь — ни за что не утонешь в нем.
Однако что-то уж очень медленно светает. Уж час идем вперед, а всё стрелять нельзя.
— Виктор Степаныч?
— Хоу!
— Давайте постоим, покурим.
— Да, надо подождать.
От вспышки спички еще гуще сумерки. Виктор Степанович рядом попыхивает папироской, видно, как что-то перекладывает из кармана в карман.
«Бульк!»
— Что у вас упало, Виктор Степанович?
— Тсс!.. Слышите, слышите?
Вдали, но с каждым мгновением слышней и слышней: «Конг, гонг, конг!» — налетают дикие гуси — казарки. Папиросы летят в воду.
— Сюда, правей, правей! — Виктор Степанович, с плеском разбрызгивая воду, бежит наперерез невидимой стае.
Нет, высоко пролетели, не углядишь в мутном небе.
— Виктор. Степанович, у вас ведь что-то упало в воду. Надо пошарить тут на дне.
Он подходит. Но вдруг почти из-под ног у него с отчаянным криком захлопала крыльями утка. Вижу два быстрых, длинных огня, слышу два оглушительных выстрела и торжествующий голос профессора:
— Ага, попалась, каналья!
— Подобрали?
— Готово дело!
— Так идите, поищем вашу вещь.
— Шут с ней! Это, наверное, перочинный ножик. Видите, уже стрелять можно. Идемте.
Чудак! Такой всегда спокойный и рассудительный дома, профессор совсем перерождается на охоте. Горячится, как мальчик. Готов всё бросить и десять километров пробежать за одной уткой.
Идем вперед. В самом деле, на близком расстоянии стрелять уже можно. Взвожу курки. Сейчас начнут подниматься утки, и сам не заметишь, как рука вскинет ружье к плечу, глаз поймает на мушку темный силуэт птицы — и смертоносная струя дроби вылетит из ствола. А в ожидании этой минуты волнуешься, всё думаешь, как бы не прозевать взлета, да ловко ли ляжет приклад в плечо, да не забыть бы взять переда, не обзадить по стремительному чиренку. И как ни ждешь, всегда всё-таки неожиданно утка вырывается не спереди, а где-нибудь справа, слева или даже сзади.
И вот — началось. Каждую минуту то тут, то там слышатся взлеты. Утки вырываются из-под ног. Утки стадами носятся над озером. Сколько их тут!
Прохладный туман кутает камыши в сырость и сумерки. Внезапно чуть не вплотную на тебя направляется ошалелый от пальбы табунок быстрокрылых чирят, нырков или грузных крякушек. Рука и глаз без спроса делают свое дело. Стреляешь раньше, чем успеешь сообразить расстояние, быстроту полета. Торопливо подбираешь убитых уток, перезаряжаешь ружье, достреливаешь ныряющего подранка.
Забылось время, не думаешь, куда идешь. Отмечаю только, где Виктор Степанович, в какую сторону подвигается, чтобы не выстрелить туда, не задеть его дробью.
Кругом заросли камыша — как рощи, озеринки чистой воды — как лужайки. От рощи к роще, от лужайки к лужайке — и всюду ждут тебя новые неожиданности.
Притаился в камыше — и жду. Вижу: крутя головой во все стороны, осторожно выплывает из камыша черная птица — кашкалдак. Ростом с утку, на голове лысина, клюв острый.
За ней показывается другая, третья, четвертая.
А над камышами, как бабочка, закидывая крылья высоко над спиной, медленно и бесшумно летит большой коричневый болотный лунь.
Вот он заметил лысую и сразу пошел книзу, стелет над самыми камышами и уже почти не двигает крыльями.
Но и кашкалдак-лысуха заметила его. Со стоном и хныканьем она кидается в спасительные заросли камыша. За ней сейчас же исчезают товарки.
Лунь дал круг над озеринкой и чуть не наткнулся на спокойно стоящую по колено в воде, большую, горбатою серую цаплю.
Цапля только повернула к нему острый, как штык, нос, — и лунь сразу взмыл, пошел выше и как раз в мою сторону. Не по его когтям добыча.
А цапля опять как будто заснула. Длинная шея вопросительным знаком повалена на спину и грудь, клюв снова глядит в воду.
Миг — и быстрей мысли развернулась шея, клюв, как копье, вонзился в воду. Миг — и клюв уже высоко в воздухе, раскрылся, и в нем блеснула и пропала серебристая рыбка.
Лунь налетел на меня совсем близко. Рука и глаз помимо сознания делают выстрел.
И цапля тяжело поднимается над камышами. Летит, вытянув назад прямые ноги, медленно махая точно из тряпок сшитыми, смешными крыльями.
Рука и глаз.
Я не хотел стрелять цаплю: зачем она мне? Но рука и глаз сделали свое дело: вот она лежит на воде, распластав широкие круглые крылья и грозно направив штык-клюв в мою сторону.
Что-то уж очень я разгорячился с этой сумасшедшей пальбой по уткам. Довольно мне дичи, всё равно больше и не унесешь. Надо в себя прийти. Вон и профессор бахает и бахает, тоже вошел в раж.
— Хоу, Виктор Степанович!
— Здесь.
— Пора шабашить. Давайте закусим.
— Можно.
Он подходит, весь всклокоченный, без шапки.
— А шапка-то где?
— Шапка? Хм… наверное, я ее куда-нибудь в карман… Да нет, нету… А я и не заметил.
Что шапка, когда в сумке добрый десяток уток и карманы еще полны патронов!
Профессор весело смеется над своей потерей.
Теперь хорошо бы присесть, дать отдых усталым ногам, сбросить с плеч тяжелые сумки с добычей. Но мы по колено в воде, и на озере нет островов.
— Кончать надо охоту, — беспомощно озираясь, говорит Виктор Степанович. — Где у нас солнце-то?
Странное дело: солнца на небе не оказалось. Только тут мы припомнили, что всё утро оно и не показывалось. Светлая полоска зари давно исчезла, и всё небо было освещено, как толстый матовый колпак, где-то внутри себя утаивший невидимый источник света.
Это не были облака. Какая-то мутная мгла покрывала весь небесный свод: то ли его застлал туман, поднявшийся от воды, то ли где-то далеко, может быть в Уральских горах, горели леса. Невозможно было определить, в какой стороне неба находилось солнце.
— Надо по компасу, — слегка встревоженным голосом говорит Виктор Степанович.
Он принимается шарить по карманам. Карманов в профессорском пиджаке немало, и поиски заняли минут пять.
Потом профессор во второй раз тщательно обыскал себя.
Потом я держал перед ним свою шапку, и он складывал в нее по очереди каждую вынутую из кармана вещь.
В карманах профессора нашлось что угодно, начиная от часов, перочинного ножа, карандашей и кончая неизвестно как попавшим сюда крошечным кукольным башмачком, баночкой с клеем, камешками, ракушками, птичьими перьями.
Но компаса там не оказалось.
Профессор оторопело уставился на меня.
— Бульк! — сказал я и показал на воду. — Помните, еще в темноте?
— Хм… Возможно. А я думал, это перочинный ножик. Он еще раз безнадежно огляделся и вдруг внимательно посмотрел на меня.
— Скажите, вам ничего не припомнилось?
— Бухгалтер, — ответил я.
Коротенькую, но очень сильную историю про бухгалтера рассказывали нам в Еманжелинке, на берегу ласкового озера Сарыкуль.
В свободное время бухгалтер любил пройтись по озеру — пострелять уток.
Раз, после выходного дня, он не явился на работу. Его не оказалось и дома.
Видели, как он прошел вчера с ружьем в сторону озера.
Через две недели на него случайно наткнулись рыбаки. Они заметили белую бумажку, привязанную к камышам. Вокруг плавали наполовину разложившиеся утки. Под ними, на дне, чуть прикрытый мелкой водой, лежал мертвый человек с ружьем.
На бумажке аккуратным бухгалтерским почерком было нацарапано:
«Блуждаю восемь дней. Пробовал и на юг и на север — везде только камыши. Ел сырых уток. Патроны все вышли. Я очень устал. Больше не могу».
— Везде только камыши, — тихо, задумчиво произнес Виктор Степанович, — и вода.
Вода ласково лижет черную кожу сапог. В воде весело всплескивают рыбки. Вода блестит среди желтых камышей, куда ни взглянешь.
Если бы мы были в лесу! Там по замшенным с одной стороны деревьям, по муравейникам, по птичьим гнездам так привычно и просто находить север и юг.
— Надо идти, — говорю я. — Если не ошибаюсь, мы пришли вот с этой стороны.
— А если ошибаетесь, — спокойно возражает профессор, — то с нами будет то же, что с уставшим бухгалтером. Постоим и подумаем.
Что думать? Часов пять — шесть мы шагали от берега. Берег далеко. Если даже мы сразу пойдем правильно, мы только затемно будем дома.
Или, правда, стоять на месте? Может быть, хоть под вечер выглянет солнце. Ночью небо может очиститься, высыплют звезды. В хвосте созвездия Малой Медведицы загорится Полярная звезда. А как мы обрадуемся солнцу утром! А питаться можно и сырыми утками.
— Согласен, — говорю я. — Чтобы не зайти еще дальше от дома, будем ждать здесь солнца или звезд.
Профессор не слышит меня. Он стоит и неподвижно смотрит в воду. Сейчас он удивительно похож на маленькую, большеголовую птичку — зимородка. Направив острый клюв вниз, зимородок так же вот глубокомысленно уставится в воду и молчит.
Вдруг встрепенулся.
— Эврика! — говорит профессор, ударяя себя ладонью по лбу. — Нашел! Только это будет ваше дело — спасти нас от смерти. Если бы мы были в горах, то должен был бы вас вывести я. Ископаемые богатства — моя специальность — дали бы мне руководящую нить. Человек должен уметь использовать свою специальность во всех случаях жизни. Во всех затруднениях. Используйте здесь вашу — и мы спасены.
— Интересная лекция, — говорю я довольно грубо. — Откровенно говоря, я охотнее послушал бы ее на сухом берегу, у костерка, за кружкой горячего чаю. Что вы имеете в виду, какая моя специальность?
— Птицы, — просто отвечает профессор.
— Птицы?
Как нам могут помочь птицы? Что он хочет сказать?..
А впрочем… это же так ясно!
— Потрясающая идея! — говорю я весело. — Теперь слушайте мою лекцию. Только на ходу: я поведу вас на юг, прямо к дому.
Я присмотрелся к пролетающим над нами стаям, выбрал направление и пошел вперед. На ходу я с важным видом, профессорским голосом излагал Виктору Степановичу всем известные истины: что осенью многие виды птиц собираются в стаи; что стаи перелетных птиц тянут осенью с мест гнездовий на зимовки — с севера на юг.
Высоко над нами с гоготом пролетали табуны диких гусей, большие стада уток. Раз даже вдали медленно проплыл серый треугольник журавлей. Нам уже не хотелось стрелять птиц, мы благодарными глазами следили за их полетом.
Четыре часа мы без отдыха шлепали по воде. Солнце не показывалось, и нигде не было видно никаких признаков близкого берега.
Последние часа полтора мы с Виктором Степановичем не обменялись ни словом.
Есть в дневном и вечернем полете некоторых птиц разница.
Сокола и вороны, замечал я не раз, почему-то мелко-мелко семенят крыльями на вечерней и утренней заре.
Перелетный сокол сапсан пролетел невдалеке от нас. И я видел, что он летит по-вечернему.
По каким-то своим признакам и Виктор Степанович узнал, что приближается ночь. Он остановился и хмуро сказал:
— Скоро начнет темнеть. Я отказываюсь идти дальше.
— Сил нет?
— Не сил, а веры. Ваши птицы надули. Сейчас скажу, где наша ошибка.
Он раскурил папиросу и продолжал:
— Конечно, общее направление перелета многих птиц — с севера на юг. Но вам отлично известно, что стаи летят не по прямой. Часто делают углы, зигзаги, повороты. И над этим громадным озером они могут лететь по разным направлениям. Так оно и есть на самом деле. Утки, казарки кормятся здесь. Я давно слежу, прямо мы идем или нет. И, по-моему, мы кружим. По-моему, мы теперь дальше от берега, чем были час назад.
Сказать правду, и мне в голову не раз приходила эта страшная мысль. Всё-таки я пробовал защищаться.
— Журавлям нечем кормиться здесь, они ни за что не опустятся в воду. Они идут здесь напроход — прямо с севера на юг.
— А почему до сих пор не видно даже стогов на берегу?
На этот вопрос я не мог ответить. Если бы мы действительно шли прямо на юг, то уже давно должны были очутиться на берегу.
Я с отчаянием посмотрел вокруг.
Вода и камыш, камыш и вода. Табуны уток снуют над камышом по всем направлениям. И еще стайка каких-то птиц, часто-часто махая крыльями, летит прямо на нас. И никак я не пойму, что же это за птицы такие?
Они близко. Я снимаю ружье с плеча. Рука и глаз делают свое дело. Но на этот раз им помогает и разум: я тщательно выцеливаю, рассчитав расстояние до птиц и быстроту их полета.
Смертоносная струйка свинца, с огнем и громом вылетев из ружья, пересекает их полет. Одна из птиц растрепанным комочком падает в воду.
Я поднимаю ее и показываю Виктору Степановичу.
— Это кукша, — говорит профессор. — Зачем вы ее загубили, зверь-человек?
Он прав. Так называется эта рыхлая птичка ростом с дрозда, вся в кофейном и ржавом пере и с хохолком. Но я говорю:
— Нет, дорогой профессор, вы ошибаетесь. Это не кукша, это попугай. И хоть у нас на севере не бывает попугаев, для нас с вами это всё-таки настоящий попугай.
— Вы обалдели от усталости и страха, — не совсем вежливо говорит Виктор Степанович, — у вас мысли путаются.
— Нет, профессор, не путаются. Я вам докажу это, если вы согласитесь еще немножко пройти со мной. Чуть-чуть, — ровно столько, чтобы выслушать маленькую подробность о том, как была открыта Америка Христофором Колумбом.
— Чепуху, вы порете, — сердито бурчит профессор. Но всё же идет за мной.
— Христофор Колумб, — начинаю я новую лекцию, уверенно шагая по воде, — обманул королеву Изабеллу Испанскую. Уверил ее, что он откроет для нее Антилью — легендарную страну, где золота больше, чем грязи. Королева ему поверила. А он сам не знал, куда плывет.
Он завел корабли в неведомую часть океана. Замучил экипаж.
Матросы начали бунтовать. Колумб вышел на палубу, чтобы отдать приказ повернуть назад в Испанию.
Вдруг он увидел стайку птиц, летящих мимо корабля.
Это были попугаи.
Колумб сразу переменил свое решение и велел держать курс по направлению полета стайки.
Через час дозорный крикнул с вышки:
— Земля!
И все увидели берег. Это и была Америка.
— Вполне понятно, — сердито говорит Виктор Степанович. — Попугай — настоящая лесная птица. В океане ей делать нечего. Стая попугаев, занесенная в море, должна была лететь к суше, это всякий знает.
— И наша маленькая лесная ворона — кукша, — говорю я, — совершенно сухопутная птица. В большом озере, в ласковом Сарыкуле, ей делать решительно нечего. Стайка просто пересекала какой-нибудь заливчик. Кукши летели к берегу. В этом вы можете убедиться сами, если внимательно посмотрите вперед, в том направлении, куда летела стайка и куда мы с вами теперь шагаем.
Профессор посмотрел и вдруг полным голосом затянул:
Так слава моряку-у Колумбу Христофору: Открыл Америку-у Как раз, выходит, впору!Впереди за камышами в быстро надвигающихся сумерках показались темные купола стогов.
1934 г.
РОЗОВОЕ И ОЛИВКОВОЕ
Я пришел домой с прогулки, вынул из кармана коробку с ватой и осторожно открыл ее.
В вате лежало маленькое яичко — такое хрупкое на вид, что я сразу не решился взять его огрубевшими пальцами. Выкатил его из коробки себе на ладонь.
Яичко было прекрасно, как жемчужина, вытянутой, удлиненной, совершенной формы.
Сияющая оливкового цвета живая жемчужина! Цвета свежих ивовых листьев. Без единого пятнышка, без малейших крапинок.
Внутри ее теплилась маленькая жизнь — неведомая, таинственная, еще не готовая родиться на свет. Просвечивала и мерцала сквозь тонкую хрупкую оболочку нежно-нежно розовой теплотой.
Нет красок, чтобы передать на бумаге или полотне живую прелесть сочетания этих цветов. На картине розовое смешивается с оливковым — получится муть, грязь. Здесь розовое и оливковое составляют одно целое, но чудесным образом не сливаются, существуют сами по себе: розовое — чтобы в свой срок превратиться в крылатое, поющее живое существо; оливковое — чтобы исчезнуть, рассыпаться в прах после его рождения.
У меня на ладони покоилось соловьиное яичко.
В моей коллекции уже были соловьиные яйца, но всё шоколадного цвета. Только сегодня мне удалось, наконец, найти под кустом в заросли ив и кудрявых ольх гнездо с оливковыми яйцами.
Их было пять в гнезде. Я взял только одно, чтобы самочка не покинула гнезда и вывела остальных четырех птенцов. А мне достаточно и одного яйца. Осенью я повезу свою коллекцию в город. Горожане редко вспоминают о птицах. Пусть-ка полюбуются на такую красоту.
Так я думаю, бережно держа на ладони оливковое с розовым яичко.
Свободной рукой я достаю из стола заостренные с одного конца стеклянные трубочки. Выбираю самую тонкую из них, придвигаю к себе блюдечко, достаю булавку. Остается только сделать одну маленькую дырочку в яйце и выдуть его, выпустить его жидкое содержимое на блюдечко. Но тогда исчезнет розовое! Одним соловьем станет меньше.
Правда, соловьев много вокруг деревни, где я живу. Как наступили долгие дни и теплые белые ночи, воздух наполнился ивовой белой пушицей, — принялись они щелкать круглые сутки.
Вчера днем ко мне в окно доносился свист соловьев.
— Когда же они спят-то? — удивленно спросил меня Смирька, восьмилетний соседский парнишка.
А вечером, когда в одиночестве меня тоска взяла и я уселся на крылечке — покурить, подумать, как-нибудь разобраться в себе, — как они свистели, как щелкали!
Гляжу, и Смирька ко мне подсаживается: и ему не спится, не знает, куда себя деть.
Ну, пусть сидит, думаю, он не мешает.
Сидим, думаем каждый про свое. И соловьи свое поют.
Вдруг резкий крик дергача резнул слух.
— Грязь-грязь! Грязь-грязь! — тужится, скрипит сквозь туман дергач на сыром лугу.
— Сало! Сало! Пек, пек, пек! — легко, бархатисто выводят в кустах соловьи. — Сало!
— Грязь! Грязь! — орет дергач.
Так они долго, без устали спорят друг с другом, и мы со Смирькой невольно вслушиваемся.
Сперва кажется: все соловьи поют одинаково, и им ужасно мешает скрип дергача. Но стоит только немножко вслушаться, и вот дергач — сам по себе и соловьи — сами по себе. Сразу и вместе они и отдельно. Как розовое и оливковое в яичке.
Соловьиные песни тоже разные. Один поет совсем близко — в лядинке через дорогу от нас — в сыром лиственном леску. Его голос слаб и высок. Некоторые ноты выходят у него резковато; он даже срывается иногда с голоса: совсем еще молод, видно.
Голос другого ниже и сильней, песни дольше. Он уверенно берет трудные низкие ноты и не срывается на верхах. Он дальше: под горкой, за банями. А кажется — тут же в лядинке поет. Хороший музыкант.
Но когда запел третий, — душа всколыхнулась!
Ничего, что он всех дальше от нас — через поле, в зарослях ив и ольх; каждая нотка его песни слышна отчетливо. Его густой, мощный свист легко покрывает натужный скрип дергача. Какой певец!
Его клокочущие трели великолепны. И как смело он переходит от томных, за душу берущих низких нот к дерзкой «лешевой дудке»![38]
Замер на низких и вдруг — фиулит! — вырвал свистом, да с каким росчерком! И замолк.
— Здорово? — в восхищении спрашиваю Смирьку.
— Дивья! — притворно пренебрежительно говорит Смирька. Но и он доволен. И вспоминает из басни: — А верно, что «петь великий мастерище».
Такая уж тут тоска: самому хочется, петь и жить, жить — радоваться!
Очнулся я от дум. На ладони оливковое яичко. Нет, не стану я выдувать его! В нем — птенчик нашего замечательного певца. И кто знает: не заключен ли в этой тонкой скорлупке такой же чудесный дар песен?
Отнесу яичко обратно в гнездо, в заросль.
В заросли крики Смирьки и звонкий визг его сестренки.
И скрипучий, неприятный птичий голос.
Спешу напролом через кусты и хворост. Но я опоздал.
— Гляди, как я в нее! — кричит мне Смирька. — Прямо в лоб шмякнул!
Его сестренка смеется и грязными пальцами размазывает по своему розовому лицу крошечный желток. Знакомое гнездо под кустом выворочено, в нем пусто.
— Смиреха! Смиреха! — говорю я с тоской. — Что ты наделал! Ведь это гнездо того самого соловья, которого мы вчера слышали.
— Не! — весело откликается Смирька. — Это вон какой птюшки, вон скрипит в кусту!
Серая птичка перепрыгивает невдалеке с ветки на ветку, дергает хвостом и скрипит, скрипит…
Откуда бы знать Смирьке, что прославленный соловей — «петь великий мастерище» — в тревоге за свое гнездо стонет неприятным, скрипучим голосом? И что могло помешать ему разорить гнездо этой невзрачной «птюшки», когда кругом все ребята, да и отцы их при случае, походя, разоряют все попавшиеся на глаза птичьи гнезда?
Больше мы со Смирькой не слышали нашего замечательного певца: соловей покинул заросли.
Оливковое яичко я выдул.
Никогда из него не родится крылатое существо с чудесным даром песен.
Розовое перестало существовать, но оливковое не рассыпалось в прах. Об этом позаботился я, поместив его в свою коллекцию.
Теперь я думал: не повезу своей коллекции в город, отдам ее в сельскую школу, в ту самую, куда пойдет этой осенью Смирька со своими товарищами.
Может быть, хоть соловьиные гнезда они перестанут разорять?
1940 г.
ДВОЙНАЯ ВЕСНА
Зимой в Ленинграде моим глазам и ушам работы мало. Но вот замечаю: на крыше подрались воробьи. И сразу удваивается мое внимание ко всему окружающему: ведь первая потасовка воробьев — это первый намек на весну. Вот будут еще и еще сигналы. Каждый новый птичий голос весной — подарок. И какое наслаждение отмечать эти новые голоса, пока они не слились в огромный общий хор — апофеоз природе и солнцу!
Положено и человеку радоваться весне. Но часто при этом думаешь: много ли еще таких радостных встреч предстоит тебе в жизни?
И раз мне пришла в голову лукавая мысль:
«А почему бы не вырвать у жизни хотя бы одну лишнюю весну? Ведь родина моя так велика. Ежегодно в разных концах ее бывает много разных весен.
Съезжу-ка на Кавказ. Конец февраля. Там как раз начинается весна. Южная весна коротка. Успею встретить ее и вернуться. Тут встречу вторую в году — нашу неторопливую северную весну».
Даже краска прилила к лицу, — точно задумал обмануть судьбу.
Как раз у меня и возможность была съездить куда-нибудь — отдохнуть между двумя работами.
Беру билет на поезд до Туапсе и через три дня, проснувшись утром, вижу: весна!
В Туапсе на улицах припекало, кой-где была уже пыль, хотя горы кругом сверкали снегом. В садах громко пинькали лиловогрудые красавцы-зяблики.
Сразу видно, что они только что прибыли сюда: ни одной самочки в их холостяцких стаях. Более сильные, самцы удрали вперед. Самочки прибудут позже.
Еще только первое марта, но я опаздываю. Скорей, скорей, вперед!
И вот прекрасный теплоход «Абхазия» уже развертывает передо мной неторопливо-величественную панораму Кавказского побережья и бесконечный простор моря.
Последняя ниточка, связывающая меня с родным севером, рвется. Я в другой стороне — прекрасной, желанной, но не родной.
На молу сидят, наподобие прусских орлов, подняв и растопырив крылья, большие черные птицы. Невиданные у нас птицы — бакланы. Смешные звери выскакивают из волн и падают назад в море. Таких не увидишь даже в ленинградском и московском зоопарках: дельфины. И даже чайки, бело-розовой стаей провожающие теплоход, — не наши чайки: розовогрудые с красными носами и лапками — морские голубки.
Идет, идет теплоход, винтом отсчитывая время и пространство.
Вот уже Гагры.
Внушительная картина! Огромные горы. В расщелинах — завалы тяжелых мутных туч. На вершине — дикие, засыпанные снегом леса, пихтач — словно настоящая сибирская тайга. А на узкой полоске берега игрушечные красивые домики-ульи и перед ними — пальмы, кипарисы, эвкалипты.
Бесшумно течет вода, течет время.
Сухуми.
Стоит однажды побывать в этом милом городке — и уж будет, непременно будет тянуть побывать в нем еще раз.
Когда-то осенью я был в Сухуми. И, конечно, у меня, как и у всякого, кто здесь хоть немного пожил, остались друзья среди приветливого и гостеприимного местного населения.
Меня потянуло к ним. Я сошел в Сухуми.
Какая же может быть весна, когда не было зимы?
На улицах жарко. Пальто ни к чему.
Съездил в Алексеевское ущелье, побывал в саду ВИРа.[39] Всюду поют черные дрозды. Только вообразить себе эту блестяще-черную с золотым носом птицу в нашем северном лесу на белой березе!
И уже совсем ряженым кажется изумрудно-коричнево-голубой зимородок, сидящий на кусте над горным ручьем.
Каждый день прибывают стаи новых птиц и устраиваются здесь хозяйственно: они уже дома.
Зябличихи тоже тут. Вот-вот мужские и женские стайки распадутся, разобьются на парочки.
И вдруг — неожиданно — снег.
Самый настоящий северный снег. И холод. И вьюга.
Классическое «старожилы не запомнят»! Такой вдруг снег, такой неожиданный здесь холод в марте!
Снег не тает и на другой день. И вот в ресторане «Рица» появляется новое блюдо: жареные вальдшнепы.
И на третий день — снег и вальдшнепы.
Не узнаю города: слоновые ноги пальм стоят прямо в снегу. Отягощенные снегом, никнут к самой земле громадные листья бананов. На ободранных ветвях эвкалиптов — это австралийское дерево, как змея, ежегодно меняет кожу, — на австралийских деревьях сидят мокрые от снега вороны и простуженно каркают.
Ватага ребятишек, вооруженная палками, направляется в гору. Иду за ними.
Нам встречаются охотники, обвешанные вязанками битых вальдшнепов.
Вот поди же! А ведь у нас на севере эта чудесная сумеречная птица с большими трагическими глазами — желанная и. всегда очень немногочисленная добыча охотников. Она улетает от нас с первой порошей. Здесь она живет зимой на склонах гор в буковых и других широколиственных лесах. Ей нужно глубоко в мягкую землю втыкать свой длинный клюв, чтобы нащупать им съедобную живность. Снег для нее — смерть.
Горы засыпал глубокий снег. Вальдшнепы спустились вниз, прямо на улицы. Они истощены, обессилены.
Мальчишки бьют их палками.
Мне удалось спасти только одного вальдшнепа. Он не мог взлететь. Я схватил его руками. Рассматривая его, заметил, что на левой ноге вместо среднего, самого длинного пальца, у него культяпочка. Это тронуло меня.
Принес к себе. Пустил в садик. Тут снег уж почти весь сошел.
Вальдшнеп прожил в садике три дня. Потом — ночью — улетел.
Только сошел снег — и в Сухуми сразу настало лето.
Здешние зяблики уже разбились на пары и свили гнезда. Весна кончилась.
Пора мне назад домой.
В Ленинграде еще бушевала волчья вьюга.
В деревню я выбрался только в конце апреля. Пригласил с собой приятеля-южанина, охотника: в наших лесах весной хороша тяга вальдшнепов, есть чем похвастать.
Попав в родной лес, я почувствовал себя так, будто обежал земной шар с такой быстротой, что встретил самого себя лицом к лицу.
Опять на деревьях пинькали стаи зябликов. Они здесь еще не разбились на пары. Вспыхнув рыжим надхвостьем, поднялся в кустах вальдшнеп. Повторялось всё то, что я видел недавно на другом конце страны.
Я стал у одной опушки, приятель мой — у другой, шагах в двухстах от меня.
Солнце зашло, и птицы примолкли.
Теперь должен протянуть первый вальдшнеп.
Но он не тянул.
«Еще слишком светло, — утешал я себя. — Небо чистое. Сегодня тяга начнется поздно».
Глубокий душевный трепет объемлет душу весной в лесу в эти часы. Нагая дочь севера — белая ночь — гонит сон от глаз. Таинственно оживают в ней белые тела берез, серебристые стволы осин. Сухопарые колючие сосны протягивают к ним свои колючие руки. И таинственно темнеют в глубине неодетого леса дремучие ели. Призрак неутоленной любви поднимается тогда от черной душной земли к мерцающему бледными звездами небу.
Птицы не спят в эти ночи. Молчанием проводив уходящее на покой солнце, они скоро не выдерживают и снова заливаются песнями. Взлетев на тонкие вершины елок, поют наши серенькие дрозды-белобровки и певчие. Цвирикает в кустах черноокая зарянка. И хриплым от страсти голосом неожиданно начинает кричать в ночи только что прилетевшая на родину кукушка.
Напрасно, замолкнув, ждет она ответа на свой призыв: веселого, звонкого хохота самочки. Не прилетели еще кукушки-самки. Они прибудут, когда лес оденется листвой…
Колдуя, чуффыкает, звонко бормочет где-то тетерев-косач.
Среди всех этих чудесных звуков слух мой ищет одного — самого желанного: негромкого, хрипловатого «хорканья» и «цирканья» тянущего вальдшнепа. Переждав с четверть часа после захода солнца, вальдшнепы-самцы поднимаются с земли, беспокойно снуют над лесом. Они разыскивают, высматривают своих самок. Это и называется «тягой».
Я весь напрягся в ожидании первого хорканья. Вспоминалось, как в прошлые вёсны простаивал белые вечера на этом же месте и над головой у меня пролетало десять — пятнадцать красивых долгоносиков, десять — пятнадцать раз вскидывал я к плечу ружье и стрелял, волнуясь, боясь упустить короткий миг возможного попадания.
Но в сердце уже закрадывалась тревога: что-то случилось этой весной. Не будет нынче той обильной тяги. Что-то уж слишком долго она не начинается.
И тут вдруг — как всегда, когда стоишь на тяге, — неожиданно, хотя все мысли заняты ожиданием этого звука, — донеслось откуда-то легкое «ципит, ципит, хорр, хорр!»
Я резко повернулся в ту сторону. И увидел: над опушкой, где стоял мой приятель, на фоне зеленоватой зари, толчками двигаясь в воздухе, неслась птица.
Странным образом она летела — вперед длинным опущенным хвостом. И у нее не было головы.
Мгновенная иллюзия рассеялась: то, что представлялось мне хвостом птицы, был длинный, внимательно опущенный книзу клюв вальдшнепа.
И я увидел, как внезапно вальдшнеп собрался в комочек — уже нельзя было различить, где у него хвост, где голова, — и безжизненно упал вниз.
Тут сразу донесся до меня и звук выстрела.
— Ну, — я вздохнул с облегчением, — один есть! Теперь начнется.
Я радовался, что приятель уж не вернется домой «попом» — без дичи.
Но ничего не «началось». Лес потемнел, в нем слились очертания отдельных деревьев. Прошел час. А вальдшнепы всё не тянули.
Дальше ждать не имело смысла. Я крикнул приятелю. Он подошел.
— Хороша же ваша хваленая тяга, — сказал он сердито. — Один только и протянул. Вот он. На Кавказе зимой я бил их десятками.
Приятель передал мне убитого вальдшнепа.
Разглядывая птицу, я заметил, что на левой ноге у нее вместо среднего, самого длинного пальца, — культяпочка.
Меня как током кольнуло.
Я, конечно, не могу утверждать, что это тот самый вальдшнеп, которому я недавно спас жизнь за тысячи километров отсюда — в Сухуми. Но только я вспомнил, что наши северные, вальдшнепы летят зимовать на Кавказ и смешиваются там с кавказскими.
Я вспомнил сухумских охотников, обвешанных вязанками вальдшнепов.
Быть может, именно из моего северного леса вальдшнепы — эти птицы с большими трагическими глазами, — собравшись в стаю, зимовали в широколиственных бесснежных лесах над городом Сухуми. Возможно. Очень возможно.
И я стал думать: какое огромное у нас слово — «Родина»! Какую часть земного шара она обнимает! И всё же юг и север, восток и запад — одно хозяйство.
Вот птицы: уничтожь стаю их зимой на юге — весной останешься без охоты на севере.
1936 г.
НОЧНОЙ ЗВЕРЬ
Ночную тайну разрушит слово.
А. БлокМы возвращались с охоты. Солнце уже зашло, в лесу быстро темнело, но на открытом месте еще можно было стрелять. И когда мы вышли в поле, я спустил Заливая со сворки.
Чем черт не шутит! Зайцы все сейчас в поле, — может быть, успеем взять еще одного по дороге.
И действительно: не успели мы с Василием Алексеевичем пройти и ста шагов, как чутьистая гончая натекла на след, дала голос и погнала.
Мы разошлись занимать места. Василий Алексеевич отошел вправо — к опушке леса, а я взобрался на жальник — небольшой, кругом ровный холмик слева при дороге. Тут был верный лаз: откуда бы заяц ни пошел, ему не миновать этого узкого места между двумя мысками леса.
Поместившись у небольшого кустика, я снял ружье с плеча и осмотрелся.
Небо было чисто, полная луна «щитом краснеющим героя» только еще вставала над лесом. Под ней блестели от росы зеленя. Начало октябрьской ночи было торжественно и прекрасно.
Гон между тем ушел далеко — километра за два в поля, к самой дороге.
Там лаял пес; но где сейчас русак?
В том, что это русак, у меня сомнений не было: беляк не дал бы такого большого круга, он сразу норовит уйти в лес.
Русак сгоряча мог далеко опередить гончую и быть уже поблизости.
Наспех затянувшись еще два раза, я бросил папиросу, придавил ее ногой и передвинул предохранитель ружья на «огонь».
Страстный баритон Заливая взбудоражил деревенских шавок, Они залились визгливым лаем. За ними дряхлым басом забрехал старый колхозный пес Сингал.
Сумерки наполнились неистовым многоголосым лаем. Но ненадолго. Неожиданно Заливай смолк. Не слыша его, замолчали понемногу шавки и Сингал. Наступила полная тишина.
Особенность охоты с гончей та, что здесь человек стоит на месте и, прислушиваясь к голосу собаки, силой своего воображения участвует во всех страстных перипетиях смертной погони одного зверя за другим. Самый момент участия человека в охоте короток и часто неинтересен: если лаз выбран правильно, уходящий от погони зверь наткнется на стрелка почти вплотную, и прекратить навсегда его бег нетрудно.
Заливай смолк — значит, скололся: потерял на бегу след. Делает сейчас круг, чтобы опять схватить чутьем запах, оставленный потными от страха и быстрого бега лапами зайца.
А заяц в это время продолжает бег. Он не доверяет внезапно наступившей тишине. До сих пор преследователь выдавал себя кровожадным лаем. Молчащий теперь, он может внезапно появиться рядом.
Заяц делает широкую дугу по ему лишь одному известному кругу. Внутри этого круга он родился, тут он жирует ночами и дремлет днем, тут он любит, дерется с соперниками, спасается от врагов. Только смерть может заставить его выйти из этого круга.
А может быть и так: далеко опередив гончую, заяц сел. Пошевелил над головой ушами.
Тишина.
Тогда заяц поднялся, пробежал вперед до опушки и дальше в лес. Потом вернулся по своему следу, вдруг скинулся с него широким прыжком в сторону и залег на опушке — головой в поле. Прижался к земле.
Тогда я напрасно жду его сейчас сюда: он дождется, пока гончая опять даст голос и промчится мимо него по его собственному следу в лес. Тут он вскочит и махнет в поля.
Передышка, значит, и мне. Можно не напрягаться.
И сознание мое раздвоилось: дежурная часть мозга оставалась начеку, глаза сторожили, — не мелькнет ли где быстрая качающаяся тень? И в то же время я мог думать о другом и чутко, всей душой отзываться на очарование всё ближе надвигающейся ночи; взбудораженная охотничьей страстью душа была напряжена до звона.
Волшебная картина была у меня перед глазами: мрачно темнел уже весь облетевший лес, а рядом свежо и радостно блестели молодые всходы. Какая сказочная встреча весны с глубокой осенью!
Да и всё кругом, казалось, жило в сказке: все кусты и деревья, и древние — со дна ледникового моря — камни, кой-где угрюмо сутулившиеся в поле. Колдовской свет луны наполнял светлую ночь тайнами, ворожил, тревожил — вызывал призраки.
Я вдруг вспомнил, что стою на жальнике. И одного этого мысленно произнесенного слова было достаточно, чтобы призраки ночи воплотились у меня перед глазами.
Жальник — ведь это от слова «жаль», «жалиться». «От жали не плакать стать», — говорили древние новгородцы, насыпали на буйвищах, над могилами погибших своих воинов, земляные холмы и называли их «жальниками».
И, вглядываясь в лунные сумерки, я уже различал в их переменчивых, неверных тенях воинов в шишаках с мечами, копьями и щитами. Беззвучно совершалась предо мною лютая рукопашная битва, сверкало немое оружие, падали богатыри.
Да, было время… Умели наши предки хоронить своих прославленных воинов.
Но легкое облачко скользнуло по светлому лику луны. И когда сошло, предо мной снова были только веселые зеленя, подо мной — небольшой, кругом ровный холмик.
Я сразу вспомнил про Заливая и подумал: что-то очень уж долго длится перемолчка!
Интересно, что испытывает сейчас русак?
Но сказочная ночь властно требовала необычайного, и мысль моя легко перескочила с русака на меня самого: а вдруг и меня разыскивает по следу какой-нибудь страшный зверь с горящими глазами и выбегающими из кровавой пасти клыками?
Какой-нибудь там вроде ископаемого громадного пещерного медведя.
Будь я мальчиком, я бы, наверно, вздрогнул от такой мысли и мне захотелось бы очень быстро обернуться. Но я только грустно улыбнулся.
За полями зажегся огонек: там собиралась ложиться спать мирная, давно забывшая ночные страхи колхозная деревня.
Самый большой и страшный хищный зверь, на встречу с которым я мог рассчитывать здесь, была лисичка.
Последний маленький медведь-овсяник был убит здесь пять лет тому назад, а о волках уже десятки лет и помину нет.
Даже смешно стало.
Вот стоим мы с Василием Алексеевичем, опытные охотники, напрягаем слух и зрение: ждем на лазу зверя.
А зверь этот — зайчик.
А ведь нам с Василием Алексеевичем вместе-то, пожалуй, сотня лет. Он — известный охотовед, старый зверятник. Да и я на своем веку побывал и в тайге, и в тундре — повидал зверя.
Мы оба изучали зоологию, для нас больше уже не может быть удивительных неожиданностей в этих исследованных, давно обжитых человеком местах. Как далеки мы от дней нашего детства, когда любой лесок за околицей был населен для нас всевозможными чудами: зверями, которых мы не умели назвать, и — на равных с ними правах — лешими, русалками, кикиморами и другой нежитью. Сказка потеряла всю свою силу над нами, потеряла обаяние тайны: каждое животное здесь мы знаем по имени, отчеству, фамилии, а с именем — и всю его жизнь — «биологию».
Я вздрогнул: из лесу слева от меня донесся короткий, глухой и хриплый крик. Так мог бы вскрикнуть древний, вросший в землю и весь покрытый мхом камень, если бы вдруг обрел голос. И вместе с тем я не сомневался, что это крик зверя. Только вот этого зверя я не мог назвать по имени.
Я с любопытством вслушивался в тишину: сейчас, наверно, крик повторится, и тогда я пойму, узнаю, чей он.
Но вместо звериного крика раздался вдруг там же — недалеко, слева от меня — неистовый лай Заливая.
Пес лаял часто, заливисто, то и дело сдваивая голос.
По зайцу гончая так никогда не вопит, по зайцу она брешет.
В сумке у меня были две разрывные пули: старая таежная привычка — на всякий случай всегда иметь пули с собой на охоте. Но было ясно, что я не успею достать их, вынуть из ружья дробовые патроны и заложить в стволы нули: так близко от меня был Заливай, а зверь должен был находиться еще ближе.
Приподняв двустволку, я не отрывал глаз от темной стены леса.
Вдруг из опушки выметнулся зверь ростом с волка.
Я приложился… И опустил ружье.
Это был Заливай.
Он смолк, метнулся по полю в одну сторону, потом в другую. Подбежал под самый жальник, поднял голову и на миг уставился на меня. Но сейчас же тявкнул, уверено взял след и помчался вправо от меня — через дорогу.
Еще минутку мелькали в сутеми его белые чулки и — исчезли.
Он пошел прямо на опушку, где стоял Василий Алексеевич, и я невольно задержал дыхание: вот раздастся выстрел.
Но лай Заливая удалялся, а выстрела не было.
Я выпустил распиравший грудь воздух.
Признаюсь: чувствовал я себя не совсем уютно.
Поведение гончей было совершенно недвусмысленно: Заливай шел по следу; он прошел под самым жальником — у меня под ногами; значит, до него прошел у меня под ногами и зверь.
Тот зверь, которого я не мог назвать.
Прошел, как привидение: беззвучно, невидимо.
Но если я его не видел и не слышал, то он-то не мог меня не видеть: ведь я стоял на холме и снизу был, конечно, очень заметен на ясном небе. Да и чутье должно было его предупредить о присутствии человека: ночной ветерок тянул как раз справа от меня к той опушке, откуда он вышел.
Какой зверь мог пройти в двадцати шагах от меня, оставшись незамеченным? И даже не зашуршать когтями по опавшей листве на опушке!
Василий Алексеевич тоже не выстрелил, — значит, зверь и у него прошел невидимкой.
Голос Заливая потерялся уже в глубине леса.
Я вдруг почувствовал, что ночь холодная, а мне очень жарко.
Так или иначе, дело было кончено: зверь прошел и уж, конечно, сюда не вернется.
Я опустил предохранитель и повесил ружье на плечо. Закуривая на ходу, спустился с жальника.
С Василием Алексеевичем мы сошлись на дороге.
— Видели? — спросил он.
— В том-то и дело, что нет.
— Я видел. Крупный зверь. Как из-под земли вырос. На широких махах подошел к опушке и стал за кустами. Близко. Голову держит высоко.
— Да кто же?
— Не знаю. Невозможно было разглядеть.
— Осечка?
— Нет; просто не стрелял.
— Вот тоже!..
— А вы попробуйте в такого — заячьей-то дробью!
— Ну и что же?
— Ну, потом сдвинулся и разом пропал за деревьями. Как сгинул. Шорох, правда, был. И два раза хрустнуло в лесу. Похоже, не он, а от него кто-нибудь бежал в разные стороны.
Василий Алексеевич замолчал. Тут только я сообразил, что оба мы всё время зачем-то говорили шепотом.
Шагая по дороге, я совсем другими глазами всматривался в ночь, чем тогда, вначале, на жальнике. Нет, черт возьми, годы тут ни при чем! Луна свое взяла.
Подмораживало. Лунная мгла опустилась и остекленела. Заливая не было слышно.
Великое бессловесное — земля, лес, небо — давило меня своей непонятной немотой. Наверно, и Василия Алексеевича тоже. Но мы молчали: может быть, оба не решались начать разговора, в котором не хватало у нас главного слова.
Я думал про одно: как это я не увидел, а Василий Алексеевич видел, да не знает — кого?
К деревне мы подходили уже в полной ночной темноте: луну заволокло большой тучей.
Тут нас догнал Заливай.
Он подошел ко мне, остановился и как-то по-особенному, натужно тявкнул.
Уж не силился ли он вымолвить слово? Он-то ведь видел и знал.
Я положил ему руку на спину и почувствовал, как тяжело вздымаются его бока.
Спина была мокрая.
Заподозрив неладное, я достал спичку, осветил свою руку.
Она была в крови.
Василий Алексеевич осмотрел, ощупал Заливая.
— Радуйтесь, что собаку не потеряли, — сказал он хмуро. — Пустяками отделался — царапина.
Я подумал:
«У нашего невидимки совсем не призрачные когти и зубы!»
За гумном горел костер. Я с удивлением увидел около него лохматого Сингала и колхозного пастуха — старика Митрея. Сверху на костер надвинулась тьма. Старик сидел, как в шалаше.
— Что ты тут делаешь, дед?
— Да, вишь, овечку свежевать дали. Зверь утресь задрал, туды его когти! От силы прогнали.
Мы с Василием Алексеевичем переглянулись.
— Медведь?
— Волк?
— Да нет, какие тут волки-медведи!
И вот дед сказал слово, которого нам так недоставало:
— Рысь.
Как свет включил: мгновенно объяснил все наши переживания этой ночи.
Заливай бросил след русака, напав на рысий след.
Рысь царапнула его в схватке. Потом, спрятав страшные свои когти в бархатные лапы, бесшумной незаметно проползла мимо меня под жальником. Так бесшумно и незаметно, как могут красться одни только кошки.
Василий Алексеевич не мог признать ее за кустами в лунной мгле: рысь в этих местах — зверь проходной, совершенно случайный; нам и в голову не приходило, что можем с ней встретиться.
Я переживал сказку, думая о происхождении слова «жальник». Но если б я вспомнил короткое слово «рысь», это заставило бы меня иначе смотреть перед собой. Я бы искал глазами не качающуюся тень скачущего зайца, а стелющуюся, переливающуюся тень ползущей, крадущейся кошки.
И это коротко рычащее слово очень легко тогда могло бы превратиться в пушистую рыжую шкуру.
1941 г.
О АУЛЕЙ, АУЛЕЙ, АУЛЕЙ!
К середине апреля лед потемнел, побурел, кой-где отошел от берегов, и в самой середине озера образовалась полынья.
Как огромный синий-синий самоцвет, засияла на солнце освобожденная вода. И утром, и днем, и вечером — когда ни взглянешь, — тут сидят, спускаются или поднимаются стаи пролетных уток, а ночью слышится с полыньи их неумолчный гортанный гомон.
В сильный полевой бинокль я хорошо различал их с берега. Всё это были нырки: гоголя, чернети и спешащие на далекий север морянки-аулейки — черно-белые, с острыми, как стрелы, хвостами.
Впрочем, морянок-то я различал и ночью по их крику, совсем не похожему на кряканье, гогот, свист других уток. Звонким, напористым голосом они как бы зовут, призывают издалека-далека кого-то, чье имя — Аулей:
— О Аулей, Аулей, Аулей!
Кряквы, шилохвости, свиязи и другие мелководные утки полыньи не посещали. Им тут нечего делать: середина озера очень глубока, а они ведь достают себе еду со дна, не ныряют, а только опрокидывают в воду переднюю половину своего тела. Нырки же могут доставать себе еду даже подо льдом.
Последние дни в поднебесье, над озером, шли лебеди. Их могучие ликующие голоса покрывали собой все другие весенние звуки, песни и крики. Волновали они меня необычайно своей неописанной красотой.
Я читал в книжках: крик лебедя сравнивают с серебряной трубой. В жизни не слыхал труб, сделанных из чистого серебра. Но трубы — какие-то большие, неведомые, сказочные трубы — клики лебедей действительно напоминают, хоть не слыхал я и сказочных труб.
Три дня назад, утром, эти победные трубы ворвались в мой сон и властно прервали его. Мне показалось, они прогремели совсем низко, над самой крышей моей избушки.
Я спал не раздеваясь и сейчас же выскочил с биноклем на берег.
Двенадцать великолепных птиц, величаво поднимая и опуская широкие крылья, косым углом плыли уже над противоположным берегом озера. В ярком свете солнца, поднимающегося из темного леса, их белоснежные тела и крылья отливали ослепительным серебром.
«Вот отсюда и взялось сравнение с серебряными трубами», — подумал я.
И еще подумал, что косяк дает круг, снижается, — верно, хочет сесть на озере.
В этот миг над тем берегом, на стене темного леса, блеснул быстрый злой огонек и вспыхнуло белое облачко дыма.
Я не поверил своим глазам — быстро навел бинокль на это место. Тут донесся до меня звук выстрела, и я увидел на том берегу маленькую фигуру охотника.
Сомнений быть не могло, стрелок бил по лебедям и бил метко: косяк расстроился, лебеди сбились и пошли вверх, а один из них отстал и как-то боком, загребая одним крылом, снижался по кругу к середине озера.
«Дорого тебе станет этот выстрел!» — в гневе подумал я про охотника. Но он уже повернулся и поспешно скрылся в лесу.
Наш охотничий закон запрещает бить лебедей. За убийство этой прекрасной птицы суд присуждает виновного к большому штрафу.
Уже мало остается на земле таких глухих мест, обширных озерных крепей, где, таясь от человеческого глаза, в огромных гнездах из камыша и вырванного из собственной груди пуха, выводят эти сказочные птицы своих розовоногих пушистых птенцов. Редки становятся лебеди даже на наших просторах.
Подбитый лебедь уже сидел на полынье, раскинув по воде правое, видно раненое, крыло и высоко подняв прямую шею. Это был кликун — самый крупный из наших лебедей: его сразу можно отличить по прямой, немного дикой осанке от чрезмерно красивых шипунов — живого украшения городских парков всего мира. Сидя на воде, шипун держит крылья горкой над спиной, шею — всегда плавно изогнутой. Кликун гордо поднимает голову, держа шею во всю ее высоту, плотно прижимает крылья к телу.
Отыскав глазами его товарищей, я увидел их над дальним концом озера.
Они опять выстроились косяком и, медленно, мерно взмахивая тяжелыми крыльями, на большой высоте спокойно уходили от опасного места.
И тут сидевший на полынье кликун начал кричать.
— Кринг-клю-у! — кричал покинутый лебедь звенящим, хрипловатым голосом. В певучем его крике слышалась боль, слышалось отчаяние, слышался тоскливый зов. Да, отчаянный зов.
— Кринг-клинг-кланг-клю-у! — издалека отозвалась ему стая.
— Кринг-клю-у! — отчаянно звал раненый.
И стая повернула. Косяк сделал широкий круг, перестроился в одну линию, снизился и, перестав шевелить крыльями, Пошел на посадку. Раненый замолчал.
Я видел в бинокль, как лебеди один за другим спускались на воду, поднимали две стены брызг и некоторое Бремя с разгона двигались по воде.
Потом стая сплылась, и я перестал различать между ними раненого.
Не хочется рассказывать, что было дальше. Всё и так понятно: ведь лебеди, как и мелководные утки, не могут кормиться на глубине. Они достают себе еду, как утки, погружая длинную шею в воду, — со дна, мелкого дна.
Через два часа стая, тяжело поднявшись с воды, стала на крыло и, снова выстроившись косым углом, продолжала свой путь на север, к своим гнездовьям.
Раненый опять закричал. Как он кричал! Пусть другие думают, что хотят, а я уверен, что он знал свою судьбу. Он был обречен на голодную смерть.
Существует легенда, что лебедь поет перед смертью. Да, этот певучий крик можно было назвать песней. Мне она казалась звуком неведомой трубы.
Я пытался спасти раненого лебедя. Но это было невозможно.
Рыбаки только головами качали на мои просьбы помочь мне: не только лодки нельзя было дотащить до полыньи, но уже и ступить на трещавший, крошащийся под ногами лед было рискованно.
Лебедь плавал в самой середине быстро увеличивающейся полыньи и не приближался к ее ледяным берегам. Не в силах больше выносить его крика, я ушел из дома — из избушки на высоком берегу озера.
Но долго еще в дороге преследовал меня могучий, тоскливый трубный крик.
Я вернулся домой через два дня утром.
Лебедь больше не кричал. Его не было видно на полынье.
В бинокль я разглядел на закрайке льда большое алое пятно и по всему льду озера от леса до полыньи — легкие цепочки лисьих следов.
Может быть, ночью лебедь вышел на лед — хотел идти к берегу, к мелкому месту, и тут достался хищникам, — не знаю.
Лебедя не стало. С полыньи доносился опять только звонкий зов морянок:
— О Аулей, Аулей, Аулей!
Стаи снимались с озера, летели на север — к своим гнездовьям.
С удовлетворением я узнал в деревне, что охотник, стрелявший в лебедя, был остановлен лесной стражей и отдан под суд.
1945 г.
«ОНА» (рассказ молодого ученого)
Дик и страшен верх Алтая, Вечен блеск его снегов.
ХомяковТолько мы разбили палатку, поели и собрались отдыхать, — обнаружилась пропажа сумки с препаровочными инструментами. Без них вся работа моя — зоолога экспедиции — срывалась.
Забыв о желанном отдыхе, я вскочил, чтобы сейчас же ехать назад: может быть, мне повезет, и еще до наступления темноты я найду сумку, валяющуюся где-нибудь на дороге.
— Одну минуту, — сказал начальник экспедиции, наш гидрометеоролог. — Сейчас я… это, как его?
Я с надеждой посмотрел на него; может, это он припрятал мою сумку?
Он стоял, заложив руки за спину, и, заведя под очками глаза, уставился на небо отсутствующим взглядом: явно старался что-то припомнить. И, как всегда, поражал удивительным сходством с его измерительными приборами. Приделай одному из его длинных стеклянных термометров очки да бороду — точь-в-точь будет он сам. Такой же прямой, жесткий, холодный.
Он отличался классической рассеянностью ученого, и ученая рассеянность его происходила, конечно, от большой внутренней сосредоточенности. Он вечно что-нибудь обдумывал и вычислял про себя, потому и не замечал ничего, что происходит вокруг него, не замечал и нас — живых людей, своих спутников. Но знаниями он был набит под самую черепную крышку.
— Так… да, так! — сказал он, поправляя очки и переводя на меня свои серо-свинцовые глаза. — Совершенно верно: я держал ее в руках на той стоянке. Хотел убрать в ящик. А потом повесил на ветку кедра и что-то другое стал убирать в ящик. Там ее — это, как его? — и найдете — на кедре.
Я послал ему мысленно тысячу чертей. Возвращаться на старую стоянку! Это значило — ночь в седле. После такого-то утомительного дня — душного, без обычного полуденного отдыха!
Но делать нечего, ехать было необходимо.
Я приторочил к седлу тюк из пальто с завернутым в него небольшим запасом хлеба, надел через голову ремень двустволки и, пожелав старому чудаку спокойной ночи, выехал из лагеря на своем сильном трехлетке-воронке.
У реки на большом камне сидела девушка-ойротка — наш проводник. Семь длинных мелко заплетенных кос узкими змейками сбегали с ее плеч на грудь. В черных косах поблескивали серебряные украшения. Плотно обтянутая на скулах кожа, чуть раскосые глаза, чистый лоб. Вся крепкая и совершенно неподвижная фигура алтайки казалась изваянной из камня, на котором она сидела.
Я сказал ей, куда и зачем еду по милости рассеянного нашего начальника: хотелось поделиться с кем-нибудь своей досадой.
Она не вынула чубука изо рта, только перевела на меня глаза, блеснув глянцем белков. Процедила сквозь зубы:
— Нельзя. Не ходи. Я удивился:
— Это почему?
— Делай так, — она опустила веки и чуть склонила голову набок — показать, что прислушивается.
Я добросовестно выполнил ее совет: стал прислушиваться.
Вечер был на редкость тих: даже птицы приумолкли, и я ощутил какое-то напряжение — непонятное и тягостное, точно рядом кто-то затаил дыхание и уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но, задыхаясь, ни слова не может вымолвить.
Веки каменной девы поднялись, агатовые глаза в упор уставились на меня.
Она вынула трубку изо рта и размеренно-веско произнесла явно заученные слова:
— Колокола звонят — быть празднику.
Я знал: «праздником» они тут зовут всякое значительное событие. Но никаких колоколов я не слышал, да их тут — в глуши алтайских гор — и не было нигде за сотни верст. Совершенно было непонятно, чего она ждала.
— Какой «праздник»? — спросил я.
И чуть слышно каменная дева прошептала: — Она.
Я не мог сдержать улыбки.
— Ну, что же: вернусь — погуляю с «Ней» на празднике.
Ойротка опять сунула черный обкусанный чубук в зубы, опустила веки.
Сизый дымок поднялся из трубки и повис в неподвижном воздухе.
Разговор был кончен. Я тронул коня.
Тропа шла тайгой. Я ехал и думал:
«Все они тут живут в сказке, как дети, — и ойроты и даже русские старожилы. Очевидно, первобытная природа так на них действует. Населяют ее каким-то таинственными существами. Вот как эта «Она».
Надо сказать, что о «Ней» я уже не в первый раз слышал здесь в горах. Этим страшным своей краткостью и неопределенностью словом местные жители называли, по-видимому, какую-то неведомую силу, какое-то непонятное им явление природы. «Она» «накатила». Там «Она» положила тайгу полосой, — и можно было думать, что речь идет о каком-нибудь метеорите. Там «Она» сбросила в пропасть целую заимку вместе с пасекой, — и я объяснял себе, что это просто нередкий в горах обвал.
Но все мои попытки добиться толком, что же такое на самом деле эта «Она», каждый раз кончались ничем: рассказчик сейчас же многозначительно замолкал или круто переводил разговор на другое, не удостаивая меня ответом на такой бестактный вопрос. И в конце концов я решил, что это мистика, чепуха, сказочный какой-то персонаж вроде бабы-яги, разъезжающей по воздуху в ступе с помелом в руках.
Молод я был и самонадеян. Не умел в шелухе суеверий находить зерно точного наблюдения, проверенного многими поколениями, хотя и не объясненного ими. Думал — любое явление природы могу сразу понять, объяснить себе его сущность и тем убить в себе всякий суеверный страх перед неведомым. И всё, что Непонятно, казалось мне суеверием.
Когда тропа опять вышла на берег реки, предзакатное небо уже оделось в яркое золото. На нем — за рекой — четко вырезался скалистый хребет. На гребне хребта причудливей знаменитых химер на кровле собора Парижской божией матери обрисовывались очертания фантастических фигур. В выветрившихся камнях мои глаза невольно угадывали формы то гигантской белки с круто поднятым хвостом, то ведьмы верхом на помеле из лиственницы, то крючконосый профиль колдуна.
Тут были толстоголовые окаменелые медведи и хищно согнувшие спину рыси. В одном месте мне почудился паук ростом со слона, в другом — так ясно представился лев с крыльями над спиной, что я даже осадил коня.
Действительно, резкие очертания камней необычайно походили на рисунки крылатых львов-грифонов — в учебниках истории Древней Греции.
«Кто знает? — пришло мне в голову. — Быть может, эта самая скала на заре истории и породила грифонов в фантазии эллинов? Помнится, эллины в те времена добирались и сюда, вели торговлю с алтайцами, которых они называли скифами. Грифоны, или грифы, говорили они, охраняют здесь золото скифов».
Вновь пустив коня рысью, я всё не мог оторвать глаз от хребта. Под острым гребнем его на недоступных склонах чернели пасти пещер, — когда-то, может быть, убежищ косматых пещерных гиен и медведей, огромных саблезубых тигров или первобытных людей. И, обвитые корнями кустов и трав, падали с высоты потоки в хаосе громоздящихся друг на друга плоских камней — россыпи. Падали, падали и не сдвигались с места.
— Черт знает что! — выругался я про себя. — Вот, кажется, уж и мне начинает невесть что чудиться, как нашей ойротке.
Но уж близок был брод. Переправа была небезопасна и отвлекала мои мысли. А дальше дорога пошла широкой, спокойной долиной Чарыша — одной из крупнейших рек горного Алтая, пересекающей его с востока на запад.
Прекрасны были горы, окутанные легкой разноцветной дымкой заката. Прекрасен был Чарыш, синий и прозрачный до дна. Дикой силой, несказанной красотой дышала вокруг меня первобытная природа, рождая в душе тысячу мыслей, видений и безотчетных чувств.
Но всё-таки главным в тот тихий вечер оставалась тишина. Особенная какая-то тишина: слишком уж беззвучная и, может быть, потому — тягостная.
Теперь уж и мне чудился в ней какой-то легкий призрачный звон. Казалось, звенит воздух. И не раз я ловил себя на желании остановиться, вслушаться, понять этот звук. Но уже начинало темнеть, мне надо было торопиться.
В одном месте путь преграждал бом — скала, нависшая над рекой. На бом пришлось взбираться крутой и скользкой тропой, ежеминутно рискуя поскользнуться и скатиться в реку. В других местах надо было хорошо видеть перед собой дорогу, чтобы не сорваться с кручи.
Уже в темноте я миновал расположенную на том берегу деревню Чечулиху. Час был не поздний, и меня удивило, что ни в одном окне нет света.
«Тоже, видно, «Ее» ждут, — подумал я. — Боятся, что увидит да «накатит» на них, — опрокинет огонь, наделает пожар».
Тем приятнее мне было заметить далеко впереди, в стороне, и, казалось, высоко-высоко на темной туче веселый красный огонек — верно, чей-то большой костер на вершине горы. Как раз в ту сторону — к Коргонским белкам[40] — лежал мой путь.
Я решил:
— Пусть этот огонек будет моим маяком.
Часа через полтора я проехал словно вымершей деревней Коргон: тут тоже не было огней и ни души на улице.
Реку Коргон — бурный приток Чарыша — мне пришлось переезжать уже при луне. Брод здесь серьезный: сильный поток тащит по дну «булки» — камни, обточенные водой и трением о грунт. Может ударить «булкой» коня по ногам. А стоит коню оступиться — стремнина подхватит его, закрутит вместе с всадником и выкинет два размозженных о камни трупа в глубокий Чарыш.
Воронко благополучно перешел реку.
На том берегу я соскочил с седла — поправить тюк. Тут меня поразило, что густая трава, так обильно всегда по ночам обдающая путника холодной росой, сегодня была совершенно суха.
Но и это не заставило меня догадаться о близкой опасности.
А в воздухе уже звенело и пело, как в морской раковине, когда приложишь к ней ухо.
Дальше мой путь сворачивал с хорошо проторенной дороги и удалялся на юг от Чарыша. Я въехал в узкое ущелье между горами, в одно из тех диких ущелий, которые ойроты зовут «аю кепчас» — «медведь не пройдет».
Но тут была знакомая мне тропа, проложенная звероловами. Глубокая тень от гор лежала в ущелье, а я подвигался вперед уверенно и довольно быстро. Огонек впереди на горе то показывался, то скрывался из глаз, мигая мне, как настоящий маяк.
В этом глухом ущелье на днях, только ночью, чуть не оглушили меня своим криком филины. Тут их было несколько. Один закричал, ему откликнулись другие, эхо в скалах перехватило их крик, — и всё ущелье наполнилось адскими голосами. Жуткий был концерт!
Но сегодня даже эти духи ночи — даже филины молчали.
Ущелье кончалось не очень высоким, крутым перевалом. Я слез с Воронка и повел его в поводу.
Когда мы одолели высоту, перед нами открылась большая елань, вся залитая лунным светом. Трава здесь была скошена, стояли стога.
И вот тут-то мне и пришлось испытать то, к чему я — по собственной вине — совсем не был подготовлен.
Я спокойно стоял, отдыхая и любуясь прекрасным ночным пейзажем.
Вдруг Воронко как-то дико подпрыгнул всеми четырьмя ногами, вырвал у меня из рук повод и в карьер помчался через елань в тайгу.
Сейчас же и я, еще ничего не видя, ничего не понимая, почувствовал какой-то безотчетный ужас. Еще не зная, откуда надвигается на меня опасность, что грозит мне, я поспешно сорвал через плечо свою двустволку.
Но стрелять было не в кого, и я беспомощно опустил ружье.
В эту минуту до меня донесся с белка отдаленный грохот ужасающей силы.
Я не знал, что это. На гром не было похоже. На обвал — тоже. Скорее грандиозный взрыв вдали. За ним послышался гул.
Приближение этого низкого, всё нарастающего звука было так страшно, что я бросился к ближайшему стогу: куда-нибудь укрыться от того неведомого, что невидимо неслось на меня с горы.
В один миг я, как мышь, зарылся в сено.
Гул приближался с ужасающей быстротой. Выглянув из своего прикрытия, я увидел: выше по горе над еланью, как трава от ветра, клонится высокая тайга. Шума ее не было слышно: он тонул в низком гуле, наполнившем всю вселенную.
Чудилось: кто-то огромный несется с белка по воздуху и поднятый им смертоносный вихрь сметает всё на своем пути. Но кто, кто, кто?
— «Она»! — вспомнилось мне, и у меня разом одеревенело всё тело, остановилось сердце. Я закрыл глаза.
И «Она» накатила.
Будто вселенная лопнула у меня над головой. Меня обладало чье-то могучее, жаркое дыхание, вдавило в землю — и я перестал чувствовать.
Я очнулся на голой земле под высокой спокойной луной.
Не сразу вспомнил, что со мной было. Да и было ли?
Может быть, всё это одно воображение? Может быть, есть такая болезнь, какое-нибудь внезапное, острое отравление мозга — молниеносный кошмар? Короткий миг фантастических видений — и вдруг спокойное пробуждение.
Но ведь в стог-то я зарылся.
Стога надо мной не было.
Я поднялся, осмотрелся.
Не было и других стогов; на елани валялось только разбросанное клочьями сено, темнели еще какие-то пятна. Тайга стояла спокойная.
Не было и коня.
Опять была тишина — и такая, что я подумал: уж не оглох ли я?
Я вскочил. Свистнул, боясь, что не услышу собственного свиста.
Сейчас же из тайги мне ответило знакомое ржанье.
Воронко примчался со сбитым набок, висевшим чуть не до земли тюком. Я так обрадовался коню, что схватил его голову обеими руками и крепко поцеловал в теплую пушистую губу.
Конь дрожал мелкой дрожью, косил глазами и пугливо жался ко мне.
Я уцелел. Но не один ли во всей вселенной — вот с этим верным другом — конем? А других всех людей «Она» могла уничтожить, сдуть с земного шара, как пушинки.
Я посмотрел на гору.
Там горел знакомый огонек — мой маяк. Но он как-то странно горел, неровно.
Помигал и погас.
Совсем погас.
«Просто — спать легли, — утешал я себя. — Потушили огонь и легли спать».
Мысли мои приходили в порядок. Я вспомнил, зачем сюда приехал.
Скала с одиноким кедром, где мы вчера ночевали, была уже недалеко и как раз над этой еланью. Подняться туда — какой-нибудь час.
Но я так ослабел от пережитого, что не мог продолжать путь. Решил: переночую где-нибудь на опушке тайги.
Воронко пошел за мной, как собака, «у ноги».
Не прошел я и полсотни шагов, как увидел впереди на земле большое темное пятно лежащего дерева.
Подойдя к нему, я убедился, что это — огромный старый кедр. Он был вырван из земли с корнями. Часть его толстых ветвей — та часть, которой он ударился оземь, — была поломана. Часть торчала вверх, как поднятые к небу могучие руки. На одной из этих веток темнело что-то круглое — вроде вороньего гнезда.
Я протянул руку и нащупал гладкую твердую кожу: сумка?
Расстегнув накрученный на сук ремень, я снял сумку и раскрыл ее.
Это была наша сумка. Все препаровочные инструменты были в ней целы.
Такой сюрприз плохо укладывался у меня в голове: уж не брежу ли я? Но это был очень приятный сюрприз: ведь мне не надо было больше никуда ехать, можно было отдохнуть и возвращаться к своим.
«…С доставкой на дом! — подумал я весело. — По отношению ко мне «Она», во всяком случае, изумительно любезна. Но какова силушка: вырвать из земли столетний кедр и швырнуть его на добрый километр — через тайгу — под гору!»
Я расседлал Воронка, пустил его пастись, а сам тут же, под ветвями поверженного кедра, завернулся в пальто и заснул, даже не вспомнив о еде.
Проснулся я, когда солнце встало уже над горами.
Мир был совсем другим. В нем и помину не было вчерашней тишины. Со стороны белков дул сильный горячий ветер, тайга шумела.
Пережитое ночью казалось сном. Я готов был смеяться над собой: и чего испугался, как маленький! Просто внезапный сильный порыв ветра, шквал этак баллов на десять — двенадцать.
Что ему стоит сдуть стог сена и сбросить дерево со скалы? Ураган, бывает, крыши с домов срывает и уносит, дома валит.
Удивительно приятно было чувствовать, что в мире всё так добротно, прочно устроено. Эта гора, на которой я сижу: никакими силами ее не своротишь с места. В свете ясного утра всё так нерушимо, крепко-телесно: могучий ствол кедра, на который я оперся спиной, камни скал, жирные лишайники на них, упругие травинки.
Даже у ветра откуда-то взялась невидимая плоть. Он так и напирает на лицо, на грудь — будто резиновый.
А здоровый же ветер! Надо ехать, покуда он не перешел в бурю.
Свистнув коня и поделившись с ним хлебом, я приторочил к седлу пальто и сумку и тронулся в путь. Когда начался спуск, тайга уже гудела.
Я благополучно выехал на торную дорогу. Ветер уже превратился в ураган, рвал и метал. Он сдувал в пропасть бегущие по крутым склонам, вздувшиеся ручьи, превращал в пыль летящую воду. Тайга стонала. То и дело в глубине ее слышался треск падающих деревьев.
Даже в глубине долины — под защитой гор — было трудно дышать. Раскаленный вихрь минутами совсем запирал дыхание.
Уверенность в прочности мира опять покинула меня. Всё лезло в голову: «А что наделала внизу «Она», такая милостивая ко мне? Не сбросила ли в реку моих спутников, вещую девушку-ойротку?»
В деревне Коргон я получил первые тревожные вести. Знакомый старик-зверолов рассказал, что ночью «верховка» наделала беды. Только что с белка прибежал парнишка. Он спасся случайно. Четверо взрослых мужиков, бывших с ним, погибли: снежный буран разметал и загасил их костер, люди заблудились и замерзли в снегу.
Я вспомнил свой «маяк». Но в голове не укладывалась мысль о стуже, летящем снеге, о сугробах снега там — на вершинах: тут, в долине, под одеждой у меня струился пот.
Я погнал коня.
Дорогу местами заграждали мне поломанные ураганом деревья. На причудливые каменные фигуры скалистого гребня за рекой, дальше по которой был наш лагерь, я старался не глядеть; теперь они вызывали во мне настоящий страх. Я не был уверен, что крылатый лев не отделится вдруг от скалы и не кинется на меня.
Сказочное окончательно спуталось в моем мозгу с реальным. И с каждой минутой росла тревога за своих — там, в лагере. Представлялись их трупы, размозженные о камни.
Я всё погонял Воронка.
И только уже подъезжая таежной тропкой к самому лагерю, вдруг резко осадил коня.
Мне совершенно отчетливо послышался тонкий звон призрачных колокольчиков. Я слышал, ясно слышал их сквозь шум тайги и ветра!
«Колокола звонят — быть празднику», — вспомнил я слова ойротки. Она предчувствовала свою гибель — теперь я был в этом уверен. У меня сжалось сердце. Тянулись мучительные минуты.
Воронко заржал.
Из-за поворота тропы вышла ойротка, она — наша проводница!
Вплетенные в ее длинные черные косы, теперь откинутые на спину, звенели маленькие серебряные колокольчики: таков обычай у дев Алтая.
Увидев ее, я махом слетел с коня.
Увидев меня, она покраснела. И как это показалось мне удивительно, чудесно, что казавшиеся каменными щеки могут розоветь!
В лагере всё оказалось благополучно.
Многомудрый наш гидролог-метеоролог, холодный, как термометр, подробно объяснил мне причины горного урагана. В общем, дело сводилось к тому, что по ту сторону белков было почему-то повышенное давление, по эту — пониженное. Сперва — ночью — воздух отдельной волной перехлестнул через хребет. Это — как выстрел. Потом, утром — пошел хлестать всей массой, целым потоком. На снежной высоте он разразился снежным бураном, а упав вниз, в долину, сжался, стал плотным, телесным — и раскалился.
Ученый начальник наш назвал это явление «феном».
Коргонский зверолов — просто «верховкой».
Дева Алтая назвала таинственно: «Она».
«Верховка» ли, «Она» ли, «фён» ли, но поистине грозно оно — это удивительное атмосферное событие высокогорных стран. И у того, кто хоть раз в жизни лицом к лицу встретил такой бешеный порыв стихии, в другой раз дрожь вызовут предупреждающие слова: «Колокола звонят — быть празднику».
Но она-то, она — простая девушка-ойротка — заранее знала то, чего не мог предугадать даже мудрый, как термометр, гидролог-метеоролог! Она предчувствовала взрыв стихии всем своим телом и — сама стихия — вслушивалась в зловещую тишину и понимала ее.
Как хотите, но такие люди приводят меня в восхищение.
1946 г.
НЕСЛЫШИМКА (рассказ старого ученого)
ИЗ АНКЕТЫ:
Вопрос: Сильно выраженные духовные особенности, сказавшиеся в научном успехе?
Ответ: Настойчивость и большая любознательность в отношении фактов и их значения. Некоторая склонность к новому и чудесному.
Чарлз ДарвинРаз уж зашла речь о тишине, позвольте и мне, старику, рассказать о ней кой-что.
Конфузная для меня вышла история, надо признаться. Курьезный казус. И, главное, кто сконфузил-то меня — ученого, старого специалиста? Собственная внучка, ребенок. А всё потому, что мы… Ну, да об этом после. Доложу вам по порядку.
Четвертое лето уже мы проводили в одной деревне Мошенского района Новгородской области. Я — орнитолог[41] и, конечно, в такой срок детально изучил весь видовой состав гнездящихся в окрестностях птиц. Написал даже о них небольшую работу и как раз в эту весну сдал в печать, считая ее вполне законченной.
Приехали мы тот год в деревню в конце мая. Внучка нередко сопровождала меня на прогулках. Она у меня лес и животных всяких очень любит. Ну, а я, конечно, исподволь и занимался с нею тем, что называю «включением слуха и зрения на птицу в природе».
Все мы, знаете, не видим и не слышим очень много из того, что нас окружает. А когда человек специализируется на чем-нибудь, он прежде всего начинает замечать то, что относится к его специальности. Так, штурман — водитель кораблей — очень внимательно смотрит на звезды и, так сказать, «читает» их, потому что привык ориентироваться по ним. Летчик слушает и тонко понимает шум мотора, который нас часто только раздражает, когда мы слышим его у себя над головой. А художник в свете и цвете видит такое, что совершенно ускользает от нашего поверхностного взгляда и даже кажется нам неправдоподобным, будучи изображено кистью на полотне или на бумаге.
Орнитолог, конечно, видит и слышит везде прежде всего птиц. Я вот, например, могу идти с вами и разговаривать, хоть в лесу, хоть в городе, — вы ничего не заметите, а я про себя невольно отмечаю: вот синица пискнула, мелькнули в чаще голубые перья на крыле сойки или крикнул, пролетая над крышами, грач.
Я обращал внимание внучки на птиц, на их крик, песни, полет. Она у меня уже хорошо различала по голосам десятка два певчих птиц. Но, конечно, с ее крошечным опытом не могла еще знать всех встречавшихся нам птиц, как знал их я. Поэтому меня очень насмешило, когда раз в самом начале лета она прибегает из лесу и говорит:
— Дедушка, а ты знаешь птичку-неслышимку? Ты почему мне ее никогда не показывал?
— Постой, постой, — говорю. — Что это еще за неслышимка? Опять сама придумала, вроде Зумзика и Момика?
Она у нас фантазерка. Недавно ее мать рассказывала: играет девчурка одна в саду, а всё, слышно, с кем-то разговаривает — то с каким-то Момиком, то с каким-то Зумзиком. Мать спросила ее, с кем это она. Девчурка только рукой махнула: «Ты не понимаешь! Такие у меня живут здесь — Момик и Зумзик. Мне с ними весело».
И сколько ни расспрашивала мать, так и не могла добиться, что это у нее за невидимки такие — не то человечки, не то зверюшки какие-то фантастические.
На мои слова внучка даже рассердилась:
— Ничего я, — говорит, — не сама придумала! Просто глазами видела. Сидит такая горбатенькая птичка на дереве, на верхней ветке, сама ротик разевает, и горлышко у нее трепещется, а всё равно ничего не слышно, никакой песенки.
Я уж, чтобы не обидеть девчурку, сделал вид, что поверил ей. Спрашиваю:
— Где же это ты видела ее?
— На ручье, на пожне у самой опушки леса. Знаешь, где ты всегда покурить на пенек садишься, когда мы из лесу выходим?
— Интересно, — говорю, — В следующий раз пойдем, ты мне ее покажи.
— А она не улетит?
— Нет, ведь сейчас все птицы при гнездах. Раз тут поет, тут и будет.
В лес я пошел на следующий же день. О фантастической «неслышимке», конечно, забыл уже. А внучки со мной не было: она пошла с матерью в другое место — нарвать букет купальниц.
Уже я возвращался домой, когда мой слух поразила неожиданно наступившая в лесу тишина: одна за другой перестали петь птицы. Через две — три минуты я понял причину: вдруг потемнело, налетел сильный, шквал, и почти сейчас же хлынул дождь.
Как это часто бывает в начале лета, он продолжался всего несколько минут. Но шуму наделал много. Когда я вышел из лесу на пожню — так здесь называют заливные луга, — я был поражен контрастом между полной тишиной этого открытого места и шумом леса. Шум позади меня и тишина впереди были сами по себе, и четкой границей между ними стояла стена леса. Птицы еще не начали петь ни на пожне, ни в лесу, ветер еще не улегся, мотал ветви деревьев и сбрасывал с них обильные брызги; они падали на нижние ветви, с ветвей — на землю.
Одним словом, в лесу была бурная звонкая капель; казалось, там всё еще шел дождь. А на пожне капель не могла быть заметна, потому что тут росли только отдельные деревья, открытые ветру, и ветер уже стряхнул с них последние капли дождя.
По своему обычаю, я сел недалеко от ручья на пенек — выкурить папиросу. И при этом, конечно, вслушивался в тишину.
Тишина бывает разная. Тишину этого освеженного ливнем луга никак, разумеется, нельзя было назвать «мертвой» тишиной. Как почти всегда в природе — днем ли, ночью ли, — тишина вся полнилась незаметными нашему слуху маленькими звуками. Она, можно даже сказать, вся состояла из этих почти неуловимых звуков: легкого шелеста травы, шороха пробегающих в кочках мышей — шум, доступный разве только ушам совы, — звона падения с листьев отдельных капель, тихого пения ручейка. Я даже явственно различал где-то слева от себя стрекотание кузнечиков. Однако и этот звук — наиболее определенный из всех других — нисколько не нарушал тишины, как нарушила бы ее звонкая песня зяблика, или скрип телеги, или крик человека. Он был лишь фоном, аккомпанементом в этом, если дозволительно так выразиться, богатейшем немом оркестре луга.
Мне даже взгрустнулось немножко. О том думалось, что вот я уже старик. Сижу тут и вслушиваюсь в эту прекрасную тишину. И всю ее, так сказать, насквозь умом понимаю. Запой сейчас любая птица, пискни в траве — тонко, как ножом по стеклу, — землеройка, я и эти все звуки узнаю, объясню себе. А вот для ребенка сколько тут неизвестного, сколько всяких чудес! Пригрезились же моей внучке и Момик, и Зумзик, и эта смешная «неслышимка». И хорошо ей, девчурке, весело с ними, и сейчас, вот сейчас может случиться с ней и вокруг нее что-то совсем удивительное, настоящее диво.
Замечательное это ощущение, прекрасное состояние души. И, право, досадно, если оно глохнет у человека с возрастом, с личным жизненным опытом и усвоением науки — итога жизненного опыта, знаний всего человечества. Нет, знание никогда не должно убивать в человеке веру в то, что сегодня кажется нам тайной, дивом, а завтра будет всеми признано и объяснено!
Не помню, как дальше скакнули, разбежались и вдруг опять соединились мои мысли, так спокойно тянувшиеся до этого момента.
Помню только — на опушке дробно, громко затрещал всполошенный чем-то певчий дрозд. Беспокоясь, дрозды всегда так отчаянно кричат, точно их уже схватили за хвост.
Протрещал и смолк. И от этого сильного звука еще тише показалось на пожне. И еще отчетливей в тишине зазвучал оркестрик кузнечиков — всё где-то слева от меня.
И тут вдруг пришло мне в голову: «Но ведь это же абсурд! Какие же кузнечики в самом начале лета, когда еще цветут купальницы! Кузнечики у нас начинают трещать только в июле».
Я так резко повернулся налево, что даже выронил папиросу из рук.
Так всё и было, как рассказывала моя внучка: там, над ручьем, на вершине ольхи сидела горбатенькая птичка. Она разевала клюв, и перья на раздутом горлышке у нее трепетали, а песни не было слышно. Только громко стрекотали кузнечики.
Вероятно, я своим резким движением испугал немного певца: он исчез, камешком свалился с ветки. И в тот же миг оборвалось стрекотание кузнечиков.
Ну, мне-то, конечно, было достаточно и одного этого мгновения, чтобы узнать птичку: и фигурка ее горбиком, и характернейшая повадка — в случае тревоги камешком падать в траву с того высокого места, где она сидит, распевая, — и, разумеется, самая ее эта оригинальная песенка, трель, почти неотличимая от стрекотанья крупных кузнечиков, — всё разом сказало мне, что это был обыкновенный сверчок, камышевка-сверчок.
Скажете — пустяки? Нет, совсем не пустяки! Вы только подумайте: три года слушал я тут птиц, написал, казалось мне, исчерпывающую работу о них, а вот эту птичку как-то совсем упустил из виду. Не ждал — уж не помню, по каким тогда своим соображениям, — не ожидал ее тут встретить. И много раз, конечно, слушал с этого же самого пенечка ее песню — и не слышал. Невдомек мне было. А как услышал вот тут в первый раз ее, так и в других местах кругом стал слышать сверчков: их оказалось в окрестностях нашей деревни немало.
Пришлось спешно взять из печати мою работу и дополнить ее еще одним гнездящимся видом.
Нет не видим, не слышим ведь мы того, о чем не думаем! Очень многого не слышим.
И спасибо внучке, что мне помогла. Я ей включал слух на известное. А она мне включила слух на неизвестное и, казалось мне, немыслимое: на какую-то «неслышимку».
И правда оказалась на ее стороне, на стороне ребенка.
1946 г.
СЕКРЕТ АРШАКА
Никто из охотников не мог разгадать секрета Аршака, а санаториям и домам отдыха маленького кавказского городка-курорта не было никакого дела до охотничьих секретов.
Когда заведующие этими учреждениями желали угостить какого-нибудь знатного гостя отменным местным блюдом, они просто обращались к Аршаку, — к одному только Аршаку из многочисленных городских охотников, — и тут же давали распоряжение шоферу подать завтра машину в горы, туда, куда назначит Аршак. Настолько они были уверены, что, раз Аршак обещал, — будет сделано. И действительно, не было случая, чтобы Аршак не добыл к сроку заказанного ему зверя, будь то кабан, серна или даже медведь. Аршак ходил в горы за зверем, как повар в свою кладовую.
— Чем он берет? — гадали охотники.
Правда, Аршак был местным уроженцем. И дед и отец его промышляли зверя. Аршак с малых лет ходил за ними в горы и знал много звериных троп, излюбленных зверями лазов и переходов, жировок и водопоев, дневных и ночных, летних и зимних убежищ разных зверей.
Но были ведь и другие звероловы-следопыты, особенно из стариков, нисколько не уступавших ему в этом знании.
А зорким глазом, меткой стрельбой или особенным каким-нибудь ружьем Аршак никак уже похвастать перед другими охотниками не мог. Он не был даже профессиональным звероловом, как его отец и дед. Его скорее можно было назвать охотником-любителем; он переменил в жизни много профессий, — был шофером пассажирских автобусов на линии Сочи — Сухуми, ходил в море на моторке бить дельфинов, был монтером, потом электротехником и последние годы работал в механической мастерской и увлекался изобретательством каких-то никому не понятных приборов. Ружье, с которым охотился, он своими руками собрал из бросовых старинных штуцеров..[42] Тут же, в мастерской он и глаза себе попортил: налаживая электрический фонарь огромной силы, чуть не ослеп; с тех пор и стрелять стал неважно. На охоту Аршак ходил теперь только с субботы на воскресенье, если не было спешного заказа на дичь из какого-нибудь санатория.
Охотники, разумеется, сто раз пытались выведать у него секрет его неизменных успехов, заставить его проговориться, как взял он того или другого зверя. Но Аршак язык за зубами держал крепко.
Всех больше приставал к нему один горец — старик Ахмет.
— Скажи, джан, скажи, милый человек, — упрашивал Ахмет. — Ничего для тебя не пожалею!
— А мне ничего от тебя и не надо! — говорил, смеясь, Аршак.
Наконец дошло до того, что трое молодых горячих охотников пристали к нему, что называется с ножом к горлу.
— Это только у капиталистов так заведено, — кричали они, — чтобы хранить «секрет изобретателей»! У нас все изобретения, все секреты всем на пользу, всему государству, а не то — зажал в кулак, сам ловит, а другим — ничего!
Побледнел Аршак при этих словах, как известка.
— Это я-то, — спросил он сдавленным голосом, — много я зверей бью?
Горячие головы немного поостыли: тут только смекнули, что Аршак со своим секретом мог бы сколько хочет убивать и продавать зверей, а почему-то не делает этого.
— Нешто мы про тебя? — заговорили охотники примирительно. — Мы к примеру, как у капиталистов. У них — одному в карман, а у нас — всем гражданам.
— Вот то-то, что «гражданам», — всё так же тихо, внушительно сказал Аршак. — Понимать надо слово-то это — «граждане».
Помолчав, начал задумчиво, вроде как про себя:
— Вот, значит, придумал я, как зверей бить безотказно, без лишних забот. И скажу я этот свой секрет всем и каждому. А могу я поручиться, что с тем моим изобретением дорогие наши охотнички зараз всего зверя кругом не прикончат, а?
— Ты, что ли? — Аршак в упор вдруг уставился в глаза одному из молодых охотников. — Ты мне в этом за себя и за всех других расписку дашь?
— Или ты? — перенес он свой тяжелый, пристальный взгляд на другого.
— Или ты? — уперся в третьего.
И, один за другим, все трое молодых охотников поспешили отвернуться и скрыть свои глаза. Каждый сердито думал про себя одно и то же: «Чего он на меня-то? Нашел дурака одному за всех отвечать! Если б, конечно, одному мне этот секрет, — я бы, может быть, еще как-нибудь и того… подсократился бы всех-то зверей кончать. А как другие начнут почем зря хлестать-глушить, так… С ними разве сговоришь?»
А всё-таки у каждого в душе кошки скребли: как будто и не того… не очень это гражданские-то чувства.
Выходило, прав Аршак: всем такого секрета нельзя выдавать. Большой вред государству может быть.
— То-то вот, — мирно заключил Аршак. — Первым-то делом, товарищи-граждане, надо нам решить, как зверя от поголовного истребления спасти. Как с самим собой каждому совладать. В нашем государстве никто тебе опасного секрета не выдаст, без полной гарантии, что ты его во вред другим не употребишь. Понятно теперь?
Совсем остыли горячие головы, и молодые охотники признали, что секрет Аршака — опасный секрет. Сами тут же и пример привели: вспомнили горца Ахмета. До чего жадный старик! Никаких сроков не признает, запрета не соблюдает, когда никаких зверей трогать не положено. Маток, детенышей почем зря бьет, никакой жалости не знает. Давно бы в тюрьму его надо. Только ловок больно концы в воду прятать. Этот узнает верный способ зверя бить, — всех перебьет, ясно!
На том и разошлись. И не подозревали молодые охотники, что Ахмет давно уже задумал недоброе.
Жадный и завистливый старик решил любой ценой дознаться секрета Аршака.
Уже несколько дней, как Ахмет спустился с гор и неотступно следил за Аршаком.
Настала суббота. Во второй половине дня Аршак вышел из калитки своего садика, с ружьем на плече и рюкзаком за спиной, направился в горы. Издали за ним незаметно последовал высокий старик в бурке, из-под полы которой торчал узкий ствол винтовки.
Думая о сохранении своего секрета, Аршак давно взял привычку неожиданно оборачиваться на ходу: не идет ли кто сзади, не подсматривают ли за ним? Но Аршак был близорук, а старый горец был опытным следопытом-разведчиком: держался на расстоянии, умел в нужный момент, как тень, исчезнуть за любым деревом или камнем, быстро перебежав открытое место. Аршак ничего не заметил. И старик проследил его в горах до тропы, по которой спускаются в долину стада кабанов для своих ночных набегов на кукурузные поля.
Убедившись, что Аршак засел тут в засаду, Ахмет поднялся выше по склону горы и устроился там между камней так, чтобы, когда рассветет, не упустить охотника из виду.
«Пока всё ясно, — думал старик: — Аршак рассчитывает застрелить здесь кабана в сумерках, когда стадо пойдет в горы, или утром, когда звери будут возвращаться. На этот раз, однако, он ошибся в расчете: небо в тучах, луна не выглянет, — кабаны пройдут туда и обратно под самым носом у него в полной темноте. Слышать-то он их услышит, а увидеть и стрелять такой ночью невозможно».
И Ахмет плотнее завернулся в бурку, готовясь пережидать долгую, сырую осеннюю ночь.
Настала непроглядная темнота. Старик задремал, прислонившись к камню.
Вдруг точно что-то полоснуло его по закрытым векам. Чуткий, как зверь, всегда настороженный старик припал за камень и открыл глаза.
Сам он находился в тени, но над головой у него тьму разрезал широкий луч такого нестерпимо-белого цвета, что от него ломило глаза, как ломит зубы от ледяной родниковой воды.
Немного выше по склону горы рос куст, и каждая веточка, каждый листок его, каждая жилка на листике были видны с необычайной отчетливостью. На одной из веток сидели, тесно прижавшись друг к другу, какие-то маленькие птички; длинные хвостики их спицами торчали по одну и по другую сторону ветки.
Одна из птичек открыла глаза, испуганно вспорхнула, — но сейчас же упала в траву с беспомощно раскинутыми крылышками, жалко мигая глазами.
Всё это длилось одно мгновение: белый луч скользнул вбок по горе, неожиданно взметнулся в небо, осветил там странно как-то клубившееся облако, перебежал вниз, на вершину соседней горы, — и вдруг погас.
Старик не сразу пришел в себя и долго сидел под камнем, неудобно скорчившись, не смея высунуться: вдруг Аршак снова пустит этот ужасный белый луч и увидит его, Ахмета, в засаде у себя над головой?
В том, что луч пускал Аршак, старик не сомневался: откуда же больше взяться в горах такому свету?
Не успел Ахмет собрать распуганные мысли, как луч опять возник в темноте, как раз там, где должен был находиться Аршак, ниже по горе. Старик опустился на колени и осторожно выглянул сбоку из-за камня.
Теперь луч был неподвижен. Он точно ножом вырезал из тьмы звериную тропу. На тропе застыло целое стадо кабанов. Ахмет как на картине рассматривал горбатые черные спины зверей, их будто обрубленные морды, белые граненые клыки секачей. Как пригвожденные, стояли звери, ни один не шелохнулся.
Четко стукнул выстрел — и стоявший впереди секач рухнул на колени.
Стадо всплеснулось. Звери вскидывали всем передом точно на глухую стену, задние наскакивали на передних, — быстро росла, громоздилась куча живых тел.
Внезапно свет погас.
И сейчас же в черной тьме раздался грохот, будто целая скала рушилась, послышался топот, громкое хрюканье, отчаянный визг, — и разом опять всё стихло.
Ахмет спрятался за камень и дрожал как в лихорадке.
Когда, наконец, к нему вернулась способность соображать, он всё понял.
Так вот в чем секрет Аршака! Он изобрел какую-то дьявольскую машину. Ее страшный белый свет мгновенно ослепляет зверя и делает его совершенно беспомощным. С этой лампой охотник в самую темную ночь может остановить на тропе целое стадо зверей, выбрать из них любого, настрелять их сколько ему вздумается. Может ночью бродить по горам, отыскивать зверей в их сокровенных убежищах. Может на всем бегу остановить оленя или горного козла, брызнув им в глаза этим адским светом, может без всякой опасности для себя войти в пещеру, где спит медведь, и зарезать его там простым ножом, как теленка. С этой лампой человек — полный владыка всех зверей в ночи.[43]
Ахмет добудет себе эту волшебную лампу!
Он один станет хозяином над всеми зверями.
Бесшумно, с тысячью предосторожностей Ахмет спустился по склону горы и подкрался к засаде Аршака.
Охотник безмятежно спал, раскинувшись под старой чинарой. У корней ее лежали очки с черными стеклами в резиновой оправе вроде противогаза. К стволу дерева был прислонен некрасивый штуцер Аршака, с прилаженным на его стволах странным аппаратом; он нисколько не напоминал лампу, скорее подзорную трубу. От этой трубы к шейке приклада шли два электрических провода и исчезли там в какой-то железной коробке с кнопками.
Но сейчас старику, некогда было рассматривать аппарат. Аршак, конечно, без сопротивления не отдаст своего изобретения. Тем хуже для него.
От кустов, за которыми притаился Ахмет, до спящего Аршака было всего лишь полсотни шагов. Старик выпростал из-под бурки винтовку, опустился на одно колено, послал пулю в ствол…
Сухо щелкнул затвор — и этот привычный каждому охотнику негромкий звук громовым раскатом отдался в ушах. Старик замер, прислушиваясь.
Кажется, ничего… Только кровь молотками стучит в виски.
Ахмет бесшумно просунул — ствол винтовки сквозь ветви, поднимаясь с колена, прижал к плечу приклад, осторожно выглянул из-за куста — и, вдруг сморщив лицо от боли, поспешно захлопнул веки: нестерпимо белый свет полоснул его по глазам.
Старик упал на колени — и сейчас же услышал приближающиеся шаги и резкий голос:
— Брось ружье!
Даже сквозь закрытые веки Ахмет чувствовал на своих глазах страшный луч — и не смел открыть глаз. Поняв, что сопротивление бесполезно, старик выронил из рук винтовку и поспешно прикрыл ладонью глаза.
— Так-то лучше, — услыхал он теперь уже спокойный голос Аршака совсем рядом с собой.
Аршак подошел к нему, левой рукой поднял с земли винтовку, — в правой он держал впереди себя свой штуцер с прожектором, — вскинул винтовку на плечо, повернулся, отошел шагов на десять и тут только потушил прожектор.
Тогда, снова повернувшись к Ахмету, он сказал:
— Труха у тебя в голове, старик. На какое дело решился! А что бы взял? Ведь ты всё равно не мог бы воспользоваться моим изобретением. Ты не знаешь даже того, что изучают твои внуки в школе, понятия не имеешь об электричестве, о прожекторах, о тех науках, которые дают человеку власть над природой.
— Пощади! — простонал Ахмет, всё еще стоя на коленях и не решаясь отнять руки от глаз.
Аршак брезгливо окинул взглядом жалкую фигуру.
— Сгинь с моих глаз!
Ахмет вскочил на ноги — и исчез в кустах, как тень.
Секрет Аршака перестал быть секретом, — но только наполовину. Скоро всем стало известно, что Аршак бьет зверей ночью, что к ружью у него приспособлен какой-то особенный прожектор. Но как этот прожектор действует, какими лучами ослепляет и делает совершенно беспомощными даже больших, опасных человеку зверей, — это осталось тайной.
Ахмет с того дня куда-то бесследно исчез.
А молодые охотники — все друзья Аршака — часто теперь собираются у него и горячо обсуждают вопросы надежной охраны природы, для того недалекого времени, когда в охотничьем деле будет широко применена техника Аршака.
1949 г.
РАЗРЫВНЫЕ ПУЛИ ПРОФЕССОРА ГОРЛИНКО
Рассветало. Зенита вышла на крыльцо домика, где вот уже месяц жила с товарищами по экспедиции.
Тайга еще дышала ночной прохладой, была полна дремучих снов. Вдали, отороченные слепящим золотом, то вставали из густого тумана белки, то прятались в нем, и казалось, — менялись местами.
Шум мотора привлек внимание Зениты. Внизу по тракту ползла в гору мощная пятитонка.
«Трудно ей карабкаться», — подумала Зенита. Вспомнилась местная шутливая поговорка: «Семь верст до небес — и всё лесом».
Из-под сдвоенных задних колес машины летели переломленные сучья, песок, камешки; мотор рычал и фыркал.
«Сердится, — улыбаясь думала Зенита. — Отчего это пожилые, хорошо объезженные машины так похожи на животных?»
В это чудесное утро всё на свете казалось ей живым, одухотворенным — и горы, и тайга, и клубящийся в падях туман.
Вот солнечный свет прорвался, наконец, где-то между гор, потоком хлынул вниз, в глубокую долину. И там, внизу, влажным пламенем вдруг заполыхал луч, сплошь заросший огоньками — цветами жаркового, как говорят на Алтае, цвета — цвета пылающих угольков.
Машина, затихнув было за поворотом дороги, вдруг с шумом и скрипом выбежала из леса.
В кабине рядом с шофером, осанисто сложив на груди руки, сидела пожилая женщина в больших черных очках, во френче защитного цвета — прямая и строгая, В кузове вплотную друг к другу стояло несколько клеток, а позади них, свесив ноги, сидели двое бородатых и один безбородый — все с ружьями в руках. Безбородый пристально уставился на Зениту.
Вдруг он сорвал с головы синий беретик, весело помахал им Зените и крикнул:
— Привет из Ленинграда!
Зенита с трудом заставила себя ответить ему холодным кивком.
При виде женщины в военной форме и ружей в руках молодых людей ее радостное настроение мгновенно изменилось.
Машина давно прокатила, зарылась в тайгу выше по горе, а Зенита всё еще стояла, горестно опустив голову на грудь.
«…Ленинградцы, — думала она. — Верно, наша университетская экспедиция зоологов. Сколько прекрасных зверей и птиц перебьют!..»
Зенита с детства страстно любила их живыми, полными сил и жизнерадостности.
Еще юннаткой, у себя в ленинградском кружке, училась ходить за ними, могла часами играть с ними.
Животные платили ей горячей привязанностью. Медвежата встречали ее веселым ревом, старая злая волчица ей одной позволяла входить в свою клетку, ленивый барсук и смешной голенастый журавленок всюду бегали за ней следом и нападали на всякого, кого подозревали в намерении обидеть ее.
Грянула война. И случилось так, что первыми жертвами ее оказались животные: фашистская бомба попала в живой уголок и у нее на глазах в клочья разорвала всех любимцев.
Ужас и первое в жизни горе обрушилось на Зениту.
Со множеством других ребят ее поспешно эвакуировали в глубокий тыл, куда не доносился грохот войны. Но всё, что его напоминало — гроза, выстрелы из охотничьих ружей, — вызывало у нее нервный припадок.
Прошла война. Зенита вернулась в Ленинград, кончила там школу. По-прежнему горячо любя природу, пошла на биофак, но специальностью избрала не зоологию: ведь изучающие животных часто вынуждены для этого убивать их. Решила стать ботаником. И тут, на Алтае, была в первой своей экспедиции.
Шум мотора заглох вдали за горой. Зенита тряхнула головой так, что ее золотистые волосы рассыпались по плечам.
«Глупые сантименты! Пора взять себя в руки». — И пошла будить товарищей.
День выдался безветренный, жаркий. Сырая, парная духота была в черни.
Чернью, черневой тайгой, называют на Алтае сумрачный нижний ярус густого смешанного леса, выше в горах сменяющегося борами: чистым пихтачем, ельником, кедрачем.
В черни всё смешалось и буйно растет в тесноте и давке: корявые лиственницы с гигантскими осинами, темные шатры елей с кружевным пологом рябин, стройные пихты с могучими кедрами и белоствольными березами. На земле гниют огромные стволы павших от старости великанов, скрытых от глаз густой, жадной до влаги и тепла порослью молодняка, перистой чащей папоротников, мхами, лишайниками. А там, где пошире расступились деревья, где свет, — там глушит их молодую поросль сказочное большетравье — непроходимые, выше человеческого роста травы. Чернь — приют множества птиц и зверей и мириадов кровопийц: комаров, москитов, мошек и прочего гнуса.
К полудню, измученная, с распухшими от бесчисленных уколов лицом и руками, Зенита выбралась из черни в неширокую долину быстрой горной речушки, пробралась к ней сквозь густой сальник и в изнеможении села на камень.
Благодатная прохлада!
Веселая речушка бежала с белка, мчала с него студеную воду подтаявшего ледника. И даже сейчас, в знойный полдень, ток прохладного воздуха высот струился с горы в тенистую долинку. Зенита раздвинула перед собой ветки, чтобы дать ему обвеять свое разгоряченное лицо.
Так сидела она долго, не шевелясь, вся отдаваясь блаженному чувству покоя и отдыха.
…Ни сучок нигде не треснул, ни листва не зашелестела, — только вдруг почувствовала Зенита, что она не одна здесь. Страха при этом она не испытала, но тайный инстинкт сковал всё ее тело, заставил остаться неподвижной, чтобы не выдать себя. Напряженно всматривалась в ближайшие кусты выше по течению, почему-то уверенная, что таинственное существо, присутствие которого она так отчетливо ощущала, находилось именно тут.
Первое, что она увидела, были глаза.
Большие, продолговатые, сверху и снизу отороченные изумительно длинными ресницами, темно-карие глаза внимательно смотрели на нее из оливковой листвы.
Они не могли быть глазами человека: они были слишком велики для этого. И взгляд их, такой настороженно-внимательный, был всё же не человеческий взгляд, — хотя Зенита и не могла дать себе отчета, чем он отличается от взгляда человека. Глаза эти видели, но видели не так, как видела она, Зенита, человек. Казалось, они видят что-то позади нее, сквозь нее, не отдавая себе отчета в том, что она тут — перед ними.
«Глаза леса!» — вдруг подумалось Зените. И эта мысль обрадовала ее, как неожиданное открытие.
Взгляд их, между тем, медленно перешел с нее на ту сторону речушки, — и на блестящей, чуть влажной поверхности глаз отразилось бездонное небо и темная тайга гор.
Но вот над глазами выдвинулись острые, беловатые на концах, костяные отростки, постепенно появилась в листве вся длинная, с черным носом и широким лбом, сухая голова зверя. За глазными отростками показались похожие на цветы, будто тонкими ресничками внутри заросшие уши, над ними высокие, гордо откинутые назад ветвистые рога. Ниже из листвы поднялась будто выточенная из какого-то драгоценного темного дерева согнутая нога — и застыла в воздухе.
Дух замер в груди у Зениты. Никогда, казалось ей, не видела она такого прекрасного существа — и так близко от себя.
Как зачарованная, Зенита медленно подняла руку — погладить крутую шею красавца.
Миг — и застывшая в воздухе точеная нога со стуком опустилась на прибрежный камень. Легко, как птица, взметнулось над речушкой большое стройное тело — и прекрасное видение исчезло.
С шумом и треском, уже невидимый в чаще, зверь достиг перевала невысокой горы на той стороне речушки. Всё смолкло.
Никому не рассказала Зенита про эту встречу с таинственным лесным зверем. Долго пела у нее в груди радость. К радости примешивалась легкая горечь. «Ах, почему все они так боятся нас — людей? Почему не дал погладить себя?»
Счастье тогда, казалось, было бы полным.
На следующий день Зенита слышала в горах несколько отдаленных выстрелов и каждый раз болезненно вздрагивала. А вечером, возвращаясь с экскурсии, еще издали увидела у крыльца своего домика знакомую пятитонку.
Шофер, лежа на спине под машиной, что-то чинил в ней. Пассажиры стояли на крыльце. Все они, даже пожилая женщина в черных очках, были с ружьями.
Зенита в волнении подошла к пятитонке. Борт машины был спущен. В узких клетках лежали убитые звери.
В первой от кабинки клетке лежал маленький пятнистый олешек — безрогий, с торчащими из-под верхней губы клыками и жалкими тонкими ножками.
Во второй клетке — такая же кабарга. В третьей — тяжелый горный баран с толстыми, широко разведенными рогами — аргали. А в четвертой… Сердце оборвалось в груди у Зениты.
В четвертой клетке лежал мертвый олень — великолепный олень-бык с ветвистыми рогами, такой точно, а может быть, даже тот самый зверь, которого Зенита вчера еще видела полным трепетной жизни и гордых сил. На лопатке передней ноги его бурой струйкой застыла кровь. Его голова была откинута назад. Прекрасные темные глаза были открыты и так же, как там, над горной речушкой, смотрели на Зениту. И на блестящей, чуть влажной роговице их, как в зеркале, отражалось бездонное небо, озаренное последними лучами солнца, и темная тайга гор — весь прекрасный мир.
— Зенита, здравствуйте!
Вздрогнув от неожиданности, она быстро обернулась, — перед ней стоял юноша в синем беретике, с ружьем за плечами.
— Откуда вы знаете мое имя?
— Не узнаете? Да ведь мы земляки, — с улыбкой сказал юноша. — И коллеги: на одном биофаке с вами. Встречались не раз. Только вы никакого внимания не обращали на меня. Моя фамилия…
— Оставьте ее при себе, — резко оборвала его Зенита. — Я и сейчас не чувствую ни малейшего желания знакомиться с вами.
— За что же так? — Привлекательное лицо юноши отразило недоумение, почти испуг. — Чем я провинился?
— Вот эта ваша работа, — Зенита гневно ткнула пальцем по направлению мертвых зверей, — меня не устраивает. Я — друг зверей.
Она круто повернулась и пошла к дому.
— Стойте, стойте! — закричал юноша. — А вы знаете, что мы стреляем их разрывными пулями…
— Тем хуже для вас! — не слушая дальше, кинула ему Зенита через плечо.
Внутри у нее всё кипело. Еще разрывными пулями!.. От них такие страшные рваные раны!..
На крыльце всё еще стояли приезжие.
Зенита обогнула угол дома и поспешно скрылась за кустами. Она никого не желала видеть.
Красавец-олень стоял перед ней как живой.
Через неделю ботаническая экспедиция была на пути домой. Остановились в степном городке, откуда начиналась железная дорога.
Багаж был сдан, билеты взяты. Оставалось переночевать, чтобы утром сесть в вагон прямого сообщения до Ленинграда.
Зенита шла по улице, поднимающейся на увал: оттуда видны были так пленившие ее горы. Ей хотелось еще раз проститься с ними издали.
— Товарищ Зенита!
Опять этот — в синем беретике!
— Скажите, — догоняя ее, решительно заговорил юноша. — Кто в конце концов дал вам право высказывать мне всяческое презрение, когда вы совершенно ничего не знаете ни о работе нашей экспедиции, ни обо мне лично?
— Знаю, — холодно ответила Зенита. — Вы убиваете зверей. Ради науки. Ну, а мне просто больно. Поняли?
— Я-то отлично понял! — Юноша вдруг улыбнулся. — Знаю даже, почему вы не пошли на зоологию. А вот если вы потрудитесь выслушать, что такое разрывные пули профессора Горлинко, то, может быть, бросите свою ботанику и перейдете к нам…
— Никогда! — запальчиво отрезала Зенита. — Даже если эти ваши пули убивают мгновенно, без мучений…
— Зенита! — перебил юноша. — Нельзя же так, право! Ну, я вас очень прошу, зайдемте к нам на базу, в экспедицию. Вон там, напротив. Там сами увидите, И клянусь вам: не раскаетесь, что потратили несколько минут.
— Увижу замечательные произведения искусства? Чучела убитых вами зверей? «Совсем как живые!» Извините, — не желаю.
— Ну, бросьте! Ну, зайдемте же! — так умоляюще говорил юноша, что Зените стало совестно. — Своими глазами увидите. Потом сами себя ругать будете, если не зайдете.
Зениту начало разбирать любопытство: что у них там такое, в самом деле?
— Ну, ладно! — сдалась она. — Но если вы…
— Клянусь! Клянусь! — весело закричал юноша. — Можете меня собственноручно расстрелять… Ой, нет! Ведь вы ненавидите ружья. Ну, так навеки пригвоздите меня к позорному столбу холодным своим презрением, если я доставлю вам хоть каплю горя!
Он уже перебежал улицу и распахнул калитку.
— Вот сюда. Прошу!
То, что увидела Зенита, войдя в глубину двора, заставило ее совершенно растеряться. Широко раскрытыми глазами смотрела она перед собой — и первый раз в жизни не верила своим глазам.
Во дворе, за деревянными перегородками, помещались те самые звери, бездыханные трупы которых лежали перед ней неделю назад в пятитонке.
Были тут два безрогих, клыкастых олешка — две кабарги. Был горный баран аргали с толстыми, красиво разведенными рогами. Был и ее великолепный ветвисторогий олень с большими, прекрасными глазами. И — чудо, чудо! — все они были живы и здоровы. Бодрый вид этих зверей ясно говорил о том, что они совсем неплохо чувствуют себя здесь.
Зенита смотрела на них во все глаза и никак не могла понять, — когда же она ошиблась? В тот раз, когда увидала этих зверей мертвыми, или сейчас, когда они вновь предстали перед ней живыми и здоровыми?
Рассудок твердил ей: «Мертвые не воскресают!» Глаза говорили ей: «Вот оно — чудо! Воскресли мертвые!»
Полная страха, что прекрасное видение сейчас исчезнет, как исчезло там, в горах, на речушке, медленно протянула руку за деревянную перегородку, в стойло, где стоял ее олень.
Великолепное животное, захрапев, откинуло на спину рога, скосило на нее вдруг налившийся кровью глаз, но тонкие пальцы Зениты уже погрузились в густой подшерсток, ощутили живое тепло, трепет напруженных мышц. И чтобы еще полнее и глубже почувствовать у себя под рукой это, всё еще казавшееся ей призраком, лесное существо, Зенита закрыла глаза и ласково, с материнской нежностью погладила крутую шею храпевшего от страха оленя.
— …Как в сказке! — задумчиво сказала Зенита, с трудом заставив себя отойти от клетки. — Но мне пора домой. По дороге вы всё объясните мне? Правда?
— Конечно! С удовольствием! — заторопился юноша, всё это время деликатно молчавший.
Он взял ее под руку, и товарищи ее по экспедиции, видевшие, как они шли по улице, решили, что она встретила здесь своего старого друга, — так просто и хорошо они разговаривали.
Объяснение это было недлинно.
— Всё дело… — начал юноша.
— Простите, — перебила Зенита. — А как вас зовут?
— Почти как вашего оленя: Олешком. Или, если всерьез, — Олегом.
— Всё дело, — продолжал он, — в замечательном изобретении нашего профессора Горлинко. Кстати: вы ее видели. Пожилая женщина во френче и черных очках. Та, что ездила с нами в горы.
В ее разрывных пулях заделана ампулка, герметически запаянная. Она содержит в себе от одного до пяти и семи десятых грамма сильнейшего снотворного вещества, жидкости. Кстати: впервые это вещество применила в качестве снотворного тоже она — профессор наш. Пули с малым количеством жидкости употребляются при стрельбе мелких животных, с большим — для крупных.
Попав в цель, пуля разрывается, не причиняя при этом большого вреда животному. Ампулка, конечно, лопается, и жидкость выливается в кровь зверя. Действие этого снадобья таково, что даже большой сильный зверь — олень, баран, даже медведь, — едва успев сделать несколько шагов, падает в сонном оцепенении, как током сраженный.
От нас зависит, сколько времени дать ему спать. Мы отвозим его на базу, помещаем в хорошую клетку — и тут впрыскиваем ему другой препарат, быстро возвращающий его к жизни.
Опыты показали, что действие обоих этих препаратов не только не причиняет животному вреда, но даже возбуждает в них усиленный аппетит и вообще повышенную жизнедеятельность. Вот и всё.
— Поразительное, неслыханное изобретение! — горячо начала Зенита. Но вдруг осеклась. Ее глаза, только что сиявшие радостью, подернулись грустью. — Не знаю… Может быть, это еще хуже…
— О чем это вы? — встревожился Олег.
— Просто я подумала, что лучше, — сразу отнять жизнь у зверя или взять его беспомощного, сонного в плен и отнять свободу? Обречь всю жизнь сидеть в тесной клетке…
— Ошибаетесь! — торжествуя воскликнул Олег. — Если мы лишаем зверей свободы, то очень ненадолго: лишь на столько времени, чтобы успеть перевезти их в заранее намеченные места. И там сейчас же возвращаем им свободу. Наша цель — акклиматизация и приручение полезных и красивых животных. Мы развезем их по всем местам, где многие из них давно уже выбиты, а другие никогда не жили, но где подходящие для них условия жизни: климат, ландшафт, корма. Из поколения в поколение мы будем переделывать их, у мирных зверей будем уничтожать древний страх перед человеком. Вы только вообразите себе, Зенита, милая, стадо красавцев-оленей, пасущееся где-нибудь на Валдае или в Комарово под самым Ленинградом! Безбоязненно подбегает к вам этакий горный рогач, идет, чтобы вы его угостили из своих рук кусочком сахара, ласково потрепали по холке…
— Олег! — прервала его Зенита. — Знаете что, Олег? Вы не можете… это… ну… простить мне, что я была с вами такая злюка? А, Олешек?
— Кажется, могу, — сказал Олег.
И они расхохотались.
1949 г.
ЧАЙКА НА ВЗМОРЬЕ
Когда станешь взрослым, не
презирай мечты твоей юности.
Испанская поговоркаРано утром, когда в дачном поселке все еще спали, на берег моря вышел человек с седеющими висками, с глубокими, но сияющими, как у ребенка, глазами. Широкополая шляпа едва ли могла бы удержаться на его непокорных волосах, если бы дул хоть небольшой ветер. Но был штиль.
Когда-то в детстве этот человек провел одно лето здесь — на взморье. Теперь он приехал издалека: ему пришла фантазия вновь посетить это памятное ему место.
Всё изменилось тут. Где были сосны да жалкие лачуги рыбаков, теперь рядами стояли нарядные дачи горожан, цвели сады. Лишь руководствуясь очертаниями берега, мог он узнать места, где купался, ловил пескарей, колюшек, играл с товарищами.
Да и его вся жизнь изменилась с тех пор до неузнаваемости. Чем он был тогда? Одиноким, обиженным судьбой мальчиком, А теперь?..
Но море — море осталось тем же. Лишь отмели на нем несколько переместились. И так же над ним летали белые чайки.
Чайки кричали.
Человек прислонился спиной к столбу, сложил на груди руки, закрыл глаза.
Чайки кричали.
Призрачный сон воспоминаний охватил человека…
Недалеко от берега на песчаной отмели стояли чайки. Белоперые свои тела держали горизонтально, точно плыли, но шеи вытянули вверх, клювы повернули все в одну сторону: туда, где, расширяясь, исчезают берега залива, где открывается безбрежное море.
На них, не отрываясь, смотрел мальчик. Он лежал на берегу под сосной, у небольшого обрывчика. Вихрастую голову положил на руку. Его задумчивые глаза были глубоки, темны — и казалось, удивляются всему, что видят перед собой.
Когда лежишь так и смотришь вдаль, мир кажется разрезанным пополам на плоское и выпуклое; и всё в нем становится как-то необыкновенно и удивительно.
Мальчик сам не знал, почему его взгляд притянули чайки. Потому ли, что пятно их блестящего белого оперения на золоте отмели было очень ярко и красиво? Потому ли, что эти красивые птицы всегда будили в нем неясные мечты, неопределенные желания?
Чайки стояли неподвижно, безмолвно, и в этой неподвижности, в безмолвии и в высоко поднятых тугих шеях птиц была большая серьезность, почти торжественность. Был час полуденной тишины, передышки, и ни одна из птиц не слетала покружиться над зеленой волной, высмотреть в ней рыбку.
Полдень был знойный. Расплавленный воздух струился над берегом, заставляя дрожать все очертания, и утомлял глаза. Маленькие плоские волны мелодично шипели, набегая на песок. Пахло тиной, морской пеной, сырыми пухлыми камышинами, которые выкинуло и оставило на берегу море.
Мальчик оторвал утомленный взгляд от чаек. Глаза его бесцельно стали блуждать по зеленой глади моря.
Шли три серокрылые лайбы. Далеко за ними — на фарватере, — густо дымя, медленно-медленно тащил три продолговатые баржи черный, как водяной жук, буксир. Навстречу ему стремительно несся плоский серый миноносец. Он далеко за собой повесил длинную полосу дыма.
Глаза мальчика разгорелись. С минуту он жадно следил за миноносцем. Потом горько вздохнул и отвел от него взгляд.
Вдруг одна из чаек подняла над спиной узкие с черными концами крылья. Держа их так, сделала два неловких шага к краю отмели и, ударив крыльями по воздуху, поднялась над водой…
Сейчас же все ее подруги повернули к ней головы и закричали резкими, хриплыми голосами — сначала протяжно, под конец — отрывисто, крутыми вскриками.
Никогда не мог мальчик спокойно слышать их громких, пронзительных криков.
Один раз ему всё-таки удалось побывать на настоящем морском судне. Да еще на каком — на военном! Волна перехлестывала через катер, на котором подъезжал мальчик, била в высокий стальной борт броненосца, а броненосец даже не покачивался. И низко над волнами и высоко над пушками и мачтами броненосца летали чайки. Уже вернувшись на берег, мальчик всё еще слышал их пронзительные крики.
Их крик иногда чудился ему даже в далеком от моря городке. От их крика сосало под ложечкой, хотелось куда-то бежать, хотелось чего-то необыкновенного.
Чайка сделала круг над отмелью и, выправив полет, направилась к чему-то темному, что покачивалось на пологих волнах между отмелью и берегом.
Мальчик вдруг сел. Глаза его расширились от изумления.
Темный предмет то исчезал, то снова показывался, поблескивая углами на солнце.
Мальчик хорошо разглядел его: это был медью по углам окованный сундучок — точь-в-точь такой, в каком рылся на броненосце матрос в кубрике.
Чайка снизилась и, вытянув ноги, аккуратно стала на край сундучка. И сложила крылья.
Опять раздался резкий, нестройный крик с отмели.
Но мальчик уже не слышал его.
Ночной океан в гигантских волнах качает отраженные звезды черных небес.
Океанский пароход от трюма до верхней палубы весь залит ярким светом. Но черное и грозное, с потушенными огнями подходит к нему пиратское судно.
— На абордаж! На абордаж!!.
Перебиты матросы, капитан связан и лежит на полу в своей каюте. Пассажиры поднимают руки под дулами пиратских ружей и револьверов.
По узкому трапу, перекинутому с борта на борт, пираты таскают награбленное добро. Трап скрипит, качается, уходит из-под ног.
Один из грабителей оступился. Вместе со своей тяжелой ношей — обитым медью сундучком — он летит в черный провал между пароходами. Отчаянный крик погибающего. Но в ответ ему гремят лишь проклятья пиратов: им некогда спасать товарища — еще много добра и золота осталось у пассажиров.
Пиратское судно скрылось во тьме.
Капитан развязан. Пассажиры притихли, подавленные страхом и несчастьем. Только один из них всё еще бушует.
Это — американский миллиардер. В простом матросском сундучке, — чтобы никто не заподозрил, — вез он половину своего огромного богатства.
Далеко позади плывет его сундучок.
Он поднимается на хребты гигантских волн, скользит в пропасти между ними. Его не замечают с проходящих вдали судов. Только чайки да альбатросы присаживаются на него отдохнуть, да раз об его медный угол разбилась падавшая обратно в море летучая рыба.
Из океана в океан, из моря в море, — и вот доплыл сундучок. Сейчас его прибьет к берегу.
В нем шуршащие кредитные билеты с бизонами — сто миллионов долларов. В нем алмазы, рубины, легкие жемчужные ожерелья и другие драгоценности.
О находке мальчика напечатают во всех газетах. На эти деньги родина построит много новых первоклассных военных судов. А в награду ему дадут чудную быстроходную яхту с командой — для кругосветного путешествия. На ней будет и скорострельная пушка, канониры и фейерверкер: на случай встречи с пиратами.
Другая чайка, покружив над сундучком, опустилась на него рядом с первой.
Вконец истощенный человек с тяжелым сундучком на спине, шатаясь, пробирался к берегу цветущей страны.
Вокруг него качались на длинных стеблях цветы невиданной красоты. Над ними кружились крошечные птички; их радужное оперение сверкало и переливалось на солнце, в воздухе звенели их нежные песни. Странные звери с задумчивыми и добрыми глазами, прыгая, как лягушки, приближались к человеку и разглядывали со спокойным любопытством.
Человек сорвал один из высоких цветков. Удлиненная чашечка цветка была до краев наполнена сладким цветочным соком. Человек жадно опрокинул его себе в рот. Проглотив влагу, отбросил цветок. Звери подхватили цветок на лету лапками с тонкими, как у детей, пальчиками. Принялись играть цветком.
Солнце стояло над самым горизонтом. Но прошел час, другой, а оно не заходило.
Теперь человек был на горе. Он полз, таща за собой сундучок.
Подполз к самому обрыву — заглянул вниз.
Прямо под ним было море. Но в стороне тянулся узкий берег и на нем виднелись люди.
Они стояли длинным рядом у воды. Все были одинаково одеты в белые малицы до пят. Все одинаково держали по швам руки в длинных рукавах. Все смотрели в море. Над ними летали чайки.
Люди — это спасенье, жизнь!
Человек приподнялся на скале и, собрав все силы, крикнул:
— Йо-го-го-о-о!..
Весь длинный ряд людей повернул к нему головы. Но все остались стоять неподвижно.
Человек уронил голову на руки и заплакал. Он понял, что это не люди: птицы — пингвины, пингвины!..
Долго лежал лицом вниз. Потом поднялся на колени, с большим трудом подтянул тяжелый сундучок к самому краю обрыва и столкнул его в море.
Сундучок ушел в веду, всплыл. Отливом его потянуло в море. Чайки полетели провожать его в далекое странствие.
Лихорадочный взор человека следил за ним, пока сундучок не исчез вдали за волнами.
В сундучке — дневник человека и подробное описание, как найти эту вечно цветущую страну. Страну, где птицы живут в ароматных цветах и звери с прекрасными ласковыми глазами подходят к человеку, чтобы пригласить его поиграть с ними в прятки или пятнашки.
Тот, кто сейчас выловит сундучок, отыщет эту никому не известную страну. Он переселит туда всех мальчишек из всех стран. Там будут они играть со зверями, петь с птицами, спать в цветах. А потом построят себе целый флот и будут иногда ездить к своим родителям.
А знаменитый путешественник, который один спасся от кораблекрушения и нашел эту страну, — путешественник как-нибудь прокормится пока цветами и кореньями, а потом может вернуться к себе на родину.
И третья чайка подлетела к сундучку.
Но ей не было места для посадки, и она стала медленно кружить над сундучком.
Сундучок был уже совсем близко от берега. Мальчик ясно видел один из его помятых медных углов, почему-то выше других торчащий из воды.
Мальчика уже била лихорадка нетерпения. Он больше не мог дожидаться; пока медлительные волны выкинут ему чудесный подарок моря. Он уже не мог мечтать: он должен был знать, что несет ему сундучок!
Мальчик прыгнул с обрыва и, обгоняя осыпающийся под ногами песок, побежал вниз, к воде. Встревоженные его бурным появлением обе сидевшие на сундучке чайки поспешно снялись и вместе с третьей полетели в море. Всполошились и их товарки на отмели. Поднялись без крика, всей стаей. И, широко разлетевшись в воздухе, потянули туда, где море теряло берега.
Мальчик вбежал по пояс в воду, дрожащими руками, ухватил сундучок за два угла и потащил его к берегу.
На берегу оказалось, что сундучок не заперт.
Сердце больно било в виски мальчика, когда он откинул забухшую крышку. Сундучок был пуст.
— О, какая злая насмешка!
Но на внутренней стороне крышки мальчик увидел самого себя: там было вделано карманное зеркальце, и в холодном стекле живо отразились глубокие, страстные, удивленные глаза — глаза мечтателя, и всё его розовое лицо, и обидные мальчишеские вихры на голове.
Издалека — со стороны открытого моря — донесся до него крик белых птиц, птиц широких водных просторов.
Издали крик чаек похож на насмешливый хохот.
Человек открыл глаза.
Да, это было то самое место, где он мальчиком получил в подарок от моря матросский сундучок.
Подарок этот он бережно хранит до сих пор.
Каждое новое издание своих стихов — одну книжку — он кладет в заветный сундучок. Теперь сундучок полон почти доверху.
Он сумел наполнить простор мира своими мечтами, своими увлекательными стихами о тайнах жизни.
И когда открывает теперь крышку сундучка, — по-прежнему в зеркальце отражается то же лицо, те же удивленные, сияющие глаза, хоть они и постарели лет на сорок.
Но еще он видит и другое: множество человеческих лиц, которые смотрят на него с любовью, с благодарностью, с дружбой. Это те, с кем делил он горе и радости на долгом пути своей жизни, о ком рассказывал в своих книгах и к кому обращал свои слова — самые заветные, самые дорогие сердцу слова. Люди — знакомые и незнакомые, — он отдал им себя целиком, всё лучшее в себе, лишь для того, чтобы для них сделать жизнь богаче и лучше. Пытать, разведывать жизнь, разгадывать ее удивительные тайны — это только половина дела. Другая в том, чтобы опыт свой, свои открытия — большие и маленькие — передать людям-братьям. Не в этом ли высшее на земле наслаждение?
«В конце концов, — думает поэт, вспоминая подаренный ему морем сундучок, — это было совсем не так глупо и зло. Лучшего подарка я никогда в жизни не получал».
Чайки хохочут вдали.
Поэт вслушивается в их крик и, сияя удивленными глазами, говорит вслух самому себе и всему миру.
— Но это ведь совсем не хохот! Это — фанфары, пронзительный и могучий зов. И он наполняет собою глухие без него просторы морей и поднебесья.
1940 г.
Книга подготовлена создателями сайта: /
Примечания
1
Сухарница — скороспелое блюдо таежных охотников — размешанные в кипятке сухари с маслом и солью.
(обратно)2
Елань — поляна.
(обратно)3
Отуряться — поворачиваться вокруг оси.
(обратно)4
Казанок — котелок.
(обратно)5
Исправник — полицейский чин в царские времена. В Сибири исправники пользовались очень большой властью.
(обратно)6
Ободняло — совсем рассвело.
(обратно)7
Марал — сибирский вид благородного оленя.
(обратно)8
Баба — господин.
(обратно)9
Чурек — хлеб.
(обратно)10
Кабернэ — кавказское вино.
(обратно)11
Папуша — связка.
(обратно)12
Беркут — горный орел.
(обратно)13
«Тартарен из Тараскона» — насмешливое произведение Альфонса Додэ. Тартарен — добродушный, толстенький буржуа, вообразивший себя свирепым охотником на львов. Обвешанный оружием, он отправляется в Африку и там, после многих комических приключений, убивает ручного льва.
(обратно)14
По старому охотничьему закону охота на самцов лосей начиналась с 15 августа старого стиля, то есть с 28 августа нового стиля. (По новому закону охота на лосей в пределах всей европейской части СССР совсем запрещена. В интересах современного читателя все числа в рассказе приведены по новому стилю, несмотря на то, что излагаемые события происходили в дореволюционное время.) (Прим. автора.)
(обратно)15
Малые задние копытца.
(обратно)16
Особого образца разрывная пуля. Задним концом она вделана в войлочный пыж; имеет нарезки. Употребляется специально для гладкоствольных дробовых ружей.
(обратно)17
Вабик — дудочка для приманивания птиц и зверей.
(обратно)18
Мездра — нижний слой шкуры.
(обратно)19
Аскыр — самец соболя. Слово, вошедшее в употребление у русских промышленников.
(обратно)20
Шабур — армяк из холста.
(обратно)21
Бродни — охотничьи сапоги.
(обратно)22
Шивера — речной порог.
(обратно)23
Белки — снежные вершины гор.
(обратно)24
Рясно — обильно
(обратно)25
Ширкунцы — колокольчики.
(обратно)26
Распары — оттепели.
(обратно)27
Наледи-лывы — лужи на льду.
(обратно)28
«Поленом» у охотников называется волчий хвост.
(обратно)29
Как ино? — как иначе?
(обратно)30
Урман — лес на Урале, тайга.
(обратно)31
Кокорина, кокора — корни с землей вывернутого бурей дерева.
(обратно)32
Елань — поляна.
(обратно)33
Гачи — косматая шерсть на задних ногах медведя.
(обратно)34
Кишлак (узбекск.) — деревня.
(обратно)35
Фирма ружья
(обратно)36
Куртинка — клумба, цветочная грядка в саду; здесь в смысле: островок невысокой поросли.
(обратно)37
Осек — ограда из кольев и жердей.
(обратно)38
Одно из колен соловьиной песни: сильный, резкий свист.
(обратно)39
Всесоюзный институт растениеводства.
(обратно)40
Белок — на Алтае — гора с вечным снегом.
(обратно)41
Орнитолог — ученый, изучающий птиц.
(обратно)42
Штуцер — двустволка с нарезными, как у винтовки, стволами крупного калибра — специальное охотничье ружье под пули — для охоты на зверя.
(обратно)43
В горах Кавказа медведи не делают себе берлог, а залегают на зиму спать в пещерах.
(обратно)

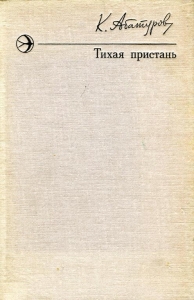

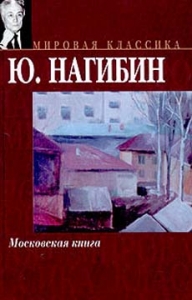
Комментарии к книге «Повести и рассказы», Виталий Валентинович Бианки
Всего 0 комментариев